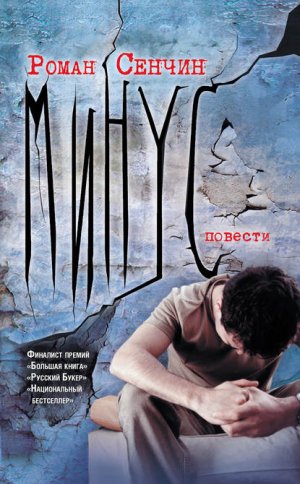
Минус
1
Опять она сидит на подоконнике в картинной позе. Боком так, с ногами. Смотрит на улицу. Правая кроссовка часто и мелко дрожит, в ушах эти «таблетки» от плеера. Слышу шипяще-стучащий ритм спрятанной мелодии.
Вот шел до уборной, а увидел ее – остановился. Вчера вечером было то же самое… Сидит, согнув свои тоненькие, в узких черных джинсах ноги. Лицо отвернула к окну. Прямые и длинные, какие-то золотисто-каштановые волосы собраны в хвост зеленой бархатной резинкой. Продают такие резинки в ларьках – десятка за пять штук.
Одна в пустой кафельной коробке бывшей этажной кухни.
Что она там видит в окне? Знаю наверняка: соседнее крыло общаги, где в желтых квадратиках-окнах опухшие, одуревшие рожи, а внизу – двор столовой, гора гнилых деревянных ящиков, вываренные кости в контейнере, сорокалитровые баки с помоями. Как раз, наверно, сонный грузчик в засаленном синем халате перекуривает… Да нет, черт, какой двор, какие кости?! Темно же там, ночь давно, столовая закрыта, окна почти все погашены – народ спит перед очередным непраздничным днем.
Да и не смотрит она ни на что, а просто отвернулась от коридора, глаза под веками спрятала. Просто слушает музыку.
Ништяк ей. Сидит так каждый вечер, заткнув «таблетками» уши. Я же, как последний придурок, ее разглядываю. Щупаю глазами волосы, свитерок, джинсы, дрожащую под музыку кроссовку на ее правой ноге.
Откуда она взялась? Неделю назад ее не было. Может, из Казахстана переселенцы или из Тувы, как я, например, или с Севера. В общаге таких через комнату. Сбегаемся в маленький русский городок со всех сторон.
Ну что? Должна же, в конце концов, кассета закончиться. Станет переворачивать на другую сторону, тогда и глянет… Главное – увидеть лицо. Если симпатичная, я готов заговорить, запасся уже парочкой бойких фраз, может, получится познакомиться… Да когда же прекратится это стучащее, тупое шипение?..
Вчера ждал того же, переминаясь с ноги на ногу. Каждую секунду казалось, что сейчас вот она шевельнется, щелкнет кнопкой на плеере. Обернется… Нет, не дождался. Облом. И когда возвращался в комнату, она сидела все так же; единственное, чем отличалась от большой мертвой куклы, – ритмично дрожащей кроссовкой.
На этот раз я долго не маялся, плюнул, прошел мимо, решил: лучше с Лёхой в картишки. Ничего, может, завтра…
– Там опять эта, – сообщаю.
Лёха, как всегда, на кровати. Таращится в потолок.
– Гляди, новый цветок нашел. – Он приподнял руку. – Вон, такой, типа этого… типа тюльпана. Видишь?
Потолок весь в мелких трещинах. Лёха вечерами составляет из трещин всякие цветочки, рожи, узоры.
– Придурок, – говорю ему. – Там эта телка опять, на подоконнике. Пойдем познакомимся.
– Да она мелкая, – Лёха кривится.
– Ну и что? Какая разница?
Он не отвечает, морщит лоб, изучая потолок с напряженным вниманием. Я ложусь на свою кровать. Полежав немного, снимаю ботинки. Тоже смотрю вверх, на трещинки. У меня трещинки в узоры не складываются: девочка на подоконнике не дает покоя.
– Лёх, пойдем подкатим к ней. Хотя бы лицо увидим. А?
– Сначала носки постирай. Дышать нечем!
– А-ай… – Отворачиваюсь к стене.
Некоторое время молчим. Я размышляю. Сперва о том, что завтра спектакль только вечерний и мы свободны до четырех часов. Потом – что неплохо бы выпить. Хм, очень даже неплохо… И тут же явилась тоска и защипала, затормошила колючими, холодными пальцами…
– Надо бы магнитофон починить, – говорю. – Без него вообще…
От соседа лаконичный ответ:
– Дай бабок – починю.
– Эх-х…
С боку перевернулся обратно на спину. Со спины – немного погодя – на живот. Спрятал рожу в подушке…
Наша комната – как у всех. Пять не особо размашистых шагов в длину, два с половиной в ширину. Пара железных скрипучих кроватей, стол, две тумбочки, два стула. На гвоздях по стенам висят одежда и полотенца. Ну, кой у кого, конечно, комнаты благоустроенней, мебель, телик, еще разное, но по большому счету… Как ни обставь – общажная комната ей и остается.
Ее нам снимает драмтеатр у мебельной фабрики рублей за сто в месяц. Вообще здесь живет кто угодно, кажется, только не рабочие самой фабрики. Беженцы, молодые парочки с грудными детьми, решившие от родителей отделиться; еще китайцы, вьетнамцы, чуреки, чучмеки всякие, сбежавшие из семьи мужики-алкаши… Из театра кроме нас с Лёхой – парикмахерша Оксана, жирная, мужеподобная бабища с толстыми волосками на подбородке, и актер Валишевский, спившийся старикан, давно не играющий. Для более ценных кадров театр разоряется на квартиры. Не покупает, ясное дело, тоже снимает, но все равно – квартира… Да нам с Лёхой грех жаловаться: он ушел от жены и двухлетней дочки, значит, по своей воле остался без жилья, а я вообще хрен знает кто. Жил с мамой и папой в Кызыле – столице автономной национальной республики, потом республика обрела суверенитет, у коренного народа появилось самосознание, начались всякие события и напряженности; нескольких русских порезали насмерть, многих – слегка. Моему отцу тоже досталось… Поправившись, он перевез нас сюда, на русскую землю.
Нашлась в одной деревне почти дармовая развалюха-избенка, мы кое-как ее подлатали и стали жить. От райцентра – от Минусинска, где вот сейчас я, – деревня недалеко, километрах в полста. Я часто наезжал в город, искал, где бы пристроиться. Повезло – взяли монтировщиком в театр, даже крышей над головой обеспечили. И это кажется чудом.
А там, в Кызыле, мы были семьей небедной. Отец до поры до времени считался незаменимым специалистом, работал в республиканском министерстве культуры, но потом его заменили… Была трехкомнатная квартира в центре, на берегу Енисея, ухоженная дача, гараж капитальный и четыреста двенадцатый «Москвич»… Продали всё это, кроме «Москвича», а деньги потратились на переезд и ремонт избушки. Единственное, что купили из крупного, – списанный из АТП по старости грузовик «ГАЗ», в деревне очень полезная вещь. Можно неплохо подзарабатывать с его помощью: кому дров привезти, кому бревнышек или покойника на кладбище доставить. Здесь же, в Минусинске, квартиры стоят о-го-го! Родители, правда, мечтают купить хоть однокомнатку, стараются (пятый год уже) на овощах заработать. Выращивают, везут в город на рынок, торгуют, да только и двух-трех тысяч скопить не получается. На необходимое всё уходит.
Вообще, с живыми деньгами повсюду, говоря мягко, проблемы. Соседи наши, хакасы, выпустили свою внутриреспубликанскую валюту – «катановку» – достоинством в пять рублей. Цветом, видел, бело-чёрно-зеленая, как доллар, а вместо президента – их просветитель Катанов в форме то ли прокурора, то ли железнодорожника… А у нас в театре взамен части зарплаты талоны на продукты питания сделали. Один талон равен сотне рублей, и отовариться можно в нескольких магазинах города, с кем насчет этого есть договор. Деньги же дают очень редко и понемногу… Хе, помню, как выдали эти талоны впервые, сразу на месяц. Весь театр ушел в загул. Сорвали несколько спектаклей, пировали, а потом взвыли: голодаем. До конца месяца питались в долг в театральном буфете сосисками и бутербродами с кофе. С тех пор бухгалтеры дают талоны строго на неделю, актеры и прочие научились более-менее растягивать, успокоились.
Нет, жить кое-как можно. Многим куда хуже, наверно.
– Лёх, давай в дурака.
– Дава-ай.
Встаю, беру стул, карты с тумбочки. Сажусь рядом с Лехиной кроватью. Начинаю тасовать.
– Блин, новые надо, – заодно ворчу, – как тряпки стали уже.
– Купи, – ехидно советует Лёха.
По коридору тяжелые шаги и удары ботинком в стену время от времени. Так обычно возвращается домой наш сосед справа.
– Санёк, – узнает Лёха и усмехается: – Счас начнется!
Сане вот-вот в армию. Жена подвела. Один ребенок у них есть, полуторагодовалый сынишка, ждали второго, но что-то с женой случилось и – выкидыш, короче. Не смогла пару месяцев доносить. Может, и Санек постарался по пьяни. Они частенько хлещутся… В общем, теперь ему в армию.
Я раскидал по шесть измусоленных, изжеванных карт. Козырь – пики.
– О-ой-й, – Лёха кисло глядит на карточный веерок у себя в руке. – Раздал, козлина. Ну, заходи.
Бросаю ему пару семерок, для начала.
А за стеной начинается соседский вечерний концерт. «Ах, твари, с-сучары! – орет Санек. – Мразёвка поганая!..» В ответ – визг жены.
– Понеслось, – констатирует Лёха.
«Да я вас всех-х! Мне теперь все равно, мне так и так!..» Звон посуды, истошный рев сынишки.
– Сколько у них посуды, – удивляюсь. – Каждый вечер колотят.
– Семья, – Лёха пожимает плечами. – У меня с женой еще и не то бывало.
– А зачем жениться тогда?
– Инстинкт.
Перебрасываемся картишками, отбиваемся, пытаемся друг друга завалить. По соседству полыхает скандал. Вроде и драка началась.
– Пойти, что ль, посмотреть, – говорю, – а то еще перережутся…
– Пуска-ай. Так им и надо. Всё правильно.
– А жена-то у него ничё.
– Ленка? Кхе, вот он и бесится. Его в армаду, а она тут с нами…
– Неплохо бы, – вздыхаю.
– Да чего хорошего? Которая рожала – на фиг она. Вот лет в девятнадцать телка – это нормал.
– Ну ты и гурман! Хотя… хотя я бы, конечно, тоже с девочкой лучше. – Мое воображение опять разыгралось, эта, с подоконника, перед глазами. – Погнали, может, она там еще!
– Кто?
– Ну, на кухне которая…
– О-ох, иди ты, иди, не мудись. Говна-пирога.
– Да как я один, ни с того ни с сего… Не смогу…
Сыграли десяток партий. Надоело. Жрать особенно нечего. Только картошка и хлеб. Картошка хоть и универсальный продукт, а уже не лезет.
– В понедельник в деревню смотаюсь, – мечтаю, – привезу мясного, огурчиков…
– Вези, вези! Похаваем.
У Лехи, в отличие от меня, вообще нет вариантов. К жене путь заказан, там уже другой хозяин, а родители – в Прокопьевске, отец у него бывший шахтер, а ныне инвалид, мать тоже какая-то больная, впору им помогать, а не ждать перевода или посылки с вкусненьким.
– Накатить бы, – говорит Лёха, вытягиваясь на кровати.
– Пойдем к Павлику с Ксюхой.
– Меня, в курсе, рвать тянет от ее этой хари!
– Ну, я тебя не трахать ее зову. Попросим у Павлика раскуриться.
– Раскуриться? Уху! А потом что делать, когда на хавку пробьет? Где хавчик-то?
М-да, он, в принципе, прав. Курнуть – хорошо, но при отходняке жрать как свинье охота. То-то узбеки всякие предпочитают шмалить в чайхане. Курнут, побазарят на философские темы, а потом скорей плов руками в пасть. Шашлыки, шаурму…
– Тогда давай до Валишеского, – предлагаю дальше. – У него, может, водяра.
– Бля, да когда у него водяра?! – Лёха безнадежно роняет голову на подушку. – Сам сшибает везде.
Он вновь погружается в разглядывание трещинок на потолке. Я брожу по комнате. На будильнике – половина двенадцатого. Засыпаем мы часа в два обычно… Как убить время?
– А что ты предлагаешь? – начинаю злиться. – Туда – нет, сюда – нет. Хотя бы телок каких-нибудь…
– О-ой, дебилина, – в ответ стонет Лёха. – Одни бабы в башке. Проблему сделал… Да спустись, они у входа рядами вон дежурят, только и ждут, кто б их подснял, напоил и оттрахал.
– Вот именно. А на хрена я им пустой? Была бы бутылка…
Лёха, прищурившись, осмотрел меня с ног до головы:
– Да, ты прав – без бутылки с тобой вряд ли кто согласится…
– Идио-от! – Валюсь на кровать.
Тихо. Санек за стеной, видно, срубился… Доживает свои последние дни на гражданке. Мается. Я это ощущение помню. Всё, кажется, конец тебе. Так вот посадят в поезд, лысого, слабого, перепуганного, и повезут на убой. А вокруг жизнь, люди свободные гуляют и не замечают, что ты с ними прощаешься. Равнодушные насчет тебя и счастливые. А тебе все – конец.
Отворачиваюсь к стене, царапаю ногтем выцветшие, полуистлевшие обои.
– Вот скажи, Роман, – необычно культурно, но с прикрытой издевкой начинает Лёха, – сколько тебе лет?
– Двадцать пять скоро. А что?
– Да так… Послушаешь тебя, впечатление, что ты пятнадцатилетний мальчик-колокольчик какой-то. Или, хе-хе, или в натуре, – он готов заржать, – еще ни разу?..
– Придурок, – говорю. – Пойми, мне необходимо общение с ними. Долгое, постепенное… Для меня женщина – это не только… это самое… Это чудо, понимаешь, нет? Нужен трепет, шепот ласковых слов, нежные прикосновения чтоб… А по-твоему: хватай пузырь и беги на случку…
– Хе, я и в одно рыло этот пузырь выжру легко, – перебивает Лёха, – без всяких баб. Мне трех лет сженой до отрыжки хватило. И кстати – надолго!
– Понятно, тогда отдыхай. – Продолжать этот разговор не хочется; несколько романтических фразочек, сказанных сначала вроде как в шутку, разбередили что-то внутри, стало совсем тоскливо.
Я сел на кровати и стал обуваться.
– Ты куда? – спрашивает Лёха тревожно.
– Пойду по коридору пройдусь.
– Пошли вместе.
Коридор длинный – через весь этаж. Мы живем в левом крыле общаги, а до конца правого метров триста, если не больше. Справа и слева частые двери. Коридор узкий, полутемный, половина ламп дневного света перегорела, другая светит слабо, часто мигая и потрескивая. Стены покрашены темно-синей краской, а двери какой-то болотной.
Проходим мимо опустошенных кухонь, вонючих пещер умывалок и уборных, запертых помещений для стирки – бывших душевых… А девочки той, на подоконнике, уже нет. Зря. Вот сейчас бы как раз подойти, заговорить, познакомиться. То да сё. Лёха, оказавшись от нее в двух шагах, стопроцентно бы согласился помочь мне…
– Давай все-таки заглянем к Павлику, – предлагаю, когда, дойдя до тупика в правом крыле, мы повернули обратно. – Вдруг что, а?
– Хрен с тобой, давай…
На одних дверях красивые жестяные таблички с цифрами, на других цифры выведены краской, а то и просто мелом. На некоторых вообще нет ничего… Павлик с Ксюхой живут в четыреста пятьдесят седьмой – у них табличка большая, с какими-то завитками вокруг номера, словно на двери богатой квартиры.
Павлику под тридцатник. Это невысокий, начавший лысеть парень, сухопарый, с сизо-бледным лицом и мелкими, изъеденными кариесом зубами. Конечно, нигде не работает. Нашел вот страшную, а потому ценящую мужчин и покладистую бабищу с жильем каким-никаким и лег на кровать. Ксюху он называет «мама», а она его гордо: «мой мужчина». Иногда Павлик уходит в степь за городом, собирает коноплю, еще посещает библиотеку, очень любит читать приключения и простенькие детективы.
Стучу.
– Открыто! – не слишком гостеприимный женский голос с той стороны.
Входим. Комната кажется совсем мизерной. Это из-за шкафа, широкой кровати, двух столов и всякого барахла, непременного для создания так называемого уюта.
Ксюха возится у плиты, что-то варит. Павлик, конечно, лежит с книгой.
– Чё приперлись? – интересуется парикмахерша.
– Да вот… – я мнусь, а Лёха хмуро молчит, навалившись спиной на дверь. – Да зашли вот… Это самое, Паш…
Тот не реагирует. У него правило: дочитать абзац, заложить страницу старой двадцатипятирублевкой и тогда уж общаться с гостями.
Наконец-то оставил книгу, поднялся. Пожимает нам руки.
– Как дела? – говорит.
– М-м, так… У тебя, Паш, случайно не будет?.. – я щелкнул себя по горлу. – Позарез, а?
– Вы что! Мы с мамой и вкус забыли.
– О-ох, жалко… А травки бы?..
У Павлика на лице появляется недовольство. Он, ясное дело, курнул слегка, больше не хочет, да и халявщики кому ж приятны…
– Самим, парни, надо беспокоиться. Все пустыри позаросли – выходи и рви на здоровье.
– Да конечно, конечно, Паш, – виновато киваю, – каждый день собираемся, но все как-то… А тут подперло – сил нет… – горько вздыхаю, голос делаю жалобным до предела: – Может, стаканчик в долг бы? Для кузьмича.
Ксюха смотрит воинственно, готова при первом же проявлении с моей стороны признаков наглости вышвырнуть в коридор. Но Павлик, спасибо ему, смягчается:
– Шалы могу отсыпать, этого не особо жалко. Я уж думал, плана хотите, шишек.
– Да нет, ты что, нет! Шалы плохонькой, чтоб пожарить…
Ксюха повернулась спиной, намешивает в кастрюле свое варево. Павлик лезет под кровать. Достал сначала один матерчатый мешочек, помял, отложил в сторону. За ним другой – побольше. Развязывает тесемки.
– Мама, дай-ка стакан.
– Они ж фиг вернут, – ворчит Ксюха своим низким, каким-то медвежьим голосом, но стакан все же дает.
– Кстати, парни, Чейза читали? «Весь мир в кармане»? – спрашивает Павлик, впихивая в посудинку сухие былинки, листочки, ломая, мельча их.
Я с готовностью отвечаю:
– Единственная его классная вещь! – И тут же из осторожности поправляюсь: – Ну, то есть – действительно гениальная.
– Согласен! – Павлик улыбается; его маленькое лицо напоминает добротно высушенный, покрытый тоненьким слоем кожи череп. – Книга что надо… Вот чуваки отрывались! Такое дельце чутка не провернули… Жалко, сорвалось, эх…
Я трясу головой и тоже улыбаюсь, а затем послушно грущу, когда Павлик начинает грустить о погибших героях… Книги я не читал – видел когда-то советскую экранизацию под названием «Мираж», – но наслышан, что роман этот у Чейза лучший.
– Если бы главного у них не вальнули, – рассуждает Павлик, – все б получилось. Он бы смог…
– Что ж делать, – вздыхаю, принимая стакан, – и в жизни такое на каждом шагу. Вечно что-то мешает… Ну, спасибо, Паша, огромное! Подогрел. До свидания, спокойной ночи!
Ксюха пробурчала в ответ, чтоб стакан занесли. Мы с Лёхой пятимся из комнаты. За нами следует Павлик, разминая пальцами сигарету.
– Мне б этот броневик с гринами и автоген, – его голос уже как бред больного, – я бы, блин, не лоханулся. Зубами б разгрыз…
– И на хрена тебе эта шала? – Лёха брезгливо косится на стакан.
– Сейчас пожарим.
– Я водяры хочу.
– А я ее, блин, рожаю?! Не будешь, я один…
– Крышу снесет с такой порцайки.
– Ну и кайф – будет что вспомнить…
На вкус кузьмич не очень-то приятен. Такая маслянистая, подслащенно-горькая, хрустящая солома. Но малоприятность самого поглощения искупается последующим… Правду сказать, куда больше, чем курить косяки, мне нравятся кузьмич и манага. Кузьмич жарят на растительном масле, а манага – это когда траву парят в молоке часок и потом, процедив через ситечко, пьют; вкус такой, типа кофейного напитка, типа «Колоса»… Еще можно напечь блинчиков. Нежно-зеленые, терпкие, от них своеобразный, волнообразный приход. Готовятся как обычные блины, только в тесто, кроме всего прочего, добавляют и коноплю.
Эти рецепты я узнал не так давно – когда обосновался здесь. В Кызыле пробовал, конечно, травку, там грех не попробовать, но предпочитал портвейн, был юношей достаточно правильным, книги любил читать, стихи сочинять пытался. А здесь – понеслось. Как говорится, сбился со своей орбиты, потерял стержень. Теперь мне чаще всего скучно, когда я в обычном состоянии, особенно невыносимы такие вот вечера в этой надоевшей комнате, наедине с надоевшим Лёхой. И хочется как-нибудь заторчать, разбить тупое однообразие. Ну, естественное желание…
2
В брехаловке предспектаклевая ругачка. Костюмерши недоглядели за одним из платьев, и на его широком складчатом подоле – здоровенное пятно. Видимо, задела актриса Таня Тарошева за декорации, а они окрашены какой-то жутко мажущейся, похожей на печную сажу краской, и – вот…
– Это ваша работа, понимаете?! Ваша непосредственная работа, чтобы одежда была чиста, отглажена, готова! – отчитывает костюмерш директор театра, интеллигентный с виду, но истеричный бывший актер-середнячок Виктор Аркадьевич. – И такое, я помню, не первый раз. То сорочка потерялась, то цилиндр измяли из «Последних дней»!..
Одна костюмерша, Валя, трет пятно отбеливателем, а другая, Ольга, стоит перед директором, кивает, безоговорочно соглашается, признавая вину.
Режиссер Дубравин скрючился в кресле, лицо обиженное, он нервно курит. Актеры помалкивают, слоняясь по тесной брехаловке. Все уже переодеты. Женщины превратились в дам, на них пышные, яркие наряды, будничные лица разукрашены толстым слоем грима. Мужчины тоже преобразились: поджарые похожи на задорных хохлатых петушков, полные – на солидных пингвинов. Фраки делают их нелепыми и смешными и в то же время притягательными для глаз, и, что ни говори, по сравнению со свитерами, тертыми джинсами, спортивными шапочками, что носят они в реальной жизни, – фраки и прочие подобные вещи очень их облагораживают.
Мы, пятеро монтировщиков, рядком сидим на длинном кожаном диване, равнодушно слушаем то оглушительно-громкую, то жутковато-тихую и, кажется, бесконечную речь директора. Лениво курим, у нас все готово для предстоящего представления.
– И что будем делать? – ледяным голосом спрашивает Виктор Аркадьевич. – Десять минут до выхода…
Оля с надеждой оглянулась на трущую платье Валю, на пятно, которое теперь не такое черное, зато расплывшееся на полподола.
– У? – Директор вновь повышает голос. – Мне спектакль отменять или как? Я в-вас!.. – Очередной взрыв истерики. – Я вас поувольняю к чертовой матери!
Тут из гримерной появилась Пашнина, наша ведущая актриса, прима, как говорится. Капризная, стареющая, одинаковая, но – привычка режиссеров – незаменимая. Переиграла всех главных героинь из мировой драматургии… И своим хрипловатым, страдальческим голосом она взывает:
– Когда-а?! Ну когда это кончится? Виктор Аркадьевич, умоляю вас! Людям нужно собраться, сосредоточиться. Что же это такое! – Она стоит, гордо изогнувшись, в дверях брехаловки, она в строгом платье, на голове парик из шикарных волос, морщинистое лицо загримировано до неузнаваемости; она сейчас просто божественна. Божественно ужасна.
– Дайте ей шаль какую-нибудь, пусть ее знобит, не знаю, пусть она кутается, – нервно советует прима. – Невозможно же, я же слова, слова забыла! – И она резким движением стиснула свою голову. – Я забыла слова! О, что теперь, что?! – Пашнина на самом краю припадка…
Спасительный звонок. Протяжный третий звонок. Тут как тут – запыхавшаяся помреж Аня с неизменными бумажками в кулаке, как всегда перепуганная, будто каждый спектакль для нее – сеанс у стоматолога.
– На… на сцену! Пожалуйста! – отрывисто, дрожащим голосом объявляет.
Пашнина выпрямила свое гибкое, змееобразное тело. Парикмахерша Ксюха скорее поправляет ей чуть сбившийся парик, Валя бросается за шалью для прикрытия злосчастного пятна.
Актеры гуськом через узкий проход потянулись на сцену. Дубравин откидывает голову на спинку кресла и напряженно вглядывается в люстру. Виктор Аркадьевич уходит к себе в кабинет с видом наведшего порядок городового.
– Какие предложения? – спрашивает наш бригадир Вадим, ветеран монтировщиков – лет семь держится на этом месте.
– Ну, можно, конечно, – угадывает смысл его вопроса парень здоровенного роста, качок Андрюня. – У меня как раз двадцать пять.
– А у меня десятка, – отзывается еще один монтировщик, Димон.
– Неплохо, неплохо, – кивает Вадим, – уже минимум есть. А ты, Ромыч, как?
– Есть немного, – говорю через силу, – только это на автобус, к родителям в понедельник обязательно надо…
– Да брось, давай лучше вздрогнем.
Я молчу, категорически отказываться неудобно. Бригадир же тем временем вытягивает из Лехи имеющуюся у него мелочишку… Понимаю – поездка к родителям на этой неделе накрылась. Вслед за всеми лезу в карман. Передаем Вадиму бумажки, монетки, тот их заботливо сортирует.
– Нормалёк, – говорит наконец, – пятьдесят шесть рублей. Посидим как надо! Кто побежит?
Торчать здесь, ожидая антракта, когда нужно будет переставлять декорации, не очень-то улыбается, тем более отходняк после вчерашнего кузьмича донимает. Лучше уж прогуляться.
– Давайте я.
Деньги перекочевывают ко мне.
– Возьми, значит, пойла полтора литра, – напутствует бригадир, – закусить чего…
– Колбасы, колбасы надо! Помидорок!.. – посыпались градом заказы, словно в руках у меня не жалкий полтинник, а по крайней мере пятихаточка.
Осторожно пробираюсь в нашу кандейку. Нужно пройти за задником сцены. В двух шагах от меня, за холстиной, веселятся на освещенном пространстве актеры. Как раз у них там дворянский пикничок разыгрывается.
На сцене – придуманный мирок, фанерный, двухчасовой. Но актеры именно сейчас по-настоящему и живут, прохаживаясь выразительно по определенным режиссером маршрутам, произнося внятно и с чувством заученные фразы – заученные до такой степени, что кажутся актерам своими собственными, выталкиваемыми прямиком из сердца, – пытаются заразить своей игрой собравшихся в зале. Заразить, чтобы потом показать: а это была лишь игра, это все – просто обман, пора плюхаться обратно в реальное… Кстати, об этом наш декоратор Серега Петраченко мастер порассуждать…
У меня частенько возникает желание как-нибудь разрушить этот мирок, этот обман. Надеть сейчас, например, в костюмерной тулуп, приклеить бороду и выйти под фонари. «А-а, гады, баре, собрались? Веселитеся? Кхе-хе, – таким скрипучим голосом. – А вот скоро вам кранты-то наведут. Уж насыплют углей под хвост!» Погрозить кулаком и уковылять обратно во тьму… Как они выпутаются, восстановят отрежиссированный, но сбитый моим появлением ход фанерной игры? Вот по́том холодным пообливаются во главе с богинеподобной Пашниной!
Аня, помреж, прячась за кулисами, с привычно круглыми от страха глазами следит за действием. На всякий случай приставила палец к губам: тихо, мол! Якиваю, точно соучастник, бесшумно спускаюсь по железной лестнице в подвал. У нас там тесная и душная кандейка, в ней мы почти не бываем, но само ее существование не лишне: при необходимости есть свой уголок, можно поспать, даже пожить, если больше негде; можно, если изловчишься, и девочку привести…
Достаю из-под топчана пластмассовую полуторалитровку, кладу в пакет. Надеваю куртку, пакет прячу за пазуху… Н-да, жалко мне моих денег, перед родителями неудобно – надо ведь картошку срочно выкопать, но и выпить хочется. Как Вадим говорит – вздрогнуть.
Середина октября. В начале восьмого на улице совсем темно и безлюдно. А закончится спектакль около десяти. Очередной, сто шестнадцатый сезон стартовал недавно, впереди без малого десять месяцев почти ежевечерней, кроме понедельников, однообразной работы.
Театр старый, с традициями и историей, как и всё в этом городе. Фойе украшают несколько стендов с истрескавшимися, выцветшими фотографиями, ветхими афишами (некоторые – вековой давности), пожелтевшими рецензиями из местных газет. Кроме всего прочего, театр гордится своей живучестью. Наш завлит, старушка Наталья Юрьевна, любит рассказывать о временах борьбы за театр в шестидесятые годы. Хотели тогда его упразднить, дескать, в районном центре и Дворца культуры хватит. Но общественность горячо вступилась за сохранение: сколько тут ссыльных переиграло! скольких революционеров театр морально поддержал своими спектаклями! здесь же известный писатель Ян работал! друг Горького Амфитеатров! Не исключено, даже вполне вероятно, что на какой-нибудь спектакль заглядывал сам Владимир Ильич Ленин – от библиотеки-то, где он занимался, до театра всего сотня шагов! И театр решили оставить, и вот он существует и действует, и, что самое удивительное, при населении Минусинска в тысяч сто зал почти каждый вечер заполнен, бывают даже аншлаги.
Стоит он в центре старой части города, на берегу закисшей, перекрытой в нескольких местах плотинами протоки Енисея. По соседству одно— и двух-этажные каменные домики прошлого века и черные, из толстенных бревен избы с тесными огородиками… Самые крупные здания здесь – краеведческий музей, основанный лет сто тридцать назад, и Спасский собор, освященный в тысяча восемьсот пятнадцатом, кажется. Собор оживляет центральную площадь, собирает окружающие постройки, подчеркивает, что Минусинск – город старый и русский, этакий российский форпост на юге Сибири, на границе с тюркской Азией. Был период, граница эта несколько отступала, до Монголии, а теперь вот снова Азия рядом. На юге – за Саянскими перевалами – Тува, на западе, в двадцати километрах, – Хакасия, на востоке – буряты.
Помню свои полудетские впечатления, когда приезжал в Минусинск к бабушке. Вроде от нашего Кызыла всего-навсего неполных четыреста километров (рядом, по сибирским меркам), а совершенно иная природа, другие дома, воздух, язык, уклад жизни. Гуляя по тихому, точно бы вечно сонному городку, по вымощенным камнем-плитняком тротуарам, подолгу рассматривал здания, от которых, казалось, исходили запах и настроение далекого прошлого. Каждую секунду ожидал появления людей в каких-нибудь зипунах, картузах, в сапогах гармошкой… А этот собор на центральной площади, а старое кладбище, массивные надгробья, гранитные кресты, склепы, надписи с дореформенными буквами, полумифические даты «1854», «1871», развалины кладбищенской часовни, точь-в-точь как на картине «Грачи прилетели»… Мне казалось, что сама история живет здесь, что без этих крестов, яблоневых аллей, ржавых ажурных ворот, без этих обветшалых домов с остатками лепнины на фасадах я не мог бы по-настоящему понимать Чехова и Бунина, не мог бы почувствовать значение слова «Россия»… Ну, понятно, какие мысли способны прийти в голову в подобном месте начитавшемуся так называемой классики четырнадцатилетнему мальчику…
И когда встал вопрос о переезде, я обеими руками был «за». Что такое Кызыл? Да – родина, друзья, чистый и стремительный Енисей, сухое горячее солнце, степь и кольцо гор на горизонте. Но, вернувшись из армии, после двух с лишним лет отсутствия, я увидел все это несколько другими глазами: Кызыл показался мне тесным мешком, где теперь мне придется жить и дальше, близкие горы стали давить и пугать, словно непрочные стены, друзья изменились, меня к ним не тянуло. И захотелось уехать, перебраться в тот мир, нарисованный воспоминаниями о кратких, радостных впечатлениях детства.
А теперь, теперь, наоборот, ставший реальностью и местом постоянного пребывания, Минусинск меня угнетает, раздражает; эти старинные, пыльные домишки хочется разломать, кривые червивые яблони повыдергать. Хочется убежать и отсюда…
У каждого города, я заметил, свой темп жизни, и подстроиться под него чужаку, приезжему очень сложно. Темп жизни Минусинска – вялый и натужный, как кровь в старческих венах; в Кызыле же, как в большинстве молодых столичных городов, он быстрый, легкий, свободный. Люди в Минусинске оказались инертнее, все здесь делается с трудом, со скрипом; мне теперь не хватает близкой быстрой реки, жаркого сухого солнца летом и мертвой, без неожиданных оттепелей зимы, той неугомонной молодежи, что до старости носится с фантастически грандиозными идеями выпускать какие-то альманахи, играть рок-н-ролл, читающей между стопками водки свои стишки со смешной и симпатичной значительностью, словно читают лучшие стихи, созданные человечеством. Здесь, в Минусинске, ничего этого нет – лето жаркое, но жаркое в меру, а зима не суровая, и люди такие же средние, кроме, может, двух-трех полуседых неформалов, что целыми днями пьют пиво в парке Победы и мечтают наконец-то купить электрогитары, сочинить забойные песни и «развернуться», и нескольких художников-алкашей… И странное дело: сюда съезжается столько народу с разных сторон – из Средней Азии, из того же Кызыла, из Норильска, должны бы они, по идее, расшевелить вековой полусон этого городишки, но нет – все они будто растворяются в нем, как какой-нибудь бесполезный порошок в болотной воде, даже не изменяя ее цвета и вкуса…
Я знаю: обратно вернуться нельзя, наш переезд вынужденный, мы почти беженцы, и мне нужно искать равносильную замену той жизни, тому миру, что был до Минусинска. Ближайший город – столица Хакасии Абакан. Каких-то двадцать пять километров отсюда. И он очень похож на родной мне Кызыл, даже многие здания – драмтеатр, дворец правительства, универмаг – почти такие же; видимо, строили их, оба республиканских центра, по одному плану; и люди тоже похожи.
При первой возможности я езжу туда. Там у меня есть подобие друзей, там мне нравится, становится почти уютно… Да, странно, но я чувствую себя в своей тарелке в городе, расположенном в скудной степи, где самые старые здания – годов пятидесятых, где во всем чувствуются Азия и беспокойство сплетения разных народов, разных культур.
Я бы переехал в Абакан, конечно, будь у меня возможность. Но в сонном, пресном Минусинске есть работа, какое-никакое, но жилье, рядом в деревне родители…
Занятый мыслями, я машинально дошел до знакомой избушки на улице Красных партизан (бывшая Александра Второго, как значится на указателе первого дома). Постучал железным кольцом-ручкой в калитку. Залаяла собака, прыгая по двору и звякая цепью. Собака крупная и злобная, ей есть что охранять. По крайней мере пяток бочек со спиртом, из которого делают знаменитое на весь город самопальное пойло – цыганку, двенадцать рублей за пол-литра. Баснословно дешево и вроде безвредно – о серьезных отравлениях я не слышал, а похмелюга не сильнее, чем от обычной водки.
– Кто там? – сипят с крыльца.
– За топливом, – отвечаю привычно. – Есть, нет?
Притихшая было собака от моего голоса снова заходится в лае, бросается яростно на ворота.
– Ну тихо, тихо, – беззлобно велит ей хозяин, идя к калитке. – Перестань ты, ну…
Калитка приоткрывается, два острых глаза бегло, профессионально оглядывают меня. Я протягиваю бутылку.
– Сколь лить?
– Ну, полную.
Пока хозяин занят наполнением тары, насчитываю тридцать шесть рублей. В основном – монеты.
Горсть монет в обмен на тяжелый, залитый под завязку цыганкой полуторалитровый баллон. Неплохо. После спектакля, убрав декорации со сцены и дождавшись, когда театр опустеет, спокойненько разопьем под простенькую закусь и такую же простенькую беседу. Чего еще ждать и хотеть от вечера, когда башлей только на это, да и сил и фантазии на большее, честно говоря, нет…
Вернулся как раз перед антрактом. Спрятал бутылку под топчан в кандейке, сбросил куртку. Побежал на сцену.
Подхватил лёгонькое трюмо, переставил в другое место, боком, помог Андрюне и Димону убрать за кулисы бутафорный рояль, измазав руки сажей.
– Как? Взял? – озабоченно и тихо со всех сторон.
– Взял, взял, – киваю, – всё нормально.
Вадим, повеселев, поволок на центр сцены фанерный фонтан в виде вазы.
А в зрительном зале – оживленный гул. Толстый занавес скрывает нас, будничных сменщиков декораций. Они, зрители, заняты сейчас изучением программки спектакля, стоянием в очереди в буфете, поеданием шоколада, долгожданным перекуром. Они лениво готовятся к просмотру второго акта. Их не интересует, что делается в антракте на сцене, они видят лишь результат, яркий, легкий результат нашего долгого и грязноватого процесса. Этакое аппетитное блюдо на праздничном столе, принесенное из полной чада, засаленной, засыпанной шелухой и раздавленными трупиками тараканов кухни. Кто, поедая вкуснятину, представляет, как ее там состряпали?..
Сделав всё как надо, мы убрались обратно в брехаловку. Занавес расползается, многоламповая люстра в зрительном зале плавно гаснет. И снова приподнятые, искусственно-внятные голоса. Спектакль продолжился. Бесцветные женщины, превратившись на время в стройных, соблазнительных дам, худосочные мужчины, ставшие важными кавалерами, галантно ходят под ручку; все смеются, любят друг друга, страдают. На их фоне более-менее реальным выглядит только один актер – Сёмухин, – неважно одетый, маленький, слегка пришибленный. Но у него просто роль такая. Сегодня «Гранатовый браслет», и он играет романтического уродца Желткова, а завтра – «Чайка», и Семухин станет солидным, обремененным популярностью, высокомерно-снисходительным писателем Тригориным. Сегодня он низенького роста, лысоватенький, завтра же – с модной шевелюрой, подтянутый, точно подросший на пятнадцать сантиметров.
Снова сидим рядком на диване. Курим, ждем, когда кончится. Всем пятерым хочется выпить, но сейчас опасно, хотя и работы почти не осталось – всего-навсего освободить после представления сцену, но могут случиться накладки, почти катастрофы. Как-то, помню, в прошлом году оборвался один из канатов, на которых крепился стеклянный (из оргстекла) цветастый купол в дурацкой сказке про Белоснежку. И вот пришлось лезть на верхотуру и держать руками этот купол, вися над сценой, среди горячих фонарей, пока сказка кончилась. Как мы материли выходящих раз за разом на поклон артистов в костюмах фей и гномиков! Как долго, словно издеваясь, мучая нас, они посылали детишкам свои улыбки, сгибались в талии (уж это они идеально умеют!) и принимали букеты. Как хотелось опустить купол им на головы! И потом этот купол наконец рухнул на опустевшую сцену… До сих пор чувствую боль в растянутых руках… Так что расслабляться рано – всё может произойти. Любые напряги.
3
Кто вызывает сочувствие, так это дядь Гена, наш водитель. Уж кому-кому, а дядь Гене спектакли как кость в горле. Мается он – завыть тянет. Раз по двадцать заходит в брехаловку, смотрит на часы на стене, сверяет со своими, что на руке, садится и медленно выкуривает сигарету, потом снова уходит, проверяет исправность автобуса, возвращается, дремлет в уголке или зачищает наждачкой свечи зажигания, которых у него всегда полны карманы.
Как только появляются первые признаки окончания спектакля, дядь Гена уже в «ПАЗе», он готов, он рвется в путь. У него два вечерних развоза. Первый – актеры, второй – цеховые рабочие (костюмерши, парикмахерши, монтировщики, реквизиторы). Его трудовой день обыкновенно заканчивается где-то в полночь.
Сегодня мы слегка облегчаем его участь – мы доберемся до дому своим ходом. Предупредили дядь Гену заранее, тот понимающе подмигнул: «Давайте, дело», – и тревожно покосился на пребывающего третий час в ступоре режиссера Дубравина.
Конечно, переживать, волноваться нелишне, особенно режиссеру, только так, как наш Дубравин, это уж перебор. Этот просто отключается, практически обмирает, когда идет его постановка. И не имеет значения, первый раз или тридцатый, – одинаково сидит с белым лицом, смотрит в пространство. Лишь когда из зала доносятся финальные аплодисменты и актеры вбегают в брехаловку с цветами, краснея улыбками, Дубравин наконец оживает, достает платочек и долго утирает лицо, начинает дышать. Его тормошат, поздравляют, целуют, и он вслед за всеми тоже улыбается, правда, изнуренно, точно дотащил до нужного места тяжеленный мешок, сбросил с плеч и можно в конце концов обрадоваться, разогнуть спину, вытереть пот…
Вообще-то актерам нравится болтаться в театре. Приходят часа за три до репетиции или спектакля, сидят без дела, курят, треплются ни о чем; частенько заглядывают летом, когда межсезонье, в понедельник – выходной день. Их сюда притягивает: кажется, без самого этого здания они долго не могут, без него зачахнут, как нарко́ты без дозы. Но после спектакля всегда бегут прочь как оглашенные. Скорей, скорей в гудящий у служебного хода «пазик»! Неразгримированные, полуодетые, мужчины – с залакированными хохолками над лбом, женщины, на бегу трущие навазелиненной ваткой свои кукольные лица. Дело сделано, наркотик принят, скорей прочь отсюда!..
Вот они бешено топочут по лестнице. Вниз, вниз! Хлопает дверь, выбрасывая их на свежий воздух. Через полчаса они будут добрыми мамами, папами, людьми чуточку усталыми, но бесконечно счастливыми. Удовлетворенными и обновленными. Но завтра, проснувшись, снова поспешат сюда за новой дозой… А зритель оценивает их глюки глазами, тишиной в зале, аплодисментами, тоже пытается заторчать.
Наша же задача – монтировщиков – заключается в том, чтоб обставить местом представления подобием реальных предметов или, наоборот, усилить впечатление сказочной чудесности действа. Без декораций активным и пассивным участникам представления добиться экстаза было б намного трудней…
Спектакль окончен, зрительный зал опустел, актеры, трясясь в автобусе, наслаждаются легкостью и недолгой свободой, а мы очищаем сцену, таскаем на склад фанерные стены домов, бутафорный рояль, сухие березки с листочками из зеленой бумаги… Завтра будет другой спектакль, будут новые декорации, и актеры на два с половиной часа превратятся в других людей, но цель у них будет все та же… И так практически каждый день.
Сделав дело, сидим в одной из гримерок за накрытым столом. К нам временно, до возвращения дядь Гены из первого рейса, присоединились костюмерши. Они самые симпатичные и свойские девчонки из цеховых. Толстую Ксюху звать, конечно, не стали.
У костюмерш все еще обида на директора.
– Раздул из-за какого-то пятнышка прям катастрофу, – жалуется Валя, аккуратно, по-женски разрезая на ломтики тощенький кусок «Чайной». – С испугу размазала на весь подол… вот домой взяла, дома уж прокипячу как следует, выведу.
– Да-а, Виктор бывает крут, – согласился Вадим тоном старого солдата. – Тоже вот как-то…
Димон перебивает:
– Давайте по первой, а потом расскажешь.
В граненых стаканах граммов по пятьдесят. На бумажной афише разложен скромный, почти символический закусон. Колбаса вот, сырок плавленый, накрошенный мелко-мелко, естественно, хлеб и несколько помидорных долек.
– За все доброе!
Чокаемся. Торопливо заглатываем цыганку. Костюмерши до конца не допили, оставили.
– У-ух!
– Так, закусываем экономно, – предупреждает Вадим.
Молча, напряженно жуем, глядя в стол.
– Ой! – вскочила вдруг Оля. – У меня ж бутерброды есть! – Лезет в сумку и вынимает пакетик с потными, задохнувшимися бутербродами – батон и ветчина.
– Неплохо живется, Оль, – усмехнулся Лёха, – про ветчинку забываешь! Со мной лично такого не было…
– Да все из-за скандала этого, – оправдывается она. – Весь спектакль с Валькой дрожали…
– Ну, бросьте, – морщится Вадим, – забудьте. Давайте расслабимся.
Костюмерши своим присутствием приподняли слегка настроение. Впрочем, как и любая более-менее симпатичная женщина за столом, где выпивают. Вадим после спектакля предлагал втихую кое-кому из молодых актрис остаться, посидеть, но те отказались, торопясь на автобус. А с мужской актерской частью, за исключением двух-трех, мы близко общаться опасаемся, а скорее, брезгуем. Дело в том, что многие из них – пидоры. Такое вот дело… Ко мне на первых порах, когда только устроился, клеились открыто во время вечерних пьянок. Ощущение, блин, еще то!
Говорят, первыми были двое актеров, приехавших после войны из Харбина, из тамошнего русского театра. С тех пор и началось, все разрастаясь и заразив чуть не всех, так сказать, мужчин труппы. Хе, вот вам тоже традиция…
Однажды я чуть было в это дело по-крупному не вляпался. Отработал недели две, еще не совсем в курсе был, кто нормальный, а кто из этих. И вот пили после очередной премьеры. Банкет роскошный в верхнем фойе, все дела. Я, конечно, набрался как следует. Часам к двенадцати ночи основная масса уехала по домам, а оставшиеся, как водится, разделились, разбрелись с остатками выпивки мелкими группками, попрятались в гримерках, цехах, кабинетах. И я остался наедине с актером Лялиным, слюняво-миловидным, очень похожим на свою фамилию, лет тридцати пяти так… Сидели в кабинете администратора, пили из длинногорлой бутылки греческий коньяк. Лялин мне что-то рассказывал, втирал монотонно и усыпляюще своим тонким, чуть с картавинкой голосом. Душу, короче, открывал. А я машинально покачивал головой, то проваливаясь в пьяную дрему, то с трудом всплывая и делая глоток из бутылки. И, всплыв в очередной раз, понял, что этот Лялин обнимает меня, поглаживает, и лицо его в трех сантиметрах от моего. «Поедем ко мне, – тихо предложил он, – поедем, мой мальчик!» Я хлебнул коньяку, задев его бутылкой, а потом спросил, даже не ожидая от себя такого: «А твоя жена?» И мой голос был мягок, кокетлив. И в тот момент – слава богу, всего на секунду – я почувствовал себя женщиной. Развалившейся на диване, пьяной, игривой телкой. Мне показалось, что я в юбке, что у меня между ног влажная и горячая щель, а гладкие ляжки обтянуты кружевными чулками. Я испугался, я очнулся и дернулся, чтоб вскочить, оттолкнуть Лялина. Но он держал меня. Негрубо вроде, но очень крепко держал. «Что такое? – шепнул, как доктор, вводящий иглу в пациента. – Что, что случилось, мой милый?.. Жена не помешает». И прилепился своими губами к моим, быстро всунул мне в рот свой язык. Длинный, прохладный, какой-то мускулистый язык…
Все обошлось, я освободился. Но освободился позорно, точно одумавшаяся, отрезвевшая женщина, почти уложенная в постель. Я не двинул Лялину в морду, как принято у мужчин, я вырвался неуклюже, слабо толкаясь, выворачиваясь, пискляво дыша. Да, не хватало еще завизжать и позвать на помощь!.. И, выбегая из администраторской, я увидел его лицо: Лялин снисходительно улыбался, кивал, будто соглашался на кратковременную отсрочку.
С тех пор он нет-нет да и спрашивает меня взглядом: «Ты еще не созрел? Неужели до сих пор против? Странно, странно, мальчик!»
– Оставайтесь, девчата. Посидим, пообщаемся, – уговаривает Вадим в меру своего словарного запаса. – Водки у нас хватает. А? Девчат?..
– Да уж ведь вроде посидели, пообщались, – невесело отвечает Валя, и я слышу в ее голосе разочарование, спрятанную досаду, что действительно с нами каши не сваришь, нажремся просто в итоге, попадаем, ей же ехать сейчас на край города, к новым девятиэтажкам, где ждет ее в тесной квартирке ежедневный муж, капризный, не засыпающий без мамы ребенок.
– Нужна постепенность, Валь, – начинаю я объяснять и как бы невзначай кладу руку на спинку ее стула.
– В смысле?
– Ну, в смысле общения в первую очередь. – Взглянул на нее, она на меня, и ее глаза на миг блеснули интересом. – Понимаешь, Валь, нельзя все делать с наскока, нельзя торопиться. – Дотронулся до ее мягкого, теплого плеча, а потом стиснул его, как бы удерживая не вставать. – В наше время, когда всё кувырком, черт знает что, нужно вот так вот спокойно…
С улицы: «Би, би! Би-и!» Сука, вот всегда в самый такой момент! Что ж у этого «ПАЗа» колесо нигде не спустило, свечи не намокли?!
Костюмерши натягивают одна пальто, другая пуховик, хватают сумки, пакеты. Мы забыты, начало моего умного размышления растоптано. Оля и Валя несутся к выходу. И попрощаться не соизволили.
– Девчонки, на посошок! – пытается задержать их Димон, размахивая полупустой бутылкой.
Лёха злобно шипит:
– На хрена! Пускай катятся, стервы!
– Эх, вздрогнем, – вздыхает Вадим.
Сталкиваем стаканы, пьем без тоста.
Вскоре, конечно, приковыляла сторожиха-вахтерша. Как большинство людей на подобных должностях, ворчливая, тупая, вечно всем недовольная.
– Чего это? – начинает скрипеть. – Здесь не место вам… не распивочная… Мне запирать надо… накурили-то… Опять что пропадет, а все на меня… Ну, собирайтесь давайте, а то пожарника позову…
Спорить бесполезно. Берем бутылки, остатки закуси. Выходим. Старуха осматривает гримерку, встряхивает пепельницу, проверяя, затушены ли окурки. Потом гасит свет, закрывает дверь на ключ.
– Айда к Петрачене, – предложил бригадир.
– Куда ж еще? У него уютно…
Как декоратор Серега Петраченко незаменим. Где еще найти такого безропотного исполнителя чужих идей? Художник-оформитель создал эскиз, получил согласие режиссера и принес свое творение Петрачене. Так, мол, и так, здесь синим, здесь розовым. Столько-то в длину, столько-то в ширину. И попробуй накрасить не так, посадить цветочек на фанеру на десять сантиметров в сторону или чуть изменить цвет. Скандал, истерика! Глумление над творчеством! Все испортил! Бедняга оформитель впадает в депрессию.
Но к Петрачене никаких претензий, он все сделает тика в тику. Зато уж извините: пьет-с. Он единственный мне знакомый хронический алкоголик. Он в прямом смысле не просыхает. Для него водка, как для меня, например, сигареты: каждые полчаса – стопочка, глоток водички, и можно работать дальше.
Пить он стал, как часто повторяет, от несвободы, обиды, зависти. «Ведь я же, мля, такой же художник. Одно с ним училище кончил, а вот, это самое, какая разница… – Так примерно, исключая, правда, основной поток междометий, жалуется Петраченко. – У меня будто идей нету. Да, хе-хе, мля, полны загашники! А вот… Потому и заливаю пузырь, м-м, за пузырем. Свое заливаю!»
Он днюет и ночует в своей мастерской. Квартиру, доставшуюся ему после смерти родителей, Петрачена оставил последней жене и сынишке. А вообще-то у него пятеро детей от трех разных жен, всем им нужны алименты, вот и приходится ему вкалывать для театра и, по возможности, халтурить на стороне.
Жалко, конечно, Серегу, да только что делать… Так уж сложилось, не он один увяз в этой трясине. И если дать ему вдруг свободу, разрешить творить самому – не сможет. Хорохорится иногда, упоминает про загашники, только не верю. Поздняк, Петрачена: под полтинник тебе, сопрел порох в пороховницах…
– Здорово, а вот и мы! Не прогонишь?
– Добро, гм, это самое, добро пожаловать.
Ввалились гурьбой, без церемоний окружили стол, наводим на нем порядок, освобождая от мусора. Целлофановые мешочки, пустые консервные банки сгружаем в расписное ведерко из какой-то списанной сказки.
– Сейчас, Серега, накатим!
– Гм, гм, эт дело, как говорится, святое…
На первый взгляд декораторский цех – классическая мастерская художника. Неизбежный деловой беспорядок, тубы с краской, холсты, обрезки багета, масса всяческих штучек, какие обычно скапливаются у художников, начиная от морских раковин и вазочек с отколотыми краями и кончая деталями автомобиля, кусками бетона. А приглядишься, становится ясно, что обитатель мастерской не хозяин здесь, а раб, подневольный ремесленник. На обрывках ватмана с эскизами – печати, удостоверяющие, что эскиз одобрен начальством, и еще на всём: на мебели, вазочках, на рамах картин – укромно посаженные, но все же бросающиеся в глаза белые трехзначные цифры – мертвые знаки инвентаризации.
– Слыхал, хотят новую сказку ставить, – произносит Вадим не спеша. – Там декорации, говорят, шизануться можно. Терем трехэтажный, потом лес, потом еще царские хоромы. Запаримся устанавливать.
Ему вторит Андрюня:
– Каждый вечер разные спектакли, и во всех хрен знает чего понаделано. В мире уже давно: стул, стол, скамейка там, и – хорош.
– Хе, мля, ты не скажи, – усмехается Петраченко. – Декорации, эт самое… они зрелищности прибавляют.
– Вот все к зрелищности и привыкли, – подаю голос, – а просто на актеров смотреть уже скучно.
– Ну, детям-то надо, гм, чтоб красиво было, эт самое, ярко.
– Да нет, понятно, конечно, – тушит возникающий спор Вадим. – Наливай, что ли, Димон, помаленьку.
Разговоры, как обычно, о театре. Так или иначе, а мы с ним крепко связаны. Каждый, в принципе, не прочь бы уйти, не прочь найти другое место, но театр держит, вращивает людей в себя, облепляет, как паутина; даже уволившиеся, выгнанные за пьянку, от монтировщиков и столяров до актеров, частенько появляются, сидят в брехаловке, расспрашивают, как и что, и уходят нехотя, через силу, борясь с желанием подняться к Виктору Аркадьевичу в кабинет, пасть на колени и умолять, чтоб принял обратно.
– Как, гм, гм, Лариса-то Волкова сегодня сыграла, не знаете? – осторожно, с виноватой улыбкой спрашивает Петраченко.
– Да хрен знает, – ляпает в ответ простодушный Андрюня, – мы не смотрели. Хотя, мхе, девчонка клевая!..
Декоратор досадливо покряхтывает.
Как-то быстро и незаметно кончилась цыганка, уже допит и почти весь энзэ декоратора. Осталось буквально по паре глотков.
Расходиться по домам поздно, сил нет. Все мы уже на грани отруба, даже Петрачена размяк. Весь скопившийся в нем за день алкоголь долбанул в голову. Но перед тем, как погрузиться в похмельный сон, я точно знаю, он выдаст свою коронную речь. Речь об актерской профессии, о тех, кто обманул его, сперва очаровав и тут же растерев в прах это очарование. Он ее в конце каждой пьянки выдает, словно финальный, полный горя и обиды монолог в какой-нибудь пьесе.
А пока что Лёха с Андрюней, переругиваясь, сооружают на полу лежанку, раскладывая кулисы, холстины. Вадим сидит, задумавшись, он точно бы анализирует, хорошо ли удалось сегодня «посидеть, вздрогнуть», я курю вторую подряд сигарету, борясь с дремой, а декоратор уже подремывает… Димон, коренастый и крепкий на водку парень, тщательно делит остатки выпивки, заодно спрашивает:
– Серег, слышь, научи, где ты бабки берешь на пропой? В месяц же, получается, тыщ десять ухлопываешь, не меньше. Мне бы так…
– Да, гм, эт самое… – бормочет в ответ Петраченко.
За него вступается Вадим:
– Чего ты обламываешь, Дименций! Ну бухает человек, и слава богу. Чего в душу лазить? Рас… расслабляемся…
Хороший, ядреный глоток – и стаканы пусты. Все, теперь можно падать. В голове тяжелый и тупой зуд, будто там бегают маленькие кусачие муравьи. Веки наползают на глаза шершавыми щитками, стоит больших усилий поминутно их поднимать. Телу хочется на пол в горизонтальное положение. «Растекайся, давай, растекайся!» – повелительный шепот. Это даже больше не опьянение, а усталость от длительного, пятичасового застолья. Когда набираешься быстро – все иначе. Коловерть, вихрь, фейерверк ярких вспышек. И в итоге – резкий отруб. А когда не спеша, то забытье приходит с трудом, оно борется с сознанием и глупым человеческим упрямством. «Растекайся по полу, растекайся», – мудро шепчут мне. Я же, дурак, не хочу, я таращу глаза, пытаюсь ворочать каменеющим языком… Никакого кайфа. Кайф сгорел, превратился в кусачих муравьев, и значит, надо подчиниться мудрому шепоту.
Скорей, скорей где-нибудь лечь, зарыться в тряпье, растечься. И я падаю, подо мной матерятся, спихивают ногами. Я молчу, я недвижим, но еще чуть-чуть в сознании. Какая-то малюсенькая клетка пульсирует, светится бледной точкой. И клетка следит за полосками на моих веках. Полоски текут, они похожи на раскаленные электрические волны. Когда же кончатся? Клетка пытается их сосчитать… Так, три на левом веке и четыре на правом. Нет, на обоих по три… или по четыре… Надо напрячься…
– Гм, гм, жизнь, эт самое, говорите, искусство? М-да… Жизнь. А нет, мля, не в этом дело. Не жизнь это называется, мля, а псевдо, гм, псевдожизнь.
Дождались, пожалуйста, началось. Потусторонний, жутковатый голос откуда-то с потолка. Если бы не привычные междометия, и не догадаться, что это Петраченко вещает. Не смог он срубиться без заветного монолога. Хоть напоследок, в пустоту, но надо… Да и пускай, усну под него, как под бабушкину сказочку. Вот бы только суметь улечься удобней.
– Если хотите, гм, расскажу я вам, мля, историю. Это самое, стра-ашная история. Да-а… Про то, м-м, про то, как понял я все про театр. Гм, гм… Есть у нас, мля, одна девочка, девочка-милочка. Актрисочка, в общем, одна. Ох, мля, красивая, как с картинки, скажи! И вот играет она, эт самое, играет такую же, гм, гм, девочку-милочку. И по роли, мля, у нее слова есть: «Я люблю вас!». Такие слова, мля, – вдуматься только. «Я люблю вас!» А?.. Это ж считается верх всего, м-м, это ж человек раз в жизни сказать-то может. Вот так, гм, так вот сказать, и то не каждый… «Я люблю вас!» Это святое, ребятки! А она, она говорила, гм, на каждом спектакле. На каждом! И так говорила слова эти чертовы, что верили все, гм, гм, весь зал струной становился. Представляешь, а? Дерни посильнее – и лопнет…
Белые волны на веках собрались в тугую струну. Да, представляю. Даже вижу вот. И по струне, чуть-чуть дрожащей, прыгает та, из общаги. С подоконника на бывшей кухне. В белом балетном платье. Стройные ножки. И волосы золотисто-каштановые. А лица все нет, лицо спрятано, лицо недоступно мне. Она плавно танцует, а я затаился, я слежу за ней, за ее танцем. Я подглядываю, а Петраченко озвучивает:
– Гм, и я специально на балкончик, эт самое, выползал, к осветителям, когда говорила она. И, мля, и слезы у меня, слезы вот так выступали, и верил, и верил я, и забывал, мля, что это спектакль простой, что, мля, не жизнь. А девочка эта милочка – просто играет роль свою, гм, гм, через десять минут – совсем другой станет, эт самое, другой совсем человек. Я одно тогда только знал, что, гм, мне она, мне говорит: «Я люблю вас!» Душу рвала. Струну, чтоб зазвенела… Гм, гм, а назавтра какого-то зайчика, это самое, изображала глупого. Мальчиком делалась. Со мной тут, со мной водку пила. Зачем так?! Зачем, это самое, маска?.. Нет, мля, не могу, не прощу, это самое…
И – тишина. Полная. Всё умерло, ни сопения, ни ворчания пьяного, ничего. Петрачена, дотянув свою историю, сто раз повторенную, заученную, словно роль, но свою роль, пожизненную, договорив ее, – спит. Сидит, свесив кудрявую, полулысую голову на грудь, раскинув ноги и пустив из приоткрытого рта нитку вязкой слюны. Спит. А я, отрезвевший, с прояснившейся головой, смотрю на его чернеющий силуэт, почему-то боюсь моргнуть, закрыть глаза и не найти под веками ничего.
4
Редко теперь уже, но бывает: просыпаюсь с рассветом, голова легкая, я весь отдохнувший и новый. Полузабытое ощущение детства.
Несколько минут лежу, глядя в потолок (там сейчас нет черных трещинок), глаза не слипаются и не болят, не хочется повернуться на бок и поспать еще. Поначалу мне представляется, что я в своей комнате родной кызылской квартиры. Мне лет двенадцать. Прислушиваюсь, мама, должно быть, на кухне, готовит завтрак. Сейчас заглянет отец: «Роман, подъё-ом! Пора в школу. Учиться, брат». И я немножечко улыбаюсь, вытягиваю, распрямляю тело, от шеи до ступней, – говорят, когда дети потягиваются, они растут.
Нет, не слышно кухонного шума, отец не заглядывает ко мне. Значит, выходной день, а может, и праздник. Первое мая…
Я бодрствую, я не сплю, но мое состояние лучше самого сладкого сна. Глаза открыты, а душа путешествует далеко, там, где меня давно уже нет, она отыскивает и повторяет хорошие утренние минуты, минуты из детства… И вот, как на чистую синеву весеннего неба наползают снеговые жирные тучи, – она возвращается в меня сегодняшнего, и я вспоминаю, где я и что было вчера, сколько мне лет, что ожидать от нового дня. И я зеваю со стоном, свистом в прокуренных легких, я слышу храп Лехи с соседней кровати; кости начинает ломить, в боку что-то покалывает, давно не мытая голова чешется. Покряхтывая, сажусь, вытряхиваю из пачки сигарету.
Самый большой расход сигарет – по утрам. Надо оживить себя, наполнить привычной бодростью никотина, а затем уже продолжать жизнь. Первую курю, сидя на кровати, закутавшись в одеяло, гляжу по сторонам и шепотом повторяю одно и то же: «Ох, блядь… ох, блядь…» Хотя вчера и не получилось напиться, но состояние как с бодунища, я разбит и точно пропущен через какую-то кривую, вибрирующую трубу. Теперь вот труба меня выплюнула, и я постепенно оправляюсь, потирая ушибы и шишки, приводя в порядок растрясенные внутренности, мозги.
Одеваюсь медленно и через силу, заодно выкуриваю вторую «примину». Кое-как заправляю постель, беру полотенце, тащусь споласкивать рожу…
Вода только холодная. Не холодная, а ледяная. Стараюсь пригладить волосы, от этого ладони становятся липкими, сальными. Ищу на раковинах обмылочек, но обмылочка нет. Черт с ним. Полощу горло, прокашливаюсь, отхаркивая из глотки темные твердые сгустки. Наконец завинчиваю кран, утираюсь серым вафельным полотенцем. Смотрюсь в осколок зеркальца, приклеенный к кафелю. Надо бы побриться, щетина превратилась почти в бороду, да у бритвы все лезвия тупые – бесполезно и пробовать, только исцарапаюсь.
На столе – остатки ужина. Несколько картошек в мундире, куски хлеба в целлофановом мешочке. Соль. Сажусь, очищаю картофелину, по ходу дела ловлю кружащих над столом мошек. Ем под громкий, безобразный храп Лехи. Время от времени взглядываю на него, на его задранную морду, на яму рта, из которой вылетает: «К-кх-х-х, н-ня-а… К-кх-х-х, н-ня-а…» Сначала сухое, корябающее слух «к-кх-х-х», а потом мокротное, захлебывающееся «н-ня-а». Хочется сунуть ему в рот картофелину или тряпку, заткнуть, чтоб была тишина. Останавливает опасение, что завтра он может сделать то же со мной, проснувшись первым.
Воскресенье. Утро. Но людей уже полно. Времена, когда в выходные можно было отоспаться, отдохнуть перед очередной рабочей неделей, давно в прошлом. Теперь для многих что будни, что выходные – один черт. Появилось слово «уикенд», а само это состояние у очень многих исчезло. Нынче жизнь – непонятная кислая смесь, и путем не работаешь, и тем более не отдыхаешь. Одноцветная, бесконечная непонятность.
Шагаю к центру новой части Минусинска…
Город разделен на две почти равные половины протокой Енисея. Центр старого города – Спасский собор, музей и театр, а центр нового – Торговый комплекс. Двухэтажный универмаг «Саяны», супермаркет и огромный рынок вокруг них.
Несколько лет назад здесь был скучный пустырь, заваленный строительным мусором, заросший полынью. С трех сторон пустырь окружали свеженькие девятиэтажки, а с четвертой он выходил к главной улице новой части города – Трудовой. На пустыре поначалу собирались строить спортивный городок с футбольным стадионом и бассейном. На него денег не нашлось, и тогда задумали разбить парк с укромными скамейками на аллеях, зеленым рестораном, аттракционами. И пустырь даже расчистили, разровняли для этого дела, стали завозить плодородную землю. Но тут наступили рыночные времена, и пустырь стихийно превратился в толкучку.
Сперва торговали на земле, разложив товар на брезенте, клеенках или на капотах машин, затем появились уродливые самодельные прилавки-кабинки из арматуры, с покрытыми кусками толя или фанерой крышами, а с недавних пор рынок приобрел вполне цивилизованный вид: возвели супермаркет и универмаг, установили ровненькие ряды киосков с красочными, броскими вывесками: «ООО Руслан», «ТО Багира», «ЧП Шанхай», ряды прилавков под жестяной крышей. За несколько дней были собраны теремочки-кафе, где и продавцы, и покупатели могут перекусить, отдохнуть, освежиться фантой или пивком, решить свои деловые вопросы. Тут же, конечно, платный туалет, пункт охраны порядка, неприметная будочка администрации Торгового комплекса.
Мне интересно по утрам бывать здесь, наблюдать, как собираются торговцы со своими тележками, как разгружают пульманы серьезных коммерсантов, как ругаются старушки, стараясь занять удобные места. Раньше меня тянуло на берег протоки, нравилось лежать на траве под огромными черными тополями, глядеть на вялую рябь воды, слушать просыпающихся птиц, редкие всплески плавящейся рыбешки. Теперь же тянет к Торговому. Хе-хе, становлюсь, видимо, цивильным человеком, с западными привычками. Слышал где-то, что в Штатах, например, лучший отдых для нормального гражданина – гулять по шопам, не с целью даже чего-нибудь прикупить, а просто поглазеть, полюбоваться на изобилие развешенных одежд всех фасонов, размеров и мод, на россыпь забавных безделушек, разнообразие вкусностей.
Я заметил: когда ходишь по рынку с целью что-либо приобрести, выбираешь, мучаешься сомнениями, торгуешься, голова начинает болеть, силы быстро испаряются. В конце концов плюешь и хватаешь что попало, только б скорее закончить изматывающую процедуру… Нет, по рынку надо гулять с пустыми карманами, внушать себе, что ты, дескать, просто на выставке, в музее под открытым небом. И тогда станет легко, тогда ты выше озабоченности копошащихся вокруг обывателей, ты наблюдатель, свободный и посторонний, слегка ироничный.
Рынок – это особый мир, совсем не похожий на мир колхозных базаров, памятных мне по детству, с добрыми бабушками за прилавком, с ароматом малосольных огурчиков, чеснока, садовой клубники. Теперь рынок – жизнь не сотенки огородниц, нескольких профессиональных рубщиков мяса и грузинов в окружении пирамидок из мандаринов, абрикосов, гранатов; теперь это жизнь чуть ли не трети населения города (как прочитал я недавно в местной газетке «Власть труда»), жизнь недавних уличных хулиганов, бывших рабочих, учителей, домохозяек, пенсионеров. Продают бананы и книги, одежду, косметику, копченую рыбу, печенье, запчасти, туалетную бумагу, кассеты, столовые приборы, чтоб к вечеру набралось выручки на прокорм семьи для завтрашнего дня. Редко-редко встретишь увлеченного огородника, торгующего излишками со своего участка, охотно делящегося секретами, как удалось ему вырастить такую большую и сладкую морковь или такие аккуратные, прямо как на подбор, помидоры. Сидят теперь на лавках, ящиках, пляжных стульчиках хмурые, измотанные люди, перекладывают с места на место, как им представляется, попригляднее для покупателя, пособлазнительней, свой товар. Ловят взгляды проходящих мимо, расхваливают фальшиво-приподнятыми голосами: «Свитера, свитера – чистая шерсть!.. Горбушечка, пожалуйста! Подходим!.. Лицензионные кассеты! Все рейтинговые фильмы последних лет!..»
Да, хорошо здесь с утра. Еще нет толкотни, суеты, давки. Пока что происходит неспешная подготовка к бурному дню, занятие удобных мест, писание свежих ценников. Журчат разговоры-воспоминания продавцов о вчерашней удачной или неудачной торговле.
Я присел на пустой пока что прилавок в начале одного из длиннющих рядов, достал пачку «Примы». Пересчитал сигареты. Двенадцать штук. Растянул почти, если б завтра утром поехал к родителям, а так что делать, где раздобыть курева на следующую неделю? Денег занять почти нереально, даже несчастный червонец. Одна надежда: не дождавшись меня в понедельник, отец приедет ко мне сам, попроведать, и привезет еды, сколько-нибудь деньжат…
Покуриваю, смотрю вокруг. Многих продавцов-завсегдатаев знаю в лицо. Они – как персонажи бесконечного сериала, мне известны их характеры, манера вести торговлю, их голоса. Наблюдая за ними, я заодно фантазирую, допридумываю то, чего не могу увидеть. Например, как они лет пятнадцать назад спокойно работали на какой-нибудь перчаточной фабрике или мебельной, гнавшей никому не нужный вал убогой продукции, как жили от аванса до зарплаты, как однажды прекратились авансы, а потом и зарплата, как прикрыли их фабрики, и они пришли сюда, на Торговый. Сначала, естественно, думали: на время, а потом поняли – навсегда. И вот получают с баз, со складов книги, косметику, коробки с бананами и морожеными окорочками, катят их на тележках, тащат в сумках. Десять-двенадцать процентов с продажи – довольно прилично. Но бананы с каждым днем чернеют сильней и сильней, начинают подгнивать, а их все не раскупают; окорочка по десять раз размораживаются и замораживаются, каждое утро выставляешь их на продажу, а вечером, проклиная, впихиваешь в морозильник до следующего утра. Лампочки стряхиваются, стержни у ручек потекли, коробки с дорогими духами так легко мнутся, свитера напитываются пылью…
Особенно ярко я представляю вечера этих людей. Их молчаливый ужин на кухоньке всей семьей. Едят сообща не ради семейного единения, а чтоб поровну распределить пищу. Хмурый трезвый муж, натаскавшийся мешков с сахаром, крупами; серая, нервная жена с распухшей после дня на рынке головой, делящая рис по тарелкам и с ненавистью поливающая этот рис жиденькой подливкой с редкими кусочками тушеной брюшины; их дети, боящиеся пошалить: дернешься, начнешь капризничать – и отец наверняка даст подзатыльник, мать завизжит, затрясется, швырнет ложку об пол и убежит в комнату, свалится на скрипучий диван… Что-то подобное – сто процентов.
Вот напротив меня раскладываются муж и жена. Им на вид слегка за тридцать. Я их часто вижу, они одни из центральных персонажей моего сериала. Они специализируются на моющих средствах. Стиральные порошки, разнообразное мыло, «Комет» с хлоринолом, прокладки на каждый день и для критических дней, туалетная бумага, зубная паста. «Утята» для унитаза… Привезли товар на двух тележках, переделанных из детских колясок. Без лишних разговоров умело расставляют упаковки, бутылки на прилавке. Лица еще не проснувшиеся, глаза тусклые. Женщина вообще-то ничего, симпатичная, но уставшая, наверное, навсегда, поблекшая от забот и ежедневных торговых вахт в любую погоду; одета она в лучшее, видимо, что у нее есть, лицо подкрашено, на голове кокетливый беретик. Кстати, неряшливо выглядеть – только отпугивать покупателя, поэтому надо стараться быть на уровне красочных пачек со стиральным порошком, приближаться к миловидным, ухоженным девушкам на мыльных обертках. Надо, короче, соответствовать товару… А мужчина в рабочем: старенькие джинсы, штормовка, линялая спортивная шапочка. Он дворник. Это я знаю точно – однажды проследил за ним, видел, как он метет тротуар, загружает контейнеры содержимым мусоропроводных бункеров в одной из близстоящих девятиэтажек. Везунчик. Нет, действительно, работать дворником – это везение. Зарплата более-менее и, самое главное, без особых, говорят, задержек; можно жить, можно и позволять себе иногда лишнее, слегка куражнуть. Хотя, хотя – вот я, помню, работал как-то дворником, всего-навсего поддерживал чистоту на территории детского сада, так после месяца работы мне казалось, что проклятые дети только и занимаются поеданием конфет и бросанием фантиков, ломанием веток, что с деревьев слетают миллиарды листьев, нянечки специально сыплют мусор мимо контейнеров, чтобы помучить меня. А собаки загаживают за ночь буквально всю территорию… Очень быстро мне стало казаться, что я мету не асфальт тротуарчиков, а свои собственные мозги…
У этой пары классически двое детей. Мальчик лет двенадцати и девочка чуть помладше. Они приходят к матери обычно после трех часов, приносят из дому баночку с супом, термос. До вечера дети уже с ней. Сидят по бокам, и лица их такие же, что и у матери, – они тоже ждут покупателя.
Торговля идет средне, не особенно хуже и не лучше, чем у других, кто по моющим средствам. Но – берут. Ведь все же пока люди стирают, чистят зубы, моются.
Часам к пяти появляется муж, он переодет, он в выходных брюках, в дерматиновой куртке. Стоит у прилавка, обсуждает с женой, что купить на ужин, на завтра. Жена дает ему деньги. Он отправляется по рядам. Говядинки можно с кило, нет, лучше свинины, она подешевле; пачку российских спагетти, немного зелени, двести граммов фарша… А сверх необходимого – детям по пломбиру, жене маленькую шоколадку, бутылку пивка для себя. Возвращается с сумкой, щедро раздает членам семьи подарки, чинно открывает пиво. Некоторое время они молча и с удовольствием поглощают вкусное, на их лицах блаженство… Съели, очнулись, посерели опять. Муж кладет пустую бутылку в сумку с продуктами и уходит домой. Через двадцать минут прикатывает тележки. Медленно, точно бы нехотя собирают товар. Дети помогают… И рынок пустеет так же постепенно, люди вяло укладываются, расходятся, разъезжаются. На прилавках, в проходах остались пустые коробки, газетные комки, гнилые, раздавленные овощи. Бродят нищие в поисках стеклотары, чего-нибудь забытого, оброненного. Находке (чьей-то пропаже) радуются, будто кладу… Вслед за нищими приходят дворники, приводят Торговый комплекс в порядок, чтоб наутро он был чистым, готовым для очередного рабочего дня.
Понятно, что я не полный кретин и не торчу тут с восьми утра до семи-восьми вечера. Это просто картина, составленная из многих кусочков – утр, дней, вечеров, которые я провел в Торговом. В роли наблюдателя. По крайней мере – пока…
– Давай-ка, парень, я вот здесь разложусь, с краешку, – предложил пожилой, кряжистый дядя с большой сумкой на плече и прикрытым наволочкой ведром в руке.
Я спрыгнул с прилавка, а он тут же стал вынимать из сумки баночки со сметаной, целлофановые мешочки с творогом, сливочным маслом… Владелец коровы, скорее всего.
Пора прогуляться. Вот задумался и не заметил, как рынок ожил, почти все места в рядах уже заняты. И покупателей тоже прилично. День воскресный, купля-продажа сегодня должна получиться особенно бойкой.
Продавцы зазывают заученно и складно: «Носочки, носочки со склада! Чистый хлопок! Всего двенадцать рублей!», «Огурчики домашние, солененькие! Попробуйте, не стесняйтесь!», «Кому халвы? Халва краснодарская, рассыпчатая!».
Голоса продавцов смешиваются с песнями из киосков звукозаписи. Киосков этих штук пять, так что получается невообразимая какофония. Вот из одного выкрикивают попеременно два мужских голоса, один тонкий и сладкий, другой – демонический:
А из другого киоска – свойский тенорок рассказывает известную сказку про Федору и Ивана:
Как раз вокруг этого киоска разместились старушки, пытающиеся реализовать овощи со своих огородов. Поздний лук-батун, зонтики укропа для солений, доспевшие в домашнем тепле помидоры… По временам то одна, то другая, морщась, оглядываются на выставленные из киоска, дрожащие от натуги динамики. Старушкам, понятно, неудобно слушать неприличную сказку, но что делать – место людное, бойкое. Ладно, как-нибудь перетерпят…
Здесь, в Торговом, и мои родители последние четыре лета надеются поправить дела. Тоже сидят за прилавком, полным овощей, торгуют. Да только хватает в итоге навара, как и всем, кажется, остальным, лишь на повседневные траты: на продукты, бензин, на самое необходимое. Заработанное чаще всего остается тут же, в соседних рядах и магазинчиках.
Когда я знаю, что они должны приехать, стараюсь держаться от рынка подальше – очень уж тоскливо делается, обидно видеть их, родных людей, в этом скопище, в ранге рыночных торгашей, готовых сбросить цену, прибавить лишний огурец, чтоб уж наверняка получить взамен бумажки-деньги, без которых не проживешь. И тот полуравнодушный наблюдатель, слегка ироничный экскурсант, что обычно расцветает во мне, когда бываю в Торговом, тотчас же пропадает, оставляя маленькое, обиженное, бессильное существо со слезящимися глазами. Но это – лишь когда вдруг сталкиваюсь с родителями, их взглядом, просящим и меня, не узнав меня в первый момент, «покупать огурчики, редисочку, свеженький, сочный лучок»…
Покидаю Торговый комплекс. Направляюсь в сторону детского городка, что на противоположной стороне улицы Трудовой. Посижу на скамейке, посмотрю на резвящихся беззаботно ребятишек, покурю. Еще бы двенадцать рублей на пиво, да, как говорится: на нет и суда нет.
Прохожу мимо памятника. На карем граните белой краской жирная надпись «Здесь был Вовка!». А под надписью аккуратно выбито: «Места пребывания В.И. Ленина в Красноярском крае во время ссылки 1897–1900 гг.». И этакая небольшая схемка-карта. Сам Красноярск, Минусинск, села Козлово, Шушенское, Ермаковское. Чуть ниже схемочки специальный желоб, куда можно положить цветы. Вместо цветов сейчас пустая бутылка из-под «Русской».
Я зачем-то засмотрелся на давно знакомый памятник, на жирное, с подтеками, «Здесь был Вовка!», а когда пошел дальше, чуть не врезался в процессию местных художников.
Идут не гурьбой, как обычно, а гуськом, точно боясь сбиться со следа, – смотрят под ноги идущего впереди. Возглавляет шествие Юра Пикулин, маленький, худой парень с лицом подростка, но пугающе бледным, высушенным. За ним следом – трое худых бородачей…
Юра несет перед собой, будто икону на крестном ходу, обернутый простыней холст. Глаза его мутны, словно бы подернуты бельмами, слепо уставились вперед. Наверно, видит Юра сейчас лишь смутные очертания Торгового сквозь туман жутчайшего похмелья. Уж меня Юра наверняка не заметил – вздрогнул крупно, когда я спросил:
– Картинку толкать идете?
Он остановился, щурясь, осмотрел меня, прохрипел:
– Уху, вот… Здорово.
Следующий за Юрой Шура Решетов, высокий, долговязый, с длинной жидкой бородой, натолкнулся на него и тоже остановился, послушно и молча, и другие, в свою очередь наталкиваясь на того, кто перед ними, замирали в тесной, короткой колонне.
– Есть, это… выпить чего? – сухим, страдальческим голосом спрашивает Пикулин.
– Пустой, – я развел руки, – ни копья.
Юра взглотнул, сморщился и пошел дальше. Решетов, Дима Ковригин и Саня Миссинг тоже тронулись, как вагоны за локомотивом… Я нагнал Юру, пристроился рядом.
– Что за картина?
– Да вот… «Кумырьян» сдать хотим.
– Ты что! – я искренне удивлен: знаю, что это Юркина гордость, одна, может, из лучших его вещей.
– Да херли, – он снова морщится, – выпить же надо.
С художниками я знаком почти с первых дней своего житья в Минусинске. Уже, значит, больше трех лет. Да и кто их не знает, десяток тридцати-, сорокалетних забулдыг и горлопанов, что сквозь свои запои, голодание, безденежье упорно занимаются мало кому, кроме них самих, нужным творчеством.
Для полусонного, традиционного (несмотря на все проблемы последних лет) в своей обывательской жизни Минусинска художники – самая яркая группа людей. И они органичны в этом уездном городке, хотя население, сталкиваясь с чем-то новым и ярким, не радуется этому, а делает испуганную гримасу, ощеривается и старается отпихнуть инородные частицы подальше от своего уютного гнездышка, от своих покрытых теплым жиром мозгов. Так поступают здесь и почти все начальники учреждений, во власти которых приютить или придушить это новое и яркое. И если и живут в Минусинске авангардные поэты, музыканты, то они тесно связаны с соседним городом, энергичным и молодым Абаканом. Ведь там и тусовка есть, рок-фестивали случаются, альманах выпускают.
У художников же, наоборот, центр – Минусинск. Благодаря художественной школе, конечно, и краеведческому музею, которые содержат галерею, дают художникам выставляться, иметь выход к публике. Музыканты, поэты, всяческие неформалы из Минусинска постоянно бывают в Абакане, чтоб подпитаться энергией, как-то себя реализовать, а абаканские художники, наоборот, постоянные гости в Минусинске. Вот и сейчас на трех минусинцев один – Дима Ковригин – из Абакана. Значит, по поводу его приезда и бухают, и не день, не два уже, а скорей всего, с неделю в запое – этих ребят трудно довести до такого состояния пусть крупной, но краткосрочной пьянкой. Чтоб глаза так побелели, чтоб гуськом так вот пошли – надо долго не просыхать.
В магазине «Долина», первом попавшемся на пути, «Кумарьян» посмотреть отказались.
– Надо к Кириллу, – бормочет Решетов. – Он может взять. Я недавно ему две гуашки впарил… По эротике он западает.
– У меня не эротика, – обидчиво возразил Юра и тут же добавил: – Хотя, херли… Где он сидит?
Решетов почесал бороду, огляделся, сориентировался. Повел нас по лабиринту Торгового.
Мне жаль Юрину картинку: он, естественно, расстроится, раскается после запоя, что так глупо ее потерял. Пытаюсь остановить:
– Зря, Юрок, потом пожалеешь. Может, не надо?
– Ну, как же… – уныло вздыхает он, – выпить же надо.
– Вот, – Решетов остановился неподалеку от киоска «Видеопрокат».
Несколько парней просматривают выставленные на витрине кассеты. Сам хозяин, симпатичный и обходительный молодой человек, что-то объясняет одному из потенциальных клиентов, высунувшись в окно.
Юра развязывает бечевку. Снимает с холста простыню. И здесь, среди прорвы тепло одетых людей, коробок ларьков, грязных луж, рядом с огромными, переполненными мусором контейнерами, изображенные на холсте танцующие голые Кумарьяны смотрятся особенно нежными и прекрасными.
Картина слегка напоминает «Танец» французского авангардиста Матисса. Почти в таком же хороводе кружатся семь грациозных богинь Кумарьян. Но нарисованы они куда лучше, можно даже сказать – как живые. У француза какие-то ярко-розовые плетеобразные тела прыгающих подростков, а у Юры Пикулина есть настоящий сюжет, эстетическая ценность. Глубина мысли и наслаждение для глаз.
В общем, картина такая.
На живописной лужайке танцуют, взявшись за руки, очень красивые девушки. Выписаны они тщательно и подробно и действительно смотрятся живыми. Да нет, в жизни таких не бывает, у живых всегда какие-нибудь дефекты, недостатки, изъяны. А эти безупречны. Все семь. Все разные, но все прекрасны… И вот они водят свой хоровод, а в стороне на травке тихонько лежит человек (слегка похож он, кстати, на автора, на самого Пикулина) и курит здоровенную папиросу. Ну, понятно, не простую, а с гашем; это по его лицу заметно и по дыму папиросы. Дымом наполнен весь холст, таким легким, но ощутимо дурманящим туманом. Это – кумар. Из него-то и родились Кумарьяны, неземные, прекрасные девы, чтоб усладить взор художника, танцуя перед ним сладкий танец, а потом, когда придет срок гашишу потерять свою силу, они растворятся.
И опустеет лужайка, и художнику станет одиноко, плохо так, тяжело-тяжело. Поднимется он, отряхнется, вздохнет уныло и потащится домой, в давно надоевшую реальность, к кучам неподъемных проблем, к целлюлитной жене. И согревать его будет лишь воспоминание о прекрасных, неземных Кумарьянах, а волновать – надежда вновь их увидеть, высасывая косяк за косяком, попытки запечатлеть на холсте чудеснейшее виденье… Многим, я знаю, доводилось созерцать их, наполнив гашем коробку черепа, многие пробовали их нарисовать, и вот Юре Пикулину это почти удалось. «Почти» – не упрек, просто на все сто этого сделать никому никогда не удавалось…
Во время прошлогодней выставки Юре при мне предлагал назначить цену за «Кумарьян» очень небедный человек (директор крекерной фабрики), но он отказался. А теперь вот сам принес картину на Торговый и, скорее всего, сдаст за мелочь, чтоб только хватило слегка похмельнуться.
– Да что ж… хер ли, – бормочет автор, глядя на богинь, будто просит их понять, что не может сейчас поступить иначе, вынужден вот с ними расстаться. – Надо ж… – Нашел мутными глазами Решетова, протянул холст: – На, Шура, сдавай! Попытайся за пятихатку.
– Почему – я? – испугался Решетов, отшатнулся даже.
Юра морщится:
– Кончай… Ты его знаешь, сам же сказал. Держи, ну!
Приняв холст, Решетов затяжно посмотрел на Кумарьян, тоже как бы прощаясь, прося извинения, и зашагал к киоску. Юра стал глядеть ему вслед, облизывая синеватые, потрескавшиеся губы. А Ковригин с Миссингом, кажется, мало понимают, где они, что происходит, – они уставились в землю, стараясь потверже держаться на ногах.
Переговорив с Кириллом и оставив холст в киоске, Решетов возвращается:
– За пятьсот не берет, хотя вроде как цепанула.
– А сколько хочет?
– Двести.
Мне показалось, что Юра смертельно обиделся. Сейчас он заберет картину, закутает в простыню, согреет. Унесет домой. Спрячет…
– Ну… ну пускай хоть триста даст, – жалобно попросил. – Поторгуйся, Шур. На краски, скажи, больше ушло.
– Попробую. – И Решетов идет обратно.
– Ничего, Юрок, – вдруг очнулся, заговорил Миссинг, – все еще впереди, еще не такую забацаешь!
– Вряд ли…
Сторговались за двести семьдесят. На эти деньги немедленно купили две бутылки дешевейшей «Земской», бутылку пива, булку серого, сигарет и несколько пакетиков китайской лапши. В ближайшем укромном месте, за павильонами стройматериалов, открыли пузырь водки, пустили по кругу. Запивали пивом. Я тоже пару раз приложился.
Теперь художников не узнать. С глаз сползла белесая муть, лица порозовели. Вот и заулыбались.
– Ху-ух, – облегченно выдыхает Ковригин, невысокий, сорокалетний, с пышной рыжей бородой, торчащей во все стороны, только не вниз. Ковригин выдохнул так, точно держал в себе перегарный дух со вчерашнего вечера.
Миссинг поддержал:
– М-да-а, отпустило.
Еще раз глотнули, и Юра завинтил крышку:
– Что, Шур, к тебе?
– Куда же еще…
Художники двинулись в сторону девятиэтажек. Пикулин обернулся ко мне:
– Ты-то чего?
– Да нет, – говорю с сожалением, – на работу надо. Счастливо вам посидеть.
– Кхе, да уж… Двенадцатый день… Пора соскок делать.
– Значит – соскочить удачно.
Смотрю им вслед. Они идут маленькой тесной кучкой, бережно несут бутылки, закуску. О чем-то разговорились, быстро возбуждаясь, заспорили. Заржали. Ожили.
5
Сорвалась поездка картошку копать, зато судьба подарила участие в проводинах Саньки.
Только мы вернулись с Лёхой в общагу, усталые и злые, как обычно по вечерам, предвидя пустое, скучное время до сна и такой же пустой, свободный от работы понедельник, как в комнату завалился сосед. Голова обритая, со свежими царапинами, сам полупьяный и нехорошо, не по-доброму возбужденный.
– Во, чуваки, глядите! – Он пошлепал себя по лысине. – Завтра свалю!
– Уже? – без особого сочувствия отозвался Лёха, готовясь лечь на кровать.
– В десять утра, сука, от военкомата. И – ту-ту, гуд-бай, Санек, жди писем!
Я решил подбодрить:
– Ничего, вернешься. Я тоже два года оттарабанил и, видишь, живой.
– Ну, бля, повезло, значит, – пожал плечами Санек, достал пачку «Бонда», угостил меня и Леху, закурил сам, произнес другим, поумневшим каким-то голосом: – Вот посадят в вагон, повезут. Куда? Сейчас же все можно… Сделают рабом в Чечне где-нибудь, а потом – в яму…
– Брось, Сань, ты уж слишком…
– Не надо! – Он растер недокуренную сигарету в пепельнице, стал нервно потрошить фильтр. – Щас чуваки подвалят, бухать будем. Жена там готовит с девчатами. Посидим… на дорожку.
Услыхав о предстоящей пьянке, Лёха передумал ложиться, беспокойно заходил по комнате. Я сидел за столом, курил вкусную «бондину», машинально давил ногтем засохшие хлебные крошки. Подходящих утешительных слов не находилось. Всплывали одни язвительные, стёбные фразочки и почему-то ничего хорошего… А Санек тем временем разжигает в себе злобу – предполагает, что тут будет после него:
– Я там, значит, подыхать, а Ленка здесь на свободе… Вижу ведь, ждет не дождется, когда свалю!
– Ну, – не соглашаюсь, – бывает, и честно ждут.
– Да где бывает? В фильмах?.. Знаю я их – месяц потерпит и погнала начесывать… Мне все равно… только если узнаю, бля, с автоматом приеду, я ей устрою! – Санек достал новую сигарету. – У меня ж никого нет. Ленка вот и Серега, сын. И если, сука, узнаю…
Он собирается повторить угрозу насчет автомата или придумал уже другую, пострашней, но в коридоре как раз слышатся топот и громкие, явно нетрезвые голоса.
– О, чуваки! – Вскочил, выглянул в коридор. – Здорово!
– У-у, Санько! Ёптель!..
В нашу комнату – лавина человек из десяти. С бутылками. Все лезут к бритой Санькиной голове, стучат по ней. Крики:
– Душара!.. Вешайся, пока не опетушили!.. Санек, давай заливаться!.. Ах ты – лысая сволочь!..
Вволю поиздевавшись над призывником, чуваки (и мы с Лёхой заодно) перебрались в соседнюю комнату. Там уже накрыт стол длиной от окна до двери. Бутылки, большие чашки с соленой капустой и нарезанными кружочками огурцами, салатики, селедка, вареный картофан. Еще тянет откуда-то жареным мясом, но на столе его не видать. Стою в толпе шумных, подпитых ребят, жду приглашения садиться.
Санина жена Лена и две ее подруги, тоже общажницы, суетятся, расставляют посуду, двигают блюда с места на место, что-то озабоченно считают. В кроватке-манежике прыгает и хнычет полуторагодовалый Серега.
– Ну все, приступаем! – подталкивает Санек гостей. – Надо тяпнуть скорее…
Стульев всем не хватило, я принес два наших. Заранее чувствую в голове легкое кружение, точно выпил уже с полстакана. Да-а, вечерок обещается быть нескучным. Пойла – море просто. К тому же одна из подружек Лены (как имя, не знаю), с пятого этажа, довольно симпатичная. Давно ее замечаю, а вот сегодня есть шанс познакомиться и еще чего-нибудь, может, бог даст…
Как большинство полупьяных, нервничающих людей, Санек то возбужден, почти весел, то мрачен и задумчив. Но чуваки ему задумываться не позволяют, поминутно шлепают по бритой башке, по плечам, по спине. Подбадривают, дескать. Особо старается здоровенный парнище с тупой, словно окаменевшей мордярой. Он сидит слева от виновника торжества, и только Санек готовится пригорюниться – отвешивает ему смачного леща, затем с хохотом наполняет рюмки:
– Пей, бля, давай! Там, бля, не разгуляешься!
И каждый, чокаясь, считает необходимым что-нибудь ляпнуть:
– Как отвальную справишь, так и в армаде прослужишь!
Или:
– Два года, Саня, это не срок. Ребята на зоне-то!.. Эх! – И в том же духе.
Справа от Саньки жена, принарядившаяся и подкрашенная, но с портящим лицо перепуганным, затюканно-озабоченным выражением… А напротив меня как раз та девчонка с пятого этажа. Смотрю в основном на нее, ищу повод, чтоб с ней заговорить. К ней же почти сразу стал клеиться один из чуваков. Коренастый, рыжий, с разбитыми казанками на правой руке; на шее наушники, в майке с английскими буквами. Что-то, не переставая, втирает ей гудящим шепотком, улыбается, и она улыбается, слушая, кивает. На мои горячие взгляды – ноль внимания.
Лехе же вообще все до фени, он знай накладывает себе в тарелку хавчика и скорее его сжирает. Как же он пить-то собирается с переполненным животом? А гулянка, похоже, только начинается. Вот появилась огроменная чашка с мясом. Под мясо алкоголь пошел еще активнее. Каждые три минуты – тост, хлопанье по Санькиной голове, запрокидывание голов с пустеющими рюмками у ртов.
Серега, маленькая копия внутрисемейного бандита отца, раздраженный шумом и кучей людей, то и дело порывается выбраться из манежика; мать дает ему что-нибудь вкусненькое, и тот притихает на время.
Меньше чем за час все набрались. Про Саньку забыли, он скрючился на стуле, дремлет, уронив жалкую, сизоватую башку на столешницу. Пару раз еще пытался вернуться в сознание, приподнимался, оглядывал гостей взглядом трупа и наконец вырубился окончательно. Теперь его не волнует, что это его последние часы на гражданке, что здоровюга с тупой мордярой так же тупо и откровенно подкатывает яйца к его жене, а один из чуваков под шумок сунул в карман его кассету; что гости донельзя закурили всю комнату, и Серега задыхается, кашляет. Ничего Саньку сейчас не волнует – ему сейчас в кайф.
Общего разговора за столом нет, общаются по двое-трое, пьют также своими маленькими компашками. Рыжий, с наушниками на шее, обнимает девушку с пятого этажа, щекочет ей за ухом, а девчонке, видимо, очень приятно, она жмурится и хихикает, ответно ласкается, как беспризорная кошка. Может, на фиг ей и не нравится этот рыжий, но он явно городской, а она явно из какого-нибудь села, и вот есть надежда, что парень – ах! – влюбится, потом женится, и – всё, как мечталось ночами, когда лежала без сна на скрипучей общажной кровати.
Надо сделать передышку. Вытаскиваю из чьей-то пачки две штуки «Союз Аполлона», выхожу в коридор.
Коридор пуст и мрачен. Часть ламп перегоревшая, а остальные помаргивают синеватыми вспышками, готовясь перегореть. Гуляет сквозняк – на улице, наверное, ветер.
Закурил одну сигарету, другую сунул за ухо. Иду в сторону бывшей кухни. Из-за дверей слышатся звуки жизни в комнатах. Вот перестрелка по телику, вот яростные крики ругающихся, слегка заглушаемые веселой песенкой из магнитофона. Плач никак не засыпающих детей, звяк убираемой со стола грязной посуды, вот снова ругань… Вечернее времяпрепровождение. Скоро ночь, и все они улягутся на свои лежанки, а завтра – будет завтра. Завтра навалится понедельник.
Не доходя нескольких шагов до бывшей кухни, я приостановился, принял вид обаятельного смельчака. Сунул окурок в угол рта, глаза чуть сощурил. Не спеша, развязно так – дальше… Облом.
Облом, облом. Бывшая кухня пуста. Холодна и скучна без нее. Подоконник свободен. Девочка с золотисто-каштановыми волосами не сидит на нем, не смотрит в окно, нет ее ноги, подрагивающей в такт музыке из плеера. Облом. А ведь именно сегодня, вот сейчас я готов, способен с ней познакомиться, очаровать ее… Сейчас я могу быть веселым и разговорчивым, общительным до предела…
Присел на подоконник. Докуриваю, оплавленный фильтр бросаю в сухую раковину (кран давно зачем-то отрезан сваркой), сплевываю на кафель стены. Ковыряю ногтем отслаивающуюся краску с подоконника. Хорошее состояние раздавлено, растворено пустотой этой бывшей кухни. Что теперь делать? Возвращаться к столу, к чувакам пока не хочется: знаю – еще пяток рюмашек и отрублюсь. Это бы неплохо в другой день, а сейчас…
Я на самом деле-то мало общался с девушками, чаще всего – не слишком удачно, по пьяни. В первый раз с одноклассницей, которая мне нравилась с четвертого класса. Она ходила с парнями взрослее, но я дождался момента… Это случилось на выпускном вечере, после выдачи аттестатов и традиционного бала. Потом началась дискотека, скрытая попойка; мы забрались с ней на крышу школы. Было темно и очень тепло. Июнь… Она была в легком сиреневом платье… Я не знал, что и как, я даже не видел тогда эротических фильмов, а ей было прикольно, как это сделает мальчик… Я пытался ее раздеть, мои руки дрожали, я был мокрым от пота. Я пыхтел, а она улыбалась, она не сопротивлялась, но и не помогала мне. Она до поры до времени забавлялась. Мы оба молчали. Внизу, в актовом зале, музыка… Я почти не владел собой, я готов был взорваться, как многотонная бомба… Потом на ее платье треснул шов, она оттолкнула меня, и я, запнувшись, чуть не упал. Она хохотнула презрительно, ушла танцевать. Я хотел прыгнуть с крыши, но не прыгнул, поплелся домой, придерживая скорченный под брюками, болевший от перевозбуждения член.
Были дальше и более удачные попытки, но все это было не то, чего я хотел и искал, а искал я любви – в семнадцать лет я был уверен, что она есть и ее можно найти. Как же без нее в семнадцать-то лет?.. Но постепенно я образумился, понял: чего-чего, а уж любви надо бояться больше всего. Можно свалиться в яму, волчью яму, с этой любовью… Окружающие люди служат мне отличным примером. Сначала – в прямом смысле слова – счастье, период блаженства, сладости, ослепительного полета, затем же… Любовь – это как слитый из банки последний стакан браги: два-три глотка – классно, вкусно, крепко так, а после них тошнотворный, горький осадок. Лучше уж и не пробовать…
Но порой я уверен, что вот-вот полюблю кого-то, потеряю голову и брошусь на дно волчьей ямы. Словно мне снова семнадцать. Это как болезнь: я высматриваю ту, ради которой буду совершать возвышенные безумства, перед которой готов буду растечься благоуханным озером… Только найдись, только взгляни на меня… Мечтаю о нежных руках, о бездонных глазах ее, о губах, всем остальном. Мечтаю и чувствую при этом себя последним уродом. Лёха, правда, меня успокаивает, он говорит, что главное уродство – отсутствие денег. Когда они есть, ты можешь очень многое, а без денег – нечего и соваться. Я, конечно, согласен, только вот душа не согласна. Душа отравлена сказками про романтику, про свидания и букеты, признания и двусмысленные отказы. Короче, про всякую мешающую шнягу.
Виноваты, конечно, родители. На кого еще валить, как не на них? Они у меня интеллигенты. Правда, в первом поколении. Работники культуры с культпросветучилищным образованием. Из так называемых шестидесятников. Как тогда было модно: закончив культпросвет, уехали из большого города окультуривать молодую национальную республику. До пятидесяти с лишним жили и думали, что живут правильно. Были убеждены: нужно хорошо работать на своем месте, и тогда всё прочее тоже будет в порядке. Какое-то время судьба была на их стороне…
Меня они воспитывали так же, по своим принципам. Я и сейчас наизусть помню «Что такое хорошо и что такое плохо», и уж, естественно, до гроба, наверно, втемяшились в башку следующие афоризмы: «Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь», «Что припрячешь – потеряешь, что отдашь – вернется вновь!». Тысячу раз слышал их от отца и мамы, пытался даже им следовать… Я пытался быть честным, отзывчивым, добрым мальчиком. Хе-хе, почти девочкой. Знакомые семьи приятно поражались мне, радовались за моих родителей и ставили меня в пример своим хулиганистым сыновьям.
Почти до шестнадцати лет меня не тянуло на улицу! Отсидев прилежно уроки и мало что поняв, зато подробно записав слова учителя, получив на переменах неслабую порцию пинков и затрещин, я спешил домой. Я читал книги, дурацкие, лживые книги. Этих Жюль Вернов, Вальтер Скоттов, Майн Ридов. Я, обомлев, смотрел «Клуб кинопутешествий», собирал журналы «Вокруг света». В школе и во дворе пацаны называли меня чмырем, ссыкуном, драться я не умел, считал, что драться – плохо, унизительно для человека, и предпочитал падать после первых ударов, сжиматься в комок, защищая лицо, чтобы не было синяков, – ведь родители расстроятся, если увидят, что меня били… Я мечтал о дружбе с девочкой, но не решался на первый шаг, боялся насмешек, да и понимал, что со мной, чмырем, вряд ли кто станет дружить. Девочки предпочитали смелых, сильных, отчаянно наглых ребят.
В девятом классе (теперь – десятый) я стал пытаться себя изменить. Шестнадцать лет, почти взрослый человек, пора и действительно повзрослеть. Но невозможно измениться вдруг, в одно какое-нибудь прекрасное утро. Да, пару раз я ответил ударом на удар, и меня жестоко загасили; я попытался задружить с симпатичной девушкой из параллельного класса, она посмотрела на меня, как на заговорившую обезьяну.
Помню, помню до последней подробности, как по субботам пробирался я на школьную дискотеку, стараясь не попадаться на глаза пьяным злым парням. Я забивался в уголок актового зала, слушал нежные диско-мелодии, сквозь мигание цветомузыки наблюдал, как танцуют девчонки. Прекрасные, неземные существа в кожаных мини-юбках, обтягивающих джинсах, с обнаженными плечами, так возбуждающе изгибающие свои юные тела. Я тоже был юн, я прятался в своем уголке и боялся, что крутые сейчас заметят меня, выволокут в коридор и ради разминки перед ночью с девчонками или чтоб перед ними покрасоваться настучат мне по роже. Такое частенько случалось, но каждую субботу я шел на дискотеку.
А как я собирался! Как следил, чтоб мама правильно прогладила брюки! Чистил пальто, протирал тряпочкой кроссовки, подмазывал кремом прыщи на лбу, приглаживал, прилизывал волосы. Мама гордилась мной, подбадривала, улыбалась по-доброму. Она была уверена, что у меня подружка. Хе-хе… И как я возвращался. Один, темными дворами, почти бегом. Отовсюду громкие, возбужденные голоса резвящейся молодежи, и я, одинокий, злой, трусливый, но тоже возбужденный. Почти до безумия.
У Саньки вечеринка кончилась. Упились стремительно, в духе времени. За столом, еще накрытым, с кое-какой уцелевшей закуской и недопитыми стопками, сидит сам хозяин. Он в прежнем положении, голова все так же на столешнице, туловище перекошено. Лена укачивает вяло капризничающего сыночка, смотрит в стену и шепотом напевает: «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю…» Еще в комнате присутствуют двое чуваков. Тот здоровюга с окаменелой мордой и кто-то второй, мне видны лишь тракторные подошвы его говнодавов. Оба развалились на супружеской постели, громко сопят.
Без церемоний сажусь за стол, сливаю из трех стопок в одну недопитую водку, натыкаю на вилку ломтик огурца. Лена взглянула на меня устало и неприветливо, снова вперилась в стену, продолжая бормотать галиматью колыбельной.
Конечно, по совести, мне следует встать и покинуть комнату, заодно, если уж быть совсем рыцарем, растолкать и увести чуваков. Но хочется выпить. Полчаса дурацких мыслей, воспоминаний – и весь хмель улетучился, испарился. Надо восполнить.
Насобирал в стопку еще граммов тридцать. Выпил. Похрустел капусткой. Бездумно уставился в окно. На черном фоне отражались в стекле комнатенка и я, жующий.
– М-м-ва-а… – очнулся Санек, с усилием поднял голову. – У-ух…
Огляделся, поворочав кровянистыми глазами туда-сюда, выровнялся на стуле и снова простонал, но уже громче, осмысленней:
– Ох, бля-а…
– Потише можно? – шикнула жена.
Санек моментом ощерился:
– З-заткнись!
После этого заметил меня:
– Есть чего выпить?
– Не знаю, – пожал я плечами. – Остатки вот в рюмках были…
– Дай водки, – Санек повернулся к жене.
– Кончилась, выжрали всю.
– Слушай, ты!..
– В холодильнике.
Он попытался встать, но зацепился за ножку стола, чуть не свалился. Я без лишних просьб открыл старенький «Холодок», вынул одну из трех запотевших бутылок. Пересел ближе к хозяину, наполнил две стопки, взглянул, предлагая, на Лену. Та скривила рот и отвернулась.
– Ну, за всё! – ткнул Санек своей стопкой в мою.
– Давай…
Двух вливаний хватило ему, чтоб снова стать в хлам. Обхватил бритую голову, заныл, пуская слюни:
– Вот он, вот он какой – конец-то! И ничего… не отвертишься. Все! Стадо баранов на бойню… Кто сейчас служит? Какая армия, какая, бля, родина?! Я… а я не хочу подыхать! Можете понять – не хочу!..
Сынок все громче поддерживал папу. Лена тщетно пыталась его отвлечь. Карапуз лез к Сане. Тот посмотрел на сына, выдернул из материнских рук.
– Вот, Сергулёк, такие дела: звиздок твоему батяньке! Завтра посадят и повезут. И все! А за что?.. Звиздец мне, сыночек!
– Прекрати-и! – Лена хотела забрать ребенка.
Санек пихнул ее в грудь:
– Отлезь, сука! Из-за тебя все! Скотина…
– Из-за меня?! А кто тут меня хлестал каждую ночь, беременную? Кто, а?! Отдай ребенка, подонок, отдай!..
Санек хряпнул ей в ухо. Я взял со стола бутылку, потихоньку вышел. За спиной бушевали страсти. Сережа давился от плача, Санек рычал, Лена визжала. Как обычно, короче…
Думал выпить у себя в комнате и спокойно уснуть, но и здесь меня ждал облом. Оказалось, Лёха притащил к нам часть чуваков, и теперь они валялись на обеих кроватях. Лёха в обнимку с каким-то медведеобразным, страшным каким-то, еще трое – на моем лежбище. На полу к тому же здоровенная лужа блевоты.
Я побрел к Оксане и Павлику. Посидим, разопьем оставшееся в бутылке, Павлик о свежепрочитанной книге расскажет. Может, потом еще чего сообразим… Мне кажется, что сегодня я совсем не срублюсь, сколько б ни выпил…
Постучал, придал лицу бодрое выражение, бутылку держал, точно букет тюльпанов. А в ответ получил недовольное Ксюхино:
– Кто там? Мы спим уже! – недовольное и запыхавшееся.
Я отшатнулся от двери, улыбка сползла. Сношаются, свиньи… Беспомощно огляделся. Коридор пуст, очень тихо, ни одного человека. Хоть бы кто-нибудь, я бы первому встречному предложил составить компанию. Нет, пусто. Только равнодушно мигают лампы.
Хлебнул из горла сладковато-обжигающей цыганки, замаскированной Саней под доброкачественную водку «Минусу». Стал спускаться на второй этаж, к бывшему актеру Валишевскому.
Вонючая конура с одеялом на окне. Пол покрыт толстенным слоем мусора, так что при каждом шаге что-то хрустит, ломается под ногами.
– А, коллега! – сморщился в улыбке хозяин, заметил пузырь у меня в руке: – Проходите, о, проходите! Очень рад, дружок!
В почти превратившемся в грязное животное алкаше-старикане еще сохранились искорки прежнего Валишевского, тридцать лет подряд игравшего холодных любовников, красавцев гусар, прогрессивных партработников, передовиков производства и других мифических героев. Редкий случай для нашего театра: у Валишевского, говорят, были толпы поклонниц, его заваливали цветами не только на сцене, но и в остальной жизни. Подъезд в его доме был исписан губной помадой, из-за него, я слышал предание, даже травились…
Да, у Валишевского были поклонницы, была жена, дети, но любил он юношей. Ведь он как раз из того поколения, кто играл вместе с харбинскими возвращенцами. И, естественно, заразился.
Но теперь Валишевский – просто алкаш. Из запойных, как и большинство моих знакомых. Запои его продолжаются два-три месяца, а потом пара кристально трезвых недель. Тогда Валишевский перебирается к дочери, надевает свой древний, но некогда дорогущий костюм, каждый день бреется. Держится в это время как истинный патриарх нашего театра, смотрит на всех свысока, говорит медленно, растягивая слова. Он приходит в кабинет Виктора Аркадьевича и обговаривает с ним свое возвращение на сцену, копается в пьесах, выискивая подходящую для бенефиса. Затем же бывает толчок, чаще всего получение пенсии, и Валишевский скорее снимает костюм, укрывается в этой общажной комнате, зарастает щетиной. И погружается в запой.
По временам он выбирается на улицу, таскается по знакомым, по своим бывшим любовникам и поклонницам, клянчит денег. Но в театре в такие периоды никогда не появляется. Зато уж как вспоминает по пьяни о своих минувших денечках!..
Как-то с год назад его пытались реанимировать всерьез. Дубравин стал готовить спектакль «Джентльмен» про престарелого ловеласа, кажется, и все пошло сперва как по маслу, но вскоре Валишевский запил, стал пропускать читку, затем вообще отказался, обозвав всех профанами и жалкой пародией на людей искусства…
– Присаживайтесь, Роман, присаживайтесь вот сюда, – суетится, слегка кокетничает бывший холодный любовник, очищая стол от объедков. – А я, к сожалению, в одиночестве вечерок коротаю. М-да-с…
Валишевский в состоянии средней подпитости, когда есть настоятельная потребность добавить. Примерно как у меня сейчас.
– Хлебушек, капустка, – старикан выставляет закусь, – вот яички сварил как раз… Я всмятку предпочитаю.
– Потянет, – киваю, наполняя цыганкой два мутных стеклянных патрончика.
Молча и торопливо чокнулись.
Капуста оказалась теплой и тухлой. Я с трудом проглотил то, что сунул в рот. Валишевский не закусил, он смотрит на меня грустными, ласковыми глазами, готовясь завести шарманку. Наливаю по второй порции.
– Знаете, Роман, – вздыхает он, когда патрончики снова пусты, – знаете, так тяжело быть старым.
Я мычу в ответ, соглашаюсь.
– Нет, не подумайте, я не жалуюсь! – Валишевский энергично замотал головой. – Не жалуюсь, но… Молодость… О, молодость, синоним счастья! Поверьте, дружок, и цените, цените молодость!..
У него вечно одна тема для разговоров. Точнее – две: вздохи по молодости и воспоминания о своей бурной жизни, о славе… Можно даже ничего ему не отвечать, старикан будет вещать часами, прикрыв глаза, запрокинув давно не мытую, всю в седых жидких прядях голову. Была бы выпивка… И сегодня, конечно, все развивается по накатанной схеме. Этакий моноспектакль, где я – единственный зритель.
– О, как я играл, дружок, как жил! На всю катушку, до потери рамок, до разрушения барьеров! – восторгается Валишевский, вспоминая себя многолетней давности. – Необходимо разрушать эти преграды – все преграды! – вырываться на волю и лететь, лететь. Вы так, увы, не умеете. Да-да, молодой человек!.. Я вижу, я вижу, вы уставшие с самого детства. У вас, дружок, слабые батарейки! Увы… М-да-с… О, видели бы вы меня в эпоху расцвета. Я был для зрителя царь и бог. Я – правил театром!.. Но, к сожалению, и я утомился. Всему бывает предел… Нет-нет, я не жалуюсь! Я ни о чем не жалею! Я размотал свою катушку как надо. Чашу жизни выпил до дна, залпом, без страха и скупости, и разбил ее, эту прекрасную чашу, как истинный кавалергард! Да-с, вдребезги!
Я машинально киваю, время от времени плескаю в маленькие посудинки пойло. Жестом предлагаю их осушить. И Валишевский залихватски пьет, точно показывает, как осушал эту свою чашу жизни.
Часов до пяти утра чуваки во главе с Саньком бузили в общаге. Бегали за водярой, орали, слегка подрались несколько раз. Заливались то у призывника, то у нас.
Вернувшись от Валишевского, я сидел в основном на кровати и не вмешивался в общее веселье. Пить у меня уже не было сил, а отрубиться не получалось.
Лёха, одурев от жратвы и пойла, цеплял своих новых дружков, задирался, и только чудом ему как следует не вломили.
Наконец все попадали кто где, а в половине десятого пошли провожать новобранца. Мы с Лёхой, конечно, остались. Слышали, как Санек в коридоре рыдающе повторял, что он баран, которого ведут на скотобойню. Он вроде порывался вернуться домой, но чуваки, гогоча, толкали его дальше, к лестнице. Монотонно ныл Сережа, что-то тихо говорила Лена, кажется, просила мужа успокоиться…
Целый день в общаге без денег, даже без курева – настоящий ад. К тому же на улице дождь. Никуда не сунешься в такую погоду. Да и куда… Кто где обрадуется моему явлению?.. Лежу на кровати, пытаюсь дремать, пью безвкусную воду из пластиковой бутылки, докуриваю из пепельницы бычки.
Несколько раз заглядывал Валишевский, осведомлялся, не бухаем ли. В конце концов Лёха, не выдержав, откровенно послал его на три буквы. Тот покивал понимающе, пожевал губы и убрался.
Ближе к вечеру меня потянуло поговорить.
– Слышь, – поворачиваюсь к соседу, – прикольно будет, если его в натуре там грохнут.
– Кого?
– Ну, Саню.
– Ну и хрен с ним! – Лёха кряхтя перевалился с одного бока на другой; сетка кровати от этого болезненно поскрипела. – Кому он нужен? Ленка плакать не станет, предаков у него вроде нет. Что живет он, что не живет… пустое место.
– Да, вообще-то…
6
Каждый божий день со служебного хода кто-нибудь является в театр что-либо продать. Ведьмоподобные старухи с метровыми толстенными косами в целлофановых пакетах, старики с обшарпанными венскими стульями, мелкие коммеры, предлагающие по дешевке доски, ДСП, ДВП, краску, запчасти для автобуса. Сегодня, например, знакомый околотеатрошный забулдыга притащил обезглавленного, наскоро ощипанного гуся. Поругался в коридоре с вахтершей, прорвался в брехаловку.
– Добрый вечерочек! – кланяется во все стороны. – Здоровьица вам.
Актеры через губу отзываются на его приветствие, они уже переодеты во фраки и пышные платья, надежно загримированы. Превратились в дворян столетней давности. Они как никогда сейчас далеки от этого грязноватого, немытого мужичка с улицы. Но тот не понимает, предлагает по-свойски, будто обыкновенным людям:
– Ребятки, гуська не желаете? Свеженький. – Мужик приоткрывает пакет. – Жи-ырненький гусек, почти пять кило! Запечете, объедение – у-ум!
Супруг актрисы Кругловой, тоже актер, но не переодетый (не занят сегодня), дернулся было оценить товар. Круглова схватила его за руку, зашипела что-то.
Стареющий красавчик Храпченко, в белоснежном дачном костюме и легких белых туфельках, с хохолком на голове, прогуливался по брехаловке, презрительно поглядывал на мужичка. Другие и не глядели, брезговали.
– Всего стошечку, а? – продолжал забулдыга просить-уговаривать. – У нас там гости как раз, день рожденье женино, а выпить вот… Гуська пришлось это самое… Хороший гусек, нежненький. А? Запечете.
Первый звонок. Вот-вот на сцену. Храпченко, морщась, подступил к мужичку:
– Не нужно никому вашего… Ступайте, любезный. Ступайте, говорят вам!
Мужичок пробежал потухшим взглядом по брехаловке, вздохнул с обидой. Развернулся, вышел.
После спектакля, оказавшись в своих привычных одеждах, в обыденной жизни, торопясь к автобусу дядь Гены, многие наверняка вспомнили о гусе и стали раскаиваться: «Эх, зря, зря! Пять, да пусть и четыре кэгэ за сто рублей – дешевле некуда. В буфете надо было занять, хоть с мяском бы были. Эхе-хе… нда-а!..»
Дождь третьи сутки почти беспрерывно. Такой мелкий, упорный октябрьский дождь. Зонта нет, на работу пытаюсь добираться автобусом.
Оранжевые вместительные «ЛиАЗы» с улиц почти исчезли, вместо них маленькие «ПАЗы» и старые «Икарусы» с предприятий – таким образом шоферы днем подрабатывают, заменяя стоящие на ремонте или без топлива автобусы обедневшего пассажирского АТП. На «пазиках» и «Икарусах» большими буквами предупреждение: «Без льгот!». Старушки на остановках ругаются, завидев их, и терпеливо ждут привычных, но редких теперь «некоммерческих». Я тоже их жду, прячась от дождя под крышей остановки. Денег ни копья, до театра пешком идти нереально – промокну до костей; Минусинск хоть и небольшой, но растянутый, как черт. В патэпэшном «ЛиАЗе» есть шанс проехать бесплатно, упросить кондукторшу, а в коммерческих плату взимают при входе, чаще всего какой-нибудь бывший боксер, глухой к просьбам и готовый вышвырнуть настырного халявщика. У него на все один ответ: «Проезд – пять рублей. Не задерживай, дай людям пройти». И смотрит так: сейчас, дескать, по роже схлопочешь.
– О-ох, вон, кажись!
– Наконец-то, господи, – оживились старухи.
По противоположной стороне улицы Трудовой прополз скособоченный «ЛиАЗ», звякая и трясясь, точно пустая консервная банка, привязанная к кошачьему хвосту.
– Счас развернется, – облегченно вздохнула сухонькая старушка, опираясь на бодожок; стоит она почти под струйками, стекающими с крыши над остановкой, – боится, что не успеет в автобус залезть.
– Аха, жди, – хмыкнула другая, поживей и потолще, – это восьмерка, она тут еще вокруг Торгового кругаля дает, и до бензаправки. Через полчаса, дай бог, может, вернется.
– Охо-хо-х…
– Да не, не восьмерка, а девятка. Чего путать? – не соглашается пожилой мужчина, тоже почти старик. – И так нервов нет никаких…
Они заводят вялый, убивающий время спор. Я не мешаю, хоть видел ясно, что на «ЛиАЗе» девятый номер. И если автобус не рассыплется в ближайшие минуты, мы в него сейчас попадем и поедем.
Забит он уже, ясное дело, с конечной остановки. По большей части пенсионерами, и запах в салоне от этого специфический, стариковский, старушечий. Удушливая смесь корвалола, кислого пота, лаванды, залежавшейся, сыроватой одежды.
Пробираюсь в середину салона, где, как обычно, посвободнее. Только устроился, уставился в окно – голос кондукторши. Ругается с кем-то. Может, пенсионного удостоверения нет у кого или просто отказываются платить… Скоро и мне придется с ней поругаться.
Рядом совсем, на одиночном сиденье – симпатичная девушка. Светло-синий плащ в специально сделанных мелких морщинках, рыжеватые волосы пышно взбиты. Взбила их, конечно, чтоб выше казаться. Пытаюсь развлечься, разглядывая ее чистенькое, гладкое личико. Так оно пока не похоже на окружающие нас лица пенсионеров.
Автобус движется медленно, то и дело встает на остановках и у светофоров. А кондукторша ближе, ближе. Упорно пробивается меж грузных и костлявых тел, проверяет льготные документы, принимает плату. На груди у нее сумочка для денег, к ремешку прикреплен рулон со старинными билетами, еще тех соцвремен, когда в автобусах стояли кассы и, честно бросив четыре копейки, пассажир откручивал себе билет.
Готовлюсь к ссоре. Перевожу взгляд с кондукторши на девушку, затем в окно… Стараюсь принять равнодушный и непринужденный вид. Потом – неприступно-свирепый. Может, кондукторша не рискнет со мной связываться.
Но – рискнула. Чувствительно ткнула в спину.
– Здесь разве все с билетами?
Я молчу, смотрю на капельку засохшей грязи на стекле.
– Молодой человек, вы разве рассчитались?
– Да.
– Тогда покажите билет.
Я вздыхаю и поворачиваюсь к кондукторше. У нее нервное, усталое лицо, дряблые мешки внизу щек. Взгляд воинственной собачонки.
– Извините, – жалобно начинаю, – денег нет, а мне на работу срочно.
– Пешком ходите.
– Дождь там, я опаздываю. Извините…
Мы стоим друг напротив друга и друг друга ненавидим. Оба чего-то ждем… А что она вообще-то может сделать? Вцепиться в меня, требовать три рубля? Но за это время выйдет десяток тех, кто расплатился бы безо всяких напрягов. В милицию меня сдать не получится: отпихну ее и смоюсь… И потому она отступает, тащится дальше, выкрикивая еще более раздраженно:
– Рассчитываемся! Приобретаем билеты!.. Да не суйте в глаза мне свою корку – не слепая!..
Девушка со взбитыми волосами посмотрела на меня с интересом, точно я совершил нечто необыкновенное. Я усмехнулся ей в ответ: дескать, победил!
В четверг утром приехал отец. Мы с Лёхой спали еще, было часов девять. Да и погода способствовала сну – в окно бился ветер, барабанили по стеклу злые капли. Такая вот колыбельная.
Отец постучал, как всегда, не сильно, но звонко – костяшками пальцев. Я было во сне принял это за усиливающуюся атаку дождя, потом проснулся, вскочил. Открыл дверь.
– Привет!
– Привет! Еще спите?
– Угу… Проходи.
В руках у отца большая старая сумка. Семь лет назад я купил ее перед отъездом на учебу в Питер. (Была у меня после окончания школы такая попытка – поступил в строительное училище, мечтал девушку-ленинградку встретить, собирался на будущий год в педагогический институт имени Герцена на исторический факультет, а закончилось всё призывом в армию. Вернулся оттуда в декабре девяносто первого, и уже было не до Питера и института – лишь бы добраться домой…) Теперь в этой сумке отец привозит мне продукты.
– Вот мама тут собрала, пирожки, кролик, еще что-то… Картошка-то есть?
– Да, еще много, – отвечаю, скорей одеваясь. – Снимай куртку, садись, чаю выпьем. – Ставлю чайник на плитку.
Лёха заворочался, заскрипела кроватная сетка.
– Как дела у вас? – полушепотом спрашивает отец.
– Да все так же. Извини, что в понедельник не смог приехать. Денег не нашел…
– М-да, надо бы картошку поскорей выкопать. Заморозки обещают. Поморозим, что тогда… – Отец достал из нагрудного кармана пиджака пятьдесят рублей. – Вот, перехватили тут, до пенсии.
– Спасибо.
Чайник слабенько зашумел. Я засыпаю в заварник свежего чая, а отец тихим голосом продолжает:
– Я бы один покопал, мама-то болеет, да вот экзема как раз обострилась. – Он приподнял свои большие, корявые руки с темно-красными язвочками-коростами. – Сегодня решили сюда выскочить. Мама в поликлинику пошла на прием насчет рецептов, лекарства у нее кончились, а я вот к тебе…
Вздыхаю в ответ и сочувствующе, и виновато.
– Как у вас-то тут? – спрашивает отец. – Как питаетесь?
– Да нормально, – делаю голос бодрым, – не голодаем. Правда, талоны задержали, но обещают выдать со дня на день. Спектакли каждый день, «Гранатовый браслет» по Куприну хорошо идет, почти аншлаги.
– А маме тут грамоту выдали за концерт на День учителя. Оказывается, из районо кто-то был, понравилось.
Родители работают в сельской школе. Мама пение ведет, танцевальный кружок, отец – рисование.
– У, – пытаюсь обрадоваться сообщению, – передай ей мои поздравления!
Чайник закипел, я налил кипятка в заварник.
– Сейчас надо обратно скорей, – говорит отец, – а то дом бросать… Валентину Степановну попросили присмотреть, да все равно… У Петровых тут ночью телка увели.
– Да?
– Собаку жердью ударили, она забилась в будку… вывели телка спокойно через задний двор. А старики побоялись выходить – пришибут и все…
– И не узнали кто?
– Да как узнаешь? Да и боятся все…
Маленькими глоточками пьем горячий чай.
– Кстати, пирожки-то достань. Они теплые должны быть, мама утром настряпала…
– Уху, – киваю, – спасибо.
Комната постепенно наполняется светом. Солнце прорвало завалы туч и уставилось в наше окно.
– День сегодня обещается погожим быть, – веселеет отец. – С юга ветерок, а там небо ясное. Может, подержится еще тепло.
– Я обязательно в понедельник приеду, – говорю твердо. – За день управимся с картошкой.
– Смотря по погоде. Если ливень – какая ж копка…
Попили чаю, покурили.
– Ну, надо ехать. – Отец поднимается. – Да, мама просила банки забрать. Остатки помидоров доспевают, всякие эти сморщенные. Хочет горлодёра накрутить.
Вынув продукты, складываю в сумку пустые банки, крышки, пакеты. Отец тем временем говорит лишнее, но хорошее:
– Кролика потуши с картошечкой, как ты любишь. Мама сама хотела, но закрутилась со стряпней вот…
– Да, я сделаю. Спасибо. Я тебя провожу.
Шагаем по коридору к лестнице.
– Может, телевизор привезти? – спрашивает отец. – А то скучно, наверное?
– Нет, нет, – отказываюсь торопливо. – Вам самим-то как? Здесь люди постоянно, так что скучно особенно не бывает.
Спускаемся, выходим во двор общаги. Дождя нет, ветер слабый. На небе рваные, мелкие пятна туч.
Возле крыльца Рыжулька – наш старый «Москвич 412». Оранжевая краска с годами выцвела, кузов в нескольких местах поцарапан, слегка помят. Почти пятнадцать лет машине, вторую сотню тысяч км спидометр доматывает… За последние три года Рыжулька сильно сдала. Вместо уютного гаража, где она отдыхала до этого в Кызыле, теперь ей приходится постоянно находиться под открытым небом в ограде. Отец собирается строить гараж, но много проблем. Цемент дорогой, доски – дефицит: пилорама в селе не работает. И со здоровьем тоже неважно. Время и силы в основном уходят на огород, на теплицы, чтоб вырастить овощей для продажи.
– Ну, брат, счастливо! – бодро улыбаясь, отец протягивает мне руку.
Я осторожно пожимаю ее, шершавую, слегка опухшую от экземы, но еще крепкую.
– До понедельника, – говорю, – маме привет!
Он кивает, садится в Рыжульку. Включает зажигание. Мотор не заводится, лишь какие-то сухие щелчки.
– Э-хе-хе, – вздыхает отец. – Контакты отсырели… дождь и дождь…
Открыл капот, что-то зачищает надфилем, снова включает зажигание. На этот раз мотор завелся, но слишком громко. Не завелся, а взревел. Отец торопливо захлопнул капот, крикнул:
– Зацепили опять выхлопушку. Заплатка, наверно, слетела. Доедем, дома уж поправлю. Счастливо!
– Пока!
Рыжулька нехотя, как измученное, обессиленное животное, чихая и кашляя, развернулась в общажном дворе и потащилась прочь по лужам, подрагивая на выщербленном асфальте.
– Чё? – с кровати томный голос соседа. – Привез батя денег?
– Полтинник.
– У-у! Забухаем?
– Это на билет, – объясняю, – в деревню ехать.
– Билет же не столько стоит!
– Ну… Еще лезвий надо купить, а то бороды вон отрасли какие. Пасту зубную, мыла нет…
– Да забей! – Лёха садится на кровати, энергично почесывается. – Потом. Давай лучше литруху цыганки возьмем! Давай, Ромыч!
Сопротивляюсь, как могу. Пить с утра желания нет, да и впереди работа, спектакль. И денег, понятно, жалко…
– Под мяско, цивильно так. А? По-людски, Ромыч! – наседает сосед. – В комнате приберемся, на стол накроем. Спокойно ведь можно до четырех расслабляться. Я сбегаю. Классно же будет!..
Я достал деньги…
– И не трать на другое! Сдачи все чтоб вернул. Понял?..
Недалеко от общаги есть место, где торгуют неплохой цыганкой. Цена, как и повсюду, – двенадцать рублей за пол-литра. Дело поставлено профессионально, весь город напичкан точками, где круглые сутки можно купить дешевого пойла. Ощутимая конкуренция легальному монстру – «Миналу» («Минусинский алкоголь»). А может, это и один синдикат, но для разных слоев населения…
Настроение приподнятое. Черт с ними, этими деньгами, с лезвиями и зубной пастой. Выпить нужней… Комната освещена ярким светом, в ней тепло. Золотистыми блестками вьется вечно беспокойная пыль. Я готовлю кролика.
Вообще-то надо его тушить в духовке, в чугунной жаровне, но можно и просто в кастрюльке на плитке. Конечно, вкус не совсем тот, хотя тоже вкуснятина… Когда все как хочется, когда слишком хорошо – жди вскоре плохого. Недаром люди придумали плевать через левое плечо, чтоб не сглазить, то и дело повторяют: «Как бог даст… Если все нормально будет…» Боятся особенно чему-нибудь радоваться, загадывать наперед. По себе знаю: обрадуешься – и вскоре хоть в петлю. Найдешь монету, подберешь, и через пару дней потеряешь раз в десять больше… Вот когда нормально – это и есть хорошо…
Прибрал в комнате, даже пол подмел. Выходя из умывалки со стопкой чистых тарелок, встретил заспанного, хмурого Павлика.
– Здорово! – отчего-то радуюсь и ему. – Как дела?
– Ничо-о… Воду не дали горячую?
– Нет. Выпить хочешь?
– Когда? – Павлик теряет хмурость и заспанность.
– Да вот сейчас. Лёха за цыганкой побежал. У нас закусь, все дела. Пойдем!
– Спасибо! – кивает он, улыбаясь. – Рожу сполосну только. – Но вдруг снова потускнел. – А, это… Ксюху взять можно?
Эх, не хотелось бы, я про нее и забыл. Неопределенно пожимаю плечами:
– Можно, наверно… бери…
Павлик заулыбался.
В жизни необходимы отвязки. Иначе крышу очень быстро снесет. Стопроцентно. Жизнь – это слишком нелегкая штука, чтобы обходиться без отвязок. И любую возможность надо использовать.
Я редко смотрю телевизор, газеты читаю от случая к случаю, за последние года три не осилил от начала до конца ни одной книги. У меня нет увлечений, я оставил их в восемнадцать лет, уходя в армию.
Что такое армия? Не просто два года, выкинутых черт знает куда и черт знает зачем. Армия – это, так сказать, последняя ступень лестницы воспитания гражданина. Детский сад, потом школа, а потом – армия. Сейчас, правда, все это трещит по швам, лестница вот-вот рассыплется в гнилую труху, и не известно, кто будет приходить во взрослую жизнь. Скорее всего – этакие монстры-индивидуалисты, не знающие рамок, никогда не глядевшие в затылок друг другу, не ходившие строем, не представляющие, что такое тишина на уроке, школьная форма, шеренга, комплексные обеды. Вот тогда начнется веселое времечко! Сейчас таких десятки, а если – все как один!..
Чтоб не потерять себя, люди придумывают увлечения, убеждения, игры, праздники – защиту от растворения внешним миром. Мне повезло: вернувшись из армии, я увидел, что мои прежние увлечения-игрушки смешны и глупы. Эти тетрадки со стишками про сентябрьский дождь и дневниковыми откровениями, подшивки журнала «Вокруг света», самодельные карты плаваний Колумба и крестовых походов – все эти атрибуты так называемого внутреннего мира стали пыльными, убогими, и я без раздумий и сожалений уничтожил их. А новых создать никак не получается. Без защиты же трудно, почти невыносимо: так и кажется, что окружающее вот-вот раздавит.
Защита может быть разной. Собирание марок, разведение паучков, татуировки, садоводство, выпивка, девчонки, беспрерывное чтение книг. А многие и из насущных проблем сделали себе защиту. Ничего больше не воспринимают, кроме забот о пропитании на завтрашний день, чтобы назавтра были силы заботиться дальше. Такой вот самозабвенный круговорот. И хобби, и работа, и смысл жизни. Три в одном… Хе-хе, честно говоря, когда-то по юности я много думал и мучился идиотским вопросом: в чем смысл жизни? Груду философской бредятины перечитал, сам, помню, даже пытался ответить. Теории разрабатывал. Недавно лишь понял, что смысл жизни – в добывании пищи. Пути разные, а цель-то одна. Человек, по большому счету, ничем не отличается от остального животного мира. А все эти философы… Им, хе-хе, легко было рассуждать о чем-то там запредельно духовном, высшем, когда они знали – завтрашний день им обеспечен, уж со жратвой-то у них не возникает напрягов. Вот и сидели в звуконепроницаемых кабинетах, прихлебывая кофеек, а на кухнях им создавали обеды из десяти блюд. Искать смысл жизни – привилегия несмышленых подростков и исправно кушающих. Остальных же волнуют проблемы посущественней.
Лёха снимает куртку, я заканчиваю накрывать на стол.
– А на фига на четверых собрал? – удивляется он.
– Павлик с Ксюхой должны зайти.
– Чего?!
– Так получилось, – оправдываюсь. – Я пошел посуду мыть, встретил Павлика…
– Дебилина! – Помрачневший Лёха садится за стол. – Вдвоем бы само то. Пойла и жратвы как раз на двоих. Чё, как мясо?
– Скоро уже. – Тоже сажусь, жую огурец, пытаюсь растолковать: – Павлик же нас подогревает время от времени, надо и его не кидать…
– А, ну тебя, – тянется Лёха к бутылке. – Замяли. Давай долбанем.
Только выпили – пришел Павлик. Конечно, с Ксюхой. У них с собой с полбутылки «Минусы». Как раз и крольчатина подоспела. Я поставил кастрюлю в центр стола.
– Ну и сто-ол! – восторгается парикмахерша. – Что за праздник?
– Да так… Появилась жрачка, денег немного – вот и празднуем…
После второй разговорились. Павлик, точнее, разговорился. Как всегда – делиться стал впечатлениями о свежепрочитанной книге:
– Такая вещь, парни, такая вещь! Называется – «Адская троица», француза Мишеля Спорте. Не слыхали? Бестселлер. И самое главное, что на документальных фактах.
– Н-ну, – кисло кивает Лёха, разливая следующие тридцать граммов. Видимо, гости ему совсем не по душе.
– В общем, там дело такое, – увлекается Павлик, начинает говорить торопливо и малоразборчиво. – Живут брат и сестра. Жан и Валери. Из средней семьи, родители у них такие… средние служащие. От зарплаты до зарплаты, короче. Жан, ну, хулиган, в общем, потрошит с дружками тачки, Валери, наоборот, начинающая поэтесса, красавица. Записывается в школу эстетики. Но тут отец заболел, ушел с работы, денег нет, Валери приходится стать манекенщицей. Ну и тут она, так сказать, сталкивается с изнанкой красивой жизни. Всякие мерзотные крендели, рестораны, гудеж, извращения. А ей это не нравится, она мечтает о прекрасном, о стихах, о Париже. Действие происходит в каком-то маленьком городишке, ну типа нашего Мухосранска…
Не прерывая рассказа, Павлик накатил вместе с нами, быстренько закусил. Вижу, ни Лехе, ни Ксюхе слушать его нет особого интереса, да и мне тоже. Но что еще делать? Пускай гонит.
– …А семья все хуже и хуже. Жан загремел на год за драку, отец в кровати. Мать у одного алжирца-насоса секретаршей работает. Ну, и она у него не в любовницах, а… гм… – Павлик помялся. – Ну, так, поё… спит, короче, с ней алжирец этот время от времени. А тут смотрит, она что-то стала хреново выглядеть. Думает: «На хрена мне эта развалина сорокалетняя?» Раньше она следила за собой, а тут – такие дела. Ну и алжирец предложил ей уволиться. Та, ясно, в слезы: «Некуда! Почти голодаем!» Все проблемы ему, короче, выложила, и алжирец предложил, издеваясь чисто, остаться в офисе, но уборщицей. Короче, мамаша от всех заморочек кончает с собой…
– Может, музыку включим? – заметила Ксюха нашу «Легенду».
– Сломано, – буркает Лёха, оглядываясь на магнитофон.
Павлик обижается:
– Погодите, дайте доскажу! Поучительная история ведь… А Валери, короче, познакомилась с класснейшим парнем. Лоран Реми. Симпатичный, из семьи аристократов, закончил Сорбонну. От родителей ушел, потому что занялся скульптурой, стал богемным. Ну, родители его не захотели понять… И, короче, любовь, туда-сюда, а у Лорана есть идея, что он один из тех избранных, кто выше остальных. Ну, типа, как Раскольников…
– Ой, бля, – вырвалось у Лехи унылое.
– Нет, слушай! Это все документальные факты, почти документальная книга! – Павлик для убедительности даже пальцем потряс. – И, в общем, они с Валери стали жить вместе, петрушиться, тут же и философствуют, что, мол, Франция гнилая страна, люди – жадные скоты, да и весь мир – говно. Только Австралия у них ништяк, мечтают туда свалить, а башлей, ясно, нет. – Рассказчик сделал паузу, чтобы выпить, и, даже не закусив, забалабонил дальше: – А тут как раз вышел Жан, ну, брат Валери, и тоже со своими мыслями: надо валить насосов и забирать у них башли.
– Оригинальная мысль! – хмыкнул, не выдержав, я.
– Ну, так было в натуре. И в общем-то правильно он рассуждал… Разработали они втроем план, как им собрать десять лимонов франков на Австралию. План такой: Валери знакомится в ресторане с богатеньким кренделем, они жрут, пьют, и Валери под конец приглашает его к себе домой. А там ее брат и Лоран Реми.
Я снова не выдержал:
– Да это настолько избитый прием, блин, просто смешно! Фильмов двадцать подобных видел.
– Избитый, не избитый, а восьмерых они таким приемом вальнули, – настаивает Павлик. – Но самое интересное не в самом даже сюжете, а в отступлениях автора. Он, получается, полностью на стороне этих ребят. Дескать, им больше ничего и не остается, чтобы встать на ноги… Описываются эти, кого они замочили, и все просто мразеныши, все стали насосами за счет других. Кстати, Валери с ребятами и того алжирца грохнули, из-за которого их мать утопилась… Автор полностью за ребят и против богатеньких, особенно цветных. Открытым текстом пишет, что из-за засилия иностранцев французские ребята уже не чувствуют Францию родиной!..
– Да, у них там сейчас с этим просто беда, – вставляет Ксюха. – У них и фильмы в основном сейчас про негров и про алжирцев, как они там беспредел наводят.
– И что, – интересуюсь ради поддержания разговора, – собрали они на Австралию?
Павлик горько вздыхает, точно речь идет о его друзьях:
– Не успели. Приняли их… Но на суде многие высказывались за смягчение приговора.
– Неужели по году дали?
– Нет, пожизненно всем… – Павлик грустно съел пирожок, взялся за следующий, хотел откусить, но вместо этого с жаром заговорил: – Правильная, очень правильная книга! Хотите, дам почитать на пару дней… Понимаете, у ребят нет другого выхода, кроме как убивать. Вот возьмите эту семью: батя работал, работал и загнулся, получает убогонькое пособие; мать постарела – ее за борт. Жан – молодой парнишка – видит всю эту хренатень, и ему суждено или повторить в лучшем случае жизнёнку отца, или идти в бандиты. Валери хочет заниматься искусством, а из нее делают проститутку. Само государство создано так, что толкает людей на преступления. Все население разделено на эти… на сословия. Как в лесу. Сперва мох – бомжи всякие, нищие там, алкашня; потом – трава, лопухи – это рабочие, такие вот, типа нас; чуть выше кустарник – служащие, всякие интеллигенты, они видят немножко солнца. Но в основном солнце достается деревьям. Так ведь? Сосны, березы – это и есть насосы. Что делать тем, кто внизу? Валить деревья, расчищать место, чтоб солнце видеть…
Я удивлен этим рассуждением. Не ожидал от Павлика. Или, скорее всего, это в книжке есть, а он просто по обыкновению пересказывает.
– Превратиться из низшего в высшего практически невозможно, – говорит он дальше. – Если пробиваться законно, то очень быстро задавят соседи. Никто не желает сторониться. Значит, надо подниматься по трупам. Вот гангстеры как в Америке! Аль Капоне, да?! Из дерьма, а всеми Штатами поуправлял… И эти ребята правильно сделали. Сначала заставляли чековую книжку заполнить, а потом – в канализацию. Порезвился, чувачок? Теперь отдохни!
– Ладно, давайте накатим, – приподнял Лёха рюмашку. – Чтоб нам, былинкам, увидеть солнышко!
– Действовать надо, – отозвалась Ксюха пьяноватым и решительным голосом. – Под лежачий камень вода не течет.
К половине четвертого выпивка кончилась. Ксюха и Павлик ушли. Павлик на прощанье предложил курнуть плана, но мы отказались, точнее – отложили на вечер. Впереди работа в театре, установка чертовых декораций. Слишком нетрезвым это делать опасно. Так что лучше заторчать после работы.
Проводив гостей, легли на кровати. Состояние хреноватое – организм требует еще алкоголя. Лёха нудит:
– На фига ты их приволок, идиотина?! На двоих бы как раз…
Я не отзываюсь, и он умолкает вскоре, лишь горько вздыхает.
На столе пустая кастрюля, грязные тарелки, горки тщательно обглоданных костей. Там уже хозяйничают тараканы и мошки…
Молчим минут двадцать. Мне это надоедает.
– Слышь, Лёха, – зову, – а ты бы хотел стать деревом? Таким толстым, раскидистым дубом?
– Рот закрой-ка!
– Нет, я серьезно. По Павликовой теории?.. Я бы хотел… У меня знакомая была, еще в Кызыле, неплохая девчонка. Фамилия у нее – Хлюстнина. И она утверждала, что она из старинного дворянского рода. Ее прадеда, мол, сослали в Сибирь когда-то… Вообще, так тащилась по этому делу! У нее даже специальная полочка была, где книги стояли с закладками на страницах с этой фамилией… Хлюстнины.
– А-а, зачем мне дворянство? – Лёха нехотя ввязывается в разговор. – Мне и на своем месте неплохо. Только бабок нет. Живых, нормальных бабок, чтобы чувствовать себя человеком. Хотя бы то, что я в этом театришке получать должен, – отдайте сполна, и я буду доволен. Спасибо даже скажу… А этих бы всех… деревьев этих, их, действительно, валить просто надо. Под корень, бензопилой!
– Да их и валят. Я как-то смотрел передачу про криминал. Так в одном выпуске – пять убийств коммеров, директора какого-то банка…
– Не, это не то, – Лёха приподнимается на локте. – Это они друг друга валят, а надо, чтоб их народ валил. Вот тогда бы правильно было. Вот за это я на все сто! – Голос его становится все возбужденней, я внутренне настораживаюсь. – У нас вот клуб этот открыли. Как его? «Пена», да? Ну, где эти все собираются, бля, золотая ублюдочная молодежь. Вот десять кэгэ тротила туда занести – и нормал! И все четко! Согласись? Мы, значит, должны цыганку глушить, кишки прожигать, а они там… – Он замолчал, вспоминая что-то, через минуту вспомнил: – А они там, сука, мартини лакают. Почему так?
– Мозги, значит, есть, – отвечаю, – чтоб деньги делать.
– Какие мозги… – Лёха сморщился и уронил голову на подушку. – Просто гады или детеныши гадов. Истреблять таких надо. У них есть возможность, вот они нас и… У, с-сука!.. – порычав с минуту бессвязно, Лёха стал говорить слегка о другом: – Вот мои предаки, они в Прокопьевске всю жизнь прожили, даже вроде и не выезжали никуда. Батя шахтер и оба деда тоже… Теперь он давно уж на пенсии, инвалид второй группы. С двадцати до сорока трех работал, а потом – все. Ему пятьдесят семь сейчас – просто растение. Сидит на стуле, смотрит телик. Только пошевелится – кашель на три часа. От кровати до стула, вот и все движения… И на хрена? Ради чего?.. А знаешь, как они гордятся, что шахтеры! В дыру эту как герои лезут. Чем гордятся, дебилы? На шахте все начальство каждые полгода меняется: башлей нагребут, и хрен найдешь. А эти… Если в шахте не подыхают, то лет в сорок… как мой батя… Я оттуда сразу после армейки свалил. Лучше бездомным быть, чем таким же, так же… Правильно Ксюха сказала – действовать нужно. Действовать! Убрать все это к чертям собачьим!
Спрашиваю с искренним удивлением:
– Чего ты завелся-то? Полтора года валялся, а теперь – как с печки рухнул.
– Понял просто-напросто, – отвечает Лёха тоном отличника, решившего заковыристое уравнение. – Вообще-то давно задумывался, а сегодня понял… Но я слаб. Слаб, слышишь, Ромыч… И самое обидное – вокруг все слабы. Все, кого знаю. Нету ни вождей, ни настоящих героев. Шулупонь…
Мне вспомнился Абакан, тамошние ребята. Первым, конечно, – всегда пьяный и потому всегда воинственный Серега по прозвищу Анархист. В шинели на голое тело, в красном десантском берете со значком «ИРА» (Ирландская республиканская армия, дескать). В правой руке рюмка, в левой – китайский игрушечный маузер. «Мы пойдем убивать, жечь и грабить! – горланит он. – Веселые ребята, полные огненного смеха!» Да, таких, кажется, хоть отбавляй. Я тоже бесился по юности, на митинги всевозможные выходил, писал злые песни протеста. Потом надоело. А вот Лёха сегодня созрел.
Смотрю на будильник. Почти четыре.
– Пора арбайтен. Спектакль через три часа. Поднимайся!
Лёха издыхающе стонет в ответ.
7
Маленькая избушка на пригорке на берегу пруда. Черные, пугающе пористые от старости бревна я обил зеленой вагонкой с разобранной перед отъездом из Кызыла дачной веранды. Покрытая вагонкой избушка немного повеселела, стала внешне как бы побольше.
Если верить соседям, ее построили лет тридцать назад для одной старушки, ушедшей от женившегося сына. Построили за счет совхоза, миром, за неделю. Старушка прожила в ней сколько-то лет и умерла, а потом у избенки сменилось десятка полтора хозяев, не особенно следивших за ее состоянием, так как вскоре переезжали, подыскав место получше, жилье попросторнее.
Теперь живут в ней мои родители, думая о другой избе, крестовой, на бетонном фундаменте. Но все же пока что это их дом и мой тоже. И когда вижу нашу избушку, еще издалека, шагая от автобусной остановки, мне становится как-то тепло, я по-хорошему волнуюсь. Я будто чувствую родной запах, знакомый с детства, привезенный из кызылской квартиры.
Отец мечтает, но не особенно верит, что удастся купить большую избу, поэтому подбирает и откладывает бревна для пристройки еще двух комнат. Бревен уже набралось достаточно, только времени, чтоб приступить, никак не находится.
Помню, в первые месяцы по переезде отец все удивлялся, как бездеятельно, лениво и скучно живут деревенские. У него были грандиозные планы устройства для нас хорошей здесь жизни. «Такой синтез квартиры и дачи», – говорил он… Вскоре от этой грандиозности осталось немногое, а точнее, одно: как бы нам выжить.
Вот мы сидим за столом на кухне, которая одновременно и большая комната, так сказать, зал. Отец, мама и я. Я получил в пятницу талоны, привез полкило чайной колбасы, селедку, граммов триста сыра, бутылку «Перцовки»… Выпить решили вечером, а сейчас едим торопливо – надо ехать копать картошку.
– Ящики уже загрузил, – говорит отец. – Ведра бы не забыть, вилы… Земля сырая, вчера опять полдня лило. Ящики потом в баню стаскаем, чтоб картошка просохла. Иначе – сгниет.
– Уж как-нибудь постарайтесь осилить, – отзывается мама. – Столько сил на нее положили…
Деляна в этом году нам и вправду досталась неважная. Хоть и чернозем, но сорняков просто море. И в основном колючий, живучий осот. Его вытяпывать бесполезно, тут же снова выскакивает, и приходилось руками вытягивать стебли вместе с длинным, покрытым отростками корнем. Раза четыре так пропалывали за лето.
Отец, взглянув на меня, улыбнулся:
– Бороду-то сбрил? А я маме говорю: жди его бородатым, не пугайся.
В ответ улыбаюсь невесело, вспоминаю, как вчера вечером часа два скоблил рожу тупыми лезвиями.
– Н-ну, – отец встает, – надо ехать.
Мама суетится, ищет что-то в шкафу:
– Одевайтесь теплее. Плащи возьмите, небо вон в тучах все.
Ограда маленькая, тесная. Две машины – Рыжулька и грузовик Захар почти полностью занимают ее. Раньше совсем было не протолкнуться, но, меняя забор, мы немного расширились в улицу, убрали развалины сарайчика, перенесли на задний двор угольник и дровяник.
По краю ограды стоят крошечная баня и летняя кухня. Баня еще крепкая, но крыша гниет. Прошлой весной случился пожар: загорелась проводка в летней кухне, и с нее огонь перекинулся на крышу бани. Пожар довольно быстро удалось затушить, но шифер попортился, а теперь лист его стоит почти пятьдесят рублей. Ремонт пока что не по карману…
Основную площадь участка занимает огород. Он почти двадцать соток. В огороде пять теплиц, которые с середины апреля мы затягиваем целлофаном. Две из них с мощными печами, это для ранних огурцов, помидоров, перца. Бывает, уже в первых числах июня плоды созревают. Только вот поддерживать плюсовую температуру, когда по ночам минус десять, а то и ниже, дело тяжелое.
Обычно мое пребывание у родителей начинается с обхода хозяйства, отец показывает, что сделал за последнее время, хвалится успехами или жалуется, если что-то не ладится. Я бы с удовольствием погулял по осеннему огороду, попроведал бы кроликов, но сейчас у нас другая задача…
До поля недалеко. Оно начинается почти сразу за деревней, за скотным двором.
Десять длинных, приземистых коровников-зимников стоят ровными рядами и издали кажутся обжитыми, чистыми, свежепобеленными. Под кровлей – маленькие оконца, отверстия для вентиляции. Но на самом деле всего два обитаемы, а остальные теперь уже, если смотреть вблизи, больше походят на развалины. Шифер с крыш снят, растаскан, стекла в оконцах побиты, ворота или нараспашку, или вовсе сорваны с петель. Вокруг – густые заросли полыни и конопли, ограды повалены.
Справа от коровников – кладбище техники. Сеялки, бороны, ржавые полуразобранные комбайны, кособокие «Кировцы» на сдутых колесах. Забор вокруг этого кладбища тоже ничего больше не защищает, многих досок в нем не хватает.
Мы с отцом докуриваем сигареты, молчим. Разговаривать все равно бесполезно – мотор ревет, машину трясет на ухабах проселка, когда отец переключает скорости, Захар взвизгивает, словно ему больно.
Деляны местным раздают поблизости от деревни, а дальше, за лесополосой, – для городских. Местные платят только за вспашку, городские же арендуют участок на сезон. Сам совхоз теперь картошку не садит: нет ни желающих работать на казенном поле без зарплаты, ни техники: последний картофелеуборочный комбайн прошлой осенью перекочевал на кладбище техники.
Поле растянулось на пологом склоне невысокой сопки, разрезано лесополосами. Тут и там по склону красные, зеленые, коричневые пятна машин, на черно-серой земле шевелятся люди.
– Не мы одни припозднились, – повеселев, перекрикивает отец рев Захара.
Я киваю. Крепко держусь за скобу-ручку в панели под лобовым стеклом; Захар грузно и осторожно переваливается на буграх заезженной пахоты, пробирается к нашей деляне.
Перед началом работы пошли вдоль участка. Первые метров шесть уже выкопаны отцом в августе-сентябре на еду. Дальше, среди полумертвых сорняков, сухая и поникшая картофельная ботва. А с противоположного конца деляна тоже поископана, но неаккуратно, торопливо. Валяются мелкие, позеленелые, омытые дождем картофелинки.
– Вот гады, – почти равнодушно, без удивления говорит отец, сплевывая налезшие в рот табачинки «Примы». – Мешка два унесли… – И тут же старается успокоить себя и меня: – Ничего, ладно, нам тут с лихвой хватит. Картошка в этом году неплохая.
Прохладно. Солнце где-то далеко-далеко за плотной, безграничной, во все небо, тучей. Даже и не угадывается, где оно сейчас, – от горизонта до горизонта однообразная тяжелая серость. Кажется, в любую минуту она лопнет, порвется, и полетит серый, как и сама туча, снег.
Земля сырая, липкая. Пальцы быстро замерзают, не гнутся. А рыться в развороченном вилами гнезде рукой в перчатке не получается – все кажется, что не нащупываю, оставляю в земле картошины; немного согрев руку, снимаю перчатку, снова копаюсь голыми пальцами.
Отец действует быстро, он уже рядов за десять от меня. Вилами, конечно, работать легче – ткнул зубья возле гнезда, поддел из глуби, вывернул наружу основные клубни, и готово. Но куда ему копаться в земле с его руками – все в экземных язвочках, красные и распухшие.
Работаем молча, торопливо. У меня одна мысль, одна забота: коченеющие руки. Ворошу в лунках то правой, то левой. Пока одна рука шарит в поисках прячущихся картофелин, другая греется. Особенно неприятно попадать пальцами в ледяную жижу недогнившей семенной картошки. Словно вляпался в сгусток застывшей чужой мокроты.
Жду, когда отец предложит перекурить.
Клубни в основном крупные, а ведра наполняются страшно медленно. Или мне просто так кажется. Когда невмоготу больше изучать лунки, беру два не совсем полных и несу к Захару, высыпаю в расставленные по краю кузова ящики. Возвращаясь, смотрю по сторонам, надеясь увидеть что-нибудь интересное, что может развлечь…
Кое-где в поле согнутые или бредущие с мешками и ведрами фигурки людей. Занимаются тем же, что и мы с отцом, – добывают себе пропитание. А картошка, картофан – самый главный продукт, самый важный запас. «Картошка есть – уже не голодом» – выражение, часто слышимое мной и от стариков, и от молодых ухоженных женщин, и от небедных на вид мужчин. Ею даже не очень-то и торгуют в этом году. То ли спроса особого нет (мало кто не имеет возле города клочка земли, засаженного картошкой), то ли берегут на весну. Неизвестно, что там будет, зимой и весной, а ее засыпал в подвал, пусть лежит…