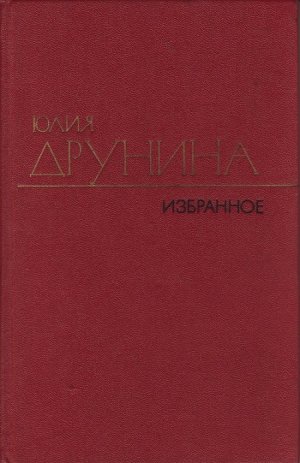
С ТЕХ ВЕРШИН
(Страницы автобиографии)
Раннее детство. Темнота, изредка прорезанная всполохами памяти. Мне не больше четырех-пяти лет. Конец двадцатых годов. Страна еще освещена заревом гражданской войны и революции. У нас, мелкоты, самым ругательным словом считается «буржуй». Буржуйством, между прочим, называлось и любое «украшательство» одежде.
А тут мать по случаю прихода гостей решила водрузить на мою голову громадный белый бант! Я упорно сдергивала со своих коротких вихров это позорное украшение. На помощь был призван отец. Он укрепил бант таким хитроумным узлом, что сдернуть его я уже не могла.
Покориться? Не тут-то было!.. Я схватила ножницы — и роскошный бант полетел на пол вместе с тощим хохолком.
До сих пор помню огорошенные лица взрослых и то чувство восторга, смешанного с ужасом, которое охватило меня тогда. Я не дала водрузить неприятельский флаг!
Давно нет на свете отца, мать не может припомнить того «ничтожного эпизода», но мне он врезался в память, как осколок…
По-разному складываются отношения в семье. Для меня отец был не только отцом — он выполнял и роль матери.
Перед сном я всегда повторяла: «Господи, сделай так, чтобы я умерла раньше, чем он». Конечно, ни в какого господа я не верила, но потребность в такой молитве была вполне объяснимой — любовь к отцу всегда сосуществовала у меня с вечной за него тревогой.
К тому времени, как я стала осознавать себя, отец был уже человеком пожилым, а по моим тогдашним понятиям, и вовсе старым. Я родилась, когда ему, женатому вторым браком на женщине моложе его на двадцать один год, сровнялось уже сорок пять. К тому же больное сердце. И неудачно сложившаяся жизнь. Мечтал стать поэтом — стал учителем. Обожал первую жену — она умерла от чахотки…
Однажды мне посчастливилось спасти отца от трагической смерти. Как ударника (чтобы немного подработать, он вел «кружок рабочих авторов» в ЦАГИ) отца наградили удивительным подарком — билетом на показательный полет над Москвой в только что построенном супергиганте «Максим Горький».
Узнав, что отец согласился лететь без меня, я была глубоко потрясена его «предательством». Обида моя оказалась столь великой, отчаяние таким глубоким, что отец просто-напросто отдал кому-то свой билет. А потом пришло страшное известие: в «Максима Горького» врезался эскортирующий его самолет…
Длинные дремучие коридоры, пустынные таинственные лестницы: «черная», «винтовая», загадочно гудящая «моторная» — все это мир моего детства.
Здесь мы носились как угорелые, лихо скатывались по перилам, секретничали, ссорились и мирились. И не болтались под ногами у взрослых.
Как хорошо, что привольный этот мир не был ограничен стильными обоями и сияющим паркетом нынешних вылизанных квартир! Бедные современные дети — жертвы полированных идолов по имени «Хельга» или «Роджерс»! Не капни на них, не толкни, упаси господи, не поцарапай!
Но спасибо, что судьба избавила меня и от тягостного быта коммуналок! В нашем доме напротив Моссовета, бывшей гостинице «Дрезден» (той самой, в которой останавливался Чехов), сохранилась коридорная система. И хотя людям приходилось выстаивать длинные очереди в уборные, во всех других отношениях они были независимы друг от друга и потому оставались, как правило, добрыми соседями.
А мы, дети, дружили крепко и верно. Как я уже упоминала, коридоры и лестницы были нашим клубом. А по Советской площади (там стояла тогда статуя Свободы) и по узкой Тверской, лавируя меж нечастыми автомобилями, гоняли мы в «казаки-разбойники».
И самое большое, самое захватывающее счастье: чтение, сумасшедшее чтение запоем, тайком («хватит портить глаза!») в полутьме под лестницей, на подоконнике в коридоре, в школе на уроках под партой, ночью с фонариком под одеялом.
У меня, это было настоящей страстью. Не знаю, возможно ли такое у ребенка сейчас, когда в каждый дом вошел могущественный гипнотизер — телевизор…
А читать я научилась в четыре года, каким-то неправильным, ненаучным способом. Природа (видимо, чтобы компенсировать за полное отсутствие памяти на лица) наградила меня патологически обостренной зрительной и слуховой памятью на все, что связано с чтением. Я невольно фотографировала в мозгу даже расположение строк, интервалы, знаки препинания.
Поэтому, прослушав несколько раз ту или иную сказочку и следя глазами за страницами, я вскоре ухитрялась «читать», не зная еще и букв. И так, незаметно для себя, выучилась грамоте.
Мне повезло. Первыми, самостоятельно прочитанными книгами были сказки Пушкина, Гоголя и… Гомера. Да, Гомера. Ведь «Одиссею» я воспринимала тоже как собрание захватывающих сказок — об одноглазом великане-людоеде, о злой волшебнице, превращающей путников в свиней, о коварных сиренах, заманивающих мореплавателей в пучину.
И после этих шедевров — оглушительное впечатление от повестей Лидии Чарской!..
Уже взрослой я прочитала о ней очень остроумную и ядовитую статью К. Чуковского.
Вроде и возразить что-либо Корнею Ивановичу трудно. Вот хотя бы почему это девицы у писательницы на каждом шагу хлопаются в обморок? Попробуйте, мол, сами — не удастся!
Действительно!.. Хотя в обморок дамы падают не только у Чарской, но и у Толстого, Тургенева, Пушкина. Я и сама задумывалась, как это удавалось нашему брату в прошлом веке…
Понимаю, что главное в статье Чуковского конечно же не обмороки. Главное — обвинение в сентиментальности, экзальтированности, слащавости. И должно быть, все эти упреки справедливы.
И все-таки дважды два не всегда четыре.
Есть, по-видимому, в Чарской, в ее восторженных юных героинях, нечто такое — светлое, благородное, чистое, — что трогает в неискушенных душах девочек (именно девочек) самые лучшие струны, что воспитывает в них (именно воспитывает!) самые высокие понятия о дружбе, верности и чести.
Я ничуть не удивилась, когда узнала, что Марина Цветаева «переболела» в детстве Чарской.
И как это ни парадоксально, в сорок первом в военкомат меня привел не только Павел Корчагин, но и княжна Джаваха — героиня Лидии Чарской…
Однако моя великая эрудиция — от Гомера до Чарской — не помешала мне оказаться на самом последнем месте в своеобразном конкурсе для поступающих в школу. Параллельных классов в этой школе было великое множество, от «А» до «К», и педологи (впоследствии, правда, педологию признали «лженаукой») решили рассортировать ребятишек по их умственным способностям.
Нам раздали бумагу, клей, краски и предложили склеить какие-то фигурки. Я тут же все перепутала и перемазалась с головы до ног в этом клее, в этих красках, разведенных моими горькими слезами.
В ту пору мне всего было шесть с половиной лет. Меня отдали в школу, где преподавал отец и куда определилась библиотекарем мать. Родителям было проще иметь меня перед глазами, чем оставлять одну дома. Потому так рано началась моя школьная жизнь.
Я попала в 1-й «К», если бы существовал 1-й «Я», быть бы мне в нем.
Чудно все-таки: возвратясь с войны, пройдя все, что положено солдату переднего края, в ночных кошмарах я упорно продолжала видеть… контрольную по математике. Отношения с точными науками сразу же сложились у меня абсолютно безнадежно.
И никогда я не сомневалась, что буду литератором. Меня не могли поколебать ни серьезные доводы, ни ядовитые насмешки отца, пытающегося уберечь дочь от жестоких разочарований. Он-то знал, что на Парнас пробиваются единицы. Почему я должна быть в их числе?..
После того как я напечатала в классной стенгазете стишки, начинающиеся строками «В третьем „К“ не все и порядке, не обернуты тетрадки», слава поэта прочно утвердилась за мной в школе. И по-видимому, появилась неосознанная боязнь потерять эту славу. Только так я могу объяснить, что выступила однажды в роли плагиатора.
И у кого стащила стихи? У Пушкина!
Было мне тогда лет одиннадцать, и я пребывала в состоянии безнадежной влюбленности. Предметом моей страсти оказался мальчик по имени Игорь. Я по-своему переписала отрывок из пушкинского «Кавказского пленника», заменив в нем слово «русский» на «Игорь». Получилось здорово:
И так далее…
Правда, давая читать это «письмо Игорю» своим подружкам, я никак не предполагала, что они не знают, кто его автор. Но когда девочки пришли в бурный восторг от «моего» таланта, у меня уже не хватило душевных сил разочаровать их…
Эпигонский период, обязательный, вероятно, для каждого стихотворца, я прошла в школе. В эти годы я писала о любви (преимущественно «неземной»), о природе (в основном экзотической) и вообще о всевозможных высоких материях. Замки, рыцари, Прекрасные Дамы вперемешку с ковбоями, лампасами, пампасами и кабацкими забулдыгами (коктейль из Блока, Майна Рида и Есенина) мирно сосуществовали в этих ужасных виршах. До сих пор бывшие мои одноклассники дразнят меня «шедевром», созданным в пионерские годы:
Правда, очень скоро зазвучала новая нота — ностальгия по романтике гражданской войны: «Эх, деньки горячие уплыли, не вернутся вновь. Помню, как алела в белой пыли молодая кровь».
По поводу этих строчек литконсультант Центрального дома художественного воспитания детей написал мне, что незачем, мол, тосковать по времени, когда ручьем лилась кровь… Он был совершенно прав, только не учитывал той детской жажды подвига, которая жила во мне, как и во многих моих сверстниках.
А тут фашистский мятеж в Испании. Республиканцы, интернациональные бригады.
До сих пор слова «Мадрид», «Барселона», «Гвадалахара» больно отзываются во мне. А тогда боль эта переплавлялась в стихи — неумелые, слабые, но уже идущие от жизни, а не от литературы.
В тридцать восьмом году Центральный дом художественного воспитания детей объявил конкурс на лучшее стихотворение. Посланные мной стихи были посредственными, но сейчас они поражают меня точным предчувствием своей судьбы, судьбы своего поколения:
Стихотворение напечатали в «Учительской газете», передали по радио. Известная журналистка Елена Кононенко специально пришла в школу, где я училась, а потом посвятила мне целый абзац в своей статье «Ранняя слава» (почему-то сделав непостижимый вывод, что именно эта «слава» мешает мне… подналечь на математику).
Я не сомневалась, что на конкурсе буду победителем. И вдруг — щелчок по носу: я вообще не получила никакой премии…
А первое место занял некий Сережа Орлов, паренек из провинции.
Так впервые пути мои перекрестились с большим поэтом Сергеем Орловым, ставшим мне через много-много лет близким другом и так рано, так неожиданно ушедшим недавно из жизни…
Семья наша жила весьма скромно. Правда, тогда я как-то не замечала этого.
К примеру, я вечно прогуливала физкультуру только потому, что на уроки не пускали без тапочек. А как я могла заикнуться про эти тапочки дома, если последние три-четыре дня до получки у нас не оставалось ни рубля и мы сидели на пшенной каше? (Запасы этой крупы сохранились у родителей, по-моему, еще со времен гражданской войны.)
У отца не было никогда костюма — он всегда ходил в одной и той же потертой вельветовой толстовке.
Я тоже ни разу не имела больше двух дешевых платьишек. И это казалось мне нормальным: так же одевались и мои одноклассницы.
Понятия «вещизм» тогда вообще не существовало, быт как-то не замечался — царило Бытие. По крайней мере, в нашей школьной среде.
Спасение челюскинцев, тревога за плутающую в тайге Марину Раскову, покорение полюса, Испания — вот чем жили мы в детстве. И огорчались, что родились слишком поздно…
Удивительное поколение! Вполне закономерно, что в трагическом сорок первом оно стало поколением добровольцев…
Когда началась война, я, ни на минуту не сомневаясь, что враг будет молниеносно разгромлен, больше всего боялась, что это произойдет без моего участия, что я не успею попасть на фронт.
Страх «опоздать» погнал меня в военкомат уже 22 июня, но проклятая застенчивость заставила в ответ на раздраженный вопрос усталого военкома: «А тебе, девочка, что здесь нужно?» — спешно ретироваться. Ведь и чувствовала себя жалкой просительницей — до совершеннолетия не хватало, увы, целых двух лет…
По совету отца я пошла в глазной госпиталь на улице Горького. Там меня приняли с распростертыми объятиями. Санитарок не хватало.
В палате с тяжело раненными выбрала самого тяжелого — жестоко обожженного танкиста с повязкой на глазах. Ему грозила полная слепота и ампутация рук и ног.
Танкист отказывался от еды и от лечения. Не сразу, конечно, но все-таки мне удалось пробиться сквозь глухую стену предельного человеческого отчаяния. Как я была счастлива, когда мой подопечный проглотил первую ложечку супа! Есть он соглашался только из моих рук.
Вся палата следила за нами с величайшим сочувствием и добродушно надо мною подшучивала: «Невеста пришла, Вася!»
А Вася всерьез принял эту шутку. Стал говорить о том, как покажет меня своим родителям. Я понимала, что подобная иллюзия помогает ему выкарабкаться и охотно играла роль невесты.
Каково же было разочарование этого украинского хлопца, когда с его глаз сняли повязку (часть зрения удалось сохранить), и вместо «гарной дивчины» он увидел тощего нескладного заморыша!..
А я только и дожидалась выздоровления Васи (не могла же я его бросить!), чтобы вступить в добровольную санитарную дружину при РОККе — районном Обществе Красного Креста. С завистью смотрела я в боевой кинохронике на юных дружинниц в комбинезонах, перевязывающих под огнем раненых.
Но в первое свое ночное дежурство попала, как назло, в самое безопасное место Москвы — метро. Дружина наша дежурила на станции «Маяковская», превращавшуюся ночью в громадное бомбоубежище.
Потом во время воздушных тревог нас оставляли в помещении самого РОККа, в доме у Никитских ворот.
Уже начались налеты на Москву. Однажды среди ночи рядом грохнуло, дом наш качнуло. Мы выскочили на улицу. Первое, что я заметала в клубах медленно рассеивающегося дыма и оседающей пыли, — странно изменившийся памятник Тимирязеву — великий ученый был без головы.
И тут же увидела убитых и раненых. Бросилась к женщине с окровавленной головой и, пытаясь сделать дрожащими руками «шапку Гиппократа», с ужасом поймала себя на том, что кладу вату… прямо на рану.
Откуда-то из-под Смоленска вернулась Райка, девчонка с нашего двора, мобилизованная «на окопы».
Там она заболела крупозным воспалением легких.
Во дворе болтали невесть что — будто бы окопники чуть ли не вырвались из окружения.
Пошла навестить Райку. Ее бабушка предупредила меня в прихожей: «Не больше десяти минут, и никаких разговоров про окопы…»
Райка почернела, усохла, по-старушечьи опустились уголки рта. На улице я бы ее не узнала. Какой-то совсем другой — взрослый, потрясенный человек смотрел на меня из глубоко запавших глазниц.
Расспросив Райку про здоровье; я собралась уходить. Она тоже задала мне несколько вопросов. И недобро усмехнулась: «Неплохо окопалась в тылу!»
Злые эти слова помогли мне. Раньше я считала рытье окопов только тяжелой и скучной работой. К тому же не очень нужной. Ведь скоро мы будем бить врага на его территории!
Но теперь-то я поняла, что для меня окопы — ближайший путь на фронт.
Через три дня я присоединилась к группе москвичей моего района, уезжающих на строительство оборонительных сооружений. Среди них были и знакомые девочки.
Грузовики довезли нас до Можайска. Там, под холодным дождем рыли землю сотни людей — в большинстве женщины и подростки. Мне сказали, что здесь же работает и ополченская дивизия. Так впервые я узнала о существовании народного ополчения…
Уже через полчаса на руках моих образовались кровавые мозоли.
Периодически раздавался крик «Воздух!». Меня удивило, как вяло реагировали люди на появление фашистских бомбардировщиков. Правда, многие чувствовали себя здесь более уверенно, чем в московском бомбоубежище. Не было ощущения ловушки, страха быть погребенным заживо. Да и поразить в щели могло только прямое попадание, что, особенно под защитой зениток, случалось редко.
Два раза в день в громадных бидонах привозили остывшую похлебку. Спали в холодных сараях. Жалоб я не слыхала — да и на кого жаловаться? На немцев?..
Я старалась быть поближе к ополченцам, и они скоро стали принимать меня за свою. Тем более что я ходила в синем комбинезоне, прихваченном из сандружины, и повязкой с красным крестом на рукаве.
Поэтому, когда среди ночи ополченцев подняли по тревоге, я, никого не спрашивая, присоединилась к ним. Да меня никто и не замечал, не до того было. Немцы прорвали фронт под Вязьмой…
Одетые кто во что горазд, большей частью невооруженные («достанете оружие в бою!»), шли ополченцы по раздолбанной лесной дороге. До меня долго не доходило, что негромкое, мерное и, я бы даже сказала, мирное погромыхивание (словно лупили громадными молотами по гигантской наковальне) и есть канонада. А понял, спросила: «Скоро фронт?» Пожилой человек в очках угрюмо ответил: «Вот прорвутся танки и будет тебе фронт».
Это не укладывалось в голове, не доходило до сердца. Было не страшно — детская смелость неведения.
Конечно, все чувства притупились и от нечеловеческой усталости, ведь шли уже всю ночь. На десятиминутных привалах засыпали молниеносно, некоторые ухитрялись «кемарить» даже на ходу.
Рассвело. Было тихо и солнечно.
И вдруг гром среди ясного неба да черный столб посреди колонны, недалеко от меня. Второй! Третий! — уже за мной.
Дорога сразу опустела. Все, кто уцелел, скрылись в лесу. Остались неподвижные, застывшие в неестественных позах фигуры, да раздались крики раненых: «Сестра! Сестра!»
(Впоследствии я поняла, что это был минометный налет. В отличие от снарядов осколки мин всегда летят в одну сторону — поэтому можно случайно уцелеть, даже находясь рядом с разрывом.)
Я действовала автоматически — перевязала одного раненого, второго, третьего. Но тут услышала крики: «Танк! Танк!» — и увидела бегущих солдат.
…Я мчалась через лес, спотыкаясь и падая, расшибаясь и не чувствуя боли, повторяя, как молитву, про себя: «Господи! Господи! Если ты сделаешь чудо и оставишь меня живой, никогда, никогда я не сунусь больше в этот ад!» Потеряла санитарную сумку.
То приближались, то удалялись автоматные очереди и винтовочные выстрелы, над ухом нежно посвистывали невесть откуда взявшиеся пичуги. Только потом, приобретя уже кой-какой фронтовой опыт, я поняла, что это были шальные пули — они прилетали из недальнего боя.
А затем все стихло. Я почувствовала, что выдохлась, замедлила шаги. И тут услышала родное: «Стой! Кто идет?»
Кончилось одиночество — самое тягостное ощущение, которое может быть у человека на фронте, особенно если он новичок.
Я оказалась в расположении пехотного полка. Меня отвели на КП батальона. Комбат — светлые глаза на кирпичном лице, острые углы скул, твердая линия рта и неожиданная ямочка на подбородке — заставил меня подробно рассказать обо всех моих приключениях, особенно о танке. Потом землянка затряслась от дружного хохота. Оказалось, что я… приняла свой танк за фашистский! А солдаты бежали врассыпную потому, что знали — сейчас немцы начнут лупить по нему изо всех стволов.
«Ну вот что, доктор! — сказал, отсмеявшись, комбат. — Своих ты все равно потеряла, оставайся с нами. Будешь одна за весь санвзвод. А сейчас спи».
В первом же бою все сложилось совсем не так, как я себе представляла.
Когда полк поднялся в атаку, не было ни лавины наступающих, ни громового «ура!». Просто-напросто, несколько жиденьких цепочек, на ходу перезаряжая винтовки, молча бежали вперед, судорожно паля в направлении фашистов, но не видя их — я, во всяком случае, никого не видела.
А вокруг с грохотом вырастали черные кусты и столбы. Грохот от разрывов был глуше, чем грохот выстрелов. Поэтому поначалу я бросалась на землю, когда били свои минометы, и не обращала внимания на вражеские мины. То и дело приходилось останавливаться, чтобы перевязать раненого.
Потом цепочки почему-то залегли, и тогда вдруг выяснилось, что я попала в другой полк. По-видимому, после одной из перевязок спутала цепочку.
Я долго бродила между черными грохочущими кустами, разыскивая свой батальон. Очень хотелось пить.
Только нашла своих, цепочки снова поднялись и побежали вперед. Чтобы опять не потеряться, решила не отставать от комбата — высокий, с пистолетом в руке, он легко бежал впереди всех и был хорошим ориентиром.
Грохот усилился. Я потеряла счет раненым.
Как-то механически, словно заведенная, наскоро перевязывала очередного упавшего бойца, а потом искала глазами комбата — он продвигался вперед то короткими, то длинными перебежками — и догоняла его.
Так получилось, что комбат, его ординарец и я (я — только от страха снова потеряться) первыми влетели в деревню. В хате, куда мы ворвались с ходу, прижавшись к стене, поднял кверху дрожащие руки немецкий солдат, оказавшийся санитаром. Раненный в ногу, он не смог уйти. Его санитарная сумка почему-то была набита не бинтами, а… сахарным песком.
Со странным чувством ненависти и жалости смотрели я на этого беспомощного, немолодого человека, И вздрогнула, представив, что было бы со мной, попади я к ним в лапы…
Тяжелая рука комбата опустилась мне на плечо:
— Холодно, сестренка? Погрейся.
Он протянул мне фляжку. Не поняв, что там водка, я отхлебнула большой глоток и страшно закашлялась. Кругом добродушно рассмеялись.
Нужно было подумать об эвакуации раненых в тыл: проследить, чтобы санитары-носильщики не забыли ненароком кого-нибудь, постараться организовать повозки, и я выскочила из избы.
Это неверно, что к опасности не привыкают. Кто не привыкнет, тот должен сойти с ума…
Главное, что меня мучило, — страшная усталость. Только прикорнешь в окопчике, снова постылое: «Приготовиться к движению!».
Честно говоря, я даже не всегда понимала, когда наступаем, а когда отступаем. Всегда стреляем мы, всегда стреляют по нас, всегда кого-то перевязываешь, всегда куда-то бежишь, а вот в какую сторону — представляла поначалу не очень ясно…
В конце сентября дивизия оказалась в кольце. Почему это произошло, почему вообще началась катастрофа всеобщего отступления?.. У нас, окруженцев, не было времени задумываться — нужно было действовать.
Меня спасло то, что я не отходила от комбата. В самом безнадежном, казалось бы, положении он повел батальон на прорыв. Двадцать три человека вырвались из окружения и ушли в дремучие можайские леса. Про судьбу других не знаю…
Через три года, на госпитальной койке, я напишу длинное вялое стихотворение о том, как происходил этот прорыв. Начиналось оно так:
И еще пятьдесят строк. В окончательном варианте я оставила лишь четыре:
Это я к тому, какой ценой приходится порой платить за четыре строчки…
Немцы шли дорогами, а нас вел по глухомани уроженец здешних мест — ординарец комбата. Бывший лесник, он знал тут каждую тропу, каждое дерево. Мне, умеющей заплутаться в трех соснах, способность нашего Сусанина выбирать нужное направление среди совершенно одинаковых деревьев казалась чем-то сверхъестественным.
Поначалу немцев мы не встречали. Звуки боя вспыхивали то справа, то слева, то сзади, то спереди. Но канонады — точного ориентира линии фронта — мы не слышали.
Лесник вел нас к своей избушке, где у него оставалась семья. Там мы должны были разузнать обстановку, прихватить продукты, спички и идти дальше, к своим.
Ребята прикончили последние сухари и жевали ягоды да какие-то корни. У меня почему-то не было чувства голода, только мучила все время жажда.
На закате третьего дня еле заметная тропка вывела нас из дремучего леса на поросший кустарником холм. Под ним и приютился домик бывшего лесника, а в двенадцати километрах от него — деревня.
Лесник считал, что фрицы вряд ли поселятся в хате на отшибе, в лесу. Вот деревня — другое дело.
«Слухай меня, командир, — сказал он комбату. — Если все в порядке, пошлю к вам пацана. Или жену. Или (он сделал паузу, помрачнев) вернусь сам. Ждите полчаса. Ежели никого не будет, тут же сматывайтесь. Значит, беда… Вот, командир, я намалевал план. Идите по нему».
Мы ждали сорок минут. Попискивали пичуги, на этот раз настоящие. Никто не пришел.
Что случилось? Беда или просто жинка уговорила лесника остаться, не пустила его?..
Как бы то ни было, ждать дольше мы не могли. И пошли на восток.
К своим мы выходили тринадцать суток, тринадцать дней и ночей — сколько же это составило часов, минут, секунд? Впервые я поняла, что секунда может быть вечностью, впервые поняла, как относительно понятие времени.
Мы шли, ползли, бежали, натыкаясь на немцев, теряя товарищей, опухшие, измученные, ведомые одной страстью — пробиться!
Случались и минуты отчаяния, безразличия, отупения, но чаще для этого просто не было времени — все душевные и физические силы были сконцентрированы на какой-нибудь одной конкретной задаче: незаметно проскочить шоссе, по которому то и дело проносились немецкие машины, или, вжавшись в землю, молиться, чтобы фашист, забредший по нужде в кусты, не обнаружил тебя, или пробежать несколько метров до спасительного оврага, пока товарищи прикрывают твой отход.
А надо всем — панический ужас, ужас перед пленом. У меня, девушки, он был еще острее, чем у мужчин. Наверное, этот ужас здорово помогал мне, потому что был сильнее страха смерти.
И конечно, помогала вера в комбата, преклонение перед ним, помогала моя детская влюбленность.
Наш комбат, молодой учитель из Минска, действительно оказался человеком незаурядным. Такого самообладания, понимания людей и таланта молниеносно выбрать в самой безнадежной ситуации оптимальный вариант я больше не встречала ни у кого, хотя повидала немало хороших командиров. С ним солдаты чувствовали себя как за каменной стеной, хотя какие «стены» могли быть в нашем положении?
К «дырке» в немецком переднем крае комбат привел только девять окруженцев. Остальные либо остались лежать в лесу, либо, раненные, были пристроены в глухих деревнях у жалостливых солдаток.
«Дырка» эта оказалась… минным полем.
Конечно, мы приуныли. Куда теперь деваться?..
В легких начинающихся сумерках комбат некоторое время внимательно разглядывал запорошенную первым ранним снежком землю, потом решительно шагнул вперед. Мы замерли, кто-то бросился в кустарник и упал ничком.
Комбат сделал еще два осторожных шага, потом вдруг… стал приплясывать на месте. У меня оборвалось сердце — свихнулся человек. Все замерли, ожидая взрыва. А комбат сказал вполголоса, очень буднично: «Все в порядке, ребята. Мины-то противотанковые. Для них вес человека — что вес мыши… Подождем еще полчасика, пока стемнеет, и айда к нашим».
Мы отдохнули немножко в кустах, договорились о порядке перехода через нейтралку. Я должна была идти посередине, комбат замыкающим. Первому был дан наказ окликнуть своих на «чисто русском» языке — а то еще подстрелят.
Все было спокойно, мы пошли в полный рост. Сначала спотыкались о мины, потом минное поле кончилось, земля стала гладкой. Наш передний край молчал.
И когда мы считали себя уже в полной безопасности, немец бросил мину — может, и случайную.
Она разорвалась почти посередине нашей цепочки. Те, что шли впереди, остались без единой царапины. Три человека, в их числе комбат, были убиты наповал…
Мина, убившая комбата, надолго оглушила меня. А потом, через годы, в стихах моих часто будут появляться Комбаты…
В том месте, где одиннадцатого октября мы вышли к Можайску, вообще не оказалось никакого переднего края. Фронт был оголен… А руки фашистам связывали дерущиеся в окружении дивизии. Они, эти обреченные героические войска, не давали немцам пройти в прорыв…
И несмотря на то, что уже стали слышны звуки боя, оборонные работы под Можайском продолжались. Женщины, подростки и старики лихорадочно рыли окопы. А «юнкерсы» заходили на укрепрайон волна за волной.
Моих товарищей повели в военную комендатуру — выяснять личности.
Я боялась попасть в комендатуру. Мне было бы очень трудно доказать правдивость своей запутанной истории, трудно объяснить, как я оказалась в окружении. Еще примут сгоряча за шпионку…
В моем положении самое лучшее было — вернуться на окопы.
Там я увидела готовые к отъезду грузовики — подросткам приказали уехать в Москву.
На одном грузовике заметила стайку своих подружек по «казакам-разбойникам». Сначала они меня не узнали (я невольно вспомнила, как изменилась Райка), потом заахали: «На днях приезжал твой отец, привез теплые вещи, ты извини, мы их сейчас вернем (я махнула рукой, шофер уже заводил мотор), он эвакуируется пятнадцатого со спецшколой».
Я вскочила на колесо, перевалилась через борт, грузовик тронулся.
…Накануне войны отец перешел в только что организованную 1-ю Московскую спецшколу ВВС. По-моему, решающую роль в этом сыграло то, что преподаватели там обеспечивались добротным летным обмундированием. Наконец-то он вылезет из потертой вельветовой толстовки и вечного «семисезонного» пальтеца!
И назывался отец теперь не классным руководителем, а командиром взвода!
И вот спецшкола эвакуируется. Куда?..
Я поняла, что должна увидеться с родителями. Попрощаюсь, а потом пойду в райком комсомола — девчонки говорили, что там несовершеннолетних берут в школы радистов, разведчиков, диверсантов.
…Отец очень сдал за эти дни. Он был убежден, что я вернулась только для того, чтобы ехать с ним в Сибирь. Произошел один из самых мучительных в моей жизни разговоров.
Отец говорил примерно следующее: «Я уважаю твои патриотические чувства, но разве шестнадцатилетней девчонке обязательно быть солдатом переднего края? Не естественнее ли стать сестрой в госпитале?.. Романтика? Ты же не могла не понять, что на фронте ею и не пахнет? И что раненых из огня должны вытаскивать здоровые мужики, а не такие козявки?»
Я возражала, что точно такие «козявки» воюют наравне со «здоровыми мужиками». И при чем здесь романтика?..
Боязнь красивых слов помешала мне добавить, что прикрыть Родину в этот час можно только собой. И что я никогда не прощу себе, если проведу войну в тылу…
Через два дня, проводив родителей на станцию Москва-Товарная, где грузился их эшелон, я с тяжелым сердцем пошла домой. Москвичи готовились к уличным боям — ставили надолбы, строили баррикады.
Соседка по квартире, всхлипывая, рассказала мне, что управдом требует ее немедленной эвакуации, а как она тронется с места с двумя малышами — один из них родился в бомбоубежище три месяца назад?..
Утром я должна была пойти в райком комсомола.
Но жизнь решила иначе. На рассвете в квартире появился… отец. Оказывается, ночью столицу сильно бомбили (я-то ничего не слышала), на Москве-Товарной вспыхнули пожары, эшелон их задержали и не отправят раньше следующей ночи. Отец твердо решил никуда без меня не ехать («бред какой-то — ребенок остается в осажденном городе, а он, мужчина, эвакуируется!»). И в конце концов, на фронт можно пойти и из Сибири — теперь-то я едва ли «боюсь», что война кончится «слишком быстро». А я пока немножко окрепну. Он дает честное слово, что не будет мне препятствовать…
В глазах отца стояли слезы, вид был — как перед сердечным приступом, и я сдалась… К тому же подействовал довод, что на фронт можно пойти и из Сибири.
На рассвете 16 октября наш эшелон, в котором разместились две военно-воздушные, две артиллерийские и две военно-морские спецшколы, двинулся на восток.
Он то мчался часами без остановок, то останавливался на неопределенное время, и тогда всюду на путях белели голые попы мальчишек — в теплушках, естественно, не было туалетов. Нам, девчонкам, дочерям преподавателей, приходилось туго — не уединишься…
А в глазах — и взрослых и «спецов» я снова была просто девочкой.
Словно мне приснилось все, что произошло совсем недавно, в тех проклятых, в тех незабвенных лесах. И странная, непонятная для других болезнь — «фронтовая ностальгия» — начала преследовать меня уже в этом эшелоне, увозящем от войны…
Наконец эшелон с хмурыми «спецами» затормозил в глухом таежном поселке Заводоуковка, под Тюменью. Ноябрь здесь был морозным и снежным — трудно пришлось мальчишкам в их пилотках и ботиночках.
Семьи преподавателей разместили в избах местных жителей.
Для того чтобы избежать волокиты, письмо с просьбой отправить меня на фронт я послала прямо на имя Верховного Главнокомандующего. Ответ не заставил себя ждать, но пришел почему-то… из районного, Ялуторовского, военкомата. В нем сообщалось, что «без особого указания женщин в армию не призывают». Здесь действовали законы тыла.
Вот когда я поняла, в какую ловушку невольно попала!
Но сдаваться не собиралась. Поступила на вечерние двухмесячные курсы медсестер военного времени, организованные при эвакогоспитале. Конечно, одновременно и работала — тогда нельзя было иначе. Сначала кассиром на молокозаводе, потом, поняв, что при моей «любви» к арифметике, попаду под суд, пошла на лесоповал.
Работа была адской, жизнь голодной и тоскливой, мои сверстники — «спецы» — казались мне детьми.
Среди этих «детей» был и Володя Комаров — будущий легендарный, трагически погибший космонавт.
Вот в пилоточке с отогнутыми на покрасневшие уши краями бежит он по сибирскому морозцу и ничего еще не знает о своей необычной, о своей звездной судьбе.
Космос! До него ли было тогда землянам? Московские мальчишки в Сибири бредили фронтом.
Я решила пойти в Ялуторовский райвоенкомат лично. Добраться туда можно было только пешком, по шпалам, оттопав двадцать с лишним километров, — обычно в Заводоуковке не останавливались никакие составы.
Шла я в самом радужном настроении. Меня осенила гениальная идея «потерять» паспорт (пусть попробуют затребовать дубликат из прифронтовой Москвы!) и прибавить себе годик или, еще лучше, два.
На полпути меня остановили мост через Тобол и грозный оклик пожилого усатого часового:
— Стой! Кто идет?
Тогда, ничтоже сумняшеся, я решила перебраться через реку по свободно плывущим бревнам — в те времена лес сплавляли не связанным в плоты, «молью».
У берега бревна плыли густо и медленно — перепрыгивать с одного на другое было просто. Но чем ближе к середине широченной реки, тем они шли реже, я уже с трудом сохраняла равновесие. А на середине просто-напросто стала тонуть…
Кроме себя, надеяться было не на кого. Я легла на скользкие, уходящие в воду и пытающиеся ударить меня по голове бревна, и неуклюже, как краб, переползала с одного на другое.
Говорят, бог хранит дураков. Только этим я могу объяснить, что все-таки добралась до противоположного берега.
Однако не успела я распрямиться, как снова услышала знакомое:
— Стой! Кто идет?
Не знаю, за кого принял меня молоденький круглолицый солдатик — за русалку или за диверсантку, но вид у него был испуганный.
— Стой! Стрелять буду!
Я увидела направленное на меня трясущееся дуло винтовки и по отчаянному лицу часового поняла, что он действительно выстрелит.
— Ложись! — прозвучал срывающийся юношеский тенорок, и одновременно щелкнул затвор.
Не раздумывая, я плюхнулась в ледяную воду и лежала в ней до тех пор, пока не появился какой-то заспанный командир. Меня под конвоем отвели в жарко натопленную каптерку.
Поняв, что я не вражеский лазутчик (при мне был комсомольский билет. «Вроде настоящий», — задумчиво сказал командир), меня сначала обругали хорошенько, а потом, дав обсушиться, даже остановили попутный товарняк, чтобы он подбросил меня до Ялуторовска.
Я и слыхом тогда не слыхала, что именно в этот городишко были сосланы некогда «опасные государственные преступники» — Пущин, Якушкин, С. Муравьев-Апостол, Оболенский и другие декабристы.
А совсем недавно написала:
Не раз и не два ходила я в военкомат.
А на фронте было очень тяжело. И каждая тревожная сводка, каждое сообщение о сданном городе больно отзывалось в слабом сердце отца. И случилось то, чего я всегда боялась, — сердечный приступ, потом парез, то есть частичный паралич. Лежал он жалкий, беспомощный, почти потерявший дар речи, не чувствуя, когда папироска, попадая в левую, парализованную часть рта, выпадала из омертвевших губ. А за ситцевой занавеской отделяющей нас от хозяев, кричали, смеялись и плакали дети…
Отца отвезли в районную больницу в Ялуторовск. Навещая его там, я всякий раз наведывалась в военкомат.
К счастью, вскоре отцу стало лучше, парез прошел. Но болезнь как-то изменила его личность. Он стал менее эмоциональным, менее ранимым и относился гораздо спокойнее к моему стремлению на фронт.
Долгожданная повестка, пришедшая ко мне третьего августа, совпала с днем выписки отца из больницы. Опять столкнулись лоб в лоб Личное и Общественное — не время, конечно, было покидать больного старого человека…
В военкомате меня заверили, что девичий наш эшелон (в Сибири провели мобилизацию молодых женщин) обязательно остановится в Заводоуковке. Поэтому я предложила отцу доехать до поселка вместе.
А эшелон Заводоуковку промахнул. И остановился где-то километрах в пятидесяти за ней. Отец вышел в глубокую ночь, на глухом полустанке. Как он доберется до дому? Слабый, не окрепший после болезни? И доберется ли вообще?.. Мысль об этом мучила меня всю долгую дорогу.
А жизнь готовила мне еще одно неожиданное испытание — первую встречу с подлостью.
Надо сказать, что в последние месяцы эвакуированным приходилось туго. Карточки почти не отоваривались, тряпки, взятые из дома, были давно обменены еду. Держались только на скудной пайке хлеба.
Целый день в Ялуторовске у меня не было во рту ни крошки. Поэтому я с особым нетерпением ожидала, когда выдадут сухой паек. Но оказалось, что предприимчивый интендант решил поживиться за счет мобилизованных девчат. Он отметил в продаттестатах, что нам якобы уже выданы продукты за три дня вперед…
С голодухи я и сама совершила не слишком красивый поступок. На одном из полустанков рядом остановился эшелон с эвакуированными ремесленниками. Голодные мальчишки высыпали на пути. Часть из них, как саранча, набросилась на неубранное картофельное поле — что мог сделать с ними сторож? Другие подлетели к женщинам, меняющим продукты на тряпки.
У меня оставалось единственное богатство — толстая тетрадка. Бумага тогда ценилась в Сибири очень высоко — ее перестали продавать, а школьникам надо же было на чем-то писать. Да и для писем на фронт сибиряки уже израсходовали последние клочки.
Со своим богатством я бросилась к женщине, у которой осталась последняя поллитровка молока. Вместе со мной ринулся и ремесленник лет четырнадцати. Одновременно я протянула торговке тетрадь, а мальчишка сорванную с плеч рубаху.
На секунду женщина заколебалась, но потом отдала предпочтение тетради.
Пацан отошел, понурясь. Лопатки у него торчали, как крылья у ангелов на полотнах старинных мастеров…
Эти несчастные пол-литра молока да неожиданный подарок — горячий обед в Новосибирске — помогли мне продержаться три дня.
Было и еще одно событие — баня:
Правда, я-то не бросилась «с визгом» к обмундированью, и зря — пришлось брать, что осталось, а осталось, естественно, самое плохонькое, уже БУ, и ремень не кожаный, а брезентовый, и не сапоги, а ботинки сорокового размера.
На мне все, конечно, болталось, как на вешалке, но я была счастлива: мечта моя была уже одета в реальную одежду — военную форму. К тому же мне выдали наконец сухой паек, кончились мои танталовы муки. Правда, из-за этого пайка, состоявшего из хлеба, сахара и невероятно соленой ржавой селедки, я чуть было не отстал от эшелона. Набросилась на селедку, потом стала погибать от жажды и на остановке рискнула побежать через пути к колонке с водой. А состав мой в это время двинулся…
…Эшелон шел на восток, говорили, что нас везут в военную школу. Я смирилась с этим — войне не было видно конца, вернусь на фронт, когда закончу школу. Курс военных наук проходили тогда молниеносно.
Высадились мы в Хабаровске. И стали курсантами ШМАС — школы младших авиаспециалистов. Проучившись полтора месяца, я должна была называться стрелком авиавооружения. Специальность эта не имела никакого отношения ни к стрельбе, ни к воздуху. Просто «стрелок» обязан был держать в боевой готовности самолетное вооружение — пулеметы, пушки, бомбы. Невозможно было придумать дела более мне противопоказанного.
В отличие от других девушек, в основном механизаторов и работниц от станка, то есть имеющих умелые руки, привычные к технике, я оказалась абсолютно неспособной воспринять то, чему нас учили. Моя бестолковость стала притчей во языцех. Даже по окончании курса мне с грехом пополам удавалось разобрать пулемет ШКАС или пушку ШВАК, но о том, чтобы их собрать… Вечно какие-нибудь части оказывались у меня «лишними».
А деваха, произносящая «шешнадцать» и «облизьяна», легко справлялась с металлическими чудовищами. Кстати, и обучающий нас сержант говорил «жыждется». Мое уважение к начальству было столь высоко, что я засомневалась в правильности своего произношения и тоже стала говорить «воинская дисциплина жыждется на…»
Такие же «успехи» я показала и на строевой подготовке… Единственная из всех никак не могла, например, усвоить поворот на месте или правильно выйти из строя. Девчонки помирали со смеху.
А как я их развеселила, когда пришла моя очередь мыть полы! Дома у нас был линолеум, который просто протирали влажной тряпкой, обернутой на половую щетку. А оказалось, что мытье полов — это настоящее искусство. Нельзя, например, ползать по полу, а нужно наклоняться, не сгибая колен — настоящий акробатический номер. Тряпку я тоже, оказывается, выжимала не по правилам. Вся школа сбежалась поглазеть на белую ворону. Даже строгий сержант не мог удержаться от улыбки.
Пусть смеются! Я-то знала, что оружейником мне все равно не быть и что на передовой обходятся и без строевой, и без мытья полов. Только бы выбраться на запад. Ведь в кармане гимнастерки, в комсомольском билете, у меня лежало свидетельство об окончании курсов медсестер!
Мы занимались по шестнадцать часов в сутки. Но кончилось и это. Опостылевшая ШМАС позади. Теперь уже — фронт.
И тут жизнь мне дала поддых так, что впервые я поверила — судьба… Мне вручили направление «для дальнейшего продолжения службы» в штурмовой авиаполк, базирующийся не на западе, а на… Дальнем Востоке!
Эскадрилья в моем лице получила хороший подарок! В первый же день, встав, чтобы дотянуться до боекомплекта, на перкалевую плоскость хлипкого биплана И-15-бис, я продавила ее. Вяло подумала: «Повредила самолет! Что теперь будет? А, не все ли равно!»
Через неделю (ноябрь здесь стоял морозный, с ледяным ветром) я додумалась унести в казарму пулеметную ленту, чтобы протереть ее в тепле — на морозе руки прилипали к железу, оставляя на нем клочья кожи. А ночью объявили боевую тревогу. Во время бега на аэродром, который находился в трех километрах от казармы, споткнулась, упала, со всего маху ударившись о мерзлую землю грудью, — за пазухой же лежала эта самая лента, я испугалась, что она взорвется от удара.
Летчик остался без пулемета… Мне грозила суровая и справедливая кара. Ну и что?..
Наступила моя очередь дежурить по эскадрилье — поддерживать огонь в печурках, не дающих застыть маслу в моторах самолетов. Я старалась изо всех сил, но печурки неумолимо затухали одна за другой. Я еще подумала, как это, черт возьми, возникают пожары? Здесь вот из кожи лезешь, а проклятый огонь гаснет…
На рассвете, обходя посты, комиссар увидел у входа в землянку винтовку, а в землянке меня, спящую сидя перед погасшей печкой.
Все моторы застыли. Случись боевая тревога, самолеты не смогли бы взлететь.
А здесь, на Дальнем Востоке, или, как его тогда официально именовали, ДВФ — Дальневосточном фронте атмосфера была предгрозовой. В эти ноябрьские дни сорок второго, когда на Волге началась великая битва, нам прочитали секретную разведсводку: как только падет Сталинград, с востока ударят японцы. То и дело диверсанты убивали часовых, взрывали самолеты.
И в такой обстановке заморозить эскадрилью!.. Пахло военным трибуналом.
Комиссар не дал ход делу. Человек старше меня лет на двадцать, он относился ко мне по-отечески.
К тому времени я стала просто доходягой — вид дистрофика, страшенный фурункулез, куриная слепота. Комиссар (как признался потом) уже подумывал о моем комиссовании на предмет демобилизации по состоянию здоровья.
Конечно, было очень трудно. Кроме своего основного нелегкого дела все мы, оружейники, были заняты на земляных работах: спешно строили капониры, доты, блиндажи.
Меня и так ветром качало, а тут еще надо было таскать неподъемные носилки с землей. Шла в полуобморочном состоянии, на одном только самолюбии, под презрительными взглядами других девчонок. Им, здоровым, привыкшим к физической работе, казалось, что я просто придуриваюсь, или, как тогда говорили, «сачкую». (Расскажи, что была уже в самом эпицентре войны, да еще добровольно — не поверили бы, засмеяли…)
И кормили нас, наземный состав, здесь, в тылу, негусто. Не вытравишь из памяти унизительной, три раза в день повторяющейся процедуры: дежурная несет доску, на которой лежат вожделенные пайки хлеба. Каждая девчонка еще издали нацеливается взглядом на тот кусок, который кажется ей побольше. Потом хватает приглянувшуюся пайку, порой руки сталкиваются, борются — я отвожу глаза. На доске остается один ломоть — мой.
Раздача супа тоже священнодействие, он разливается в алюминиевые миски по кругу, по одной ложке, сначала жидкость, потом гуща, с аптекарской точностью. Не дай бог, кому-то покажется, что налили неполную ложку!.. Оно и понятно: молодые, здоровые, занятые на тяжелой физической работе девахи.
Во время перерыва на обед у меня часто не хватало сил тащиться три километра до столовой. Валилась на землю и засыпала. И стеснялась попросить девчонок принести мне хотя бы кусок хлеба…
Да, конечно, было трудно. Но не тяжелее же, чем во время выхода из окружения? Однако тогда ко мне не пристала ни одна болячка!
Кончилось все госпиталем. Внесли меня туда на носилках, с высокой температурой и нечеловеческой болью в опухшей, как колода, и пылающей, как кумач, ноге: рожистое воспаление, флегмона, начинающееся заражение крови. В царапину на ноге попала вместе с землей инфекция, ослабевший организм не смог с ней бороться.
Сепсис ликвидировали быстро — какими-то уколами. А рожу с флегмоной стали лечить таблетками кирпичного цвета — красным стрептоцидом.
Я вдруг оказалась в раю. Лежи на койке, спи сколько хочешь, еду приносят прямо в постель, и совсем не такую, как в полку.
А красный стрептоцид действовал молниеносно — боль прошла, опухоль спадала на глазах. По-видимому, микробы тогда еще не приспособились к борьбе с лекарствами.
Я испугалась, что меня тут же выпишут из рая. Снова тяжелые земляные работы, недовольство технарей и летчиков, усмешки девчонок.
И пошла на преступление — не глотала чересчур эффективно действующие таблетки, а прятала их под подушку.
Однажды, перевернув подушку, я с ужасом увидела, что наволочка и простыня под нею стали кирпичного цвета. Тайком их застирала…
Десять блаженных дней в госпитале не только вылечили мое тело, но и душу — человек в юности подобен ваньке-встаньке. Отоспавшись, отдохнув, подкормившись немного, я стала смотреть на вещи по-другому. Снова ожила Надежда.
Войне все еще не видно конца. Почему я опустила руки, почему бы мне не попытаться драпануть и отсюда?
В полк я вернулась другим человеком. Все болячки как рукой сняло.
И работаться мне стало по-другому. В конце концов, даже медведицу можно научить ходить по проволоке…
А вооружение усложнилось — вместо устаревших И-15-бис нам прислали ИЛ-2 — бронированные, имеющие уже и реактивные снаряды штурмовики, прозванные фашистами «Черная смерть».
Понемногу пушка ШВАК и пулемет ШКАС перестали мне сопротивляться.
Решалась судьба Сталинграда. Мы ждали нападения японцев. Объявили готовность номер один. Летчики сидели в самолетах с прогретыми моторами, технари рядом. Бомбы были уже подвешены, оставалось только в случае боевого вылета, ввинтить в них взрыватели.
Во время одной тревоги, когда я под плоскостью регулировала положение бомбы специальными винтами, ребята, поддерживающие ее сверху, уронили эту стокилограммовку. Хорошо, что она только чиркнула мне по лбу стабилизатором… Впоследствии я шутила, что это было первое мое боевое ранение, причем от прямого попадания бомбы. Но тогда было не до шуток. Кровь заливала глаза, а инженер по вооружению честил меня же…
В Сталинграде шли уличные бои, и обстановка на ДВФ стала еще напряженнее.
Но когда фашистов под Сталинградом разгромили, напряжение на аэродроме спало. Постепенно мы и вовсе стали мирным гарнизоном. До такой степени мирным, что даже начала бурно развиваться художественная самодеятельность.
Здесь на сцене (в прямом и переносном смысле этого слова) неожиданно появилась я. Составленная мною по просьбе комиссара литературная композиция — мне пришлось исполнять в ней и роль ведущего — получила первую премию на смотре армейской самодеятельности.
Я легко писала новые тексты на мелодии популярных в то время строевых песен, и они вошли в быт нашего гарнизона. Бывало, по команде «Запевай!» грянут ребята гак, что у меня мороз по коже:
Простые, безыскусные, шаблонные слова, но они отвечали настроению летчиков, рвавшихся на фронт, и комиссар всячески поощрял меня к «творчеству».
Его уважение к моему интеллекту было так высоко, что мне даже поручили проводить занятия с летчиками по истории партии.
К сорок третьему году, когда в армии были введены погоны и новые звания, мне «присвоили ефрейтора» — так я стала отличным бойцом.
А «отличный боец» ломал голову над тем, как бы удрать, «дезертировать» на запад…
Навалилась беда, огромная, непоправимая беда. Умер отец.
С письмом матери в руках пришла я к комиссару — поделиться горем.
А комиссар сделал то, о чем я и мечтать не могла. Дал мне, «как отличному бойцу», в связи со смертью отца на несколько дней отпуск домой, то есть в Заводоуковку.
Прощай, разъезд Дубининский, село Михайловка! Прощай, ДВФ!
Все тяжелое, связанное с тобой, смягчится, просеется сквозь сито памяти, и останется только восемь строк:
До Заводоуковки я добралась без приключений. Ведь все документы (а проверяли их очень часто) были у меня в полном порядке.
Выйдя из поезда, прежде всего сожгла мосты обратно — порвала и выбросила свой железнодорожный воинский билет. Потом, не заходя домой, пошла на кладбище, в сосновый бор, который здесь называют «черным бором». Он и действительно черный — траур вековых сосен, похоронный гул ветра в их высоких вершинах.
Стояла над свежей могилой, вспоминала, думала.
Может быть, если бы я осталась с отцом, ничего бы и не случилось. Но поступить иначе я не могла…
Мой план был прост. Попроситься в первый же воинский эшелон, идущий на запад, сказав, что от своего эшелона я отстала и вот теперь догоняю его. У меня имелась красноармейская книжка, в которой был указан номер моей части, но конечно же не сказано, где она находится. И еще благодарность от командования «за успехи в боевой и политической подготовке» — это за самодеятельность. По-моему, ничто не должно было вызывать подозрений. Тем более что я ехала на запад, а не на восток.
А если меня все-таки разоблачат и сочтут дезертиром — тоже ничего страшного. Ну, пошлют в штрафную, то есть на передовую.
До Москвы я прекрасно доехала в теплушке с лошадями — меня охотно приютили два пожилых дядьки-коновода. Не пришлось и показывать документы. Дядьки только ворчали, зачем это девок на фронт берут — неужто мужиков уже не осталось? И усердно подкармливали, добродушно величая «шкелетиной несчастной».
В Москве (как же я, оказывается, по ней стосковалась!) разыскала Главсанупр, но там в бюро пропусков мне сказали, что имеют дело лишь с офицерами.
Зато в Главупре ВВС до меня снизошли. Я попала на прием к убеленному сединами полковнику. (С таким высоким начальством мне еще не приходилось общаться.)
Полковник оказался славным старичком. Он внимательно выслушал мою легенду, изучил красноармейскую книжку, пробежал глазами благодарность командования, спросил об образовании, улыбнулся и сказал, что… оставляет меня в отделе писарем, поскольку место это сейчас свободно, а я человек грамотный и, по-видимому (взгляд на благодарность), серьезный.
Этого еще не хватало! Я с ужасом пыталась отказаться от такой чести, но лицо полковника из добродушного стало каменным, он скомандовал: «Кругом марш, товарищ ефрейтор!» и добавил: «Завтра, в восемь ноль-ноль, будьте здесь».
…Дома, в перевернутой вверх дном квартире, на меня пахнуло тревожным ветром 16 октября 41-го года, того дня, когда многие москвичи, кто по приказу, кто по своей воле, покидали родной город. О, как я тогда была уверена, что скоро вернусь на фронт!
Неужели мой долгий, мой сложный, мой мучительный путь обратно был путем по замкнутому кругу?..
Что делать? На фронт самостоятельно теперь не доберешься ни пешком, ни на попутках — не сорок первый, тут же угодишь в военную комендатуру…
Ровно в восемь ноль-ноль я была в Главупре ВВС. Приняла дела, приступила к работе.
…Думаю, что писарь, сменивший впоследствии меня на моем посту, должен был разбираться в хаосе, какой я натворила, не меньше месяца. Бумаги были перепутаны, сшиты вверх ногами, залиты чернилами, часть из них вообще потеряна. Забыты и не переданы полковнику некоторые телефонограммы. На меня посыпались жалобы.
Это был саботаж, но отнюдь не открытый. Я делала вид, что стараюсь изо всех сил, да вот не хватает умишка да умения. И вообще малость того, без царя в голове…
Полковник был добрым человеком. Он терпел мои художества целых семнадцать дней. Пытался мне помочь, отечески наставлял.
Я смотрела на него преданным глупым взглядом и «старалась» еще пуще. Из-за меня бедный старик получил строгое взыскание от вышестоящего начальства.
Только тогда он вызвал меня к себе и дал направление на пересыльный пункт — в направлении черным по белому было написано, что я отстала от эшелона, идущего на запад.
Счастливая, я разыскала мрачноватое здание на Стромынке, отдала в окошечко красноармейскую книжку и сопроводиловку, потом вошла в указанную мне дверь, около которой стоял часовой.
Огляделась — большая пустая казарма. Только на полу два спящих солдата.
Постепенно казарма стала наполняться какими-то странными личностями — кто в шинели, подвязанной веревкой, кто в армейском ватнике и шляпе, а один даже в лаптях — где он их раздобыл?
Все заросшие, грязные, но как-то не по-окопному. В казарме, перебивая махорочный дух, повисла вонь перегара.
Мне стало не по себе. Я решила подождать на улице. Но не тут-то было. Часовой с лицом истукана и разговаривать со мной не стал — просто захлопнул перед моим носом дверь.
— Вот попалась, птичка, стой, не уйдешь из сети, — насмешливо пропел солдат, подвязанный веревкой.
— Не расстанемся с тобой ни за что на свете, — подхватил другой, в женском пальто.
— Да я сама сюда пришла! Понимаете, сама! — Меня душили слезы обиды.
— Ну конечно, сама, — понимающе подмигнул мне третий, — все мы сами.
Казарма заржала.
Стыд и злость сжали мне горло. Я поняла, что оказалась среди самых настоящих дезертиров — не тех, кто бежит из тыла на фронт, а тех, кто бежит с фронта в тыл.
Надо срочно звонить полковнику, чтобы он объяснил про меня кому надо. Но ведь отсюда и к телефону не выберешься…
Часа через два нашу бражку повели в санпропускник. Может, мне прикажут мыться вместе с мужиками? Теперь я уже ничему бы не удивилась.
Не заставили — и на том спасибо! Только протащили через полгорода. «Весело» было шагать в такой приятной компании под любопытными взглядами прохожих!
Пока мужчины мылись, вежливый инвалид попросил меня подождать в комнате с чистым бельем. Но отнюдь не вежливая толстуха, прошипев инвалиду «еще стянет что-нибудь!», вытолкнула меня в зловонный чулан с грязными обмотками. Здесь, в одиночестве, я разревелась от унижения и беспомощности…
Пусть читатель не посетует на меня за то, что в этих записках я останавливаюсь на прозаических, неромантических страницах своей жизни на войне.
Здесь есть определенная логика. Обо всем, что можно назвать романтикой войны, я пишу всю жизнь — в стихах. А вот прозаические детали в стихи не лезут. Да и не хотелось раньше их вспоминать. Теперь вспоминать это «все» я могу почти спокойно и даже с некоторым юмором…
После санпропускника нас вернули на пересылку, накормили и стали вызывать куда-то по одному.
Дошла очередь и до меня. Три офицера, сидевшие за голым столом, посмотрели на меня с доброжелательным любопытством, а старший по званию протянул мне мою красноармейскую книжку:
— Как тебя занесло сюда, дочка? Сейчас отправляйся на сборный пункт, а оттуда — в часть. И не отставай больше от эшелона.
На сборном пункте, размещенном в здании школы, порядки были помягче, чем на пересыльном, но и там стоял часовой. Правда, только в проходной, у ворот. А так — разгуливай, пожалуйста, по всей школе. Даже можешь выйти во двор воздухом подышать.
Один из классов выделили для девушек. Их было человек тридцать. Кто спал, кто бренчал на гитаре, кто читал, кто писал. Шел ленивый треп.
Все девчата попали на сборный уже после того, как отлежали в Центральном военном женском госпитале, — был, оказывается, такой в Москве. Я смотрела на этих бывалых солдат снизу вверх, с почтением новобранца и с некоторой завистью.
Кто-то из них уже отвоевался, комиссовали подчистую. Кто-то надеялся получить вызов из своей части: «Сам комполка обещал!» А большинство, как невесты на выданье, покорно дожидались «сватов».
Прошло несколько дней. Утром приходил прихрамывающий старшина и выкрикивал несколько фамилий, добавляя: «С вещами, на выход!» Девушки, привычно взяв свои солдатские сидоры, уходили, а на их место приходили другие.
Меня била горячка нетерпения.
И — дождалась…
Старшина появился сияющий:
— Ну, бабоньки, отвоевались!
— То есть как?
— Пришло указание вашего брата в Действующую из тыла не посылать. Теперь уж мы, мужики, и сами справимся.
— А нас куда?
— В бабий, то есть, конечно, извиняюсь, в женский запасной полк. Будете там, как с роду положено, нас, мужиков, обстирывать да обшивать. Так что поздравляю! Живыми останетесь и не увечными.
Если бы я, как героини Лидии Чарской, умела падать в обморок, то грохнулась бы об пол. Но, увы, я осталась в полном сознании — в полном сознании того, что все рухнуло. Даже смешно — вывернуться наизнанку только для того, чтобы стать прачкой в бабьем батальоне!
И до меня не сразу дошел смысл того, что, уходя, добавил старшина:
— Окромя, конечно, тех, кто, значит, медики. Без них пока обойтиться не можем. Больно много медицины ТАМ выбивает.
И ушел, прихрамывая.
Вот он, выход! Я же все-таки медсестра! Только где оно, свидетельство об окончании курсов? Полезла в карман гимнастерки — нету!.. Господи, да я же оставила его дома, боясь потерять, когда работала в Главупре ВВС!
Как теперь добраться до этой бумажки?
Дождавшись темноты, я вышла во двор, подкараулила момент, когда часовой закрывал ворота за выехавшей машиной, и быстро юркнула в медленно смыкающуюся щель, которая была чуть светлее остальной кромешной тьмы. В Москве пока не сняли светомаскировку. Ведь немцы могли еще бомбить столицу — например, с белорусских аэродромов.
Наш сборный пункт находился рядом с Комсомольской площадью — в получасе ходьбы от моего дома.
С колотящимся сердцем влетела я в комнату, перевернула трясущимися руками все бумаги на захламленном столе, ничего не нашла, впала в отчаяние и… вдруг увидела на полу заветное, стершееся на сгибах удостоверение.
Утром, в час завтрака (солдат строем водили в какую-то городскую столовую), я незаметно присоединилась к девчатам. А вернувшись на сборный пункт, с торжеством вручила драгоценное удостоверение старшине. Он пожал плечами и пробормотал: «Жизнь молодая надоела?»
Но видимо, медики и впрямь до зарезу были нужны Действующей армии: уже на другой день я получила направление в санупр Второго Белорусского фронта.
Я бежала на Белорусский вокзал, а в голове неотступно крутилось: «Нет, это не заслуга, а удача — стать девушке солдатом на войне, нет, это не заслуга, а удача…» А дописалось стихотворение лишь два десятилетия спустя:
Мне сказали, что санупр находится в только что отбитом Гомеле. Сначала, пока не оборвались рельсы, ехала в обычном поезде — не в теплушке, а в пассажирском составе. Потом на попутках. Затем добиралась на своих двоих.
В Гомеле, вдребезги разбитом, безлюдном (вообще в Белоруссии я не встретила тогда ни одного гражданского человека — в этом Партизанском крае все, кого не успели уничтожить фашисты, ушли в леса), санупра уже не было. Догнала его в какой-то деревушке, состоявшей из одних труб. И получила направление в 218-ю Ромодано-Киевскую стрелковую дивизию.
Дивизия эта, только что переформированная после тяжелых боев на Украине, была уже на марше, шла к передовой, когда я наконец догнала ее. На КП полка получила направление в санвзвод батальонным санинструктором.
Два с лишним года понадобилось мне, чтобы вернуться в дорогую мою пехоту. Но, как это ни странно, я попала в обстановку, напоминавшую сорок первый.
Войска наши, стремительно продвинувшиеся вперед на всех фронтах, прочно застряли в Белоруссии. Таким образом, в самом центре советско-германского фронта в конце сорок третьего года образовался огромный, направленный на восток выступ — «Белорусский балкон». Немцы называли его неприступным восточным валом.
Болотистые леса, то и дело пересекаемые реками, холмы, то есть высотки, господствующие над местностью, — каждый метр был укреплен, огражден минными полями, ощерен несколькими рядами колючей проволоки. Здесь вцепилась в землю группа фашистских армий «Центр», численностью в один миллион двести тысяч человек (цифру эту я, естественно, узнала уже после войны).
Зима тогда стояла гнилая, похожая на позднюю осень. В этих проклятых болотах и окопа-то нельзя было отрыть как следует: ковырнешь землю поглубже — вода. Меня вечно мучила одна неразрешимая проблема: что хуже — валенки или сапоги?
В валенках теплее, но они впитывают воду, как губка. В сапогах сухо, но зато ноги сразу же превращаются в ледышки…
Наши войска шли по насквозь простреливаемой местности в лоб на пулеметы, полегшие батальоны заменялись другими, снова перемалывались, их опять сменяли новые.
Одной из дивизий, брошенной в эту беспощадную мясорубку, была и моя Ромодано-Киевская.
У доживших до Победы солдат переднего края, особенно пехотинцев, обычно не остается однополчан, не остается товарищей по окопу — слишком мал процент уцелевших…
Но мне повезло. Уцелел командир моего санвзвода Леонид Кривощеков. И не только уцелел, но и стал писателем. И не только стал писателем, но в одном из своих рассказов вспомнил о нашем батальонном медпункте, о Герое Советского Союза Зине Самсоновой, о Марусе — втором санинструкторе — и немного о третьем санинструкторе, то есть обо мне, пришедшей на место убитой Маруси.
Не без некоторого смущения я позволю себе привести цитату из этого документального рассказа, для того чтобы подчеркнуть — даже невыносимо тяжелая, грубая, жестокая проза войны не могла выбить из меня того, что отец называл когда-то детской романтикой.
«Впечатлительная московская девочка начиталась книг о героических подвигах и сбежала от мамы на фронт, — пишет Л. Кривощеков. — Сбежала в поисках подвигов, славы, романтики. И, надо сказать, ледяные окопы Полесья не остудили, не отрезвили романтическую девочку. В первом же бою нас поразило ее спокойное презрение к смерти… У девушки было какое-то полное отсутствие чувства страха, полное равнодушие к опасности. Казалось, ей совершенно безразлично, ранят ее или не ранят, убьют или не убьют. Равнодушие к смерти сочеталось у нее с жадным любопытством ко всему происходящему. Она могла вдруг высунуться из окопа и с интересом смотреть, как почти рядом падают и разрываются снаряды… Она переносила все тяготы фронтовой жизни и как будто не замечала их. Перевязывала окровавленных, искалеченных людей, видела трупы, мерзла, голодала, по неделе не раздевалась и не умывалась, но оставалась романтиком…»[1]
О «презрении к смерти». Мог ли понять боевой офицер, воюющий с первого дня Великой Отечественной, уже не единожды раненный, одну парадоксальную вещь: после всего, что мне пришлось преодолеть по дороге на фронт, поначалу в окопах я испытывала только чувство страха, что меня… отзовут в тыл. (И такие попытки были. Когда девушка оказывается одна среди сотен мужчин, порой она попадает в сложную ситуацию — из песни слова не выкинешь…)
А неуемное любопытство? Может, оно было просто неосознанным проявлением того, что называется творческим началом — подсознательным стремлением ничего не пропустить, все заметить, все сохранить в тайниках памяти?..
И самое главное — счастливое сознание, что я делаю основное дело своей жизни.
Ведь медик на переднем крае, может быть, самый необходимый человек. Больше всего солдат боится, что его, раненного, беспомощного, могут бросить — на войне бывало всякое.
Сколько ребят тайком отводило меня в сторону и просительно бормотало: «Ты уж меня, сестренка, не брось в случае чего. А если тебя ранят, я вынесу».
Поначалу такие просьбы меня даже сердили — ну как может быть иначе? Разве это не долг мой?.. Потом привыкла.
И если солдаты видят, что санинструктор никогда не оставит их в беде, то платят ему братской любовью и безграничным уважением. А это дорогого стоит…
Через несколько дней после моего прибытия в батальон, дивизия наша прямо с марша атаковала село Озаричи.
Совсем недавно я прочитала в мемуарах генерала армии Батова: «20 января 1944 года после упорного боя войска армии овладели одним из самых сильных опорных пунктов обороны врага — Озаричи».
Бой действительно был упорным, но об одном — трагическом — недоразумении командарм не мог знать.
Захватив село (помня, как «заблудилась» когда-то в первом своем бою, я держалась возле комбата), мы перескочили через какую-то речушку и, возможно, с ходу бы заняли деревню Холмы, если бы по нас не ударила своя же дальнобойная артиллерия. Не знали еще в тылу, что мы продвинулись вперед…
Нам пришлось опять отойти за речку, оставив убитых. «Немногие вернулись с поля…»
Вернувшиеся же, проклинающие все на свете, насквозь промокшие славяне решили согреться — где-то нашли спирт. Из-за этого «сугрева» кое-кто потерял зрение, попал в госпиталь. Со спиртом-сырцом шутки плохи.
А очухавшиеся фашисты так укрепились в Холмах, что вышибить их оттуда удалось только летом сорок четвертого, когда по всей Белоруссии началось общее наступление.
Конечно, взятие Холмов не изменило бы тогда, зимой, хода событий, но сколько наших солдат осталось бы в живых! После войны я побывала в Холмах, посмотрела на Озаричи «со стороны немцев». Село оттуда — как на ладони. Когда шли в атаку наши батальоны, их косили из пулеметов, как движущиеся мишени.
За озарический бой я получила первую свою, и самую дорогую, солдатскую награду — медаль «За отвагу». Пошла за ней в тылы, в полк. В заснеженном леске перед вручением наград комполка произнес речь, начинавшуюся таким обращением: «Дорогие орденоносцы и медальоны!»
В одной из атак на Холмы была убита Зинаида Самсонова, Зинка — девушка, о которой на нашем фронте уже ходили легенды:
Эти восемь строк я исключила из окончательной редакции своего стихотворения «Зинка». По чисто литературным соображениям (ну, например, что за рифмы «пехоте — роты», «поспать — слагать»?). Однако восьмистишие это свято отразило истину. Недаром солдаты острили, что «Зинка командует батальоном!» Она всегда была впереди, а когда впереди девушка, можно ли мужчине показать свой страх? И тот, кто вдруг заколебался, кто не в силах был подняться под ураганным огнем, видел перед собой спокойные серые глаза и слышал чуть хрипловатый девичий голос: «А ну, орел, чего в землю врос? Успеешь еще в ней належаться!»
В батальоне нас, девушек, было всего две. Спали мы, подостлав под себя одну шинель, накрывшись другой, ели из одного котелка — как тут не подружиться?
Немного времени отпустила нам на дружбу война, но ведь даже по официальной мерке один день на фронте засчитывается за три. А бывает, что и за всю жизнь не переживешь того, что за день или даже за час в бою…
Зина умерла, так и не узнав, что ей присвоено звание Героя Советского Союза.
…Бьются в постромках испуганные лошади, уходя под воду, и отчаянно пытается вытянуть их на другой берег реки бессильно матерящийся боец.
Идут солдаты по колено в густой грязи, при полной выкладке, пэтээровцы тащат на себе тяжеленные противотанковые ружья, минометчики — длинные трубы минометов, санитары — носилки. Какое нечеловеческое напряжение на измученных лицах солдат!
На войне «невозможное стало возможным» — например, не спать трое суток. Засыпали на ходу — как кто заснет, так его и повело в левую сторону. Обязательно в левую. И я знаю, — почему. Ведь направо, за обочиной, лежала обычно еще заминированная земля. Ступишь на нее — взлетишь на воздух. Об этом солдат «помнил» и во сне. Теперь бы сказали, что он был «запрограммирован» на левую сторону, к центру дороги, а не к ее обочине, за которой притаилась смерть… И конечно, никаких регулировщиц. Там, где они могут стоять, — по фронтовым понятиям, уже глубокий тыл. На переднем крае и прилегающей к нему полосе движение «регулируют» снаряды и мины.
И сколько раз случалось — нужно вынести тяжело раненного из-под огня, а силенок не хватает. Хочу разжать пальцы бойца, чтобы высвободить винтовку — все-таки тащить его будет легче. Но боец вцепился в свою «трехлинейку образца 1891 года» мертвой хваткой. Почти без сознания, а руки помнят первую солдатскую заповедь — никогда, ни при каких обстоятельствах не бросать оружия!
Девчонки могли бы рассказать еще и о своих дополнительных трудностях. О том, например, как, раненные в грудь или живот, стеснялись мужчин и порой пытались скрыть свои раны… Или о том, как боялись попасть в санбат в грязном бельишке. И смех и грех!..
Позиции же наши пустели, окопы становились безлюдными. Тех, кого пощадили пули и осколки, косил сыпняк. Все тифозные проходили через землянку санвзвода, лежали на еловых ветвях, набросанных на полу, но, несмотря на это, никто из медиков не заболел…
Спасибо еще, что из-за пасмурной погоды нас редко бомбили — низкое серое небо прижало авиацию к земле. Да и танки с самоходками не очень-то могли разгуляться в этой болотной глухомани. Но порой они все же появлялись. И однажды только мое неуместное любопытство вызволило санвзвод из довольно тяжелой ситуации. Вот как пишет об этом Леонид Кривощеков:
«Помню, как-то раз заскочили мы в хату, нашли в печке немецкий котелок с полусырой горячей картошкой и принялись уплетать ее. Немцев только что выбили из села, они контратакуют, а мы нажимаем на картошку. Новенькая тоже взяла картофелину, но отошла к окну: все любопытствует. Вдруг она огорошивает нас:
— На улице, кажется, немецкие танки?
Бросаюсь к окну — и прямо перед собой вижу танк с крестом на броне, за ним идет другой, третий! Хватаю девушку за руку:
— Бежим!
Бежим огородами, падаем в какую-то канаву и оглядываемся кругом: где свои? Три немецких танка сворачивают с дороги, выскакивают из села и идут куда-то в сторону, вдоль фронта. Наши пушки развернулись и бьют по ним…»
А вражеская артиллерия свирепствовала вовсю, обрушивая на наши окопы тысячи тонн металла. Особенно мучительными казались мне «методические обстрелы», то есть такие, когда снаряды рвутся по одной линии и через определенные промежутки, допустим, через каждые двадцать метров.
Однажды артобстрел застал санвзвод в окопе. Лежим мы, вжавшись в землю, и понимаем, что следующий снаряд наш.
Действительно, снаряд тяжело ударяет прямо в бруствер и зарывается в него. Слышно негромкое шипение — наверное, от соприкосновения со снегом. Застыв, мы ожидаем взрыва. А его нет. Шипение затихает. Не взорвался, что-то не сработало!
«Уйдем-ка все-таки от греха подальше!» — говорит командир, и мы выскакиваем из окопа.
Это чудо с неразорвавшимся снарядом было одним из тех обыкновенных чудес войны, благодаря которым человек возвращался с передовой живым…
Здесь, в белорусском Полесье, я столкнулась и с самым жутким, что может быть на войне.
На нашем участке фронта плечом к плечу с немцами стояли власовцы — солдаты из армии предателя Родины генерала Власова.
Одетые в советскую форму, особенно страшные тем, что говорят на одном с нами языке, власовцы были во сто раз опаснее своих хозяев. Ведь они могли спокойно проходить за своих — поначалу так и было.
Сколько солдат погибло от рук этих выродков!
Страх не отличить власовца от своего преследовал всех. Бредешь, бывало, по ходу сообщения и услышишь вдруг шаги идущего навстречу — сердце останавливается: свой или?.. Хватаешься за оружие, и, пока выяснишь, кто да что, поседеешь…
Стоял мартовский прозрачный денек. Между санвзводом и окопами переднего края лежало голое, насквозь простреливаемое немецким снайпером поле. Никто уже не рисковал идти через него при дневном свете — снайпер бил без промаха. А в обход по опушке леса нужно было давать несколько километров крюку. Мы же измотались до предела. Мучили и хронический холод (костров, естественно, разводить было нельзя, спали на мокром снегу, подложив одну полу шинели под себя и накрывшись другой), и хронический голод — из-за распутицы тылы наши оторвались, кормежка была один раз в сутки — холодный «ППС», то есть «постоянный пшенный суп» без соли, да черные сухари. И когда в санвзвод добрался с передовой легкораненый боец с приказом комбата прислать санинструктора, я решила идти напрямки, через поле.
Не помогли уговоры товарищей. Я сняла ушанку, чтобы видны были волосы, сменила ватные брюки на защитного цвета юбку, перекинула через плечо сумку с красным крестом (обычно для удобства я просто набивала бинтами карманы — попробуй-ка поползай под огнем с сумкой!) и в рост медленно пошла через поле.
Это было не безумием отчаяния, не равнодушием предельной усталости. Я почему-то твердо верила, что снайпер не станет стрелять в девчонку-медсестру.
И чудо свершилось — поле промолчало…
Вскоре отнюдь не при героических обстоятельствах (забежав в погреб полуразрушенной хаты, я набивала котелок кислой капустой для раненых) и меня ранило — в шею впился крохотный осколок от разорвавшейся перед хатой мины. Ранение поначалу показалось мне пустяковым, я попыталась сама вытащить осколок, но не смогла. Дело осложнялось тем, что рядом проходили кровеносные сосуды. Задень их, вызовешь опасное кровотечение.
Я боялась обратиться к своему военфельдшеру. Понимала, что он отправит меня в санроту, оттуда, глядишь, зашлют в санбат, а потом и вовсе угодишь в госпиталь.
Из госпиталя же, ясное дело, обычный батальонный санинструктор ни за что в жизни не получит назначения в свою часть. А между тем «солдатский телеграф» разнес по окопам и землянкам долгожданную весть о том, что скоро нас отведут на переформировку. И по всему было ясно — дело идет к тому. Вот на переформировке можно будет и обратиться к врачу.
Я перебинтовала шею и часть головы, сказав, что там у меня громадный фурункул. Подозрения это ни у кого не вызвало — весь батальон ходил в чирьях.
А потом мне стало плохо — ломило голову, мучил жар. Идти было мукой, счастьем казалось лежать на снегу…
«Солдатский телеграф» не подвел. Вскоре нас отвели в тыл. Сменившие нас новенькие смотрели на меня с жалостью и страхом. По их глазам я поняла, как выгляжу. А осколок зеркала давно был мною потерян…
Сначала мы долго месили распухшими ногами весеннюю грязь. Потом погрузились в теплушки и доехали до города Нежина. Нас расположили на отдыхе в соседнем селе по имени Шатура, в хатах местных жителей.
И здесь мне стало совсем худо. Пришлось лечь в санбат.
Хирург обеспокоился — образовался чудовищный абсцесс, а осколок застрял рядом с сонной артерией. Извлекать его пришлось под общим наркозом. И это было ужасно, поскольку мальчик-санинструктор не умел правильно накладывать маску. Хирург кричал на него, парнишка терялся еще больше, руки у него дрожали, а я то мучительно задыхалась, то снова приходила в себя, чтобы снова начать задыхаться…
Операция прошла нормально. Скоро сняли швы, однако почему-то продолжала держаться высокая температура. А однажды, сплюнув в платок, я увидела кровь.
Сделали рентген. Легкие оказались черны — врач сказал, что это последствия крупозного воспаления легких, перенесенного в окопах. (Весь батальон, наверно, переболел в Полесье пневмонией. Ведь не было никого, кто бы надрывно не кашлял. Но кто на это обращал там внимание?..)
Меня переложили в отделенный простынями уголок, где лежали двое доходяг с открытым туберкулезом легких. Тогда это считалось страшной, неизлечимой болезнью.
У нас была отдельная посуда, медперсонал заходил к нам в марлевых масках.
Я скисла. Героический конец! На войне умереть от чахотки…
Примерно через месяц закончилась переформировка. Дивизию перебрасывали на какой-то другой фронт. В санбате начала работать комиссия по рассортировке раненых и больных — кого обратно в часть, кого в команду выздоравливающих, кого в эвакогоспиталь, а кого и домой.
Меня отправили в туберкулезный эвакогоспиталь, в Горьковскую область.
Пока я добиралась туда на медленном санитарном поезде, пока в госпитале дошла до меня очередь пройти через рентген, легкие мои, должно быть, излечились сами собой. Во всяком случае, о туберкулезе не было и речи. Врач-рентгенолог, внимательно изучив снимок, спросил меня недоумевающе: «Почему вас направили к нам?»
В тыловом госпитале было голодно и муторно. В громадной палате я оказалась единственной женщиной, но, по фронтовой привычке, не находила в этом ничего особенного. Однако мужчин мое присутствие смущало — приходилось придерживать язык. Каждого вновь прибывшего торопливо предупреждали: «Учти, здесь девушка».
Обычно новичок обводил всех глазами, не задерживая на мне взгляда, потом махал рукой, считая, что его разыгрывают.
Когда же ему указывали на меня, следовал один и тот же недоверчивый вопрос: «Этот пацан?»
Действительно, худющая, в мужском белье, с забинтованной, обритой из-за раны головой, я ничем не отличалась от пацана. В меня даже влюбилась курносенькая девочка-официантка. Ребята, развлекаясь, поддерживал ее в этом заблуждении, я поначалу тоже, поскольку девочка подкидывала мне то лишний кусочек хлеба, то лишний половник жидкого супа. Но потом я была вынуждена признаться в этой глупой мистификации. Получила увесистую оплеуху — в общем-то, за дело.
В госпитале впервые за всю войну меня вдруг снова потянуло к стихам. Впрочем, «потянуло» — не то слово. Просто кто-то невидимый диктовал мне строки, я их только записывала. Этот невидимый назывался Войной…
Из госпиталя меня отправили домой. В свидетельстве о болезни (сохраняю орфографию подлинника) было написано: «Неокрепшие рубцы шеи после ранения, остаточн. явления правосторонней плевропневмонии, малокровие, упадок питания. На основании ст. 25 гр. I расписания болезней приказа НКО СССР 1942 г. за № 336 признано: негоден к военной службе с исключением с учета. Инвалид 3 группы 6 мес. Следовать пешком да может. В сопровождающем нет не нуждается».
Я думала тогда, что моя фронтовая биография закончена и, честно говоря, в тот момент не слишком этим огорчилась. Устала очень и, главное, мечтала поступить в Литературный институт.
«Следовать пешком» из Горьковской области до Москвы было трудновато. Пришлось с боем брать поезд — хорошо, помогла немолодая проводница.
Состав был переполнен так, что и стоять-то удавалось лишь на одной ноге. Почти все возвращались из госпиталей, так что забинтованная голова не давала мне никаких привилегий.
Правда, когда поезд тронулся, народ как-то поутрясся, и однорукий одноглазый инвалид уступил мне часть скамейки:
— Садись, пацан!
Пацан так пацан — я не стала его разубеждать.
Инвалид ехал жениться — не на определенной женщине, а отправлялся в «свободный поиск»: в какую-то только что освобожденную деревню, где «мужики теперь, прасло, нарасхват, не важно есть ли руки-ноги, главное, прасло, чтоб другое осталось».
Пошел мужской разговор. И прасло, мне пришлось сделать вид, что я сплю. Ведь если кто-нибудь догадается, что я не пацан, со стыда хоть на ходу с поезда, прасло, прыгай…
Закрыв глаза, я и в самом деле задремала. И тут инвалид тронул меня за плечо:
— Пацан, а пацан!
— Ну, чего вам?
— Давай, пацан, махнемся. Ты мне сапоги, я тебе — ботинки да сальца кусман. Больно ты, прасло, заморенный!
— Может, и обмотки в придачу? — усмехнулась я. Но ирония моя не попала в цель.
— О чем разговор, пацан! — обрадовался инвалид и начал разматывать обмотку.
— Чего к девке пристал, недоумок? — оборвала его проходящая мимо проводница.
— К какой девке? — вытаращился на нее оборотистый инвалид.
К счастью, состав подходил к большой станции. Народ задвигался — многие здесь сходили, и я быстро шмыгнула в другой вагон.
В Москве, выйдя из метро, увидела у ларька толпу возбужденных женщин. Я заинтересовалась, что дают? Ответ меня ошеломил — журнал мод…
Чувство было такое, словно я попала на другую планету, в другое измерение…
И тут по дороге домой я совершила странный поступок: зашла в комиссионку и на все выданные в госпитале деньги (до этого я и не знала, что солдату что-то полагается, — да и что делать с дензнаками на переднем крае?) купила… шелковое черное платье.
На другой день надела поверх этого платья гимнастерку без погон, начистила сапоги и пошла в собес. Надо же встать на учет, чтобы получить продовольственные карточки и пенсию.
Иду, голова забинтована, медаль позвякивает. А сзади два мальчугана лет по десяти обмениваются мнениями. «Партизанка!» — говорит один восторженно. Я еще выше задираю нос. И здесь слышу реплику второго: «Ножки-то у нее, как спички. Немец ка-ак даст, они и переломятся!»
Вот дураки!
А пенсию мне назначили размером в сто пять рублей — десять с полтиной в переводе на нынешние деньги.
Выхожу из собеса и тут же наталкиваюсь на продавщицу мороженого — чудо, не виданное мною с отрочества, оборвавшегося в сорок первом.
Продавалось это чудо, конечно, по коммерческой цене: тридцать пять рублей за порцию. Ровно треть моей пенсии.
Я чувствовала себя преступницей, но противиться искушению не могла… И никогда — ни до, ни после — не ела я ничего более вкусного. К тому же мороженое было тогда не только лакомством, но и едой. А мне, конечно, ужасно хотелось есть.
После недолгой внутренней борьбы купила и вторую порцию. А покончив с ней, вполне логично рассудила, что на оставшиеся 35 рублей до конца месяца все равно не проживешь, и купила третью…
Никогда я не жалела об этом поступке! Волшебное, сказочное, заколдованное мороженое! В нем были вкус возвратившегося на мгновение детства, и острое ощущение приближающейся победы, и прекрасное легкомыслие юности!..
Уладив материальную сторону жизни, пошла улаживать и духовную — с трепетом направила свои стопы на Тверской бульвар, 25, в Литературный институт имени Горького.
Встретила меня высокая пышноволосая женщина с добрым и энергичным лицом — Слава Владимировна Ширина, парторг.
Отнеслась она ко мне очень сердечно — пришла раненая фронтовичка.
Но Слава Владимировна была человеком предельно честным.
«Да, да, — мягко сказала она, — в твоих стихах есть искренность, теплота. Но у кого из девушек нет этих качеств». И окликнула эффектную, ярко накрашенную и броско одетую студентку: «Прочитай-ка что-нибудь!»
Студентка стала читать. И тут я поняла, что сунулась суконным рылом в калашный ряд.
Я просто-напросто не могла даже понять того, что декламировала поэтесса, хотя слова она произносила отчетливо, со вкусом. Пока я задумывалась над смыслом одной виртуозно закрученной строки, студентка читала следующие, закрученные еще более лихо. Очень скоро я перестала и пытаться что-либо понять.
«Вот как надо писать!» — снова повторила Слава Владимировна. Подавленная или, точнее, раздавленная, ушла я из «дома Герцена». В справедливости столь высокого и беспристрастного суда сомневаться было невозможно. Значит, прав отец, предупреждавший меня, чтобы я не принимала своего детского увлечения стихами всерьез…
Но куда же я теперь денусь? Правда, как фронтовичке, мне была открыта дорога в любой институт — без экзаменов. Но это казалось таким же невозможным, как брак без любви. Или Литинститут, или… ничего!
Жизнь оказалась пустой. И эту пустоту снова заполнило то, что я называю фронтовой ностальгией. Я знала, как нужна ТАМ, и привыкла быть необходимой, и мне уже было трудно обходиться без сознания этой необходимости. А кому я нужна здесь, я, бездарь, невесть что возомнившая о себе?..
Промаявшись так около месяца, пошла в военкомат со слезной просьбой — направить меня на фронт. Послали на медкомиссию. Волнуясь, спрашиваю после рентгена легких врача: «Что, плохо?» А он, бедняга, с виноватым таким видом отвечает: «Нет, все в порядке», — думал, наверное, что огорчит меня своим ответом…
И вот я, снова в погонах старшины медслужбы, еду в городок, где стоит на переформировке 1038-й КСАП — Отдельный калинковичский самоходный артполк. Калинковичи — тоже белорусское Полесье. Значит, были соседями. Но среди самоходчиков много совсем зеленых, не нюхавших пороха, только что с курсантской скамьи. Чувствую себя рядом с ними старым солдатом, хотя они мои сверстники. Юнцы с уважением косятся на красную нашивку за ранение.
Командир санвзвода — пожилой мужчина, доброжелательный и деликатный. Но к сожалению пьет отчаянно. (Говорят, всю его семью заживо сожгли в Белоруссии фашистские каратели.) Упившись, мирно ложится спать в нашу палатку, а я караулю, стараясь уберечь от начальства.
И вот — не уберегла. Дорвавшись до спирта из НЗ, заснул мертвецким сном, а в это время в санвзвод заявился какой-то генерал от медицины.
Расталкивали храпящего военфельдшера — не растолкали. И откомандировали куда-то бедолагу. Жаль…
Взамен объявился молодой и отнюдь не симпатичный. Подобострастный с начальством, высокомерный с подчиненными. Ну, посмотрю на него в бою — там лакейские качества не пройдут. Нового фельдшера прозвали в полку «Палеодор» — за привычку напевать в хорошем настроении «Палеодор, смелее в бой!»
Кроме меня в полку есть еще одна девушка-санинструктор — Лена. До войны — грузчица. Высоченная, широченная, из тех, про кого говорят «неладно скроен, да крепко сшит». Ее все называют «большой старшиной», а меня «маленькой старшиной» — по сравнению с ней я, которую по довоенным «доакселератским» меркам считали рослой, кажусь малюткой.
Повар тоже девушка. Раскормленная, избалованная, нагловатая. Успела обидеть старого военфельдшера. Взяла на танцы его офицерские брезентовые сапожки, да так и «позабыла» их отдать. А он стеснялся спросить…
Теперь сапожки эти обтягивают толстые икры Лидки, напоминая мне о бедном фельдшере.
И конечно, меня раздражает, что она охотно принимает дежурные офицерские ухаживания. Из-за таких вот тыловых потаскушек и родилась оскорбительная кличка «ППЖ» — «полевая походная жена»…
Мне и Лене выдали темно-синие комбинезоны — точно такие, как в санитарной дружине. Но тогда, в самом начале войны, я и не знала, что они — танкистские. Не знала и того, что от танка самоходка отличается лишь тем, что не имеет крутящейся башни — для того, чтобы выстрелить в нужном направлении, самоходная пушка должна развернуться сама.
В начале августа наш полк погрузился в эшелон, на открытые платформы. Боевые расчеты находились в самоходках, штабные и спецслужбы — в своих машинах.
Нам дали зеленую улицу, и мы молниеносно долетели до Прибалтики.
Я как бы продолжала свой путь на запад в том же направлении, в каком его начала, — Третий Белорусский фронт, продвинувшись летом вперед, стал фронтом Прибалтийским.
Выгрузившись на латвийской земле, полк пошел дальше своим ходом — на гусеницах и колесах. Сидя в удобной санитарной машине, я чувствовала себя, словно на пикнике.
Вообще быт самоходчиков оказался неизмеримо легче, чем быт пехотинцев: ни изматывающих пеших маршей, ни окопной грязи с сопутствующими ей «автоматчиками». Но я тосковала по пехоте — сердце мое осталось там…
Первое, что меня удивило в Прибалтике, это огромное количество техники — и нашей, и вражеской: самолетов, танков, русских «катюш», немецких «андрюш», или «скрипачей» (шестиствольных минометов).
(Впоследствии я узнала, что плотность фашистского огня под Ригой превосходила даже плотность огня под Берлином…)
Снова встреча со смертью, пока еще вражеской: трупы немцев во дворе бывшей сельской школы. Все они в нижнем белье, у всех кровь на животе — должно быть, при неожиданной ночной атаке выскочили в чем были и попали под пулемет…
Ход нашей колонны замедляется. Вчерашние курсантики бледнеют. «Большая старшина» машинально матерится. Баранка в руках нашего шофера ходит ходуном, машина вихляет из стороны в сторону. Фельдшер истерически кричит на шофера.
Прямо с марша батареи вступили в бой…
Хотя было ясно, что фашисты обречены, сопротивлялись они неистово. И на что надеялись?.. Правда, в своих листовках немцы кричали о каком-то новом сверхмощном оружии, которое изменит якобы ход войны. Мы тогда думали, что это просто блеф. Теперь знаю, что речь шла о создании атомной бомбы…
И под конец войны, в августе сорок четвертого, здесь, в Прибалтике, некоторые населенные пункты переходили из рук в руки по нескольку раз. Шли уличные бои. Отступая, фашисты ставили в домах мины с часовыми механизмами — на такой мине подорвалась повариха Лида, искавшая повсюду «трофеев». Осталась без ноги — второй брезентовый сапожок (память о старом фельдшере) так и не нашли…
В наступлении убитых и раненых было не меньше, чем при отступлении.
И все-таки мы дышали совсем другим воздухом — воздухом приближающейся Победы.
Очень скоро я поняла, что наша санитарная машина, идущая во втором эшелоне, во время боя никакой пользы не приносит.
Те раненые, которым удавалось выскочить из загоревшейся или просто подбитой самоходки, долгое время оставались без помощи. Хорошо еще, если рядом оказывалась пехота.
Я попросила военфельдшера отпустить меня в батареи. Он охотно согласился. И я стала передвигаться во время маршей на броне, что было прекрасно, а во время боя — внутри самоходки, что было ужасно.
В этой тесной металлической коробке всегда стоит такой грохот, что не разберешь, когда бьешь ты, а когда — по тебе. Машина каждую минуту проваливается в очередную воронку, окоп, яму, и кажется — все, подбили… Стреляющая самоходка наполняется пороховым дымом, думаешь — горим.
Часто карабкаясь на броню прямо на ходу, я с ужасом поняла, как уязвима самоходка для нетрусливого хладнокровного врага: взобрался сзади, подполз к смотровой щели, и бросай туда гранату либо строчи из автомата.
А как они горели, эти «коробочки», как горели! Вот уж не думала, что сталь может так полыхать!
Редко кому удавалось выбраться. Через верхний люк нельзя — по горящей самоходке обычно лупят вражеские автоматчики. Нижний, аварийный люк, как правило, намертво заклинивается, упершись в землю.
Нет, честное слово, в пехоте воевать все-таки легче!
Да и присутствие медика в самоходке, которая ведет бой, бессмысленно, даже вредно, как присутствие каждого лишнего человека.
К тому же все другие экипажи уже не могут рассчитывать на помощь санинструктора.
Я придумала свою тактику. Доезжала с ребятами до исходных позиций, потом спрыгивала с брони и, сколько это было возможно, шла следом. Затем действовала, как в пехоте. Соответственно обстановке. Тяжело раненных перевязывала и оттаскивала в безопасное место, чтобы затем организовать их эвакуацию в тыл. Тем, кто мог идти самостоятельно, указывала дорогу до ближайшего пехотного медпункта. (Со своей санитарной машиной я так и не сумела наладить связь — нашего военфельдшера нельзя было заставить приблизиться к передовой…)
«Командир не должен подвергать себя пуле или осколку», — повторял он не единожды. (Любил человек красиво выражаться.) Вот тебе и «Палеодор»! Вот тебе и «смелее в бой!»
Таким образом, я вроде бы снова оказалась в своей дорогой пехоте. Но при этом имела еще и привилегии: большие переходы делала на броне, могла в часы затишья подскочить во второй эшелон, чтобы помыться или, как тогда образно выражались, «храпануть минут шестьсот» где-нибудь под крышей.
Я поймала себя на том, что уже не лезу на рожон. А о пресловутом «любопытстве», когда я могла выскочить под снаряды только для того, чтобы посмотреть, как они рвутся, не было и речи. Насмотрелась…
К тому же оказалось, что труднее всего умирать именно накануне Победы. Каждый остро чувствовал это…
Лена, «большая старшина», трусиха и страшная матерщинница, вдруг безответно влюбилась. Предмет ее любви — командир самоходки Леша даже немного побаивался этой неуклюжей гренадерши, обходил стороной.
А когда Лешу послали на опаснейшее задание — разведку боем, Лена влезла в его самоходку и не захотела выходить обратно.
Машина была подбита противотанковой пушкой, загорелась. Боевой расчет, выбравшийся все-таки через нижний люк, был расстрелян фашистскими автоматчиками. А Лену схватили и замучили.
Мы поняли все это, когда, продвинувшись вперед, нашли то, что осталось от самоходки, и то, что осталось от экипажа.
Лену я узнала только по знакомому комбинезону — хорошо помнила черную заплату, пришитую белыми нитками. Да еще по пряди ее рыжих жестких волос, почему-то зажатых в кулаке…
А скоро я и сама близко познакомилась с фашистами.
Полковая разведка притащила «языка». Перед тем как передать его в штаб, ребята попросили меня «чуток отремонтировать фрица».
«Фриц» — молодой обер-лейтенант — лежал на спине с закрученными назад руками. Светловолосый, с правильными резкими чертами мужественного лица, он был красив той плакатной «арийской» красотой, которой, между прочим, так не хватало самому фюреру. Пленного даже не слишком портили здоровенная ссадина на скуле и медленная змейка крови, выползающая из уголка рта.
На секунду его голубые глаза встретились с моими, потом немец отвел их и продолжал спокойно смотреть в осеннее небо с белыми облачками разрывов — били русские зенитки (разрывы немецких снарядов были черными).
Что-то вроде сочувствия шевельнулось во мне. Я смочила перекисью ватный тампон и наклонилась над раненым. И тут же у меня помутилось в глазах от боли. Рассвирепевшие ребята подняли меня с земли. Я не сразу поняла, что случилось. Фашист, которому я хотела помочь, изо всей силы ударил меня подкованным сапогом в живот…
Порой мы наступали так стремительно, что заставали в брошенных домах накрытые столы, иногда даже с несовсем остывшей едой. Конечно, наваливались на нее — поднадоели казенные харчи. И случалось, что расплачивались за эту «домашнюю еду» жизнями — она была отравлена местными фашистами, ушедшими с немцами.
Бойцам строго-настрого запретили прикасаться к найденному в домах съестному. Медики отвечали за исполнение этого приказа. Но разве за всеми уследишь?.. Да и сама я не всегда могла совладать с искушением.
Когда полк после тяжелых боев ворвался в Тарту, ко мне прибежали ребята из батарей, чтобы спросить, можно ли есть найденные ими яблоки, — ходили слухи, что и плоды можно отравить при помощи шприца.
Яблоки эти были необыкновенной красоты и величины — с небольшой арбуз.
У меня сразу слюнки потекли. И я, поколебавшись, решила — была не была. Съела одно яблоко, другое… Потом попросила ребят подождать часок, посмотреть, что произойдет с «подопытным кроликом».
К счастью, ничего не произошло. Тогда и все, как говорится, «от пуза» наелись этими чудесными яблоками.
Здесь же, в только что отбитом Тарту, случилось со мной необычное во фронтовой обстановке происшествие — я ухитрилась… попасть на губу.
Дело в том, что мои публичные высказывания по поводу «храбрости» командира санвзвода, конечно же, дошли до него. Но передовая надежно защищала меня от в общем-то вполне объяснимой неприязни «Палеодора».
Однако когда я пришла в санвзвод, чтобы отмыться и отоспаться, фельдшер вдруг приказал мне немедленно отправляться обратно в батареи.
— Зачем? — спросила я с недоумением. — Ведь ясно, что до света боя не будет, а утром вы меня и не удержите.
— А затем, — сухо ответил комсанвзвода, — чтобы перевязать там у одного заряжающего чирей. Выполняйте!
Приказ был явно издевательским, я измотана до предела, нервы натянуты — слово за слово, и вот в ответ на какое-то оскорбительное замечание выхватила из кобуры ТТ.
«Палеодора» как ветром сдуло. Побежал жаловаться начальству. И действительно ЧП — солдат угрожает офицеру оружием!
Возвратился он в сопровождении адъютанта командира полка. Вид у добродушного толстяка-адъютанта был смущенный. Ему приказали посадить меня на гауптвахту. Неприятное поручение, да и где ее здесь взять — эту гауптвахту?..
Мы долго ходили по расположению нашего «хозяйства», из одного дома в другой — все они были набиты до отказа. И всюду меня встречали радостными возгласами: «Здравствуй, сестренка! Какими судьбами?» Я смущенно объясняла — какими… Наступало удивленное молчание, потом раздавались реплики отнюдь не в пользу фельдшера и адъютанта.
Мы следовали дальше. Наконец нашли полуподвал, куда можно было кое-как втиснуться. Раздраженно бросив фельдшеру: «Стерегите ее сами!» — адъютант ушел.
Я растянулась на полу, мой страж рядом, и, едва успев заметить, что он положил себе под голову портупею с пистолетом, провалилась в глубокий тяжелый сон.
Мне приснилось, что над головой, на бреющем, с воем проносятся «мессеры».
А проснулась — сон в руку: прямо надо мной свистят осколки.
Очнулась окончательно и поняла — нет, это не бомбежка, а артобстрел, причем лупят прицельно, по нашему дому. Снаряды рвутся под окнами, я же лежу в «мертвом пространстве» — как бы под аркой из вылетающих в оконные проемы осколков.
В помещении уже никого нет. Ничего не соображающие со сна люди убежали, даже не разбудив меня.
А рядом валяется фельдшерский пистолет. Прихватываю его и выскакиваю, выждав удобный момент, на улицу.
Теперь я могу отплатить фельдшеру с лихвой — стоит только отнести в штаб его ТТ. Бросить оружие!
Но я никому не рассказала об этом, пожалела человека. За подобную «забывчивость» можно и в штрафную загреметь…
Зато и фельдшер замял дело «об угрозе пистолетом офицеру».
…Порой после телепередачи, в которой мне доводится участвовать, раздается телефонный звонок или приходит письмо от какого-нибудь ветерана войны — оказывается, я спасла ему жизнь. Он узнал меня, увидев на экране…
Как правило, это, увы, ошибка. Выясняется, что либо мы воевали в одной части, но в разное время, либо в одно время, но в разных частях.
Закономерная ошибка — не до того было истекающему кровью человеку, чтобы любопытствовать, кто его выносит из боя.
Не спрашивал он тогда, как зовут сестру, да и она не интересовалась именами-фамилиями раненых. Только бы дотащить их до безопасного (относительно, конечно) места.
И не может помнить сестра, скольких ей удалось спасти. Кто их считал тогда — бухгалтер, что ли, полз рядом? А до счету ли было самой девчонке?..
Обычно все происходило так, как в автобиографическом стихотворении Сергея Орлова «Я ее вспоминаю слова».
Осталась ли она в живых? Сергей не мог и пытаться разыскать эту девушку, которая подставила ему свои узкие плечи тогда, когда все другие залегли под ураганным огнем, — он ничего не знал о ней…
И сколько ветеранов вспоминают теперь своих безымянных спасительниц! Невольно чувствуешь себя виноватой, когда приходится говорить человеку, что из боя его вынесла вовсе не ты…
Бинты таяли с невероятной быстротой, а наша санитарная машина опять застряла где-то во втором или третьем эшелоне.
На отбитом нами эстонском хуторе подошла ко мне взволнованная старуха. Она бережно держала раскудахтавшуюся грязно-белую квочку.
Эстонка не говорила по-русски, но все было ясно и без слов: у курицы оказалась перебитой лапка — ей, видимо, досталось во время обстрела.
Молчаливая просьба старухи не показалась мне странной. Я не принадлежу к тем, кто считает боль исключительно привилегией человека.
Но как отнесется к подобной перевязке окружившая нас пехота? Да еще при нехватке перевязочных средств?..
И тут раздался укоризненный голос пожилого бойца:
— Что же ты, дочка, над живностью измываешься?
Пожилого поддержал молодой:
— Они, городские, все такие. Без понятия.
Вслед за солистами вступил хор. Чего я не наслушалась!
На остряка, предложившего сварить из «раненой» суп, цыкнули так, что он только молча захлопал светлыми запыленными ресницами.
Я раскрыла санитарную сумку. Кто-то услужливо обстругал ножом две щепы, и я наложила квочке шину всем правилам медицины…
Вообще ко всякой живности на фронте относились нежностью. И конечно, всех приводили в восторг собаки-санитары, которые сноровисто тащили санки-волокуши с ранеными.
Правда, как только начинался обстрел, четвероногие санитары тут же останавливались, и так же сноровисто начинали окапываться. Тогда сдвинуть их с места нельзя было никакими силами. То же самое происходило и при появлении самолетов. Не только немецких, но и наших.
«Ишь, стервецы, — восхищались солдаты, — понимают ведь, что самолеты наши и бомбы наши».
Солдатская эта поговорка, увы, имела под собой основание… Поэтому, видя приближающиеся ИЛы, все, у кого были ракетницы, немедленно палили из них в сторону немцев, на всякий случай показывая летчикам, где свои, а где чужие.
Бомбежки сменялись артиллерийскими огневыми налетами — по танкам лупят особыми снарядами: болванками. До сих пор помню красноватый отблеск летящих болванок — ребята говорили, что его видишь только тогда, когда по тебе бьют прямой наводкой.
Во время артобстрела лучшей защитой были сами самоходки — мы прятались под машинами, между мощными катками. Да и спали часто под самоходками.
А моя муза оказалась упрямой особой.
К тридцатилетию Победы в майском номере журнала «Дружба народов» были опубликованы письма Луконина, Наровчатова, Слуцкого и других фронтовиков Славе Владимировне Шириной. Среди этих писем я обнаружила и свое, давно мною забытое. Написано оно было в октябре сорок четвертого года и являлось прямым продолжением нелегкого нашего разговора в «доме Герцена». И пронизано ветром приближающейся Победы, светится оптимизмом юности.
«Уважаемая Слава Владимировна!
Пишу Вам, лежа под танком[2]. Это спасает от разных неприятных вещей, вроде фрицевских пуль и осколков.
Вообще-то мне больше приходилось быть на машине и в машине, чем под ней, так как наши танки редко стояли на месте: догоняли немцев, которые драпали с отчаянной быстротой по Рижскому шоссе. Теперь они стянули все силы в Риге и немного закрепились. Но, конечно, мы их скоро выбьем. Когда Вы будете читать эти строки, Рига станет нашей.
В общем фрицу „капут“, как твердят сами пленные (жалкий у них вид, надо сказать).
Я работаю в танковом полку, так же, как и в пехоте, санинструктором. Здоровье мое после ранения совсем поправилось. Фронтовая жизнь — лучший врач. Можете поздравить с орденом.
Слава Владимировна! Конечно, об учебе в этом году думать не приходится. Но мне не хотелось бы терять связь с Вашим институтом. Прошу Вас лично не забывать меня, писать. Если останусь живой, то мы с Вами обязательно встретимся в стенах Вашего института. Простите за самоуверенность, но она здорово помогает в жизни.
Пока я не написала ничего нового. Деньки сейчас такие горячие, что с трудом урвала время на это письмо. Я посылаю Вам одно из своих старых, но обработанное стихотвореньице. Очень просила бы Вас передать его рецензенту и написать мне».
Сейчас удивляюсь, как могла я в той обстановке еще «обрабатывать» стихи. Но это только лишний раз доказывает, что, если страсть к поэзии заложена у человека в генах, убить ее невозможно…
К столице Латвии полк подошел обескровленным — сгорела большая часть самоходок. И у наших соседей, пехотинцев, тоже было тяжело, повыбило людей. Их не хватало для десанта, приходилось сажать на броню даже своих писарей.
И хотя я написала Славе Владимировне, что «об учебе в этом году думать не приходится», — война внесла свои поправки в мои планы.
Мне досталось от нее снова.
Дело было так. Я стояла на шоссе и шутила с веселым лейтенантом, наполовину высунувшимся из люка остановившейся самоходки. Война, казалось, отдыхала: ни одного выстрела.
И вдруг невесть откуда взявшаяся пуля ударила в крышку откинутого люка, потом, срикошетив, пробила щеку лейтенанта и застряла в нёбе — пуля была, видимо, на излете. Я растерялась — никогда не встречалась с таким ранением.
Надо было срочно оказать помощь, а для этого довести лейтенанта хотя бы до первого пехотного БМП — батальонного медпункта.
Раненый мог идти сам, опираясь на меня. Но не успели мы сделать и нескольких шагов, как на шоссе обрушился минометный шквал — «заиграли» фашистские «скрипачи». Ох этот скрежещущий звук!
Я спрыгнула в пустой окоп, полуприкрытый редким накатом бревен, и только стала помогать раненому спуститься туда, как на меня вдруг навалилась глухая тишина и темнота. Потом словно снова включили обычный фон войны — грохот, команды, стоны. Однако звуки эти стали притушенными.
Нос, уши, глаза залеплены землей. Кто-то плещет мне в лицо холодную воду.
Попыталась приподняться. Оказывается, окоп завалило взрывом. Откопали пехотинцы.
Ищу глазами своего лейтенанта — мне показывают прикрытое плащ-палаткой тело.
Отошла я быстро. Прекратилось кровотеченье из носа и ушей, ноги перестали быть ватными. Вот только говорила какое-то время слишком громко, да подташнивало немного.
В общем, контузия, как я думала, была пустяковой. Догнала свой полк, когда он уже вел уличные бои в Риге, переправившись через Западную Двину.
Меня удивила обстановка в городе. Еще стреляют, а по улицам шастают бабенки с накрашенными губами, на главном проспекте — Бривибас Йела — в ожидании седоков стоят вальяжные извозчики.
Брошены магазины, на прилавках валяются пачки немецких денежных марок. Жители расхватывают товары, брошенные теми хозяевами магазинов, которые сбежали с немцами. Я взяла в писчебумажном магазине несколько тетрадей — все другое не имело тогда для меня никакой цены.
Наш полк опять поставили на переформировку. Личный состав расквартировали у рижан.
В городе сразу же был наведен железный порядок. Даже, на мой взгляд, слишком железный. Когда, например, одна старушка пожаловалась на солдата, «конфисковавшего» у нее одеяло, его просто хотели… расстрелять. Перепуганная бабуся буквально валялась в ногах у начальства с просьбой простить солдатика.
Началась спокойная сытая жизнь. И тут у меня, как всегда на войне, когда отпускает нервное напряжение, сломалась какая-то пружина. В санчасти снова послали на комиссию. В истории болезни, в частности, было сказано: «Частые обмороки. Частое кровотечение из полости носа. Сильные головные боли. Кашель с кровавой мокротой».
Сказалась-таки проклятая контузия!..
И вывод тот же, что и при первом ранении: «Негоден к несению военной службы с переосвидетельствованием через шесть месяцев».
Свидетельство это было выдано 21 ноября 44-го года. И надо же, чтобы война закончилась как раз через шесть месяцев, в мае! Ни раньше ни позже…
Я ехала в Москву и думала только о стихах. Мне шел двадцатый год, и казалось, что все еще впереди.
Вернувшись в Москву в конце декабря (а значит, в середине того учебного года, на который и не смела рассчитывать), я вошла и села как ни в чем не бывало в аудитории первого курса.
Надо сказать, что для этого мне пришлось занять у школьной подружки юбку — весь мой гардероб состоял из широченных измызганных галифе, выгоревшей гимнастерки, обгоревшей шинельки и раздолбанных дырявых сапог.
Мое неожиданное появление вызвало смятение в учебной части, но не выгонять же инвалида войны!
Так я прижилась в институте. Вскоре началась сессия, которую я каким-то образом сдала и получила стипендию — сто сорок рублей (четырнадцать в переводе на теперешние деньги), а килограмм картошки на «черном рынке» стоил тогда сто рублей… Правда, первые полгода я еще получала и военную пенсию — сто пять рублей.
Впрочем, после фронта голодуха казалась ерундой. О том, как одеться, никто и не думал, ребята в институте тоже донашивали военную форму. Раздавался стук костылей.
В институт пришли те, что могли подписаться под знаменитым стихотворением Семена Гудзенко — стихотворением, ставшим кредо поколения:
И как все-таки здорово, что мне удалось побывать на «тех вершинах!..»
Как-то, промерзнув до костей в своих выношенных шинельках и отчаянно проголодавшись, мы с другом-сокурсником забрели ко мне домой.
Со слабой надеждой я заглянула в материнские кастрюли. В одной какой-то черный суп. Подумала — грибной. Страшно пересолен, ну да это не важно.
Супа немного, меньше тарелки. Решила пожертвовать собой, принесла эту тарелку другу, сказав, что свою порцию съела еще на кухне. Он поверил.
Когда пришла с работы мать, я повинилась в съеденном грибном супе. Она удивилась — не варила никакого супа.
Стали выяснять. Оказалось, что это была просто… грязная соленая вода от сваренной «в мундире» картошки.
Я из благородства отдала ее другу, а друг из такого же благородства, давясь, проглотил это «угощение». Да еще похваливал: «Вкуснотища!..»
В аудиториях замерзали чернила — самописками никто из студентов не мог похвастаться.
А однажды я проснулась от того, что по мне кто-то бегал. Сбросила одеяло, об пол шмякнулась… мышь. Пришла, видите ли, погреться… Только стала засыпать — то же самое. И прижимается, как к родной сестре.
Не знаю, может, эта мышь чокнулась от холода и голода — я провоевала с ней всю ночь…
Несмотря на невыносимо тяжелый быт, время это осталось в памяти ярким и прекрасным. Хорошо быть ветераном в двадцать лет!
Мы ловили друг друга в коридорах, заталкивали в угол и зачитывали переполнявшими нас стихами. И никогда не обижались на критику, которая была прямой и резкой. Мы еще и понятия не имели о дипломатии.
В начале сорок пятого года у меня случилось большое для начинающего поэта событие — в журнале «Знамя» напечатали подборку моих стихов. И надо же, чтобы этот журнал был первой книгой, которая попалась на глаза бывшему моему командиру лейтенанту медслужбы Леониду Кривощекову, когда он, ожидая во Львове демобилизации, забрел в библиотеку.
«Я взял со стола первый попавшийся журнал и наугад раскрыл его, — пишет Кривощеков. — Вижу, стихи: „Зинка“. Стихи, посвященные Герою Советского Союза Зинаиде Александровне Самсоновой. Под стихами крупным шрифтом набрано имя моего бывшего санинструктора, той самой хрупкой девушки, которую мы называли новенькой».
Вот так неожиданно встретились снова в львовской библиотеке командир санвзвода и два его санинструктора.
Наконец-то и мне удалось упасть в обморок. И при каких обстоятельствах! Стыдно признаться…
В нашем институтском дворе один подросток нечаянно залепил в лицо другому футбольным мячом.
Студенты побежали за мной. А я, увидев мордашку в крови, — она хлестала из разбитого носа — почувствовала, что мне плохо…
Вот удивились ребята — фронтовая медсестра!
А я удивилась больше всех.
Правда, до войны я действительно не переносила вида крови, но на фронте ни разу не вспомнила об этом. Даже при виде самых страшных ран — развороченных животов, расколотых черепов…
В каком же все-таки невероятном, нечеловеческом напряжении жили мы там! А когда оно отпустило — вернулись реакции мирной жизни.
И боязнь темноты, между прочим, тоже вернулась. А на фронте этой темноты я не могла дождаться — ночью не бомбят прицельно, не бьют прямой наводкой.
Словно не было этих четырех страшных и прекрасных лет, словно осталась я где-то там — на школьном выпускном вечере 21 июня сорок первого года.
…В это время новым директором Литинститута стал Ф. В. Гладков. На первой встрече с ним студенты читали по кругу стихи. Я прочитала «Зинку». «Очень хорошо, — сказал Федор Васильевич, — только вот вопрос: дело у вас происходит в Китае?» Я опешила: «При чем здесь Китай?» Гладков помолчал, потом произнес недоумевающе: «Тогда почему у вас солдаты носят косы?..» Бедная Зинка, бедный «светлокосый солдат»!..
Первая публикация определила мою литературную судьбу. Меня очень удивило (и удивляет до сих пор), почему так точно «попали в яблочко» ничем не примечательные строки: «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне!»
Может быть, потому, что, будучи представительницей слабого пола, я не постеснялась сказать то, о чем другая половина рода человеческого молчала из мужской гордости?..
Политехничка, Колонный зал — первые послевоенные трибуны.
Судьбу поэтов моего поколения можно назвать одновременно и трагической, и счастливой. Трагической потому, что в наше отрочество, в наши дома и в наши такие еще не защищенные, такие ранимые души ворвалась война, неся смерть, страдания, разрушение. Счастливой потому, что, бросив нас в самую гущу народной трагедии, война сделала гражданственными даже самые интимные наши стихи. «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые…»
Мне писалось тогда, как дышалось, меня охотно печатали — чего еще желать?
И вдруг все оборвалось, на целые три года я, как говорится, «выпала из тележки».
Что же случилось?
По теперешним меркам, ничего особенного. Просто вышла замуж за такого же, как я, фронтовика, сокурсника и родила дочку.
Но в то время в моих обстоятельствах это было настоящим безумием.
Рассчитывать я могла только на себя. Дочка сразу же тяжело заболела, тяжело заболел и муж. Их надо было спасать от смерти и кормить. А как, когда руки мои были связаны? От младенца ни шагу, денег ни копья. Единственная возможность отоварить карточки — продать на рынке хлебную пайку.
А продажа хлеба считалась тогда спекуляцией, делали это из-под полы. Как-то я с дочкой на руках понесла на продажу целую буханку «черняшки» — отоварила хлебные карточки сразу за несколько дней.
На рынке у меня ее тут же взяла первая попавшаяся тетка — в те дни буханка была ценностью. Взяла и пошла, не расплатившись. «А деньги?» — растерянно крикнула я ей вслед. «Деньги? — ухмыльнулась тетка. — А ты, спекулянтка, милиционеру пожалуйся — во-он он на тебя смотрит».
Что мне оставалось делать? А голодная девчонка на руках заходилась от плача…
До стихов ли мне тогда было, до поэтических ли вечеров?..
И постепенно замолчал телефон. Из института, естественно, пришлось уйти, осталась одна со своими бедами, без родных, без друзей и безо всякого житейского опыта. А опыт фронтовой — на что он мне был тогда?
Эти тягостные годы были самым страшным испытанием на моем литературном пути. Я замолчала и могла бы «онеметь» навсегда. У женщины, попавшей в такой переплет, порой рвется в душе то, что называется поэтической струной. Я знаю такие судьбы.
Не уверена, смогла бы и я выстоять, если бы не одно событие. Я говорю о Первом Всесоюзном совещании молодых писателей в марте 1947 года.
Об этом совещании, практически ставшем форумом фронтовиков, много написано. Оно познакомило нас друг с другом, дало возможность осознать себя ПОКОЛЕНИЕМ.
С великими сложностями договорилась я с одной женщиной, чтобы она присматривала за дочкой, и после долгого плена пеленок, болезней, безденежья вдруг оказалась в царстве молодости и поэзии. Это действительно был настоящий праздник души. Я даже растерялась немного — например, на предложение одного известного поэта: «Давайте снимемся для „Комсомолки“ — ответила потрясшим его вопросом: „А вы фотограф?“»
Но совещание было для меня не только праздником. Оно дало мне возможность выжить, выжить в прямом смысле этого слова, поскольку рекомендовало меня в Союз писателей, а мои стихи — в издательство «Советский писатель».
Рукопись, которую нужно было отдать в приемную комиссию, я переписала от руки. Удивляюсь теперь, что стихи приняли в таком виде, даже не перепечатанными на машинке…
Звание члена СП давало мне право на получение льготных продовольственных карточек, на повышенную норму хлеба — именно это я имела в виду, когда писала, что совещание молодых писателей помогло мне выжить.
Так было официально утверждено мое схождение «с тех вершин» в поэзию…
Я еще не знала, что тосковать мне по ним всю жизнь, как всю жизнь тоскуют по горам альпинисты.
1979
АЛИСКА (Повесть)
ПРИРУЧИ МЕНЯ!
Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня.
Экзюпери
Однажды моя дочь-восьмиклассница рассказала мне о собаке, которая якобы «пытается сама себя продать».
С этим странным созданием Аленка встретилась на так называемом Птичьем рынке, куда бегала каждое воскресенье. Там продавали всякую живность: птиц, рыб, морских свинок, собак.
По взволнованному рассказу дочери я представила себе картину этой своеобразной купли-продажи.
…Псы сидели рядом с хозяевами возле высокого каменного забора. Взвинченные необычной обстановкой и предчувствием какого-то предательства, они нервно облаивали каждого проходящего. Да еще хозяева не заметно горячили их, как, по рассказам, цыгане когда-то горячили лошадей. Ведь чем злее собака, тем больше ей цена — будет хорошим сторожем.
Лишь одна немыслимо худая, мосластая, неухоженная овчарка сидела возле забора без хозяина. Она с завистью смотрела вслед каждому своему собрату, уходящему с новым владельцем, и тоскливые ее глаза, и нерешительно виляющий хвост, и вся ее напряженная поза говорили — нет, кричали: «Возьмите и меня, пожалуйста! Прошу вас!»
Но рынок не могло заинтересовать что-либо, не имеющее денежной стоимости. Собака, сама себя продающая или, вернее, отдающая, — это что-то непонятное и даже подозрительное. Не важно, что она вроде бы овчарка… Знаем мы таких овчарок!..
Три воскресенья приходила Аленка на рынок и каждый раз видела бедолагу на том же самом месте, у каменного забора. Лишь глаза ее становились все безнадежнее, а мослы выпирали все сильнее…
Конечно, услышав этот рассказ, мы всей семьей тут же постановили, что усыновим псину, независимо от ее, так сказать «национальности» — будь она хоть чистокровной дворнягой.
И вот мы пробираемся сквозь толпу людей и животных. Гомон, лай, щебет. Глаза у меня разбегаются.
Вдруг в кольце рвущих поводки, охрипших псов вижу на снегу небольшого, с кошку, перепуганного зверька песчаного цвета. Громадные ярко-желтые глаза, пружинистое тельце, роскошный хвост и тонкие ножки, задние в форме «икса».
Шею зверька опоясывал самодельный ошейник. Цепочку держал щуплый и тоже перепуганный подросток: получил, должно быть, дома нагоняй за непрошеного нахлебника.
Я присела на корточки и погладила зверька. Он прижал уши. «Осторожно, укусит!» — закричал подросток. Но зверек уже был у меня на руках. Сердце его отчаянно колотилось, тельце сотрясалось крупной дрожью. Еще бы! Столько переживаний для дикого зверя!
Но я не воспринимала его как «зверя» — очень уж он был несчастным. К тому же считала его детенышем. Лишь впоследствии мы с удивлением узнали, что это молодая, но вполне взрослая лисица особой степной породы — корсак.
В энциклопедии про их брата, корсака, сказано так: «Похож на обыкновенную лисицу, но меньше по размерам (длина тела 50–60 сантиметров, хвоста — 25–35 сантиметров)… Распространен в пустынях и полупустынях Азии и Юго-Восточной Европы. В СССР — от Северного Кавказа на восток до Забайкалья, на север — до 50° северной широты. Приносит большую пользу истреблением грызунов…»
В благодарность за эту «большую пользу» человечество нещадно уничтожает корсаков — к несчастью, они, как поясняет энциклопедия, «имеют промысловое значение — используется шкурка».
…Итак, испуганный корсачок оказался у меня на руках, а десятка — в руках юного бизнесмена.
Я четко отдавала себе отчет в серьезности сделанного шага. Дело было не только в тех организационных трудностях, которые вырастают как грибы, когда вы берете в цивилизованный мир существо из другого — дикого — мира и не желаете держать его в тюрьме, то есть в клетке. И не только в том пронзительном чувстве личной ответственности, которое не дает вам покоя.
Главное, что отношения с «братьями нашими меньшими» почти всегда кончаются трагически. «Другой мир» мстит тем, кто нарушает его законы.
Я хотела узнать у мальчишки, как зовут зверька, откуда он взялся, где жил, что ел. Но в это время на меня вихрем налетела Аленка, сопровождаемая тем самым псом, из-за которого мы приехали на рынок. Пес, как это ни странно, действительно оказался овчаркой и выглядел тихим, симпатичным доходягой. Он был смертельно рад, что его наконец «купили», и шел за девочкой, как приклеенный. Тут же с ходу пса нарекли Тихоней — Тихоном, Тишкой, а лису — Алисой, Алиской.
Между тем хозяина Алиски и след простыл…
Так мы никогда и не узнали, откуда она взялась, как появилась в наших северных широтах. Пришла, притопала длинными своими ножками из каких-то неизвестных краев, из смутных детских сказок…
Я шла сквозь глазеющий на нас рынок, прижимая к себе дрожащую Алиску, а какая-то бойкая девчонка вертелась у меня под ногами, назойливо спрашивая: «Теть, а теть, зачем вы ее купили? На воротник, да?»
Аленка засунула под шкаф желтую куриную ногу с грозно загнутыми когтями: мы не знали еще, чем кормить Алиску, но догадывались, что она не вегетарианка.
Вскоре раздалось похрустывание. Дочка загляну под шкаф — хруст сейчас же сменился кашлем. Мы испугались: не подавилась ли Алиска? Но вскоре стало понятно, что этот кашель — один из способов корсаков выражать свои эмоции — гнев средней степени.
Другой способ Алиска продемонстрировала, когда в комнате появилась наша Киса — взъерошенная и недоумевающая. Ее встревожил запах дикого зверя.
Алиска тут же выскочила из-под шкафа и залилась пронзительным щенячьим лаем. Это была уже высшая степень гнева.
Киса в ответ «сделала верблюда». Я поспешила унести ее, фыркающую и негодующую.
Таким же пронзительным лаем встретила Алиска и Тихоню, которого мы привели к ней для официального знакомства. Когда их везли с рынка, от волнения они не замечали друг друга. Но здесь, в комнате, получив полную свободу передвижения и пообвыкнув немного, Алиска почувствовала себя хозяйкой. Добродушный Тишка с комическим изумлением смотрел на маленькую нахалку, яростно его облаивающую. Ведь он мог пришибить ее одной лапой. И на этот раз знакомство не состоялось. Пса пришлось увести.
(Забегая вперед, скажу, что в условиях тесной московской квартиры мне так и не удалось наладить мирное сосуществование лисы, кошки и собаки. Пришлось на время отдать Кису одним знакомым, а Тишку — другим.)
…Дав должный отпор Кисе и Тихону, «победительница» стала знакомиться с мебелью — тщательно обнюхивать каждый стул, каждое кресло, каждую ножку стола. Потом она вскочила на кресло, стоящее возле окна, оперлась передними лапами на подоконник и с великим любопытством уставилась на заснеженный московский двор. Этот маневр она повторяла много раз. За окном начиналась свобода…
Я налила супа в маленькую, но глубокую керамическую пепельницу и предложила его Алиске. Она понюхала суп и выразила свое отношение к нему с предельной ясностью: присела на пепельницу и со снайперской точностью пустила в нее струйку. Мы были шокированы. Что за манеры?!
Потом я узнала, что на воле лисы всегда так метят свои кладовые. Но ведь все-таки предварительно они зарывают их в землю. А за неимением земли Алиска обходилась и без нее. Инстинкт…
Впрочем, я подозреваю, что здесь сыграло роль удивительное чувство юмора Алиски. Хулиганка много раз повторяла свой номер с «ночным горшком», но почему-то всегда только с той едой, которая ей не нравилась…
Чем становилось позднее, тем оживленнее делалась Алиска. Она белкой носилась по комнате, прыгая на стулья и спрыгивая с них. Ведь лисы — ночные животные. Но мы-то — дневные и, ложась спать, решили запереть разошедшуюся Алиску в совмещенном санузле. Однако провести наше решение в жизнь оказалось не так-то просто.
Весь день, входя и выходя из столовой, мы с панической быстротой закрывали дверь, боясь, что юркая корсачишка проскользнет в коридор, а оттуда — и в другую комнату. Вполне достаточно было того, что в столовой уже бил в нос специфический запах зверинца.
А Алиска пыталась распространиться по всей квартире и делала это со всей лисьей хитростью, настырностью и изворотливостью.
Но когда она увидела, что дверь в коридор открыта, выманить ее из столовой стало невозможно.
Я привязала к нитке кусочек мяса и, играя с Алиской, как с котенком, постепенно вытягивала приманку в коридор. Патрикеевна выбегала из столовой, но, как только кто-нибудь пытался захлопнуть дверь, легко опережала его и снова оказывалась недосягаемой. Веселая, довольная, хорошенькая, озорно блестя раскосыми «модными» глазами и ухмыляясь раскрытой до ушей пастью, она явно насмехалась над нами.
До двух часов ночи пришлось нам «играть» с Алиской. Сложное приспособление, результат коллективно инженерной мысли, — веревка, один конец которой бы в руках у Аленки, а другой привязан к дверной ручке, тоже помогло не сразу. Алиска успевала проскользнуть в столовую раньше, чем дверь захлопывалась.
Наконец ловушка сработала. А возможно, Алиске просто надоела вся эта возня. Во всяком случае, она оказалась водворенной в совмещенный санузел.
Возбужденная приключением с Алиской, я долго не могла уснуть и в конце концов приняла снотворное.
Только стала засыпать — какой-то грохот.
Я вскочила. Мне представилась неожиданная картина. Стоя в умывальнике на задних лапах, передними Алиска методически сбрасывала с висевшей над ним стеклянной полочки то, что там стояло, — стакан с зубными щетками, зубной порошок, мыло, шампунь, одеколон, крем. Все это летело в раковину и на пол, разбиваясь, разливаясь, рассыпаясь.
Лисичка неторопливо повернулась ко мне. Ее лукавая морда была в зубном порошке. И опять она широко, от уха до уха, ухмылялась.
Я сделала необходимую уборку и вынесла в коридор все, что могло быть сдвинуто Алиской с места. Потом приняла еще две пилюли снотворного и уснула, радуясь, что теперь-то Алиска обезоружена — ей нечем греметь.
Но, увы, моя радость, как и мой сон, были недолгими. Я недооценивала лисьей изобретательности…
Проснулась я от какого-то странного скрежетания. Чертыхаясь, встала и застукала Алиску в тот момент, когда она скатывалась с края ванны вниз, внутрь, примерно так же, как дети скатываются с горки на салазках. При этом «ребенок» пускал в ход (для торможения, наверно) свои длиннющие когти, которые и производили разбудивший меня скрежет.
Было совершенно ясно, что эти «катания с горки» Алиска не прекратит до утра — до времени, когда придет ее «ночь». Или придумает вместо «горки» еще что-нибудь.
Что делать? Алексей предложил не слишком мягкий, но единственно возможный способ укрощения строптивой: посадить ее на ночь на цепочку.
Не желая портить отношения с Алиской, я коварно подсунула роль тюремщика мужу. И вот уже руки Алексея в зловещих черных перчатках крепко держат извивающегося, кусающегося и царапающегося чертенка. Через минуту Алиска затихла. Ласково с ней разговаривая, я прикрепила к ошейнику длинную цепочку и закрепила ее за трубу, проходящую сзади унитаза. Не слишком это выглядело красиво, но что было делать?
Алексей осторожно опустил корсачка на пол. Алиска рванулась — цепочка не пускает. Тогда она начала отчаянный бег вокруг агрегата, к которому ее «приковали». Цепочка обмоталась вокруг унитаза один раз, второй, третий… И вот уже Алиска поневоле стоит на задних лапах, точнее, почти висит, полузадушенная, с вытаращенными глазами.
Разумеется, нам срочно пришлось снимать ее с «виселицы»…
Что же все-таки делать? Завтра утром мне нужно быть в издательстве, будет трудный разговор и серьезная работа. Необходима ясная голова, а где ее взять? Надежды на сон никакой, да еще тройная доза снотворного.
— Знаешь что, — предложил Алексей, — я заберу Алиску в спальню, а ты ложись в кабинете на диване. Если ты еще заткнешь уши ватой, то, возможно, отоспишь свое снотворное. А у меня, как тебе известно, сон такой, что даже Алиска мне не помешает.
— Спасибо, — ответила я, — другого выхода все равно нет. — И хотела отстегнуть цепочку от Алискиного ошейника.
— Э, нет, — торопливо остановил меня Алексей, — все же Алиска — не заяц, а хищник. Что-то мне не хочется спящему оставаться в ее власти. Проснешься, например, без носа… Давай лучше сделаем так: прикрепим Алиску к радиатору. Там ей уже не удастся повеситься.
Сказано — сделано. Алиска водворена в спальню — «прикована» к батарее отопления. Никаких возможностей шумно развлекаться. Рядом только блюдечко с водой.
Но дух узницы не был сломлен. Первым делом она изо всей силы ударила лапой по блюдечку и, конечно, разбила его. Затем, натянув до предела цепочку, встала на задние лапы, а передними подцепила мою вязаную кофту, висящую, как мне казалось, в безопасности на спинке кровати. Она рванула кофту зубами и когтями раз, другой, и… вот уже от любимой кофты остались лишь клочья.
Но и это было только цветочками. Алиска нашла еще одну хорошую возможность насолить нам. Своими длинными острыми когтями она стала яростно соскребывать обои с того места стены, которое было ей доступно.
И вот со стены содрано все, что можно, даже больше, чем можно.
Алиска притихла на минуту, обдумывая, по-видимому, дальнейший план действий. И вдруг с отчаянной яростью набросилась на свою цепочку, решив… перегрызть ее. Затея, на наш взгляд, безнадежная. Но поражала неукротимость этого существа. И больно было слышать скрежет зубов о железо.
Я ушла в кабинет. Легла, заткнула уши ватой, скрежет стал тише, но не прекращался. И я не могла спать. А шел уже четвертый час ночи…
Вдруг все стихло. «Ну, думаю, слава богу, смирилась». И я наконец уснула…
Утром, вопреки ожиданиям, проснулась в блаженной тишине. Кинулась в спальню. Толкаю дверь, она не открывается — закрыта изнутри на ключ. Почему? Стучу.
— Сейчас открою, — отвечает Алексей каким-то странным голосом. — Только входи осторожней. Не выпусти Алиску.
— Как это, интересно, я могу ее выпустить? Вместе с радиатором, что ли?
— В том-то и дело, что Алиска… сорвалась.
— Как «сорвалась»? — спрашиваю я, проскальзывая в спальню и быстро захлопывая дверь.
— Очень просто: перегрызла цепочку.
— Вот это зубки!
— А дальше начался настоящий цирк. Алиска стала носиться по комнате, буквально как «сорвавшаяся с цепи». Прыгала с кровати на кровать, бегала прямо по мне.
— Ну, а дальше?
— Я смотрел на циркачку, смотрел, а потом глаза у меня начали слипаться. Ну и уснул. Только, на всякий случай, прикрыл нос рукой.
— Где же она теперь?
— Под кроватью. Спит. Устала…
Через два дня после воцарения у нас Алиски я увидела, что с лисичкой неладно. Презрев подстилку (жарко!), бедняга лежала на боку на холодном кафеле и тихо постанывала. Дыхание у нее было лихорадочным, нос сухим и горячим.
Я повезла ее в ветеринарную лечебницу. Алиска сразу же стала центром внимания посетителей. Даже великолепный мраморный дог потерял своих поклонников.
Но лисичка была равнодушна к успеху. Ей становилось все хуже. Нам уступили очередь, и как только заплаканная, но уже улыбающаяся старушка вынесла спасенного кота-алкоголика, подавившегося резиновой пробкой от валерьянки, я с «ребенком» на руках вошла в кабинет звериного доктора.
Дрожащему «ребенку» прежде всего бесцеремонно подняли хвостик и поставили термометр. Он показал 44,5! Это очень много даже для животных, у которых температура тела выше, чем у людей.
Потом врач тщательно выслушал больную и объявил диагноз: двустороннее крупозное воспаление легких.
Должно быть, Алиска простудилась на Птичьем рынке. Ведь она долго сидела там без движения на снегу, жадно вдыхая морозный воздух широко раскрытой от волнения пастью.
— Положение серьезное, — сказал звериный доктор. — Нужно бы колоть пенициллином. Но у дикого зверя от укола может случиться шок. Поэтому попробуем вылечить больную таблетками. Как ее зовут?
— Алиска.
— Так, Алиса. А фамилия?
— Фамилия? — с недоумением повторила я.
— Ну, как ваша фамилия? — нетерпеливо спросил ветеринар.
Я назвалась, врач выписал рецепт. По дороге домой я заехала в аптеку, и, развернув рецепт, увидела, что в графе «фамилия, имя, отчество больного» было написано черным по белому «Лиса Алиса Друнина»!..
На повестку дня встал вопрос, как заставить Алису Друнину принимать отвратительнейшее на вкус снадобье. Веселенькая задача — три раза в день перехитрить лису!
Я втиснула таблетку в кусок сырой печенки, предварительно сделав в ней надрез. В первый раз хитрость моя удалась — больная проглотила и еду, и лекарство, Правда, вид у нее после этого был огорошенный и недовольный: «Что, мол, за гадость ты мне подсунула?»
Во второй раз Алиска печенку съела, а таблетку вышелушила.
В третий раз она просто отказалась от еды. Наотрез.
И снова лисичка неподвижно лежала на боку, пропустив между задними ножками-иксами потерявший пушистость хвост, и тихонько, как некапризный ребенок, постанывала.
Я обмакивала палец в теплое молоко и насильно всовывала его Алиске. И когда лисичка давно уже выздоровела, я порой протягивала ей указательный палец, она осторожно брала его в пасть, держала минуту в зубах и тихо отпускала.
…Было ясно, что заставить Алиску глотать таблетки невозможно, а без лекарства она погибнет. И снова я помчалась в ветлечебницу.
— Ну что же, — сказал врач, — рискнем, сделаем укол.
Сестра оттянула Алиске заднюю лапу, доктор поднял шприц с толстой иглой… Я затаила дыхание, опасаясь шока: все-таки Алиска — дикий зверь. Но, к счастью, все обошлось благополучно.
Лисичке стало лучше. Однако возить ее три раза в день на уколы было, конечно, невозможно. Тогда мы принял героическое решение. Он, никогда в жизни прикасавшийся к шприцу, согласился сам делать Алиске уколы.
И вот я держу на коленях настороженную, что-то подозревающую лисичку. Алексей наполняет шприц, потом осторожно оттягивает правый «иксик», мажет йодом и энергично втыкает в него иглу. Алиска вздрагивает и старается увидеть, кто это так предательски ее «укусил». А лекарство почему-то не идет. Незадачливый лекарь, морщась, вытаскивает иглу и снова оттягивает Алискину лапу. В этот момент я обнаруживаю свою правую руку в… пасти у Алиски. Одновременно с моим открытием Алексей делает укол. Закрываю глаза: ведь Алиска запросто перегрызла металлическую цепочку! Почему же она должна церемониться с одним из мучителей, ни с того ни с сего делающих ей больно? И откуда может знать лиса, что это, так сказать, «боль во спасение»?
Но она, видимо, понимала это каким-то десятым чувством. А может быть, просто безгранично доверяла мне. В момент укола Алиска только чуть-чуть сжала зубы…
Дело пошло на поправку. Симптомов выздоровления было много, а главный — серия пакостей. Когда Алиска совершила первую из них, мы поняли, что все в порядке.
Дело было так. Во время междугородного телефонного разговора я вдруг почувствовала, что говорю в пустоту. Ни собеседника, ни зуммера. Что случилось? Линия не повреждена. Аппарат в порядке. Розетка тоже. Стали проверять сантиметр за сантиметром провод. И тут увидели — в одном месте он прокушен знакомыми острыми зубками…
Из несчастного, никому не нужного зверька, дрожащего от страха и холода на Птичьем рынке, Алиска как-то сразу превратилась в домашнего идола, которому радостно поклонялась вся наша маленькая семья.
Каждый старался завоевать ее расположение, и я очень гордилась, что, несомненно, преуспела в этом.
Только мне разрешала Алиска брать себя на руки, хотя первую минуту всегда дрожала крупной дрожью и поджимала ушки: инстинкт дикого зверя боролся в ней с привязанностью к человеку.
Только у меня принимала Алиска еду прямо из рук, скусывая ее с удивительной деликатностью, — я никогда не опасалась за свои пальцы.
Как-то Алексей решил по моему примеру накормить Алиску таким же образом. Он протянул ей кусочек печенки. Лисичка милостиво приняла подношение, аккуратно положила его на пол и тут же сделала молниеносный выпад, символически хватанув своего «кормильца» за палец: не подкупишь, мол, не на такую напал! После этого она неторопливо, с достоинством принялась есть…
Дочку Алиска просто терроризировала — охотилась за ее ногами, пытаясь укусить. Алена, вооруженная веником, передвигалась по квартире странными громадными прыжками. Часто слышались ее отчаянные вопли: «Мать, на помощь!»
Почему Алиса так невзлюбила Аленку?! Кто знает! Может, была в ее жизни какая-нибудь злая девчонка, внешне похожая на мою дочь — такая же длинная, лохматая, с громким голосом и резкими движениями, — которая изводила ее…
А может быть, Алиску просто раздражали порывистость Аленки и ее манера громко разговаривать? Кто знает!
Я-то стала двигаться и говорить с величайшей осторожностью. Знакомые утверждали, что теперь, с появлением Алиски, я не хожу, а скольжу на полусогнутых, не жестикулирую, а делаю пассы, не говорю, а воркую…
Друзья иногда спрашивали меня, почему я держу в квартире дикое, а не домашнее животное. Ведь с ним столько хлопот!
В ответ я только пожимала плечами. Почему? Да потому, что это доставляет мне радость! Мне доставляет радость завоевывать любовью непослушное, недоверчивое существо и видеть, как между нами протягиваются все новые и новые нити.
Мне радостно знать, что, как только я, возвращаясь домой, захлопну дверцу лифта, Алиска насторожит ушки, пискнет тоненько-тоненько, как сверчок, и бросится словно собачонка, к двери. Правда, когда я войду в переднюю, она, в отличие от собаки, сделает вид, что выскочила вовсе не ко мне, а просто так, по своим делам. Очень уж мы горды!
Но мне нравится именно эта ее гордость, сдержанность, независимость. И тем ценнее каждое проявление ее чувств.
Сколько радости может, например, доставить одно только движение дикарки — неожиданный прыжок к тебе на колени, когда ты сидишь вечером, ссутулившись, на диване, усталая, недовольная собой, замороченная нескончаемыми своими человеческими делами!
А проказы? Разве матери меньше любят своих малышей, если даже порой те и изводят их?..
Вообще натура у Алиски была обезьянья. Она не могла не пакостить — рвать, ломать, грызть. Поэтому в наше отсутствие и ночью Алиска имела право пользоваться только своими «персональными апартаментами» — совмещенным санузлом и коридором. Однако она не сдавалась и совершала регулярные подкопы под двери жилых комнат. Однажды утром мы с ужасом обнаружили, что половина паркета в коридоре аккуратно, по досочке разобрана…
Когда мы бывали дома, Алиска или приглашалась в гости, или прорывалась в комнату сама. Беда заключалась в том, что она вечно выискивала себе какие-нибудь труднодоступные уголки и устраивала там «квартиру» со всеми удобствами, включая самые интимные…
Иногда Алиска позволяла мне совершенно невероятную вольность — вытаскивать себя за свой роскошный хвост из-под шкафа. Грозно кашляла, скалила зубы и огрызалась, однако все-таки давала себя извлечь на свет божий.
Но что было делать, когда она каким-то образом забиралась внутрь дивана и располагалась там между пружинами, как в норе? Сначала в этих случаях нас выручал грозный «дядя Пылесос» — так почтительно величали мы нашего спасителя. Едва он начинал завывать, Алиска пулей вылетала из дивана и с вытаращенными глазами мчалась в ванную, на свою подстилку. Но через некоторое время она попривыкла, обнаглела и стала злобно кашлять на «дядю», а потом даже пыталась его укусить.
Но больше всего нам досаждала острая вонь зверинца, мгновенно пропитавшая всю квартиру и даже лестничную клетку.
Изгнать «Алискин дух» было невозможно — он отличался какой-то сверхъестественной стойкостью.
В тот период своей жизни большую часть времени я проводила на четвереньках с тряпкой в руках. А вымытое место поливала… зубным эликсиром. В аптеке очень удивлялись, когда я закупала это снадобье десятками флаконов.
Один мой приятель, побывавший в Индии, сделал мне бесценный подарок: палочки сандалового дерева. Мы прозвали это дерево «антилисом». Теперь перед приходом гостей я окуривала комнаты: зажигала одну или две ароматные палочки. Они медленно тлели, по квартире полз удивительно приятный одурманивающий дымок. Пахло далекой загадочной Индией, таинственными храмами и… Алиской. Ее не брал никакой «антилис».
Мысль о неизбежной разлуке повисла в воздухе сначала в виде легкого облачка, потом в виде безнадежной неотвратимой тучи. Все члены нашей семьи постепенно склонялись к этому грустному решению. Я сопротивлялась дольше всех, но сдалась, когда услышала в метро: «Глаза намазала, а несет от нее, прости господи, как от козла». Этими ядовитыми словами какой-то вредной старушонки был подписан приговор Алиске…
Но что делать, как поступить, куда пристроить дорогую нашу вонючку так, чтобы ей было хорошо? Относительно, конечно. Существо, насильно вырванное из своего родного мира, не может быть вполне счастливо в другом…
Сердобольные, но ничего не смыслящие «в зверином вопросе» люди советовали отпустить Алиску на волю.
Сделать это — значило бы погубить изнеженного тепличной жизнью, не умеющего добывать себе пищу зверька.
Правда, некоторые знатоки уверяли, что уже через несколько дней Алиска одичает и приспособится к суровым условиям свободы. Возможно, возможно… Но вся беда в том, что вряд ли она проживет эти «несколько дней»: ее сразу же прихлопнут бравые охотники…
Зоопарк? Но пристроить туда обыкновенного корсачка невозможно. Вот если бы Алиска была гепардом или вараном с острова Комодо!
О живом уголке при школе или другом детском учреждении я не хотела и думать. Большой детский (и не только детский) коллектив не может быть однородным. Среди хороших, добрых, любящих животных ребят всегда найдется несколько несмышленышей или просто злючек. А достаточно даже одного такого «исключения из правил», чтобы испортить жизнь беззащитного зверька. Особенно если этот зверек — дикарь и гордец. Разумеется, морской свинке или кролику неплохо живется и в клетке…
Что же все-таки нам делать с Алиской?
— А почему бы ей не стать киноактрисой? — вдруг спросил муж. — Примерно в ста километрах от Москвы есть звериный Голливуд. В Петушках. Называется зверобазой Центральной студии научно-популярных фильмов. Зверям там лучше, чем где-либо. И есть возможность стать кинозвездой.
Из всех вариантов разлуки этот все-таки казался мне наименее неприемлемым. К тому же я, как и всякая мамаша, в глубине души была уверена, что моя хвостатая дочка — безусловный талант.
Великое переселение было назначено на ближайшее, воскресенье. Оно наступило. Волнение наше передалось Алиске. Она вдруг наотрез отказалась идти на руки. Я ничего не могла с ней сделать. Загнанная в ванную, Алиска заняла круговую оборону — с какой стороны бы я ни подошла, всюду меня встречали ее острые зубы. Пришлось прибегнуть к помощи Алексея, к его толстым черным перчаткам. Бедная Алиска защищалась, как могла, и это было тягостно. Но когда она смирилась и тихо лежала в длинной хозяйственной сумке, специально приготовленной для нее, стало еще тягостнее. Появилось сознание предательства…
Путешествие в электричке прошло безо всяких происшествий. Алиска ехала не «зайцем», а на законном основании: я с достоинством протянула контролеру ее персональный собачий билет. Контролер, добродушный старичок, прощелкнул его, а потом поинтересовался: «Какой породы будет собачка?» Не моргнув глазом, я ответила, что «корсаковой». Контролер уважительно заметил, что это, должно быть, какая-то очень редкая порода — он о такой и не слыхивал. Я подтвердила, что, мол, да, это действительно очень редкая порода. Сознаться, что Алиска лиса, я не решалась, поскольку не знала, можно ли провозить без клетки таких пассажиров.
Петушки встретили нас заснеженным покоем — зообаза казалась на редкость безлюдной. Во влажном воздухе было разлито смутное предчувствие неблизкой весны.
Директор звериного Голливуда был явно разочарован Алиской. Ему нужна была подруга для большого красного лиса — приближался февраль, время лисьих свадеб. А вместо рослой сильной самки, матери будущего семейства, появилась наша замухрышка.
Но, несмотря на свое разочарование, директор был приветлив и с Алиской, и с нами. Мы познакомились с его помощницей — худой пожилой женщиной в тяжелых солдатских сапогах.
— Пора загонять ваших деток, — сказал ей директор.
— Каких деток? — поинтересовались мы.
— Эта женщина — мать милого семейства. Она воспитала трех волков. «Детки» обожают ее, но ко всем другим относятся, как и положено волкам. Поэтому только она может перегонять их на ночь из вольера в закрытое помещение.
Уже темнело, мы торопились на поезд, настоящее знакомство с Петушками было отложено до следующего воскресенья.
Обычно время в Москве несется с космической скоростью. Но эти семь дней были какими-то особенными…
Я беспокоилась: сможет ли Алиска жить на морозе — не простудится ли снова?
Директор зообазы утверждал, что нет. Ведь не станет же она сидеть неподвижно, как тогда, на рынке. И быстро акклиматизируется…
Неделя наконец прошла. Наша встреча с Алиской была невеселой. Нет, нет, ничто не угрожало ее здоровью. Но смотреть на нее было больно.
Во-первых, я никогда не видела Алиску в клетке — не дай бог вам увидеть друга за решеткой…
Считается, что корсаки почти не поддаются дрессировке. К такому выводу пришли, по-видимому, люди, общающиеся с ними только в определенные часы и только в положенном месте — на манеже, в клетке и т. п.
Но мы жили с Алиской бок о бок, так сказать одной семьей. Она общалась с нами все время, каждую минуту видела нас, слышала наши голоса и шаги. Ее любили, о ней заботились, и с каждым днем Алиска становилась все более и более ручной, все ближе подпускала нас к себе.
А здесь, в Петушках, она была посажена в камеру, то бишь в клетку-одиночку, незнакомые ей двуногие существа появлялись рядом только для того, чтобы бросить кусок конины или убрать клетку.
И за неделю Алиска потеряла почти все, что приобрела за месяц жизни в нашей семье.
Помните «Остров Моро» Герберта Уэллса? — фантастический рассказ о зверях, которых некий доктор делал почти людьми путем сложных операций. А потом, со временем, они постепенно теряли все свои человеческие качества: начинали лаять, вместо того чтобы говорить, хватали пищу ртом, снова опускались на четвереньки…
Я вспомнила этот странный и грустный рассказ, глядя на понурую, отчужденную, одичавшую Алиску.
Правда, увидев нас, она оживилась, вскочила и издала свой знаменитый клич, а вернее, писк радостного изумления — «дала сверчка». Но этим ее чувства и ограничились.
Я вошла в клетку — она была большой, как для крупного зверя, метра три-четыре. Алиска сначала не хотела принимать угощения из моих рук, потом все же осмелилась — брала, но тут же отскакивала. Алиска меня боялась! О том, чтобы она разрешила взять себя на руки, не могло быть и речи.
Из разговора с директором я поняла, что как актриса она ему не нужна. Значит, снова встал на повестку дня проклятый вопрос: что делать? Неужели смириться, дать Алиске навсегда уйти в сумерки одичания? Ведь она была так одинока! Люди, отобрав у нее степь и свободу, дали взамен только железную клетку…
А другие обитатели Петушков не переживали, по-моему, никаких трагедий. Даже волки, которые, как известно, «все в лес смотрят». Три здоровенных лба прыгали, ласкаясь, как собачонки, на худенькую немолодую женщину в тяжелых сапогах, пытаясь лизнуть ее в лицо и выкусить зажатое в ее руках лакомство — черные сухарики. Это волки-то!..
Невеселые, ломая голову над тем, как быть с Алиской дальше, вернулись мы в город. И тут кто-то из друзей дал мне дельный совет:
— В Уголке Дурова есть корсак. Пристрой туда свою корсачиху — пусть их поженят. Кончится и ее одиночество, и твое беспокойство. К тому же, будешь иметь очаровательных внуков.
Ну что же, я не прочь стать бабушкой! И, может быть, театральная карьера Алиски будет удачнее кинематографической: я имела в виду знаменитый театр зверей.
К тому же улица Дурова, где находится Уголок, — не Петушки, не надо тратить на путь туда и обратно целый день.
Но захотят ли еще там принять нашу невесту? Не посчитают ли этот союз неравным? — какая-то необразованная, не помнящая родства корсачиха, фи!
Сватом был делегирован Алексей. Он принес положительный ответ. Ура! Может быть, судьба нашей неприкаянной Алиски наконец устроится!
В первый же свободный день мы поехали в Петушки. Отдать-то Алиску нам отдали, но вот взять ее оказалось не так-то просто. За последние дни она превратилась в настоящего дикого зверя. Мы долго и мучительно ловили это обезумевшее от страха существо, решившее, по-видимому, дорого продать свою жизнь. Даже очутившись на руках Алексея, Алиска, в противовес прежней своей манере сразу же затихать, не переставала вырываться, царапаться и кусаться. Алексей с трудом справлялся с ней и пару раз едва успел отстранить свое лицо от ее острозубой пасти.
Неужели Алиска совсем забыла нас, неужели она так ничего и не вспомнит?..
До станции было минут двадцать ходьбы. За это время Алиска успокоилась и даже разрешила уложить себя в ту самую длинную хозяйственную сумку, которая служила ей тарой при путешествии в Петушки.
В поезде Алиска укачалась и уснула. По тому, что она вздрагивала и прижимала уши, когда я прикасалась к ее надутому, как барабан, животику, было ясно: он у нее сильно болит.
Были и другие несомненные признаки того, что у малышки разболелся живот… Я конфузилась и краснела, Алексей улыбался одними глазами, соседи вели себя по-разному, каждый в соответствии со своим характером и понятиями о приличии. Одни сидели с каменными лицами, другие подшучивали над нашим плохо воспитанным «ребенком», третьи ему сочувствовали.
Двери внутри нашей квартиры были раскрыты настежь. Сегодня Алиске разрешалось бегать, где угодно. Но она, увы, не воспользовалась этой возможностью, а снова, как когда-то, улеглась в ванной на бочок, пропустив хвост между «иксами» и тихо постанывая. Больно! Я подумала, что ее недавняя вспышка ярости тоже могла быть отчасти выражением этой боли.
А утром нам опять пришлось проделать знакомый путь в ветлечебницу — нельзя же, в самом деле, везти невесту на смотрины в таком плачевном состоянии!
Невесте поставили клизму, приласкали, расспросили меня о ее житье-бытье. И, странное дело: рассказывая об Уголке Дурова, я вдруг поняла, что мои слушатели относятся к этому проекту без восторга. Да и сама я почему-то почувствовала себя немного Иудой. Нечто подобное испытывает, наверное, женщина, сначала усыновившая ребенка, а потом старающаяся от него избавиться…
В Уголке Дурова невеста должна была два-три дня провести в карантине, то есть в отдельной клетке.
Мне показали жениха. Он был великолепен. Крупнее Алиски чуть ли не в два раза, с роскошным хвостом.
Однако «квартирные условия» были у него незавидные: клетка маленькая.
Правда, там стоял домик со снимающейся крышей и «лабиринтом» — это значит, что изнутри домик разделялся на две половины не доходящей до потолка перегородкой. Корсачок попадал сначала в первую «комнату», потом уже во вторую, и там чувствовал себя в безопасности. На воле лисы всегда строят себе «двухкомнатные квартиры».
Конечно, после Петушков Уголок Дурова казался микроскопическим. Киношным звездам жилось вольготнее, чем театральным. Да это и понятно. В распоряжении Уголка, находящемся на одной из оживленнейших столичных улиц, было только небольшое закрытое помещение, заменяющее тропики обезьянам и другим теплолюбивым животным, да прилегающий к нему маленький двор.
Алиске не предстояла жизнь в хоромах. Но, как известно, «с милым рай и в шалаше».
Когда через пять дней (грипп помешал мне сделать это раньше) я снова пришла в Уголок Дурова, то с огорчением и удивлением увидела Алиску по-прежнему одну. Она казалась похудевшей, понурой, вялой. Миска с супом была полна и даже не перевернута — Алиске не хотелось хулиганить.
Почему же все-таки ее не подсадили к жениху? А ведь февраль уже на исходе, кончается месяц лисьих свадеб…
Мне сообщили, что Алиску вообще не подсадят к корсаку, поскольку «фактом своего присутствия она сорвет всю дрессуру».
Вот тебе и на! Зачем же тогда я затеяла эту канитель с переселением из Петушков? Только для того, чтобы Алиска сменила просторную клетку на тесную?
В полной растерянности возвратилась я к Алиске. Ее не было на месте — унесли на эту самую «дрессуру».
Дождавшись ее возвращения — в специальной переносной клетушке, — я спросила юную дрессировщицу, берет ли она уже Алиску на руки?
— А зачем? — равнодушно ответила девушка вопросом на вопрос. — Я этого и не буду никогда делать.
Из дальнейшего разговора с ней я поняла, что понятие «ручная» и «дрессированная» вовсе не одно и то же. А раньше я допускала, что ручная лиса может и не быть дрессированной, но не предполагала, что дрессированная может не быть ручной.
Оказывается, может. От нее добиваются желаемых действий чисто механическим путем, путем создания условных рефлексов: дернула, например, зубами за веревочку, получай награду — кусочек мяса.
Но, должно быть, моя Алиска ничего не знала о теории условных рефлексов: хотела бы я посмотреть, как добьется от нее чего-либо человек, которого она не любит, которому не доверяет! А первый и необходимый признак ее доверия — разрешение брать себя на руки.
И затем, процесс обучения четвероногих актеров построен, в основном, на подкупе. А одна из доминирующих и, на мой взгляд, привлекательнейших черт Алиски — неподкупность.
Мне стало ясно, что и театральной звезды из нее не получится.
Но допустим, что Алиску и заставят сделать тот или иной трюк — жизнь ее не станет от этого менее грустной и одинокой. Люди не стремились установить с Алиской душевный контакт. По-своему они, возможно, были правы: звериный театр существовал и без этого.
Домой я пришла расстроенная. Мы снова оказались у разбитого корыта.
А тут еще мой грипп перешел в воспаление легких, и почти месяц выпал у меня из жизни.
Разумеется, мой первый после болезни визит «в свет» был визитом в Уголок Дурова.
С волнением втягивала я в еще покалывающие легкие острый запах зверинца. Слегка кружилась голова — то ли от слабости, то ли от весеннего дурмана.
В поисках Алиски я долго бродила между клетками по грязному подтаявшему снегу.
— Идемте, я покажу вам вашу корсачиху, — позвала меня юная дрессировщица.
Внешне Алиска мало изменилась. Разве что немного похудела да вылиняла. Но внутренне… Сказка про грустный опыт доктора Моро подходила к финалу. В клетке лежал угрюмый и какой-то погасший зверек. Он был только корсаком, попавшим в неволю, и никем больше. В нем ничего не осталось от Личности, от ни на кого не похожей Алиски. Все контакты между ней и мною были порваны. По-моему, Алиска даже не узнала меня.
Впрочем, в последнем я все-таки ошибалась. Когда, не надеясь на успех, а так, на всякий случай, я протянула Алиске сквозь прутья свой указательный палец, она, вспомнив что-то, осторожно взяла его в зубы и подержала несколько мгновений.
Потом Алиска ушла в свой домик и больше уже не показывалась. Лежала, наверное, прижав ушки во второй «комнате» и думала что-нибудь, вроде: «И ты, Брут!»
Эпизода с пальцем мои нервы уже не выдержали. К великому своему стыду, я, на глазах у несколько даже смущенной таким взрывом чувств юной дрессировщицы, разревелась, как девчонка. Только немного возьму себя в руки, опять обжигает воспоминание об Алискиной ласке и о том, как потом, словно опомнившись, она повернулась и ушла в свой домишко… А тут еще, как на грех, и носовой платок куда-то задевался!
Такой, донельзя зареванной и несчастной, меня застал Алексей — мы с ним назначили свидание около Алискиной клетки. Сначала он испугался — что случилось? — а потом, поняв все, решительно сказал: скоро лето, что мешает нам поселить ее на даче? А там видно будет: И возьми, пожалуйста, мой носовой платок…
ТЫ В ОТВЕТЕ ЗА ВСЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛ
Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил.
Экзюпери
Я рассказываю об Алиске, а на планете гремят военные бури и взрывы классовых боев.
На грозном глобальном фоне — хрупкий силуэт маленькой степной лисички с ножками «иксом». Стоит ли писать о ней, не слишком ли это камерно?..
Человек всегда остается человеком. Всегда живы в нем и благодарная любовь к природе, и чувство прекрасного, и рыцарские чувства — желание защитить того, кто нуждается в защите.
А если порой Человек и забывает о своей человеческой сущности — горе ему.
…Несколько лет тому назад, в один и тот же день, в один и тот же час, на всей огромной территории Китая затрещали трещотки, загремели барабаны, затрубили трубы. Все многомиллионное население страны, и стар и млад, размахивая руками и вопя, вышли из своих домов для того, чтобы привести в исполнение дьявольски остроумный и дьявольски жестокий план.
И трещотки, и барабаны, и трубы, и вопли служили одной цели — поднять с места и не дать снова сесть миллиардам «злостных вредителей» — воробьев. Они могут держаться в воздухе лишь очень короткое время.
И вот, в страшной панике заметались над головами людей насмерть перепуганные птицы. А люди все бесновались, адская какофония не утихала. И одно за другим разрывались крошечные сердца, один за другим падали на землю бездыханные взъерошенные комочки. Дети хлопали в ладоши и визжали от восторга, довольные, потирали руки взрослые.
Вскоре все было кончено. В Китае не осталось ни одного воробья.
Однако результаты этого избиения, этой воробьиной «варфоломеевской ночи» оказались неожиданными. Люди были быстро и строго наказаны за свою жестокость: обрадованные отсутствием воробьев, на поля хлынули тучи насекомых. Посевы гибли. Голод полз по стране. И пришлось завозить в Китай из другой страны маленьких верных крылатых друзей…
Наверное, точно подсчитано, какой материальный урон понесли тогда китайцы. Но кто подсчитает, какой урон понесли души их детей во время этого прекрасно организованного хладнокровного убийства?
Отношение к «братьям нашим меньшим», к существам, всецело от нас зависящим, — пробный камень для каждого. Но я совсем не хочу сказать, что всякий человек, питающий слабость к животным, — хорош.
Бывшие узники фашистских лагерей смерти хорошо знают, что изверги, некогда травившие их овчарками, часто нежно и искренне любили этих самых овчарок и вообще всяких там собачек и кошечек.
Все это так. Далеко не каждый питающий слабость к животным — хорош! Но я уверена, что каждый жестоко с ними обращающийся — плох.
Мы сняли дачу у некоей бабы Мани и переехали туда со всем зверинцем — Алиской, Тихоней и Кисой. На участке мы поставили собачью конуру — шикарный дом для Алиски и обнесли его с четырех сторон металлической сеткой — получился просторный вольер.
Через три дня после новоселья я очень удивилась, увидев внутри вольера… Тишку, увлеченно играющего с Алиской. Лисичка теребила пса за уши, шутливо покусывала его за ноги, носилась вокруг, как маленький веселый чертенок, и даже вскакивала ему на спину, как заправский кавалерист.
Надо сказать, что в жизни своей я не встречала более добродушного и общительного создания, чем Тихон. На даче он сразу же пытался подружиться со всеми — даже с ежами, ночью притопывающими из леса. Попытки эти всегда кончались для Тишки одинаково: окровавленным носом и разбитыми надеждами. Но он не терял веры, что следующий фыркающий комочек все-таки поймет его…
Первая попытка этого неисправимого оптимиста подружиться с Кисой едва не стоила ему глаз.
В дальнейшем их отношения строились так. При встречах носом к носу Киса «делала верблюда» и завывала отвратительнейшим голосом, а Тихон «не замечал» ее. Он невозмутимо шествовал своим путем с выражением достоинства на морде, отвернув ее, однако, в сторону и полузакрыв глаза. Совсем не лишняя предосторожность. Будучи в особенно дурном настроении, Киса, как фурия, вцеплялась прямо в морду бедного добряка. Но и тогда Тишка только пытался стряхнуть с себя злючку, не причинив ей вреда. Он был слишком благороден для того, чтобы бить женщин.
Киса молниеносно покорила сердца всех окрестных котов. Дача бабы Мани осаждалась влюбленными кавалерами разных мастей. Одни висели на деревьях, как экзотические плоды. Другие, подобно изваяниям, украшали изгородь. Третьи, понахальнее, через отверстия, сделанные в фундаменте, чтобы дом «дышал», проникали к нам в подпол и устраивали ночные концерты.
Однажды, при помощи самодельного «лассо», Аленка поймала там наиболее настырного Кисиного поклонника и через люк в кухне почти вытянула его из подпола. К сожалению, «лассо» захлестнулось не вокруг лапы ухажера, как это было задумано, а вокруг его шеи. Кавалер, выпучив глаза, задыхался, хрипел, а девочка не могла его отпустить: удирая с длинной веревкой на шее, бедняга мог бы зацепиться за что-нибудь и удавиться. Осторожно и терпеливо, сантиметр за сантиметром Аленка выуживала упирающегося кота, как рыбак вываживает громадную сопротивляющуюся рыбину…
Когда — еще в Москве — у Кисы появились «кисята», соседи моментально разобрали их, так как они были «все в мать». Такие же пушистые, хорошенькие.
Обнаружив исчезновение своих детей, Киса почему-то посчитала виновником этого похищения бедного Тихона. Вот тогда-то она впервые попыталась вцепиться ему в глаза.
А нежное сердце Тихони алкало дружбы. И вот судьба снова свела его с Алиской…
Но как все-таки пес попал в вольер? Перепрыгнул? Однако высота его почти два метра!
Ладно, посмотрю, как он будет выбираться обратно.
Оказывается, очень просто — как кошка, цепляясь когтями за ячейки сетки. Нельзя сказать, что это было слишком грациозно — я воочию убедилась, что такое «собака на заборе».
Теперь Тишка мог в любое время дня и ночи приходить в гости к своей подружке. Встречи эти обычно проходили по одной и той же схеме. Увидев приближающегося Тихоню, Алиска от избытка чувств начинала беспорядочно метаться по вольеру. Метание это продолжалось до тех пор, пока Тишка не плюхался на землю уже в Алискином царстве и тут же бросался следом за лисичкой, вдохновляемый честолюбивой мечтой поймать ее за хвост. Обоих охватывал невероятный спортивный азарт. Порой Алиска вдруг круто меняла курс и не успевающий затормозить Тишка врезался на полном ходу в угол вольера.
Алиска была неутомима в своих проказах, Тихон уставал: язык до земли, пыхтит, как паровоз. Он растягивался на полу и засыпал. Алиска безрезультатно теребила дружка, потом забиралась к нему на спину, как на матрац, и тоже засыпала.
На шум «битвы» часто прибегала Киса. Взобравшись на один из столбов вольера, она маячила там, как часовой на вышке, не сводя с «дерущихся» громадных желтых глаз. Она явно «болела» за Алиску и страшно волновалась, когда ей казалось, что лисичка сейчас попадет в зубы кровожадного пса. В эти моменты горб ее вырастал до максимальных размеров, шерсть вставала дыбом, завывание шло на самой высокой ноте — вот-вот бросится на Тихоню. Мне приходилось в последний момент хватать ее на руки…
Я кормила Алиску и Тишку вместе, из одной миски. Первой всегда начинала есть хозяйка вольера. Тишка, облизываясь, деликатно стоял в стороне, терпеливо дожидаясь, пока подружка отвалится от миски. Но подружка оказалась жадиной. Ее угнетала мысль, что невозможно слопать все самой, она торопилась, захлебывалась, глотала целиком громадные кусищи.
Будучи, увы, не в силах одна одолеть то, что я принесла в расчете на двоих, Алиска выхватывала из миски кусок побольше и, держа его в зубах, начинала метаться по вольеру. Дружба, мол, дружбой, а табачок врозь.
Но и закопав наконец свое сокровище, она через минуту снова впадала в панику, разрывала землю, хватала мясо и опять носилась с ним по вольеру.
А Тихон невозмутимо наблюдал за Алиской, потом так же невозмутимо разрывал лапами и носом ее кладовые.
Однажды, я чистила вольер, Алиска заигрывала со мной, хватая зубами то за полу куртки, то за брюки. Тихоня вертелся снаружи. И вдруг я заметила, что он застыл на месте, уставившись куда-то странным взглядом. Проследив направление этого взгляда, я тоже на мгновение застыла. Оказывается, я забыла закрыть вольер на задвижку. Алиска, разумеется, тотчас заметила мою оплошность и вышла наружу. Не успела я сообразить, что предпринять, как Тишка сделал прыжок к Алиске, она рванулась от него, и началась сумасшедшая гонка. С воплем «Тихон, назад!» я выскочила из вольера — испугалась, что пес загонит Алиску на чужой участок. Трудно ли ей проскользнуть сквозь изгородь? А там могут быть нормальные, не похожие на нашего Тишку собаки, которые разорвут корсачишку на клочки… И как вообще теперь поступить, как загнать Алиску обратно в клетку? И почему бы ей сейчас не броситься прямо в лес, к которому одним своим боком примыкает участок бабы Мани?
К счастью, послушный Тихоня почти сразу повиновался мне — подбежал, задыхаясь и роняя слюну. Я схватила дрожащего от возбуждения пса за ошейник и поволокла его привязывать. Потом, в ужасе, со спринтерской быстротой вернулась на место катастрофы, на ходу крикнув своим в открытое окно: «Алиска сбежала!»
Что же теперь делать, что можно сделать?.. Какой неожиданный и грустный финал! И именно сейчас, когда все так хорошо устроилось.
Я бросила тоскливый взгляд на вольер и не поверила своим глазам. Там, на крыше домика спокойно возлежала Алиска и настороженно смотрела на нас своими громадными раскосыми глазищами.
После этого я решилась выпускать Алиску на волю: я не сомневалась, что она вернется домой.
— Да, один раз Алиска вернулась, — соглашался Алексей, — но я считаю это чудом. А где гарантия, что чудо повторится?
Гарантия? Какая тут может быть гарантия? Интуиция плюс некоторое понимание Алискиного характера — вот и вся моя гарантия.
Я отодвинула дверцы вольера… Вы думаете, что Алиска пулей вылетела на свободу? Нет, она тут же предположила, что это провокация, и решила на нее не поддаваться.
Но трудно противостоять зову свободы, особенно когда знаешь ее вкус. Алиска начала колебаться. Она то выходила «за порожек», то снова заскакивала назад. И наконец…
Я никогда не видела зрелища прелестнее этого первого знакомства Алиски со свободой. Она не шла и не бежала. Она все время взлетала ввысь, как фонтан: вероятно, просто боялась, что из-за высокой травы не увидит опасности, но выглядело это как какой-то причудливый, очаровательный, ни на что не похожий танец. А траектория движения Алиски напоминала и беспорядочный полет мухи, и порхание бабочки. Это действительно был танец, славящий свободу и весну.
А весна собиралась вот-вот перейти в лето. Припекало солнце, воздух гудел и звенел, сладко пахло медом, горько пахло полынью.
Алиска старалась держаться поближе ко мне — не так страшно. А при малейшей тревоге — треснет ли сучок, долетит ли с улицы чей-то голос — опрометью мчалась «спасаться» в вольер.
Вскоре, воспользовавшись очередной паникой Алиски, я снова задвинула за ней дверь. Первая прогулка продолжалась не более десяти минут.
На следующий день Алиска чувствовала себя на воле гораздо увереннее. Теперь уже не она бегала за мной, а я за ней. И «спасалась» она гораздо реже — «акклиматизация свободой» шла быстрыми темпами. На этот раз «узница» оставалась на воле минут двадцать.
В третий раз я выпустила Алиску из вольера рано утром, нарочно не покормив ее после ночи, и решила так делать всегда. Голодная, она скорей вернется, особенно если в нужный момент я положу на крышу домика какое-нибудь остро пахнущее лакомство.
Теперь Алиска чувствовала себя на воле, как рыба в воде. Она носилась по участку за бабочками, так же безрезультатно подстерегала явно поддразнивающих ее сорок, из-за засады неожиданно «нападала» на меня. Но главным ее занятием было изводить несчастного Тишку.
Во время Алискиных прогулок пса приходилось привязывать: иначе он сразу бы загнал ее на чужой участок или в лес. Чтобы Тихон не слишком переживал свое унижение, мы натянули между двумя осинами проволоку, вдоль которой он и бегал взад-вперед, громыхая цепью, как каторжник кандалами. Этой цепью нам пришлось заменить его поводок — тоже из-за Алиски.
Дело в том, что она придумала себе веселую игру. Мгновенно поняв полную беспомощность привязанного Тихони, лисичка издали, со скоростью экспресса, мчалась прямо на него. Пес волновался, повизгивал, нетерпеливо переступал с лапы на лапу в ожидании того счастливого момента, когда он сможет схватить свою подружку. Вот Алиска поравнялась с Тихоном. Он делает стремительный рывок, поводок натягивается до предела — того и гляди, оборвется. Сейчас Алиска будет поймана. Но плутовка рассчитала все с математической точностью. Ее хвост мелькает буквально в одном миллиметре от пасти пса, и вот она уже сидит с довольным видом — провела дружка! Рот до ушей, язык высунут, глазищи смеются. А Тишка, с силой отброшенный назад натянувшимся поводком, озирается с глупым видом. Через две минуты представление повторяется снова… Конечно, никакой поводок не мог бы долго выдержать таких испытаний на прочность. Вот и пришлось заменить его цепью.
Порой за расхулиганившейся Алиской хмуро наблюдали две недоброжелательные фигуры — баба Маня и Киса. Первая как всегда поджимала губы и бормотала «не положено», вторая как всегда «делала верблюда» и завывала.
Однажды Алиска решила сломать лед в отношениях с этим сердитым существом. Весело и доверчиво направилась она к Кисе. Чем больше сокращалось расстояние между ними, тем горбатее становилась маленькая пушистая фурия, тем пронзительнее делалось ее завывание. Но Алиску это не останавливало. Вот до Кисы осталось всего три метра… два… один… Ее завывание стало походить на сигнал воздушной тревоги. В последний момент нервы мои не выдержали, и я схватила Кису на руки, так и не узнав, что было бы дальше…
Поначалу, носясь по участку, Алиска все-таки косила одним глазом в мою сторону, стараясь не выпускать меня из поля зрения. И стоило мне зайти в вольер и положить на крышу домика что-нибудь вкусное, как она моментально появлялась там.
Так продолжалось около месяца. Но потом ей стало не хватать нашего участка. Алиска исчезала на час, а порой и на три. То один, то другой сосед видел ее у себя. Я начала беспокоиться, особенно после того, как «левый сосед» сказал, что Алиска играла с его щенком. Само по себе это, разумеется, прелестно, но что, если она, например, задумает поиграть со здоровенной черной догиней, принадлежащей «правому соседу»?
Однажды Алиска вернулась позже обычного, и вид у нее был какой-то подозрительный — одновременно довольный и виноватый. Она не дотронулась до еды, быстро проскользнула в свой домик и не отзывалась на приглашение выйти.
Через некоторое время пришла всезнающая баба Маня и разразилась гневным монологом:
— Алька-то ваша что наделала! Всех курей у В. (она назвала фамилию одного писателя) передушила. Горла все перегрызла, паскудница, и положила рядком, аккуратно так. А людям-то какое разорение! Нет, ты мне скажи — разве это положено? Не по-ло-же-но!
— Баб Мань, а откуда известно, что это Алиска?
— Кто же еще? Да и видали ее! Не отперетесь!
Я и сама понимала, что «не отперусь»… Говоря откровенно, я не очень осуждала Алиску. Нечего писателям разводить кур, не их это дело. Но я боялась, что выступления Алиски против частнособственнических пережитков закончатся печально…
…И вот случилось то, чего мы так боялись: Алиска не вернулась.
Уже кончался длинный летний день, уже темнело, а ее все не было. Мы всей семьей молча бродили вокруг клетки.
Не вернулась Алиска и утром. По-видимому, случилась какая-то беда.
В полдень, как всегда без стука, вошла баба Маня и сердито сказала:
— Петровы велели, чтоб вы свою Альку забирали.
Мы с Аленой вылетели в чем были за калитку. Нужная нам дача была почти рядом, через три дома.
Хозяйка рассказала:
— Я была на террасе, когда вдруг услышала страшный лай. Вижу, к нам в сарай ворвалась целая свора собак — три или четыре, я хорошенько и не разобрала. Ну, я схватила ведро с водой и к ним. Дорогие гости уже сцепились в углу в один клубок. Я закричала и окатила их водой. Убежали. Я тоже хотела уходить, как вдруг вижу: из угла высунул морду и уставился на меня какой-то зверь. А какой — в полутьме не успела разобрать. Я испугалась и выскочила из сарая. Прибежал муж, разглядел зверя и говорит: «Да на нем ошейник! Это же соседский лисенок!»
Мы пошли в сарай. Алиска долго не хотела выходить к нам. Потом откуда-то появилась, но долго не давалась в руки, — видно, здорово ее напугали собаки. Когда глаза мои привыкли к темноте, я заметила, что левое ушко у нее было разорвано…
Другая соседка рассказала нам, что она видела, как три собаки гнали по улице Алиску, а она кричала «человеческим голосом…»
Из рассказов других очевидцев я восстановила в деталях всю эту историю.
Это была история об обманутом доверии. Началась она с того, что наша неисправимая авантюристка отправилась, как всегда, на поиски приключений. Она весело поиграла с добродушным «левым щенком» и в прекрасном настроении потопала своими «иксиками» дальше.
Она пробиралась с участка на участок, всюду находя для себя что-нибудь занимательное. И вдруг — какая удача! — она увидела трех зверей, которые несомненно были родственниками Тихона и «левого малыша», хотя внешне не походили ни на того, ни на другого.
Весело и непринужденно направилась Алиска к этой троице. Дурочку не остановило даже то, что при ее приближении собаки зарычали, как не останавливало раньше завывание Кисы. Она, уже привыкшая к доброте, просто не представляла себе, что кто-то может ее обидеть. А псы эти были обыкновенными псами и обладали нормальными собачьими инстинктами. Они видели приближающуюся лису, слышали запах дикого зверя. Сначала ее нахальство ошеломило их, они замерли. А Алиска была уже совсем рядом. Она завиляла хвостом, предлагая поиграть с ней. И вдруг маленькая пушистая собачонка бросилась на нее, собираясь вцепиться в горло. Алиска увернулась и только почувствовала, как ей обожгло левое ухо. С лаем бросились на нее и два других пса. Алиска еще не успела ничего сообразить, как ноги сами понесли ее прочь. Она бежала в ужасе и ничего не понимала — почему, за что? А за ней бежала ее смерть в образе трех разъяренных псов.
Алиска мчалась уже из последних сил, мчалась к себе домой. Вот она поравнялась с нашей дачей, но… калитка закрыта. А времени на то, чтобы найти дыру и пролезть в нее, нет. Псы вот-вот схватят ее. Тогда-то Алиска и закричала человеческим голосом, — может быть, звала нас на помощь…
После этого происшествия не могло быть, естественно, и речи о том, чтобы выпускать Алиску на волю. Ее вселенная снова ограничилась вольером.
Зато она еще теснее сблизилась с Тихоном. Друзья стали неразлучны, и мы не могли на них нарадоваться. Но вот однажды я услышала жалобный щенячий плач. Кто жалуется, кого обидели?
Оказалось, плакала Алиска, которую в самый разгар игры вдруг покинул Тихоня. Она пыталась лезть по сетке вслед за уходящим дружком. Но больше чем на полметра лисичке не удавалось взобраться. Она падала вниз, и карабкалась снова, и снова падала…
Этот отчаянный плач я слышала все чаще и чаще. Научившись одолевать Алискин вольер, Тишка использовал свой опыт и для преодоления изгороди, окружающей дачу. Удержать его было невозможно: по поселку бродили легкомысленные четвероногие дамы, то и дело раздавался многоголосый лай, вспыхивали собачьи бои.
Порой Тихон исчезал на двое-трое суток и возвращался отощавший, искусанный, несчастный.
Придя домой, Тихон виновато проползал на брюхе путь от забора до конуры. Несколько дней он отлеживался, зализывая раны, — физические и душевные. Потом все повторялось сначала.
Алиска стала вялой, угрюмой, непохожей на себя.
И вот однажды, нагулявшись, Тихоня как ни в чем не бывало снова появился в вольере. Мы ожидали взрыва восторга со стороны Алиски. Но она и ухом не повела — в буквальном смысле этого слова. Напрасно пес заигрывал с ней, пытаясь вовлечь в обычную веселую возню. Алиска только скользнула по нему пустыми глазами, широко зевнула и неторопливо затрусила в свой дом.
Раннее утро. В руках у меня миска с едой.
Завидев меня, проголодавшаяся за ночь лисичка начинает метаться по вольеру. А когда я вхожу внутрь, она прыгает на меня, как веселая собачонка, и от нетерпения дергает зубами подол моего платья.
Затем я чищу вольер, а Алиска мне мешает: с ожесточением набрасывается на грабли, которыми я выгребаю загрязненное сено, «мышкует», охотясь за моими ногами.
Потом я беру работу и, если позволяет погода, ставлю в вольер легкий раскладной столик с обгрызенными Алиской ножками и такой же раскладной стул.
Я не хочу терять ни одного часа контакта с Алиской — ведь каждый час работает на меня, сближая нас.
И затем мне хорошо думается здесь, в вольере. Странно, но факт: его сквозные стены ограждают от суеты и забот.
А корсачишка, которая требует к себе внимания, яростно набрасываясь то на ножки стола, то на мои ноги, не мешает внутренней сосредоточенности. Я рассеянно вожусь с ней, продолжая думать о своем. Мне радостно, что есть на свете существо, которое я могу защитить от всех невзгод.
(Так мне казалось тогда. Как будто можно защитить кого-нибудь от неумолимой связи закономерного и случайного, ранее называемого судьбой!..)
Иногда я брала Алиску с собой в лес. Приходилось нести ее, как младенца, на руках — к поводку она так никогда и не привыкла. Алиска обожала эти прогулки. Ведь она была любопытна, как мартышка, а в лесу на каждом шагу столько интересного.
Однажды мы отправились с ней в обычную нашу прогулку. Стоял тихий грустноватый полдень бабьего лета. Уже поразъехались дачники, лес отдыхал от транзисторов. Мы шли по прямой, как автострада, просеке. Светились стволы берез, слепило небо, оглушала тишина. И вдруг — женский крик. Я оглянулась. По просеке прямо на нас молча карьером летел громадный, ростом с теленка, лохматый белый пес. Я узнала Пирата — свирепую южную русскую овчарку.
Не только местные мальчишки обходили стороной роскошный яблоневый сад, охраняемый Пиратом, но и взрослые люди, отнюдь не претендующие на чужие яблоки, боязливо косились на ограду, вдоль которой, скаля желтые клыки, метался здоровенный, до глаз заросший белой косматой шерстью зверь.
И вот это страшилище летело сейчас на нас. Следом, сильно отстав, бежала на высоченных шпильках толстая, рыхлая дама. Она кричала, размахивая поводком, пес зловеще молчал.
Расстояние между нами катастрофически сокращалось. Спасаться бегством было глупо — опаснее, чем оставаться на месте и попытаться занять Пирата светскими разговорами до тех пор, пока не прибудет его хозяйка с поводком. И главное — стараться не показать своего страха.
Но Алиска еще успеет удрать. Не преподносить же мне ее как на блюдце Пирату. Необходимо сейчас же выпустить корсачишку. Даже если я никогда уже не увижу ее больше…
Я опустила Алиску на землю. Оказавшись на воле, она скользнула в кусты и тут же исчезла — ищи-свищи!
А пес то ли не заметил ее бегство, то ли я показалась ему более привлекательной добычей: он не изменил на правления атаки. И продолжал бежать молча, без лая. Это было особенно жутко.
Я встала спиной к старой толстой березе. Между мной и псом осталось уже не больше двух метров. «Пират, миленький, дорогой, — заворковала я противным заискивающим голосом, — не трогай меня, пожалуйста…»
Пес остановился, и я, ободренная его замешательством, продолжала уже более уверенно: «Ты же такой красивый, такой умный, такой добрый…»
В этот самый момент я увидела, что Пират изготовился для прыжка и метит мне прямо в горло. Первый прыжок был недостаточно высок. Не знаю, как мне удалось увернуться от второго.
С ужасом ждала я третьей атаки, одним глазом следя за спешащей изо всех сил хозяйкой Пирата. Страх придал ей энергии, но все-таки она должна была опоздать. Да и справится ли эта дама со своим разъяренным псом?..
И вдруг Пират, уже приготовившийся к прыжку, взвыл. Я не поверила своим глазам: в его заднюю ногу впилась, как бульдог, моя маленькая отчаянная лисичка…
Пират молниеносно обернулся, однако клыки его щелкнули вхолостую. Алиска уже мчалась от него, задрав свой пушистый хвостище. В таком виде она становилась короче в два раза, и, разумеется, в нее было в два раза труднее вцепиться. Конечно, Пират, забыв обо мне, бросился за Алиской.
Я перевела дух и ближайшей дорогой побежала домой. У меня не было никаких сомнений, что Алиска легко уйдет от Пирата. Но вот вернется ли она домой?
Когда я вбежала в вольер, Алиска спокойно возлежала на крыше своего домика, лишь бока ее вздымались выше обычного. И весь ее вид — и ленивая поза, и полузакрытые глаза — говорили: «А что, собственно говоря, случилось? Я поступила как всякая уважающая себя лиса. У нас, в пустынях и полупустынях Азии и Юго-Восточной Европы, не принято покидать друга в беде».
Пришел дождливый октябрь, давно уехала в школу Алена, а мы с Алексеем все сидели на даче, не зная, что делать с Алиской: было ясно, что совместное существование с ней в городе невозможно. И здесь жизнь сама разрешила эту проблему.
В конце месяца мы уехали в командировку и скрепя сердце отдали своих зверей на милость нашей хозяйки — бабы Мани.
Старуха терпеть не могла «Альку», не понимая, как можно возиться с животным, от которого нет никакой, как она выражалась, «прибыли».
Вернувшись через три недели, я застала Алискин домик пустым. Бросилась к бабе Мане. Она встретила меня радостным монологом: «Убегла Алька-то. Через пару деньков после вас. Прихожу это я утром, как положено, с миской. Сейчас, думаю, выскочит и начнет на меня кашлять. Это в благодарность-то!.. Гляжу, не выскакивает, а дверь вольера чуток приотворена. Я это, значит, запамятовала ее с вечера закрыть на задвижку, а Алька-то, хитрюга, видать, учуяла такое дело… Да чего вы убиваетесь? Радоваться надо — развязала руки. Ведь забот вам с ней было!»
Со времени исчезновения Алиски прошло уже более двадцати дней. Я не сомневалась, что она, если только не погибла сразу, не единожды возвращалась к себе домой. Но на даче была только баба Маня…
Однако всего вероятнее, что первый же день свободы был для Алиски последним днем ее жизни. Ни собаки, ни охотники не пощадили бы ее, слишком доверчивую для того мира, в котором она вдруг оказалась. И ведь Алиска не умеет добывать себе пищу…
Ни на что не надеясь, я все-таки положила на крышу ее домика кусок мяса. Утром мясо осталось на месте.
На другую ночь мясо исчезло, но на подходе к нему в грязи четко отпечатались кошачьи следы…
Мы уехали в город.
На всякий случай я попросила бабу Маню оставлять на крыше домика что-нибудь для Алиски. Но если старуха это и делала, то, должно быть, лишь подкармливала какого-нибудь одичавшего кота, брошенного дачниками на произвол судьбы.
Я снова уехала в первую же подвернувшуюся командировку. Возвратясь, жила в городе. И лишь в конце марта приехала как-то на дачу бабы Мани.
День был сияющий, весенний. Воспоминания уже немного потеряли свою остроту. Все стирается в конце концов в памяти сердца… Вот только вольер я старательно обходила.
А ночью мне приснилась Алиска. Я проснулась от ее голоса — высокого, похожего на писк сверчка звука, выражающего у нее радостное изумление.
Я зажгла свет, почитала, снова уснула. А утром на рыхлом снегу с бьющимся сердцем увидела тоненькую цепочку следов, бегущую к дому, к тому окну, рядом с которым стояла моя кровать. Маленькие, пятипалые, они были невероятно похожи на Алискины.
Неужели лисичка жива, неужели какие-то смутные воспоминания, брезжащие в сумерках ее сознания, привели Алиску к даче именно в то время, когда я была там?
Но, возможно, следы эти оставил какой-нибудь другой зверек — ведь за изгородью сразу же начинался лес. Пожалуй, даже лучше, если другой. Страшно представить, что рядом бродит существо, осужденное на вечное одиночество, существо, никому не нужное, кроме тебя, и навеки для тебя потерянное, существо, за которое ты «навсегда в ответе», потому что приручил его, а потом не смог уберечь.
Алиска… Пришла неизвестно откуда, ушла неизвестно куда. И я никогда уже, никогда не узнаю, кто оставил свои следы на рыхлом снегу в ту мартовскую ночь…
1973
ЕВРОПА ГЛАЗАМИ СОЛДАТА
МОЯ ФРАНЦИЯ
1. НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ
Назначенная поначалу на октябрь, поездка эта откладывалась столько раз, что я перестала в нее верить. Но как только меня угораздило подхватить воспаление легких, тут же позвонили из Комитета советских женщин и предупредили, что мы летим в Париж 22-го января, то есть через семь дней.
«Мы» — это две ученые дамы: историк и биолог плюс представитель свободной профессии — автор этих строк. Во Францию нас пригласила «Д'Оссасиасьон де фамм дипломэ» (Ассоциация женщин с высшим образованием).
Итак, до отъезда оставалась ровно неделя. Не так много, если учесть, что в этот же срок я должна была покончить с пневмонией…
Напичканная до одурения антибиотиками и до одурения же утепленная (в Москве было около 30° мороза), вступила я дрожащими от слабости ногами на трап ТУ-104.
…Над Западной Европой стоял густой туман. Париж не смог нас принять. Брюссель — тоже. И Антверпен. И Амстердам… Мы долго кружились над Копенгагеном, пробивая низкие облака, а пробив их, очутились прямо на взлетной дорожке. Не знаю, как другим пассажирам, но мне эти чудеса авиации почему-то не очень понравились…
Копенгагенский аэропорт запомнился необычной длиной застекленных переходов, по которым, лихо отталкиваясь одной ногой, мчались на детских самокатах стюардессы и другие работники авиации. Мне смертельно захотелось последовать их примеру, но сознание, что я принадлежу к солидной корпорации «фамм дипломэ», удержало меня от этого несолидного поступка.
Через каждые полчаса радио аэропорта смущенно извинялось перед нами за плохую погоду в Париже. Нам ничего не оставалось, как принимать эти извинения. Через четыре часа была, наконец, объявлена посадка. А еще через час мы приземлились в парижском аэропорту Бурже.
Франция удивила нас теплым дождем — было 16° тепла. Хороши мы были в наших тяжелых шубах!
Нас встречали и везли в город три милые «фамм дипломэ»: темпераментная Сесиль Валензи — юрист, приветливо-сдержанная Жермен Леймари — преподаватель и литератор, и Тамара Борисовна Бродская — журналистка, родившаяся в Петербурге.
Увидев, как в поисках запропастившихся ключей от машины Жермен лихорадочно перерывает свою сумочку, и узрев там родной дамский беспорядок, я подумала, что все женщины на свете — независимо от национальности, убеждений и вероисповедания — одинаковы. Эта же мысль пришла мне в голову, когда я заметила знакомую «дорожку» на капроновом чулке другой «фамм дипломэ»: по-видимому, «проблема чулка» не решена еще нигде в мире…
А если серьезно — что прежде всего объединяет нас — «дипломированных женщин» Франции и Советского Союза? Наверное, то, что мы не представляем себе счастья без любимой работы.
Конечно, положение наших ученых французских сестер весьма сложное.
В Советском Союзе только безнадежный смешной мещанин — мишень для «Крокодила» — желал бы видеть свою дипломированную жену в виде куколки-безделушки или в качестве экономки, организующей ему «красивую» домашнюю жизнь.
А во Франции подавляющее большинство состоятельных мужчин не желают, чтобы их супруги работали. И потому многим француженкам приходится сражаться не только с работодателями, но и с собственными мужьями. Это борьба за человеческое достоинство — тяжелая война нервов. Ее невозможно вести в одиночку. Женщины объединяются в различные союзы. Один из них, причем очень влиятельный, имеющий свои отделения в более чем пятидесяти странах мира — «Ассоциация дипломированных женщин».
Дорога от Бурже идет через район, напоминающий наши Черемушки. Помню, как когда-то, впервые прилетев в Париж и увидев эти скучные дома-коробки, я была разочарована: где же он, неповторимый город, воспетый всеми художниками мира?
И сейчас, в маленьком «Пежо», медленно пробирающемся через парижские Черемушки, я ревниво говорила своим коллегам: «Подождите! Это еще не Париж!»
Но вот мы в самом центре города. Наш отель «де Л'Аркад» приютился на маленькой улочке того же названия, впадающей, подобно скромному ручейку, в широкую бурлящую реку фешенебельного Бульвара Мадлен — одного из самых блестящих среди Больших Бульваров.
Грандиозная, похожая на языческий храм, католическая церковь Мадлен была прекрасным ориентиром — ее высокие белые колонны часто служили нам маяком, когда мы пускались «вплавь» (то есть пешком) по незнакомому морю Парижа.
В двух шагах от Мадлен раскинулась и красивейшая площадь мира — площадь Согласия. Направо от нее — Елисейские поля, налево — сады Тюильри, ведущие к Лувру.
И Эйфелева башня, и Нотрдам, и Большая Опера — все рядом.
А отель наш точно такой, в каком я и мечтала остановиться — небольшой, очень уютный и чистый, с приветливым остроумным портье и услужливыми, но неподобострастными горничными. В маленьком номере есть все, что нужно человеку и, слава богу, ничего лишнего. В вазочке — алые розы, знак внимания наших хозяек — «фамм дипломэ».
Впереди двадцать дней во Франции, интересные встречи.
Все прелестно, но мне ничего не надо, я ничего не хочу, у меня нет сил подняться со стула. Мне то жарко, то холодно, тошнит, все время умираю от жажды — в общем, кажется, я недалеко улетела от своей проклятой пневмонии.
Со страхом сую под мышку градусник, через две минуты смотрю: уже 38°…
Нашла время и место, где болеть.
Но в дверь стучат. Входит улыбающаяся Жермен. Она должна отвезти нас на вечер к президенту ассоциации мадемуазель Ленэ. Что делать? А ля гер ком а ля гер — на войне как на войне. Потому улыбаюсь и иду. Прошу только остановить машину около аптеки, покупаю самое разрекламированное лекарство и глотаю сразу три таблетки.
Пусть простит меня дорогая мадемуазель Ленэ, но вечер в ее очаровательном доме остался в моей памяти страшной фантасмагорией.
Я вообще-то не рождена для блеска светской жизни. Перспектива вращения в незнакомом обществе всегда ввергала меня в панику. А здесь еще нужно «вращаться», болтая только по-французски, — переводчика во время этой поездки с нами не было!
Мы три — как говорится, простые советские женщины — были тремя островками, омываемыми волнами светского моря: приглашенных было великое множество. По-видимому, за счет температуры, все они казались мне на одно лицо, я по нескольку раз здоровалась с одной и той же дамой, по нескольку раз рассказывала одну и ту же историю и никак не могла усвоить, кто «мадам», а кто «мадемуазель».
По какой-то странной закономерности большинство «фамм дипломэ» — мадемуазели, то есть незамужние, женщины. И хотя почти все эти мадемуазели находятся уже в том почтенном возрасте, когда естественно иметь взрослых внуков, они немного обижаются, когда их величают «мадам».
К концу вечера я не могла изъясняться не только по-французски, но и по-русски и забывала, как зовут моих советских коллег.
Но все кончается. Кончился и этот вечер — первый вечер в Париже.
А ночью случилось трагическое происшествие. Упала и разбилась предназначенная для подарка большая коробка с черной икрой, которую я «остроумно» выставила на карниз, на «холод».
Портье меня утешил: «Вы еще хорошо отделались, мадам. Ведь если бы эта бомба упала кому-нибудь на голову, вам пришлось бы до конца жизни содержать пострадавшего!»
Весь следующий день я провела в кровати. За окном шумел Париж, а я глотала лекарства пополам со слезами и думала с отчаянием, что проведу все двадцать дней в четырех стенах отеля.
Но то ли помогло разрекламированное лекарство, то ли — на войне как на войне! — сработала нервная система: на следующий день моя температура резко упала, а мое настроение, соответственно, резко поднялось. Я заявила, что считаю бюллетень закрытым и выхожу на работу.
2. НУЖНО ЛИ «СТРЕЛЯТЬ» ПОЭТОВ?
Очень скоро я почувствовала, что моя профессия — поэтесса — вызывала у собеседников некоторое недоумение. Почти всегда следовало неизменное: «Да? Но где и кем вы работаете?»
Я честно отвечала: «Нигде, если не считать моего письменного стола, и никем, если не признавать поэтическое творчество профессией».
Сначала этот ответ звучал гордо, потом — смущенно, затем у меня появилось желание стать самозванцем: сказать, что я, как и мои товарищи по делегации — преподаю, а вот в свободное от работы время балуюсь — пописываю стишки. Все сразу бы стало на свое место. Преподаватель, «профессор» (во Франции каждый, ведущий преподавательскую работу, именуется профессором), — серьезная уважаемая профессия, — а поэт — разве же это занятие…
Дело в том, что во Франции жить только «со стихов» практически невозможно. Средний тираж поэтических сборников — сто, сто пятьдесят экземпляров. 300–500 — это хорошо, 1000 — отлично. Но никого не удивляет и тираж в… 30–50 экземпляров.
«И не секрет, — невесело говорила мне молодая учительница русского языка в „эколь нормаль суперьер“ под Парижем, — часто поэты, чтобы выручить издателя, вынуждены сами скупать свои книги».
Наш разговор о тиражах начался со спора вокруг интересного фильма известного французского режиссера Годара «Альфавиль».
Ирэн — так звали молодую учительницу — считает, что в этой картине совершенно неверно ставится и решается проблема роли поэзии в будущем обществе. Так, например, в фантастическом городе Альфавиле поэтов просто… стреляют из пулеметов.
Ирэн уверена, что это лишнее. Такое убеждение вытекает отнюдь не из мягкости ее характера. Просто она искренне думает, что, как это ни грустно, но в будущем поэты сами вымрут, как зубры, потому что перестанут кого-либо интересовать. Зачем же тратить на них пули?
Одним из веских доказательств своего «оптимистического» прогноза Ирэн и считает низкие тиражи поэтических сборников, выходящих во Франции.
Стихи не покупают. Стихи не читают. Зачем же стрелять поэтов? Не слишком ли это большая для них честь? Сами вымрут!
Мне было трудно понять и Годара и Ирэн. Вместо ответа я показала ей несколько поэтических сборников — свои и своих товарищей — тиражи которых колебались от 30 до 200 тысяч, а между тем, разошлись книги мгновенно.
Конечно, я рассказала Ирэн и ее ученицам и о нашем традиционном Дне поэзии — стихийном празднике, не отмеченном в календаре, но необыкновенно популярном, и о рядовых вечерах поэзии в Политехническом музее, в зале Чайковского, в Колонном зале, в Эстрадном театре — вечерах, куда невозможно достать «лишнего билетика». Похвасталась и тем, что у нас в стране поэт вольно или невольно становится общественным деятелем: его просят выступить заводы и предприятия, институты и воинские части, радио и телевидение. Он состоит членом редколлегий газет и журналов, работает с молодыми авторами, пишет статьи, выступает с докладами. И ему просто некогда и незачем заниматься нелитературным трудом.
Как часто мы, советские поэты, недовольны, что выступления не дают нам сесть к письменному столу, что они выбивают из ритма работы, что заедает суета…
Но как неуютно, пусто и неуверенно почувствовали бы мы себя, вдруг лишившись всей этой «суеты»!
Мы законно гордимся перед иностранцами своим метро, своими великолепными здравницами для трудящихся, своими космическими кораблями — да мало ли еще чем!
Но больше всего я горда любовью наших людей к поэзии. Эта любовь — показатель духовного и интеллектуального уровня народа, показатель его отзывчивости, бескорыстия и благородства.
И как смешно и нелепо прозвучало восклицание некоей древней старушки эмигрантки: «Вот не думала, что ТАМ еще пишут и читают стихи!»
Этот вопль души объяснил мне отчасти и тот необычный для Франции интерес, который вызвала группа наших поэтов, приехавших в конце прошлого года в Париж в связи с выходом в свет антологии русской поэзии на французском языке. Как же, поэты ОТТУДА! Сенсация!
Но ажиотаж такого рода волновал, конечно, только часть слушателей, переполнивших громадный зал «Мютюалитэ». Были другие — серьезные — причины, обеспечившие успех этого необычного вечера.
Как известно, неоценимую роль в подготовке невиданного торжества советской поэзии сыграла большой друг нашей страны, известная французская писательница Эльза Триоле. Это она стала душой антологии русской поэзии, переводила стихи, оплачивала работу над антологией лучших парижских поэтов. Это она организовала приезд наших поэтов во Францию. Это она блестяще подготовила их вечер в «Мютюалитэ»: пресса, радио, телевидение — все было поставлено на ноги. Приехавшие поэты стали героями дня, имена их прочно врезались в память парижан. Я убедилась в этом на одном маленьком примере.
В числе фотографий, взятых мною во Францию, была и фотография, сделанная в Москве во время одного из вечеров поэзии. Среди других там были увековечены Александр Прокофьев, Сергей Орлов, Сергей Михалков, Александр Межиров, Сергей Наровчатов, Виктор Соснора. Многие мои парижские знакомые интересовались именами этих поэтов, но оказалось, что им знакома одна только фамилия Сосноры… Знакома лишь потому, что он, единственный среди названных, представлен в антологии и выступал в «Мютюалитэ»…
Огромный интерес к нашим поэтам был стимулирован, конечно, и повышенным доброжелательным интересом французов ВООБЩЕ ко всему советскому.
Даже мы, скромная делегация Комитета советских женщин, не имевшая во Франции публиситэ, чувствовали обостренный интерес к себе буквально на каждом шагу, всегда и всюду, вплоть до… полицейского комиссариата — там нам вне очереди провернули какие-то паспортные формальности!
Ох уж этот парижский комиссариат! Он напомнил мне наши вокзалы времен войны. Толкотня, духота, запах давно не мывшихся людей. Помятые мужчины и усталые женщины с детьми и узлами. Оказалось, что это иностранные рабочие — в основном, итальянцы и испанцы — ожидающие разрешения на право работать во Франции.
Да, полицейский комиссариат это тоже Париж, но Париж не с парадного — не с туристского хода…
3. НЕ С ПАРАДНОГО ХОДА
«Сольд» — это тоже Париж.
«Сольд!» — кричат витрины больших магазинов и маленьких лавчонок.
«Сольд!» — вопят рекламные щиты, оживляющие бесконечные унылые галереи парижского метро. Это слово бросается на вас с газетных и журнальных полос, его нежно и призывно повторяют очаровательные ротики кино- и телезвездочек.
«Сольд!» — звучит на устах почти всех парижанок. «Ведь только до первого февраля, — лихорадочно твердят они своим мужьям, — нельзя же упустить момент!»
Смысл этого магического слова очень прозаичен. В переводе на русский оно обозначает «остаток». Попросту говоря, в Париже, по случаю окончания зимнего сезона, идет распродажа залежавшихся товаров. И отнюдь не только зимних. Можно, например, по дешевке обзавестись микроскопом или футбольным мячом.
Возле больших магазинов «Галлери Лафайет» и «О Прэнтон», «Призюник» вынесены на тротуар длинные столы-прилавки. На них горы одежды, обуви, посуды и вообще чего угодно. Мелькают руки парижанок, перебирающих одну вещь за другой. Раскрасневшиеся лица. Блестящие глаза. И гвалт, как на птичьем базаре. И руки, руки, ощупывающие, оценивающие, судорожные.
Только очень дорогие фирмы не снисходят до «сольд». Так, например, это слово не появилось в витрине аристократического, всегда пустого магазина для любителей верховой езды.
Не подешевел и «товар», на котором специализировался маленький магазинчик, в витрине которого возятся щенки. Щенки очаровательны, но они кусаются не только в прямом, но и в переносном смысле этого слова: купить их из-за дороговизны могут немногие.
Я засмотрелась на двух совершенно неотразимых лохматых малышей под кличками «Виски» и «Водка» — хозяин магазина был, по-видимому, горячим сторонником русско-американской дружбы.
Вместе со мной на собачек глазела типичная французская семья: мама держала на руках младенца, папа держал за руки двух ребятишек, а старшая девочка — еще двух.
Да, это была типичная современная французская семья — прошло то время, когда мир кричал о катастрофической низкой рождаемости во Франции, об угрозе вырождения нации.
Правительство де Голля ввело большое денежное «вознаграждение» за каждого ребенка. Практичные француженки клюнули на эту приманку. И теперь Франция стала страной матерей-героинь. Похоже, что им плевать на Мальтуса…
Надо сказать, что эта поездка резко изменила многие мои наивные представления о Франции.
Так — увы! — рассеялась в прах красивая легенда об исключительной галантности французов.
В метро, на станциях «Пале-Ройяль» или «Сен-Мишель», точно так же, как иногда у нас на станциях «Проспект Маркса» или «Университет», мужчины развивают удивительную резвость, чтобы опередить женщин и плюхнуться на свободное место. Так же, как и у нас, кавалер может отпускать даме комплименты, удобно развалясь в кресле, в то время как объект его любезностей стоит перед ним.
Впрочем, однажды я встретила очень галантного мужчину. Это было на обеде у милейшей мадам Фалько — вдовы известного судьи, представлявшего Францию на Нюрнбергском процессе.
Какой-то славный молодой человек добровольно помогал хозяйке обносить гостей сэндвичами, вскакивал, если его собеседница встала, и вообще выглядел ихтиозавром на фоне других кавалеров.
«Сразу видно, что вы не француз! — сказала галантному молодому человеку мадам Фалько. — Французы теперь считают вежливость дурным тоном».
«Ихтиозавр» оказался англичанином, недавно приехавшим в Сорбонну и еще не научившимся, по-видимому, местным правилам мужского «хорошего тона»…
Не знаю, что случилось и с продавщицами больших универсальных магазинов. Куда девалась их общеизвестная любезность, отчасти даже стеснявшая меня в Париже несколько лет назад? Теперь ты должна долго и терпеливо взывать «мадемуазель, мадемуазель!», прежде чем надменная девица соизволит обратить на тебя внимание.
Не могу не упомянуть о забавном инциденте, случившемся со мной в одном из больших магазинов.
Я забежала туда, чтобы купить себе что-нибудь на голову. (О, парижские шляпки, мечта модниц всего мира!)
На открытом прилавке лежала в беспорядке груда всевозможных «шапо». Я занялась примеркой, положив рядом с собой на прилавок московскую, из белого синтетического меха, с козырьком, шапчонку. У нас в семье ее фамильярно называли «кепурой». И вдруг вижу эту кепуру на голове одной молоденькой парижанки — примеряет. Мала — девушка с сожалением положила ее обратно. Тогда другие покупательницы буквально стали выхватывать «кепуру» друг у друга и ссориться. Пришлось вмешаться. Посмеялись. А я почувствовала патриотическую гордость за отечественное «шапо»!
Расскажешь московским пижонкам — не поверят…
Кстати о моде, и, в частности, о том, как одеваются, держат себя, каким очередным «идолам» поклоняются сегодня во Франции семнадцати — двадцатилетние.
Здесь меня тоже подстерегали неожиданности. Никаких вызывающих туалетов, причесок «приходи ко мне в пещеру», модерных танцев, увлечений хриплоголосыми королями твистов — всего того, что я видела во Франции несколько лет назад.
Мы посетили несколько женских лицеев (средних школ) и эколь нормаль суперьер (педагогических вузов) в Париже и в провинции, например, в Реймсе и Нанси. Я много разговаривала со старшеклассницами и студентами. Они поразили меня удивительной скромностью и наивностью, переходящей порой в некоторую даже инфантильность. Никакой косметики, простенькие платьица, туфли на низком каблуке. Танцуют чинные народные танцы, увлекаются исполнителями простых мелодичных песенок.
На моих глазах однажды блистательно провалился бывший «идол» западной молодежи, король твиста Джонни Холидей. Я была уже на его выступлении в «Олимпии» несколько лет тому назад. Оно превратилось тогда в радение секты трясунов. Теперь же, когда Холидей заканчивал свои номера, раздавалось лишь несколько вежливых хлопков. Джонни нервничал. Один раз он даже обратился к залу, объясняя, что не может выступать, не чувствуя контакта с аудиторией. После этого артист издал дикий вопль и взмахнул рукой, приглашая вторить себе. Однако ответом было… молчание и даже некоторое недоумение.
Мне стало его жаль. И к тому же Джонни Холидей (это псевдоним, никакой он не американец, а простой парень из парижского предместья) по-своему очень талантлив. Но что поделаешь? — мода есть мода — она проходит…
В неправдоподобно красивом музейной красотой, далеком от туристских маршрутов, патриархальном городе Нанси, подружилась я со старшеклассницами из лицея имени Шопена. Русский язык у них преподает замечательный педагог, энтузиаст своего дела, член общества «Франция — СССР» мадам Поважо, или попросту Дина Григорьевна Поважева. Свою любовь к родине и к родному языку она привила и ученицам. Многие из них свободно говорят и читают по-русски. Уже были один раз с экскурсией в Советском Союзе и мечтают приехать к нам еще. Они подружились с ребятами из 2-й специальной французской школы в Москве и переписываются с ними. Воспользовавшись нашим приездом, девушки решили послать своим корреспондентам говорящие письма.
Принесли магнитофон. Первой начала свое «письмо» семнадцатилетняя Кристин — хорошенькая блондиночка с широко раскрытыми голубыми глазами. Жалобным высоким голоском она сказала примерно следующее: «Дорогой Игорь! Я очень без тебя скучаю. Почему ты мне давно не пишешь или забыл меня? Я тебя очень люблю и буду ждать. Твоя Кристин».
Это было и наивно, и трогательно, и немножко смешно. Представляю себе восторг одноклассников этого Игоря, слушающих жалобные признания Кристин!
Но когда Кристин и ее подруги, по-русски, наизусть, читали Есенина — это было уже не просто трогательно — это волновало. До сих пор слышу звонкий девичий голос с милым французским акцентом, старательно выговаривающий:
До сих пор вижу слезы на глазах моих отнюдь не сентиментальных спутниц.
«Дорогой Игорь! Ответь, пожалуйста, поскорей „твоей Кристин“».
…Из Нанси мы возвращались в Париж в воскресенье, экспрессом, следующим из Западного Берлина. Состав оказался переполненным — по субботам и воскресным дням многие богатые западные немцы едут развлекаться в «сумасшедший Париж»: поезд туда идет всего шесть часов.
В купе к нам робко заглянул разносчик газет и журналов — старичок жалкого вида. Нужно было поддержать его коммерцию. Да и до Парижа оставалось еще около двух часов — чтиво не помешает. Именно чтиво, потому что, судя по обложкам, старик продавал сплошь детективы.
Я выбрала себе один: «Ситз секрет» — «Секретный город».
Надо отдать справедливость автору этого детектива, некоему Жану Брюсу, — давно я так не смеялась!
Действие происходит в Советском Союзе, среди «ля степ де Тунгус», на секретном «ле комбина сибирьен». «Ля старша политрук Вера Пенски» (так и написано латинскими буквами La starsha politrouk) пленяется неким неотразимым заключенным австрийцем. Но австриец этот не просто австриец, а американский шпион с роскошным именем Губерт Бониссёр де ля Бат. Он должен раскрыть и похитить секрет изготовляемого на «ле комбина» адского бактериологического оружия — вот ведь, оказывается, чем занимаются среди «ля степ де Тунгус»!
«Ля старша политрук Вера Пенски» делает этого «заключенного» своим личным шофером, поселяет в своем «особняке» (!), любезно вводит в курс всех тайн «ле комбина» и одновременно соблазняет изо всех сил.
Чтобы дать представление о стиле этого произведения, приведу цитату:
«Она бросила корсаж (?) на край дивана, чтобы расшнуровать (?) свои галифе. Ее тяжелые и крепкие груди едва сдерживались бюстгальтером. Но Губерт думал совсем о другом… Вера поднялась, расстегивая пояс брюк…
— Бумага, которую мы вернули благодаря вам, содержала список 27-ми врагов народа. Естественно, всех их арестуют. Это будет великолепный процесс!
Брюки заскользили по ее роскошному заду…»
Я видела во Франции и небезызвестный фильм «С поцелуем из России». Он тоже заставил меня смеяться до слез. Сказать только, что загримированный под Тараса Бульбу актер, изображавший советского шофера, идя ко дну, кричит по-русски, с невероятным английским акцентом, бросившему его в море пресловутому Джеймсу Бонду: «Ти знаешь, кто ти есть? Ти тшорт проклятий, вот кто ти!»
(Замечу в скобках, что меня всегда удивляет, когда у нас в печати ополчаются порой на подобную макулатуру вполне серьезно — не оказываем ли мы ей слишком много чести? Не правильнее ли просто хорошенько ее высмеять? Слава богу, это не представляет труда! «Ле рир тю, — говорят французы, — смех убивает».)
…Была уже ночь, когда мы сошли с поезда. Вот он — «ночной сумасшедший Париж!»
Но такой ли уж он «сумасшедший»?
Да, действительно, всю ночь пылает неоновый пожар на Елисейских полях, радуют глаз огни Больших Бульваров, пляшут светящиеся рекламы кабаре Монмартра, зазывают «веселые» площади Клиши — Бланш — Пигаль.
Но ночной Париж — это Париж туристов. Всюду звучит разноязычная речь. Туристы любуются полуголыми «девочками» в Лидо, Фоли-Бержер, Мулен-Руж и совсем голыми в многочисленных других «буат де нюи» — ночных кабаре, клубах, кабаках.
Выходит на ночную вахту армия парижских проституток. Как постовые стоят они — каждая на своем «персональном» посту, деловито дожидаясь клиентов. Потрясает именно эта деловитость. Недаром одна моя советская спутница простодушно воскликнула: «Подумать только! Такие серьезные женщины!»
Заполнены туристами кафе Больших Бульваров. Туристы восхищаются созвездиями огней ночного Парижа, глядя на них с Монмартрского холма или с террасы Трокадеро. Туристы не спят всю ночь.
Но настоящие парижане, как правило, рано ложатся спать. Уже в девять, половине десятого один за другим гаснут окна жилых домов. В десять трудно найти светящееся окошко. Париж, «сумасшедший Париж» спит. Темно. Тихо. Только пролетают на огромной скорости машины богатых туристов, торопящихся в злачные места.
Спит и наша рю де Л'Аркад…
А в Москве, на родной Второй Аэропортовской, в это время укладываются спать лишь дети младшего и среднего школьного возраста… Как это ни странно, сравнительно с парижанами москвичи могут считаться полуночниками!
…Тихий, но настойчивый голос телефона врывается в мой сон. Это портье: «Бонжур, мадам! Пять часов».
Ах, да, я просила разбудить себя в это время, чтобы попасть на первый поезд метро — посмотреть начало рабочего дня в Париже.
Вскакиваю. Тороплюсь. Первый поезд отходит в пять тридцать.
Ближайшая станция метро — Мадлен. Подземка равнодушно глотает своих пассажиров.
Едет рабочий класс. В вагоне тихо. Люди, особенно мужчины, кажутся хмурыми, невыспавшимися — может быть потому, что среди них много небритых.
Почему-то вспоминается, что в большинстве старых домов Парижа нет водопровода. Вода в таких домах — проблема, воду экономят. Не всегда и помоешься утром, о душе и говорить не приходится.
А комфортабельные квартиры в новых домах недоступны не только рабочим, но и многим представителям так называемого третьего сословия — мелкой буржуазии.
Одна симпатичная учительница, с которой мы быстро подружились в Париже, долго избегала приглашать меня к себе. Потом, когда это стало уже неудобным, смущенно призналась: «Нам приходится прогуливаться во двор и мыться, сливая друг другу. Может, это и глупо, но мне не хотелось посвящать вас в такие подробности… Надеюсь, вы не разлюбите наш Париж?»
О, нет, я не разлюбила Париж! Просто, войдя в него не только с парадной лестницы, но и с черного хода, я как-то больше поняла его.
Так бывает с человеком, который становится тебе близким. Если ты видишь его не только «принаряженным», но порой и в затрапезном виде, если ты поняла не только его достоинства, но и недостатки, однако, чувство твое не прошло, значит, это — настоящая любовь, а не просто влюбленность.
Это чувство и привело меня на Сент-Женевьев де Буа — русское кладбище, приютившееся примерно в тридцати километрах от французской столицы, возле небольшой деревни, которая дала этому славянскому погосту свое галльское имя.
4. «ЛЕГКОЙ ЖИЗНИ Я ПРОСИЛ У БОГА…»
Тот, кто видел фильм Эрмлера «Перед судом истории», помнит, наверное, как в ответ на вопрос, где находится теперь центр русской парижской эмиграции, «играющий» сам себя бывший депутат Государственной Думы Шульгин горько отвечает, что в… Сент-Женевьев де Буа.
Кладбища, конечно, вообще не самые веселые места на земле, но Сент-Женевьев де Буа — грустнейшее из кладбищ.
Привезшая меня сюда Жермен Леймари тактично остается в машине, а я, сжимая букетик гвоздик, медленно иду между могилами.
Каждая могила рассказывает о себе на двух языках. Например: «Камер-юнкер его императорского Величества Иван Михайлович Слёзкин. Родился 1880 — скончался 1944». И ниже: «monsieur Ivean Slezcin».
«Лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка полковник Сергей Николаевич Скуратов — m. Serge Scouratof».
«Атаман Войска Донского генерал-лейтенант Богаевский Владимир Анатольевич — m. Voldemar Bogaevski».
Как сложились судьбы всех этих камер-юнкеров, полковников, атаманов, вдруг превратившихся просто в «мёсье»? Кем стали они в Париже? Шоферами такси? Швейцарами? Балалаечниками в русских кабачках?
Может, кому-нибудь из них и подфартило — преуспел на коммерческом поприще или женился на богатой.
Кое-кому — единицам, конечно, повезло по-настоящему: они сумели завоевать себе почетное место под солнцем, под таким неприветливым для эмигранта солнцем чужой страны. Русские фамилии мелькают порой в созвездии знаменитых ученых, писателей и артистов Франции. Если бы не тоска по родине, они могли бы умереть почти счастливыми. Ах, это маленькое «если»!..
А кто-то спился, опустился, сошел с круга: попрошайничает возле русской церкви. Обязательно русской — расчет на широту славянской натуры.
…Попадаются уже и могилы второго поколения русской эмиграции — людей, родившихся во Франции или увезенных из России детьми. Вспоминаю горькие строки талантливой молодой поэтессы, умершей от неизлечимой болезни, названия которой нет ни в одном медицинском справочнике, — от тоски по родине:
Несколько древних стариков и старух, тихо переговариваясь на эмигрантском русском языке, языке, где архаизмы переплетаются с галлицизмами, бредут за гробом — репетируют близкие свои похороны.
Невыносимо жить на чужбине человеку с русской душой. Но еще страшнее умирать на чужбине!..
Не могу забыть одно маленькое объявление, случайно попавшееся мне на глаза в парижской эмигрантской газете «Русские новости». Вот текст этого объявления: «Желаю переписываться с русской женщиной не моложе 60 лет. Секрет гарантирован. Анонимам не отвечаю».
Какое одиночество стоит за этими скупыми строками! Трагическое старческое одиночество…
И у могилы Ивана Бунина, одного из самых русских писателей земли нашей, человека, приговорившего себя к мучительной жизни и к мучительной смерти на чужбине, вспоминала я одно из самых сильных и самых безнадежных стихотворений забытого поэта:
…Конечно, далеко не все эмигранты имеют русские души. Некоторые вообще не имеют души. Никакой. И прекрасно без нее обходятся — блаженны нищие духом. С одним таким «нищим» — преуспевающим коммерсантом — я познакомилась еще во время первой моей поездки во Францию. Меня попросил зайти к нему его родной брат — москвич, с которым он не виделся более сорока лет.
В панике бежав с пылающей в огне гражданской войны родины, сын лавочника из Минска неожиданно разбогател в Париже, остроумно провернув одно дельце. Нет, нет — все было в рамках законности, месье уважал уголовный кодекс.
Просто его осенила одна гениальная идея.
Услышав, что некий американский продюсер начал широко разрекламированную постановку картины из бурной жизни одной, некогда знаменитой русской авантюристки, месье безумно обрадовался. Авантюристка эта доживала свой век в парижском приюте для престарелых. За бутылку коньяка и коробку конфет месье получил у бывшей светской львицы нотариальную доверенность на ведение ее дел.
Подождав пока фильм был отснят на три четверти, месье вдруг объявил ничего не подозревающему продюсеру, что героиня фильма является его горячо любимой бабушкой, которая не хочет, чтобы кто-то вторгался в ее личную жизнь и просит внука защитить ее честь. Обалдевшему от такого сюрприза продюсеру (он даже не знал, что старуха еще жива), была представлена бумага, составленная с соблюдением всех формальностей и предусматривающая все юридические закорючки.
Короче говоря, месье потребовал, чтобы съемки были бы сейчас же прекращены. Иначе он подаст в суд. Закон на его стороне. Вот так. А впрочем… Если ему заплатят соответствующую сумму, он, пожалуй, согласится пожертвовать родственными чувствами и не поднимать скандала.
Сумма, которую требовал месье, была громадной, но все-таки значительно меньше той, что продюсер затратил на картину. И скандал был ему ни к чему. Бедняге не оставалось ничего другого, как согласиться.
Так была проведена эта остроумная операция, которую месье назвал «операция бабушка». Так был заложен фундамент материального благополучия его семьи — о, месье образцовый семьянин!
Про «операцию бабушка» месье рассказывал мне сам, благодушно похохатывая. А что ему скрывать? Все было в рамках законности!
Разговор наш происходил в квартире у месье. Там меня удивили два обстоятельства: безвкусная, щедро украшенная салфеточками громоздкая мебель — мечта лавочника из дореволюционного Минска и безвкусная (это в стране лучшей в мире кухни!) еда. Последнее, возможно, объясняется тем, что мои нувориши очень дорожили своим здоровьем и потому боялись соли, перца, сахара, сливочного масла, свежего хлеба, и всего жареного, копченого, горячего, холодного. В этом доме вся еда, начиная от супа, кончая мороженым, была тепловатой и стерильной.
Самодовольство сочилось изо всех пор сияющего хозяина дома. Не желая быть невежливой, я закусывала губы, чтобы не расхохотаться, когда он пытался мне объяснить, что такое… холодильник или с гордостью демонстрировал «чудо техники» — обыкновенный бачок для мусора, открывающийся при нажиме ногой на педаль. Я серьезно отвечала на озабоченные вопросы мадам, отапливаются ли у нас отели и есть ли такси…
Месье не только не испытывал ни малейших признаков ностальгии, он просто не понимал, что существует такая «болезнь». «Родина там, где можно сделать хороший бизнес» — вот одно из его изречений. Я запомнила и другое: «цель жизни каждого нормального человека — как можно больше зарабатывать и как можно меньше работать».
Месье искренне жалел меня за то, что мне «приходится» работать. Вот его жена и дочь, слава богу, могут себе позволить ничего не делать. Мадам, так та даже не утруждает себя никаким чтением, причем обосновывает это теоретически: книги и газеты пачкают руки.
Впрочем, мадам нашла-таки себе занятие. Она последовательница некоего «великого философа» Кришнамурти и в числе других богатых бездельниц несколько раз в год едет слушать его откровения то в Стокгольм, то в Лондон, то в Рим, то еще в какое-нибудь место земного шара — благо, деньги и время для нее не проблема.
Может быть, этот Кришнамурти действительно велик, но, к сожалению, горячая его поклонница поначалу никак не могла мне объяснить, в чем же заключается сия философия. Я поняла только, что и сам «великий философ» и некоторые его ученицы (почему-то он имеет особенный успех у богатых пожилых дам) умеют… двигать гландами!
Располагая этим единственным «тезисом», но разгадав не слишком сложную натуру мадам, можно было предположить, что смысл и цель таинственной философии — сохранение собственного здоровья.
В дальнейших беседах это подтвердилось. И однажды мадам изложила философию своего кумира с неожиданной четкостью. «Главное — не волноваться. Даже если рядом режут человека и он умоляет о помощи, нужно сказать себе: меня это не касается».
Я не выдержала и спросила: «А если будут резать не меня около Вас, а Вас около меня — я тоже должна сказать: меня это не касается?»
Конечно, мой вопрос был бестактен. Вместо ответа мадам обнажила в светской улыбке длинные, выступающие вперед лошадиные зубы, всегда розовые от губной помады, и протянула мне очередное стерильное блюдо…
Ох, уж это «меня не касается!» — самая страшная болезнь, симптом превращения человека в животное.
Пусть гибнут страны, рушатся миры — ничто не сможет нарушить душевного равновесия этих нуворишей. Все так же методично будет «двигать гландами» мадам и обдумывать свои «операции» месье…
Но в конце концов, мне с этой семьей не детей крестить: я не собиралась ее перевоспитывать. Посоветовала только вспомнить русскую поговорку: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» и поехать туристами в Советский Союз, чтобы самим лично убедиться, отапливаются ли там отели, есть ли холодильники и «механизированные» бачки для мусора и вообще не живут ли советские люди в пещерах и не ходят ли на четвереньках?
Этот совет едва ли возымел бы какое-нибудь действие — мои нувориши меньше всего на свете жаждали истины и даже подсознательно боялись ее. Но у месье оставался в СССР родной брат и потому зимой 1964-го года мой парижский знакомый оказался в Москве, в гостинице «Метрополь». Он приехал без супруги, которая предпочла свиданию со своей родиной свидание со своим Кришнамурти.
Честно говоря, мне было интересно увидеть реакцию эмигранта, встретившегося с родиной после более чем сорокалетней разлуки. Должно же в нем пробудиться что-то человеческое!
Я была разочарована: никакого волнения, кроме волнения по поводу… полотенца, не смененного вовремя горничной!..
Месье честно отрабатывал обычную туристскую повинность — ходил в Кремль, в Третьяковку, на «Лебединое озеро», но не интересовался, казалось, ничем, выходящим за рамки программы, рассчитанной на иностранцев.
Он и был иностранцем — и в Советском Союзе и во Франции. Не комплекс ли эмигрантской неполноценности побуждал его так пыжиться в Париже?..
Месье и в Москве держался важно, как индюк, но как индюк, немного побаивающийся попасть на сковородку: был непривычно молчалив. А иногда мне казалось, что в его маленьких глазах, замаскированных выпуклыми дымчатыми очками, мелькала тень растерянности. Впрочем, может быть, это мне только казалось…
И вдруг — уже во время теперешней моей поездки во Францию — произошел взрыв. Грязевой вулкан заговорил. Да еще как!
Раскрыв рот, слушала я откровения взмокшего от злости месье. Оказывается, он своими глазами увидел, что в Советском Союзе нет ничего, ну, совсем ничего хорошего!
Диапазон его «критики» был необычайно широк: начиная с обвинения в «скуке» (ну как же — нет плас Пигаль!), кончая тем, что… наша минеральная вода «воняет сероводородом». Но основной криминал — полотенце, не смененное вовремя в «Метрополе». Полотенце это стало знаменем, под которым месье «громил» страну, где он родился.
Откуда же эта ярость, эта пена у рта? И я поняла. Конечно же, это опять-таки — комплекс эмигрантской неполноценности. Поездка в СССР на какие-то мгновения поколебала его железобетонную уверенность в том, что он сделал правильно, покинув родину. Месье был защищен этой уверенностью, как черепаха панцирем. Свидание с Москвой пробило в «панцире» брешь. Не слепой все-таки… Идиот, объяснял, что такое холодильник!
И самое больное: Мишка, родной брат, обскакал его на несколько голов! — стал профессором медицины, лауреатом, депутатом…
И невестка, жена брата — инженер на большом заводе, а племянница — известная оперная певица. В общем, не чета его курицам…
Но, конечно, такие опасные предательские мысли только промелькнули в его мозгу. Он не дал им укорениться, он вовремя прогнал их. Иначе быть месье несчастным человеком весь остаток жизни.
Брешь в панцире была заделана, но где-то в глубине что-то свербило, ныло, портило настроение. И с тем большим жаром уверяет месье других и, главное, себя, что все в Советской России «merde» (дерьмо), и что покинув ее, он сделал хороший бизнес.
Вот ведь как далеко ушли мои мысли от Сент-Женевьев де Буа! Впрочем, так ли уж далеко?..
5. ВИКИ
Но я пришла сюда, на русское кладбище, не просто, как турист. Я пришла на свидание с той, что вот уже несколько лет занимает мои мысли. Это в поисках ее я долго блуждаю по Сент-Женевьев де Буа. И вот, наконец… На скромном обелиске оттиск милого славянского лица с большими умными глазами и большим красивым ртом. Молодая женщина словно ждет повода, чтобы весело, от души расхохотаться. И надпись: «Вики, княгиня Оболенская, урожденная Вера Макарова, 24-6-1911 — 4-8-1944, казнена нацистами в Берлине. Без погребения».
Молча кладу гвоздики к подножью обелиска…
Впервые я встретила имя Вики Оболенской совершенно случайно. Несколько лет тому назад, будучи проездом в Париже, я не могла отказать себе в удовольствии порыться в ящиках парижских букинистов. Маленькая, скромно изданная книжка, озаглавленная «Вики», попалась мне на глаза. Раскрыв ее, я уже не могла оторваться.
На первых страницах были опубликованы тексты декретов французского правительства о посмертном награждении Вики Оболенской — основательницы и генерального секретаря ACM («Association civile et militaire») — одной из крупнейших буржуазных организаций французского Сопротивления. Оболенская награждалась орденом Почетного легиона — высшим орденом Франции, Военным Крестом с пальмами и медалью Сопротивления.
Трудно было отвести глаза от фотографии Вики, от ее открытого русского лица — одного из тех немногих лиц, где красота внешняя сливается с красотой внутренней, духовной.
Тут же, на набережной Сены, я пробежала весь сборник. Он состоял из воспоминаний о Вики ее товарищей по Сопротивлению и соседок по тюремной камере. Были здесь помещены и речи, произнесенные во время ее символических похорон на Сент-Женевьев де Буа.
Конечно, я купила книжку — это было самым моим дорогим приобретением, сделанным во Франции.
Так в мою жизнь вошла Вики Оболенская, урожденная Вера Макарова, москвичка, увезенная из России девятилетним ребенком, вышедшая в Париже замуж за князя Николая Оболенского, одна из первых парижанок, вступивших в Сопротивление, арестованная в декабре 1943 года и казненная гестапо в Плётцензее 4 августа 1944 года.
Теперь многие советские люди знают ее имя — оно не раз уже мелькало в нашей печати, а в дни двадцатилетия победы над фашистской Германией Вики Оболенская была награждена орденом Отечественной войны I степени. Но тогда, в Париже, я услышала о ней впервые.
Почему меня так трогает эта судьба?
Я преклоняюсь перед светлой памятью советских военнопленных, таких, как Василий Порик, Федор Полетаев и других известных и неизвестных наших героев — простых русских людей, яркие жизни которых осветили, подобно кометам, черное небо оккупированной Европы.
Я преклоняюсь перед этими, ушедшими в бессмертие, героями, их подвиги меня восхищают, но… не являются неожиданными. Они — естественное следствие советского образа жизни, советского строя, советской морали. Так и должны были поступить наши люди, воспитанные комсомолом и партией, солдаты, принявшие воинскую присягу.
Но как могла совершить свой патриотический подвиг эта парижанка, которую «девочкой глупой в двадцатом году увезли» из России? Что поддерживало в страшных застенках гестапо эту избалованную светскую женщину, панически боявшуюся физических мучений?
Вот что пишет о ней Элизабет Брюне — товарищ по Сопротивлению, а впоследствии и по тюремной камере: «Вики обладала некоторыми чисто русскими качествами: легкостью, с которой она все ловила на лету, страстью к чтению, интересом к людям, к танцам, к удовольствиям, удивительной способностью принимать как должное все, что приносит жизнь, — и хорошее, и плохое. До войны она могла показаться всего лишь умной и пылкой женщиной, обожающей жизнь. Нужно было произойти крушению Франции, которую Вики так любила, чтобы в этой богатой натуре выкристаллизовались все ее удивительные качества».
Жизнерадостность и веселая ироничность не изменили Вики и в тюрьме, в страшном Старом Моабите. Вот что рассказывает о ней, уже приговоренной к смертной казни, находившаяся в соседней камере Жаклин Рамейе:
«Вики научила меня азбуке Морзе, стуча в цементную стену своей расческой. Первым посланием, которое я смогла разобрать, было следующее: „Я хочу крепкого чаю с тостами и вареньем“. В момент, когда нас выводили на прогулку, Вики прислонялась к двери своей камеры. Отодвигались засовы и я выходила, смотря налево. Она была там, всегда в хорошем настроении, всегда приносящая с собой новости, надежду, шутку, порой какую-нибудь, поддерживающую наш дух „утку“: „Утверждают, что пришло помилование. Нам дают 25 лет каторги. Необходимо экономить обувь!“ И мы смеялись… До того дня, когда, вместо того чтобы увидеть улыбку Вики, я увидела только голую стену».
Больше всего на свете Вики боялась проговориться на допросах — обладая феноменальной памятью, она помнила все, интересующие гестапо фамилии, телефоны, адреса, явки. Боязнь эта оказалась напрасной. О поведении Вики во время мучительных допросов лучше всего говорит прозвище, данное ей тюремным следователем: «Княгиня „их вайс нихт“» — «Княгиня „я ничего не знаю“».
Гестапо предложило Оболенской жизнь в обмен на обещание сотрудничать с ним. Фашисты пытались играть на ее «эмигрантских чувствах». С чего это, мол, русская аристократка, живущая в эмиграции, должна погибать за интересы чуждых ей стран — Франции и России?
В ответ на это Вики сказала: «Я — русская, жила всю жизнь во Франции, не хочу изменить ни своей родине, ни стране, приютившей меня».
Ее слова были записаны впоследствии Софьей Носович — близким другом Вики. На квартире у Носович арестовали Оболенскую, их двоих вывели к полицейской машине, сковав одной парой наручников. Софья Носович с усмешкой продекламировала тогда Вики строки из русского романса:
Носович тоже была приговорена к смертной казни. Но впоследствии казнь заменили двадцатипятилетней каторгой. После освобождения Софья Носович была награждена орденом Почетного легиона. Сейчас она живет в Париже. После пыток гестапо потеряла слух… Я хотела с ней встретиться, но, к сожалению, Софья Носович была очень больна…
В концентрационном лагере в камере смертников с Оболенской и Носович некоторое время находилась молодая советская женщина-врач из Воронежа. Звали ее Еленой.
Фашисты приговорили ее к смертной казни за связь с немецкими коммунистами.
«Елена, маленькая, тоненькая и беленькая, шла (речь идет о прогулке по тюремному двору. — Ю. Д.) своим танцующим шагом, — пишет Элизабет Брюне. — Ее миниатюрность, ее легкость, ее косы, отливающие золотом на солнце, ее нежный профиль мадонны не могли не вызвать глубокого сочувствия. Она не имела никаких иллюзий в отношении своей судьбы, однако в течение всех шести месяцев мучительного ожидания казни оставалась спокойной и улыбающейся. Ей отрубили голову…»
Кто была эта молодая русская женщина, так мужественно принявшая свою мученическую смерть в зловещем Моабите?
Вот еще одна, непрочитанная пока страница Великой Отечественной войны…
По воспоминаниям подруг по камере, встреча с Еленой потрясла Вики. Словно сама далекая родина пришла к ней в час испытаний, чтобы поддержать, успокоить, вдохнуть мужество. Россия напоминала о себе и близкими взрывами, ревом пикирующих самолетов — русские бомбили Берлин. Дрожали бетонные стены Старого Моабита, радостно бились сердца узниц — Россия спешит на помощь, Россия близко! Вики и Елена уже договорились встретиться после войны на родине — какой счастливой была бы эта встреча!..
Самообладание и поразительная душевная деликатность не покинули Оболенскую и в самые страшные — последние — часы жизни. Зная, что ее отправляют на казнь, Вики, чтобы не огорчать своих тюремных подруг и не лишать их мужества, передала им, что ее якобы просто пересылают переводчицей в концентрационный лагерь.
Кончилась война. Долго муж и друзья не могли поверить в смерть Вики.
«Ни одной минуты мы не допускали, — пишет Элизабет Брюне, — что Вики может быть одной из тех, кто закопан при лунном свете в снегу, по обе стороны обледенелой дороги, той дороги, по которой мы шли, спотыкаясь, на работу…
После освобождения, когда мы стали медленно возвращаться к жизни, мы продолжали надеяться… Но никто ничего не знал о Вики… Она исчезла, как камень, брошенный в воду. Тогда мы ухватились за мысль, что она в России…»
Но в конце концов след Вики был найден. В регистрационной книге Моабитской тюрьмы отыскался акт о казни Вики Оболенской, урожденной Веры Макаровой, — она была гильотинирована…
И вот я стою перед символической могилой Вики. На скромном обелиске оттиск милого славянского лица с большими умными глазами и большим красивым ртом. Молодая женщина словно ждет повода, чтобы весело, от души расхохотаться…
Воскресенье. Надрываются колокола чистенькой ухоженной церкви. Неторопливо идут принарядившиеся прихожане. Ловлю светскую фразу: «Так мы ждем вас, мон шер! Будет князь Иван».
Напротив церкви примостился ресторан «Петроград» — слово это начертано с твердым знаком. Ресторан завлекает прохожих вкусной надписью: «Сегодня у нас блины».
«Принимаются дети в хоровую группу» — гласит объявление на церковной ограде. И это объявление, и завлекательный плакатик ресторана удивляет глаз непривычной дореволюционной орфографией.
Нет, это не декорация к фильму из жизни старой России.
Это русская церковь на рю Дарю, крохотный островок в равнодушном море Парижа, где, вопреки всякой логике, эмигранты, хотя бы на короткое время, пытаются создать иллюзию, что они «у себя».
Не знаю, удается ли им этот самообман. У меня же снова, как на Сент-Женевьев де Буа, щемит сердце…
Я пришла сюда, чтобы увидеть мужа Вики — бывшего князя Оболенского, ставшего теперь «отцом Николаем» — священником.
Захожу в церковь. Сначала, со свету, ничего не могу различить. Постепенно глаза начинают привыкать. Вот он, отец Николай, — худая смиренная фигура в черной рясе, странно и трагично одинокая в этой холодной полупустой церкви.
Лицо, словно ожившая икона, — тонкое, строгое, грустное. Покорность судьбе в каждом жесте, в каждом движении.
Каким он был в молодости? Каким увидела его впервые юная хохотушка Вики? И где произошла их первая встреча? Может быть и здесь, в русской церкви, куда они приходили еще с родителями?..
Служба идет на французском языке. Когда я обращаюсь по-русски к стоящей рядом девочке, она не понимает, вопросительно смотрит на мать.
Грустно…
После окончания службы, преодолевая неловкость, подхожу к Оболенскому, представляюсь и говорю, что хотела бы с ним поговорить.
Отец Николай гостеприимно приглашает меня к себе — живет он рядом с церковью.
В домашней обстановке у Оболенского непринужденные манеры светского, хорошо воспитанного человека. Как-то забываешь про его рясу. С ним легко — он чуток и контактен. Но чувствую, что говорить о Вики невозможно… Однако она все время с нами — и не только потому, что большие умные глаза внимательно смотрят на нас со стены. Вики с нами потому, что ни отец Николай, ни я ни на секунду не забываем о ней…
Прощаюсь. И быстро надеваю темные очки, хотя в маленькой прихожей — полутьма.
У церковной ограды спившийся оборванный субъект вдруг рявкает офицерским басом: «С Христовым вас воскресеньем, сударыня!» — и просительно заглядывает в глаза: «Не откажите в помощи соотечественнику».
Грустно…
Чтобы не опоздать на очередное мероприятие, беру такси. Шофер, симпатичный толстяк средних лет, узнав, что я из Москвы, прощается со мной за руку: «О ревуар, камарад!»
Боже, как приятно было услышать это сердечное «камарад!» вместо холодного «мадам!».
Особенно волнующе звучало это слово в скромном помещении французской компартии. Там нас принимала товарищ Вермерш — член ЦК, вдова легендарного Мориса Тореза. Она оказалась моложавой, энергичной, ясноглазой женщиной, очень простой и приветливой. В ней чувствовалось обаяние большого ума и большого сердца. И несмотря на то, что товарищ Вермерш была одета с парижской элегантностью, что-то роднило ее с нашими коммунистами двадцатых годов — влюбленными в революцию женщинами в строгих кожанках и кумачовых косынках…
И вот уже несколько месяцев отделяет меня и от Парижа, и от Вики, и от гостеприимных моих хозяек — милых «фамм дипломэ».
Я увезла из Парижа любовно подобранные сувениры французских друзей — чего стоит одна только медаль в честь полка «Нормандия — Неман»! — символ боевой дружбы между Францией и Россией.
Я увезла с собой грусть о прекрасной стране и ощущение, что там есть много людей, близких мне по духу, — людей, самое страшное для которых — фашизм.
Не знаю, когда появилось у меня это ощущение. Может быть, тогда, когда одна из «фамм дипломэ» Сесиль Валензи рассказывала мне о днях, проведенных в фашистской тюрьме?
Или тогда, на скорбном и гордом Мон Валерьян, где президент Парижского отделения «Ассоциации дипломированных женщин» мадемуазель Лене, в петлице которой алела розетка военного ордена, молча шла рядом со мной дорогой, по которой не так уж много лет назад вели на расстрел бойцов Сопротивления?
И я горжусь горькой гордостью, что рядом с французскими патриотами эту страшную дорогу прошли и два мужественных русских эмигранта, два молодых блестящих ученых, входивших в группу Сопротивления при музее Человека, — Борис Вильде и Анатолий Левицкий.
Это они, люди с головами ученых и с сердцами поэтов, выпустили первую в оккупированном Париже подпольную антифашистскую газету «Резистанс» (Сопротивление), газету, название которой стало знаменем всей несдавшейся Европы.
А может быть, это ощущение близости между мной и моими новыми французскими знакомыми возникло у меня тогда, когда Жермен Леймари, жена солдата второй мировой войны, везла меня на своем «пежо» в Сент-Женевьев де Буа?..
Общеизвестно, что уезжая из чужой страны, каждый увозит с собой свое представление о ней, свое, так сказать, образное ее воплощение.
Конечно, это сугубо индивидуально, но при слове «Франция» перед моими глазами возникает красивая молодая женщина, до упаду танцевавшая на балах и сумевшая спокойно взойти на эшафот.
Да, это МОЯ Франция, женственная и мужественная, хрупкая и непреклонная, казненная и бессмертная.
И я горжусь, что она говорила по-французски с чуть заметным славянским акцентом и носила старинную русскую фамилию — Оболенская!
1966
ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
«МЫ ДИАЛЕКТИКУ УЧИЛИ НЕ ПО ГЕГЕЛЮ»
Тогда, далекой, неповторимой, неистовой весной сорок пятого, — ох как кружил солдатские головы радостный хмель победы! — встреча эта не состоялась. Помешал ничтожный, в полтора сантиметра, рваный осколок металла.
И все-таки — почти через четверть века! — я наконец встретилась с Германией, точнее, с Западным Берлином.
Западный Берлин. Единственное место на земле, где вторая мировая до сих пор не история, а быт. «Американский сектор», «Английский сектор», «Французский сектор»: таблички с этими надписями — унизительные, унылые памятники, воздвигнутые самому себе германским милитаризмом…
Итак, место действия — Западный Берлин, Евангелическая академия — религиозно-общественная организация, пригласившая нас, советских писателей, на дискуссию «Проблемы реализма в поэзии».
Время действия — около часа ночи.
После приема, устроенного в нашу честь главой академии, приема, завершившего интересный, но утомительный день (два доклада, дискуссия, чтение стихов), я потихоньку удрала наверх, на второй этаж, в свою персональную келью — ночевали мы в здании самой академии.
Засыпаю под гул голосов. И вдруг вздрагиваю, сон проходит — снизу доносится разудалое пение:
Что за черт? Спускаюсь вниз.
Оказывается, это наша поэтесса Римма Казакова организовала художественную самодеятельность — хоровой кружок из студентов-славистов, изучающих русский язык. Поют здорово, голоса как на подбор. И не удивительно — ребята эти подвизаются в церковном хоре!
Смотрю на открытые мальчишеские лица поющих — все они родились уже после того, как отцы их вернулись из бесславного «Дранг нах остен»…
Сегодня мой доклад. Конечно, волнуюсь. С чего начать? Может быть, с гейневского: мир раскололся, а трещина проходит через сердце поэта? — здесь, во «фронтовом городе» строки эти звучат особенно актуально…
Добавляются сложности совершенно неожиданного характера. Например, в немецком языке нет слова «гражданственность». А между тем понятие, обозначаемое этим словом, — краеугольный камень моего доклада, озаглавленного «Поэзия и общество».
Почему Евангелическая академия пригласила на дискуссию советских поэтов?
Вот что писала в письме, адресованном всем приглашенным участвовать в диспуте, энергичная наша хозяйка, член академии Ева Крамм:
«Поэзия всегда считалась у нас выражением переживаний одиночек… Немецкая эпиграмма по праву называет лирического поэта и его читателя странной парой, которая „в стране поэтов и мыслителей“ никогда не может найти друг друга… Удивительно, что лирическая поэзия имеет в Советском Союзе другую традицию…»
И, в сущности, каждый из нас своим докладом отвечал на недоуменный вопрос Евы Крамм, на недоуменный вопрос Запада: почему в России поэзия всегда была на переднем крае интеллектуального фронта?
Не сговариваясь, все мы «повели бой» на своей, хорошо знакомой территории — не как литературоведы, а как поэты, с позиции собственного жизненного и профессионального опыта и в меру собственного разумения. «Мы диалектику учили не по Гегелю…»
Так, Юстинас Марцинкявичюс раскрыл тему своего доклада «Национальное в современном мире» на примере судьбы поэта в Литве буржуазной и в Литве социалистической. Естественно, что это был не просто доклад, а живой и уже потому яркий рассказ — рассказ не только поэта и мыслителя, но и очевидца.
Сергею Наровчатову и мне, конечно же, помогла наша «далекая провинция — Война».
Далекая-то она далекая, но здесь, в Западном Берлине, до нее рукой подать. Ловлю себя на том, что, всматриваясь в лица немцев, сидящих в зале, невольно прикидываю, кто из них, судя по возрасту, мог воевать на Восточном фронте?.. И где, интересно, потерял левую руку этот седой благообразный господин?..
Оказалось, что не только одно слово «гражданственность» непереводимо на немецкий. Непереводимы и «героизм», «романтика», «долг», «честь», «отчизна». Конечно, в отличие от слова «гражданственность», они имеются в словаре. Но после войны, после Гитлера многие западные немцы стесняются произносить эти высокие слова…
Оно и понятно. Есть, мягко выражаясь, некоторая разница в психологии людей, чувствующих ответственность за своих соотечественников, ворвавшихся, как разбойники, в чужую страну, и в психологии людей, защищавших от этих разбойников свою страну, своих жен и детей… Отсюда и разность интонаций.
«Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат», — с торжественной, строгой печалью говорил советский поэт-фронтовик Сергей Орлов.
«Мой папаша замерз под Смоленском», — с горькой иронией пишет молодой западноберлинский поэт Фолькер фон Тёрне.
Я понимала и уважала позицию этого поэта, как понимала и уважала аналогичную позицию других его коллег, позицию, исключающую всякий намек на какой-либо пафос или патетичность. Но в то же время, конечно, в своем докладе совершенно не собиралась подделываться под их тон. Нам нечего стесняться так называемых «высоких слов», как людям, искренне и глубоко полюбившим, нечего стесняться слова «люблю».
Мой доклад тоже был признанием в любви, в трудной, выстраданной любви к России, любви, всю силу которой я осознала до конца в трагическое, грозное время — Великую Отечественную войну.
Может быть, слово «гражданственность» переводится на чужой язык и как «любовь к родине»?
«ЧУВСТВА ДОБРЫЕ Я ЛИРОЙ ПРОБУЖДАЛ…»
В школьные годы я была, так сказать, жрицей чистого искусства. Строки Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» — не вызывали у меня никаких особых эмоций.
В восьмом классе я ввергла в панику своего учителя литературы, написав вместо традиционного сочинения «За что я люблю Маяковского» отнюдь не традиционное «За что я не люблю Маяковского». А не любила я его именно за яростную гражданственность, за принципиальную тенденциозность, за демонстративное служение обществу.
В этом ученическом опусе я с великолепным ригоризмом и невежеством отрочества «доказывала», что служение обществу, как и всякое служение, уже само по себе исключает якобы возможность свободного творчества и что вообще не может быть понятия «гражданская поэзия», так как термины «гражданская» и «поэзия» — несовместимы.
Может быть, и не стоило бы останавливаться на этих детских грехах, на этой комической школьной теории «чистого искусства», — не так уж она интересна! — если бы мне не хотелось показать на примере своего поколения, как жизнь входит в поэзию, когда поэты входят в жизнь.
Конечно, из стихов начинающих как ветром выдуло все детскую — ковбойскую и цыганскую — «романтику».
Это строки из стихотворения Сергея Наровчатова. Гражданские ли это стихи? Конечно! Но они же и стихи сугубо личные, прошедшие сквозь сердце поэта, рожденные в муках и страданиях, — все живое рождено в муках…
Нет, истинный поэт не может быть бездушным, отгороженным от людей и любующимся собой манекеном, эта «красивая», а в общем-то мещанская поза приведет его к поэтической, а то и к политической смерти.
Показательна в этом смысле судьба Зинаиды Гиппиус, некогда известной в России поэтессы, сочинявшей стихи, исполненные ненавистью к человечеству.
Символическое бегство Гиппиус от человечества обернулось отнюдь не символическим бегством из измученной гражданской войной России, а затем — сотрудничеством с фашистами в оккупированном Париже…
А вот другая судьба, судьба современницы Гиппиус — Анны Ахматовой. С каким достоинством, с каким высоким чувством гражданственности отвечала она «голосу», призывающему ее «оставить Россию навсегда»:
Как сильна оказалась связь с Родиной, с народом у такой, казалось бы, камерной поэтессы! Трещина, расколовшая мир, прошла и через ее сердце.
Художникам, сердца которых минует эта трещина, художникам, остающимся равнодушными к бурям и катастрофам, потрясающим миры и души, адресовал свои стихи соотечественник наших оппонентов Мартин Опиц — поэт, живший в жестокую эпоху Тридцатилетней войны. Как современно, я бы даже сказала злободневно, звучат эти стихи, написанные более трех веков назад:
…Никогда не забуду, как один парижский студент на мой вопрос о любимом поэте застенчиво, по секрету признался, что это Жак Превер, но он скрывает сей компрометирующий его факт — Превер, видите ли, слишком доходчив, слишком прозрачен, а это теперь «не котируется».
Бедный студент! Здорово застращали его пугалом малоинтеллектуальности! Да если бы только его одного! Сколько бедняг восторгается произведениями того или иного современного автора лишь потому, что они непонятны, — непонятность нынче в моде. Непонятно — значит высокоинтеллектуально. Заумно — значит талантливо. Нельзя же, в самом деле, признаться, что король кажется голым. Это будет обозначать, что ты просто не дорос до понимания современной поэзии — поэзии эпохи распада атомного ядра.
Вот и рождаются на свет литературные чудовища, творцы которых достигли высокого мастерства в деле обезображивания несчастного человеческого языка:
Пусть читатель не думает, что перед ним — корректорский брак: процитированное выше именуется фрагментом А2 из поэмы о «Повисшем камне» итальянского поэта-неоавангардиста Нанни Балестрини.
Воистину бессмертна мудрая сказка о голом короле!..
Я — за сложную поэзию. Но только нужно точно договориться, что подразумевать под этим термином. Я за такую поэзию, когда о сложном говорят просто, а не наоборот — о простом сложно, то есть заумно, темно, игнорируя здравый смысл и грамматику.
Ведь если, расшифровав иной стихотворный ребус, ты, к своему величайшему изумлению, все-таки обнаружишь в нем какой-то смысл, то, как правило, цена его — две копейки. Не из-за чего было огород городить…
А может, и наоборот — автор городил свой «модерный огород» именно для того, чтобы замаскировать ничтожность замысла…
И я откровенно радуюсь, что такому по-настоящему сложному поэту, как Пастернак, принадлежат знаменитые строки: «Нельзя не впасть в конце, как в ересь, в неслыханную простоту» — и люблю стихи из его книги «На ранних поездах», — стихи, которые мудры без мудрствования, прозрачны, как лучшие образцы классической поэзии, и в то же время очень современны. Это та простота, которую может себе позволить только большой поэт, не боящийся за свою «наготу», не пытающийся прикрыть ее тем или иным фиговым листком.
Говорят, что «человек — это стиль». Манерные, искусственные, претенциозные стихи для меня невыносимы так же, как и манерные, искусственные, претенциозные люди…
И еще хуже, когда эти манерность и претенциозность доходят до своего логического конца — до абсурда, до воинствующей бессмыслицы.
Дело здесь уже не в том, что это кому-то нравится или не нравится, дело в том, что это становится философией, причем и небезобидной. Философия сия заключается в объявлении войны разуму, в бегстве в сумерки подсознания — спасительные сумерки: получаешь право не видеть того, что видеть неприятно, — например, напалмовые бомбы, заживо сжигающие вьетнамских детей…
Это парадоксальная философия, совмещающая в себе, казалось бы, несовместимое: безумие первобытных инстинктов с ледяной расчетливостью Голливуда.
В самом деле: в неоавангардизме главное — возбудить интерес к самой «звезде», любыми средствами создать вокруг нее атмосферу сенсационности, не дать рассеяться угару поклонения. Тогда становится неважным, что выдается «на-гора» — шедевр или бред. И любому издателю лестно заполучить себе заранее «обреченное на успех» имя.
«Обреченность на успех» — страшная штука, страшная как и для самого «обреченного», так и для бедных читателей. Первого она губит как талант, вторых лишает возможности критически мыслить, обрекает на массовый психоз, на удобную привычку не размышлять, принимать как должное любую нелепость, изреченную устами «звезды».
Этот массовый психоз или, как его более деликатно называют, «массовый энтузиазм» несколько смахивает на вопли горожан, восторгающихся новым платьем короля…
Ох уж этот «энтузиазм», ох уж эти «короли» — сказочные ли, не сказочные, литературные ли, не литературные! — история нас учит, к чему все это приводит…
«Да здравствует разум!» — нет, мне не кажется, что это восклицание Пушкина устарело…
Надеюсь, меня не поймут в таком смысле, что я, мол, ратую за холодную, рассудочную поэзию? Упаси господи!
Стихи, идущие только «от головы», стихи, не прошедшие сквозь сердце поэта, стихи, не обладающие еще чем-то таким, чему нет и определения в языке (это «что-то», к сожалению, нередко исчезает при переводе), — на мой взгляд, и не стихи вовсе, а просто-напросто версификация, гомункулусы, созданные в пробирках.
Между прочим, как это ни парадоксально, нарочитая бессмыслица — тоже порождение холодной рассудочности.
Не случайно, раздумывая о неоавангардизме, обозреватель «Таймса» спрашивает: «Не слишком ли много системы в этом „безумии“?»
Справедливости ради надо отметить, что среди «голых королей» только единицы удостаиваются языческих почестей. А чаще бедному «королю» самому приходится скупать свои творения: поскольку восхищение читателя «интеллектуала» — только дань моде, он вовсе не испытывает желания разоряться, приобретая книги своего «кумира»…
И вот здесь я снова вплотную подхожу к вопросу Евы Крамм, вопросу Запада: почему у нас, в Советском Союзе, невозможно удовлетворить спрос на поэтические сборники современных — особенно молодых — поэтов, какими бы тиражами они ни выпускались? Да, действительно, в нашей стране поэзия никогда не была «увлечением одиночек». Но сейчас любовь народа к ней особенно велика.
На моей памяти это второй взлет современной отечественной поэзии.
Первый пришелся на послевоенные годы, когда с фронтов возвращались двадцатилетние ветераны — молодые поэты. Они писали о том, что волновало и жгло тогда всех: о войне, которая еще жила в душах, об обугленных городах и обугленных сердцах, о горечи утрат и о счастье возвращения к жизни. Стихи фронтовиков были стихами большого накала, они светились чистотой и искренностью юности, в них кричала боль пережитого. Они были и выражением собственного «я» и в то же время не только собственного «я».
Второй взлет современной отечественной поэзии, который мы наблюдаем сейчас, оказался еще выше послевоенного.
На мой взгляд, немалую роль сыграло в этом и то, что, в отличие от послевоенных лет, процессы, происходящие в нашей поэзии, имена наиболее популярных наших поэтов, их стихи теперь становятся известными всему миру…
А вообще-то, мне думается, о чем бы и как бы ни писал художник, цель его творчества все-таки должна сводиться к одному — пробуждать в сердцах «чувства добрые».
Русская поэзия всегда была поэзией добрых чувств. В этом ее сила и секрет ее власти над сердцами и умами. «И долго буду тем любезен я народу…»
ВОПРОСЫ, САМЫЕ РАЗНЫЕ…
Вопросы, вопросы. Продиктованные искренним желанием понять или не менее искренним желанием посадить в галошу. Дружелюбные и не очень. Умные и не очень…
Вопрос: Я был полковым врачом на Восточном фронте и хорошо знаю, что такое война. Это прежде всего то, что убивает в человеке все человеческое. И я не могу понять, как женщина, прошедшая фронт, смогла не только остаться женщиной, но и стать поэтом?
Ответ (Друнина): На мой взгляд, все опять-таки упирается в то, что вы были солдатами армии захватнической, а мы — освободительной. Вы ворвались в чужую страну, убивая, истязая, грабя. Конечно, делать это можно лишь тогда, когда в твоей душе уничтожено или по меньшей мере усыплено все человеческое. Иначе просто сойдешь с ума…
Но почему должно умирать человеческое в душах людей, которые защищают своих детей, своих близких, свои дома, людей, которые если и убивают, то вынужденно — обороняясь?
Нет, мы не переставали быть людьми. Конечно, мы научились ненавидеть. Но мы не разучились любить. Мне кажется, что после войны мы еще острее почувствовали счастье жить, перестрадав, мы стали ближе принимать к сердцу страдания других.
И недаром в послевоенном взлете советской поэзии главную роль играли поэты, рожденные фронтом… Среди них, естественно, были и женщины — участницы войны.
Вопрос (Задает его господин с рыжей бородкой — один из самых активных, но не самых доброжелательных — особенно поначалу — участников дискуссии): Почему вы так поздно издали Кафку?
Ответ (Наровчатов): Поздно ли, рано, но издали. А если уж на то пошло, разрешите спросить: почему вы до сих пор вообще не перевели «Как закалялась сталь» Островского или «Василия Теркина» Твардовского?
Молчание…
Гинзбург: Как переводчик могу дополнить, что процесс перевода такого сложного и необычного художника, как Кафка, — дело трудное, ответственное и требующее много времени. Но если уж задан такой вопрос, разрешите и нам, в свою очередь, спросить: а почему вы, немцы, сожгли Кафку?
Молчание…
Вопрос: Могут ли стихи быть без политики?
Ответ (Казакова): Если я пишу: «Я тебя люблю», где же здесь политика?
Марцинкявичюс: А может быть, это женская политика. Вы, женщины, коварный народ!
Гинзбург: Здесь многое еще зависит от того, кому поэт объясняется в любви. Если, например, он говорит «я тебя люблю», обращаясь к канцлеру Кизингеру…
Смеются немцы, смеемся и мы. Но вот когда, отвечая на вопрос, что такое партийность в литературе, Наровчатов начинает так: «В партию я вступил на Западном фронте — для вас он был Восточным, — и первые свои партийные взносы платил не деньгами, а кровью…» — никто не смеется. В зале становится тихо-тихо…
Вопрос: Мне кажется, что Друнина несколько наивно и упрощенно судит о неоавангардизме, недопонимая, что в условиях нашего общества он является бунтом, своеобразной формой мятежа…
Ответ: Почему же «недопонимаю»? Верю, что многие неоавангардисты искренне считают себя фрондерами, бунтовщиками. Но им не хочется понять одну горькую истину: «фронда» эта опробирована и получила благословение свыше. Ввиду своей безопасности. Это, извините, фронда скомороха, которая никому не страшна. Не страшна именно потому, что неоавангардисты сделали все для того, чтобы отгородиться от народа непроходимой стеной «непонятности». Такая «фронда» устраивает и «фрондеров», и тех, против кого они «фрондируют», — чем бы дитя ни тешилось, только бы не плакало! А вот если оно «заплачет» — будет протестовать против существующих порядков нормальным, человеческим языком, — тогда посмотрим, что останется от иллюзий, которыми тешат себя неоавангардисты…
Я не расслышала новый вопрос господина с рыжей бородкой, но на него молниеносно отреагировал молодой немец с челкой и в темных очках.
— До чего же мы еще заражены фашистским духом! — воскликнул он, обращаясь к рыжей бородке.
Та подскочила, оскорбилась. Между бородкой и челкой завязалась такая перепалка, что только «пух летел» Мы не могли уже и слова вставить…
В молодежном клубе «Са ира», где читали стихи и советские, и западноберлинские поэты, нас встречали с напряженным интересом. Мы видели: слушателей удивляет, что в «репертуаре» советских не только сугубо гражданские, но и любовные, и пейзажные, и философские стихи.
Оказывается, перед нашим выступлением в клубе состоялся диспут под довольно-таки оригинальным названием: «Что такое Советский Союз — рай на земле или полицейское государство?» Мы и наши стихи должны были служить, так сказать, живыми иллюстрациями к теме, наглядными пособиями для аудитории.
Мне кажется, не будет нескромным предположить, что если бы этот диспут состоялся не до, а после нашего выступления, такая, мягко выражаясь, неожиданная постановка вопроса была бы невозможной. Ей-богу, никто из нас не походил ни на ангелов с крылышками, ни на запуганных, вымуштрованных, не умеющих самостоятельно мыслить марионеток из «полицейского государства».
Недаром почти во всех печатных откликах на нашу дискуссию, на наши стихи подчеркивалось, что многим западным немцам придется теперь отказаться от шаблонных представлений о советских людях, о советской поэзии.
ПЛЁТЦЕНЗЕЕ — ВИСЕЛИЦА И ЛОБНОЕ МЕСТО ЕВРОПЫ
Встреча с Западным Берлином обернулась для меня и новой встречей с княгиней Вики Оболенской.
В своих письмах читатели спрашивают, почему сидела Вики в Старом Моабите, а казнена была в Плётцензее. И что такое «Плётцензее»?
Все политические преступники, осужденные на смерть в любой из тюрем Берлина, в ночь, предшествовавшую казни, переводились либо в тюрьму, именуемую «Бранденбург», либо в тюрьму, именуемую «Плётцензее».
Вики Оболенская попала в Плётцензее…
И вот я вхожу в небольшой кирпичный барак — место казней. В частности, в этом бараке были повешены и участники неудачного покушения на Гитлера 20 июля 1944 года… Теперь здесь, если можно так выразиться, музей…
Тусклый зимний свет проникает сквозь два узких, как в церкви, окна. Сразу же цепенею, не знаю, от чего больше: от промозглого холода или от шести железных крючьев, укрепленных на массивной железной перекладине — усовершенствованной виселице, усовершенствованной, между прочим, и за счет того, что вместо веревки палачи употребляли проволоку…
Поражает обыденность, будничность обстановки: маленький темный барак.
А ведь эти обшарпанные стены слышали последний вздох лучших людей Европы, по этому цементному полу, отполированному деревянными колодками осужденных, шли на эшафот Юлиус Фучик и Муса Джалиль…
Все здесь осталось, как тогда. Нет, впрочем, не все — убрали гильотину. Ее можно видеть теперь только на старых снимках, запечатлевших барак в его, так сказать, рабочем состоянии. Вот она, в правом углу, — машина для рубки голов…
Почему-то именно женщины удостаивались чести быть обезглавленными. Это было личным предписанием Гитлера. Не знаю, какими соображениями руководствовался фюрер — едва ли гуманными…
Западногерманский писатель Рольф Хоххут в своем основанном на документах рассказе «Берлинская Антигона» («Новый мир», 1966, № 8) говорит:
«Голова, отделенная от туловища, продолжает жить еще долго, слепая, но, видимо, в полном сознании, — и живет иногда целых полчаса, тогда как смерть на виселице, как правило, наступает скоро…»
Очень хочется надеяться, что это не так. Но, конечно, женщины, присужденные к обезглавливанию, не могли не думать о такой чудовищной возможности…
Не могла не думать об этом и Вики Оболенская — человек, наделенный к тому же ярким воображением.
Страшно, но нужно проследить ее путь к гильотине. И сделать это с сухой протокольной точностью — любые «художества» будут здесь слабее фактов…
…Вот еще в Старом Моабите — Оболенскую вызывают из камеры смертниц, где она протомилась уже несколько месяцев, и сообщают, что ее пересылают в Плётцензее…
Ночь перед казнью. Крошечная, ледяная, темная камера в подземелье.
Оболенской объявляют, что она может вызвать священника, написать последнее письмо и (о, гуманность!) заказать обед.
Ожидание. «На рассвете, на рассвете…» А может, это произойдет и в другое время — гильотина теперь перегружена работой…
Шаги. Лязгнул замок. Вошел старик, бывший сапожник, сменивший свою профессию на другую, лучше оплачиваемую.
Со дня вынесения смертного приговора Вики была в кандалах. Сейчас палач вдобавок сковал ей руки за спиной, снял с нее туфли и вместо них надел деревянные колодки. Не очень понимаю, зачем — для лишнего унижения?..
Затем бывший сапожник вынул ножницы. За время, проведенное в тюрьме, короткие темные волосы Вики отросли. Необходимо было оголить шею… Наверно, молодая женщина вздрогнула, когда холодная сталь коснулась кожи…
Снова шаги, снова лязгнул замок на двери камеры. Пора…
Последний путь через серый тюремный двор. Последний глоток свежего воздуха…
Мне не удалось познакомиться с архивами Плётцензее — все они хранятся в Белом доме в Вашингтоне. В моем распоряжении оказался акт лишь об одной казни — над некоей Эмми Цеден. Но все эти акты похожи один на другой, как две капли воды. Отличаются только количеством секунд — в течение которых продолжается гильотинирование, от семи до восемнадцати…
Должно быть, это время зависит от поведения жертвы, расторопности палачей, исправности механизма…
Итак — акт казни:
Берлин. Плётцензее — 9 июня 1944.
(Штрафная тюрьма)
Приведение в исполнение приговора о смертной казни над Эмми Цеден. Присутствовали:
Ответственный за исполнение приговора: доктор Клюгер
Представитель юстиции юрист Карпе
В 13.00 часов осужденная, со скованными за спиной руками, была приведена двумя стражниками. Берлинский палач Рёттгер стоял со своими тремя помощниками.
Кроме того, присутствовал:
Тюремщик такой-то (подпись неразборчива).
После удостоверения личности осужденной палачу было поручено исполнять свои обязанности. Осужденная спокойно, не теряя самообладания, легла на гильотину, затем палач обезглавил ее и доложил, что приговор приведен в исполнение.
Вся процедура казни продолжалась семь секунд.
Подписи доктора Клюгера и юриста Карпе.
«…Вы были с 1933 по 1945 год членом преступной нацистской партии и во время войны работали в пропагандистском аппарате нацистского государства. 24 января 1967 года вы осмелились возложить венок у памятника жертвам нацизма в Плётцензее. Из уважения к памяти этих жертв, мы считаем недопустимым, чтобы их чествовал человек, пропагандировавший нацистский режим…»
Это отрывок из открытого письма западноберлинских и западногерманских деятелей литературы и науки канцлеру Кизингеру. Под письмом тридцать семь подписей. Среди них имена таких известных поэтов и писателей, как Ганс Магнус Энценсбергер, Гюнтер Грасс, Рейнгард Летау, Кристоф Мекель, Ганс Вернер Рихтер, Вольфдитрих Шнурре, Фолькер фон Тёрне…
КУРФЮРСТЕНДАМ И КРАСНЫЙ ВЕДИНГ
Со времени нашего появления в Евангелической академии не прошло и недели. А ощущение такое, словно мы здесь уже вечность. Но и «вечность» кончается — бегут последние сутки.
Из-за фантастически уплотненного, длинного рабочего дня и из-за того, что от академии до центра более двадцати километров, мы фактически так и не познакомились по-настоящему с городом.
То, что нам показывала из окна туристского автобуса очаровательная девушка-славистка (защищающая диссертацию по милому, но отнюдь не самому значительному для русской литературы произведению — «Детские годы Багрова-внука»), мне почти ничего не давало.
Чтобы почувствовать город, я обязательно должна в одиночестве побродить по улицам, потолкаться без дела в магазинах, посидеть в кафе, проехать в подземке, незаметно понаблюдать за парочками, поглазеть на уличные сценки, зайти в гости и к интересным, ярким людям, и к таким, которые интересны для литератора именно своей неинтересностью.
Из всего этого и создается ощущение города, его индивидуальности, его светлых и теневых сторон.
И все это надо делать без спешки, не чувствуя себя официальным лицом, не имея вроде бы никакой цели. Но за этой «бесцельностью» маячит где-то самая важная для художника цель — проникновение в душу города.
А сейчас получилось так, что мне удалось пройти только по мрачному цементу Плётцензее да по нарядным тротуарам Курфюрстендам — главной улице города.
Если говорят, что Вест-Берлин — витрина западного мира, то Курфюрстендам — витрина Вест-Берлина. Причем не только в переносном, но и в прямом смысле этого слова: вся улица — сплошная витрина. Яркая, броская, зазывающая. «Купи меня! Купи меня!» — кричат, принимая обворожительные позы, красавицы шубки. «Купи меня! Купи меня!» — вторят им кокетливые брючки, обтягивающие узкие бедра пикантных манекенов. «И меня! И меня!» — смущают слабые женские души очаровательные сапожки всех цветов и фасонов. «Купи! Купи! Купи!» — кричит, шепчет, воркует Курфюрстендам.
Я не сразу сообразила, что же кажется мне странным в зеваках, зачарованных сладким зовом курфюрстендамских сирен. И вдруг поняла: неприятно поражает обилие у витрин юных парочек. Шестнадцати — восемнадцатилетние Ромео и Джульетты (им бы смотреть друг на друга да на звезды!) прилипают носами к стеклу и, не в силах оторваться, с азартом и знанием дела обсуждают достоинства кухонного набора или ультрамодного мужского белья, обшитого кружевами…
И, как всегда на Западе, меня удивляет отсутствие покупателей в книжных магазинах и то, что в подземке или в автобусе никто не читает. Невольно вспоминаю дорогих моих москвичей, которые даже в час «пик», стоя на одной ноге в переполненном вагоне, ухитряются-таки вытащить книгу или газету и уже ни на что не обращать внимания…
И хотя на первый взгляд кажется, что нет никакой связи между юными парочками у витрин и утверждением Евы Крамм, что в ее стране поэзия — «выражение переживаний одиночек», мне думается, связь эта существует…
Нет, я отнюдь не против кухонных наборов — разумеется, все, что облегчает быт, можно только приветствовать. И в конце концов если некоторым представителям сильного пола нравится носить штаны с кружевами — на здоровье! Но скучно, когда сияние начищенных кастрюль перекрывает сияние звезд…
К моему спутнику подошел какой-то господин, вежливо протянул двадцать пфеннигов. Мы вытаращили глаза на него и друг на друга… Потом нам объяснили, что здесь считается неприличным попросить закурить, не предложив плату. Ну и ну!..
По совершенно понятной ассоциации мой спутник вдруг затянул, не обращая внимания на косые взгляды шокированных прохожих:
Ох, все-таки здорово, что этот самый «телец» царит не над всей Вселенной, — как невыносимо скучно было бы жить на свете!..
Конечно, и у нас на Родине не без равнодушных, алчных людей. Но они — отклонение от нормы, мещане, которые изо всех сил стараются скрыть бедность своей души, а не выдавать ее за добродетель, потому что знают — их будут презирать.
Это культивируемое революцией презрение к мещанству — тоже благодатная почва для расцвета поэзии.
На дискуссии в академии мы были в особом климате — нас окружали в основном как раз те «странные», влюбленные в поэзию одиночки, о которых упоминала Ева Крамм.
А здесь, на роскошной Курфюрстендам, — образцово-показательной витрине Западного Берлина, снова и снова вспоминала я удивительные своей точностью и глубиной строки из интервью Сергея Есенина, данного им в 1922 году в Берлине корреспонденту русской эмигрантской газеты:
«Только за границей я понял совершенно ясно, как велика заслуга русской революции, спасшей мир от безнадежного мещанства…»
Хочется мне привести и еще несколько выдержек из одного письма Есенина, позволяющих взглянуть на заграницу его глазами, проницательными глазами большого поэта, попавшего из борющейся с разрухой революционной страны в капиталистический рай:
«В страшной моде Господин доллар, а на искусство начхать — самое высшее — мюзик-холл. Здесь все выглажено, вылизано и причесано… Птички сидят, где им позволено… Пусть мы нищие, пусть у нас голод, холод… зато у нас есть душа…»
Наконец-то садимся в родные наши посольские «Волги» — здесь, в Западном Берлине, на них смотрят с интересом, как на редких зверей. Девушки-студентки, подрабатывающие в академии в качестве поварих, официанток, горничных, широко улыбаясь, держат за четыре конца большую белую скатерть, парусящую на ветру. Так вот от какого обычая пошло выражение «скатертью дорога!»
Прощай, Евангелическая академия! Ты была гостеприимной хозяйкой, мы благодарны тебе за это. И, надеемся, ничто не замутит хороших наших воспоминаний…
И вот — уже по дороге в Восточный Берлин — последнее наше выступление в Западном. Мы в Красном Вединге — пролетарском районе, районе антифашистов.
Красный Вединг! — сквозь вопли «хайль!» — сквозь неистовый рев нацистов звучит спокойный, отрывистый голос Эрнста Буша.
Красный Вединг! — сквозь колючую проволоку фашистских концлагерей смотрят в упор лихорадочные глаза измученных, но несломленных узников.
Красный Вединг! — поднимает сжатый кулак расстрелянный бессмертный Эрнст Тельман…
Мы читаем стихи в Обществе дружбы с Советским Союзом. Скромное, похожее на большой сарай помещение набито до отказа. Сцена украшена портретом Ленина и громадной цифрой «50» — нашим выступлением начинается цикл вечеров в честь пятидесятилетия Советской власти.
Приподнятое настроение аудитории — просто одетых людей всех возрастов — передается нам. Читать радостно и волнующе. Мы понимаем, что восторженность, с которой нас здесь встречают, — выражение чувств Красного Берлина к Красной Москве.
Молодежь не только бешено аплодирует, но и бурно топает ногами — высший знак выражения восторга.
После чтения стихов отвечаем на вопросы. Сначала — организованно, со сцены, через переводчика, потом сходим в зал, смешиваемся с публикой. Я, к сожалению, знаю всего несколько немецких слов — признаюсь, что не слишком любила этот язык… Но ведь существует еще язык глаз и улыбок…
ТЫ ПРОСТИ МЕНЯ, ЗИНА…
Посмотрели бы на меня сейчас ребята из 667-го стрелкового полка 218-й Краснознаменной Ромодано-Киевской дивизии или из 1035-го КСАП — отдельного Калинковичского самоходного артполка!
Думали ли мы, вжимаясь в осыпающийся, грохочущий окоп или врастая в броню обстреливаемой самоходки, что когда-нибудь кто-нибудь из нас будет рассуждать в Берлине с немцами о поэзии?
Нет, конечно же, не думали. Не думали мы об этом, когда поднимались скромные холмики братских могил на взбудораженной земле, — от самой Москвы до самого Берлина.
Ты прости меня, Зина Самсонова из села Колычево, и ты, Машенька Широкова из села Непорова, — две рязанские подружки-хохотушки, два отчаянных батальонных санинструктора 218-й стрелковой. Вам так никогда и не исполнилось двадцати…
Прости меня и ты, Лена-санинструктор, по прозвищу «Большая старшина», — не помню ни фамилии твоей, ни года, ни места рождения. Знаю лишь место и время твоей смерти — дальние подступы к Риге, октябрь сорок четвертого… И никогда не смогу позабыть, как это произошло…
Вот, казалось, что годы притупили боль фронтовых воспоминаний. А здесь, в Вест-Берлине, они снова пошли на меня в атаку.
И я даже не могу точно объяснить, почему мне так хочется сказать всем, кто не дошел до победы: «Простите!..»
И моим однополчанам, и совсем, совсем незнакомым однокашникам. И юным поэтам, которые так и не увидели ни одной строчки своих стихов напечатанной. Тем, которые могли бы сейчас сидеть здесь, в Западном Берлине, вежливые, готовые к бою, ничего не забывшие, верные фронтовой дружбе, мысленно вспоминающие погибших товарищей.
Да, никогда я еще не чувствовала так остро горький вкус воспоминаний, как при этой встрече.
И в то же время появилось ощущение, что в жизни поставлена необходимая точка.
И я горда, что мне еще раз оказана высокая честь сразиться за идеалы своей юности.
1967
Я ВОЗВРАЩАЮСЬ В ПАЛЕРМО
Когда я вышла на площадь Испании, поднялась настоящая русская метель. Мокрые хлопья снега мгновенно побелили зеленые пальмы и пинии, принарядили старые дома, густо облепили прохожих. Метель в Риме, родная российская метель!
Легко, по-южному одетые римляне натянули — словно противогазы — шарфы на носы и рты и ускорили шаги. На площади сразу же стало пустынно и неуютно. Я шарахнулась от шайки развязных хриплоголосых юнцов к чинной стайке длинноволосых девушек, но «девушки»-то как раз и оказались юнцами, а «юнцы» — девушками…
Медленно шла я по торопящемуся продрогшему Риму и, пытаясь хоть немного понять душу города, всматривалась в лица прохожих и в лица домов, читала вывески и афиши.
«После шестидесяти лет» — в кафе с таким элегическим названием и в самом деле сидели только седовласые почтенные люди.
«Jinson-boia» — «Джонсон-палач» было начертано мелом на тротуаре перед вокзалом Терминус. И рядом: «Да здравствуют бедра моей Маризы!»
Здесь же, на тротуаре, выросли большие черные грибы. Это предприимчивые бизнесмены мгновенно организовали торговлю зонтиками: ими здесь обороняются не только от дождя, но и от снега.
А метель все набирала силу. Укрываюсь в соборе святого Петра. Скольжу взглядом по его как бы отполированным экзальтированными взорами туристов сводам. И вдруг, словно удар тока, «Пьета» («Сострадание») Микеланджело. Произведение искусства невозможно, да и незачем пересказывать. Замечу только, что от «Пьеты» трудно — просто физически трудно — оторваться. Я наблюдала, как люди после долгого созерцания наконец уходили, оборачиваясь, и снова возвращались, и снова уходили, и опять ноги несли их к прекрасной мраморной женщине, на колени которой склонился умирающий юноша…
А на улице я увидела современную живую «Пьету». На красный свет, на огромной скорости шла беспрерывно клаксонящая машина. Молодая женщина, ведущая ее одной — левой — рукой, правой бережно поддерживала потерявшего сознание мужчину. И люди долго смотрели им вслед…
Стемнело. Пора было подумать и о грубой, не духовной пище. Я зашла в крошечную тратторию, приютившуюся рядом с моей скромной гостиницей, носившей шикарное название «Люкс». В траттории было пусто. Старуха за стойкой страшно обрадовалась клиентке. Она суетливо приняла заказ и громко закричала кому-то на кухне: «Пьетро, Пьетро, приготовь синьоре спагетти!» Потом она снова уселась за стойку и не слишком музыкально, но с энтузиазмом запела «Санта Лючию». Ну, это уже, конечно, был специальный номер для туристов! Нате, мол, вам, Италию в чистом виде!
Все это чудесно, но я была в отчаянии. Я-то не турист. Я должна увидеть в Италии нечто такое, что никто до меня не видел. А что делать, если прекрасная эта страна оказалась точно такой, какой все мы ее знаем по фильмам итальянских неореалистов? Вспомним хотя бы «Рим, в 11 часов», «Похитители велосипедов», «Умберто Де».
И вот я в гостях у автора сценариев, по которым поставлены все эти картины — одного из величайших кинодраматургов мира Чезаре Дзаваттини. Делюсь с ним своими тревогами. «Поэту нельзя подсказать тему, — мягко говорит этот удивительно милый и скромный человек. — Журналисту — можно, а поэту — нельзя. В душе поэта должна быть антенна, которая сама ловит нужные ей волны».
Впрочем, я и сама прекрасно сие понимаю, однако от этого понимания паника во мне нисколько не уменьшается. Вот уже три дня как я в Риме, а моя «антенна» что-то не улавливает никаких особенных, адресованных именно ей, волн…
Сижу, внимательно слушаю синьора Дзаваттини, рассказывающего, по моей просьбе, о новой своей работе, а в голове вертится светловское:
Сюжет нового сценария Чезаре Дзаваттини таков. Во время второй мировой войны одна неаполитанка (ее должна играть София Лорен) получила извещение, что ее муж погиб на Восточном фронте, в России.
Через несколько лет после войны вдова решает поехать в Россию, чтобы найти там могилу своего мужа. Но в Советском Союзе она узнает, что супруг ее был не убит, а попал в плен, теперь жив-здоров и женат на русской. Происходит встреча, вспыхивает прежнее чувство. Итальянец возвращается к своей жене и едет на родину. И вот здесь, «над родным знаменитым заливом» он вдруг чувствует — в душе его что-то сместилось. Несмотря на свою любовь к Италии и к жене, он не может уже жить без России и той — русской — женщины. Фильм должен кончаться возвращением Итальянца в Советский Союз.
…На премьере спектакля «Я — Брехт» снова прозвучал этот «итало-русский» мотив. Любимица Италии, обладающая громадным драматическим темпераментом прекрасная певица Мильва, пела невеселую песенку о посылках, которые получала жена солдата: из Франции — одежду, из Германии — продукты, а из «Руссии» — черный крест… И опять я повторяла про себя светловские строки:
«Я — Брехт» — премьера миланского театра, привезшего этот спектакль в Рим. В сущности, это композиция из прозы, стихов и песен на слова Брехта. В спектакле заняты два исполнителя: читает сам главный режиссер этого театра, очень известный в стране Джорджио Стрейлер, поет — Мильва.
Необычная для Италии форма этого спектакля, имена Стрейлера и Мильвы вызвали сенсацию. В театре был «весь Рим». Я смогла проникнуть сюда только благодаря любезности синьора Дзаваттини. В фойе то и дело вспыхивали юпитеры, бесшумно ползли теле- и трещали кинокамеры, нацеленные на очередную знаменитость. Большинство этих знаменитостей было — увы — мне незнакомо. Но вот промелькнуло удивительно знакомое лицо: ах, да это же «Журналист из Рима» — Альберто Сорди. Он же главный герой «Бума», «Обгона» и прекрасного антивоенного фильма «Все по домам». А вот и еще одна знаменитая пара: Микель-Анджело Антониони — худой высокий с очень усталым, нервно подергивающимся лицом, и очаровательная Моника Витти с ее загадочной внешностью, бесспорное своеобразие которой продуманно подчеркнуто спортивной курткой и брюками. Среди невероятных вечерних туалетов разодетых дам этот скромный спортивный костюм выглядел более чем эффектно…
А такой ослепительной выставки мехов и драгоценностей мне, признаться, еще не приходилось видеть. В нищей, трагической, разрушенной землетрясением Сицилии вспомнила я как-то это сверкающее и благоухающее ристалище…
Еще в Москве, обдумывая свой итальянский маршрут, я твердо решила побывать в Сицилии — крае, куда так редко приезжают советские люди, острове, о котором мы знаем так мало. В Риме я составила точный график своего путешествия, график, по которому я должна была прилететь в Сицилию 14 января. Но уже после того, как был куплен авиационный билет до Палермо и заказан номер в гостинице, разговор с корреспондентом «Правды» в Риме заставил меня изменить свои планы. «Мафия, кактусы, бездонные пропасти — это, конечно, интересно, — безжалостно сказал он мне. — Но больше для туристов. Вам же дружески советую срочно сменить всю эту экзотику на так называемый „красный пояс“ — Болонью и ее провинцию. Знаете ли вы, что из двух людей, встреченных на улице в Болонье, один — коммунист? А знаете ли вы, что значит быть коммунистом в Италии? А знаете ли вы, что там есть свои райкомы и обкомы партии? И колхозы?»
Ну, тут я уже не могла устоять. Тем более что была в панике от страха недобрать серьезный материал. А что касается потерянной экзотики, то я рассчитывала наверстать ее в Северной Италии. О, вечносинее небо Флоренции, о, трагическое наводнение, о, мечта туристов — Пизанская «Падающая башня», о, венецианские гондолы!..
Вот так и случилось, что 15 января, то есть в день первых подземных толчков в Сицилии, я оказалась не в Палермо, а в Болонье.
Рано утром, 16-го, еще ничего не зная о землетрясении, выехала в ближайший «колхоз» — кооператив, объединяющий несколько крестьянских хозяйств на базе общей «МТС»: члены кооператива в складчину купили комбайн и другие сельскохозяйственные машины.
Секретарь Болоньского обкома партии показал мне один из Народных домов — прекрасное, с безукоризненным вкусом построенное и оборудованное здание; его построили рабочие в свободное время. В сущности, этот Народный дом был младшим братом наших Дворцов культуры, но кое в чем он опередил своих старших братьев. Так, например, имелись там и уютная столовая, и бар, и кафе для молодежи, и зал для свадеб — в общем, людям было куда пойти вечером, если даже они и не хотели петь в хоровом кружке или учиться на курсах кройки и шитья.
Вечер провожу у заведующего местным отделением «Униты» Серджио Сольо и его жены, десять лет назад завоевавшей титул «мисс Болонья». Бывший рабочий, в 16 лет ставший партизаном знаменитой Гарибальдийской бригады, Серджио рассказал мне о той Италии, которая в годы второй мировой войны, бок о бок с нами, сражалась с фашизмом. Выражение «бок о бок» не метафора: немало советских партизан, бежавших из немецких лагерей, входило в состав итальянских партизанских бригад. А в окрестностях Болоньи сражался большой отряд русских, считавший себя регулярной воинской частью Красной Армии.
Мне хотелось поговорить с бывшими партизанами, побывать на местах боев. Но тут Болонью потрясла весть о трагедии в Сицилии.
Конечно, нужно лететь в Палермо. Но как это сделать? Ведь у меня уже взяты железнодорожные билеты и оплачены номера отелей в Генуе, Флоренции, Венеции, Пизе. Представитель общества «СССР — Италия» только что улаживал мой отказ от поездки в Палермо… Но как бы то ни было, надо добираться до Сицилии. Легко сказать — добираться. Болонья окутана густым безнадежным туманом. Не полетит никакой самолет, даже военный. Нужно ждать до утра. Ночью — телефонный звонок из дома: «Какое счастье, что ты не в Сицилии». У меня не хватает духу сказать правду… Утром все тот же безнадежный туман. О самолете нечего и думать. Сажусь в машину, которую ведет спокойный, исполненный чувства собственного достоинства «компаньо» (то есть товарищ). Моя тезка «Джулиа» идет со скоростью 160–170 километров, а мне все кажется — медленно.
В Риме тут же иду в Общество Дружбы. «Я все сделаю для вас, компанья, — говорит мне пожилой итальянец. — Но, честно, считаю это немножко авантюрой. Палермо не отвечает, газеты пишут, что там паника, люди бегут из города, оставшиеся ночуют на улицах, отели закрыты, магазины тоже».
Билет на самолет удается достать только на 5 часов 30 минут утра. Остальные рейсы уже целиком укомплектованы. В Палермо ринулись корреспонденты всех стран и люди, в городе у которых остались дети.
Ясно, что о сне нечего и думать. Тем более, что уже без четверти четыре, мне нужно ехать на аэродром Фьюмичино.
Наконец, аэродром. В зале ожидания почти все пассажиры вооружены кино-, теле- и фотокамерами. Звучит разноязычная речь. Только русского языка не слышно. Ах, если бы рядом был соотечественник или хотя бы просто знакомый человек!..
Объявляют посадку. «Каравелла» отрывается от земли. Смотреть вниз — бесполезно — еще темно. Перелистываю газеты. Заголовки малоутешительны: «Сицилия содрогается снова», «Несколько секунд, которые страшнее войны», «Я видел ад», «Ночь ужаса под укусами мороза», «Паника в Палермо». И снимки, снимки. Снимки городов, превращенных в горы щебня, трупов детей, извлеченных из-под развалин, беженцев, бредущих куда глаза глядят. Снимки длинных очередей добровольцев в Риме и в других городах, желающих отдать свою кровь пострадавшим.
Только успели отстегнуть ремни, как стюард снова просит пристегнуть их — лету до Палермо меньше часу. Идем на посадку. У меня мелькает глупая мысль: «А что будет, если толчки начнутся именно в тот момент, когда самолет коснется земли?» Впрочем, мы, кажется, просто садимся в море — оно темнеет под нами, еле различимое в сумерках рассвета. Однако в последние секунды вижу огни взлетной полосы. Садимся. Подают трап. Касаюсь ногой сицилийской земли, кажущейся сейчас такой мирной и безобидной.
В здании аэропорта тесно, шумно и беспорядочно — люди атакуют билетные кассы.
Что же мне делать дальше? Буду поступать, как другие пассажиры. Они ждут, когда привезут чемоданы, — я жду тоже. Потом все садятся в голубой пульман с надписью «Алиталия» — я тоже.
Автобус трогается. Уже почти совсем рассвело. Прямое широкое шоссе идет вдоль моря. Оно сейчас совсем спокойное, даже ласковое.
Со странным щемящим чувством я замечаю, что Палермская бухта невероятно напоминает Коктебельскую — ту самую, что в Восточном Крыму, рядом с Феодосией. Коктебель, моя любовь, — пустынный апрельский или ноябрьский Коктебель — ты, наверное, и не знаешь, что в далекой Сицилии у тебя есть близнец. Та же необычная форма и цвет гор, та же мрачноватая «Карадагская» гряда справа и — невероятно, но факт! — как и в Коктебеле, она заканчивается каменным профилем Волошина. Правда, «борода» у сицилийского «Волошина» гораздо длиннее и на ней удобно разместились уютные домики…
Въезжаем в город. Он пуст. Сейчас семь часов — время, когда жители, ночевавшие на улице, забежали в свои дома обогреться и перехватить чего-нибудь горячего.
Надо же, чтобы землетрясению сопутствовали еще такие, небывалые для Сицилии холода! А сицилийцы вообще не знают, что такое настоящая теплая одежда. Даже люди, имеющие деньги, не могут купить себе, например, обуви на меху, потому что в магазинах Палермо таковой просто не имеется.
Автобус останавливается около здания «Алиталии». Молниеносно рассасываются корреспонденты со своей аппаратурой. Остаюсь на мертвой улице одна, с чемоданом в руке. Хочу взять такси и поехать прямо в общество дружбы «Сицилия — СССР» (в Риме меня снабдили нужными адресами и телефонами), но никаких машин нет. Захожу в «Алиталию», прошу у дежурного разрешения позвонить. Общество молчит. Звоню домой секретарю общества Лауре Колоянни, и, о, счастье! — мне отвечает приятный женский голос.
— Лаура?
— Си.
— Здравствуйте, Лаура! Я знаю, вы говорите по-русски. Вас приветствует специальный корреспондент «Литературной России». Мне необходимо добраться до мест землетрясения.
— Ну что же, — буднично отвечает она. — Сейчас туда пойдет грузовик с продуктами и одеждой. Я еду тоже и могу прихватить вас. Где вы находитесь? Через час я заеду за вами.
Как здорово все складывается! Но теперь, когда организационная сторона дела вроде бы уладилась, приходит мысль о доме. У меня есть час, чтобы попытаться дозвониться до Москвы.
Телеграф, к счастью, оказывается рядом. Нахожу корпункт, умоляю дежурную срочно связать меня с Москвой, с редакцией и даю ей… домашний телефон.
Сижу, жду, волнуюсь — ведь, кроме всего прочего, ровно в девять я должна быть снова в «Алиталии», куда приедет Лаура. А вокруг корреспонденты всех стран передают срочный материал. «Алло, „Юманите“!», «Алло, „Морнинг-Стар“!», «Алло, „Таймс“!»
Нет, сегодня мне положительно везет — без четверти девять дают Москву. У телефона — мать. «Алло, „Литературная Россия“! — кричу я ей, косясь на прислушивающихся к разговору корреспондентов и дежурную. — Говорит ваш специальный корреспондент».
— Это ты, Юля? Как твое горло? — отвечает мне «Литературная Россия».
— Подробный материал буду передавать завтра. Пока только хочу сказать, что в Палермо все спокойно. Вы меня поняли, «Литературная Россия?»
— Но как все-таки твое горло? — снова спрашивает мать.
— До завтра, «Литературная Россия», до завтра! — я вешаю трубку.
Ну, теперь дома знают, что я жива и здорова! Компанья Лаура Колоянни оказалась маленькой, хрупкой и очень деловой молодой женщиной.
— Скажите мне прежде всего, — набрасываюсь я на нее, — во сколько баллов оценивается землетрясение?
— Этого никто не знает, — пожимает плечами Лаура. — В Палермо сейчас нет сейсмографов. Они разлетелись вдребезги при одном из толчков.
— А как прошла сегодняшняя ночь?
— Слава богу, спокойно.
Садимся в легковую машину. За рулем — Франко Грассо, профессор, преподающий в лицее теорию искусства, человек лет за 50, высокий, худой, юношески подвижный. Внешне он нечто среднее между Дон-Кихотом и Мефистофелем, внутренне — убежденный последовательный коммунист. К защите университетского диплома Грассо готовился… в заключении, куда попал за свои политические убеждения. Для защиты ему разрешили отлучиться из тюрьмы в сопровождении конвоира. А темой диплома было советское изобразительное искусство, и, в частности, творчество Веры Мухиной…
Наша машина должна сопровождать грузовик с продуктами и одеждой, собранными независимой левой газетой «Л'Ора». Такие грузовики, автобусы и легковые машины стихийно потянулись к лагерям беженцев.
Правда, правительство уже выделило большую сумму денег для людей, умирающих от голода и холода в горах Сицилии. Но пока эти деньги станут молоком, хлебом и теплыми вещами, пройдет немало времени. А беженцы уже несколько дней едят только апельсины да мандарины — благо, их рощами покрыты склоны гор. И добровольцы стали ходить по домам Палермо. Каждый давал им, что может — кто бутылку молока, кто буханку хлеба. Нередко хозяйки снимали с постели и отдавали единственную имеющуюся у них теплую вещь — одеяло.
Наш грузовик остановила бедно одетая женщина в черном и сняла с себя все, что могла, — платок, заштопанную кофту и чулки…
Наконец мы вырвались из города. Нам пришлось проделать много лишних километров для того, чтобы попасть туда, куда хотели, потому что дороги были разрушены землетрясением. А в Джибеллино и Кампореале мы и вовсе не смогли пробиться.
Но как только машина стала ввинчиваться все вверх и вверх, в горы, я поняла, что пропала, что, несмотря на неуместность момента, я влюбилась навсегда, влюбилась с первого взгляда. Влюбилась в эти сумрачные неприрученные вершины, в живое теплое золото лимонных и мандариновых рощ, в фантастические кактусовые леса, в невероятные дали, открывающиеся за каждым новым поворотом, в невероятное море, вдруг неожиданно сверкнувшее где-то далеко-далеко внизу.
Сицилия, Сицилия, благословенная страна! Таким должен быть рай. А между тем это ад. Люди, живущие здесь, — самые бедные в Италии, стране, где бедностью никого не удивишь. И за какие грехи обрушилась на них эта страшная кара — «терромото»? Только землетрясения им и не хватало!..
Проскочили Корлеоне — центр мафии. Не сбавляя скорости, проезжаем разрушенные, мертвые, покинутые города. Только в Самбуке какой-то смельчак-оптимист разложил на земле для продажи фрукты, надеясь, по-видимому, на проходящие машины.
Вдоль дороги то и дело парусят на резком ветру привязанные к палке белые платки, майки, трусы. Это sos — сигнал бедствия, молчаливая просьба о помощи. Здесь, на холодной земле, расположились те, у кого под развалинами остались близкие и все их жалкое имущество. Люди в платках, заменяющих пальто, молча провожают нас глазами… А наш грузовик безнадежно отстал, и мы, к сожалению, ничем не можем никому помочь…
Останавливаемся в городке Санта Маргерита Беличе. Профессору Франко Грассо, страстно влюбленному в искусство, хочется сфотографировать руины некоего знаменитого в Италии, воспетого в песнях, замка. На фоне этих развалин он, оказывается, снял и меня с Лаурой. Пожалуй, выражение наших лиц, больше чем все слова, говорят о том, что мы чувствовали, глядя на камни, под которыми, возможно, еще были люди — никто здесь толком не знает, сколько жертв оказались заживо или замертво замурованными… А спасательные работы ведутся пока до отчаяния медленно. Правда, со всех сторон острова стекаются сюда, в район бедствия, добровольцы — в основном студенты и молодые коммунисты. Но много ли они могут сделать голыми руками? А пока не хватает не только бульдозеров, но и простых лопат…
Рядом с разрушенным городом — наскоро раскинутый лагерь «Коммуна Санта Маргерита Беличе». Несколько палаток, битком набитых людьми. До ужаса много детей… Люди просто на земле, у костров, под открытым небом. Холодно. Пронизывающий ветер. И какая-то странная мгла — трудно дышать. Говорят, образовалась она оттого, что неподалеку, в Кампореале, во время землетрясения из земли вырвались два столба горящего газа. С грузовика, на котором написано «Арагона, братьям, пострадавшим от землетрясения», сбрасывают буханки хлеба. Люди ловят их и тут же, на ходу, разламывают дрожащими руками.
Едем дальше, в Монтеваго, город, который газеты называют «столицей отчаянья». Разрушено 98 процентов домов, пока из-под развалин извлечено 50 трупов, предполагают, что в руинах осталось еще не меньше трехсот…
Сколько трагических, обжигающих душу сцен! Вот отец, идущий за носилками, на которых лежат две его девочки — Маргерита, восьми лет, и Розина, прожившая на свете всего несколько дней…
А вот человек над руинами своего дома, который стал могилой его старика отца…
Самое ужасное, что, может быть, кто-нибудь из заживо погребенных еще надеется на помощь.
Ведь выжила же 104-летняя старуха, которую нашли только через 30 часов!
А двухлетний Франко — он провел под руинами целых два дня. Кроме матери, вся его семья — отец, два брата, дедушка с бабушкой — были убиты на месте. Истекая кровью, с переломанными ногами, мать своим телом согревала ребенка. Когда спасатели добрались до них, они увидели женщину, в которой еле-еле теплилась жизнь, и малыша с открытыми глазенками и соской во рту.
И те, у кого в руинах остались близкие, еще надеются, хотя со времени катастрофы прошло уже четверо суток… И потому, в частности, не хотят уйти подальше от этой страшной земли, которая каждую минуту может взбунтоваться снова. Сегодня ночь прошла без толчков, но кто знает, кто знает, что будет завтра?
И те, у кого, к счастью, все в семье уцелели, но под развалинами остались какая-нибудь кровать или комод — единственное состояние, — тоже не хотят уходить. Да и куда им идти — без гроша за душой, с оравой малых ребят и с беспомощными стариками?..
На грузовике установлена миниатюрная игрушечная церковь. Вздымает замерзшие руки священник. Вокруг люди на коленях. «Ну что же — благодарите бога за все, что он для вас сделал!» — с горечью говорит Лаура.
Мои спутники вышли из машины, разговаривают с беженцами, фотографируют их. А мне мучительно стыдно. Никто ни о чем меня не спрашивает и не просит — у этих людей удивительное чувство достоинства. Но поглядывают эти все потерявшие люди вопросительно — зачем я здесь, не на туристской же прогулке?
Возвращаются Лаура и Франко. Профессор обязательно хочет мне показать Триниту Диделию — церковь то ли десятого, то ли двенадцатого века. Честно говоря, мне совсем не до памятников искусств, но не хочу быть невежливой.
Долго ищем эту самую Триниту Диделию. Вот она, неподалеку от Кастельветрано. Цела, только дала чуть заметную трещину.
Возле церкви — небольшой лагерь беженцев из Кастельветрано. Слушаю профессора, а сама все кошусь на самодельные палатки. К нам подходит старая крестьянка в длинном черном платке и две молоденькие девушки в одеялах. «Руссо?» — спрашивает женщина. — «Си».
Господи, как осветились их лица, как старались они что-нибудь сделать для меня! Девушки наперебой сообщали всякие подробности о церкви, потом повели внутрь. У входа я остановилась и, естественно, пропустила вперед старую крестьянку: «Пожалуйста, синьора!» С каким врожденным достоинством она поблагодарила меня!
Девушки приплясывали от холода. Я с ужасом смотрела на их голые ноги, на посиневшие руки, придерживающие легкие одеяла, накинутые вместо пальто. Протягиваю одной из девушек свои перчатки. «Нет, нет, не надо!» — покраснев, решительно затрясла она головой. Но другие, увидев, что я тоже чуть не до слез смущена и огорчена, стали ее уговаривать: «Бери, бери, не обижай, человека!» Девушка поблагодарила, убежала куда-то, а через минуту появилась с тремя мандаринами — она не хотела быть в долгу.
Когда я вышла из церкви, меня уже сопровождала целая толпа. Подошли к палатке, где молодая женщина держала на руках грудного младенца. «Мария, это русская, покажи ей твоего Пепе». Женщина испуганным движением вырвала соску изо рта малыша — мол, это неприлично… Потом меня попросила подойти к больной девочке, которой очень плохо и которая очень хочет посмотреть на русскую. У девочки болело горло, она была в жару, а ночь обещала быть такой холодной… Я попыталась сказать ребенку что-то шутливое. К счастью, в одном кармане у меня была деревянная хохломская ложка, а в другом тюбик советского плавленого сыра.
— Нет, мы не жалуемся, наоборот, мы благодарим бога. Ведь он совершил чудо: в Кастельветрано не погибло ни одного человека, — сказал мне молодой человек, оказавшийся учеником Франко Грасса, искусствоведом.
— Скажите, синьора, — застенчиво обратился ко мне пожилой крестьянин, — к какой партии вы принадлежите — к христианско-демократической, к коммунистической или еще какой-либо?
Все затихли, ожидая ответа. Я тоже молчала, потом негромко сказала: «Я — член Коммунистической партии».
Люди зашумели, заулыбались. А я солгала им, впервые в жизни став самозванцем: ведь я — беспартийная.
Но тут в этот момент я не могла поступить иначе…
— Мы все здесь компаньи! — сказала мне на прощание старая крестьянка, и я не поняла, что она хотела этим сказать: то ли просто, что они дружно живут, то ли, что все они коммунисты. Но, прощаясь со мной, эта женщина подняла кверху сжатый кулак. Я ответила тем же: «Рот Фронт!» И все они — даже дети — повторили этот жест — знак международной солидарности. А за их спинами темнела старинная церковь Тринита Диделия…
Мы возвращались в Палермо. Уже стемнело. И снова мы проносились сквозь мертвые городки, а вдоль дороги дымились костры, и беженцы смотрели нам вслед. А навстречу все шли и шли, все ехали и ехали солдаты и карабинеры. И нельзя было не вспомнить войну, не вспомнить фронтовые дороги Великой Отечественной…
И отрываться от этой земли было словно отрываться от собственной юности…
Но я не принадлежала себе, я была корреспондентом. В Сицилии я уже сделала свое дело, теперь меня ждала Северная Италия.
К тому же, ночь и день прошли совершенно спокойно — верилось, хотелось верить, что самое страшное уже позади… Когда объявили посадку на последний — мой — самолет, началась гроза. Гремел гром, сверкала молния, а я бежала под проливным дождем к трапу «Каравеллы» и думала о тех, кто проводит эту ночь в горах, под открытым небом…
А утром в Риме я услышала по радио, что вчера ночью в зоне землетрясения снова были толчки…
Нет, мне абсолютно не до венецианских гондол и флорентийских дворцов! Бог с ними! В редакции поймут. «Делай, как должно, и пусть будет как будет», — эти слова, прочитанные в дневнике Льва Толстого, я повторяю, как заклинание, во всех трудных случаях жизни. Мое сердце в горах Сицилии, — следовательно, и сама я должна быть там. Я возвращаюсь в Палермо.
«Я возвращаюсь в Палермо…» — это звенит во мне, как песня. На душе сразу становится легко и ясно.
День уходит на разные организационные дела, на звонок в Палермо и на поиски теплых сапог — трудная задача в Риме! — мне так хочется их подарить кому-нибудь в Кастельветрано. А кому — пусть решают сами. Народ там дружный и справедливый.
Рано утром 20 января я снова вылетаю в Сицилию. Палермо обрушивает на меня тонны воды. По аэродрому можно плавать в лодках.
Снова проделываю в знакомом автобусе знакомый путь до знакомого здания «Алиталии». Море сегодня серое и бурное.
Возле «Алиталии» с радостью вижу знакомую фигурку Лауры Колоянни, ожидающей меня. Лаура ни о чем не расспрашивает, — все ясно. На секунду заезжаем в общество «Сицилия — СССР», где женщины упаковывают мешки с теплыми вещами для пострадавших. Среди них — русская, москвичка, Валя, которая вышла замуж за сицилийского рабочего, и вот уже два года как живет в Палермо. Ей хочется поболтать со мной, мне — тоже, да нет времени. Нас ждет грузовик с досками, из которых будет построен дом для детей в коммуне Санта-Нинфа. От самого городка осталось только одно название…
Сегодня за рулем — Лаура. Рядом с ней — ее родственник, пожилой усатый человек с удивительно добрым лицом и молодыми глазами. Этот добряк — живая легенда Италии: грозный коменданте Николо Барбато (Бородач): такой была партизанская кличка командира знаменитой Гарибальдийской дивизии Помпео Колоянни, дивизии, слава о которой гремела в Италии в годы второй мировой войны. А после войны Помпео Колоянни был вице-президентом военного министерства в Риме, потом первым секретарем палермской организации Коммунистической партии. Затем вице-президентом общества дружбы «Сицилия — СССР». Сейчас он депутат Сицилийского парламента.
Рядом со мной сидит его жена — Лина Колоянни, женщина, внешне напоминающая наших коммунисток 20-х годов. Работает в УДИ — Союзе итальянских женщин и, конечно, член компартии.
Сейчас УДИ делает все, что может. И из разных секций этой организации, охватывающей всю страну, приходят просьбы женщин прислать им детей из пострадавших районов. Но надо сказать, что пока мало кто из родителей дает на это согласие. «Пусть наши дети умирают вместе с нами», — с горечью цитирует их слова Лина Колоянни.
Один сын Помпео и Лины сейчас в Монтеваго, среди добровольцев спасателей, другой ездит с грузовиком по лагерям беженцев…
Разговариваю, а сама смотрю вокруг и не могу наглядеться, и снова острое чувство любви к этой прекрасной и несчастной стране захлестывает меня. Как я буду расставаться с тобой, Сицилия?..
И еще меня захлестнуло горячими волнами человеческой солидарности: сегодня машины с надписями «Пострадавшим от землетрясения» идут почти сплошным потоком. В Вите — одном из мертвых разрушенных городов, через который проходит эта «трасса жизни», даже образуется пробка. В Салеми с грузовика бросают беженцам одеяла и матрацы. И всюду регулирующие движение карабинеры и солдаты, одетые в закамуфлированные под цвет местности комбинезоны.
А вот и Санта-Нинфа. Первое, что мне бросается в глаза, — это почтовый фургон и очередь около него. Здесь можно бесплатно послать телеграмму. Дальше бесплатно раздают лекарства. Всюду валяются банки из-под консервов. Очень много народу — по-моему, добровольцев уже больше, чем беженцев. Помпео знакомит меня с врачами-добровольцами, с инженерами-добровольцами, с корреспондентами: «Компанья Джулиа Друнина, джорналиста русса». Я пожимаю чьи-то замерзшие руки, улыбаюсь.
«„УНИТА“, — представляется мне молоденький парнишка, увешанный фотокамерами. — Хотите посмотреть, — пришли грузовики с палатками, которые привез ваш самолет?»
Еще бы мне не хотеть! Я так счастлива встретиться с моей «Русией», я так горда, что на помощь Сицилии пришел мой советский самолет! А люди смотрят на меня благодарными глазами и улыбаются мне.
Лина Колоянни остается до завтра в Санта-Нинфа, а вместо нее в машину садится Франко Грассо, который, оказывается, ездил на аэродром встречать наш самолет. Франко говорит, что таких самолетов с медикаментами, продовольствием и теплыми вещами будет еще несколько. Чувствую себя именинницей.
К Монтеваго подъезжаем уже в полной темноте.
Но лагерь освещен двумя мощными прожекторами. И мечется на ветру пламя костров. И то и дело раздается металлический голос громкоговорителя: «Каждый, чувствующий себя нездоровым, должен обратиться в медицинский пункт». Потом вдруг слышу: «Помпео Колоянни хочет говорить с мэром товарищем Барриле». Призыв повторяется несколько раз.
Появляется Помпео со своим сыном, пареньком 16-ти лет. Мальчик жалуется, что его поставили на «легкую работу» — удостоверять личности пострадавших, откопанных в развалинах… «Другие, знаете, как работают, а я…»
Молодежь действительно не жалеет себя. Та самая молодежь, которой так доставалось от взрослых то за твисты, то за слишком длинные волосы, то за слишком короткие юбки…
Врачи жалуются, что появилось много больных. И на неорганизованность — завалили теплыми вещами, а совсем нет молока и сахара.
Мы возвращаемся в Палермо по дороге, освещенной кострами. Около каждого костра останавливаемся, и Лаура тщательно записывает, что кому нужно: у нее уже появилась возможность реально помочь людям, возможность, которой не было еще два дня тому назад. В дни великого горя народного итальянцы доказали, что у них золотые сердца — добровольные пожертвования лились воистину неиссякаемым потоком.
Когда мы, полумертвые от усталости, возвратились в Палермо, большинство жителей, опасаясь новых толчков, уже спало в машинах или возле костров. Друзья проводили меня в отель — солидное многоэтажное здание; я отказалась от ужина, поднялась на лифте на четвертый этаж, вошла в свой номер и бухнулась в постель, не раздеваясь, — столько же из-за трусости, сколько и из-за усталости. Последней моей мыслью было: «Жаль, что не засекла, в какой стороне лестница. Прыгать из окошка высоковато».
Ночь прошла спокойно. А день начался с огорчения. В Санта-Нинфа, куда Помпео привез нас, чтобы проверить, построен ли уже дом для детей, я остолбенела при виде сотен буханок хлеба, сваленного прямо в грязь.
Да что же это такое? Ведь я знала, как тяжело с продовольствием в других лагерях. Только вчера нам жаловались, что кое-где карабинеры и солдаты голодают, не видят хлеба…
Лаура беспомощно пожимала плечами, Франко искал наилучшую точку для того, чтобы сфотографировать эти хлебные горы, а Помпео убежал искать кого-то и вернулся такой сердитый, что я не стала ни о чем его расспрашивать.
А дом для детей был почти готов — добровольцы работали не за страх, а за совесть.
Потом мы закусывали в машине одной из этих злосчастных буханок, подобранной в Санта-Нинфа, потому что Помпео забыл дома пакет с едой.
Мы хотели проехать в Монтеваго, но нас туда не пустили — карантин, началась эпидемия скарлатины…
Мы долго крутились по горным дорогам, пока не очутились на берегу моря, в Шьяке — городе, почти не тронутом землетрясением. Там, в шикарном отеле, местные власти временно разместили беженцев. Громадный вестибюль был набит ими, как наши вокзалы времен войны. Люди сидели на мешках и просто на голом полу, всюду ползали, плакали и смеялись дети. Я разговорилась с одной беженкой — матерью четверых детей. Трое суток она просидела в вестибюле, а вот сегодня получила комнату. Но это временная мера. А что будет дальше? Газеты пишут, что восемьдесят тысяч человек остались без крова. Единственное, что пока может сделать правительство, это молниеносно, даже без фотокарточки, оформить паспорта всем, выразившим желание эмигрировать за границу. Но что будут делать за границей люди без гроша в кармане? Просить милостыню?..
А между тем прибыла группа новых беженцев из Менфи. Они говорят, что сегодня там снова были толчки…
Подходит какой-то товарищ и говорит, что нас зовет Помпео Колоянни. Мы с Лаурой долго идем вверх по лестнице, потом входим в небольшую комнату. Там, на скромной койке лежит человек с израненным во время катастрофы лицом. «Знакомьтесь, — говорит Помпео, — это товарищ Леонардо Барриле, мэр Монтеваго. Ему не повезло: немножко заболел».
По-моему, Барриле очень плохо. Видно, что у него большой жар, что он измучен тяжелыми мыслями и вообще ему не до гостей.
Тяну Лауру за рукав, мы прощаемся и уходим.
Уже 8 часов, мой самолет отходит в 10, а до Палермо не меньше ста семидесяти километров, да еще до аэродрома около двадцати.
— Мы уже договорились с одним нашим товарищем, депутатом парламента, — спокойно говорит Лаура. — Ему нужно срочно в Палермо. Он вас и отвезет.
Меня знакомят с высоким человеком в очках. Быстро попрощавшись с дорогими своими друзьями, сажусь в машину депутата. Последнее, что я вижу в Шьяке, — это группу ребят и девушек студенческого вида, несущих одеяла и матрасы.
«Молодые коммунисты», — кивает на них мой новый товарищ и заводит машину.
Только сейчас я поняла, что такое настоящая итальянская езда. Мой депутат гнал свою послушную машину по серпантину скользкой от дождя горной дороги, в темноте, со скоростью не меньше ста сорока километров, не притормаживая на поворотах, не сигналя. Первые десять минут мне было как-то не по себе, но потом я поддалась обаянию этой сумасшедшей езды, этой странной ночи, этого незнакомого сицилийца, в котором после нескольких фраз почувствовала человека своей породы. Метались на ветру тревожные костры беженцев, в черном небе пересекались лучи мощных прожекторов, установленных в Монтеваго и Санта-Нинфа, из-за крутых поворотов летели прямо на нас фары встречных военных машин, шли вдоль обочин солдаты.
Мы проносились через мертвые деревни, где иногда мелькали торопливые фигуры крестьян. Тогда депутат, человек чем-то похожий на отчаянных и великодушных комбатов моей юности, резко тормозил, выскакивал из машины, пожимал руки крестьянам, о чем-то их спрашивал, и снова, как в седло, прыгал на сиденье, и снова начиналась сумасшедшая скачка.
Мы говорили всю дорогу, говорили на какой-то невероятной смеси французского с итальянским. Нам было трудно понимать друг друга в деталях, но в общем все было ясно. Я хорошо знала, что чувствует фронтовик, отпущенный на несколько часов в тыл.
— Я вернулся из ада, из Монтеваго, — медленно, подбирая слова, говорит он, — и вдруг слышу в Шьяке радио: светские и спортивные новости. И вижу красоток на обложках журналов. Вообще-то я не против красоток, но сейчас это оскорбляет…
— Понимаю. Но что поделаешь? Жизнь есть жизнь…
Хорошо мне так говорить — я-то лечу в тыл. А он должен вернуться на фронт.
Вот уже и огни аэродрома.
— Чао, Джулиа!
— Чао, Вакуло!
Долгое рукопожатие, долгий взгляд — я прощаюсь не только с ним, случайным своим попутчиком, — я прощаюсь с Сицилией…
И когда самолет поднялся высоко-высоко — и над горами, и над облаками, над горькими бедами человеческими, вспомнила я сицилийскую легенду о чужестранце, попавшем на странное кладбище. На одной могиле там было написано: «Он жил четыре часа». На другой: «Она жила полчаса». На третьей: «Он жил один день». И так на всех могилах.
— Как это может быть? — спросил чужестранец. — Почему люди у вас живут так мало?
— Люди у нас живут столько же, сколько и в других местах, — ответили ему. — Но здесь, на кладбище написано, не сколько человек существовал, а сколько он жил настоящей полной жизнью. Такая жизнь исчисляется обычно минутами, часами или, в лучшем случае — днями…
Так вот, мне, должно быть, повезло. В моей жизни было несколько настоящих дней. Например, на войне. И еще — три дня в Сицилии.
1968