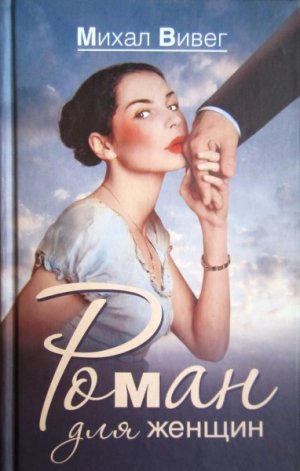
Прага. 20 декабря 1999
Дорогая Лаура!
Единственное, что у меня осталось от тебя, — это воспоминания. Написанная фраза напоминает мне тот или иной дурацкий американский хит, над которым мы с тобой, бывало, потешались, — и вдруг это клише оказалось для меня печальной реальностью. Целыми часами, целыми днями вспоминаю тебя — на работе, в машине, дома, в приемной врача Z. — повсюду. Вспоминаю, и, если неожиданно мне удается оживить в памяти какой-то забытый образ или всего лишь деталь, я прихожу в восторг, но тут же, увы, «трезвею». Ты, конечно, рассмеешься, но я подробно вспоминаю даже чепуховые с виду мелочи — хотя бы твое чуть торжественное выражение, с которым ты у меня дома поливала цветы, или твое настороженно-испуганное, невыразимо комичное лицо, какое ты всякий раз делаешь, когда чистишь ухо ватной палочкой… Смешно, да? Или наши воскресные утра, когда ты просыпалась в прекрасном настроении и решалась пожарить к завтраку яичницу либо блины — так и вижу, как ты стоишь босая в кухне у плиты и на одной из моих хлопчатобумажных маек в которых ты спала, красуются, как обычно, пятна от твоей любимой ментоловой зубной пасты.
Любовь моя в декабре я послал тебе целых три письма, но ты ни разу не ответила. Когда в один из таких хмурых декабрьских вечеров я сидел и писал тебе, мне ни с того ни с сего привиделось, как, возвращаясь с работы, ты стоя едешь в вагоне метро — и меня вдруг осенила идея обратиться к тебе этаким необычным образом. Даю голову на отсечение, что при слове «идея» у тебя презрительно дернулись уголки твоих очаровательных губок и, может, на секунду-другую ты смиренно прикрыла глаза, как часто делала, услышав от меня нечто безрассудное, например когда я в наш первый отпуск в Хорватии предложил тебе на все оставшиеся деньги купить могильную плиту из великолепного гварского песчаника (доктор Z. говорит, что я уже тогда боялся потерять твою любовь и нуждался в некой вещественной гарантии, что ты никогда не оставишь меня…). Но возвращаюсь к моей последней идее: на целое полугодие я решил купить в вагонах метро рекламные площади и обратиться к тебе публично, на глазах у всех… Эта мысль мгновенно овладела мною. Шесть любовных писем вместо идиотских реклам ковров и растительного масла! Я взволнованно прохаживался по своей гарсоньерке[1] (ты можешь быть уверена, что после твоего ухода никаких изменений в ней не произошло) и думал о той минуте, когда ты впервые заметишь мою «рекламу»: как с любопытством ты подойдешь ближе, как недоуменно прочтешь ее и при этом чуть наморщишь нос, и между твоими бровями проляжет знакомая, милая, нежная морщинка… И я, должно быть, тысячу раз представлял себе ту минуту, когда ты вдруг явственно поймешь, что текст адресован тебе, — ты в испуге затаишь дыхание, слегка покраснеешь, может, отступишь на шаг и осторожно оглядишься кругом, словно кто-то из попутчиков может уличить тебя, что адресат письма — ты… И тут же изобразишь равнодушие или на худой конец едва заметную, легкую заинтересованность.
Любовь моя, писать тебе могу лишь раз в месяц, и мне отводится на это примерно шестьдесят строк — поэтому я вынужден мучительно экономить каждое слово… Пока надеюсь лишь на одно: ты все еще ездишь на работу в метро и рано или поздно наткнешься на мои письма — видишь, как до смешного малы могут быть самые большие человеческие надежды.
Целую тебя горячо («горячо», пожалуй, неуместно ходульное слово, но ничего более точного не приходит в голову).
Оливер
Пролог
Милые дамы.
Это мой любовный роман. Неплохо звучит, правда? Любовный романчик по всем статьям, сказал бы Оливер. И прежде всего — роман о нем. А еще немного о Джеффе, Рихарде и Роберте (по порядку); кроме того, вы найдете в нем несколько совсем коротеньких love stories моей мамы и Ингрид. Ингрид — моя лучшая подруга с детства — это для вашего сведения. Сама я просто не выношу, когда не могу быстро сориентироваться в книжке, и, если даже на шестидесятой странице еще не знаю, кто есть кто, я отбрасываю ее — надеюсь, вы понимаете, что именно этого в вашем случае я хотела бы избежать. Итак, раз я упомянула Ингрид, позвольте мне и описать ее. Представьте себе актрису Джулию Робертс, мысленно приделайте ей изрядную щелку между передними зубами, убавьте ей лет десять и еще двадцать три сантиметра роста — и вот вам точная копия Ингрид. Такие же роскошные волосу, такие же прекрасные орехового цвета глаза, такой же красивый большой рот… Щелка (по правде говоря, скорее щель) и, главное, недостающие двадцать три сантиметра роста для Ингрид — сущее проклятие. Само собой, она все равно красива, но, к сожалению, не настолько, чтобы быть недоступной. Если бы она была на двадцать три сантиметра выше и не имела бы дырку между зубами, редко какой парень отважился бы даже приблизиться к ней, а так, напротив, подъезжают к ней все кому не лень. Ингрид для них представляет собой неожиданно легкую возможность как бы закадрить Джулию Робертс; когда Ингрид надевает туфли на пятнадцатисантиметровом каблуке (других она не носит) и не открывает рта — иллюзия почти стопроцентная.
Мою маму зовут Яна, она переводчица на вольных хлебах. Иногда говорит, что переводит чешскую дурость на английский, немецкий и испанский. Говорит она это, главным образом, тогда, когда злится на так называемых топ-менеджеров, которые за всю свою жизнь не удосужились выучить ни одного языка, но, несмотря на это, нетерпеливо причмокивают, когда им кажется, что выражения типа: активная зона сортировочной горки для плавки поездов (недавно какой-то железнодорожный босс требовал от мамы перевести это) мама переводит чересчур медленно.
Меня зовут Лаура, в этом году мне исполнилось двадцать два, и работаю я в редакции журнала «Разумница». Оливер как-то заметил, что «Разумница» — все равно что журнал «Браво» для сорокалетних — пусть это и вполне остроумное сравнение, но, разумеется, не обобщающее. Например, моей маме за сорок, однако наш журнал она никогда не читает. Утверждает, что для нее лично «Разумница» — что-то вроде кассеты релаксирующей музыки, которую она получила в прошлом году от Рихарда к Рождеству, вместо того, чтобы успокаивать, она жутко раздражает ее. На кассете птичьи голоса сливаются с шумом моря, и мама уже после нескольких минут прослушивания назвала это чудовищной комбинацией, а во время одной особо душераздирающей птичьей трели буквально вырвала кассету из магнитофона.
Что ж, пожалуй, для начала этого довольно.
Об одном персонаже я пока умолчала — сама не знаю почему.
Может, потому, что порой сомневаюсь, существует ли он вообще.
Глава I
Начну с того, что в августе позапрошлого года мы с Рихардом вернулись из отпуска, проведенного в Хорватии.
Каждый устный или письменный рассказ следует начинать с шутки — так, во всяком случае, утверждает пособие «Как усовершенствовать свой устный или письменный рассказ». Надо признаться, что разные психологические пособия типа «Не отравляйте себе жизнь мелочами» или «Как построить гармоничные партнерские отношения» я покупаю довольно часто, ибо постоянно меня терзает мысль, может, наивная, но неотвязная, что в этих брошюрах таятся какие-то принципиальные сведения, без знания которых нельзя прожить счастливую жизнь… Ну да ладно. Шуткой вы «создадите непринужденную атмосферу и привлечете слушателя на свою сторону», утверждает автор вышеупомянутой брошюры. Но коль рассказ следует начинать с шутки, так уж роман и подавно, считаю я, но с какой?
С какой из всех тех шуток, из которых последние по меньшей мере два года складывается моя жизнь?
Ну хотя бы с этой: мне двадцать два, позади три года сравнительно активной любовной жизни, а моя единственная живая бабушка, у которой, увы, уже немного крыша поехала, всякий раз, когда я навещаю ее, спрашивает, есть ли у меня парень.
— Ну как, Лаура, — говорит она с озорной улыбкой, — у тебя уже есть парень?
Я никогда не знаю, смеяться мне или плакать.
Я часами рассказывала ей о своих отношениях с Джеффом, Рихардом, Оливером, а потом и с Робертом (по части такой доверительности бабушка немного заменяет мне мою космополитичную мать, которая вечно где-то мотается), и всякий раз даже дарила ей их фотки; и хотя бабушка торжественно засовывала их за стекло буфета рядом с остальными семейными фотографиями (в основном папиными), на ее осведомленности это ничуть не сказалось.
— Ну как, Лаура, — спросила она меня в одну августовскую пятницу, когда я заскочила к ней после обеда, чтобы вручить подарок, привезенный из Хорватии, — у тебя уже есть парень?
И знаете, милые дамы, что я ответила ей?
Бог знает что на меня нашло, но мне вдруг просто не захотелось ей врать.
Вперив в нее искренний взгляд а-ля Барунка Панклова[2], я сказала:
— Есть, бабушка. У меня их даже два.
Итак, возвращение из отпуска. Прилетели мы в четверг после обеда. Квартира была пуста, мама еще не вернулась из Чикаго, от своего тогдашнего друга Стива, и потому Рикки решил переночевать у нас.
Я, естественно, никакой радости от этого не испытывала.
Отупело взялась распаковывать чемоданы (Рикки предложил мне помочь, но я отказалась). Любая майка, которую я брала в руки, напоминала мне тот или иной конкретный день, когда я была в ней, и, конечно, Оливера. Купальник, упакованный перед отлетом еще мокрым, сделался уже несколько затхлым, но вместе с тем издавал слабый запах моря. У меня от природы сильно развито обоняние, что — как всем известно — имеет свои слабые и сильные стороны. Поскольку вы не обитаете в цветущей миндальной роще и на работу ездите, как и я, в набитом до отказа метро, это свойство явно не радует вас. Возможно, лучше других вы сумеете услышать запах вина или цветов, лучше многих других сможете оценить изысканный состав дорогих духов (откровенно говоря, я буквально тащусь от дорогих духов…), но вместе с тем и страдаете больше других. Даже очень слабый запах, который остальным кажется всего лишь неприятным (если они вообще его ощущают), буквально убивает вас.
Но я забегаю вперед.
Рикки, по счастью, решил пойти в кабачок и сыграть в дартс, а я смогла позвонить Ингрид и все ей как на духу выложить. Я, похоже, влюбилась! Почти в сорокалетнего дядю!
На другом конце линии — тишина. Ясно: Ингрид моего восторга не разделяет. Ей кажется, говорит она чуть погодя, что сорок лет и впрямь многовато.
— Я тоже так считаю… — растерянно произношу я.
А минуту-другую спустя Ингрид спрашивает, не хочу ли я пойти потанцевать и тем самым отметить мое возвращение — однако после долгой дороги я не совсем в форме.
— Сегодня нет, я очень устала. Может, завтра? — предлагаю я. — А нынче иди одна. Только не делай глупостей…
Я знаю, что говорю. Что касается секса, Ингрид всегда оставляла меня позади. Я потеряла невинность в девятнадцать лет, Ингрид — в пятнадцать. С тех пор она уже многое повидала. Но на все авантюры шла по доброй воле, хотя однажды какой-то профессиональный танцор на полночи силой привязал ее ноги к кровати… После переживаний такого рода, как правило, следует один надрывный телефонный звонок (угадайте кому…), а потом примерно трехнедельный целибат. В эти дни Ингрид поступает на один или два каких-нибудь учебных курса и ходит на кикбоксинг. Когда в этот своеобразный период я захожу к ней домой, то обычно застаю ее яростно брыкающей своими короткими ногами и выкрикивающей, что всех мужиков следует кастрировать… А неделю спустя она уже снова сидит в каком-нибудь кафе в майке на бретельках и строит глазки, например, молодому зеленоокому брюнету в шерстяном джемпере; о тот же вечер она спит с ним, влюбляется в него и после недолгого знакомства покупает ему в магазине «The Art of Living»[3] оранжевое кресло, что, естественно, приводит мальчика в ужас; он тотчас отваливает, объясняя всем, что Ингрид немного чокнутая.
И между прочим, он недалек от истины.
В пятницу у меня был еще отпуск. Я могла преспокойно спать хоть до одиннадцати, однако проснулась уже на рассвете и глядела в потолок, не зная, куда деть себя. С нетерпением ждала, когда смогу включить мобильник, но сделать это раньше восьми не решалась, дабы Рикки ничего не заподозрил. На ночь я выключаю телефон, так как во время отпуска обнаружила, что Рикки просыпается даже от малейшего писка, сообщающего о поступлении эсэмэски. Вы же знаете, милые дамы, как бывает: в половине второго ночи вы открываете глаза, так как не совсем уверены, пискнул мобильник или нет (само собой, опасаетесь обоих вариантов), а на противоположной стене предательски отражается зеленоватая полоска дисплея… Вы покрываетесь румянцем (по счастью, полная тьма), затаив дыхание, осторожно протягиваете руку к мобильнику на ночном столике и по возможности быстро читаете сообщение (естественно, так, чтобы ваш друг, если он случайно проснулся, не увидел его):
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЧТО-ЛИБО БОЛЕЕ ПУСТОЕ, ЧЕМ ПУСТОЕ ОБЪЯТИЕ?
Вы моментально стираете сообщение, которое разрывает вам сердце. Дисплей тотчас гаснет, и единственное, что светит во тьме гостиничного номера, — это белок глаза вашего тихо ревнующего друга…
Думаю, милые сестры, вы зримо можете себе это представить — как-никак сотовый телефон теперь у каждой.
Не сомневаюсь, что вы отлично знаете, как может перехватывать дыхание одно такое попискивание!
В конце концов я не выдержала. В четверть восьмого, надев очки, вылезла из постели. Рикки спал или притворялся спящим. Между прочим, очки ношу с третьего класса и давно к ним привыкла. Ни малейших комплексов по этому поводу не испытываю. Я и очки неразрывны, так всегда было и так будет. О контактных линзах я никогда и не помышляла: во-первых, сейчас можно достать по-настоящему классную оправу, а во-вторых, я принципиально отказываюсь совать в глаза пальцы… Мне это кажется ужасно неаппетитным. Когда вижу, как кто-то оттягивает нижнее веко и всему свету демонстрирует свою красную слизистую, меня всякий раз выворачивает. Сверх того, каждый при этом выглядит полным дебилом — вы когда-нибудь наблюдали, какой вид у людей, вставляющих в глаза линзы?
Значит, так: как только очки были у меня на носу, я пошла в кухню, включила мобильник, чтобы увериться, не пришло ли мне ночью от кого-нибудь еще одно сообщение. Говорю, от кого-нибудь, но, естественно, в голове у меня главным образом Оливер. Кроме него, ночью мне пишут только мама и Ингрид. С текстовками от мамы проблем никаких, их запросто могу дать прочесть Рикки (само собой, кроме тех, в которых мама высказывается по его адресу, — ха, ха…).
Типичное сообщение от Ингрид приходит на рассвете и звучит так: ВСЕХ МУЖИКОВ СЛЕДОВАЛО БЫ КАСТРИРОВАТЬ!
Включенный мобильник тихо пискнул. Принятые сообщения: 1 — указывает дисплей. Нажимаю нужную кнопку: Оливер. От Ингрид, к счастью, ничего, от мамы тоже ничего, и это уже слегка беспокоит меня, но сейчас главное — Оливерова эсэмэска. Читать? Да!
ПРИГЛАШАЮ ТЕБЯ НА УЖИН — В СЕМЬ У НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА? О.
Мои мысли бегут в следующем порядке:
1. Я счастлива!
2. Срочно перенести прием у зубного врача с понедельника на сегодня! (Ради этого выдержу все его скабрезные шуточки!)
3. Утром обязательно к парикмахерше!
4. Почему мама не отзывается?
5. Побрить ноги и лобок.
— Кто тебе пишет? — кричит Рикки из спальни.
Ненавижу его! Как он услышал этот писк? Вот он уже идет. Стереть сообщение? Да! Стираю.
Вот, пожалуйста! Никаких принятых сообщений! Уф! Рикки стоит возле меня. Целует меня в лоб (знает, что я еще не почистила зубы) и с подозрением глядит на мобильник в моей руке.
— Мама, — говорю хладнокровно. — Если она достанет билет, прилетит уже сегодня вечером.
Глава II
Рикки на два года младше меня. Я познакомилась с ним, когда он продавал мобильные телефоны в одном из магазинов на Национальном проспекте. И у него сложилась привычка оценивать людей по тому, какой у них сотовый аппарат: Такой придурок с самым дешевеньким «Алкателем»…
Что сейчас делает Рикки?
Не знаю.
Его настоящее имя — Рихард, но товарищи величают его Рикки. На мой взгляд, Рихард — в отличие от Рикки — вполне хорошее, достойное имя, но Рикки почему-то настаивал, чтобы я тоже употребляла его прозвище. Ну я и старалась… Разве имя что-нибудь значит? — думала я. На первых порах произносить «Рикки» прилюдно было трудновато, но потом я привыкла. Со временем мне это уже ничуть не мешало. Я и на людях спокойно называла его Рикки. Произносила это имя несколько сдержанно, нарочито сдержанно — надеюсь, вы понимаете, — чтобы всем, кто слышит меня и кто, быть может, тоже считает такое прозвище, мягко говоря, сомнительным, было ясно, что я отношусь к нему с надлежащей иронией и как бы соблюдаю дистанцию. Правда, год спустя я уже была способна даже громко крикнуть ему:
— Рикки, пожалуйста, поди сюда!
Но прежде я всегда сначала оглядывалась по сторонам.
Это его прозвище было чем-то вроде отвратительного, кричаще-пестрого свитера, который в переполненном заграничном ресторане кто-нибудь из сотрапезников по-джентльменски накидывает вам на спину после того, как вы пожаловались, что вам холодно… Или вроде мерзких пакетов, которые обычно вам суют в супермаркете… Отвращение к таким пакетам я унаследовала от мамы. Прежде чем начать укладывать покупки в пакет, я выворачиваю его наизнанку, так что кассирша смотрит на меня довольно подозрительным взглядом. Но это лучше, чем продефилировать по улицам с рекламой Cio cio chips.
Тем не менее Рихард казался абсолютно довольным своим прозвищем. Впрочем, он был доволен и своей фамилией.
— Кабичек — неплохая фамилия, — говорит он. — Бывают и похуже. Я не жалуюсь.
Он пыжится, чтобы это звучало веско, но в его глазах вопрос.
— Вполне нормальная фамилия, — соглашаюсь я по возможности убедительно, но потом начинаю смеяться: — Представь себе, что тебя звали бы Чесмир Бейцалко…
Он смотрит на меня с подозрением.
Рихард — хороший паренек, и на него можно положиться. Ростом он, правда, не вышел, но выглядит недурно: густые каштановые волосы, хорошо очерченный рот и красивые темные глаза. Иногда, когда мамы нет дома и Рикки сидит в нашей кухне напротив меня и читает объявления в «Анонсах» или в журнале по недвижимости, я разглядываю его. Он нервничает, но старается не подавать виду.
Минутой позже, кинув на меня вопросительный взгляд, спрашивает:
— Ты о чем думаешь, малышка?
Я улыбаюсь.
— О чем ты тоже можешь думать, а? — говорит он, поднимается и ведет меня в постель моей матери (моя узка для двоих).
— Разденься! — приказывает он, и я слушаюсь его.
Ему бывает приятно, когда он чувствует свое превосходство надо мной — в этом я иной раз даже потакаю ему.
Но прежде мне еще нужно нанести фемигель (я употребляю его как превентивную меру против воспаления). Рихард с мальчишеским, чуть ли не с детским любопытством настаивает на том, что мазь наложит он сам.
— Нет, Рикки, ни за что, — стесняюсь я.
Я не играю.
— Что в этом такого? — говорит он упрямо и зачарованно оглядывает горлышко тюбика.
Итак, я снимаю трусики и ложусь на постель. Он приближается ко мне с таким серьезным и с таким ответственным видом, что я начинаю смеяться. Успокоив меня, он раздвигает мне ноги. Я встревоженно вожу глазами по потолку. Боюсь, что он оцарапает меня, но он все делает на удивление точно, нежно, осторожно. Меня это возбуждает и определенным образом умиляет. Рикки удовлетворенно вытирает полотенцем руки. Он кажется сейчас взрослее, чем когда-либо.
— Поди ко мне, Рикки, — прошу я. — Поди ко мне.
Но потом, как обычно, он все портит: ни с того ни с сего заливается смехом.
Плечи его трясутся, лицо краснеет. Я вижу его обнаженные десны. Сейчас он выглядит подростком, ничуть не старше.
— Ну и прикол — как здорово там в тебе чавкало! — хохочет он, не в силах перевести дыхание.
С Рикки почти всегда так: пока он молчит и передо мной его красивая мордашка, меня переполняет искренняя любовь к нему.
Однако рано или поздно он о чем-то заговаривает — и у меня возникает чувство, что наши с ним отношения не более чем ошибка.
Но Рихард (ах да, Рикки) особенно умилял меня, когда я наблюдала, как серьезно он думает о нашем будущем. Вырезая объявления о продаже квартир, он откладывал их в специальную папку, которую всегда носил в портфеле.
Я понимала его. Собственной квартиры у нас не было, у меня дома мы могли находиться только в отсутствие мамы.
— Комната плюс кухня, сорок два метра, кирпич, Карлин, частное владение. Сколько, по-твоему?
— Шестьсот пятьдесят, — говорю я.
Он признательно на меня смотрит.
О реальных вещах мы говорим часто, так что я вполне в теме.
Вдруг Рикки хмурится, встает и начинает ходить взад-вперед по комнате. Я знаю, что мысленно он подсчитывает месячные платежи при обычном предварительном взносе.
— Шесть или семь в месяц, — говорит он коротко, но я понимаю его.
А иногда ни с того ни с сего бросает:
— Ладно, пускай бумер. Неплохая тачка, но арендные взносы башку тебе свернут. При таком куцем семейном бюджете в конце концов ты и пернуть не сможешь. Не говоря уж про что другое… Скажи, есть ли в этом смысл?
— Нет, Рикки, — отвечаю я как можно убедительнее.
Глава III
В редакции журнала «Разумницы» на моем попечении читательская рубрика. На практике это означает разбирать все те нечитабельные, часто разрывающие сердце письма, которые приходят со всей республики, и придавать им приемлемую для публикации форму. Естественно, всякий раз я должна что-то переиначивать, упрощать, добавлять или просто выбрасывать, но мне это даже нравится.
Мне нравится создавать из этих писем совершенно новые истории.
— Послушай, Лаура, — удивилась недавно Романа, когда сравнила опубликованное письмо с его исходной неловкой версией, — да ты у нас не иначе как писательница…
Не могу сказать, что это не польстило мне.
Жизнь в нашей редакции течет по своему заведенному распорядку. Кто приходит утром первым, тот кормит рыбок, поливает цветы и ставит воду для кофе. Это такой наш утренний ритуал. Прежде чем явится Тесаржова, мы за кофе рассказываем, что с кем случилось вчера или в выходные. И хотя рассказывают все — Романа разведена и живет довольно уединенно, Власта и Зденька давно замужем (кстати, обе в унисон твердят, что несчастны), — больше всех, и это логично, рассказываю я. Среди нас есть еще Мирек, наш график, но этот никогда ничего не рассказывает, потому как, дескать, не хочет давать людям пищу для разговоров. Мирек считает, что я даю людям слишком много пищи, когда, например, рассказываю о своих любовных делах, но я так не думаю.
Миреку тридцать пять. К сожалению, он тот тип, который мама презрительно определяет как «женатый чешский клерк»: зимой он носит брюки, заправляя их в невообразимые мужские сапожки, и к этим брюкам по очереди надевает два коричневых свитера — вечно одни и те же. Летом он носит синие болоньевые бермуды, которыми торгуют вьетнамцы, и рубашки с короткими рукавами, в основном белые или с тропическим рисунком, белые носки и стоптанные перфорированные мокасины.
— Но кому я даю пищу для разговоров? — возражаю я. — Кому, кроме Тесаржовой?
Тесаржова — наша начальница. Как она уже неоднократно высказывалась, воспринимает свою работу чисто как job[4], не более того. Журналы типа «Разумница» ниже ее уровня, она подчеркивает это тем, что никогда не ходит с нами обедать и не кормит рыбок. Так, вероятно, она хочет дать нам понять, что ее брак абсолютно счастливый и что она презирает женщин, которые думают, что жизненное равновесие можно обрести путем чтения дамского еженедельника.
Для Тесаржовой, собственно, не имеет никакого значения, что именно я говорю в ее присутствии, ибо я, хоть лопни, все равно не скажу о себе и половины всех тех кошмарных вещей, какие она выдумывает про меня. Иными словами, я поняла, что совершенно излишне стремиться к какой бы то ни было самопрезентации, потому что такие, как она, все равно будут думать о тебе только то, что уже думают. Стало быть, что из этого следует?
Мирек не отвечает, а мне ясно, что он был бы куда более счастлив, если бы я со своими рассказами давала такую пищу только ему. А вся штука в том, что Мирек тайно любит меня, особенно в те дни, когда я сама себе кажусь красивой.
Я красива? Не знаю — и поверьте, милые дамы, что говорю это совершенно искренне. Это вовсе не какое-то ложно-застенчивое «не знаю», в основном вытекающее из слабой надежды на более высокую оценку… Я этого в самом деле не знаю. Разумеется, я хочу думать, что я красива, но у меня нет в этом уверенности и, верно, никогда не будет. Ингрид, например, утверждает, что у меня умные глаза — но никто мне еще не сказал, что у меня красивые глаза… У меня, в общем, чистая, но немного жирная кожа, и, кроме того, чуть расширенные поры. Талия тонкая, но широкие бедра и довольно полные ляжки. Красивая грудь (в маму), но подчас она представляется мне слишком большой. Короче, бывают дни, когда я кажусь себе красивой, иногда даже очень красивой, но бывают и такие дни, когда я ощущаю себя непривлекательной, толстой уродиной… Каково соотношение этих дней? Половина на половину? Возможно. Впрочем, чем задаваться вопросом, уродливы мы или красивы (это всегда только слова), не лучше было бы просто задаться вопросом, способны ли мы влюблять в себя кого-то, а это еще надо установить.
Про себя я это знаю.
Знаю, что я — скажу без лишней скромности — способна влюблять в себя.
Ведь если интеллигентный сорокалетний мужчина ночью два часа стоит под окном вашего гостиничного номера, что это, как не любовь?
Чищу зубы своей любимой ментоловой пастой, одеваюсь, с нетерпением жду, когда Рикки уберется из дома, и спешу позвонить парикмахерше Сандре. Она примет меня! Ура!
И тут же звоню стоматологу.
— Значит, вы хотели бы сделать это уже сегодня? Но сегодня пятница… — напевно говорит похотливый дантист. — Это в самом деле так неотложно?
Лихорадочно придумываю какой-нибудь достоверный предлог.
— Это вопрос жизни и смерти.
— Замена амальгамовой пломбы белой? — смеется дантист. — Ну что ж, в таком случае приходите, зайчонок. В три. Я взгляну на это.
У меня еще два часа. Вновь обнаруживаю, что не умею быть одна: когда я в квартире одна, мне кажется, что кто-то следит за мной. Что какой-то незнакомец определяет, как я справляюсь со своим одиночеством.
Для Ингрид, у которой уже собственная квартира, одиночество не помеха, чему я искренне завидую. Ингрид, между прочим, единственная женщина, обнаженность которой я выношу рядом с собой. Я могу принимать с ней душ, мне не мешает запах ее пота — я привыкла к нему уже с физкультурного зала школы. Если она иногда остается у нас ночевать, перед сном мы прижимаемся друг к другу. Ингрид, бывает, дурачится и делает всякие движения, которые, вероятно, считает лесбийскими, к примеру, обнимает меня за бедра, подрагивает высунутым языком и все в таком духе. При этом она закрывает глаза, и лицо ее принимает такое идиотское выражение, которое всегда напрочь сражает меня. Я прыскаю со смеху, и она вторит мне.
Я люблю ее. Когда Ингрид говорит о своем росте, я просто таю.
— Рост сто пятьдесят девять сантиметров — для девушки абсолютно нормально. Это вполне приличный рост, — нервозно говорит Ингрид, незаметно прибавляя себе два сантиметра. — Но походить на Джулию Робертс при росте сто пятьдесят девять сантиметров — полный абзац.
— Глупости, — говорю я решительно. — Почему полный абзац?
— Почему? Потому что сразу выглядишь как комическое уменьшение. Как крохотная Голландия где-нибудь в Диснейленде… Да, это выглядит почти совсем как Голландия — только еще меньше…
— Хватит меня доставать, — говорю я и притягиваю ее голову к своей груди. — Мы обе отлично знаем, что ты красивая.
Это всегда ее успокаивает.
Мама не отзывается. Я уже нервничаю и мысленно укоряю ее, но потом вспоминаю разницу во времени: в Чикаго ночь, значит, мама, скорее всего, спит. Но я пошлю ей хотя бы эсэмэску, чтобы позвонила мне как можно быстрее.
Глава IV
Итак, на очереди моя мама.
Вылетела она в Чикаго к американцу по имени Стивен. До него встречалась с норвежцем по имени Кнут. До Кнута — с каким-то французом (имени не помню), с которым в качестве переводчицы работала неделю в Праге.
Почему, спросите вы, одни иностранцы?
О, милые дамы, вы, конечно, знаете, что значат травмы, полученные в детстве. В парке вас в десятилетнем возрасте собьет с ног расшалившийся доберман, и вы потом всю жизнь будете панически бояться всех собак без исключения.
Или вам в детстве от кашля станут давать мед с луком — вы потом всю жизнь не будете есть вообще ничего содержащего лука.
Моя мама перенесла подобную травму: в юности она встречалась с двумя чехами и с тех пор чехов на дух не переносит.
Всех.
Первого чеха она принципиально называет только Пажоутом (причем мне долго было неясно, это его фамилия или прозвище; когда бы мама ни заговаривала о нем, она становилась такой злющей, что я боялась спросить у нее).
Вторым чехом был мой папа.
Мама 1958 года рождения (она, между прочим, Лев, и этот знак полностью соответствует ее натуре). В 1976 году, будучи на первом курсе филологического факультета (специальность: перевод устный и письменный), она встретилась с Пажоутом. Пажоут стал ее первым парнем. Возможно, это была большая любовь, однако больше года она не выдержала. Все это время мама хранила верность Пажоуту, но, несмотря на это, он постоянно ревновал ее; однако сам раза два, если не больше, изменил ей. Во время телесной близости, по словам мамы, он думал прежде всего о себе, и она так и не узнала с ним, что такое оргазм. Кроме того, он был гол как сокол, немыслимо одевался и за все их знакомство ни разу не пригласил маму на ужин в какой-нибудь приличный винный погребок.
Окончательно они расстались в тот вечер, когда Пажоут пришел в Реалистический театр в старом лыжном свитере и кроссовках. Мама была в новом вечернем платье. Она тут же сказала ему, что больше никогда в жизни не захочет его видеть — и свое слово сдержала.
В тот вечер она познакомилась с моим папой.
В отличие от Пажоута на нем были хорошо сшитый темный костюм и лаковые штиблеты, а в антракте он даже пригласил маму в театральный буфет на бокал белого вина. Бокал он держал за ножку, говорил хорошо поставленным, чуть приглушенным голосом и в дверях всякий раз пропускал маму вперед. Мама допустила роковую ошибку: решила, что это папина настоящая, так сказать, перманентная сущность.
Когда весной 1978 года она окончательно прозрела его уловку с переодеванием, было уже поздно. Мама была на третьем месяце беременности от точно такого же чешского раздолбая, каким был Пажоут.
Все та же картина, лишь в голубых тонах: он никогда не имел денег, по утрам сморкался в умывальник, отказывался мыть посуду, позволял официанту грубить себе и так далее. Единственная тачка, на которую он однажды потянул — это старенькая «шкода». Единственная квартира, которую он сумел найти, находилась в жилом квартале Богниц, на восьмом этаже отвратительного серого панельного дома, а мама панельные дома отродясь не выносит (тем не менее в этой квартире мы живем и поныне). Вечно перегруженный работой (бессмысленной), всегда занятый, он завтракал и обедал на ходу: колбаса для туриста в жирной бумаге, бутерброды с майонезом, зельц, сардельки с луком, сосиски, рольмопсы, то есть закрученная фаршированная селедка. Мама не могла на это смотреть. Будто она сто раз не говорила ему, что это вредно. Если бы он питался овощами, свежей зеленью, злаками, рыбой и оливковым маслом, то никогда бы не умер в тридцать два года от рака толстой кишки — разве не так? И никогда бы не оставил маму тридцатидвухлетней вдовой, а меня сиротой наполовину (когда папа на Рождество 1990 года умер, мне было двенадцать, и с тех пор Рождество мы не отмечаем). И что не в последнюю очередь — избавил бы маму от чудовищного опыта с чешским здравоохранением: с вонючим линолеумом в больничных коридорах, с драными халатами докторов и с горестно-облупленными тележками перед операционными залами.
И с похоронными работягами в наколках.
Мама папу из-за его рака просто ненавидела.
Но к сожалению, она его и любила.
— Ужасная комбинация, — бывало, говорила мама. — Хуже некуда.
Короче говоря, чехи мою маму навсегда разочаровали. На ее взгляд, чехи либо закомплексованные слабаки, либо ровно наоборот — домашние тираны. Они либо невыносимые скупердяи, либо новоиспеченные толстосумы, толкующие исключительно о своем кошельке. В любом случае все они вульгарные, примитивные и безнадежные мужланы. На улице плюют куда ни попадя, нестерпимо воняют потом и носят чудовищное нижнее белье — о костюмах и говорить не приходится. Их гигиенические привычки ужасны, даже ужаснее, чем способ, каким они едят креветки (конечно, в том случае, если их кто-нибудь пригласит на креветки, ибо столь дорогую пищу они себе ни за что не позволят). И так далее и тому подобное. Исключения только подтверждают правило.
В той же мере, как чехов, мама не выносит и чешский язык. По ее мнению, это старый, изношенный язык, в котором подавляющее большинство понятий уже не существует — так же как в чешских поездах. Некто (Пажоут), например, скажет вам по-чешски: Я люблю тебя, хочу жениться на тебе и жить с тобой всю оставшуюся жизнь, а через каких-то два-три месяца эти слова уже теряют силу. Короче, слова в чешском языке утратили свое значение или же обрели значение совсем противоположное.
Я люблю тебя означает я брошу тебя.
Или я умру.
И тому подобное.
Весьма сдержанные чувства испытывает мама, конечно, и к чешской истории.
Все национальное чешское возрождение мама считает колоссальной ошибкой. Если бы эти закомплексованные голодранцы не посходили с ума, нынче мы могли бы жить в центре Вены на улице Грабен, утверждает она… 28 октября[5] для моей мамы — почти то же, что Ялтинская конференция: в обмен на национальную свободу Масарик[6] отдал чешских женщин на произвол разным Конделикам[7], Швейкам[8], Якешам[9], Милошам Земанам[10] и Пажоутам, а в лучшем случае невротическим импотентам типа Кафки или Карела Чапека[11].
— Кафка был немцем, мама… — возражаю я робко, но мама лишь машет рукой.
— Все равно у меня нет ощущения, что двадцать восьмого октября нам есть что праздновать, — говорит она.
Мама не переносит чехов, чешские поезда и пакеты.
Она любит иностранцев, самолеты и качественные фирменные чемоданы.
Иногда мне сдается, что аэропорты и самолеты мама любит чуть больше, чем иностранцев; я исхожу из того, что еще ни одному иностранцу не удалось завоевать мамино сердце прямо в Праге. Да, это была пустая трата времени, когда все эти временно пребывавшие здесь Стюарты и Кнуты одаривали ее драгоценностями и духами и приглашали на роскошные ужины в ресторан «У художников» или в «Танцующий дом»… Зря теряете время, господа, думала я про себя, если хотите закадрить мою мать, поезжайте к себе домой и через несколько дней пришлите ей авиабилет. Потом наденьте свой лучший прикид, помойте тачку и с букетом роз ждите ее в аэропорту, в зале прибытия, и я даю вам голову на отсечение, что в тот же вечер моя мама будет ваша.
А вся штука в том, что мама питает слабость к полетам. Редко что на свете доставляет маме такую радость, как бесшумно раскрывающиеся гидравлические двери с надписью ВЫЛЕТЫ — DEPARTURES, за которыми ее серебристо-серый передвижной чемодан марки Samsonite ждет уже лишь гладкий мрамор зала аэропорта и очередь к стойке регистрации. Мама становится в очередь с загадочной улыбкой, которую, несомненно, никто из встревоженных пассажиров не может объяснить.
(«Мона Лиза из Рузини[12]…» — насмешливо заметил Оливер, когда я впервые рассказала ему о маминой страсти к полетам.)
— Good morning[13], — приветствует маму девушка у барьера, ибо принимает ее за иностранку; мамин чешский паспорт искренне поражает ее.
— Morning, sweetheart[14], — произносит мама спокойно.
Естественно, это производит довольно странное впечатление, а учитывая ошибку девушки, звучит, пожалуй, даже несколько оскорбительно, хотя, конечно, это вовсе не входило в мамины намерения.
Мама просто думает уже по-английски.
Родной язык быстро покидает ее. С помощью нескольких последних чешских слов она еще просит место у окна — и все с той же загадочной довольной улыбкой.
— Какой у вас багаж?
— Just this one[15], — показывает мама на свой чемодан.
— О'кей, — кивает девушка.
Оформив надлежащие документы, девушка протягивает маме посадочный талон.
— Время посадки одиннадцать десять, — говорит она слегка сконфуженно и бог весть почему снова переходит на английский: — Gate В six[16].
— Thank you, — говорит мама абсолютно естественно.
Она берет свою hand luggage[17], разумеется, тоже на колесиках, элегантно поворачивает ее в нужном направлении и отходит. Девушка за барьером еще с минуту украдкой наблюдает за ней. В своем темно-синем костюме мама двигается так уверенно, так целеустремленно, что иные из проходящих мимо принимают ее за стюардессу. Она направляется к бару «Meeting point»[18], где стоя выпивает бокал шампанского. Шампанское еще больше облегчает ее походку, так что паспортный контроль она проходит с профессиональным шармом кинозвезды. Таможенники, даже не осознавая причины, относятся к ней с подчеркнутой вежливостью…
В транзитной зоне мама прежде всего заходит в «Duty Free Shop»[19], пробует образец эмульсионного крема Clinique, вдыхает аромат новых духов Gucci (и, если у нее есть деньги, покупает флакон), а затем садится среди пассажирок у выхода Б шесть, непринужденно закидывает ногу за ногу и, раскрыв французский «ELLE», с достойным спокойствием ждет вылета. Когда прозвучит приглашение на посадку, мама, в отличие от остальных пассажиров, спокойно остается сидеть, и лишь когда этот нетерпеливый людской муравейник совершенно рассеивается и репродуктор оглашает: «The last call for passengers to New York[20]…», мама, не торопясь, встает, подает молодому стюарду свой билет (делает это таким манером, что стюард краснеет). В самолете, который уже полностью заполнен, мамин запоздалый приход вызывает немалый интерес. Готова поспорить, что еще никто в истории воздушных перелетов — возможно, лишь за исключением Жозефины Бейкер, — не сумел пройти по узкому коридору между сиденьями столь элегантно, как моя мама.
— Кто это? — шепотом спрашивают жены своих мужей.
— Не знаю, — отвечают притихшие мужчины, не сводя с мамы глаз.
Мама садится. Тем временем одна из стюардесс приступает к обычному инструктажу о том, как пользоваться поясами и спасательными жилетами. Хотя мама и летает довольно часто, она следит за этой короткой информацией на редкость внимательно, а когда минутой позже сложенные ладони стюардессы разлетаются в направлении запасных выходов, мамино выражение лица уже совершенно явно свидетельствует, что речь идет не о заурядных мерах безопасности, а о чем-то гораздо более важном.
Для моей мамы это литургия, а упомянутая стюардесса — молодая жрица ее жизненной веры. Веры, что огромная мощь «Боинга-737» способна навсегда унести ее прочь от всех неверных, долбаных и ужасно одетых чехов.
Глава V
А теперь, милые дамы, расскажу вам, как летала в Нью-Йорк я. Летала я туда два года назад к Джеффу. (Кто такой Джефф? Потерпите, скоро узнаете.)
Уже за неделю до вылета я начинаю нервничать; и чем ближе день вылета, тем моя нервозность, разумеется, больше растет.
Таксист, который везет меня в аэропорт, пытается острить, но мне не до него, ибо я не перестаю проверять, на месте ли в сумке паспорт, деньги и авиабилет. Лицо горит, а руки и нос еще холоднее, чем обычно. Когда передо мной открываются гидравлические двери ВЫЛЕТЫ (на английские надписи, в отличие от мамы, не обращаю внимания), я уже в таком мандраже, что вынуждена сразу же направиться в ближайший туалет. Мамин чемодан на колесиках Samsonite беру с собой в кабинку, поскольку панически боюсь, что снаружи его могут запросто стибрить. Закрыть дверь тесной кабинки — дело нелегкое. В зеркале над умывальниками за моими усилиями наблюдают две женщины. (Что они обо мне думают, не знаю, но явно не принимают меня за стюардессу…)
Выйдя из туалета, я быстро проверяю, не выпал ли из сумки паспорт, на месте ли деньги и авиабилет, и спешу отыскать на одном из голубых табло свой рейс. Его нет! Впадаю в панику и хватаю за украшенный позументом рукав одного из проходящих и говорящих по-чешски пилотов.
— Вы не могли бы мне сказать, почему здесь нет Нью-Йорка?
Улавливаю в своем голосе начинающуюся истерику, но подавить ее не в силах.
Пилот обращается к своим двум коллегам.
— Почему здесь нет Нью-Йорка? — повторяет он за мной весело.
Он смотрит на табло, затем на мой чемодан.
— Вы, по-видимому, вылетаете?
Я недоуменно киваю. Пилот иронически улыбается.
— Тогда почему вы ищете Нью-Йорк в прилетах?
Я краснею, смущенно благодарю его и иду искать табло вылетов. Мой рейс и в самом деле там есть — там и номер стойки регистрации! Чтобы не забыть, я записываю его на клочке бумаги.
— Сколько мест багажа? — спрашивает меня блондинка за стойкой, когда я с бумажкой в руке подхожу к ней.
— Два, — говорю я. — Вот чемодан и еще сумка, но я хотела бы ее взять с собой в самолет.
— Значит, одно, — говорит блондинка, усмехаясь. — У прохода или у окна?
— У окна, пожалуйста, — говорю я сухо.
Пытаюсь мобилизовать весь свой апломб. Господи, разве эта раздерганная размазня имеет ко мне какое-нибудь отношение?!
— Я не курю, если можно…
— На всех наших рейсах теперь не курят, — тоскливо поучает меня девушка. — Одиннадцать десять, выход Б шесть.
Она, видимо, считает, что обслужила меня, но я от стойки не отхожу.
— Б шесть? — спрашиваю с опаской в голосе. — Где это?
Девушка, глядя на меня, вздыхает и пускается в объяснения.
В баре «Meeting point» я просматриваю карту напитков, пытаясь определить, сколько здесь стоит минералка, и потом все-таки покупаю минералку в автомате. Запиваю церукал и прохожу паспортный контроль. У меня такой растерянный вид, будто в моей ручной клади пять кило чистого героина. Мне кажется, что таможенники с некоторым подозрением наблюдают за мной. Меня прошибает пот. В транзитной зоне нахожу надлежащий выход, подсаживаюсь к пассажирам и на всякий случай еще спрашиваю ближайшего соседа, у этого ли выхода мне надо ждать. В сумке у меня «Cosmopolitan» (чешская версия), но читать не могу. Жду приглашения к выходу, в руке судорожно сжимаю посадочный талон и молюсь, чтобы в полете не было турбулентности. Прежде чем окончательно выключить мобильник, решаю еще позвонить маме, хотя мы договорились, что я позвоню ей из Нью-Йорка.
— Что-нибудь случилось?! — удивляется мама. — Отменили рейс?
— Нет, — говорю я. — Звоню потому, что я уже в транзитной зоне.
В трубке короткая пауза. Потом мама сухо смеется.
— Ну хорошо, дорогая. Значит, у тебя все в порядке.
Наш разговор окончен, и я немного обиженно выключаю мобильник.
Потом, оглядевшись по сторонам, вынимаю из сумки плюшевого кенгуренка и быстро, чтобы никто не видел, целую его.
Ну а теперь расскажу, как я познакомилась с Джеффом.
Начну издалека. Окончила я гимназию в девятнадцать. На филологический факультет (специальность: чешский язык — психология) не поступила. Я была девственницей и толком не знала английского. Соответствующие отговорки: в моей девственности повинны мои одноклассники, ибо за все четыре года гимназии я ни разу не могла представить себе, что с кем-нибудь из этих оголтелых придурков влезу в постель… Кроме того, меня буквально охватывал ужас при мысли о венерических болезнях. Раз-другой я согласилась пойти в кафе, но и эти походы не увенчались успехом. Я сидела напротив какого-нибудь мальчика, пламя свечи отражалось в его глазах, а я только и думала о кислом запахе его пота, о СПИДЕ и стафилококках…
Ну а в моем убогом английском виновата наша англичанка. Мы с ней вообще не показались друг другу. Собственно, это была никакая не англичанка, а самая заурядная переквалифицированная русистка. Я же из принципа сроду не доверяю переделанным вещам. Переквалифицированная русистка для меня что-то вроде платья, перешитого после тети. Язык second hand. Переделывать славянский язык на английский манер — что хорошего может тут получиться? Кроме того, у нее было жутко аффектированное произношение, которое она неведомо почему считала британским выговором — однако истеричность еще никому не помогла стать подлинным носителем языка. Впрочем, она и сама это понимала: перед каждой проверкой невообразимо нервничала. Прибежит, бывало, к нам в класс еще на переменке, в охапке по меньшей мере три магнитофона, трясущимися руками сорвет со стенгазеты все фото Джима Моррисона с расстегнутым гульфиком (несмотря на страстные протесты Ингрид, делавшей стенгазету) и потом всю ее залепит цветными картинками улыбчивых лондонских полицейских, двухэтажных автобусов, красных телефонных будок и Биг-Бена. Welcome to London!
I know. I just make excuses[22].
Я была ленивой, суматошной, неуверенной в себе и слишком критически настроенной девчонкой.
Очкастая девятнадцатилетняя девственница, не знающая прилично английского…
Трудно сказать, что для моей мамы было более приемлемо. Обеспечить мне дефлорацию она не могла, так по крайней мере устроила меня на годичный интенсивный курс английского языка — в ту же языковую школу, где когда-то сама преподавала. Это прекрасная школа, твердила она, основанная на нетрадиционных методах обучения.
Уже одно это должно было меня насторожить!
На первый урок, к несчастью, я пришла минут на десять позже. Открыв дверь в класс, я было подумала, что там никого нет, но потом разглядела: все ученики сидели, стояли на коленях или даже лежали на полу. На его сером покрытии. Все были разуты, и у всех на лбу был налеплен желтый листочек: Rabbit. Wild Pig. Squirrel. Horse. Polar Bear[23]…
— Hi, you must be Laura! — наконец заметив меня, воскликнула какая-то задастая американка в вытянутом комбинезоне. — I know your mother. She is absolutely great![24]
— Yes, — сказала я хрипло. — I know.
Американка очень долго одобрительно кивала головой и сияюще улыбалась. Потом резко опустила меня на коленки и, показав листочек с надписью Turtle[25], прилепила мне его над самыми очками.
Я не знала, что значит это слово. Предполагала, что это может быть енот, а там черт его знает! Все эти абсолютно чужие люди весело на меня глазели. У кого-то несносно воняли ноги.
— You are a turtle now! Isn't it fantastic? — галдела американка. — Look around and find some friends![26]
Она надавила мне на плечи и заставила меня опереться руками о пол. Вонь от ног усилилась. Это полз ко мне толстяк в клетчатой рубашке и с такой жидкой бородкой, какую я отродясь не выношу. Он тяжело сопел. На лбу у него было написано, что он sea calf. Явно что-то морское. Змея? Я не знала, сопит он от усилия или имитирует какого-то зверя.
— Hi, sweet little turtle! — говорит sea calf, чуть запыхавшись. — Do you know me?[27]
Все продолжали делать вид, что это ужасная потеха.
— Привет, — говорю я по-чешски как можно тише. — Sorry, но я твоего слова не знаю.
— Speak English, turtle! — заорала американка. — No Czech![28]
Я вздохнула.
— I don't know this word[29], — сказала я, тыкая пальцем в потный лоб толстяка.
Американка предложила ему каким-то образом описать себя. Он по-английски сказал мне, что он толстый и целый день лежит на пляже.
— Are you a German tourist?[30] — мне наконец удалось пошутить, но этого, увы, никто не услышал. Толстяк либо не понял шутки, либо решил, что это относится к нему лично.
— Да нет, — сказал он недовольно. — Я тюлень…
— Speak English! — завизжала американка.
— Okay, — сказал он. — What do you like to eat, turtle?[31]
Откуда, черт побери, я знаю, что люблю жрать, когда даже не знаю, кто я? Я чувствовала, как краснею. Пришлось сказать правду: я не знаю, что значит и мое слово.
Все тюлени, верблюды, кабаны и белки снисходительно смотрели на меня.
— Морская черепаха… — сказал толстяк уже с явным презрением. — What do you like to eat?
Что, черт возьми, едят морские черепахи? Вы это знаете? Я нет.
Я поднялась на свои задние конечности.
— Excuse me, — сказала я, как полагалось, по-английски. — I have to go to the bathroom[32].
Тут я вышла из класса — и уже никогда туда не возвращалась.
— Я туда никогда не вернусь, — сообщила я маме. — Найду школу, где не применяют альтернативных методов обучения.
— Хорошо, — сказала мама. — Найди школу, где царят зубрежка и прусская муштра…
На следующий день я посетила несколько языковых школ, но все они показались мне слишком модерновыми; наконец свой выбор я остановила на государственной языковой школе на Национальном проспекте — она показалась мне более солидной. На пробу я заглянула в один класс, где как раз шел урок. Все ученики нормально сидели за партами, и перед ними были открытые учебники.
На полу никто не лежал.
Я вошла в канцелярию и подала заявление.
В Джеффа я влюбилась сразу, на первом же уроке. Высокий, худощавый, он носил очки в выразительной оправе и, главное, на голове — красивые светло-каштановые дреды.
Когда мы на уроке между собой иногда переговаривались по-чешски, он как-то симпатично смущался, недоумевающе улыбался и красивыми темными глазами беспомощно оглядывал учебный кабинет.
— Let's speak English, please, — просил он нас. — We should speak English…[33]
Мне казалось, что на меня он смотрит дольше, чем на других. Часто улыбался мне. Я тоже нет-нет да и отрывала глаза от заданного грамматического упражнения и разглядывала его руки: длинными, тонкими пальцами он обычно листал какой-то толстенный словарь.
Он стал мне сниться. Во сне его дреды щекотали мне живот. Не выдержав, я доверилась маме.
— Наконец! — прокомментировала мои слова мама. — Пришло твое время.
И мы обнялись.
Мне необходимо было еще и благословение Ингрид: в таких вещах Ингрид была для меня высшей инстанцией, которую просто нельзя обойти. Я решила показать ей Джеффа.
Он стоял в коридоре в небольшой очереди к кофейному автомату. Как обычно, тут царила суета, и Джефф не сразу заметил меня среди других учеников. Ингрид со смелостью — у меня даже перехватило дыхание — стала в очередь прямо за ним.
Она долго смотрела, как он вбрасывает монеты в автомат.
— Да, — повернулась она ко мне. — Говорю, да. Пускай будет он.
Я чувствовала, как бухает у меня сердце. Автомат приглушенно загудел, и Джефф наклонился, чтобы проверить, на своем ли месте стаканчик из вощеной бумаги.
— Классная попка, — моментально заключила Ингрид.
Я испуганно одернула ее, но Джефф, казалось, ничего не заметил.
— Вид у него что надо, значит, кой-какой опыт наверняка есть, — спокойно продолжала Ингрид. — Когда скажешь ему, что ты впервинку, он растрогается и будет осторожничать. Тебе наверняка понравится.
Я прижала указательный палец к губам.
— Кроме того, он американец, а значит, пользуется презервативом. Но скажи ему, чтобы остриг ногти…
Она многозначительно закатила глаза. Я покраснела. Наконец Джефф заметил меня.
— Hi, Laura! — сказал он и улыбнулся, опять так же растерянно. Даже чуть разлил кофе.
— Hi, Jeff.
Ингрид с удовольствием смотрела на нас.
Наши взгляды встречались все чаще. Когда бы я ни поднимала глаз от условных предложений, я встречала его глаза. И наоборот. Естественно, все заметили это. Их комментарии грели мне душу.
Это был только вопрос времени.
Однажды в пятницу после уроков Джефф принялся укладывать вещи в портфель, и я уже не смогла представить себе, как проведу весь уикэнд без него. Все гурьбой повалили из класса, но я, ничего не объясняя, тянула время. Джефф прокашлялся.
— Can I speak to you, Laura? Just for a while…[34]
Я кивнула, но сначала пошла и закрыла дверь.
Похоже, это его не очень удивило. Он снова кашлянул и посмотрел мне прямо в глаза.
— Я хотел тебе сказать, что имею кое-какой опыт, хотя и не очень большой. Но думаю, что смогу быть внимательным. Признаюсь, что ты мне очень нравишься. Я, естественно, пользуюсь презервативом. Ногти я уже остриг, — и показал мне правую руку.
Он говорил по-чешски отнюдь не безошибочно, но вполне свободно. Его акцент и чешское «рж» были очаровательны.
— Главное, хочу тебе сказать, что, по-моему, я люблю тебя.
Тут, кажется, я потеряла сознание.
Глава VI
Он был нежный, внимательный и предупредительный.
Похоже было, что он действительно любит меня.
И мне казалось, что я люблю его.
Я думала, что это именно тот мужчина, о котором всегда мечтала.
Английскому он меня особенно не научил, ибо мы (несмотря на его вечные протесты) говорили почти исключительно по-чешски. Я придерживалась мнения, что либо кто-то встречается с вами, либо учит вас языку, но сочетать эти вещи, на мой взгляд, невозможно. А уж если кто-то становится вашим любовником, можете ли вы постоянно спрашивать его, правильный ли предлог употребили в предыдущей фразе…
Но в то же время Джефф научил меня многому: не стесняться говорить о сексе. Отдаваться сексу. Не бояться говорить с официантами и с таксистами. Кататься на лыжах, употреблять арахисовое масло, бегать ради хорошей спортивной формы и курить траву. Завтракать в городе, держаться уверенно, путешествовать.
В конце концов научил меня даже летать.
Нью-Йорк очаровывал и ужасал меня одновременно.
Когда я была с Джеффом, преобладало очарование. Но вскоре Джефф нашел на один месяц место редактора в каком-то популярном спортивном журнале; он уходил в полдевятого утра и возвращался под вечер. Я оставалась в Нью-Йорке одна.
Первую неделю, к счастью, стояла прекрасная погода, и я все дни проводила неподалеку от входа в Центральный парк: наблюдала за кормящими матерями и двойняшками на роликовых коньках, учила английский, читала и писала маме и Ингрид длинные эсэмэски. А собственно, как пишутся романы? — однажды в этой связи осенило меня. Это всего лишь длинные текстовые сообщения.
Ответить всем.
Потом погода испортилась, и на моей любимой скамейке посреди Strawberry Fields[35] мне стало холодно (я вам уже говорила, что я страшная мерзлячка?). Поэтому я переселилась в одно маленькое бистро на West 72nd Street, где мы с Джеффом несколько раз завтракали. Там пекли совершенно изумительные блины (ела я их с шоколадом или кокосом, а бывало и с классическим кленовым сиропом); кроме того, в бистро меня уже знали, и я могла спокойно просидеть там все дождливое утро, не привлекая к себе особого внимания. Одна симпатичная чернокожая официантка даже доливала мне (причем бесплатно) орехового кофе.
— Where are you from?[36] — однажды спросила она меня.
Мне приятно было, что она заговорила со мной. Только сейчас я заметила, что у нее перевязана левая рука.
— Czech Republik[37], — ответила я. — Czechoslovakia.
Она подняла брови и кивнула, но это было не слишком убедительно.
Она спросила, что я делаю в Нью-Йорке.
С минуту я раздумывала: если быть искренней, мечтаю, попробовала я объяснить ей по-английски. Мечтаю здесь о мужчине своей жизни. Об идеальном мужчине…
— Об идеальном мужчине? — рассмеялась громко официантка. — Ты мечтаешь в Нью-Йорке об идеальном мужчине?! — повторила она и оглядела зал, обнажив розовые десны.
У меня создалось неприятное впечатление, что она собирается позвать из кухни всех своих сослуживиц и показать им меня.
Но, к счастью, этого не случилось.
— Идеального мужчины не существует, золотая, — только и сказала она мне в поучение и весело удалилась.
Послеобеденное время я проводила, главным образом, в вестибюлях гостиниц, преимущественно больших и шумных, чтобы не привлекать к себе внимания. Я садилась в какое-нибудь кресло и читала, но то и дело поглядывала на часы, делая вид, что кого-то здесь жду. За соседними столами молча сидели пожилые супружеские пары. Вот вам типичный пример: она с шиньоном, он с усеянными печеночными пятнами руками, они молча пьют кофе и дорогое вино и награждают улыбками лишь обслуживающего их официанта. «Супружество», — думаю я.
Однажды я сидела напротив двух молодых, но располневших японок, которые, сняв туфли, с болезненным стоном обматывали пальцы ног мягким пластырем.
— Can I help you?[38] — неожиданно спрашивает меня то ли сотрудник бюро обслуживания, то ли официант, но я лишь испуганно качаю головой. Даже не поднимаю глаз. И вот опять знакомое чувство: парализующая неспособность быть иностранкой. Играть эту роль. Улыбаясь, извиняться за произношение, улыбаясь, спрашивать дорогу, улыбаясь, потерянно разглядывать меню… Не будучи готовы принять эту роль, вы сразу же превращаетесь в неловкое, странное, подозрительное существо.
Здесь мне не место, подчас осознавала я. Что здесь, черт возьми, я вообще делаю? Ночью я в ужасе просыпалась: возле меня храпел какой-то американец.
Зато мама была в восторге от Джеффа. Я понимала ее: иностранец, выпускник престижного университета, либерал, кроме того из солидной семьи среднего класса… Она поселила его у нас, готовила ему, ездила с нами на экскурсии и ходила с нами в кино. Говорила с ним исключительно по-английски, они оба острили, смеялись, а я их не очень-то и понимала. И товарищей Джеффа, с которыми он встречался в Нью-Йорке, а потом снова в Праге по нескольку раз в неделю, я понимала еще меньше. Хотя Джефф и старался переводить мне, я все равно выглядела в этом обществе как умственно отсталая. В отместку я упрекала Джеффа, что он не понимает выражений типа полный абзац или быть в крутом обломе. А главное, у меня возникло подозрение, что Джефф и мама уже намечают дату свадьбы, то есть моей свадьбы.
Это было мне не по душе. Я предпочла бы встречаться с тем, кого бы мама так не расхваливала.
С Рикки Кабичеком мне это явно удалось.
Оба заговорщика были в абсолютном шоке, узнав о моем решении.
— Но, бога ради, почему? — не понимала мама.
— Tell me why![39] — выкрикивал Джефф.
Что я им могла сказать. Я сама ничего не понимала.
Почему я рассталась с Джеффом? Может, потому, что, кроме всего прочего, я уже страстно мечтала поговорить с человеком, с которым не надо было бы так часто думать о последовательности времен и об условных предложениях?
Может, потому, что мне надоело быть постоянно настороже.
Может, потому, что я уже не хотела выглядеть в постели как полка сладостей в универмаге TESCO?
Или потому, что мне понравился молодой продавец сотовых телефонов Рихард Кабичек, который был так приятно предусмотрителен и в чьем простом чешском мире я мгновенно почувствовала себя, как в изрядно стоптанных домашних шлепанцах?
Ничего не говорите, прошу вас.
Вы, наверное, представляете, что говорила мне мама.
Но до сих пор я часто вспоминаю Джеффа. Иногда даже чаще, чем полагалось бы: вчера, например, когда я вынимала из мойки желто-синие чашки и тарелки, которые Джефф с мамой когда-то купили в ИКЕЕ, я с удивлением поймала себя на мысли, что, если бы Джефф сейчас открыл дверь, бросил, как прежде, ключи на полочку в прихожей и весело крикнул «I'm home, honey!»[40], я все приняла бы как должное. Я спокойно бы вытерла руки желто-белым кухонным полотенцем (тоже из ИКЕИ), пошла бы в прихожую и, встав на цыпочки, поцеловала бы его. Потом взяла бы у него часть покупок из TESCO и помогла бы ему опорожнить сумки (знаю точно, что было бы в них: яйца, сало, фасоль, кетчуп, сосиски, пиво, фисташки, маслины, дыня, консервированный тунец, недорогие французские сыры, сухое красное вино, шоколадное печенье и большая упаковка орехового мороженого).
Куда все это подевалось? — думаю я. Вся эта любовь не могла же исчезнуть? Тем более что Джефф был моим первым. Понимаете, милые сестры, целыми неделями я о нем думала, целыми днями говорила о нем с Ингрид, делала макияж ради него, краснела перед ним, замирала, выпендривалась как могла, покрывалась испариной, торопилась на свидание, нервничала в ожидании звонка, покупала ему подарки, писала письма, стонала от наслаждения, заикалась от радости, приглушала голос, повышала голос, пугалась, ревновала, радовалась, отчаивалась, плакала — куда подевалась вся эта энергия?
А вот идиотская батарейка для часов величиной с ноготь мизинца выдерживает куда дольше.
Два или три раза, будучи в подобном расположении духа, я подходила к телефону и, не раздумывая, набирала длинный американский номер (после нашего разрыва Джефф определенно уже вернулся в Штаты).
Первый раз я позвонила в неурочный час, совершенно забыв о разнице во времени.
— Hello? — сказал он раздраженно.
— Это я, — прошептала я.
Говорил он спросонья, это обрадовало меня, но дело было вовсе не в моей зловредности. Обрадовало меня то, что я могу лучше представить его: вспомнить, как он моргал глазами, когда просыпался рядом со мной…
В трубке на какое-то время воцарилась тишина.
— Do you know what time is it?[41] — сказал он хриплым голосом и, не попрощавшись, повесил трубку. Это разозлило меня, как и то, что он говорил не по-чешски. Английский всегда разделял нас.
Второй мой звонок был не намного удачнее. Я позвонила ему поздно ночью — значит, во второй половине дня по их времени. Джефф сначала был немного удивлен, но потом, обыграв мою сентиментальность, язвительно напомнил мне («Let me remind you, honey…»[42]), что это была я, которая бросила его. И стал перечислять мне самые большие обиды, какие я нанесла ему. Его чешский уже был далеко не таким хорошим, как в Праге, но все-таки говорил он по-чешски; может, хотел перед кем-то выставиться. Он превращается в американца, как тот киношный ученый в муху, пришло мне в голову.
— Но я все мог бы простить тебе, даже то, что ты предала меня, — сказал он.
Я знала, что он скажет.
— Но того, с кем ты предала меня, я простить не смогу…
Yes, I know, Jeff. С продавцом сотовых телефонов Рикки Кабичеком.
С чувством абсолютного морального превосходства он положил трубку. Я при этом явственно видела его, и, хотя все было ужасно печально, мои губы еще несколько минут продолжали весело улыбаться.
Прага. 20 января 2000
Дорогая Лаура!
Представь, о моем первом письме уже пошли разговоры, на работе спрашивали меня, читал ли я его… Я с равнодушным видом всем отвечаю, что нет, не читал, но не могу не признаться, что такой неожиданный отклик наполняет меня каким-то горьким удовлетворением. Когда я еду в метро и вижу, как пассажиры читают письма (некоторые, возможно, уже по нескольку раз…), я про себя улыбаюсь. Знали бы они, что этот таинственный отверженный любовник, о котором уже говорит пол-Праги, я… Мой ординарный вид слегка располневшего (я перестал заниматься гимнастикой) и слегка помятого сорокалетнего дяди, рядового работника рекламного агентства, бесспорно разочаровал бы их. Однако в определенном смысле я впервые в жизни прославился — пусть даже это слава Человека в маске или Бэтмена (такое сравнение, несомненно, тебя развеселит).
Разумеется, я прежде всего думаю о том, как ты относишься к моим письмам. Во всяком случае, наверное, они тебе льстят (ну разве не лестно, когда кто-то любит нас так сильно, что способен на такие вещи?), но вместе с тем и тяготят. Можно понять — ты живешь с НИМ новой жизнью уже более полугода, а мои письма — лишь неприятное напоминание о том, что давно кончилось, о том, что ты считаешь прочитанной главой, о чем уже не хочешь думать… Но постарайся понять и другое. Для меня ничего не кончилось, напротив, все живо и кровоточит, как открытая рана. Мои посещения психиатра два раза в неделю приносят хотя бы ту пользу, что позволяют мне в письмах выразить некоторую патетичность, которая не покажется слишком преувеличенной…
Так что разреши еще немного драматичного пафоса: когда бы я ни вошел в ванную и ни почувствовал запах твоего молочка для тела (не имеет значения, сохранился этот запах спустя столько времени или нет; главное, увы, то, что я до сих пор его слышу), все клетки моего тела кричат одно слово: люблю! Никогда до тебя я не был так уверен в своей любви, а потерял именно тебя. Так могу ли я вести себя по-другому? И еще: могу ли я чувствовать к человеку, укравшему copyright на тебя, что-то иное, кроме ненависти?
Вспоминаю тебя ежедневно, но одно воспоминание в последнее время не дает мне покоя. Помнишь, как в августе прошлого года я неожиданно встретил тебя в центре Праги? Ты заходила в Kodak за фотографиями, отснятыми во время нашего отпуска; ты просматривала фото на ходу, и на твоем лице было такое отсутствующее, но радостное выражение, ты была так захвачена ими, что все время натыкалась на прохожих. Я, конечно, знал, что на этих фотках, и издали наблюдал за тобой. Я умышленно оттягивал минуту, когда окликну тебя. Мне это казалось смешным, забавным… Тогда я еще ничего не подозревал.
Сейчас этот красно-желтый альбом я знаю назубок. Всего пять пляжных фоток (невесть почему ты никогда не любила сниматься в купальнике: на двух ты лежишь навзничь на полосатом лежаке и от чего-то недовольно отмахиваешься, на двух других ты руками прикрываешь обнаженные груди, на которых видны голубые жилки, а на последнем фото мы сидим с тобой на моле, щуримся от солнца, и ты обнимаешь меня за плечи. Потом несколько фото с рынка, с пристани, несколько с экскурсии на Гвар и с ЕГО яхты — на одной уже и ОН…
Сейчас, спустя семь месяцев, все перевернулось. Но разве я стал другим, чем был на тех фотографиях? Куда все подевалось? Разве все то, что ты видела на фотографиях, могло так просто исчезнуть?
Вернись, Лаура, прошу тебя. Я все тот же, которого ты еще недавно любила.
Целую тебя.
Оливер
Глава VII
— Выходит, отпуск уже позади… — говорит Сандра, моя парикмахерша, прочесывая меж тем мои мокрые волосы (когда однажды она сделала мне химическую завивку, мама с сарказмом заметила, что Сандра, скорее всего, художественный псевдоним).
— Загорелая, отдохнувшая…
Летом разговор с Сандрой все-таки легче, чем зимой. С начала мая до конца сентября мы обычно говорим об отпусках (куда собираемся, где мы уже были и всякое такое), но все остальное время я не очень-то хорошо представляю, о чем с ней могу поболтать. Большинство женщин в основном без конца толкуют о своих волосах, о косметике для них, но я что о волосах, что о шампунях знаю немного — во всяком случае не столько, чтобы затянуть разговор на целый час, который я просиживаю у Сандры. Мама и Ингрид наперебой твердят, что любят ходить к парикмахеру (Ингрид говорит, что ей очень приятно, когда кто-то посторонний моет ей голову), но я бы спокойно обошлась без посещений парикмахерши: с одной стороны, я все это время должна терпеть свою физиономию в деталях (без очков и с мокрыми, слипшимися волосами я всегда кажусь себе страхолюдиной), с другой стороны, судорожно придумывать темы для разговора.
— Да, конечно, — принуждаю я себя по-дружески улыбнуться.
— Где вы были?
— На Корчуле, — говорю непринужденно. — Именно в том месте, если вы знаете…
— Не знаю. Но слышала, что там ужасно красиво…
Я утвердительно киваю.
— В позапрошлом мы были на Браче[43], — чуть помедлив, говорит Сандра.
Но на сей раз мне в голову не приходит ни одна подходящая реплика, поэтому я просто киваю подбородком и выразительно поднимаю брови.
— Две недели. С полупансионом.
— У нас тоже был полупансион, — отвечаю я.
— Это удобнее. — Сандра за моей спиной прерывает работу. — По крайней мере, не приходится в отпуске готовить, не так ли?
Я без очков, поэтому отражение Сандры в зеркале передо мною расплывается, и выражение ее лица могу лишь угадывать. На всякий случай я широко улыбаюсь.
— На Браче… а поточнее? — спрашиваю я чуть погодя, будто Брач мне известен.
— На Боле. Где Златны рат, если вы знаете…
Я с сожалением качаю головой — так энергично, что Сандра вынуждена остановить мой подбородок двумя пальцами, чтобы не поранить меня.
— Пардон, — извиняюсь я.
— Ничего.
Ножницы тихо звякают.
— А вы? — спрашивает Сандра. — Сколько вы там были? На Корчуле?
— Две недели… — повышаю голос, чтобы перекричать звук сушилок.
— Здорово. Неделя ужасно быстро пролетает. И отдохнуть как следует не успеваешь.
Я согласно киваю головой.
— С другом — разрешите вас спросить, — кричит Сандра, — или с подругой?
Мне кажется, что она подмигнула мне в зеркале, но я не уверена.
— С другом! — кричу громко, но строю недовольную мину и демонстративно вздыхаю. Почему я это сделала? Я близко наклоняюсь к зеркалу и изучаю свое лицо.
— Но вы говорите без всякого восторга! — горланит во весь голос Сандра, кидая взгляд в сторону своей коллеги за соседним столом.
Похоже, обе они выжидают.
— Я уже его не люблю! — кричу я с улыбкой. — Я влюбилась там в почти сорокалетнего! Вы можете в это поверить?!
Внезапно воцаряется тишина.
Внезапно не слышно ни одного фена.
Все парикмахерши и клиентки с живым интересом поворачиваются ко мне.
— А, вот почему такая спешка! — спокойно говорит Сандра и торжественно оглядывается кругом.
Она подтягивает соседнее кресло и садится рядом со мной.
— Батюшки мои, ну так поскорее рассказывайте…
Глава VIII
Заметила я его в первый же день в гостиничном ресторане.
Впрочем, трудно было его не заметить: среди более чем двухсот отдыхающих он был единственный, кто сидел за столом один. Мне понравилось, как он справляется со своим одиночеством: спокойно, с каким-то естественным достоинством. В ресторан он входил неспешно, к еде не проявлял никакого интереса и в общем выглядел несколько подавленным; когда перед ужином заказывал у молодых официанток привычную бутылку вина (в первые дни за соседними столами это привлекало особое внимание), на его лице появлялось выражение милой самоиронии. Через неделю официантки уже вступали с ним разговор. Меня это не удивляло: одетый довольно небрежно, он при этом смотрелся сравнительно молодо (лет на тридцать пять, как мне казалось), интеллигентное лицо, приятная улыбка, а его странное одиночество могло порождать и всяческие романтические фантазии.
Позже он объяснил мне: дней за десять до вылета в каком-то гневном амоке он добежал (в первую минуту я ему не поверила, но сейчас уже знаю, что это, пожалуй, не было преувеличением) до туристического бюро «Фишер» на Национальном проспекте и отменил заказ своей приятельницы. Он уверял меня, что нисколько не жалеет об этом: потеряв около двенадцати тысяч крон за отмену заказа, он обрел целых две недели роскошной личной свободы, самокопания и одиночества.
Это Оливер повторял часто.
Его отпускные дни подчинялись педантически организованному распорядку, производившему довольно комичное впечатление. После завтрака я регулярно всякий день видела, как он заказывает в баре двойной espresso с молоком и всегда удаляется с ним к одному и тому же креслу на гостиничной террасе, где затем ровно час читает. Около одиннадцати приходит на пляж; сперва полчаса загорает, потом идет в воду; заплывает очень далеко. После обеда отправляется вздремнуть, потом снова загорает и плавает. В половине пятого возвращается в гостиницу; двойной espresso на сей раз он относит в номер, где до вечера работает. При желании я могла и с пляжа увидеть, как он на своем балконе, сидя за маленьким пластмассовым столиком, весьма сосредоточенно склоняется над раскрытым блокнотом.
В первые дни, несмотря на периодические приливы какой-то забавной симпатии к его отшельничеству, я почти не испытывала к нему интереса. Только позднее стала замечать за собой, что, облизывая шоколадное мороженое Cornetto или весело перебрасываясь с Рикки летающей тарелкой, глазами ищу Оливера.
Обнаружив его, я чувствовала что-то вроде облегчения.
Через три дня Оливер начал по-дружески здороваться с нами, так же как и с остальными отдыхающими, которых он встречал на пляже или в ресторане.
На четвертый день мы с Рикки, возвращаясь с ужина, столкнулись с ним в лифте; он ждал, когда закроются двери, и в большом зеркале разглядывал свое загорелое лицо.
— Я превращаюсь в prženi krumpir[44], — промолвил он недовольно, не отрывая взгляда от зеркала.
Меня позабавило это: жареная картошка, подаваемая до сих пор абсолютно к каждому блюду, действительно у всех уже вызывала тошноту. Его дыхание отдавало местным красным вином. Я посмотрела на себя в зеркало и, надув щеки, сказала:
— А я — в naravni odrezak[45].
Натуральный шницель подавали тоже часто. Оливер сухо засмеялся. Рикки, очевидно, раздумывал, в какое бы блюдо превратиться ему, но ничего не придумал. Мы вышли первыми.
— До свидания, — попрощалась я.
— До свидания, — сказал Оливер.
— Привет, — равнодушно бросил Рикки.
Я уже привыкла, что здесь всегда в семь утра меня будит колокольный звон местного костела, но в воскресенье зазвонили уже в шесть. Бесконечный, монотонный перезвон… От злости я уже не смогла уснуть. Что эти трёхнутые святоши себе думают?
Как вы понимаете, милые дамы, после папиной смерти мы с мамой на Господа Бога немного сердиты (мама готова простить его, пожалуй, только тогда, когда ее самолет попадает в турбулентность). Костелы я на дух не выношу — ужасный запах, холод, мрак; уже входя туда, чувствую себя безбилетным зайцем в трамвае.
Я вылезла из постели и тщетно попыталась уговорить Рикки пойти со мной поплавать еще до завтрака или хотя бы пройтись, но он буркнул что-то и повернулся на другой бок. Тогда я пошла одна и на совершенно безлюдном пляже наткнулась на Оливера.
Я стала быстро соображать, не повернуть ли мне в другую сторону, но в конце концов решила подойти к нему.
— Вижу, вы тоже из-за этого проснулись… — заговорила я.
Он кивнул. В эту минуту колокола опять зазвонили — видимо, из какого-то конкурирующего святилища. Мы сочувственно переглянулись.
— А еще уверяют, что все из любви к ближнему… — покачал головой Оливер. — Я понимаю, им нужно зазвать людей в церковь. Но какого-нибудь более гуманного способа они не могли придумать?
Я улыбнулась. На нем были полотняные «велосипедки» и вытянутая, запятнанная хлопчатобумажная майка; он был растрепан и, очевидно, еще не брился. На левом запястье — маленькие детские часики с Дональдом Даком посреди циферблата, на его загорелой мускулистой руке они производили довольно странное впечатление.
— Листовки в почтовом ящике, билборды вдоль автострады, телевизионные клипы, воздушные шары в форме Божьего ока — все это я готов понять, — продолжал он. — Но колошматить по бронзе в воскресенье в шесть утра?..
Под ногами у нас скрипела галька. Солнце только всходило, и в воздухе чувствовался приятный холодок. Мы заговорили: сперва о здешних блюдах, а потом уже болтали о чем угодно. Меня поразило, как легко завязалась наша беседа. Утром обычно я не очень разговорчива, но на сей раз мне приходилось даже сдерживать себя, чтобы не прерывать Оливера.
Я спросила и о его работе: не очень охотно он сообщил, что работает в одном относительно известном рекламном агентстве так называемым креатором; придумывает рекламные клипы и слоганы. Говорил он об этом без особого восторга.
— Ну например? — спросила я.
Он указал на свои заношенные «велосипедки» и запятнанную майку.
— Коли денег нет в помине, появись в своей рванине! — процитировал он.
Я засмеялась и попросила его вспомнить еще какой-нибудь удачный слоган. Он протянул руку и указал на свои детские часы:
— Имидж — ничто! Инстинкт — все!
— Но это похоже на рекламу фанты?
— Да. Она возникла по тому же образцу.
Прилив тихо шумел. Рыбаки возвращались с моря. Мне казалось, что солнце уже набирает силу, и я разделась, оставшись только в майке. Оливер откровенно посмотрел на мою грудь.
(— Ну ясно… — со знанием дела заметила Сандра.)
Мы дошли до самого конца городка и на террасе единственно открытого кафе выпили соку и кофе. Вокруг нас сидели несколько местных жителей, мы были единственными туристами. Оливер рассказал мне две-три забавные истории о своем товарище по имени Губерт. Приятно текло время.
— Разрешите спросить, сколько вам? — поинтересовалась я, когда он на минуту умолк.
— В будущем году стукнет сорок, — ответил он, посмотрев мне в глаза.
Признаюсь, я была огорошена.
— Преимущество зрелого возраста — высшая степень самопознания. Конкретно: сороковник — прекрасная пора жизненного равновесия, — говорил он с улыбкой, словно стремясь в чем-то убедить меня. — Человек уже достаточно стар, чтобы знать, чего он хочет, и все еще молод чтобы ничего не бояться…
— Это надо запомнить, — сказала я. — Хотела бы процитировать вас маме…
Позже я осознала, что это было не очень тактично. Он театрально схватился за лоб.
— Что с вами? — не поняла я.
— Головокружение. Я заглянул в бездонную поколенческую пропасть, которую вы создали…
Я была рада, что он сумел отшутиться.
— На вас нет кольца, — сказала я смело. — Вы не носите его в отпуске или в самом деле свободны?
— В банальном смысле слова свободен. Точнее, разведен. Но если свобода означает способность преодолевать искушение, такая дефиниция, сказать по правде, мне вполне нравится, — в этом смысле я относительно несвободен. Чуть ли не раб, сказал бы я.
Осмелившись, я наконец спросила о причине его одиночества, он лаконично мне все объяснил.
— Я просто не могу представить себе — быть где-то заграницей в полном одиночестве! — выпалила я искренне. — Две недели совершенно одна в гостиничном номере! Насколько знаю себя, я засыпала бы при зажженной лампочке, с мобильником у самого уха, и всюду вокруг валялись бы использованные GO-купоны…[46]
О своем плюшевом кенгуру, которого я тревожно прижимала бы к груди, я предпочла умолчать.
Он передернул плечами.
— Человек всегда один, — заметил он, словно бы извиняясь. — Может, лучше всего смириться с этим.
Глава IX
В этот день я почти не видела его.
На пляже он не появился. Промелькнул только за ужином, поздоровался со мной и Рихардом, но, прежде чем я успела что-либо сказать, снова исчез.
Я надеялась, что увижу его на следующий день после завтрака в его любимом кресле, но и там его не было. Рикки хотел взять двухместную байдарку и обойти весь залив, однако на такой спортивный подвиг в этот день я была неспособна и попросила его плыть без меня. Приуныв, он согласился.
Я подождала, пока он отплывет от причала, помахала ему (ничего не говорите, прошу вас…), а потом обошла все прилегающие к гостинице пляжи и все ее укромные уголки. Оливера нигде не было. Жалюзи его номера были все время опущены. С подозрением я приглядывалась ко всем мелькавшим вокруг молодым хорватским официанткам. В конце концов я заказала двойной espresso с молоком и пошла с ним на террасу в Оливерово кресло.
«Господи, что я делаю?» — подумалось мне.
Примерно через полчаса он стоял надо мной со стаканом минералки. Глаза припухшие, точно спросонья, и от него несло алкоголем.
— Это мое место, — сказал он. Его голос звучал непривычно хрипло.
— Вы более чем на час опоздали, — уточнила я строго. — И где, черт возьми, вы были весь вчерашний день?
Он сел в соседнее кресло. Двое чешских туристов у бара окинули нас любопытными взглядами.
— Правдивый или приемлемый в обществе ответ?
— Правдивый, разумеется.
— Вы уверены, что хотите его услышать?
Он говорил с заметным усилием — видимо, болела голова.
— Абсолютно.
— Я старался избегать вас.
Я не знала, что на это сказать.
— Но почему? — спросила я, вяло изобразив удивление.
Не отвечая, он уселся в кресло напротив, запил минеральной водой две таблетки нурофена и, открыв книгу, погрузился в нее.
Я оскорбленно встала.
— Что ж, не буду вам мешать, — сказала я и ушла.
Вечером мы с Рикки встретили его в городе на фольклорном представлении морешки — танца с мечами. Лестница под городской заставой служила импровизированным зрительным залом; мы уселись среди прочей публики. Обернувшись спустя какое-то время, я увидела Оливера, сидящего на несколько ступеней выше. Выглядел он чуть лучше, кивком даже приветствовал меня. Рикки ничего не заметил. Ночь стояла жаркая, я была в белом платье на бретельках, с обвязанным вокруг талии джемпером. Началось представление. Рикки обнял меня за плечи. В лучах света под нами Красный король долго воевал с Черным королем, пленившим его девушку.
На шее я чувствовала взгляд Оливера.
Наконец Черный король был повержен.
На выходе мы снова встретились с Оливером. Рикки едва узнал его.
— Добрый вечер, — сказал Оливер.
— Добрый… Тьфу ты, ну и ерунда была! — облегчился Рикки. — И не стыдно брать сорок баксов за это!
Ни Оливер, ни я ничего не сказали в ответ. Наступила неловкая тишина. У меня оставалось максимально две-три секунды, дабы что-то придумать.
— А не выпить ли нам где-нибудь ракии? — с беспечным видом предложила я. — Приглашаю вас, господа!
Рикки несколько удивился, но кивнул. Оливер сначала сделал недовольную мину, но потом принял приглашение и весь вечер вел себя и впрямь замечательно: свое внимание предупредительно делил между мной и Рихардом, а благодаря нескольким забавным анекдотам из жизни рекламного цеха вскоре даже завоевал его симпатию. Когда подвыпивший Рикки попытался облапать меня, Оливер тактично отвел взгляд.
Наконец Рикки, пошатываясь, пошел в туалет.
— Дайте мне номер вашего мобильника, — не медля попросила я Оливера.
— Зачем? — сказал он чуть ли не злобно. — Собираетесь пригласить меня на секс втроем?
Ни объясняться, ни ссориться времени не было. Недолго думая я попросила у поляков за соседним столом ручку и заставила его продиктовать мне номер. Вернула ручку, а салфетку с его номером спрятала в сумку. Я буквально запыхалась от такой спешки. Рикки возвращался.
— Ну так что вы тут, двое? — гудел он издалека. — Скучаем, да? Поддаем, да?
Как только часом позже он отвалил от меня и уснул, я встала и отнесла сумку на балкон. Ночь была ясная и по-прежнему теплая; звезды тихо сверкали. Я включила мобильник. Во тьме зазеленел дисплей.
НЕ МОГУ СПАТЬ, — написала я Оливеру. — ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО У МЕНЯ РАСТЕТ ЗУБ?
Но он не ответил мне.
Не ответил и на два других СМС-сообщения.
Двумя днями позже мы с Рикки должны были отплыть с экскурсией на остров Млет. Я не могла представить себе, что целый день не увижу Оливера. Накануне экскурсии вечером я воспользовалась первой зацепкой, которую мне ничего не подозревающий Рикки, и спровоцировала абсолютно никчемную, почти получасовую ссору.
Так что на следующий день разгневанный Рикки на Млет отчалил один.
(Ничего не говорите, прошу вас.)
— Почему вы не отвечаете на мои эсэмэски? — накинулась я на Оливера, как только нашла его; вопреки заведенному правилу он не пил кофе на террасе, а лежал в самом конце пляжа.
Он поднял голову, но ничего не ответил.
— Вам не кажется это несколько невежливым? — спросила я.
Он задумчиво смотрел на меня.
— Невежливым? Не думаю. Полагаю, что уже одним отправлением этих эсэмэсок вы автоматически ставите нас обоих вне категории вежливости…
Я постелила подстилку, сняла верхнюю часть купальника и легла возле него. Он закрыл глаза. Солнце палило. Я чувствовала запах его крема для загара.
— Кто эта девушка, с которой вы должны были приехать? — спросила я его чуть позже.
— Блудичка… Такой блуждающий огонек, — вздохнул он.
— Блуждающий огонек?
— Да, огонек, блуждающий по миру шоу-бизнеса до того времени, пока ее изначально ясный огонек не померкнет.
— И она хотела, чтобы вы указали ей правильный путь.
У него по-прежнему были закрыты глаза.
— Ей хотелось другого: она соглашалась спать со мною в августе, но при условии, что в сентябре я обязательно поведу ее на презентацию новых духов от Estée Lauder, где ей, возможно, удастся познакомиться с Павлом Зедничком или с Магуленой Бочановой[47].
(Не поверите, милые дамы, но при слове спать я почувствовала укол ревности.)
— Уж не циник ли вы? — взболтнула я первое, что пришло на ум, однако похоже было, что Оливер задумался над моим вопросом.
— Я стараюсь лишь называть своими именами то, что вижу, — ответил Оливер. — Если это цинизм, значит, я циник.
Он лег на живот, повернув голову в другую сторону.
— А как вы относитесь к моим эсэмэскам? — спросила я тихо.
— Лучше не спрашивайте, — промычал он в полотенце.
— Ответьте мне.
Он коротко хихикнул.
— Что ж, хорошо. Как точно звучит вопрос?
— Вопрос звучит так: что, на ваш взгляд, я делаю в последние дни? — выдала я, не раздумывая.
И сама тотчас испугалась этого вопроса. Оливер чуть приподнялся на локтях, повернул ко мне голову и поглядел мне в глаза.
— Вы пытаетесь использовать меня в качестве средства, которое поможет вам переварить этого красивого дурачка, — сказал он безжалостно.
Я дала ему пощечину, а потом поцеловала.
До отъезда подобную сцену мы повторили еще два раза.
Глава Х
— Это такая густая клейкая жидкость, — смеется Мразек, засовывая мне в рот серебряную подкову, полную вязкой массы для слепков. — На вкус она не то чтобы очень неприятна, но лучше не глотайте…
Он подмигивает сестре, которая неприязненно отводит глаза, а потом бросает на меня понимающий, сочувствующий взгляд. Мразек видит это, но, к моему удивлению, никак не реагирует.
— Прикусить! — кричит он, запустив пальцы глубоко мне в рот. — И держать!
Излишняя масса стекает на язык, и я едва сдерживаю рвоту. Мразек быстро собирает ее деревянным шпателем.
— Глубоко дышать, — советует он весело. — Красота требует жертв…
Вдруг в сумке у меня звонит мобильник, по звуку сразу догадываюсь, что это мама. Я дико вращаю глазами, давая понять сестре, чтобы взяла его.
— Вам плохо? — спрашивает Мразек.
К счастью, сестра понимает. Она вытаскивает мобильник из сумки, но Мразек вырывает у нее аппарат. Я слышу мамин голос, но ответить ей не могу, поскольку изо рта у меня торчит большая металлическая ручка.
— Это доктор Мразек, — сообщает дантист маме. — Барышня не может говорить, потому что ее рот заполнен моим инструментом!
Затем, передав мобильник сестре, он разражается гомерическим хохотом.
Сестра смотрит на него с каменным выражением лица.
Масса у меня во рту постепенно твердеет.
— Что это был за придурок? — интересуется мама, позвонив мне через полчаса.
— Дантист, — улыбаюсь я. — Чешский дантист…
Я рада, что наконец слышу ее голос.
— Что нового? — спрашивает она.
— Что нового? — повторяю я и тщетно пытаюсь подавить восторг. — Он написал мне! Пригласил меня сегодня на ужин!
— Тот из рекламы? Тот сорокалетний? — изумляется мама.
Я тут же чуть остываю. Почему все так подчеркивают возраст? Разве возраст имеет значение?
— Да, тот сорокалетний, — повторяю за мамой холодно. — Тот самый сорокалетний, который вполне мог быть моим папой…
— Почему ты сразу бесишься? — говорит мама. — Я еще не сказала ни слова…
— Вот именно… А почему бы тебе не сказать: «Ну что ж, прекрасно! Желаю тебе удачи!..»
— Ну что ж, прекрасно! — повторяет мама. — Желаю тебе удачи!
— Спасибо.
— Но сегодня все-таки не спи с ним.
— Не буду!
— Завтра уже можешь.
Я удивленно хихикаю, но понимаю ее: даже сорокалетний лучше, чем Рикки Кабичек.
— Ну знаешь, мама… — говорю я с наигранным возмущением.
— Польсти ему, но не перебарщивай!
— Хорошо, хорошо. Что у тебя нового, мама?
— В общем-то ничего. Разве что…
Это уже звучит загадкой.
— Как понять «разве что»? — спрашиваю я с любопытством.
— Разве что я выхожу замуж! — радостно выпаливает мама.
Прежде чем изобразить, что разделяю ее радость, я на минуту замолкаю. Значит, мама тоже… Вот так неожиданность! Я и вправду этого никогда не пойму: женщина может быть самой что ни на есть эмансипированной, но при одном слове «свадьба» у нее сразу мокнут трусики.
(Должно быть, милые сестры, с этим и впрямь ничего не поделаешь!)
— Когда ты прилетаешь, мама? — спрашиваю я по возможности деловито.
— Как только достану билет на самолет. Завтра после обеда или послезавтра.
— Ну хорошо, — говорю я. — Жемла уже не может тебя дождаться…
Жемловы — это наши комики к ужину. Они живут в соседней квартире, и, если мы с мамой хотим немножко развлечься, открываем в ванной крышку на стояке, и на весь вечер потеха нам обеспечена.
Диалоги супругов Жемловых протекают обычно так:
Жемлова. Ты можешь мне сказать, куда сегодня вечером отправляешься?
Жемла. А тебе что до этого?
Жемлова. Как ни странно, но мне очень даже до этого. Думаю, будучи твоей женой, могу тебя спросить, куда ты отправляешься?
Жемла. Не нервируй меня!
Жемлова. Это ты не нервируй меня! Я спрашиваю тебя, куда, черт возьми, ты отправляешься? Так изволь мне ответить.
Жемла. Ну а если я иду за сигарами? Куда вечером я еще могу идти?
Жемлова. Опять за сигарами? Ведь ты их, насколько я знаю, вчера покупал. Ты что, их уже выдымил, да? Кому ты очки втираешь? Мне, что ли?
И все в таком роде.
По маме Жемла просто сохнет, особенно с тех пор, как умер папа. Мама и я немного склонны к полноте, но после папиной смерти мы обе жутко похудели. Мама до сих пор утверждает, что единственная действенная диета для похудения — смерть в семье. Звучит как шутка, но это так: когда мама примерно год спустя чуточку пришла в себя, сходила к парикмахеру и подкрасилась, она стала похожей на тех красивых, стройных вдов из американских вестернов… Жемла в нее сразу влюбился, а Жемлова ее возненавидела.
Это вы знаете.
Глава XI
От парикмахерши еду на метро в редакцию. Пятница, после обеда, боюсь уже не застану своих коллег на месте, но, когда распахиваю дверь в наш тесный закуток и вижу их там всех в полном составе, привычно сгорбленных над клавиатурами компьютеров, меня охватывает неизъяснимое умиление.
— Приветик! — кричу им весело.
Все, кроме Тесаржовой, испуганно поворачиваются ко мне, прижимая палец к губам. Только теперь замечаю, что Тесаржова одной рукой прижимает к самому уху трубку, а другой — злобно машет под стулом, словно орудует веслом. Вмиг понимаю, что это значит: дозвонилась какой-нибудь звезде.
И потому разговариваю со всеми остальными только глазами. Романа с Властой улыбаются, Зденька указывает на мою новую прическу и восторженно поднимает большой палец. Из соседней каморки уже выползает Мирек; идет тихо, чтобы не рассердить Тесаржову, и, поглядев на меня, буквально светится. На нем синие вельветовые брюки, стянутые на талии поясом из искусственной кожи, оранжевая рубашка и коричневый широкий, как халат, свитер. Лето кончилось.
— В самом деле, не найдется ли у вас пара минуток, мисс Скловская? — щебечет Тесаржова.
Она какое-то время слушает, ее большой нос разочарованно морщится.
— А могли бы вы хоть ответить на пару вопросиков по телефону?.. Господи, цены бы вам не было. Значит, я могу вам сразу задать их, мисс Скловская?.. Так, отлично, первый вопросик: наши читательницы — вы, конечно, примерно понимаете, кто наши читательницы, не так ли? — иными словами, наших читательниц, естественно, больше всего интересует, искусственная ли у вас грудь?.. Вы не хотите обсуждать этот вопрос? Отлично… Ну ясненько. Тогда что-нибудь совершенно в другом духе. Вы страдаете депрессией?.. М-да. Нет, не страдаете. Это, откровенно говоря, для нас немного огорчительно… Нет, нет, извините меня, я, разумеется, не имела в виду…
Пока Тесаржова говорит, я протискиваюсь к своему столику и окидываю взглядом высокую стопку присланных писем. Знаю точно, что в них: неверные мужья, разводы, алкоголики, вставленные новые замки, опустевшие сберегательные книжки, пощечины, а возможно, пинки и ожоги сигаретой; в лучшем случае проблемы с бестолковым участковым доктором или банальные соседские раздоры, со временем выросшие до размеров античной драмы: Почему я ткнула его ножницами в живот? Да потому что их паршивый пес опять (!) нассал на нашу рогожку…
Именно сейчас мне так не хочется погружаться во всю эту убогость…
Тесаржова холодно прощается и вешает трубку. Подозреваю, что на другом конце линии это произошло гораздо раньше.
— Корова хренова! — облегчается Тесаржова и мгновенно тянется к сигарете.
Наконец все остальные могут встать и обнять меня. Я раздаю подарки, которые привезла им: маленькую акварель с заливом и лодочками для Романы (она любит море, но после развода девять лет назад, бедняжка, у моря еще ни разу не была), большую коробку конфет для Власты, бутылку хорватского портвейна для Зденьки и пузырек лавандового масла для Тесаржовой (вся штука в том, вы-то понимаете, милые дамы, что я просто не хотела бы лишиться этого места).
Для Мирека у меня бутылочка дешевого красного вина.
— Такого я… не ожидал, — роняет он. У него сразу увлажняются глаза. — Большое спасибо.
Его болезненная чувствительность действует мне на нервы, но на сей раз я превозмогаю себя и бегло целую его.
По пути из редакции к бабушке меня вдруг охватывает сочувствие не только к Миреку, но в конце концов и ко всем другим бедно одетым или плохо подстриженным мужчинам, сидящим в трамвае… И к этим усталым работягам в дешевых стареньких авто, с уродливыми стареющими женами… Прямо передо мной сидит человек, который кажется таким умученным, что мне становится его жалко. Похоже, шея у него так одеревенела, что хочется наклониться и помассировать ее.
Что это со мной?
Ничего.
Я влюблена.
— Ну что, Лаура, — подмигивает мне бабушка, в то время как я выкладываю покупки на кухонный стол, — у тебя уже есть какой-нибудь парень?
За стеклом белого буфета преобладают папины фотографии, на последних ему тридцать два. Папа был бабушкиным единственным, более того, буквально намоленным ребенком — она зачала его в тридцать четыре года, совершенно неожиданно, вопреки всем пессимистическим прогнозам.
— Есть, бабушка. Даже два, — озорно говорю я. (Об этом я уже рассказывала, знаю.)
Больше, чем число моих возлюбленных, бабушку, конечно, интересует содержимое сумки. Но упрекать ее смешно.
— Что это? — спрашивает она.
— Молоко, бабушка.
У бабушки обиженный вид. Она хотела молоко в стеклянной бутылке, с тремя красными полосками на серебряной крышечке, какие продавались в восьмидесятые годы, а вместо этого я даю ей какой-то неведомый пакет из вощеной бумаги (который она потом на свою беду спутает с авиважем[48]).
— А когда приедет мама? – спрашивает она раздраженно, протестующе. — Что она с этой Америкой опять напридумала…
Любые поездки за пределы Праги бабушка считает полной бессмыслицей, поездки за пределы республики, на ее взгляд, чистое безумие, а чем она считает полеты через океан лучше даже не представлять себе…
— Возможно, уже завтра, — успокаиваю я ее. — И уж конечно, что-нибудь привезет!
Звонит мой мобильник. Ингрид, читаю на дисплее.
— Привет, — говорю я. — Как прошла случка?
В трубке — долгое молчание, потом слезы.
— Что стряслось?
— Все мужики — свиньи, вот что стряслось! — кричит Ингрид.
— Для меня это новость.
— Приезжай, пожалуйста! — просит она.
Смотрю на часы: еще успею.
— Хорошо, — вздохнув, говорю я. — Через полчаса у тебя.
— Ладно, и купи мне где-нибудь ромашковую мазь! — всхлипывая, просит Ингрид.
Ромашковую мазь? Господи, что они все себе думают? Медсестра я им, что ли?
В аптеке встречаю соседа Жемлу; жена болеет, он берет для нее порошки. Порошков чуть ли не половина сумки; замечаю: как только Жемла поворачивается ко мне, аптекарь с любопытством оглядывает его.
— А когда приезжает мама из Америки? — спрашивает Жемла.
— Завтра после обеда или послезавтра.
— Хорошо. Нам без нее уже скучно.
Звучит это почти неприлично. Стоит только представить, как этот пятидесятилетний пузан лезет на мою маму, меня начинает тошнить.
— Ты домой, Лаура? Подождать тебя?
— Нет-нет, я иду еще кое-что купить.
Это вранье, но мне надо, чтобы Жемла поскорее убрался, ибо уже подошла моя очередь.
— Ромашковую мазь, пожалуйста, — говорю аптекарю и многозначительно киваю Жемле: — До свидания!
— Привет!
Я жду, пока Жемла окончательно исчезнет. Аптекарь терпеливо ждет вместе со мной.
— И один фемигель, пожалуйста, — прошу его тихо.
Спустя полчаса сижу на красной софе из магазина «The Art of Living». Ингрид в ярости отмеривает взад-вперед двадцать пять квадратных метров своей элегантно обставленной гарсоньерки и при этом рассеянно осматривает мой подарок: коралловый браслет, который я минуту назад застегнула на ее запястье. Сейчас полшестого пополудни, но она все еще в ночной рубашке.
— Садись, прошу тебя, — говорю ей в третий раз. — Ты действуешь мне на нервы.
Наконец она останавливается.
— Я сесть не могу! — всхлипывает она. — Не понимаешь, что ли?
А потом все и вываливает: познакомилась, мол, с ним вчера вечером в кафе «Солидная неуверенность». Карел, лет тридцати, якобы не женат; у него своя фирма, которая к нам что-то ввозит.
— Но что он к нам ввозит? — перебиваю ее. — Часы? Героин? Сапоги? Что конкретно?
— Боже правый, не знаю, — говорит Ингрид. — Я никогда не помню деталей…
— Что вы пили?
— Вино, — говорит Ингрид как-то обиженно. — Ей-богу, только вино.
Одну бутылку белого выпили за ужином, другую — потом. Ингрид нравилась раскованность Карела, он как-то вообще не торопил событий. О Джулии Робертс за весь вечер не упомянул вовсе. О чем они говорили? Ингрид разводит руками. Ах, о чем только не говорили: о современной политике социал-демократов, о фильмах Формана, о мебели (Карел якобы любит, как и Ингрид, комбинацию дерева, стекла и металла), о взвинчивании цен на недвижимость, о книгах.
— Начитанный предприниматель? — вставляю я.
— Да, — говорит Ингрид. — И вправду так. Читал Маркеса, Набокова, Сарояна… Кого хочешь.
В основном говорил о путешествиях. У Ингрид создалось впечатление, что Карел объездил весь мир, но при этом был настолько умен, что не выставлялся. Все эти экзотические места служили ему лишь необходимым фоном для разных забавных историй и наблюдений… Знаете, как, например, выглядит мясная лавка в Южной Америке? Вот как: где-то на доме на ржавом железном крюке висит освежеванная коза; вы пальцем указываете на определенную часть туши, парнишка, отогнав мачете мух, эту часть и отрубает вам.
Говорил и о детях.
— Представляешь, о детях! — выкрикивает Ингрид. — Даже это для них не свято!
Карел говорил, что, конечно, хочет иметь детей. Биологические часы, дескать, тикают и для мужчин. Да, он знает, что как мужчина еще располагает некоторым временем, однако не хочет дожить до того, чтобы какая-нибудь придурошная учительница перед всем классом спрашивала его сына, почему вчера на родительское собрание приходил дедушка…
Итак, надлежащим образом очарованная Ингрид последовала ночью за Карелом к нему домой, где спустя пять минут после их прихода Карел вставил ей в зад.
И только в зад.
Даже музыки не включил.
Ингрид кровоточила, он вызвал для нее такси. Телефона и то у нее не взял.
Ингрид плачет у меня на плече, ее слезы смачивают мою майку.
Вдруг она поднимает ко мне взгляд:
— Да, мы с тобой знаем, что мы, женщины, тоже можем быть изрядными стервами… Но, — с сомнением качает она головой, — такими свиньями мы же не бываем?!
Глава XII
Я ужинаю с Оливером!
Мы сидим в переполненном полуподвальном ресторане «Марко Поло» на набережной Влтавы; в окне надо мной — освещенный остров Жофин. Заведение выбрал Оливер: говорит, что ему нравится здешний добротный деревянный пол и добротные деревянные стулья.
Я оглядываюсь вокруг.
— А добротная деревянная обшивка? — спрашиваю с улыбкой.
Он отвечает мне улыбкой, но молчит. Мы оба в особом, приподнято-возбужденном настроении. Оливер, пусть и не отказался от своих вытянутых полотняных брюк, однако надел чистую рубашку и вполне приличный пиджак. Загар еще не сошел с него и очень ему к лицу.
— Перво-наперво сразу же ограничим круг наших разговоров, — говорю я. — Совершенно запрещаю вам говорить на такие темы, как современная политика социал-демократов, фильмы Формана, модерновая мебель, взвинчивание цен на недвижимость, Южная Америка и, главное, дети. Ни слова о детях, ясно?
— Хорошо, — недоумевая, соглашается Оливер.
Напористым шепотом пересказываю ему историю Ингрид (употребляю, естественно, выражение анальный секс). Он только кивает головой, но ничего не говорит. Мне кажется, что этой историей я, возможно, напрасно заморозила обстановку.
— В самом деле вы все одного поля ягоды? — к тому же ляпаю я глупо.
Оливер задумывается.
— Боюсь, что более или менее все, — говорит он серьезно, и я таращу на него глаза. — Мы отличаемся друг от друга лишь мерой своего эгоизма.
По счастью, в следующую минуту нам несут закуску; пламя свечи с приходом официанта трепещет, но не гаснет. Carpaccio превосходно, однако у меня перед глазами мертвая освежеванная коза.
— Ну, если можно, хорошего аппетита, — говорит Оливер.
Во время аперитива, о котором мы поначалу из-за Ингрид совсем забыли, предлагаю Оливеру перейти на «ты». Откладывать это уже невозможно. Мы чокаемся, и, как только спустя минуту привыкаем к непривычному ты, наш разговор обретает прежнюю легкость. Это опять тот Оливер, которого помню по нашим беседам на пляже: раскованный, умный, забавный.
Наклонившись ближе к нему, я под столом неприметно касаюсь его колена. Кожей чувствую его тепло. Пламя свечи отражается в его глазах — и меня ни на миг не посещает мысль о СПИДЕ или стафилококках.
— Я очень рада, что ты меня пригласил, — уверяю его. — Я люблю с тобой разговаривать.
Он не отвечает. Я беру бокал и выцеживаю несколько оставшихся в нем капель. Бутылка уже пуста.
— Может, закажем вторую? — предлагаю как бы невзначай. — Однова живем, не правда ли?
Иногда, нервничая, болтаю бог знает что.
— Бесспорная, хотя, откровенно говоря, и несколько банальная реальность, что мы «однова» живем, — неожиданно произносит Оливер, — в данную минуту не является для меня вполне убедительным поводом для того, чтобы заказать еще одну бутылку.
Он говорит это совсем другим тоном, чем говорил до сих пор. Я испуганно смотрю на него.
— Скажи напрямик, что хочешь со мной напиться, и я с радостью закажу еще одну бутылку, — продолжает он. — Но не лги. Я же не собираюсь врать. И не стану изображать живой интерес к взвинчиванию цен на пражские квартиры, когда на деле — мы оба это хорошо знаем — мне интересна только ты. Притворство, возможно, действенно, но ужасно утомительно. Мне будет сорок. Такие игры меня уже давно не занимают.
— Игры?
— Да, игры. Не хочу, например, все время умалчивать о Рихарде и тем самым замазывать факт, что в воздухе над нашим столом с самого начала ужина витает потенциальная измена.
Я в шоке.
— Ведь ты сам пригласил меня на ужин! — выпаливаю я.
— Да, конечно, — признает Оливер. — Но по крайней мере сейчас я пытаюсь вести себя прилично. Не хочу неприметно спаивать тебя, не хочу пользоваться твоей минутной слабостью, не хочу невзначай дотрагиваться до тебя, не хочу в подходящую минуту как бы неумышленно, случайно махнуть таксисту, а потом удивляться, что он вдруг остановился у моего дома и уже там без всякою насилия препроводить тебя в спальню… Вся эта обычная притворная дребедень!
Оливер к концу своего монолога повысил голос, но, заметив это, после короткой паузы заговорил тише:
— Я не буду изощряться в тактике, даже если она в конце концов пойдет мне на пользу. Я вполне сознаю, что такой демонстративный отказ от привычных приемов обольщения может восприниматься как чрезвычайно лицемерная тактика, но это не в моих правилах. Короче, если тебе приятно касаться меня, касайся, только в открытую… Если тебе действительно хочется натянуть нос Рихарду с почти сорокалетним неустойчивым алкоголиком, натягивай, но только осмысленно. С полным осознанием того, что делаешь. Не переноси свою ответственность на выпитое вино, на эту романтическую свечу на столе или на бедного таксиста… Взгляни на вещи трезво: ведь если я помашу таксисту, он отвезет нас в мою постель. Ты хочешь этого?
Хочу — и сделаю именно так. В ресторане, на виду у всех. Сначала я касаюсь кончиков его пальцев, потом сжимаю его руку. Наклонившись к нему, кладу свою горячую ладонь на его запястье, глажу его детские часики, поднимаю ладонь выше, до самого ворота его рубашки. Оливер закрывает глаза. Некоторые гости смотрят на нас. К нему ехать не могу, это я понимаю. Без своих духов, зубной щетки, чистых трусиков, очищающего молочка, ночного крема, пижамы и фемигеля — без всего этого мне не обойтись.
— В мою постель, — говорю я тихо.
Такси останавливается у нашего панельного дома.
Как я вам уже сказала, дорогие дамы, панельные дома мама сроду терпеть не может, еще когда папа был жив, она заставила его хотя бы облицевать кафелем гетинаксовый санузел. После смерти папы прежде всего решила заменить мерзкий бежевый линолеум в прихожей и кухне кирпично-охристой плиткой, а позже, скопив немного денег, вместо белых пластиковых дверей сделать деревянные. В позапрошлом году из всех комнат выбросила старые ковры, в «Баумаксе» со скидкой купила шестьдесят квадратных метров деревянного ламината образца «американская вишня», надела майку с глубоким вырезом и пошла попросить Жемлу оказать ей любезность и покрыть им наш пол… Жемла с радостью, причем безвозмездно, выполнил ее просьбу (Жемлова едва не сошла с ума), и мама наконец уже не заставляла гостей снимать обувь. В прошлом году свой реставрационный пыл она весьма смело устремила и за пределы нашей квартиры: покрасила перила вокруг лифтовой шахты, оклеила с моей помощью обоями коридор, заменила разбитый колпак на потолочной лампе и прилепила по краям ступеней оторванные прорезиненные полосы. К сожалению, даже при всех маминых стараниях вход в нашу квартиру выглядит далеко не презентабельно. Выйдя с Оливером из лифта (вечно пахнущего мочой и затхлостью), мы прямо натыкаемся на ящик для обуви семьи Жемловых, занимающий почти треть коридора; смастерил его сам Жемла, а Жемлова закрыла его красно-синей ситцевой занавеской с мотивами расцветшего дикого мака.
— Читая в каком-нибудь романе что-то вроде: «не в силах совладать со своей страстью, они стали раздеваться уже на лестничной площадке», — открывая дверь, говорю Оливеру, — я волей-неволей всегда вспоминала этот ящик для обуви…
Моя шутка чуть разрядила атмосферу.
— Не разувайся и проходи дальше, — говорю я и рукой указываю в сторону моей комнаты, — моя постель там…
Я все пытаюсь шутить, но на деле мы слегка обескуражены. К обоюдному удивлению, обнаруживаем, что даже нелицемерный подход к сексу не без сложностей. Во всяком случае даже высказанная правда пока еще не расковала меня настолько, чтобы я могла, не моргнув глазом, сказать Оливеру: «Ступай в ванну и вымой свой баклажан, я подожду тебя в спальне…»
Мы стоим на пороге моей девичьей комнаты. Вдруг я перехватываю взгляд Оливера. На полочке над моей постелью большая коллекция плюшевых игрушек: кенгуру, песик, котенок и многие другие.
— Господи, что это? — выпаливает Оливер с неподдельным ужасом. — Немедленно покажи мне свой паспорт!
— Это просто… талисманы, — говорю я растерянно и быстро убираю зверей. Чувствую себя настолько виноватой перед ними, что, несмотря на присутствие Оливера, целую кенгуренка, прося прощения.
— Мне показалось или ты его в самом деле поцеловала? — восклицает Оливер.
— Не показалось! — Я мужественно встречаю его взгляд, но при этом ужасно краснею. — Он приносит мне счастье.
— Ты целуешь эти… предметы каждый вечер? — спрашивает Оливер.
Я пристыженно киваю.
— Так это не что иное, как зависимость, — нахмурившись, заключает он.
Он считает, что мне надо лечиться. Предлагает что-то вроде альтернативной антинаркотической программы: сначала я должна буду целовать просто куски плюша.
— Чтобы не было глаз, понимаешь? — говорит он безапелляционно. — Следующая фаза — переход от плюша к постельному белью из Дамаска.
Я пытаюсь заткнуть ему рот, но Оливер всякий раз отдергивает мою руку.
— Это, конечно, трудный шаг, но, если сумеешь, все будет в ажуре.
Я прижимаюсь к нему всем телом и целую его.
— Своего сумчатого ты целовала дольше, — с упреком говорит Оливер.
Где-то к исходу ночи в полусне чувствую, как Оливер осторожно приподнимается и нежно высвобождает руку из-под моего вспотевшего затылка. Открываю глаза. В комнате уже слабый свет — за окном мало-помалу рассветает.
— Надо пойти отлить, — извинительно шепчет Оливер. — Это одно из множества неудобств секса с тем, у кого не в порядке простата.
Он деликатно отворачивает голову, чтобы не дышать на меня. Я с улыбкой киваю, подкладываю руки под голову и вытягиваюсь, как кошка. Оливер, подняв перину, смотрит на меня. На наших смуглых телах светятся белые полоски от плавок. Он садится, но, прежде чем он успевает поставить ноги на пол, я увлекаю его обратно в постель.
— Пойду пописать, — стонет он.
— Всего десять секунд, — прошу его.
Прижимаясь, мы гладим друг друга. Он ужасно горячий, кожа его хорошо пахнет и очень приятна на ощупь.
— Ваше время истекло, — говорит Оливер. Он встает и идет в ванную. Мне нравится его зад. Слушаю, как он справляет нужду, и мне почему-то весело. Я ничуть не чувствую себя виноватой — эдакой изменщицей, только что обманувшей своего парня. Кто-то из соседей за окном заводит машину. Кто-то над нами принимает душ. На первом этаже останавливается лифт, бухают двери. Все эти звуки кажутся мне милыми, близко знакомыми, дружественными. Оливер пускает воду, моет руки и приглушенно полощет водой рот. Моя улыбка — еще шире. Я уже не могу дождаться, когда он вернется. В замке гремит ключ, и сквозь застекленную дверь в комнату проникает трапеция света из прихожей. Я надеваю майку и быстро выскакиваю из постели. Слышу, как мама ставит чемодан на пол и вздыхает: она уже заметила мужские туфли. Оливер все еще полощет рот.
— Рикки? — спрашивает мама.
Голос раздраженный. Слышу, как открывается дверь ванной. Тишина.
Оливер и мама стоят, уставившись друг на друга, и молчат. Меня они вовсе не замечают. На маме темно-синий костюм, тот, в котором иногда ее принимают за бортпроводницу. Оливер стоит абсолютно голый, прикрывая свое мужское достоинство полотенцем.
— Яна?! произносит он удивленно, оторопело.
— Что ты здесь, черт возьми, делаешь? — выговаривает наконец мама.
В следующее мгновение меня осеняет:
Оливер — это Пажоут.
Глава XIII
Оливер пятится назад в ванную и запирается там.
Мама в прихожей садится на чемодан. Я подхожу обнять ее, но в эту минуту Оливер что-то кричит из-за двери, звучит это, как стон.
— Что ты сказал, Оливер? — громко спрашиваю я.
Мама насмешливо вертит головой.
— Что ты хочешь, Пажоут? — кричит она.
Слышу, как Оливер вздыхает. Потом, холодно и явственно произнося слова, он просит принести его изрядно поношенную, абсолютно немодную одежду.
У мамы лицо наливается краской.
— Вон из моей ванной, Пажоут! — кричит она. — Вон из моей жизни!
Я не узнаю ее.
— Люди меняются, мама, — шепчу я. — Развиваются.
— Плевать мне на это! — злобно шипит мама.
— Я сейчас приду к тебе, Оливер! — кричу ему.
Я хочу маму погладить, но она увертывается от меня.
— Мама?! — выкрикиваю я оторопело.
Наконец она приходит в чувство и привлекает меня к себе. Но говорить еще не может.
— Мама, — успокаиваю ее, — в самом деле, это ужасное недоразумение, какая-то дикая случайность, но здесь нет ничьей вины…
Мама не хочет даже говорить об этом. Ей, дескать, понадобится какое-то время, чтобы смириться с возникшей ситуацией, если вообще она когда-нибудь сумеет смириться. Она тяжело поднимается, идет в кухню и захлопывает за собой дверь.
Я стучу в ванную. Оливер открывает. Он удрученно сидит на краю ванны, по-прежнему прикрывая полотенцем свои причиндалы. Я целую его, но он остается безучастным.
— Sorry, — извиняюсь я шепотом. — Мама говорила, что прилетит самое раннее сегодня после обеда…
Он рассеянно натягивает на себя трусы. Я шутливо выравниваю его пенис, но на сей раз он не реагирует.
— Скажи что-нибудь! — в отчаянии прошу его. — Ну пожалуйста!
Он смотрит на меня. Обещает поразмыслить над случившимся.
Говорит, что ему нужно время, чтобы справиться с этим.
Оливер крадучись выходит из квартиры, даже не оглядываясь. Как только за ним захлопывается дверь, мама отправляется спать. Я жду целый час, не позвонит ли Оливер, но мобильник молчит. Не выдержав одиночества, звоню Ингрид и говорю, что тотчас еду к ней.
Поначалу Ингрид в шоке, но вскоре приходит в себя.
— А каково мне? — горько жалуюсь я. — Вдруг выясняется, что Оливер спал с моей мамой, но ни маму, ни Оливера, как ни странно, абсолютно не заботит, как с этим смирюсь я…
Ингрид улыбается.
— Все это давно прошло-проехало, — говорит она. — И впрямь это уже давно засохшая сперма…
Я изображаю возмущение, но тут звонит мобильник. Я бросаюсь к нему, но, увы, это Рикки. Звонит с работы. Что, спрашивает, ему купить моей матери к Рождеству?
— К Рождеству, Рикки? — повторяю я за ним в изумлении и бросаю взгляд на ухмыляющуюся Ингрид; впервые чувствую уколы совести. — Ведь только начало сентября…
Рикки объясняет, что вчера к ним поступили в магазин классные цветные футляры для «Nokia-3210», которым пользуется мама. Вот он и подумал, что я могла бы помочь ему выбрать футляр; естественно, он подарил бы ей не только футляр, а еще хотя бы светящуюся антеннку, или установил бы моторчик для вибрирующего звонка. А может, и то и другое…
Какая же я стерва!
— Фугляр — хорошая идея, Рикки, — говорю я, и у меня перехватывает дыхание. — На днях выберем вместе.
Увидимся ли мы сегодня, спрашивает он.
— Завтра, Рикки, хорошо? — говорю я. — Сегодня хочется побыть с мамой.
С Оливером, Рикки. С Оливером.
Рикки немного настаивает, но потом соглашается. Завтра принесет мне показать эти футляры.
— Он иногда такой хороший! — говорю Ингрид, как только отключаю мобильник.
Сегодня уже я нервозно хожу по ее гарсоньерке. Ингрид смотрит на меня, сидя на стуле, точно так, как вчера я смотрела на нее: наполовину с пониманием, наполовину с иронией.
— Кто? Рикки или Оливер?
— Рикки… Чувствую себя последней дрянью.
— Почему ты должна чувствовать себя последней дрянью? — говорит Ингрид несколько машинально.
— Ну почему, как ты думаешь? Изменяю ему, а он думает о рождественских подарках для моей мамы…
Бросаю взгляд на мобильник: дисплей темный.
— Не волнуйся, они нам тоже изменяют — и не раз, — говорит Ингрид. — Поверь, они обманывают нас так часто, что за всю жизнь мы не успеваем с ними расквитаться…
Она говорит с таким жаром и таким знанием дела, что меня вдруг посещает мысль, а не было ли у нее чего-нибудь подобного с Рикки.
— Может, ты знаешь о Рикки то, чего я не знаю? — спрашиваю ее, словно пародируя кадр из какого-то фильма.
— Может, и так, — отвечает Ингрид.
Обалдеть! Я замираю.
— Может, и так?!
Ингрид пожимает плечами.
— Однажды он подкатился было ко мне, — говорит она. Чувствуется, что она взвешивает каждое слово. — А конкретно, в прошлом году, на Сильвестра[49], когда я ночевала у вас.
— У нас?! — восклицаю я. — В то время как я спала, он?.. Так вы?..
Наверное, это мне снится.
— Так он, — говорит Ингрид с упором. — Но не воображай себе бог знает что; просто говорил, как ужасно нравилась ему Джулия Робертс в фильме «Му best friend's wedding»[50], и пытался поцеловать меня.
— Поцеловать?!
В каком мире мы живем? Мы обманываем и нас обманывают.
— И не только это. Он даже сунул мне руку под трусики…
Тут уж я вынуждена сесть. Мой оторопелый взгляд все-таки приводит Ингрид в смущение.
— Конечно, я выдернула его руку, — защищается она. — Совершенно ничего не было.
Рикки, ты подонок!
Ингрид наклоняется ко мне, берет мою правую руку и засовывает ее за край своих трусиков. Подушечками пальцев чувствую ее волосики. Это ничуть не возбуждает меня, но и не вызывает отвращения.
— Твою руку я бы там оставила… — шепчет Ингрид и озорно подергивает кончиком языка. — Я сказала это лишь для того, чтобы помочь тебе сбросить с себя бремя моральных упреков.
Смотрю на нее с подозрением. Она встречает мой взгляд со спокойной улыбкой. То ли и вправду у нее с Рикки ничего не было, то ли она такая же хорошая актриса, как и Джулия Робертс.
Мобильник! Ингрид не пускает меня. Наконец я высвобождаю свою руку и хватаю названивающий аппарат: нет на свете другого номера, который я бы так хорошо знала, как этот.
— Ничего не говори! Где ты? — даже не здороваясь, выпаливаю я Оливеру. — Еду к тебе! Мне необходимо тебя видеть!
— Чтобы продолжать все в том же духе… — вполголоса говорит Ингрид.
Оливер звонит из дому. Голос надломленный, глухой. Приглашение на обед отвергает: поздно завтракал, еще не голоден. В таком случае, предлагаю я, можно хотя бы выпить кофе с пончиками в «Dunkin' Donuts»… Нет, отвечает, для такого заведения он выглядит сегодня слишком старым.
Наконец до меня доходит: поначалу я думала, что он надломлен мучительным утренним инцидентом и что ему, кроме прочего, претит моя прямая родственная связь с его прежней любовью. Но оказалось другое. Сегодня утром Оливер, как никогда раньше, болезненно осознал, что он в том возрасте, когда мужчины неотвратимо заглядываются на дочек своих бывших любовниц. Вся эта утренняя сцена была для него досадным напоминанием о наступающей старости. Оливер моих рассуждений вовсе не опровергает.
— Кроме того, мне крайне неприятно, — дополняет он меня, — что я влюбился в дочь личного свидетеля моих преждевременных эякуляций и последующих…
— Избавь меня от подробностей, — одергиваю его. — Надень зубной протез, я еду к тебе.
Над постелью в Оливеровой, неожиданно уютной гарсоньерке в Нуслях[51] (я ожидала увидеть непременный богемный бардак, но у Оливера в основном даже педантичный порядок) висит одна большая реклама сигарет Marlboro — Marlboro Country. Вы наверняка знаете ее: широкая равнина, залитая мягким светом заходящего солнца, дикие лошади, улыбающиеся загорелые ковбои в джинсах и клетчатых рубахах — и внизу следующий текст:
This is the place where some men do what others only dream about. (Здесь мужчины делают то, о чем другие мужчины только мечтают.)
Я лежу, положив голову на Оливерову грудь. Оливер дышит мне в волосы и двумя пальцами нежно гладит мою спину. Мне замечательно.
Звонит мой мобильник. По звуку узнаю, что это Рикки, и выключаю его. Оливер буквально пронизывает меня взглядом.
— Это был тот парень? — спрашивает он.
Я киваю.
— Если сейчас скажу, что я сочувствую ему, — вслух размышляет Оливер, — это будет — причем говорю тебе вполне искренне — еще большая моральная гнусность, чем если бы я, например, утверждал, что это мне по барабану.
Я недовольно ерзаю. И слышать не хочу ничего подобного, пусть это сто раз правда.
— Стало быть, абсолютное равнодушие в данном случае более морально, — заключает Оливер.
Я языком пробую его кожу и причмокиваю. Люблю его кожу!
— Давай поговорим лучше о маме, — прошу я.
— У мамы есть Лаура, — говорит Оливер. — Лаура рубит мясо. Лаура, ты делаешь это лучше, чем мама!
— Перестань!
Я хлопаю его ладонью по груди, а потом мы долго целуемся.
— Мы должны принимать это, как взрослые люди, — предлагаю я. — Давай позвоним маме и…
— Взрослые люди в постели, полной плюшевых талисманов? — говорит Оливер.
Но после обеда мы действительно звоним ей.
— Привет, — говорю я осторожно. — Надеюсь, мы не разбудили тебя?
— Мы? — Маме сначала невдомек. — Ах, вот оно что…
Ее голос мгновенно скисает: нет, нет, она уже давно встала.
— Дай мне ее, — неожиданно говорит Оливер.
Он нервничает, но вид у него вполне решительный. Мне это нравится. Я передаю ему телефон, беру его за руку, он крепко сжимает мою.
— Привет, это я, — говорит он маме.
Мама молчит.
— А что если нам, Яна, где-нибудь спокойно поговорить? — не сдается Оливер. — Втроем? Предположим, завтра?
В ответ — ни звука.
— Прошу тебя, — добавляет Оливер.
— Пажоут, — наконец слышу маму, — будь любезен, передай мобильник моей дочери.
Оливер пожимает плечами и передает мне аппарат.
— Мама, пойми, — начинаю я, — я влюбилась…
— Поздравляю.
Я чувствую, как мама усмехается.
— Мама, я не хочу и даже не могу что-то делать наперекор тебе! — кричу я в отчаянии.
— Но что ты от меня хочешь?! — кричит мама в ответ. — Чтобы я вас с Пажоутом благословила?!
— Чтобы ты постаралась нас понять!
Я слышу ее дыхание.
— Мама?
Она делает затяжной, глубокий вздох. Мне кажется, что этот единственный вздох вобрал всю ее жизнь: все разочарования, смерти, разрывы.
— Ну что ж, — говорит она безрадостно. — Вы хотите встретиться. Где?
Я предлагаю кафе «Лувр» на Национальном проспекте — знаю, она любит там бывать. Предположим, завтра в час?
— Хорошо, — соглашается она, чуть повременив. — Но попроси этого человека не надевать кроссовок…
Глава XIV
В воскресенье, уже в половине первого, мы сидим с Оливером в «Лувре» и ждем маму. Оба нервничаем, Оливер даже опрокидывает стакан минералки.
Мама появляется в пять минут второго. Выглядит превосходно. Она озирается — я машу ей рукой. Она уверенно проходит между столами. Некоторые мужчины провожают ее взглядом. Оливер встает.
— Здравствуй, мама, — говорю я торжественно. — Разреши мне представить своего друга Оливера. Оливер, это моя мама. Познакомьтесь.
— Мы уже немного знакомы, — говорит Оливер с некоторой неуверенностью — таким я не знаю его. — Здравствуй, Яна.
Мама протягивает ему руку, но я хорошо вижу, как она отводит взгляд в сторону.
— Оливер? — говорит она. — Оливер? Ну что ж, отлично, постараюсь запомнить.
Не принимая во внимание стул, предложенный ей Оливером, она садится рядом со мной.
Мы озадаченно смотрим на нее.
— Ну и что? — ухмыляется она. — Ждете, что я скажу «мне приятно» и так далее?
Наступает тишина, долгая и тягостная. Я беру ложку и стучу по рюмке.
— Послушайте, — говорю я. — Я хочу вам кое-что сказать.
Мама вздыхает.
— Я хочу вам сказать, что я люблю вас, — произношу я прочувствованно. — Обоих — вы понимаете?
К сожалению, в ту же минуту подходит молодой официант с меню, и мои слова звучат совсем не так, как мне хотелось бы.
— Подать какой-нибудь аперитив? — спрашивает он.
Мы все молчим. Официант вопросительно поднимает брови.
— Вы что-нибудь выпьете? – обращается Оливер ко мне и к маме.
— У вас есть диазепам? — спрашивает мама официанта и подмигивает ему. — Или какой-нибудь другой антидепрессант?
Официант заметно краснеет.
— Мама… — прошу я.
Мы обмениваемся взглядами.
— Пардон, пардон, — говорит мама. — Сухой мартини, пожалуйста.
— И мне тоже, — роняет Оливер.
Официант признательно кивает.
— А для дочери? — спрашивает он Оливера.
Я единственная, кто смеется.
— Извините, я на минуту, — говорит мама.
Она берет салфетку, которая лежит у нее на коленях, неторопливо складывает ее и удаляется в сторону туалетов.
Оливер прямо валится ко мне в объятия. Я глажу ему лоб и щеки.
Мама возвращается, вид у нее более спокойный; она чуть заметно улыбается и даже бросает беглый взгляд на Оливера.
Не знай я ее, я бы сказала, что в туалете она ширнулась.
Официант приносит заказанный аперитив, и мы без особого интереса диктуем ему выбранные блюда. Как только он удаляется, я поднимаю рюмку.
— За нашу встречу!
— Лучше за здоровье, — поправляет меня мама.
— За здоровье, — говорит Оливер.
Мартини приятно охлажден.
— О'кей, Оливер, — произносит мама, кивая головой. — Мы не виделись без малого двадцать лет. Поэтому я с удовольствием послушала бы, как ты жил все эти годы…
В ее голосе пока нет иронии. Я глажу ее по запястью руки.
— Здесь, при детях? — говорит Оливер с притворной заботливостью, показывая на меня.
Мама снисходительно улыбается:
— Они уже большие. Приступай.
Оливер разводит руками: трудно вместить двадцать лет жизни в несколько фраз — означает его жест. Но потом он кивает.
— Хорошо. Сколько у меня для этого времени? — спрашивает он. — И в каком жанре я должен повествовать?
— В жанре социальной драмы, — с готовностью подсказывает мама. — Бедность, плохое питание, убогая одежда… Герой рассказа без средств к существованию, в театр ходит в кроссовках, носит детские часики… Тебе же знакомы такие персонажи…
Оливер поначалу смеется. Наконец я могу представить их вместе — и чувствую при этом легкий прилив ревности.
— Такой жанр напрашивается сам собой, — допускает Оливер. — Но лично я скорее ратовал бы за гротеск. В моем случае вполне подошел бы и жанр ужасов.
— Что ж, постарайся нас удивить, — говорит мама.
Оливер начинает рассказывать. Он серьезен, даже излишне краток и вовсе не придает своей биографии какой-то исключительности (извиняется передо мной: дескать, мне уже говорил об этом, не хочет, чтобы я скучала): абсурдное изучение социалистической экономии, жуткая военная служба в Жатце[52], две скромные должности в одном ведомстве, шестилетний бездетный брак, развод, короткая карьера после революции 1989 года в рядах Гражданского форума[53], сейчас — вот уже восемь лет — он работает в сравнительно известном рекламном агентстве. Работа с точки зрения морали спорная, но прилично оплачиваемая, подчас даже забавная. Он замолчал.
— Почему вы развелись? — спрашиваю я с живым интересом.
Оливер окидывает меня взглядом.
— Она задавала мне невозможные вопросы, — отвечает он. — И была ужасно ребячлива. Например когда я сидел в ванне, она входила в ванную комнату и топила все мои пароходики…
Я смеюсь.
— Вуди Аллен, — просвещает меня мама холодно. — Возможно, тебе неплохо было бы знать, что большинство мыслей Пажоута — заимствованные цитаты…
Оливер цепенеет.
Мама извиняется.
И все в таком духе. Расходимся мы чуть позже половины второго с чувством немалой горечи. Я иду с мамой домой; Оливер решает прогуляться.
Дома я расспрашиваю маму про Америку, мне ясно, что тема «Оливер» в оставшиеся часы этого уик-энда закрыта. Она описывает мне житье-бытье у Стива в Чикаго, а потом мы обсуждаем серьезные и комичные последствия его брачного предложения. Мы уже снова хихикаем, как две близкие подружки.
Когда вечером снизу звонит Рикки, в первую минуту я даже не представляю, кто бы это мог быть. Возможно, милые дамы, это вам покажется невероятным, но я и вправду забыла о нем.
Я виновато смотрю на маму и иду открывать.
— Hi, Jana! — горланит Рикки. — How are you? How was your trip to Chicago?[54]
Его произношение кажется мне еще более катастрофичным, чем когда-либо. Он тут же начинает разуваться, хотя мы раз сто говорили ему, что гости у нас обуви не снимают.
— I'm fine[55], — говорит мама с грустной улыбкой; я замечаю, что взгляд ее устремлен на кричаще-узорчатые носки Рикки. — Nice socks[56], — говорит она, и мы обе смеемся. Рикки, немного поколебавшись, присоединяется к нам. Подойдя к маме, целует ее в щеку. Меня целует, естественно, в губы, а когда мама отворачивается, проводит рукой по моей груди. В эту минуту звонит мой мобильник, лежащий на холодильнике. Даже не глядя на дисплей, совершенно точно знаю, что это Оливер.
Не спрашивайте, милые дамы, как я могла это знать, я и объяснить бы вам не сумела, но я это знала. С абсолютной точностью.
— Не помешал? — спрашивает Оливер.
Я нервно смеюсь.
— Он там? — тотчас догадывается Оливер. — Рихард?
— Ну, как-то… увы… да.
Слышу, как Оливер сглатывает воздух. Мама озабоченно смотрит на меня. Рикки стоит спиной ко мне, неловко изображая интерес к правилам какого-то дурацкого конкурса, указанным на коробке корнфлекса. Потом умышленно переходит на другое, более узкое место, между столом и кухонными шкафами, чтобы я не смогла пройти с телефоном туда, откуда меня не будет слышно.
— Видишь ли, я решительно не хотел бы, чтобы… — запинается Оливер.
— Я понимаю, — говорю я. — Не надо ничего объяснять.
— Батюшки светы, я кажется ревную! — восклицает Оливер, словно удивляясь. — У меня да-же разболелся живот. Просто смешно… Все во мне цепенеет — представляешь? Просто абсурд какой-то!
— Но это же… полное идиотство, пойми! — говорю я в отчаянии. — Это абсолютная глупость, поверь мне!
Рикки оборачивается и, не таясь, смотрит на меня.
— Бог мой! — говорит Оливер. — Он у вас останется ночевать?
Я со всей силой прижимаю телефон к уху и смотрю на носки Рикки.
— Не знаю. Но в самом деле это… не имеет никакого значения, ведь я уже… Я могу позвонить тебе позже? — спрашиваю.
— Разумеется. То есть что значит позже? — мучается Оливер. — Я хочу сказать, что это… какая-то дикая ситуация. Черт знает что!
Мне его жалко. Хочется успокоить его. Хочется поцеловать.
— Я позвоню тебе очень скоро, — говорю настоятельно. — Через десять минут, хорошо? Прошу тебя, не психуй!
— О'кей, — неуверенно говорит Оливер.
Я отключаюсь.
— Кто хочет кофе? — невозмутимо говорит мама.
— Я — да, — утвердительно кивает Рикки. — Это была Ингрид? — спрашивает он с подозрением.
— She is crazy[57], — добавляет мама. — Я имею в виду Ингрид…
Она тут же поворачивается ко мне.
Я воскрешаю в себе воспоминание о том, что Ингрид рассказывала мне о прошлогоднем Сильвестре.
— Нет, — отвечаю я раздраженно. — Это была не Ингрид.
Рикки выжидает, но я молчу. В воздухе запахло скандалом, но я и пальцем не шевельнула, чтобы предотвратить его.
Рикки смотрит на маму, словно ждет, что она объяснит ему происходящее, но мама отвечает ему лишь равнодушным взглядом.
— Кто звонил? — вертит головой Рикки.
Кто звонил? Господи, кто мне звонил? Я вздыхаю — и вдруг все предшествующие треволнения как рукой снимает.
Я абсолютно спокойна.
— Оливер, — выговариваю я.
Мама удивленно глядит на меня. Рикки открывает рот.
— Оливер?! — срывается с его губ. — Тот… что был с нами на отдыхе?
В его голосе еще нет ревности, пока только удивление. Все слишком неожиданно, слишком свежо. У Рикки не укладывается это в голове.
— Почему он звонит тебе? — спрашивает он прямодушно. — Ведь он старый?.. Или, может, ты?..
В его голосе уже сомнение. Он ищет в моих глазах заверение, что это неправда, и не находит его.
— Он не старый, Рикки, — говорю я грустно и торжественно одновременно. — Я люблю его.
Он испуганно, почти по-детски моргает. Его мир просто-напросто рушится. Нет, не может быть! Там у него в портфеле футляры для «Nokia-3210», которые нравятся моей маме! Он хотел подарить ей футляр к Рождеству, он ведь говорил со мной об этом! Мы должны были вместе выбрать его! Чайник начинает свистеть. Мама заливает кофе в подготовленные чашки, ставит их на поднос и молча относит в гостиную. Рикки силится подобрать слова, но лишь безмолвно открывает рот. Мне, разумеется, жалко его, но вместе с тем вся эта сцена уже кажется комичной.
— Как же так? — восклицает наконец Рикки.
Я пожимаю плечами.
Это самый искренний ответ, который я могу дать.
— А я… ведь я…
— Это не твоя вина, Рикки, — говорю я тихо, точно героиня из фильма.
— Ведь я уже два года коплю на квартиру! — выпаливает Рикки в приливе несправедливой обиды. — С Лисой-плутовкой!
Глава XV
Да, это так. Год назад Рикки тайком оформил вклад на строительство квартиры и ежемесячно перечислял из своих сбережений три тысячи крон, за каждого из нас по полторы тысячи. Предполагалось, что это будет сюрприз! Уже через четыре года он думал ошеломить меня накопленным целевым взносом, так же как и возможностью легкого получения кредита. Я только представила себе, как ему пришлось превозмогать себя, чтобы не проговориться. Задним числом стало ясно, почему всякий раз, когда я негодовала по поводу роста цен на пражские квартиры, он так загадочно улыбался.
И зачем ему все это было нужно? (Когда я вспоминаю эту загадочную улыбку Рикки, всегда чувствую себя виноватой.)
Поначалу мне кажется, что наш разрыв Рикки переносит мужественно: он не ноет, не канючит, не звонит. Я целые сутки провожу с Оливером, и чувства Рикки для меня далеко не самое главное на свете, и все-таки порой ловлю себя на том, что, бросая взгляд на темный дисплей мобильника, с неудовольствием думаю: как это он не звонит? Как это он ничего не обещает и ничего не вымаливает? Меня почти задевает, что он так мало страдает из-за меня.
На четвертый день Рикки присылает мне эсэмэску:
Лечу на три педели в Таиланд. Мне нужно забыть. Желаю всего хорошего.
Это «нужно забыть», на мой вкус, звучит несколько патетично, но, с другой стороны, непривычно сжатый, как бы мужской стиль Риккиного сообщения мне по душе.
— Стало быть, в Таиланд из-за Лисы-плутовки… — комментирует Оливер. — Знает ли министр финансов, что он дает денежную дотацию не на проживание, а на тайских проституток? Государственное пособие в четыре с половиной тысячи, по тайским меркам, это минимально две, а то и три путаны…
Применительно к Рикки мне это кажется бестактным и циничным.
— Откуда ты знаешь? — говорю я наступательно, но Оливер лишь улыбается.
— Дядя Бом построил дом… — вместо ответа напевает Оливер куплет из рекламы, и мы оба смеемся.
— Я окончательно порвала с Рикки Кабичеком, — сообщаю я в среду утром всем «разумницам» в редакции, разумеется, это известие дня. Романа сморкается, Зденька с Властой таращатся на меня — глаз оторвать не могут. Мирек до поры до времени доволен (по крайней мере до той минуты, пока не узнает дальнейших подробностей). Тесаржова лишь кисло усмехается: прошу вас, перестаньте болтать, означает ее взгляд, сегодня сдача номера.
Я возвращаюсь к компьютеру и просматриваю полученные материалы: Что терзает хрупкую душу принцессы Стефании? — Ольга из Клатов[58]: Никогда не прекращу борьбу с излишним весом! — «Несмотря на финансовые затруднения, кредит я выплачу», — говорит Збынек Мерунка. — Неуплата алиментов — преступное деяние. — Почему на свадьбе Б. Питта отсутствовала невестина мать Нэнси? — Лающий кашель маленького Петржика ужаснул родителей. Моя шестнадцатилетняя дочь влюбилась, но отказалась говорить со мной о сексе. — Как оставаться молодым. — Сколько зарабатывают будущие королевы? — Воскресный рецепт: фасолевый салат с шампиньонами. — Пациентку долго мучила киста на яичнике. — У Камиллы, подруги Чарльза, нервное расстройство. — Марцела Бржезинова вместо мужчин меняет прически. — Эксклюзивно: афиша Кассандры. Для себя я отбираю два очень жизненных сюжета, которые звучат так: Вместо барменши шлюха! и Я отбила любовника у своего мужа! Я особенно не корплю над ними и освобождаюсь задолго до обеда.
— Товарищ астролог прислал новые гороскопы?! — спрашиваю я Зденьку (товарищ — намек на положительную люстрационную аттестацию астролога). Зденька испуганно поворачивается к Тесаржовой, а потом неприметно быстро кивает.
— Вот они, — говорит Власта.
С весьма многозначительным видом она протягивает мне текст едва ли на одну страничку.
Я подхожу с ним к столу и прочитываю свой гороскоп на следующую неделю:
Похоже, что судьба затеяла против вас долговременное наступление, единственная цель которого — уничтожить вас. Не отчаивайтесь — как всегда, вы сумеете сломить нерасположение судьбы. Вооружитесь терпением и начните хитроумное контрнаступление.
— Н-да, — разочарованно возвращаю бумагу Власте. Что ж, спасибо.
Когда минуту спустя я иду в туалет, Зденька выбегает за мной в коридор.
— Этот идиот опять прислал их поздно, — шепчет она мне. — Пришлось нам с Властой самим написать…
Мы тихонько хихикаем, думая о всех наших читательницах.
На следующее утро стою перед Оливеровым кухонным столом в его хлопчатобумажной майке на голом теле (майка немного забрызгана моей любимой ментоловой зубной пастой) и жарю блины на завтрак. Оливер, прижавшись к моей спине, гладит мне грудь. Писк мобильника сообщает о приходе СМС-сообщения.
Здесь тучи шлюх, но ты вне конкуренции: всех переплюнешь. Fuck you, bitch! — пишет мне Рикки.
Я смотрю на дисплей, потом показываю его Оливеру.
— Nokia, — говорит он. — Connecting people…[59]
У меня подрагивает подбородок — и я волей-неволей начинаю реветь. Масло брызжет и шипит. Оливер отставляет сковородку с газа, отводит меня к столу напротив и сажает к себе на колени. Чувствую давление его пениса.
— В общем недурной знак, что он написал это, — говорит он медленно, не переставая меня ласкать. — Для нас обоих. Он молодец, что наконец сбросил маску лицемерной мужской надломленности. И хорошо, что он вульгарен. Это окончательно избавит тебя от угрызений совести, а меня — от опасений, что ты вдруг растаешь…
Я беру желтую бумажную салфетку и сморкаюсь. Чтобы бросить скомканную салфетку в пепельницу на столе, я чуть приподнимаюсь с его колен и вдруг ощущаю, как Оливер медленно проникает в меня.
— Теперь боюсь только одного, — говорит Оливер хриплым голосом, — что я влюбился…
Я впервые слышу, как он произносит это слово.
— Тьфу-тьфу! Постучи по дереву! — говорю я, млея от счастья.
— Да, похоже на то! — наигранно ужасается Оливер. — Все признаки налицо!
Я отродясь ненавижу мыть окна.
В выходной день мою бабушкины окна и пою, бесстрашно стоя на парапете. Бабушка осеняет себя крестным знамением. На мне только трусики и майка — на дворе бабье лето. Солнце припекает мне плечи и расцвечивает белую штукатурку противоположного дома. Небо восхитительно голубое, листва в парке уже желтеет. Мальчишки внизу на тротуаре машут мне, и меня радует, что им нравится моя попка. «Мистер Мускул» приятно пахнет. Окна блестят.
Мне кажется, что мытье окон — классная работа.
Какая жалость, что у бабушки их так мало.
— Есть ли у тебя какой парень, Лаура? — язвительно спрашивает бабушка, когда мы вместе с ней пьем жиденький кофе.
— Есть, бабушка! Зовут его Оливер!
— Это хорошо, — говорит бабушка. — Человеку нельзя быть одному.
Я не помню того времени, когда радость жизни я ощущала бы в полную силу. Разве что в детстве, но с той поры радость жизни мне всякий раз приходилось как бы постигать. Начиная с папиной смерти мне всегда надо было убеждать себя, что та или иная переживаемая минута приятна, прекрасна или даже неповторима и не сознавать этого было бы просто кощунством. Поэтому я старалась воспринимать все в розовом свете. А если мне не удавалось замечать красоту жизни самой, помогали другие: взгляни, Лаура, на эти великолепные, зрелые крапчатые абрикосы! — Господи, Лаура, какое нынче удивительно синее море! — Это был восхитительный вечер, не правда ли, Лаура?
Если у меня хорошее настроение, я готова со всем этим согласиться: да, абрикосы и впрямь совсем неплохие… Да, в общем, это был приятный вечер… Но если я не в духе, то, кивнув механически, про себя думаю: да пошли вы в задницу со своими крапчатыми абрикосами!
А случалось, так называемая радость жизни нисходила на меня только спустя время — уже в воспоминаниях. В воспоминаниях моя жизнь, по сути, прекрасна: на прошлой неделе я видела великолепный театральный спектакль, в позапрошлом году у меня была сказочная поездка в Америку, а прошлой осенью — увлекательный поход на Шумаву[60]. В прошлом… Но одно дело — настоящее, а другое — прошлое. Для меня это совершенно разные вещи. В настоящем Америка была сплошным стрессом, во время того спектакля мне было нестерпимо душно (ко всему еще, сзади меня сидели какие-то придурки), а на Шумаве меня дико жрали комары и при ходьбе трусики больно врезались в пах.
И все в таком духе.
С будущим дело обстояло не лучшим образом. Я, например, мечтала о том, как однажды отлично уберу квартиру, куплю пармезан и красное итальянское вино, сварю spagetti frutti di mare и позову на них друзей Рихарда. Я буду раскованно мила и остроумна, в домашних джинсах, под рубашкой — никакого бюстгальтера, и Рихардовы друзья будут ему жутко завидовать. Но когда я осуществила свою мечту, все пошло шиворот-навыворот: я то и дело бегала в кухню, мыла рюмки, вытирала кетчуп с пола и ужасно бесилась, что все пялятся на мою грудь и в гостиной стряхивают пепел прямо на ковер…
Или я мечтаю как-нибудь после обеда смыться из редакции и вторую половину дня провести как молодая эмансипированная женщина: купить «ELLE» или «Cosmopolitan», сесть в каком-нибудь уютном кафе, заказать cappuccino, закинуть ногу за ногу и читать, задумчиво поглядывая сквозь витрину на спешащую толпу… А потом свою мечту реализую: любимая кофейня безнадежно набита, и я три четверти часа ищу другую; когда наконец какую-то (куда худшую) нахожу, то узнаю, что cappuccino мне не сделают, ибо у них минуту назад засорился жиклёр для подогрева молока. Что ж, заказываю себе большой espresso, но придурошный официант по ошибке приносит маленький; я выпиваю его за пять минут и не знаю, куда девать руки. Проходящие мимо люди неприязненно пялятся на меня сквозь витрину. Я пытаюсь читать, но текст едва воспринимаю и потому поспешно расплачиваюсь и еду домой или даже возвращаюсь в редакцию…
Оливер все перевернул.
В первые недели минуты, проведенные с Оливером, подчас прекраснее, чем рисуются потом в воспоминаниях.
Завтрашние дни с Оливером всякий раз превосходят сегодняшние представления.
Мы встречаемся после работы в его гарсоньерке.
НАПОЛНЯЮ ВАННУ, — пишет он мне эсэмэску, если приходит домой раньше меня.
ОСТАЛОСЬ ЛИШЬ ТРИСТА МЕТРОВ, — отвечаю я ему на ходу.
Мы купаемся, потом отдаемся любви; иногда наоборот. Вечером читаем или идем куда-нибудь ужинать. Часто ходим в театр, в кино; как только в зале гаснет свет, я протягиваю Оливеру очки, и он бумажным платком вытирает мне стекла — такой уж у нас ритуал. Он надевает мне очки и долго смотрит на мой профиль (знает прекрасно, что это нервирует меня). Я кладу голову ему на плечо, просовываю ладонь меж его колен, и он сжимает ее. Утром мы вместе чистим зубы и вместе завтракаем. В выходные посещаем музеи и галереи: тащимся в хвосте толпы иностранных туристов, перешептываемся и держимся за руки (я всегда именно так все и представляла себе). Иногда на Жофине берем лодку и два часа гребем вокруг Стрелецкого острова. Собираем каштаны. В следующую субботу на Оливеровой старой «шкоде» едем в зоологический сад, в воскресенье исследуем пригороды Праги.
— Смотри, какие прекрасные желтые груши! — киваю я ему, когда мы делаем покупки в супермаркете «Delvita». — Чувствуешь, как они пахнут?
Оливер покупает два кило.
Мы принадлежим друг другу. Я люблю его.
Мама уже не в силах смотреть на мою любовь к Пажоуту и в начале октября снова летит в Чикаго к Стиву.
Когда на лестничной площадке я сообщаю эту новость Жемле (о готовящейся свадьбе лучше умолчать), он воспринимает ее едва ли не ревниво.
— Опять? — качает он головой. — Ведь она только что была там…
В руках у него покупки, выглядит он устало. Разуваясь, садится на обувной ящик. Я снова замечаю, что у него довольно красивые глаза — только какой толк от таких красивых глаз, если они смотрят на вас из груды сала.
— Как ваша жена? — заставляю себя задать светский вопрос.
— Ах, — машет рукой Жемла, — все хворает… Как-то тревожно…
Мне даже жалко его.
Свадьба будет 10 декабря, пишет мама.
— Твоя первая любовь в декабре выходит замуж сообщаю я Оливеру.
Мы оба улыбаемся.
Прага, 20 января 2000
Дорогая Лаура.
Любовь моя, не перепутать бы мне дату в заглавии, ведь и это письмо (как и два предыдущих) было написано еще в начале месяца, хотя срок приема рекламы только двадцатое. Но всякий раз подачу письма в «Ренкар»[61] стараюсь оттянуть на день или на два (тамошние секретарши надо мной даже подтрунивают), чтобы несколько продлить надежду: а вдруг ты отзовешься, но пока надеюсь впустую. Твое молчание убивает еще и потому, что дает повод ко множеству самых мучительных домыслов. Быть может, ты еще не наткнулась на мои письма, хотя каждый месяц они заполняют в вагонах более сотни метров? Или ты их читала, но решила, что лучшим ответом будет презрительное молчание? Но что ты презираешь? Мою любовь к тебе? Ну что делать, если мне ничего не остается, как продолжать эту весьма дорогостоящую рекламную кампанию, хотя даже проверить ее эффективность у меня нет возможности. Правда, по городу ходит молва об этой затее, и, казалось бы, она вполне успешна, однако ты в качестве решающей целевой группы молчишь. «Пошлю» тебе еще пару-тройку писем и увидим: то ли моя назойливая реклама наконец возымеет действие, проникнет тебе под кожу, и я сумею свою продукцию (= мою любовь) продать, или мне не повезет, и фирма (= я) потерпит крах. Такова жизнь в условиях свободных рыночных отношений.
Сейчас мне вспомнился один американский фильм, который мы когда-то вместе смотрели (название, увы, я забыл, но ясно помню, что после кино мы зашли на пару рюмок в «Блатничку» и встретили там Ингрид и Губерта). Так вот, в фильме есть сцена, где известный и вечно спешащий куда-то голливудский продюсер решает дать молодому начинающему сценаристу шанс — на ходу уделяет ему одну-единственную минуту, в течение которой сценарист должен убедить продюсера в том, что его сценарий прекрасен… Я в более выгодном положении: на то, чтобы убедить тебя, каждый месяц мне отводится примерно шестьдесят строк (у НЕГО же целые дни и целые ночи…).
Если ты два предыдущих письма не читала, так знай, в них я пытался воздействовать на тебя трогательными воспоминаниями: воскресные утра у меня дома, свежие блины на завтрак, отпуск в Хорватии, на Канарах и так далее, помнишь? Теперь хочу ударить по тебе из более крупного оружия — поэзией. (Да, я стал читать стихи, кто бы мог подумать!) Недавно я наткнулся на «Любовное письмо» Ортена[62], в котором содержится много такого, ради чего я все это делаю… Вот оно.
- Прозрачно лишь рассветное сиянье
- Настанет время, ты устанешь ждать
- Вдали воспоминанье потеряешь
- Растает образ на изнанке век
- У сердца моего нет сил летать
- Его движенье — суетливый бег
- В вечерний час придет к тебе посланье
- Ты на конверте почерк мой узнаешь
- Задумаешься — с прошлым жаль прощаться
- Лишь на закате так прекрасна тьма
- Ты станешь вдруг и старой и унылой
- И слезы будешь лить пока не обратятся
- К тебе мои незрячие глаза
- И ты поймешь: в нас чувство не остыло[63]
Мы оба хорошо знаем, что реклама — надушенная падаль и тому подобное, но верь мне: в данном случае это совсем другое. Стихи болезненно зацепили меня и в последнее время — частые мои «гости». Это отнюдь не слоган, который я выбрал бы с циничной верой в его действенность. Ничего не продаю тебе, но от всей души дарую. Люблю тебя. Очень прошу — вернись.
Оливер
Глава XVI
— Я хотел бы наконец познакомить тебя с Губертом, — предлагает мне Оливер в один из октябрьских вечеров спустя несколько дней после отлета мамы к Стиву. Мы сидим у нас в гостиной и как раз открываем вторую бутылку чилийского красного вина.
В этом слегка подчеркнутом «наконец» кроется заметный укор: Оливер как бы намекает, что к знакомству с Губертом я до сих пор не проявила достаточно пылкого интереса или даже сопротивлялась встрече с его лучшим другом.
— Хорошо, — говорю я, как можно радостнее, — так познакомь меня…
Но Оливеру этого мало.
— Люди склонны подчас недооценивать Губерта, — предупредительно говорит он. — Придают большое значение первому впечатлению, которое, как известно, часто обманчиво…
Я делаю такой вид, словно недооценивать Губерта — самая последняя подлость, которая только могла прийти мне в голову.
— Но стоит узнать Губерта ближе, как обычно выясняется, что это, без всякого преувеличения, незаурядная личность, — продолжает Оливер. — Он потрясающе начитан, на редкость интеллигентен и, сверх того, невероятно забавен.
В голосе у Оливера слышится какая-то загадочная надтреснутость, тогда еще мне непонятная.
— Выходит, он что-то среднее между Болеком Поливкой[64] и далай-ламой? — спрашиваю я с улыбкой.
Оливер по-прежнему серьезен. Чуть помедлив, говорит, что хотя и не совсем понимает причину моей неприязни к Губерту, но с годами стал считать немаловажным, когда его подруга хотя бы отдает должное его приятелю, если уж почему-то не может его любить. Вид у него мрачный.
Я беру его за руку.
— Оливер! — говорю я. — Послушай меня. Я в самом деле с радостью встречусь с твоим другом. Ты возбудил мое любопытство. Я даже хочу как можно скорее познакомиться с Губертом. И постараюсь его полюбить.
Это успокаивает его.
— Хорошо, — говорит он. — В пятницу Губерт устраивает небольшую вечеринку — только для нескольких друзей… Тогда в пятницу, да?
Я мигом соглашаюсь, и мне сразу приходит в голову мысль.
— А что, если мне пригласить свою лучшую подругу?
Оливер явно огорошен, но ему ничего не остается, как кивнуть.
В пятницу с самого начала все идет кувырком.
Оливер, слегка раздраженный, приходит с работы только в полвосьмого и сообщает мне, что вечеринка назначена на семь, поэтому надо поторопиться, чего я терпеть не могу. Я еще даже не одета. Быстро надеваю черные лодочки, серый брючный костюм, а к нему черную рубашку с большим остроугольным воротом; стоя в прихожей перед зеркалом (в руке три красные герберы для Губертовой жены), я вполне довольна собой, но Оливер мой наряд считает неуместно торжественным. Сам он не утруждает себя переодеванием: на нем зеленые вельветовые штаны с вытянутыми коленями и черный свитер с пропотевшими подмышками.
— Мне что, переодеться? — задаю ему встречный вопрос.
— Сойдет, — говорит Оливер. — Времени нет.
Заказываем такси и заезжаем за Ингрид. Ее домофон страшно трещит. Уже четверть девятого.
— Пять минут, — умоляет Ингрид.
Оливер слышит это и вздыхает. Таксист тянется к бардачку за журналом «Блеск» и раскладывает его на руле. Я хожу взад-вперед мимо подъезда. Ингрид появляется через четверть часа. Под болоньевым плащом на ней тюлевая блузка, сквозь которую просвечивают темные соски величиной с маленькую десертную тарелочку.
— Ты в своем уме, Ингрид? — обалдев, посылаю ее назад переодеться.
— Куда она, черт возьми, еще пошла? — укоризненно кричит Оливер.
— Забыла надеть трусики и бюстгальтер, — бодро кричу я в ответ, но он даже не ухмыляется.
Открывает нам сам Губерт.
— Привет, — говорит он кисло. — А мы уже надеялись, что вы не придете.
Оливер улыбается, поэтому улыбаюсь и я. Ингрид громко смеется.
Из гостиной, где метров десять занимает библиотека, снисходительно глазеют на нас семь человек от тридцати до сорока лет; большинство из них сидят на полу. Одетые примерно так же, как Оливер, они весело переглядываются.
— Разуйтесь, — велит нам Губерт. — Из-за вас нам пришлось прервать прослушивание оперы «Князь Игорь» Александра Порфирьевича Бородина. Или точнее, Римского-Корсакова. Который… что?
Неожиданно все поворачиваются к Ингрид. Ингрид, подражая застигнутой врасплох школьнице, кокетливо опускает глаза. Губерт обращается ко мне:
— Который что?
— Который сочинил «Полет шмеля», — вспоминаю я. — Этакое бзз-бзз-бзз…
Губерт отрицательно машет рукой.
— Пусть это и так, но который прежде всего закончил «Князя Игоря». Совместно с кем? С кем вкупе? Разумеется, с Глазуновым.
Пока он говорит, мы разуваемся. Я вдруг становлюсь маленькой. Отвороты моих костюмных брюк касаются пола. Нас никто никому не представляет — похоже, всем это до лампочки. Мы по-прежнему стоим в передней, ибо Губерт не пригласил нас войти в комнату и сесть. Тем временем он меняет тему и невесть почему заводит разговор о Бородинской битве, после которой Наполеон I захватил Москву. Все присутствующие, в том числе и Оливер, слушают его с явным почтением. Ингрид тоже делает весьма сосредоточенный вид. Я беру у нее плащ и вместе со своим вешаю на переполненную вешалку.
Вдруг Губерт замолкает и недоуменно смотрит на букет, который я все еще держу в руке (не знаю, которая из трех присутствующих женщин Губертова жена).
— А это что? — спрашивает он.
— Герберы. — Я протягиваю ему их. — Цветы.
Губерт брезгливо берет букет и показывает остальным.
— Их ставят в вазу, — улыбаюсь я. — Цветками кверху.
Оливер укоризненно смотрит на меня. Губерт кладет цветы сверху на вешалку. Этот человек уже с самого начала раздражает меня.
— Надеюсь, вы тоже любите Бородина? – говорит он с подозрительной улыбкой. — А при этом опаздываете…
— Мы любим его, — отчеканивает Ингрид.
— У нас над кроватью его постер, — острю я, но никто не смеется. Вздохнув, я оглядываю присутствующих.
— Между прочим, если это кому-нибудь интересно, меня зовут Лаура. А это моя подруга Ингрид.
Все молчат. Трое мужчин в самом отдаленном углу комнаты упорно глядят на нас и о чем-то перешептываются.
— Лаура?! — ужасается Губерт. — Лаура?! Это что-то ужасно близкое к Эммануэль…
Все смеются. Оливер тоже.
— Или к Сабрине… — говорит кто-то.
Взрыв смеха. «Что в этом такого жутко остроумного?» — думаю я.
— Или к Ванессе… — говорит Оливер.
Опять смех.
— А ты молчи, Пажоут! — вскипаю я.
— Я вполне допускаю, что кто-то может критично относится к моему имени, — не сдаюсь я и смело смотрю на хозяина дома, — только, конечно, не тот, кого зовут Губерт.
Разумеется, Губерт не слышит меня или делает вид.
— Боже ты мой, Лаура! — притворно стонет он, держась за голову. — У меня в доме Ингрид и Лаура… У меня дома ожившая Красная книга!
Все снова смеются. В том числе Ингрид и Оливер. Мне становится холодно — от ног и выше.
— Как ты думаешь, твой приятель когда-нибудь пригласит нас войти в комнату и сесть? — обращаюсь я к Оливеру. — Как ты думаешь, он предложит нам что-нибудь выпить, если даже наши имена в Красной книге? И как ты думаешь, он поставит этот несчастный букетик в вазу? И даст нам какие-нибудь шлепанцы?
Под конец я немного повышаю голос. Квартира потрясенно затихает.
У Оливера укоризненный вид.
— Не слишком ли ты нервозна для разумницы, Лаура? — насмешливо говорит Губерт. — Расслабься, Лаура! Приготовь хотя бы салат из злачных побегов, чтобы прогнать депрессию…
Эта реклама мне знакома.
— Или покрась комнату яркими красками… — предлагает один из мужчин в углу.
Только теперь я замечаю, что Губерт держит в руке последний номер «Разумницы».
Меня вдруг осеняет: Ингрид и я — для них Жемловы.
И все идет в том же духе. Губерт в основном не дает никому вставить слово — говорит он один.
Когда шуточки в адрес нашего журнала наконец надоедают ему, он принимается язвить по поводу бездуховности рекламы и абсолютной творческой импотенции так называемых креаторов (Оливер смеется); затем для всех нас ставит «Половецкие пляски» и до середины сочинения по-дирижерски размахивает руками. Потом перескакивает на Дни немецкого театра в Праге и заводит речь о Томасе Бернхарде[65] как о единственном живом немецком писателе; остальные живые немецкие писатели якобы давно мертвы, только не знают об этом… Оливер, который недавно по случайному совпадению прочел сорок страниц романа Бернхарда «Рубка леса» (а затем — я хорошо помню — с тоской отбросил его), утвердительно кивает. Ингрид сохраняет на лице выражение восторга. Что до меня, то мне уже давно нечего пить, из открытого окна невыносимо дует, и к тому же я умираю от голода. На столе передо мной хотя и стоит какой-то засохший паштет, но здесь и в помине нет ничего, на что я могла бы его намазать.
Ради Оливера я выдерживаю в этом интеллектуальном аду более двух часов. Незадолго до полуночи шепчу ему, что хотела бы уйти домой; при этом предлагаю ему, если он хочет, еще задержаться здесь.
— Что с тобой? — говорит Оливер с притворным удивлением и озабоченностью. — Тебе плохо?
Это впервые, когда он меня в чем-то разочаровывает.
— Оливер! — говорю ему тихо. — Ты же понимаешь, что со мной…
Оливер избегает моего взгляда. По его покрасневшим глазам я догадываюсь, что он уже сумел как следует набраться.
— Ты хочешь чего-нибудь? — говорит он, указывая на мою пустую рюмку. — Я принесу тебе вина.
— Я не хочу вина! — говорю раздраженно.
— А чего ты хочешь, Лаура? — с насмешкой спрашивает Губерт.
Когда ему надо, он слышит.
— Отстань от меня, Губерт! — вскипаю я.
Как я ненавижу этого парня! Оливер предостерегающе жмет мне руку.
— Нет, серьезно, — улыбается Губерт, — в самом деле мне любопытно, что может недоставать разумнице?
— Деликатности, например, — холодно отрезаю я. — Лично я бы меньше остроумничала и больше проявляла элементарной человеческой вежливости, если ты вообще знаешь, что это такое. Именно этого мне и недостает в тебе.
— Я не ослышался? — насмешливо говорит Губерт и обращается ко всем остальным: — Лаура нападает на меня… Но почему, Лаура? Почему, Лаура, наши два различных мира, наши две несколько различные культуры не могут спокойно, миролюбиво сосуществовать? Почему, Лаура?
Я встаю, иду в прихожую и начинаю обуваться.
Кровь приливает мне в голову, но не только потому, что я наклонилась.
— Ты хочешь знать почему? — кричу я злобно. — Потому что люди моей культуры, может, не сумеют проанализировать сочинение Томаса Бернхарда, но зато они способны заметить, что их гости уже два часа сидят без еды и питья, что на них из окна дует и что им этот гребаный Корсаков или кто другой все время жутко действует на нервы… Вот потому!
И я хлопаю за собой дверью.
Выбежав на улицу, я тщетно в ночной тьме выглядываю такси. Во мне все кипит. Спустя несколько минут из дома выходит Оливер и молча присоединяется ко мне.
— Ты, наверное, сердишься на меня, да? — Я заставляю себя говорить как можно спокойнее.
Он молчит. Приближается свободное такси, я схожу с тротуара на проезжую часть и машу. Водитель тормозит и останавливается. Замечаю, что Оливер, садясь в машину, пошатывается, но не придаю этому значения. Таксист подозрительно оглядывается.
— Куда едем? — спрашивает он Оливера.
Оливер хмуро пожимает плечами. Я даю свой домашний богницкий адрес.
— Пойми, — говорю я тихо спустя какое-то время, — за весь вечер меня там никто ни о чем не спросил. Никого не интересовало, кто я. У всех уже заранее был готов приговор: она работает в «Разумнице», стало быть, дура…
Таксист смотрит на меня в зеркало заднего вида.
— Меня просто бесит, что всем обязательно надо кого-то ненавидеть… Что всем нужно кого-то глубоко презирать! — вырывается у меня.
Оливер спит. Дышит, посапывая. Он почти весь съехал с сиденья, только голова катается по его спинке; вид весьма непривлекательный.
«Иногда и о других надо думать, — рассуждаю я про себя. — В этом все дело».
Остаток пути я молчу. Перед нашим домом бужу Оливера. Он слишком быстро выходит. Я плачу и сквозь шум мотора и жужжание игрушечной типографии слышу, как неподалеку Оливера рвет. Таксист тоже напрягает слух.
— В самый раз, — говорит он с отвращением. — Не то вам бы дорого это обошлось…
Глава XVII
Начинаю незаметно следить за Оливером, не пьет ли он?
Может, и пьет в течение дня, не знаю. Но с работы, за редким исключением, приходит трезвый (правда, две-три выпитые рюмки все равно определить по нему трудно). Если мы остаемся вечером дома, он обычно выпивает бутылку вина; поскольку я пью с ним, он часто открывает и вторую. В ресторане из соображений экономии мы заказываем всего одну, но доля выпитого Оливером значительно превышает мою, и, кроме того, он до и после еды еще пьет фернет.
Одним словом, не знаю.
Как-то вечером я не без задней мысли приглашаю его заполнить вместе со мной тест, помещенный в последнем номере «Cosmopolitan»: Вы алкоголик? Оливер отказывается. Дескать, пустая трата времени, он и так может мне точно сказать, что у него получится.
— Да? — говорю как бы равнодушно. — А что?
Он с улыбкой стучит ручкой по самой худшей заключительной оценке.
— Вот что, — спокойно говорит он.
Мы молча пронизываем друг друга взглядом.
— Все равно было бы неплохо, если бы ты заполнил тест, — говорю я.
— Зачем? — удивляется он. — Что нового ты хочешь узнать?
— Сделай это для меня.
Оливер смиренно пожимает плечами. Что ж, хорошо, он заполнит вопросник, но при условии, что мы откроем бутылку вина, дескать, это будет вполне стильно.
— Идет, — соглашаюсь я не без колебаний.
Мои опасения, что он не станет отвечать честно, вскоре оказались совершенно напрасными.
Вы пьете алкоголь:
а) менее четырех раз в месяц;
б) более четырех раз в месяц;
в) практически через день;
г) каждый день.
— Последний вопрос — в самую точку, — весело говорит Оливер. С холодным равнодушием он перечеркивает соответствующее окошко и с жадностью прикладывается к вину.
Когда он напивается вдоволь, я с ужасом заглядываю ему через плечо: его среднее недельное потребление вина составляет пять литров плюс двенадцать единиц крепкого алкоголя.
— Чему равна единица крепкого алкоголя? — спрашиваю я.
— Одной маленькой стопке, — говорит Оливер. — Спокойствие, золото.
Результат точно такой, какой он предсказал: сообразно сумме очков его алкоголизм в легкой или средней форме. Ему следовало бы продумать свой стиль жизни, равно как и найти возможность подходящего противоалкогольного лечения.
— Разве я не говорил этого? — улыбается Оливер довольно. Он хочет, чтобы я даже чокнулась с ним по поводу точности его прогноза.
И я чокаюсь.
Получается так, что в последнее время наши вечера в городе ограничиваются в основном ресторанами. Поэтому я делаю все возможное, чтобы мы чаще ходили в кино и в театр, однако Оливер всякий раз после спектакля предлагает еще зайти куда-нибудь выпить бокал вина, и я по большей части уступаю ему.
Неужто уже и мне это нравится?
Вечером накануне маминого прилета из Америки мы после кино заходим в «Блатницу», где, к моему удивлению, встречаем Ингрид и Губерта. Ингрид сидит у Губерта на коленях и болтает своими короткими ногами, но, как только увидела нас, — перестала.
— Привет, Губерт! — ликует Оливер. — Привет, Ингрид!
— Привет, — говорит Ингрид растерянно (чему я ничуть не удивляюсь). — Откуда вы?
— Здравствуйте, — приветствую их холодно.
Губерт, между прочим, женат.
— Привет, Лаура! Очень рад тебя видеть. Ты классно выглядишь, ей-богу! — Губерт явно издевается над моим недавним требованием элементарной вежливости. — Как ты поживаешь? Извини, забыл вас представить, но с Ингрид ты, кажется, знакома, не так ли?
— Поцелуй себя и одно место, — говорю я с улыбкой.
— Ну что ж, Лаура… Прошу тебя все-таки сесть. — Он встает и вежливо отставляет для меня стул. — Пожалуйста. Что предпочитаешь выпить? Красное или белое? Позволь дать тебе совет: у них здесь просто великолепное сильванское зеленое. Но подожди ради всего святого, не хочется ли тебе чего-нибудь съесть? Господи, не голодна ли ты?
Я показываю Губерту поднятый средний палец, но тем не менее про себя отмечаю, что мое недавнее критическое выступление определенно пошло на пользу нашим отношениям. В течение всего вечера он уже не позволяет себе игнорировать меня, подчас дает мне возможность вставить слово-другое и даже иной раз слушает, что говорю я.
Оливер сияет от восторга и гладит мне руку. Я прижимаюсь к его плечу и мечтаю поскорее залезть в постель.
Дома готовлю для нас романтическую ночную купель: наполняю ванну доверху горячей водой, добавляю пену и афродизиакальное ароматическое масло и по всей ванной расставляю горящие свечи. Приношу проигрыватель, включаю музыку, и мы раздеваем друг друга. Обнаженными, держась друг за друга, осторожно входим в ванну. Вода такая горячая, что у нас перехватывает дыхание. Мы медленно садимся, тела наши скользят друг о друга. Наконец мы усаживаемся, пена тихо лопается, зеркало затуманено, пламя свечей отбрасывает дрожащие тени.
«You are so beautiful…»[66] — поет Джо Кокер.
Я глажу мокрую грудь Оливера. Языком пробую пену на его волосках. Я возбуждена, мне хочется отдаться ему. Оливер наклоняется. Я целую ого. Замечаю, что правая рука Оливера под водой дергается. Неожиданно его лицо искажается от боли.
— Что с тобой? — ошеломленно спрашиваю я.
— Ничего, — говорит он. — Я сковырнул мозоль…
И показывает ее мне.
Я с отвращением отворачиваю голову. «Чешские мужчины», — думаю я. Мама права.
Оливер тщетно пытается исправить свою бестактность; я обиженно ухожу спать, поворачиваюсь к нему спиной и мгновенно засыпаю.
Глава XVIII
Утром мы просыпаемся почти одновременно; Оливер поворачивается и осторожно дотрагивается до меня. Мне ужасно приятно, но я еще какое-то время притворяюсь спящей. Наконец, похныкав, прижимаюсь к нему всем телом; чувствую его обычную утреннюю эрекцию. Он целует меня в плечо и, слегка оттолкнув, тихо выскальзывает из постели и идет в ванную почистить зубы, потому что хочет любить меня. Я трогаю свою киску и представляю его голым перед зеркалом: вздернутый пенис, отекшие, слипшиеся со сна веки и на подбородке зеленая пена от пасты.
Я улыбаюсь, но одновременно меня это и возбуждает.
— Поторопись, любимый, — кричу я. — Я тебя ужасно хочу!
Вечером Оливера ненавижу, утром люблю.
Такие резкие перепады чувств по отношению к партнеру еще некоторое время назад казались бы мне неизъяснимо странными или просто ненормальными, но теперь я понимаю, что без таких эмоциональных перепадов, увы, дело не обходится. И даже чувствую, что интервалы между внезапными вспышками вожделения и отвращения со временем явно сокращаются и что минуты любви и ненависти иногда даже пересекаются.
Немедленно отвали, подонок!
Нет, погоди! Побудь здесь со мной, любовь моя…
Отъезжаем в аэропорт, как новоиспеченная влюбленная пара. Оливер поначалу не может завести мотор. Прага традиционно забита машинами, на стоянке в аэропорту долго ищем свободное место, так что в зал прилета вбегаем в последнюю минуту, а потом узнаем, что мамин рейс опаздывает на пятьдесят минут и у нас, напротив, уйма времени. Аэропорт меня всегда взвинчивает (даже если я сама никуда не лечу), а сегодня среди всех этих фирмачей в темных костюмах я в своих старых джинсах и спортивной куртке и вовсе чувствую себя не в своей тарелке. Оливер замечает это и берет меня за руку; впрочем, он в своем одеянии выглядит ничуть не лучше. Мы находим цветочный ларек, просим завернуть нам три чайные розы и идем на чашечку кофе в бар «Meeting Point». Оливер видит, что у меня трясутся руки.
— В чем дело? — спрашивает он.
Он придвигает свой стул ближе и заботливо обнимает меня.
— Не знаю, — говорю откровенно. Трясутся руки, а почему — не знаю. Чего-то вроде боюсь.
Я пытаюсь объяснить это поточнее — Оливеру и самой себе. Вероятно, все потому, что я наполовину сирота и к тому же единственный ребенок. Кроме мамы и бабушки, на белом свете у меня никого нет — я имею в виду, никого из моей семьи. С бабушкой уже особенно не пообщаешься. А мама сейчас где-то в облаках в многотонной машине, свободному падению которой с десятикилометровой высоты препятствуют лишь четыре вполне уязвимых мотора…
— Мама где-то над тучами, понимаешь? — в отчаянии говорю я.
Отчасти говорю искренно, отчасти играю.
— Эмоциональное домогательство, — заключает Оливер, продолжая обнимать меня за плечи. — Дешевый трюк, цель которого — заставить меня жениться на тебе и тем самым расширить хотя бы до трех человек круг твоих ближайших родственников.
Мы стоим в толпе выходящих и выглядываем маму. Гидравлические двери, отделяющие нас от транзитной зоны, то и дело открываются. И вдруг я замечаю ее: она идет рядом с молодым элегантным азиатом, который везет тележку с ее чемоданом. На маме новое кожаное пальто, которое ужасно идет ей. Я бешено машу рукой. Она улыбается и, окинув нас с Оливером беглым взглядом, останавливается, чтобы проститься со своим чужеземным попутчиком; подав ему руку, что-то говорит по-английски. Вероятно, что-то остроумное, ибо молодой человек громко смеется. Я в нетерпении переминаюсь с ноги на ногу. Наконец мама с тележкой направляется к нам.
— Ну как, два голубка? — говорит она как бы снисходительно. — У вас еще ничего не прошло?
Бросившись к ней на шею, я невольно плачу.
— В чем дело? — усмехается мама. — Он бьет тебя?
— Наоборот. — Я всхлипываю и смеюсь одновременно. — Представь себе, мы несколько раз были в театре. Я никогда не думала, что наши отношения могут выдержать такое длительное испытание… Но у нас получилось!
Мама награждает меня легким воспитательным шлепком и, вынув бумажный платок, вытирает мне слезы.
— Вид у тебя прекрасный, мама. Ты совсем не выглядишь усталой, — изумляюсь я искренно. — Господи, как это у тебя получается?
— Я проспала больше шести часов, — объясняет она мне. — Я свежа, как утренняя роса.
Метафора в самую точку. Именно так мама и выглядит.
— Н-да, — откашливается Оливер, — стало быть, от всей души приветствуем вас, маменька.
У мамы вспыхивает огонек в глазах, но цветы от него она принимает и позволяет ему поцеловать ее в щеку.
— Привет, Пажоут, — говорит она и вновь внимательно нас оглядывает. — Вы жили в палаточном лагере? Или, может, убирали лес?
На дворе неласково, сыро. Моросит холодный дождь.
— Святый боже, ну и гнусно здесь! — говорит мама, когда мы выходим из здания аэропорта.
— Да, это тебе точно не Америка! — соглашается Оливер.
Он тянет за собой мамин чемодан, я несу ее ручную кладь. К нам тут же подбегают два таксиста.
— Такси? — обращается к маме более молодой; на нем спортивный костюм и кожаная куртка, на ногах белые носки и пляжные сандалии.
— Нет, спасибо, — отказывается от его услуг Оливер прежде, чем мама успевает что-либо произнести.
Мы проходим мимо такси и направляемся к стоянке.
— Так поцелуй себя в задницу! — раздается позади нас с приглушенным смешком.
Оливер оборачивается, но оба таксиста уже плетутся обратно в зал аэропорта. Мама ошеломленно глядит им вслед.
— Между прочим, — сообщает нам мама, — таможенник на паспортном контроле ковырял пальцем в ухе. А потом той же рукой вернул мне паспорт…
— Вот западло, — говорит Оливер.
— А разве нет? На рукаве формы у него государственный символ! — качает головой мама. — Что эти типы вообще себе думают?!
Мы подходим к последнему ряду припаркованных машин.
— Плюнь на это, мама, — успокаиваю я ее и быстро меняю тему. — Так когда будет свадьба? Вы уже определили дату?
Но маму занимает совсем другое. Она останавливается.
— Позволь мне угадать, — говорит мама Оливеру и безошибочно указывает на его старую «шкоду», — она, да?
Я люблю эту машину, но сейчас вижу ее мамиными глазами: левое крыло другого цвета, местами ржавчина, колеса грязные, выцветший лак… Среди остальных, по большей части иномарок, она выглядит жуткой рухлядью.
— Так это твоя? — смеется мама.
— Бинго, — кивает Оливер.
— Я точно знала, что у тебя именно такое авто, — говорит мама удовлетворенно, столь удовлетворенно, что мне становится даже не по себе.
— «Шкода-105» больше, чем просто авто, — говорит Оливер, открывая побитую дверь. — «Шкода-105» — стиль жизни…
Как бы он ни острил, чувствую, что мамина язвительность ему неприятна. Мы садимся, мама садится сзади. В машине холодно, не убрано, более того, тут всегда чем-то пахнет (Оливер уверяет, что это мои выдумки). Он с шумом заводит мотор.
— Абсолютно беззвучный мотор… — скалится он.
Мне приятно, что ради меня он пересиливает себя. Мы покидаем стоянку.
— Все утверждают, что разница во времени — самое худшее, — раздумчиво говорит мама. — Думало, это неправда. Куда хуже разница в культуре…
Для Оливера это уже чересчур. Он неожиданно оборачивается к маме.
— Знаешь что, Яна? — говорит он. — Только не обсирай нас из своей Америки…
Мама вздыхает, но уже не говорит больше ни слова. Остаток пути мы молчим. Когда Оливер останавливается у бензоколонки, я пересаживаюсь назад к маме и трусь лицом о ее шею.
— У тебя жутко холодный нос, — говорит мама. — Холоднее, чем всегда.
— Ага.
— Было дело?
— Сегодня утром.
— У меня тоже утром, — говорит мама.
Мы улыбаемся друг другу.
— Ну как Стив? Когда свадьба? — спрашиваю. — Рассказывай…
Мама смотрит, как Оливер вешает насосный пистолет на стояк и идет расплачиваться.
— Никакой свадьбы не будет.
Я в шоке.
— Как не будет?!
— Он идиот. Хочет голосовать за Буша. Обожает оружие.
— Постой! — обрываю ее. — Ты не выйдешь за богатого, успешного, внешне привлекательного и вежливого Стива только потому, что он хочет голосовать за Буша?!
— Ни за кого, кто за смертную казнь, я не выйду, — решительно говорит мама. — Кроме того, он настаивал на церковном обряде…
Оливер возвращается.
— Я не хочу сейчас говорить об этом, — добавляет она поспешно.
Глава XIX
А кроме всего, через неделю Душички[67].
Мама этот праздник ненавидит всей душой и совершенно его игнорирует.
— Для того чтобы вспомнить, что мои прародители, мать, отец и муж — все до единого мертвы, мне ни к чему находить в календаре День поминовения усопших, — объяснила она мне, когда несколько лет назад я напомнила ей, что надо навестить папину могилу, — я отмечаю это весь год…
Возразить мне было нечего.
Бабушка Душички, естественно, отмечает, и тот, кто ей ежегодно в конце октября покупает свечки (бог знает почему, она настаивает на фиолетовых), букеты ирисов, маленький веночек и в этот день провожает ее на кладбище, разумеется, я. Обычно мы добираемся туда на такси, но на сей раз нас везет Оливер.
— Кто этот человек? — спрашивает меня бабушка с подозрением.
Она прямо сидит на заднем сиденье, на коленях у нее свечки и венок, и показывает на Оливера согнутым указательным пальцем.
— Это мой друг Оливер, бабушка.
Никакой реакции.
— Тут холодно, — недовольно говорит чуть погодя бабушка. — А тебе тут не холодно?
Теперь в машине уже жарко. Оливер поворачивает ручку отопления до предела и по-дружески улыбается бабушке.
Бабушка не отвечает на его улыбку, напротив, вид у нее довольно хмурый.
— Почему мы не едем на такси? — спрашивает она.
— Потому что Оливер был настолько любезен, что предложил отвезти нас на кладбище.
Бабушка ухмыляется и мое сообщение оставляет без комментария. Она начинает мурлыкать песенку «Коней две пары во дворе, на них не пашут в ноябре». Я смотрю на Оливера и глажу его по бедру. Бабушка вдруг затихает. Я быстро отнимаю руку.
— Так что, Лаура? — наклоняется ко мне бабушка и подмигивает.
Я знаю, что последует.
— Значит, у тебя уже есть парень?
— Есть, бабушка, — говорю я. Иду на риск: — Зовут его Оливер.
Бабушка презрительно смеется.
— Да ну тебя, — говорит она. — Что за дурацкое имя…
На кладбище я перед ним немного смущаюсь и потому спасаюсь цинизмом.
Прежде чем нам с бабушкой удается пробраться сквозь поминальную толпу к папиной могиле, проходит чуть ли не двадцать минут. Бабушка сразу достает из сумки необходимые инструменты и берется чистить мрамор. Я боюсь, как бы она не заплакала, но, к счастью, она лишь ругает кладбищенскую контору. Оливер растерянно отходит в сторону. Я откашливаюсь.
— Здравствуй, папа, — обращаюсь я вполголоса к тем нескольким посеребренным буквам. — Как твоя жизнь?
Папа не отвечает.
Я все еще не могу привыкнуть к этому.
— Вон там Оливер, — сообщаю я папе приглушенным голосом. То есть Пажоут… Ты, наверное, знаешь его по маминым рассказам.
Душички мама саботирует, зато уже несколько лет справляет День благодарения. Я знаю, милые дамы, что вы хотите сказать. Да, День благодарения — американский праздник. Но как вы, верно, догадались, началось это тогда, когда я встречалась с Джеффом.
Джефф в середине декабря улетал к родителям в Штаты и хотел, чтобы я отправилась вместе с ним. Я напомнила ему, что мы с мамой Рождество не празднуем, и вежливо отвергла его предложение. Джефф огорчился, но тотчас следом предложил мне, чтобы мы вместо Рождества отметили Thanksgiving Day, День благодарения. Сперва мне это показалось полным абсурдом, но маму, как я и предполагала, предложение Джеффа привело в восторг.
Утром в назначенный день она убрала всю квартиру, приняла душ, подкрасилась и надела нарядное платье. Я наблюдала за ней с некоторым любопытством. Джефф приехал вскоре после обеда в превосходном темно-синем костюме и начищенных до блеска полуботинках (поэтому мама даже простила ему, что индейка и три бутылки калифорнийского Chardonnay он нес через всю Прагу в пакете). Он снял пиджак, закатал рукава рубашки, чуть освободил галстук, обвязал вокруг пояса фартук и приступил к готовке. Должна заметить, что выглядел он вполне сексуально (во всяком случае, мама при нем была абсолютно раскованна). Он нафаршировал индейку миндальной начинкой, поставил в духовку и, не забывая подливать туда воду, переворачивал ее и при этом еще готовил брусничный соус и картофельное пюре с луком. Мама весь вечер буквально сияла от радости и говорила, что на будущий год мы непременно повторим это.
На будущий год Рикки изо всех сил старался соответствовать ее желанию.
После Рикки эстафету новой семейной традиции принимает бедняга Оливер.
— Что, что? — ужасается он, когда я осторожно намекаю ему, что ожидается от него в последний ноябрьский четверг. — День благодарения?! Я не ослышался?
— Да, ну да… — говорю я извиняющимся тоном.
— Американский христианский праздник Thanksgiving? — изумляется он все больше и больше. — Почему мы не празднуем песах в память исхода израильтян из Египта? Или Рамадан?
Я объясняю ему, как это возникло.
— Хорошо, что ты еще не встречалась с китайцем, — усмехается он. — А то пришлось бы справлять с вами китайский Новый год…
— Оливер! — говорю я и многозначительно замолкаю. — Это наше личное Рождество взамен настоящего… Понимаешь?
— Н-да, понимаю… — стонет Оливер, сдавливая обеими руками виски. — Нет, этого я понять не могу. Что поделаешь, извини. Я серьезно не понимаю этого.
— Но все равно я была бы очень рада, если бы ты пришел. Причем в своем черном костюме.
— Ты что, шутишь? В костюме? Ни за что!
— Прошу тебя.
— Говорю — нет.
— Сделай это для меня. Пойми: тебя приглашает мама… Ты, пожалуй, согласен со мной, что этот ее жест нам надо уважать…
(Незадолго до этого дня мама за завтраком, к моему удивлению, сказала, что если я хочу, то могу пригласить Оливера.)
Однако Оливер все время отрицательно качает головой.
— Оливер, ну пожалуйста!
— О боже, хорошо! — наконец восклицает он. — Я когда-нибудь от твоей семейки спячу!
— Спасибо за понимание. Приходи в семь.
— Okay, at seven, — говорит Оливер. — В семь пополудни…
Он приходит вовремя; без галстука, но в костюме и полуботинках. Из портфеля вынимает три бутылки белого муската и Историю США, которую за день до этого взял на время у Губерта. Бегло целует меня, мама подставляет ему щеку. Потом он открывает книгу на странице, которую заложил дома.
— В 1607 году приблизительно сто членов секты английских религиозных фанатиков, именующих себя сепаратистами, бежали от преследований Якова I и англиканской церкви в Голландию, — наставляет он нас, не вдаваясь в подробности. — Оттуда в 1620 году они переправились в Америку, где основали колонию Плимут. Страдали от голода и болезней.
— Поставь вино в холодильник, — говорит мама.
— Весной 1621 года колонисты встречаются с индейцем по имени Скванто, который учит их выращивать кукурузу, — увлеченно продолжает Оливер. — Благодаря этому осенью они собирают прекрасный урожай и по этому поводу вместе с местными индейцами устраивают праздник урожая, который позже был назван Днем благодарения.
Он отрывает глаза от книги и с победным видом глядит на нас.
— Поучительно, — говорит мама и, открыв духовку, смотрит на индюка.
— Я только к тому, чтобы стало ясно, — с пафосом говорит Оливер, указывая на торжественно накрытый стол, — чтобы наконец было понятно, какая это полная лабуда.
Я уже говорила, что бывают минуты, когда Оливер действует мне на нервы, и сейчас одна из них. Волнуюсь, как мама поведет себя, но она лишь посмеивается.
— Вымой руки, Оливер и поди помешай картофельное пюре, — спокойно говорит она.
И Оливер послушно идет.
Бывают минуты, когда я по-настоящему его люблю.
Глава XX
— С меня хватит, — с притворным укором говорю Оливеру в начале декабря.
Я лежу на боку, свернувшись клубочком, и упираюсь голой попкой в его межножье.
— Я сплю с тобой уже три месяца практически через день, но ты не взял меня еще ни на одну презентацию новых духов Estée Lauder, где я могла бы познакомиться с Павлом Зедничком или Магуленой Бочановой…
Я бросаю на него косые взгляды. Он улыбается.
— Я уже подумываю, есть ли смысл вообще на тебя тратить время, — грустно говорю я. — В качестве трамплина в high society ты гроша ломаного не стоишь.
— Тебе достаточно сказать. Будет Рождество — возьму тебя на предрождественские тусовки стольких мерзопакостных фирм, что ты потом на коленях будешь умолять меня оставить тебя дома…
— Для начала и одной хватит, — уточняю я. — Выберешь какую-нибудь?
Наконец до Оливера доходит, что я говорю серьезно. Вид у него отнюдь не восторженный.
— Ненавижу все это, — защищается он. — Без крайней надобности я никогда туда не хожу. Не понимаю, почему кому-то хочется по доброй воле лезть в этот тусовочный кошмар?
— Хотя бы один раз стоит на это посмотреть…
— Хорошо, будь по-твоему, — сдается Оливер.
Он поворачивает меня на спину и начинает медленно гладить мне грудь. Мои соски мгновенно реагируют.
— А это что? — говорит он.
Он берет меня на вечеринку известной международной фирмы с представительством в Праге; состоится она в каком-то большущем танцевальном клубе, в котором я еще никогда не была. У входа толпится масса людей, а тремя ступеньками выше стоит неумолимого вида охрана. Мы продираемся вперед, но бритоголовый молодой человек в темном костюме и галстуке останавливает нас взглядом. Оливер предъявляет приглашение; молодой человек отходит в сторону и молча пропускает нас.
В клубе два этажа и несколько подиумов; музыка вездесущая, громкая, но, к счастью, пока не оглушительная. Всюду царит полумрак, а в одном зале и вовсе кромешная тьма; откуда-то с потолка выстреливают лазерные лучи. Воздух тяжелый, душный, накуренный, то и дело улавливаю ароматы дорогих духов (некоторые узнаю: Clinique Happy, Kenzo и Oblique от Givenchy). С испугом осознаю, что одна из девушек, мимо которой мы проходим по пути из гардероба, по пояс голая, но, пожалуй, я единственная обратила на это внимание. Кто-то по-дружески приветствует Оливера, но, прежде чем я успеваю обернуться, этот человек исчезает. Я беру Оливера за руку, и он увлекает меня в глубины клуба. Вид у него ироничный, если не высокомерный, но я чувствую, что он тоже не в своей тарелке. Несколько молодых людей подчеркнуто вежливо кивают Оливеру, но при этом я подчас замечаю, что его вельветовые штаны и застиранная черная рубашка среди всех этих фирменных мужских костюмов вызывают явно насмешливые взгляды. Чувствую, что и моя слишком консервативная одежда не соответствует царящей здесь обстановке. Злит меня и то, что я никак не могу нормально сориентироваться в этом здании. Помещения, которые мы проходим, в основном неправильной формы и странно расчленены; в каждом — бар, около которого вьется длинная очередь. На ходу ищу глазами туалеты, но ничего подобного не вижу. За исключением одной известной топ-модели пока ни одной знакомой личности. В следующем зале — большой экран, на котором быстро мелькают какие-то цветные картинки. Столкнувшись с кем-то, извиняюсь. Оливер вдруг останавливается, наклоняется и целует в щеку молодую, довольно красивую девушку в обтягивающих черных брюках и серебристом топике с плиссировкой; жду, что он представит меня, но девушка исчезает. Оливер подталкивает меня вперед.
— Блудичка… — сообщает он мне скороговоркой.
— Та, аннулированная? — шепчу я.
Оливер кивает. Чувствую легкий прилив ревности, но тут же меня ослепляет вспышка: кого-то снимают. Когда мужчина, которого фотографируют, оборачивается к нам, припоминаю, что видеда его по телевизору, но имени не помню. Тем не менее эта особа вызывает интерес окружающих, в орбиту которого на мгновение попадаем и мы с Оливером. Мое чувство непричастности ко всему происходящему еще больше усиливается. Но все остальные выглядят вполне естественно: они стоят или сидят на итальянских кожаных табуреточках Natuzzi, курят, громко острят, потягивают коктейли и маленькими вилочками с маленьких тарелочек (не представляю, где они их взяли, ибо нигде никакого буфета я не видела…) накалывают яства, большинство которых я никогда не ела: заячий паштет, перепелиные яйца и даже (по утверждению Оливера) трюфели.
— Приветствую тебя в виртуальном мире, — роняет Оливер. — Все, что ты здесь видишь, не настоящее.
Он наслаждается моей растерянностью.
— В таком случае мне нужно выпить, — отвечаю я, осторожно оглядываясь.
У меня совершенно застыла шея.
— Наконец-то слышу разумное слово, — говорит Оливер, и мы становимся в очередь за настоящим шампанским.
Спустя примерно час я уже чувствую приятное опьянение: освобождаюсь от некоторой скованности, лучше слышу музыку и, не стыдясь, кручу бедрами.
И уже улыбаюсь. Лица людей становятся более дружественными, чем прежде.
— Чудесная перемена, — радуется, глядя на меня, Оливер.
Он расстегивает пуговицу у меня на блузке, открывает вырез и удовлетворенно смотрит на мой изменившийся вид.
— Сейчас приду, — говорит он минутой позже.
Его нет почти полчаса. Я оглядываюсь по сторонам, но нигде не вижу его. Двое мужчин чуть ли не одновременно заговаривают со мной по-английски, я не понимаю их и, лишь улыбаясь, киваю головой. На меня нисходит веселое равнодушие, но вместе с тем растет и какое-то странное беспокойство.
Иду искать Оливера. У меня кружится голова. Я все время натыкаюсь на новые, прежде не замеченные темные уголки.
В одном из них Оливер целуется с девушкой в серебристом топике.
Они замечают меня. Сначала Оливер, потом девушка. Она улыбается. Оливер, кусая губы, запрокидывает голову. Я поворачиваюсь и бегу прочь. Оливер что-то кричит мне, но я не останавливаюсь, не оборачиваюсь. Наталкиваясь на людей, ищу выход. Пальто оставляю в гардеробе. Наконец я на улице. Страшно холодно, но, по счастью, прямо перед входом стоят несколько такси. Дверь самого ближайшего я открываю так резко, что водитель вздрагивает.
— В Богнице! — говорю непривычно повелительным тоном. — И побыстрее!
Прага, 21 марта 2000
Дорогая Лаура!
Письмо, которое вы послали мне, как говорится, дошло в целости и сохранности.
Когда я открыл его и понял, что оно от тебя, меня обуяли весьма смешанные чувства. С одной стороны, это было замечательно: наконец я получил убедительное доказательство, что «письма в метро» ты читала (после того медийною шума, который поднялся вокруг них, я, хоть и надеялся на это, но нуждался в подтверждении). Но нахлынули и тягостные чувства. Конечно, я заранее понимал, какие нелепости обнаружу в письме, но совершенно невыносимой была мысль, что его содержание ты обсуждала с НИМ, что вы советовались, как заставить меня прекратить мою «публичную кампанию». Да, мысль, что вы с НИМ в каком-нибудь элитном ресторане перемываете мне косточки, была невыносима…
Относительно спокойный тон письма — явно твоя заслуга. Я отлично знаю тебя, знаю, что ссоры просто физически тебе противны и споришь ты лишь в тех случаях, когда и вправду нет выхода (причем с плохо скрываемой досадой…). Голову даю на отсечение, что этот чрезвычайно мягкий, я бы сказал, почти изысканный намек на угрозу в заключительной части письма — тоже твоя заслуга. ОН наверняка написал бы это гораздо резче. Вы утверждаете, что мои действия якобы недостойны и попахивают эксгибиционизмом (кстати, мне сдается, что иные словосочетания вы, не утруждая себя, позаимствовали у тех психологов, которые в газетах и по телевидению бездарно рассуждают о моем, так сказать, травмированном детстве, о проблемных отношениях с матерью…). Вы пишете, что мне надо смириться с проигрышем, набраться мужества и не терзать себя понапрасну… Кроме того, я, дескать, должен подумать и о тебе и понять, что такое публичное копание в сугубо интимных вещах крайне неприятно тебе. Потом следует невыносимо жалкий сарказм по отношению к поэзии Ортена, которого я цитирую в последнем письме, — здесь ты, похоже, забыла приложить свою редакторскую руку и позволила интерпретировать стихотворение человеку, который читает разве что журналы про автомобили и яхты. И в итоге — скрытая угроза подсудного дела.
Что ж, пусть так. Ты хорошо знаешь, Лаура, что я не из драчунов (последний раз дрался на кулачках примерно в третьем классе), но, когда я дочитал «твое» письмо, кровь бросилась мне в голову, и я почувствовал непреодолимое желание набить этому подонку морду. ОН, который самым недостойным образом прячется от меня и обходит стороной, имеет дерзость учить меня достоинству… Тип, нагло посылавший тебе двусмысленные СМС-сообщения (ОН ведь с самого начала знал о нашей близости) теперь призывает меня «вести себя честно»…
Но в конце концов дело не в НЕМ. Какое имеет значение, что он угрожает мне судом? Объясни ЕМУ, что мне нечего терять — я уже потерял все. Единственное, что важно для меня в жизни, — это ты… Пойми, Лаура: разве я могу вести себя как-то иначе? Разве я могу отступиться и окончательно потерять то единственное, что — без преувеличения — составляет смысл моей жизни?
Короче, я борюсь за тебя. Борюсь как умею, и моя борьба вполне заслуживает уважения. А если она кому-то кажется «недостойной и попахивающей эксгибиционизмом», это всего лишь пустые слова человека, не испытавшего ничего подобною на собственной шкуре.
Люблю тебя, Лаура. Вернись.
Оливер
Глава XXI
Еще ночью я звоню Ингрид.
Она терпеливо выслушивает меня, а потом осторожно спрашивает, не преувеличиваю ли я провинность Оливера.
— Преувеличиваю? — кричу я. — Как это — преувеличиваю?! Он целовался с ней, ты что, не понимаешь?! Совал свой язык в ее размалеванную пасть!
— Золото мое, — говорит Ингрид сонно. — А вспоминаешь ли еще, с кем ты много раз целовалась, когда отдыхала с Рикки в Хорватии?
Я пристыженно замолкаю.
Ингрид пользуется случаем и объясняет мне, что мужчины, в отличие от женщин, не верны даже тогда, когда своей любовной связью вполне удовлетворены. Это, мол, научно доказано. Она приводит мне результаты каких-то сравнительных исследований: за всю историю человечества на свете было что-то свыше тысячи ста общественных культур, причем более тысячи было полигамных.
— Это более девяноста процентов, понимаешь? У мужчин, к сожалению, измена сидит в генах, — многозначительно говорит Ингрид.
Чувствую, здесь кроется какая-то закавыка.
— Ингрид! У тебя там кто-то есть?
Ингрид колеблется — я наконец смекаю…
— Значит, — роняю я устало, — с самого начала нас кто-то подслушивает?!
В трубке трещит. Я слышу, как Ингрид что-то шепчет, потом умолкает.
— Привет, Лаура, — неожиданно врывается Губерт. — Извини, но и вправду уже поздно. Через час я должен вернуться в семью. К сожалению, моя генетическая предрасположенность вынуждает меня прервать ваш разговор.
И он вешает трубку.
Не хочу Оливера видеть. Не беру телефонной трубки, на его все более отчаянные эсэмэски не реагирую.
Маме ничего не говорю; мужественно делаю вид, что все в порядке.
В понедельник утром прихожу на работу с твердым намерением никому ничего не рассказывать, но разумницы по моему виду сразу догадываются, что случилось недоброе. Их заботливые вопросы вскоре делают свое дело: я разражаюсь неодолимым плачем — и правда выползает наружу.
В редакции взгляды на измену расходятся. Зденька считает, что Оливер просто один из подлых эгоистов, каких, видимо, среди мужчин большинство.
Власта, напротив, уговаривает меня не разрывать из-за такой ерунды столь прекрасные отношения и решает прочесть мне статью, которую готовит в следующий номер: Энди Макдауэлл: Наш брак разрушила ревность.
Романа в принципе с ней согласна, однако не стоит делать вид, будто ничего не случилось. На моем месте она бы непременно как-нибудь проучила Оливера.
Тесаржова снисходительно улыбается, желая тем самым дать нам понять, что проблемы неверности ее никоим образом никогда не касались, не касаются и не будут касаться.
Мирек говорит, что ему совсем не хочется вмешиваться в мою личную жизнь и уж тем более осмеливаться давать кому-либо советы в амурных делах; но лично он думает, что мне надо как можно быстрее расстаться с Оливером и найти себе такого человека, который ценил бы отношения со мной куда больше.
Я обещала ему подумать об этом.
Взгляды Тесаржовой делаются все недовольнее, так что мне лучше вернуться к своему столу и в оставшиеся дообеденные часы попытаться работать.
Я открываю полученную почту, на сей раз там всего одно письмо. Почерк неразборчивый, некоторые слова многозначительно подчеркнуты.
Дорогая редакция!
Свои личные проблемы я всегда разрешала, скорее, сама или обращалась с ними к кому-нибудь совершенно чужому, но так как сейчас я и вправду не знаю, к кому обратиться, то обращаюсь к вам. А вдруг вы мне что-нибудь посоветуете, хотя я в этом сильно сомневаюсь, потому что таких, как я, у вас, должно быть, тринадцать на дюжину… В восьмом классе девятилетки я хотела поступить в педагогический техникум, но моя собственная мать сказала, что у меня для этого кишка тонка и что мне лучше пойти учиться на продавщицу. Выучилась я, значит, на продавщицу и теперь уже два года работаю в парфюмерии. А ведь я тогда даже подавала заявление в педагогический и, когда забирала его, ревела как белуга. Моя классная из девятилетки и то никак не могла понять, зачем я это делаю, и все только спрашивала: «Ну почему, Зузана, почему?» А вся проблема в том, что я не очень-то красивая (хотя, надеюсь, не уродливая!), что я просто затюканная и сломленная и, главное, без всякой самоуверенности, но ведь жутко тяжело быть самоуверенной, когда твоя собственная мать говорит тебе, что никакую школу ты не вытянешь! В парфюмерии мне давно страсть как опротивело, не могу не признаться, что иной раз мне так и хочется брызнуть пробник на какую-нибудь, извиняюсь, корову, которая на тебя из-за всякой ерунды пасть разевает, — и не на руку, а прямо в глаза! Когда я шла сюда, думала, что хоть ребята будут иногда заходить, но нормальные молодые ребята в парфюмерию заходят редко, зачастую это все взрослые семейные люди, у которых денег куры не клюют, а нормальный парень на парфюм от одной до двух с половиной тысяч крон при нашем «демократическом капитализме» вряд ли наскребет. А если случайно и наскребет, все равно по большей части заходит сюда со своей девушкой, так что только сердце разрывает: ведь никакого такого парня, который покупал бы мне парфюм или хотя бы по весне подснежники, я и во сне не увижу! А если иной раз ребята и приходят одни и даже мне какой нравится, все равно я не могу к нему обратиться так, как хотелось бы, потому что мне очень не хватает самоуверенности и потому никогда ничего не получается!
Одним словом, у меня нет никакой возможности познакомиться — домой всегда прихожу без четверти восемь и уже до того умученная, что после ужина заваливаюсь прямо в постель. В выходные дни опять же изволь пылесосить и всячески хлопотать по дому, а вечером никуда пойти и думать не смей, хотя мне уже девятнадцать! Разве что в кино, но в субботу вечером никто, натурально, в кино не ходит, все идут на танцы в клуб или еще в какой кабак оторваться. Разговариваю я только с мальчишками помоложе, когда они гурьбой притаскиваются в парфюмерию за кондомами, но ведут они себя со мной как придурки, а хорошим, приличным ребятам я стесняюсь и слово сказать! Иногда думаю про себя, что чем такая жизнь, лучше вообще никакая, хотя не буду Бога гневить по существу, в жизни мне не хватает только самоуверенности, а так все остальное вроде бы есть. Я только ужасно хочу встретить какого-нибудь хорошего парня, который и вправду любил бы меня и сделал бы мне потом двух ребятишек. Не обязательно, чтобы он был какой-нибудь киношный красавец, ведь на свете есть вещи поважнее, чем внешняя красота. Не так уж много я и хочу. Или много? Может, вы мне посоветуете, что мне делать, чтобы моя мечта сбылась, потому что иногда я просто прихожу в отчаяние, когда думаю, что моя мечта вообще никогда не сбудется!
Ваша читательница Зузана.
P. S. Напишите!
Я дочитываю и громко сморкаюсь. Романа подозрительно оглядывается на меня.
— О господи, — вздыхает она шумно, — она уже опять ревет…
Стоило мне появиться после обеда в конторе, как кто-то позвонил в дверь; Власта пошла открывать. Вернувшись вскоре, выразительно подмигивает нам.
— Этот молодой человек, увидев меня, должно быть, засомневался, и вправду ли он попал в редакцию «Разумницы»… — повторяет она старую хохму.
Мы все отрываемся от мониторов: Власта ведет за собой молодого посланца — в узких велосипедных трико и желто-черной куртке, от которой веет деревенским холодом. Он стройный, загорелый, из-под шлема выглядывают короткие светлые волосы.
В руке у него букет красных роз.
— Добрый день, — здоровается он, едва переводя дыхание.
Мы отвечаем почти в унисон. Здена хихикает.
— Для барышни Лауры… — говорит блондин Власте и растерянно обводит нас взглядом: на мне его взгляд задерживается чуть дольше. Это льстит мне. Власта с улыбкой кивает, и посланец с явным облегчением вручает мне букет.
— Не выпьете ли чашечку кофе, прекрасный велосипедист? — спрашивает Романа, но молодой человек вежливо отказывается; едва подписываю квитанцию о доставке, как он поспешно покидает редакцию.
Мирек, повернувшись к монитору, изображает невероятный трудовой пыл, но остальные коллеги, включая Тесаржову, с любопытством глазеют на меня. Роз ровно десять. Под целлофаном светится маленький белый конверт.
«Дай мне, прошу, шанс исправить эту дурость, — пишет мне Оливер. Люблю тебя».
— Ну что? — не выдерживает Власта.
Читаю текст вслух. Стараюсь, чтобы мой голос звучал иронично, но что-то не очень получается. Дамы заметно взбудоражены. Благодаря мне дождались наконец и стали свидетельницами аутентичной эмоциональной драмы. Власта даже предлагает мне сцену с розами использовать в «Рассказе, написанном самой жизнью», но Романа взмахом руки отвергает ее идею.
— Сейчас речь идет не о ее рубрике, говорит она. — Сейчас речь о том, как Лаура поступит…
Как поступлю?
Как поступлю с этим подонком?
Я просто мечтаю холодно сообщить ему, что уже никогда! в жизни не захочу его видеть! Но вся проблема в том, что я хочу его видеть! И даже как можно скорее! Поэтому звоню ему на работу, холодно благодарю за цветы и приглашаю на ужин. К нам домой!
Солидные семейные ценности versus[68] двадцатилетнего размалеванного блуждающего огонька…
Оливер, очарованный моим великодушием, видимо, как следует заправляется и по пути к нам совершает еще один, еще более демонстративный жест, чем преподношение цветов: застигнутый (и стало быть, немного придавленный…) лавиной сентиментальной любви ко мне, к моей матери, к себе самому и всему человечеству, он заходит в банк, снимает половину своих сбережений и в ближайшем бюро путешествий покупает недельный рождественский вояж на Канарские острова.
На три лица.
Он добредает к нам, садится за стол, достает подтвержденный и оплаченный заказ и, откинувшись на стуле назад, любуется нашей растерянностью.
— Шестьдесят три тысячи? — качает головой мама, глядя на ваучер. — Выходит, Пажоут, ты определенно спятил.
Но видно, что она рада.
— От чеха ты такого не ожидала, скажи честно? — улыбается Оливер. — Я подумал, что Рождество вы все равно не справляете…
— Да, дешевые жесты тебе явно к лицу, — говорю я с виду язвительно.
— В самом деле? Что ж, дешевые жесты меня всегда украшали, — гордо соглашается Оливер.
Глава XXII
Разумеется, это групповая поездка, — а мама групповые поездки на дух не переносит. Решает это она весьма элегантно: на пражском аэродроме до отлета нашего рейса держится в стороне от основной группы, а обязательную проверку документов у стойки туристического бюро передоверяет мне и Оливеру. После прилета на место она снова уклоняется от группового переезда из аэропорта в предоставленную нам загородную гостиницу; сопровождающей, которая нервозно приглашает нас войти в поданный автобус (дует очень сильный ветер, и ей приходится кричать), мама вежливо объясняет, что поскольку мы собираемся нанять авто на всю неделю, то и в гостиницу мы доберемся сами. У сопровождающей вид ошарашенный: с подобными желаниями она, дескать, еще не встречалась, но нам должно быть ясно, что она несет ответственность за всех участников поездки.
— Мы справимся с этим, золотко, — улыбается мама.
На ветру волосы у нее дико развеваются.
Автобус отъезжает без нас.
Мы возвращаемся в зал к стенду AVIS; мама на испанском языке шутит с работающей там девушкой, подает ей кредитную карточку, девушка звонит по телефону — и не проходит пяти минут, как перед ближайшим выходом из зала прилета останавливается белый «Seat Toledo».
Небо лазурно-голубое, солнце приятно греет. Оливер укладывает чемоданы, мама садится за руль: заводит мотор, нажимает кнопку кондиционера, осматривает меня в зеркале заднего вида, мягко трогается с места, выбирается из запутанно обозначенного лабиринта стоянки, безошибочно проходит все шоссейные эстакады, кольцевые объезды и перекрестки и без единого неверного поворота, без какой-либо вынужденной остановки, не говоря уж о взгляде на карту, за неполные пятнадцать минут доставляет нас к гостинице.
— Ну ты даешь! — говорю я с искренним восторгом. — Ты и вправду отличный…
— Я знаю, — улыбается мама. — Но знают ли об этом те, другие?
Погода великолепная; хотя и очень ветрено, но жарко: днем даже тридцать два градуса. Впервые в жизни у меня в декабре нос и руки теплые.
Гостиница трехзвездочная, в целом хорошая; мамин одноместный номер выходит прямо на море. В гостинице мы, разумеется, только завтракаем (мама еще до вылета попросила Оливера аннулировать купленный полупансион), а обедать и ужинать ходим в разные окрестные рестораны (мое самое любимое блюдо — картошка в мундире, papas arrugadas, лучше всего с пикантным красным соусом mojo, и еще gambas, креветки, сервированные в кипящем оливковом масле, с теплым чесночным багетом). Официанты и посетители, по-видимому, считают маму и Оливера супружеской парой, а меня их дочерью. Когда однажды мама удалилась в туалет и Оливер страстно поцеловал меня, чета пожилых англичан за соседним столом вытаращили на нас глаза. Бывает, нам становится неприятно, а бывает, такая реакция даже забавляет нас.
— Nein, Vater, nein![69] — сопротивляюсь я, когда на пляже, усеянном немцами, Оливер обнимает меня.
На пляже я вновь замечаю, что Оливеру нравятся в основном молодые женщины; его откровенно заинтересованный взгляд не раз и не два сопровождает даже очень молоденьких девушек. Когда же в отсутствие мамы я заговариваю с ним об этом (несколько ревнивее, чем мне поначалу хотелось), он, к моему удивлению, даже не пытается отнекиваться.
— Совершенно естественно, что мне нравятся молоденькие девушки, — говорит он абсолютно спокойно. — Почему бы им, черт возьми, мне не нравиться? Тебе что, казалось бы естественнее, если бы мне нравились старухи? — кивает он в сторону морщинистых немецких пенсионерок.
(— Зачем, собственно, эти женщины загорают? — спросила я в первый же день Оливера, увидев, как систематически и ответственно все эти сморщенные пенсионерки долгими часами «ловят бронзу». — Ради кого, скажи мне?
— Ради осмотра у доктора, — ответил он сухо. — Ради пана главврача…)
— Мне казалось бы естественнее, если бы тебе нравились женщины примерно твоего возраста.
— Тогда я определенно не был бы с тобой, — заключает Оливер вполне логично.
В голову лезут аргументы типа «Вспомни, пожалуйста, сколько тебе лет» или «Ведь ты мог быть их отцом…», — но я предпочитаю прикусить язык.
— Знаешь, что ответила Брижит Бардо, когда ее спросили, почему она после сорока предпочитает молодых мужчин? — спрашивает Оливер. — «Мне ведь всегда нравились молодые люди. Не понимаю, почему я должна изменять своим вкусам только потому, что я старею…»
Я молчу, но во мне созревает какое-то недовольство.
— Я под этим подписался бы, — добавляет он.
— Тебе нравится моя мама? — говорю я несколько наступательно. — Я имею в виду физически?
Оливер колеблется.
— Она красивая, интеллигентная женщина… — Он тщательно подбирает слова. — Она… личность.
Я чувствую в его ответе осторожность, которая меня возмущает.
— Она привлекает тебя? Ты хотел бы сегодня с ней переспать?
— Сегодня во сколько? — Он пытается обратить все в шутку, но я не даю ему такой возможности.
— Хотел бы или не хотел?
Я смотрю ему в глаза.
— Ты требуешь слишком однозначного ответа. Жизнь не столь однозначна.
— Хорошо. Скорее, хотел бы или, скорее, не хотел бы?
Оливер вздыхает.
— Скорее, не хотел бы, — отвечает он неохотно.
— Вот видишь, — говорю я печально. — А когда мне будет за сорок?..
— Что ты хочешь, Христа ради, услышать?
— Искренний ответ.
— Не знаю. В самом деле не знаю.
— Не знаешь? Но как я могу с тобой жить, если ты не знаешь?
— А как могу жить я, если не знаю?! — окончательно вскипает Оливер. — Почему ты, черт подери, все время думаешь, что мне все дается легче? Мир не делится на мужчин и женщин, как старается вколотить в тебя «Cosmopolitan», мир един. Мы все в одной лодке. Все, и ты, и я, мы все в одном unisexual[70] отстойнике под названием «Человеческая жизнь» — пойми же это наконец!
— Я, конечно, понимаю, что жизнь — отстойник, и смирилась с этим, — повышаю я голос. — Но с чем я не могу смириться, так это с некоторыми твоими взглядами!
— Вот видишь! — возликовал Оливер. — Ты сама это сказала! Абсолютно типичный женский подход! С несовершенством жизни кое-как вы способны смириться. Это жизнь, ее нужно принимать такой, какая она есть, говорите вы вполне разумно. Но с несовершенством мужчин, черт возьми, вы не смиритесь никогда. Вы постоянно будете наивно искать того совершенного. Вам просто подавай само совершенство. Вам кажется, что идеальный мужчина — неотъемлемое женское право. Если такие мужчины не достаются вам, вы законно впадаете в ярость.
— Болтовня!
— Старею, Ярда, сделай что-нибудь с этим! Меня окружает жестокий, несправедливый мир, Ярда, разве ты не видишь? Ты ничего не можешь с этим поделать?! Вы гневаетесь на Бога, но, хорошо зная, что Бог претензии не принимает, накидываетесь хотя бы на бедного церковного сторожа…
Весь остаток дня мы не разговариваем.
Пытаюсь читать, но не могу сосредоточиться. Думаю о Рикки и грущу.
В конце концов помирить нас с Оливером приходится маме.
Докатились, нечего сказать!
Сочельник практически определяется здесь по тому, что пляж с утра полон пьяных, говорящих по-немецки Санта-Клаусов в плавках. С мамой мы сходимся в том, что вся эта картина премило абсурдная и что, по счастью, не вызывает у нас почти никаких ассоциаций с нашим Рождеством с его карпами, ароматическими пурпурными углями на плите и подсвеченными елочками в окнах богницкой округи.
Ровно восемь лет назад у меня умер отец.
Мы сидим в маленькой кафешке на краю пляжа, официант приносит целый кувшин отлично охлажденного sangrie.
— Пляжное Рождество — тоже хорошо… — удовлетворенно говорит Оливер. — Суперслоган, да? Пожалуй, продам его какому-нибудь турагентству.
Мама оглядывает его стоптанные сандалии и драную майку.
«Ничего не говори», — умоляю ее мысленно.
— Представь себе, что наша тетя, — говорит задумчиво мама с неразвернутой соломинкой во рту, — многие годы печет рождественскую халу…
— Мы не ропщем, — присоединяюсь я признательно, по крайней мере, что-нибудь будет для кошки…
Оливер гладит нам обеим руки, потом целует нас.
Мама впервые дает ему себя поцеловать. И при этом чуть краснеет.
— Итак, счастья и веселья, — говорит Оливер и поднимает бокал, чтобы чокнуться.
Мамина рука застывает в воздухе.
— Мы так не договаривались, Оливер, — сообщаю ему тихо. — Sorry.
Оливер извинительно пожимает плечами.
— Ну хотя бы за здоровье? — пробует он снова.
— За здоровье и любовь, — говорит мама и чокается с нами.
Потом мы до вечера прыгаем в волнах.
Глава XXIII
Свою новую любовь жизни мама встречает на следующий день во время экскурсии на Тенерифе.
Это немец, который всей душой не переносит немцев. Мама, в свою очередь, не выносит чехов, так что у них прекрасные предпосылки для создания идеальной пары.
Зовут его Ганс, ему сорок пять, он архитектор, путешествует один. Немного похож на Клинта Иствуда, только чуть помоложе. Мое впечатление еще усилится, когда он в ожидании парома обратится к нам с каким-то вопросом по-английски.
Конечно, это прежде всего мама, кто умело поддерживает истинно светский разговор.
— It's a windy day today, isn't it?[71] — щебечет она.
— Зато вчера был такой приятный теплый день, правда? Не холодно, не слишком жарко. В самый раз.
Мы обмениваемся с Оливером веселыми взглядами, но мама игнорирует нас.
— Похоже, что вы тоже совсем не в восторге от холодного среднеевропейского Рождества, не так ли? — старательно продолжает мама.
— Well, it depends…[72] — говорит, симпатично улыбаясь, Ганс. Мол, будет видно.
— Вы приезжаете сюда каждое Рождество? — спрашивает мама.
— Только третий год, — отвечает Ганс.
Он вдруг теряется. Сжимает губы и передергивает плечами.
— После смерти жены, — словно извиняясь, добавляет он.
— О, my God! — восклицает мама. — I'm sorry![73]
Она мгновенно переходит на немецкий и еще раз многословно извиняется перед Гансом. Я понимаю лишь каждое пятое слово, но Ганс, очевидно, ошарашен ее блестящим немецким. Он поднимает обе ладони в знак того, что извиняться не надо. И тактично меняет и язык, и тему: спрашивает по-английски, как мы провели сочельник — в Чехии? Или здесь? Своими взглядами он делится с мамой и Оливером, явно, как и многие другие, принимая его за моего отца. Следующий вопрос Ганса подтверждает мою догадку, и мама, как всегда, объясняет его ошибку.
Сейчас уже он испытывает смущение. И слишком долго извиняется. Пока он говорит, его глаза выражают невысказанный вопрос.
— Мой муж, — сообщает ему мама, — умер восемь лет назад.
Ганс беспомощно вздыхает. Похоже, не может найти подходящих слов.
— Не утруждайте себя, — говорит мама. — Это вас ни к чему не обязывает.
Ганс улыбается. Должна признать, что улыбка ему к лицу.
Мама тоже улыбается. Мы входим на паром.
— Что, если нам оставить молодежь, — говорит она Гансу, указывая на меня и Оливера, — и совершенно свободно выпить где-нибудь по чашечке кофе?
— Что ж, хорошая идея! — сразу соглашается Ганс.
— Он из Гамбурга! — радостно сообщает нам мама, вернувшись спустя полчаса. — И родился там!
Выражение лица Оливера откровенно недоумевающее.
— Извини, — любопытствует он, — но что в Гамбурге такого особенного, даже если он там и родился?
Разумеется, дело не в Гамбурге, объясняет ему мама. А в том, что Ганс — урожденный западный немец (как она втайне и надеялась), а не бывший гэдээровец.
— А почему, — говорит Оливер несколько раздраженно, — для нарождающейся любовной авантюры так важно, при каком режиме кто рос?
— Потому что социализм лишал большинство мужчин самосознания и самоуважения, — говорит мама Оливеру. — Думаю, Пажоут, именно ты мог бы об этом кое-что знать…
(«Они говорили о целых народах, словно говорили об одной личности, тогда как говорить с маломальской уверенностью даже об одной личности представлялось мне опрометчивым», — позже цитирует мне Оливер из книги, которую читает.)
С парома мы пересаживаемся на автобус. В автобусе я замечаю, что мама время от времени поглядывает на Ганса. Как только мы выходим на следующей остановке, Ганс снова присоединяется к нам. Заснеженную вершину Тейде мы наблюдаем уже вместе. Спустя какое-то время Ганс не без иронии спрашивает меня (у него замужняя дочь моего возраста), разрешаю ли я ему пригласить маму на обед.
— Прежде всего два контрольных вопроса, — строго говорю я ему по-английски. — Первый: что вы думаете о смертной казни?
— О смертной казни? — переспрашивает он ошалело. — Я против…
— Хорошо. А как насчет оружия? Вы любите оружие?
Мама смеется.
— Не люблю, — все еще недоумевая, говорит Ганс.
— О'кей. Тогда приглашайте…
В последующие дни Ганс и мама ни на шаг не отходят друг от друга. Оба выглядят влюбленными.
— Какой он? — спрашиваю я с любопытством.
— Пока замечательный, — говорит мама. — Пока почти идеал…
— Господи боже, опять? — стонет Оливер. — Идеальный мужчина не существует! Идеальный мужчина — вирус, поражающий женскую рациональность, — если, конечно, нечто вроде женской рациональности вообще существует…
— Возможно, идеальный мужчина не существует, но это вовсе не вирус, — возражаю я, — а красивая мечта.
— А мечты, как ни удивительно, подчас сбываются… — дополняет меня мама.
Мы улыбаемся друг другу.
— Ерунда. Это миф, опасный для жизни, — качает головой Оливер. — Каждую женщину, которая произносит это словосочетание, я преследовал бы за распространение сигнала тревоги. Или судил бы за угрозу обществу — тут мера наказания значительно выше.
Мама доливает себе чаю; я вижу, как у нее чуть дрожит рука.
— Вы не возражали бы, если бы я переехала к Гансу в гостиницу? — говорит она как бы между прочим, но при этом избегает моего взгляда. — Мы хотим быть на Сильвестра вместе.
— Есть ли в этом смысл? — спрашивает Оливер. — На одну ночь?
— Разумеется, мы не против… — говорю я.
Вечером мы с Оливером сидим в гостиничном баре; компанию нам составляют лишь несколько таких же одиноких пар. Из ближних ресторанов до нас доносится гомон начинающихся новогодних праздников. Будь моя воля, я пошла бы куда-нибудь потанцевать, но Оливер дискотеки не переносит.
Я не высказываюсь вслух, но думаю о маме.
— Если выпью еще вина, то усну мгновенно, — говорю я Оливеру, когда он заказывает еще два бокала крепкого красного вина.
— В раннем детстве, — задумчиво произносит Оливер, — я очень полюбил песню о разбойнике Мэкки Мессере из «Оперы нищих». В исполнении Милоша Копецкого.
Он говорит на чистом литературном языке значит, уже пьян.
— Прекрати, — прошу его.
— В этой песне есть следующая строфа: Однажды ночью / к молодой / забрел разбойник удалой. / Она спала, / а пробудившись, поняла, / что чести он ее лишил, / но Мэкки смыться поспешил.
— Прекрасно, — говорю устало. — Но в чем фишка?
— А в том, что эта песня абсолютно перевернула мои представления о глубине женского сна.
Я смеюсь. Оливер может быть забавным, когда хочет. Кроме того, его загар напоминает мне, что это все тот же Оливер.
Тот, с Корчулы.
Я прижимаюсь к нему еще сильнее и радуюсь тому, что мы принадлежим друг другу.
— Долгие годы из-за этой чертовой песни я думал, что с вами, спящими, можно делать что угодно, — продолжает он. — А теперь представь мое позднейшее разочарование.
Я озираюсь, не смотрит ли кто на нас, и кладу руку ему на межножье.
— А тебе бы хотелось, чтобы я и вправду уснула таким глубоким сном? — спрашиваю я игриво.
— Допустим, — осторожно говорит Оливер, — что спящая женщина может обладать для мужчины определенной привлекательностью.
— Да? В чем же заключается эта привлекательность?
— В том, что мужчина может взять на себя всю полноту власти над женщиной и, таким образом, выполнить, наконец, свою естественную доминантную роль, о чем, собственно, я мечтал всегда. И далее: в том, что спящая женщина не навязывает ему все те бессмысленные предкоитальные действия, которые редакторы женских журналов бог весть почему считают возбуждающими. Никакого сдерживания псевдоориентальными массажами ступней, никакого посасывания ушных мочек… И наконец, мужчина избавлен от необходимости посткоитального общения…
Я знаю, что он говорит это не вполне серьезно, но все-таки я отстраняюсь от него.
— А может, лучше, если женщина вообще будет мертвая?
— Зачем же мертвая? — спокойно говорит Оливер. — Вполне достаточно, чтобы она время от времени принимала снотворное.
Еще минутой раньше меня возбуждал этот разговор, но сейчас он мне неприятен. Мимо с гиканьем пробегают два мальчика лет пяти. Оливер делает страдальческий вид.
— Господи! — сердится он. — Этим выродкам давно пора спать!
Я молчу.
— А как ты, собственно, относишься к детям? — спрашиваю я, чуть помедлив.
— Дети — и в радость, и в тягость.
— Я спрашиваю серьезно.
— Серьезно? — говорит Оливер. — Дети — игрушки скучающих, беспомощных взрослых.
— Что?
— Дети — наполнение пустых жизней.
Я буквально ошарашена.
И за этого человека я хотела выйти замуж!
Прага, 20 апреля 2000
Дорогая Лаура!
На дворе весна, и я все продолжаю петь свою запетую песенку. Называется она «Лаура, вернись!». Это готовый шлягер сезона. Мы были несколько раз в разных газетах, два раза в основных вестях по каналу Нова и, говорят, в новостях немецкого телевидения ARD (я не случайно употребляю множественное число, ибо весь этот медийный успех — прежде всего твоя заслуга…). Один литературный критик даже поместил в «Респекте» статью «Орфей в метро» — ты читала? Или теперь читаешь только журнал «Яхты и лодки»?
Сам я не раз видел, как тот или иной пассажир (обычно это девушка или женщина) с интересом, а бывает, и с заметным волнением, читает мое письмо, но пережил я и кое-что совсем другое — абсолютное равнодушие, когда пассажир прочитывает лишь несколько строк, a потом с тоской переводит взгляд на ближайшие рекламы: Отведай того-то, познай волшебный вкус этого, не сгибайся, а мужайся… Такие вещи бьют в цель: печаль скучна, а чужая особенно. Чья-то боль? Плюнь!
Недавно я был свидетелем того, как группа тинейджеров довольно грубо потешалась над моим предыдущим письмом. Я не такой болван, чтобы не оценивать ситуацию трезво, но все-таки тайно надеялся, что хоть какая-нибудь девушка одернет мальчишек: «Ну хватит вам, идиоты…» — примерно так, как кто-то иногда обрывает слишком пошлый анекдот, переходящий всякую допустимую грань. Но ни одна девушка не остановила их. Да и существует ли в век столь успешной чешской кока-колы еще какая-либо грань? Если теперь, бывает, смеются над Яном Палахом[74] и над концлагерями, то можно ли всерьез воспринимать обыкновенное чувство одиночества?
Об упомянутом одиночестве. Тебе трудно поверить, но за все эти долгие месяцы нашей размолвки я не был близок ни с одной женщиной. Ты ведь знаешь меня, знаешь, какое важное место в моей жизни всегда занимал секс. Три недели тому назад мой коллега из агентства (ты, конечно, знакома с ним, но в силу понятных причин я не называю его имени), который уже не мог смотреть на мое, как он выразился, добровольное мученичество, затащил меня в один загородный бордель, но представь себе, ни с одной из тех услужливых, но, очевидно, не очень счастливых девушек я не смог уединиться. Что за комедия: я лишился всего самого дорогого, но препоны остались. Вот одна конкретная деталь (прости мою откровенность, ты же знаешь, насколько я всегда был сдержан в этом плане): когда заиграли «Let's talk about love»[75] в исполнении Селин Дион, одна девушка, справедливо обиженная моим бездействием, положила руку на мое хозяйство. Я тотчас почувствовал эрекцию и одновремешо в голос заплакал. Ты только представь себе (на прошлой неделе это очень рассмешило доктора Z., хотя пациент ждет от своего психиатра совершенно другой реакции!): поет Селин Дион, а я со вздутыми брюками сижу в каком-то жутком кресле провинциального борделя и реву в три ручья.
Итак, это всего лишь малая толика деликатного самоироничного юмора (как писали в «Респекте»), подкрепленного неназойливой откровенностью, что я живу примерной аскетической жизнью и, главное, неизменно single[76]. Теперь кое-что менее смешное.
В последнее время мне снится страшный, тревожный сон. Я встречаю тебя у выхода из того или иного парка, преимущественно из Пругоницкого (понять не могу, почему именно там в последний раз я был в Пругонице со школьной экскурсией, где мне, между прочим, один одноклассник нечаянно сорвал родинку, которая потом весь день кровоточила…). В моих снах ты или беременна, или склоняешься над коляской. Коляска на редкость старомодная — такая плетеная, но кто знает, может, такой тип колясок теперь опять в моде.
Молюсь, чтобы это была неправда.
Люблю тебя, Лаура, и этому нет конца.
Вернись.
Оливер
Глава XXIV
С возвращением из отпуска, или Домашние Новости:
Бабушка, гуляя с сиделкой под Новый год, упала и сломала шейку бедра. После операции она лежит в Буловке; в палате еще две такие же неподвижные старушки и один умирающий государственный чиновник-пенсионер. Мы с мамой — поочередно — навещаем бабушку каждый день. Стараемся всячески развлечь ее, но она непривычно молчалива; ни разу даже не спросила, есть ли у меня парень…
Губерт сразу же после Рождества оставил семью и переехал к Ингрид, в ее гарсоньерку. Новый год они встречали уже вместе. Ингрид купила Губерту два больших книжных шкафа, торшер и, разумеется, кресло. Твердит, что впервые в жизни по-настоящему счастлива. Оливер в восторге и упрекает меня, что я не разделяю его радости.
У Жемловой рак. Она ходит на облучение и, поскольку лишилась волос, вынуждена носить косынку — с тем же узором, что и занавеска на их обувном ящике. У нее такой вид, будто рак у нее по моей и маминой вине. Жемла по-прежнему пытается обнять меня или маму, стоит нам столкнуться с ним на лестничной клетке. Он зашел к нам рассказать обо всем еще в тот вечер, когда мы прилетели с Канар. Конечно, он очень удручен. Мама приготовила ему кофе и безучастно выслушала его. Решила не тратить своих чувств по этому поводу, заявив, что если у нее нет права на равнодушие, то тогда ни у кого его нет!
Тесаржову бьет муж. Об этом сказали мне Власта и Зденька. До сих пор — спасибо макияжу — ей удавалось скрыть это, но после Сильвестра все окончательно выплыло наружу — сломанный нос и разбитую бровь едва ли можно запудрить. Романа утешает начальницу перечнем знаменитых женщин, также переживших домашнее насилие.
Но особого толку от этого пока нет.
От издателя «Разумниц» мы все получили билеты в Национальный театр — на «Марышу»[77].
Позвонив маме, я спросила, не отдать ли мне кому-нибудь билеты, учитывая бабушкино состояние, но мама сказала, что с удовольствием пойдет со мной; нам, дескать, надо развеяться.
От спектакля мы обе были в восторге: Зузана Стивинова в роли Марыши потрясла нас. Мы долго растроганно молчали, когда морозным вечером шли к ближайшей остановке метро.
— Знаешь, о чем я подумала? — наконец говорит мама.
— Нет, — стучу я зубами.
— Ситуация Марыши трагична, поскольку она любит Францека, а не Вавру. Но что, если у женщины нет никакого Францека?
Мама искоса смотрит на меня, сильнее прижимая ворот пальто к шее.
— Или если она вечно не уверена в своем избраннике? Что, если она во всех своих знакомых всякий раз сомневается? Что, если эта вечная неудовлетворенность, вечная неуверенность в правильности своего выбора обрекает ее на вечные поиски?
— Поговори со мной об этом! — вырывается у меня.
— Не лучше ли сдаться? Положиться на чью-либо сильную волю? Позволить подчинить себя? Просто избавиться от невыносимой ответственности за свое собственное решение…
Я понимаю, что мама имеет в виду.
— Мы сами выбираем — вот в чем проблема. Отсюда наша неудовлетворенность, — говорит она. — Осознание неизбежности, возможно, пошло бы нам на пользу. Все будет так, как есть, и не иначе. Такова жизнь. Что, если нам нужно просто понять это?
После возвращения с Канар Ганс звонит маме через день; два-три раза в неделю звонит она ему. Они говорят по-немецки, так что я почти ничего не понимаю, но, когда разговор кончается, мама всякий раз выглядит грустной.
Я делюсь с Оливером. Он ничего не говорит по этому поводу, лишь пожимает плечами.
Несколькими днями позже он цитирует мне абзац из романа Дугласа Коупленда «Generation X», который как раз читает: «Группа людей, склонных к хроническим путешествиям в ущерб собственной долгосрочной экономической стабильности и прочному тылу и отмеченных тенденцией поддерживать трагические и супердорогие телефонные любовные связи с индивидами, отзывающимися на имя Серж».
Он удовлетворенно замолкает.
— В данном случае на имя Ганс, — добавляет он.
Но в середине января из нашего богницкого факса вылезает подтвержденная заявка на билет до Гамбурга. Мама моментально отменяет несколько с трудом найденных заказов на перевод и снова отдается той центробежной силе, которая уже с юных лет гонит ее прочь из Чехии. Со шкафа в прихожей снимает свой лучший чемодан и начинает продуманно паковаться. Она вновь полна энергии. Улыбается.
Мама только в движении чувствует себя в безопасности.
Самолет вылетает утром.
Мама встает в половине шестого, через четверть часа вылезаю из постели и я. Перед зеркалом в прихожей мама феном досушивает вымытые волосы. Я встаю рядом с ней и наблюдаю эту обалденную разницу — я в мятой ночной рубашке, заспанная, со сбившимися волосами и опухшими со сна веками; мама, умело подкрашенная, в новом брючном костюме, полна драйва.
— Ну пока, любимая, — целует она меня перед отходом. — Береги себя.
— Счастливого пути, мама, — говорю я. — Удачи тебе.
Я закрываю за ней дверь и выхожу на балкон. На соседнем балконе стоит Жемла в красном болоньевом костюме и курит. Я делаю вид, что не замечаю его. Мама садится в такси, и мы долго машем друг другу. Замечаю, что машет и Жемла. Такси трогается, мама прижимает ладонь к заднему стеклу.
— Куда и надолго ли? — спрашивает Жемла непривычно коротко.
— На две недели. В Гамбург, — говорю чуть виновато. — Доброе утро.
— Доброе.
Он тушит сигарету, но остается на балконе. Слышу, как Жемлова что-то кричит. Я возвращаюсь в квартиру: везде удивительно пусто. На меня сразу наваливается одиночество. Уснуть уже не смогу. Варю кофе и читаю вчерашнюю газету. В восемь звонит мобильник — это Оливер отправляется на работу.
— Не проспали? — говорит он.
— Нет.
— Когда вылет?
— В полдевятого.
— Не грусти.
— Хм.
Он с минуту молчит.
— Я хочу предложить тебе, — говорит он, — переехать ко мне.
— Нет смысла — на эти две недели. Я теперь ежедневно у бабушки.
— Я не о двух неделях, — поправляет меня Оливер. — Я имею в виду — насовсем.
Глава XXV
СТАРОХОЛОСТЯЦКАЯ КРЕПОСТЬ ЗАВОЕВАНА! — пишу эсэмэску Ингрид.
У меня такая радость, что я готова была послать ей летящее сердце, но, к счастью, вовремя вспомнила про свое твердое решение никому не посылать ни одной из этих дурацких картинок (мы же не индейцы, чтобы общаться с помощью пиктографического письма). Да, я радуюсь и одновременно боюсь совместной жизни с Оливером.
Боюсь за свою личную жизнь, за свои каждодневные привычки.
Боюсь, что мы станем друг для друга обыденностью.
Боюсь, как бы Оливер не начал действовать мне на нервы.
Боюсь, что не перестану искать.
Первые два месяца — сверх ожидания — превосходны. Мы оба с самого начала делаем для этого все возможное. Оливер встречает меня цветами, голубой шелковой пижамой от Marks and Spencer и белым махровым халатом; в ответ и я покупаю ему кресло, какое не так давно купила Ингрид Губерту.
Оливер в восторге. Он милый, забавный. Мы по-дружески дразним друг друга.
— Дорогая Лаура, поверь, я в самом деле не имею ничего против твоих шампуней для волос, всякой пены для ванн, бальзамов, кондиционеров, восстановителей для волос и молочка для тела, размещенных по всему периметру моей ванны, — говорит мне Оливер, выйдя из ванной комнаты. — Но конечно, только при условии, что где-нибудь с ее краю останется место для рюмки с вином и мисочки с маслинами…
— Бог ты мой! Разгильдяй с привычками педанта! — смеюсь я. — Самое жуткое сочетание!
Он хватает меня за горло и заваливает на постель.
— Каких-нибудь жалких десять сантиметров, Лаура!
Он удивляет меня разными мелкими подарками. Приходя после работы домой и видя, что в гарсоньерке Оливера горит свет, я с радостью ускоряю шаг; если первой прихожу я, то ловлю себя на том, что жду не дождусь, когда в замке повернется Оливеров ключ.
Мы всегда встречаем друг друга, выходя в переднюю.
— Привет, любовь, — улыбаюсь я.
— Привет, любовь, — улыбается Оливер, обнимая меня. — Каким был день?
Однажды за бокалом вина он снова заводит разговор о детях.
— Бывают дни, когда я могу себе это представить, — говорит он. — Пожалуй, я не был бы против…
— Тебе так скучно? — язвительно припоминаю я его собственные слова.
— В конце концов, мне сорок, — качает он головой. — Не хочу быть на классном собрании сына самым пожилым родителем…
Это мне что-то напоминает, но все равно я целую его.
Почти каждый вечер ложимся спать вместе. Мы уже не отдаемся любовным утехам так часто, как раньше, но и без них с Оливером в постели чудесно. Обычно я притулюсь у него под мышкой, а он согревает мои холодные руки и ноги или слегка водит пальцем по моему лицу (это я обожаю).
Знаете, милые сестры, что такое любовь?
Когда кто-то перед сном просто нежно гладит вашу ладонь.
Однако ничто не вечно под луной.
— «Настоящая цена любви состоит в том, что она была, — в один из февральских вечеров цитирует Оливер Ярослава Гавличека[78], которого читает. — Воплощенные мечты предвосхищают бури и бесплодными приходят в рай».
В марте эти слова сбываются.
В марте он уже не цитирует мне ничего. Он буквально завален работой — по крайней мере говорит так. Домой раньше приходил в восемь, теперь большей частью после девяти.
— Привет, любовь, — приветствую я его, стараясь, чтобы это не звучало укоризненно или даже с подозрением.
(При этом, конечно, и думать не смею о всяких Блудичках…)
Оливер удивленно смотрит на меня, словно ужасно поражен тем, что я живу у него.
— Привет, привет, — говорит он раздраженно, устало.
В последнюю мартовскую неделю он заболевает, а возможно, притворяется больным. Речь идет о заурядном вирусе, однако признаки болезни Оливер излишне драматизирует. Он отказывается вставать с постели, кашляет, пять раз на дню мерит температуру и накачивает себя колдрексом, бромгексином и разными дорогостоящими поливитаминами (его домашняя аптечка, ни дать ни взять, отлично снабженная полевая амбулатория среднего масштаба).
— Я наконец поняла, что это обычная мужская ипохондрия, — с улыбкой говорю я, принося ему в этот день уже вторую сухую пижаму, но он злобствует. Твердит, что его неоспоримый физический недуг я цинично недооцениваю.
Через несколько дней он, естественно, поправляется, но по-прежнему невыносим. Вечерами молчит, а когда прямо спрашиваю его, почему он со мной не разговаривает, раздраженно начинает толковать о том, что все производители моющих средств — круглые идиоты. Его анекдоты перестают быть забавными.
Мне становится с ним скучно.
Ко всему он снова пьет, практически ежедневно. Его одежда теперь еще неопрятнее, чем прежде.
Однажды в середине недели он приходит домой пьяный в стельку (по случайному совпадению в тот самый день, когда Мирек вручает мне в редакции трогательно неловкое любовное послание). Я выхожу в переднюю встретить Оливера, но он, увертываясь от меня, молча проходит мимо и одетым валится на постель. Раздраженно отбросив моего кенгуренка в сторону, мгновенно крепко засыпает.
Разумеется, он храпит — сцена будто из какого-то фильма. Я ставлю у его постели ведро, хватаю мобильник и звоню Ингрид.
— Хочешь знать, как выглядит любовь? — говорю ей без предисловия, не стараясь даже приглушить голос. — Тогда соберись и приезжай сюда…
Мы стоим над пьяным вдрызг Оливером и смотрим на него, как две разгневанные парки: от него несет куревом и алкоголем.
— Так кончаются наши девичьи мечты… — констатирует Ингрид, прикрывая Оливеру обнаженную спину.
— Иногда я бы хотела быть лесбой… — говорю я.
Ингрид обнимает меня и с деланной страстью гладит мне низ живота и груди; оттолкнув ее, иду за письмом Мирека.
«…Возможно, ты будешь смеяться, но я и впрямь чувствую, что под завязку полон настоящей любви, которой мне не с кем поделиться, — пишет мне Мирек. — Жизнь человека тяжела, когда ему не для кого жить, не для кого зарабатывать, не для кого стараться. Думаю, что и тебе, наверное, все это не очень легко, но, если бы ты хоть чуточку могла меня полюбить, мы с тобой вместе прекрасно бы жили, потому что я умею ценить любовь. Женщин я ни в коем разе не бью! Кроме того, я успел кое-что скопить, немного правда, но на маленький, пусть и не новый, домик где-нибудь подальше от Праги, пожалуй, наскреб бы. Или тебя не привлекает жизнь где-нибудь вдали от столичного смога и шума, посреди чистой природы, где межчеловеческие отношения между мужчиной и женщиной еще не испорчены?»
Ингрид поначалу умильно улыбается, но при повторном чтении начинает громко смеяться. Оливер храпит. Я уже чувствую себя виноватой.
— Знаешь, Ингрид, грешно над этим смеяться, — говорю я. — Это просто кощунство.
Но потом, не сдержавшись, хохочу вместе с ней.
Мои «межчеловеческие» отношения между мужчиной и женщиной уже, пожалуй, испорчены.
Глава XXVI
В апреле Оливер представляет меня своим шестидесятипятилетним родителям.
Словно он не знает, что у нас и без того уйма проблем!
Словно мало того, что ему сорок, что он спал с моей матерью, что пьет как сапожник, что дико одевается, что у него ужасные взгляды и ужаснейший лучший друг, так ко всему у него еще есть родители!
Список Оливеровых недостатков зловеще разрастается.
Оливер эскортирует меня к ним на пасхальные праздники; утверждает, что этот визит уже нельзя дольше откладывать. По пути в машине он пытается внушить мне, что наш визит нужно воспринимать не как неприятную обязанность, а как знак уважения. В его жизни было много разных знакомств, намекает Оливер мне, однако своим родителям он представляет лишь исключительно серьезные…
— А Блудичку? — спрашиваю я напрямую. — Ее ты тоже представил им?
Оливер внезапно переключает свое внимание на вождение.
— Ну-ну, — говорю я кисло.
Он останавливается перед скромным домиком на самом краю села; дальше уже одно поле. Садик тщательно обихожен, столичного шума и смога тут и в помине нет, но жить здесь я бы решительно не хотела. Оливер выключает мотор и неожиданно сигналит — я вздрагиваю (иногда у меня от подобных испугов выступает лихорадка). Занавески с цветочным узором отдергиваются, и родители спешат к нам навстречу. Они улыбаются, но я хорошо знаю, что при этом мысленно сравнивают меня с предыдущими Оливеровыми пассиями.
Оливер хватает меня за руку и тащит к ним. На лице у него выражение, до сих пор не знакомое мне и отчуждающее его. «Какой по счету гостьей я являюсь? — думаю про себя. — Четвертой, седьмой? Сколько раз они уже играли в эту игру?»
— Добрый день! — восклицают все трое с улыбкой.
Первое впечатление: отец суетно галантный, на удивление маленький; на голове довольно редкие волосы (гены?), а на шее висит донельзя отвратительный галстук. Мать полная, но ухоженная; явно соблюдает невозмутимое достоинство. Словом, тот тип женщин, что особо заботятся о прическе, лице, шее и ногтях, а прочее прикрывают свободным костюмом или шелковым платьем… Мгновенно их обоих представляю в постели (ей-богу, ничего не могу с собой поделать).
— Вот это Лаура, мама, — говорит Оливер.
Мать обнимает меня с сердечностью, которая, как ни странно, кажется искренней. Поначалу столь быстрое расположение ко мне даже необъяснимо, но, когда в гостиной на этажерке с журналами я обнаруживаю несколько номеров «Разумницы», понимаю: любовь к журналу, вероятно, переносится и на его редакторов… За обедом (посреди стола белый цветочный горшок с зеленой травкой, шоколадным зайчиком и тремя желтыми цыплятами) я старательно рассказываю несколько историй из жизни редакции.
Оливер одобрительно подмигивает мне.
После обеда мы все отправляемся пройтись по городу (понять не могу, откуда берется смелость называть эту жуткую сонную дыру городом). Оливерова мать с шокирующей естественностью хватает меня под руку. Оливер идет рядом с отцом в трех шагах впереди нас. Двигаемся мы невыразимо медленно, поэтому мне сразу становится холодно и начинает казаться, что я на похоронах. Наконец мы доходим до какой-то площади.
— Она заново вымощена! — гордо указывает мне отец Оливера на мостовую.
Да, возможно, однако все магазины и единственное кафе закрыты. На целые сутки, осознаю я. С матерью Оливера мы говорим о шампунях и бальзамах для волос; повторяю обрывки моих разговоров с парикмахершей. Мать Оливера внезапно останавливается и запускает в мои полосы два пальца, Я чувствую себя лошадью, которую ведут на торг… Мимо нас проходит какая-то пожилая поседевшая женщина, толкающая впереди себя ржавую тележку с бутылью пропанбутана.
— Привет, — говорит ей Оливер.
Вам ни за что не догадаться, кто это.
Одноклассница Оливера!
Вечером мы все сидим перед телевизором. После окончания фильма, с Дастином Хофманом, сославшись на головную боль, я иду лечь — в студенческую комнату Оливера.
Оливер приходит ко мне спустя примерно час.
— Ну что? — интересуется он.
Не знаю, что и сказать, поэтому засыпаем в атмосфере невысказанного несогласия (за руку он меня не держит).
Оливер, к счастью, встает утром первым и дает мне поспать. Я благодарна ему. Благодарна за каждую минуту одиночества. Мне удается еще уснуть, но вскоре меня будит страшный шум; открываю глаза и вижу: над постелью стоит отец Оливера с пасхальным яичком в руке. Он и на этот раз при галстуке.
— Угощенье, угощенье, вот яичко в утешенье! — неумело, точно школьник, тараторит он и, прежде чем я успеваю что-либо понять, срывает с меня перину. Я сплю в одной майке, без трусиков, так что мой визг вполне естествен. Я вскакиваю с постели и стараюсь оттянуть майку как можно ниже. Судорожно улыбаюсь. Отец Оливера краснеет, но делает вид, что ничего не заметил.
— Не дадите крашеное, дайте хоть беленькое, курочка снесет вам свеженькое! — тарахтит он мужественно и слегка похлопывает меня цветным бантом по голым ляжкам.
Нам обоим страшно неловко, но никакого яичка, которым я могла бы выкупиться, у меня, разумеется, нет. Тут входит Оливер с матерью; я глазами прошу его помочь мне, но Оливер за спиной тоже прячет пасхальный подарок и вместо помощи начинает хлестать меня по рукам, которыми я придерживаю майку. Мне больно.
— Угощение — прямо в рот! Тут яиц невпроворот! — галдит он исступленно.
О святый боже, что эти два придурка ждут от меня? Что ради них я вырежу себе яичники? А когда, похоже, всему приходит конец, ко мне подскакивает мать Оливера и обливает меня какими-то дешевыми духами.
Наконец оба родителя с громким смехом уходят.
Опираясь о стену, я глубоко дышу, чтобы меня не стошнило от этой вони.
— Относись ко всему с юмором, — говорит Оливер.
Я смотрю ему прямо в глаза.
— Я стараюсь! — шиплю я недобро. — И если говорить откровенно, предпочла бы, чтобы ты был круглым сиротой…
Глава XXVII
Ингрид расстается с Губертом.
— Я уже не в силах была слушать его стёб, — объясняет мне Ингрид во время обеда в нусельском ресторане «Раднице».
— Наконец, значит, выяснилось, что он вовсе не зрелый, не интеллигентный и не начитанный? — с иронией напоминаю подруге ее былую очарованность.
— Да нет, не то, — неприязненно говорит Ингрид. — Только ведь жизнь — это не состязание в начитанности.
Что-то в этом, конечно, есть, ибо Губерт, как я узнаю от Ингрид, вопреки своей жизненной зрелости, необыкновенной интеллигентности и невиданной начитанности (если вам кажется, что это звучит насмешливо, вы, честное слово, не ошибаетесь) из-за разлада с Ингрид совсем съехал с катушек и теперь дважды в неделю должен посещать психиатра.
— Не трепись, — пораженно выпаливаю я.
— Абсолютный факт. Ходит к какому-то доктору по фамилии Забрана…
Я удовлетворенно киваю, Ингрид хитро ухмыляется. Наконец-то мы этому типчику отомстили!
— Оливер тоже действует мне на нервы, — доверительно говорю я Ингрид чуть погодя. — Иногда меня тошнит от его стоптанных башмаков, от его вечного бардака в доме, от его немыслимого авто…
— Главное все-таки не в этом… — возражает Ингрид.
— Теоретически, конечно, ты права, но представь себе, что в таком хаосе живешь ежедневно!
Похоже, Ингрид пытается это представить.
— Я, впрочем, не хочу ничего особенного, — говорю я мечтательно. — Двое здоровых детей и муж, который не выглядит бомжем. Вот и все. Может, еще белый домик под красной крышей. И с камином.
— Я тоже. И маленький садик. И собака, — дополняет меня Ингрид.
— И приятные соседи. Какая-нибудь пожилая пара. Испечет что-нибудь такая соседка, положит на тарелку несколько ломтиков и передаст мне через живую изгородь…
— Вот именно, — говорит Ингрид.
Оливер, конечно, зол на Ингрид, а тем самым и на меня. Твердит, что она предала Губерта.
— Как это предала? — возражаю я. — Разве она что-нибудь обещала ему? Разве в любви можно что-нибудь обещать?
Оливер не отвечает.
— «Настоящая цена любви состоит в том, что она была, — напоминаю ему цитату из Гавличека. — Воплощенные мечты предвосхищают бури и бесплодными приходят в рай…»
Оливер молчит.
Однако разрыв Губерта и Ингрид заметно влияет на Оливера — с мая он старается держать себя в руках: куда меньше пьет, домой является раньше, иной раз приносит мне цветы. Случается, все это приправляет и вполне забавным анекдотом.
В итоге заказывает для нас даже поездку на Корчулу — в ту самую гостиницу, где мы были в прошлом году.
Тогда еще с Рикки — помните?
Мама и Ганс.
Когда бы я весной ни спросила у мамы, как у нее идут дела с Гансом, она лишь с улыбкой пожимает плечами (я понимаю, после всех своих романов этот она не хочет сглазить). Но видятся они все чаще. В апреле отправляются кататься на лыжах в Савойские Альпы (Ганс, как и мама, прекрасный лыжник), в конце мая они летят на две недели на Майорку.
Похоже, что эти двое и вправду нашли друг друга.
С Майорки мама прилетает в четверг после обеда.
У Оливера какая-то якобы безотлагательная встреча с весьма солидным клиентом, и потому второе место в приветственной делегации на сей раз занимает Ингрид.
Мы стоим в зале прилета у металлической перегородки с тюльпанами.
Мы ждем улыбающуюся, превосходно одетую и намакияженную даму в наилучшем зрелом возрасте, но вместо этого из гидравлических дверей выходит усталая, стареющая женщина в мятом костюме с темными пятнами под мышками.
— Мама! — испуганно выкрикиваю я. — В чем дело?
— В чем дело? Ни в чем. Похоже на то, что я опять свободна…
Ингрид озабоченно смотрит на нее.
— Как это понимать — свободна? — осторожно спрашиваю я.
— Так, как говорю, — неубедительно смеется мама. — Моя жизнь вновь открыта для новых приключений и бесплодных обещаний…
И она заливается слезами.
Рекапитуляция: после недельного пребывания на Майорке мама попрекнула Ганса тем, что к туристам из восточного блока (особенно к восточным немцам, полякам и, увы, к чехам) он относится с очевидным высокомерием, и назвала его поведение крайне несимпатичным. Ганс сказал (после короткой паузы), что в общем это естественная реакция на непозволительное поведение большинства таких туристов. Разве мама не заметила, как они одеваются? Как ведут себя в магазинах? Как ведут себя на пароме или в гостиничном ресторане у шведских столов? Разве она не видит, что у многих из них напрочь отсутствует элементарная культура?
Мама в ответ сказала, что он криптофашист.
Ганс разгневанно возразил, что такого оскорбления он решительно не заслуживает. Он, скорее, ожидал бы чуточку благодарности (ногтем указательного пальца он якобы многозначительно постучал по своей золотой кредитной карточке).
В результате этого мама вылила ему на голову бокал с остатками мороженого Heisse Liebe.
(И это была сладкая точка…)
Ганс встал, вытер с лица мороженое и еще теплую малину и из бюро обслуживания заказал по телефону билет на ближайший рейс в Гамбург.
(Поставим крест, милые сестры, на тщетной мечте. Настоящая жизнь выглядит именно так.)
А как все остальные в мае?
Бабушка с помощью костылей потихоньку передвигается.
С Жемловой, наоборот, дело швах — она уже почти не выходит из дому.
Тесаржова разводится.
Мирека я решаю пригласить в кафе «Лувр».
Он приходит в коричневых вельветовых бермудах и зеленой рубашке с вздувшимися погонами — ни дать ни взять, главарь скаутов. Мы все выкладываем друг другу. Да, я тоже люблю его, но только по-товарищески. Вы это знаете, милые сестры. Он обрадован и вместе с тем разочарован. Его лицо принимает такое сладко-кислое выражение.
Май, однако, последний месяц, когда я подобные вещи еще способна воспринимать. В начале июня мы с Оливером летим на десять дней на Корчулу, где у меня — в чем поразительно сходятся все вышеупомянутые — совсем поедет крыша.
Глава XXVIII
Если человек хорошо загорел, он по крайней мере должен улыбаться. Хмурое бледное лицо может, пожалуй, выглядеть достойно, но насупленное загорелое лицо, на мой взгляд, кажется чаще всего смешным.
В течение семи жарких солнечных дней на Корчуле мы с Оливером покрылись темным загаром, но ни один из нас не улыбается. Раздраженные, мы сидим в тени пальм в маленьком парке на берегу местечка Гвар (оно на одноименном острове) и, наверное, довольно смешно выглядим. Я хочу пить, но идти искать что-нибудь для утоления жажды нет сил. Мы молча ждем парома, который должен отвезти нас обратно на Корчулу, паром опаздывает на час, и это еще больше омрачает картину.
Два дня назад я сказала Оливеру, что он невыносимый невротик, что я часто стыжусь, как он одет, и что у него нестерпимо воняют ноги (и неудивительно: с весны он ходит в одних и тех же сандалиях на босу ногу, а когда снимает их, в одном помещении с ним нельзя находиться). К тому же я попросила его ради меня отказаться от привычки танцевать полуголым и выпившим перед зеркалом, так как это производит ужасно жалкое впечатление.
Оливер удивленно поднял брови. Потом сказал, что с благодарностью пользуется редкими минутами, когда мы откровенны друг с другом, ибо давно намеревался мне сказать, что все чаще подмечает растущую во мне склонность к снобизму. Немного снобизма — еще куда ни шло, но чего много, того уже чересчур. И потом, он считает, что за зимуя располнела примерно кило на три-четыре, и потому неплохо бы мне заняться гимнастикой.
В самом деле, касательно лишних килограммов не могу с ним не согласиться. Но откуда у него такая бессовестная наглость высказывать мне это?!
В конце концов, мы практически не разговариваем.
И уже пять дней не были близки.
Пожалуй, я сыта всем по горло.
— Я сыта всем по горло, — заявляю я вслух.
Оливер пожимает плечами и утвердительно кивает.
А потом появляется большая белая яхта с чешским флагом на мачте и причаливает у мола прямо перед нами.
Гребной винт бурно вихрит воду, затем мотор затихает. Из каюты управления выходит броско-красивый, примерно тридцатилетний мужчина в солнцезащитных очках; на нем лишь элегантные светлые брюки, до пояса он голый.
— О господи, — тихо вздыхает Оливер, — ко всему еще этот призрак…
Я смотрю на Оливера с недоумением, даже с каким-то протестом. Между тем ОН абсолютно уверенно проходит по шаткой палубе на нос яхты, берет свернутый канат, наклоняется (причем на его крепком плоском животе не появляется ни одной жировой складки) и ловко обвязывает канат вокруг каменного столбика на молу. Сейчас ОН настолько близок к нам, что видна марка его очков (Ray Ban), золотистые волоски на его мускулистой руке и цифры на циферблате несомненно очень дорогих часов. Замечаю также, что у него очень красиво очерчены чувственные губы.
— Джеймс Бонд Гвара, говорит Оливер насмешливо, почти с неприязнью. — Как раз в самое время…
ОН поворачивается и, сняв очки, окидывает нас беглым взглядом. У него темные, глубокие глаза. Загорел он еще больше, чем мы с Оливером, и, хоть не улыбается, смешным вовсе не кажется. Напротив.
Оттолкнувшись без всякой подготовки, ОН пружинисто спрыгивает с яхты на берег.
— Привет, Оливер, — говорит ОН спокойно.
— Здравствуй, — недовольно отвечает Оливер.
ОН — директор пражского филиала большого международного рекламного агентства. Оливер все эти определения пародийно скандирует, точно конферансье, вызывающий на сцену прославленного артиста. В настоящее время ОН в отпуске, плавает по Ядрану и, как ни странно, путешествует один. Меня же Оливер представляет как девушку, с которой еще недавно встречался; сегодня, дескать, это уже не столь определенно.
— Что-то происходит? — спрашивает ОН с милой застенчивостью.
— Ничего неожиданного, — говорит Оливер ледяным тоном. — Наши отношения развиваются абсолютно по стандартному образцу. Лаурина влюбленность, естественно, иссякает, и теперь она видит меня совсем в другом свете, чем поначалу. Лаура с удивлением обнаруживает, что у меня в роли ее партнера — кроме нескольких скромных достоинств, которыми она некогда искренно восхищалась, — есть много качеств и привычек, которые ныне столь же искренно не выносит.
В то время как Оливер говорит, ОН озадаченно опускает голову. У него прекрасные густые волосы (у Оливера на темени они редеют).
— Прозрачно-чистый образ, который в период влюбленности Лаура создала, — продолжает Оливер, — все больше и больше мутнеет от взвихрившейся грязи внезапно обнаруженных недостатков, ставших для нее не только вполне объяснимым источником разочарования, но, как это ни парадоксально, и торжества.
— Прекрати, пожалуйста, — прошу я его.
— Иными словами, мои слабости Лаура не без удовлетворения регистрирует, четко каталогизирует — я бы даже сказал, лелеет их, — ибо они всегда должны быть у нее наготове, чтобы при необходимости послужить ей оправданием. Например, в случае измены и тому подобное. Было бы, впрочем, абсолютно неуместно упрекать ее в возможной измене, поскольку указанные трудности наших отношений логически влияют и на нашу сексуальность. Вместо прежней радостной игры двух тел она становится, скорее, некой носительницей симптомов…
— Прекрати!
Наконец Оливер умолкает. Наступившая тишина мучительна.
— В какой гостинице вы живете? — спрашивает ОН из вежливости. — Вы здесь уже давно?
У него тихий, приятный голос.
— Мы живем на Корчуле, — отвечаю я и объясняю, что здесь мы задержались в ожидании парома.
— Я отвезу вас туда, здесь недалеко, — предлагает ОН.
Я вопросительно смотрю на Оливера, но тот лишь разводит руками. Делай что хочешь, означает его жест.
— Это было бы замечательно… — говорю я. — Но вы не меняете ради нас своих планов?
— Корчула у меня в плане, — говорит ОН.
— Тогда супер! — восклицаю я радостно.
Чувствую, как ко мне возвращается хорошее настроение.
— Я хочу сегодня вечером посмотреть Морешку, — добавляет ОН бесхитростно.
Я отвожу взгляд. Оливер усмехается. Внезапно напускает на себя бесшабашный вид (но меня, естественно, не проведешь).
— Знаете, что сказал Гёте? — обращается он одновременно ко мне и к НЕМУ. — В любой ситуации нет ничего более важного, чем появление третьего. Я видел друзей, братьев и сестер, любовников и супругов, чьи отношения благодаря случайному или преднамеренному появлению нового лица полностью изменились, чья ситуация полностью перевернулась…
На моих губах извиняющаяся улыбка.
— Вам надо бы знать, — говорю я в продолжение разговора, — что у Оливера уникальная склонность к преждевременной ревности…
В ответ ОН растерянно улыбается. Бабочки в моей утробе, трепеща крыльями, вспархивают. Оливер наблюдает за нами.
— Преждевременная ревность — логическая бессмыслица, замечает он сухо. — Напротив, ревность возникает всегда слишком поздно.
Глава XXIX
Когда мы садимся в лодку, руку подает мне ОН, а не Оливер.
Оливер моментально ложится на светло-голубой полотняный матрас на носовой части яхты. Я иду осмотреть каюту управления. ОН отвязывает канат и приходит ко мне. Включает мотор, медленно отводит лодку от причала и, ускоряя ее ход, направляет в открытое море между двумя островами. Нос начинает подпрыгивать по вспененным гребням волн. Дует довольно сильный ветер, но жарко по-прежнему, и это приятно.
— Хотите попробовать? — обращается ОН ко мне.
ОН впервые повышает голос, дабы заглушить мотор, плескание воды о нос и, главное, крик морских чаек, сопровождающих нас. Я неуверенно киваю, и ОН уступает мне деревянный штурвал. Я улавливаю запах ЕГО духов (почти наверняка это Eternity от Кельвина Кляйна). Наши руки на миг соприкасаются, но сейчас главное — сосредоточиться на управлении. Проходит минута, другая, прежде чем я понимаю, что лодка реагирует на движение штурвала с некоторым опозданием, а потом я уже только тихо радуюсь силе мотора и неоглядному простору впереди нас. Белые камни, окаймляющие побережье, медленно отдаляются, на горизонте вырисовывается узкая полоска Корчули. ОН все время стоит сзади, почти вплотную ко мне.
Бабочек в моей утробе все прибывает, их бархатные крылья неумолимо трепещут.
Оливер лежит на спине, руки раскинуты в стороны, глаза прикрыты.
— Мне надо идти к нему, — говорю я спустя какое-то время.
Это звучит как вопрос. Молча кивнув, ОН берет у меня штурвал.
Я снимаю майку и верхнюю часть купальника (знаю, что ОН смотрит) и ложусь на живот рядом с Оливером. Его глаза по-прежнему закрыты.
— Мне хотелось бы помириться, — говорю я.
Я стараюсь придать своему голосу непринужденный, спокойный тон, но голос звучит возбужденно. Я глажу Оливера по его редеющим волосам, но он не реагирует. Я демонстративно вздыхаю, приподнимаюсь, опираясь на локти, и смотрю, как острие лодки скользит по волнам. Матрас под нами подпрыгивает от размеренных толчков, и на раскаленную солнцем спину поминутно падают нежные водяные брызги.
— Ты была за штурвалом, — говорит Оливер, не открывая глаз. — Лодка несколько раз описала небывало крутую дугу. Я почувствовал.
— Да, я была за штурвалом, милый Ватсон… Потрясающе. Попробуй тоже.
— Одним словом, на штурвале ваши руки соприкасались, — говорит он. — И у тебя даже дух захватывало. ОН стоял так близко от тебя, что ты мечтала дотронуться до НЕГО. Дотронуться до его мышц, поразительно четко выступающих под мягкой, нежной загорелой кожей мужчины…
— Не будь смешным, Оливер. Я же сказала, что хочу помириться, а не поссориться.
— Ты и сейчас еще чувствуешь удушливое, давно не испытываемое тобой возбуждение. Тебе хотелось бы думать, что дело в упоении скоростью, широким простором и соленым запахом ветра, но где-то в глубине души ты ощущаешь, что это возбуждение вызвал ОН.
— Тебе нужен психиатр.
— Минуту назад ты сняла майку, я слышал это, — говорит Оливер, глаза его по-прежнему закрыты. — Ставлю тысячу долларов, что ты сняла и бюстгальтер…
Я молчу.
— Я не прав?
Он вдруг открывает глаза и смотрит мне на спину. Я краснею.
— Ты покраснела — знаешь об этом?
— Оставь меня в покое!
Оливер отворачивается и устремляет взгляд куда-то к горизонту.
— Сегодня вечером он позовет нас на Морешку, — говорит он, чуть повременив. — Держу пари. Я сначала откажусь, но ты уговоришь меня пойти. Ты сядешь между нами. На мне будут вонючие сандалии, грязные бермуды и какая-нибудь ужасная рубашка с заношенным воротником, а он будет в черных кожаных перфорированных мокасинах Camel, черных полотняных джинсах Replay, черной майке-стрейч и легком белом пиджаке Hugo Boss, который позже ОН галантно накинет тебе на озябшие голые плечи. Его сходство с Черным королем…
— …с той минуты будет буквально бить в глаза, но мы все станем истово притворяться, что никакой символики не заметили, — подхватываю я его образы с наигранным превосходством. — О'кей. Что ж, хорошо.
Оливер удовлетворенно кивает.
— После представления Морешки в естественном порыве ты позовешь нас куда-нибудь опрокинуть рюмочку, — продолжает Оливер.
— Точно. Это будет абсолютно спонтанная, внезапная идея.
Именно так. В ближайшем баре каждый из нас выпьет по две рюмки ракии, после чего вы оба почувствуете ужасный, почти неодолимый голод… По счастью, ОН будет осведомлен о недалеком рыбном ресторане, где в прошлом году подавали просто фантастического лаврака… На этот раз ОН пригласит нас. В течение вечера мы выпьем три бутылки вина Zlatan Plavac. Рано или поздно я вынужден буду удалиться в туалет, и у тебя будет достаточно времени для того, чтобы у кого-нибудь за соседним столом попросить ручку и написать ему на салфетке номер своего телефона.
— Я не буду это выслушивать, — говорю как можно решительнее и встаю.
— А мне придется… — хмуро заключает Оливер. — Держу пари, что мне придется даже наблюдать все это…
Итак, идти на Морешку мы не можем. Несмотря на то, что мне хотелось бы. Несмотря на то, что ОН действительно приглашает нас.
— Нет, спасибо, — неохотно отвергаю я ЕГО смущенное предложение. — Сдается, это представление для Оливера невыносимо символично… В этом отношении он ужасно чувствителен.
ОН выглядит недоумевающим и при этом разочарованным (не могу не отметить, что это сочетание ему невероятно к лицу).
— Я, по сути, разленившийся, если не просто ленивый мужчина средних лет, — объясняет Оливер, по-хозяйски хватая меня за талию, так что ОН, бедняжка, мгновенно отводит глаза. — Меня бесит мысль, что мне пришлось бы за свою девушку бороться. А когда это еще ко всему так драматически наглядно…
— А не принять ли тебе какое-нибудь успокоительное? Например, мезапам? — говорю я как бы в шутку (а на самом деле не могу примириться с тем, что на Морешку мы с НИМ не пойдем).
Но Оливер упрямо качает головой.
— Я бы уподобился матери Гамлета на представлении бродячих актеров…
Я беспомощно пожимаю плечами. Мой и ЕГО взгляды встречаются. Мы оба знаем, что Оливер и я послезавтра улетаем.
— А что вы делаете завтра? — говорит ОН чуть ли не грустно.
ОН, дескать, завтра думает заняться дайвингом. Он решительно не хочет навязываться, но, может, мы не против совершить небольшую морскую прогулку вдоль острова? В сочетании, скажем, с легким обедом?
Оливер молчит.
— Ну как, поедем? — говорю ему, прямо и холодно парируя его взгляд. — Или дайвинг тоже слишком символичен?
— Что ж, хорошо, — говорит Оливер. — Поедем.
— Будем фоткать? Взять фотоаппарат? — спрашивает меня Оливер утром в номере, когда мы собираемся в дорогу.
Я приготавливаю три больших багета с сыром и бастурмой и каждый в отдельности с необыкновенной тщательностью, почти с нежностью заворачиваю в салфетки. Кидаю на Оливера беглый взгляд: он, пожалуй, далек от иронии, вид у него вполне деловой.
— Как хочешь, — говорю я, но про себя надеюсь, что аппарат он возьмет.
— Так я возьму его? — спрашивает он дружески.
— Хорошо, — улыбаюсь я в ответ.
Оливер, обняв меня, глубоко вздыхает. Я глажу его по спине.
— Прости мне вчерашнее, — шепчет он. — Я вел себя как идиот.
Я целую его, словно могу этим откупиться.
Наконец мы плывем, и в пути настроение немного поднимается. Оливер после долгого перерыва снова старается быть забавным. Мы пьем настоящее французское шампанское (бутылка стоит в серебряном ведерке со льдом) и закусываем бутербродами с лососем и моими багетами. Море синее, солнце приятно припекает.
— Быть при деньгах — любому по кайфу, — роняю я вслух.
— В прошлой жизни я, скорее всего, был богатым аристократом, — говорит Оливер. — Считаю так по той причине, что для меня не составило бы никакого труда приспособиться к роскошной жизни.
Потом мы фотографируемся на носу яхты. Сначала ОН снимает меня и Оливера, потом я фотографирую их вместе. Они оба раздеты по пояс, и сравнение, которое предлагает мне глазок фотоаппарата, далеко не в пользу Оливера.
— Ну давай же, — торопит он меня.
Я нажимаю спуск.
Мне хотелось бы сфотографироваться рядом с НИМ, но я не решаюсь попросить об этом Оливера.
Вы когда-нибудь, милые дамы, погружались под воду с мужчиной, в которого вы все больше влюбляетесь? Происходит это примерно так: на берегу ОН натягивает вам на ноги длинные цветные ласты, в которых надо пройти всего лишь несколько метров, отделяющих вас от морской глади, но и этих нескольких метров вполне достаточно, чтобы вы мгновенно превратились в толстую, неповоротливую утку. Уже в море ОН надевает вам огромные очки и полностью погружает вашу голову в воду — убедиться, что в очки не затекает ни капли. В то время как вы сплевываете соленую воду и представляете себе, как вы выглядите с уродливо примятой прической, мужчина вашего сердца старается плотно укрепить очки. Затем, сообщив, что картина дна искажена преломленным солнечным светом (эти слова звучат для вас, как самая прекрасная поэзия), засовывает вам в рот нечто вроде боксерского предохранителя зубов, так что ваша верхняя губа выглядит теперь так, будто ее укусил шершень. Потом ОН снова окунает вашу голову, и когда вы открываете глаза и начинаете дышать (удивительно, но получается!), то обнаруживаете вокруг несказанную красоту.
Вы плывете посреди голубой тишины, и вода бережно приподнимает вас.
Повсюду вокруг плывут десятки разноцветных рыб.
В водяных струях у самого дна волнуются растения, которых вы никогда в жизни не видели.
ОН радуется вашему изумлению. Раз, другой опускается до самого дна и вылавливает для вас раковину святого Иакова. Конечно, вы не можете говорить и объясняетесь лишь глазами — и робкими прикосновениями. Когда вы, например, совсем приближаетесь к берегу, ОН берет вас за руку, чтобы в прибое вы не поранились об острые камни. Ваши лица так близко, что вы даже корите себя, что не купили водоупорный make-up. Когда наконец вы выныриваете, у вас размокшее, просоленное и помятое очками лицо, но вы счастливы.
Так счастливы, что при ближайшей возможности тайком подсовываете ЕМУ свой телефонный номер.
Глава XXX
— Ну как было? — спрашивает меня мама в субботу после прибытия.
— Хорошо… — отвечаю.
Мама склоняет набок голову, устремляя на Оливера вопросительный взгляд.
Оливер пожимает плечами.
Еще в тот же день звоню своей парикмахерше и записываюсь на ближайшее по возможности время. Брею лобок и ноги. Подумываю и о визите к дантисту Мразеку, чтобы отполировать зубы, но, представив себе все его скабрезности, решаю лучше купить отбеливающую пасту. Забегаю к бабушке, но не могу сосредоточиться на ее сбивчивом рассказе о том о сем и лишь рассеянно поддакиваю. Возвращаюсь домой и, постирав грязное белье, развешиваю его на балконе. При этом коротко переговариваюсь с Жемлой: жена прошла химиотерапию, ей лучше. Носки, плавки и майки Оливера в мокром виде кажутся еще более жалкими, чем обычно. Возвратившись в комнату, снова проверяю мобильник.
Никаких пропущенных звонков.
Никаких новых сообщений.
Почему он не звонит?!
Когда Оливер отлучается в туалет, я вынимаю из фотоаппарата пленку и кладу ее в сумку, чтобы в городе отдать проявить. Потом подхожу к куче распакованных вещей и, прежде чем Оливер спускает воду, беру в руки раковину святого Иакова.
Она еще пахнет морем.
Наконец утром в воскресенье сообщение:
БЕЗ ТЕБЯ НЕТ КАЙФА. ТОЛЬКО С ТОБОЙ ХОЧУ БЫТЬ ПОД ВОДОЙ.
Я этим настолько растревожена, что тут же бегу в ванную: сняв с душа шланг, три раза обдаю себя и отлично успокаиваюсь (да, милые дамы, я знаю, вы поступаете так же…).
Звоню Ингрид и приглашаю ее на обед в ресторан «Лувр», где ей все выкладываю: возможно, я встретила настоящего мужчину. ОН потрясающий. ОН стильный. Я описываю обстоятельства нашего знакомства и наш совместный дайвинг. Рассказ ужасно захватывает меня. Обычно я говорю немного, но сейчас, пожалуй, могла бы часами рассказывать обо всем Ингрид. Снова и снова.
— Мне кажется, я люблю его, — говорю я.
Слушаю, как звучат эти слова в моих устах.
— Чушь, — укрощает мой пыл Ингрид. — Ты любишь его яхту. Любишь его фирменные часы и серебряное ведерко для шампанского. Но не в этом все-таки дело…
— Оливер твердит то же самое. Над фирменными вещами мы всегда потешались. Но я скажу тебе кое-что: мне это не только не кажется смешным, мне это нравится. Ничего не могу с собой поделать. Тут есть свой смак. Это просто безумно… элегантно.
— Ты говоришь, как твоя мать, — замечает Ингрид.
Вечером мы идем с Оливером в кино. Одет Оливер ничуть не лучше, чем обычно. Старая майка вся в катышках, и на ней еще крошки попкорна. В зале, на счастье, тут же гаснет свет. На экране бегут первые рекламы.
— Ура, реклама! — как обычно ликует Оливер.
Повторенная шутка — уже не шутка. Хоть и сознаю, что надо выключить мобильник, но боюсь.
Боюсь, что ОН позвонит.
Боюсь, что ОН не позвонит.
Оливер согласно нашему ритуалу протирает мои очки, но я на сей раз не кладу голову ему на плечо; лишь слегка погладив его колено, почти сразу отнимаю руку. На большее я не способна. Фильм — вполне удачная комедия, потому что весь зал поминутно смеется, но я только вымученно улыбаюсь. Практически вообще не соображаю, о чем идет речь.
— Тебе не понравилось? — спрашивает Оливер после окончания сеансу.
— Да нет, почему же, — отвечаю я рассеянно, отводя взгляд в сторону.
Он впивается в меня глазами.
— Что с тобой?
Вопрос звучит довольно раздраженно.
— Ничего.
Вдруг вид у него становится таким несчастным, что мне его жалко. Должно быть, я все еще люблю его. Он предлагает мне зайти куда-нибудь и хорошо поужинать. Словосочетание хорошо поужинать — традиционное проявление его желания пойти мне навстречу, и я соглашаюсь (для вашего сведения: пойти поужинать в Оливеровом словаре означает зайти в ближайший кабак, выпить пива и закусить его жареным гермелином; пойти хорошо поужинать означает зайти в ближайшую пиццерию, заказать себе две бутылки вина и какую-нибудь еду не более чем на сто пятьдесят крон).
Мы заходим в одну пиццерию на Карловой площади. Но в ту минуту, когда Оливер пробует вино, в моей сумке раздается тихое попискивание. Я замираю.
— Порядок, — говорит Оливер официанту, не переставая следить за мной.
С притворным натренированным равнодушием я заглядываю в сумку: дисплей мобильника еще светится. Я нажимаю соответствующую кнопку.
Я СКУЧАЮ ПО ТВОЕЙ ЛАДОНИ. ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПОЗВОНИ
Сердце у меня вот-вот выскочит, кровь ударяет в голову. Когда мы чокаемся, моя рука заметно дрожит.
— Плохие новости? — язвительно спрашивает Оливер.
Я ненавижу его. Не отвечая, выпиваю бокал до самого дна.
— Это был ОН?
Нет сил отрицать это.
— Значит, — пораженно говорит Оливер, — ты все-таки дала ему свой номер?
Его гневное изумление все больше растет.
— Ты за моей спиной дала ему свой телефонный номер?
— Да.
Остаток ужина мы проводим в молчании. Это просто невыносимо. Оливер снова и снова наполняет свой бокал. Наконец ударяет ножом о тарелку и поднимается.
— Я иду в туалет, — шипит он. — Можешь ему позвонить…
— О'кей, — говорю я.
Открываю сумку, беру мобильник и жду. Оливер быстро поворачивается и уходит. Я провожаю его взглядом, пока он не заходит за угол, потом звоню на высвеченный номер.
— Это я, — говорю заикаясь, — очень хочу тебя видеть…
Он приглашает меня на ужин — завтра, в Le Café Colonial.
Я счастлива.
Утром в понедельник отдаю в Kodak проявить пленку.
— Все или только удачные? — спрашивает рыжая девушка за перегородкой.
— Только удачные, — говорю я, но тотчас поправляюсь. — Или лучше все!
Для большей уверенности…
— Матовые или глянцевые?
— Глянцевые. Конечно, глянцевые.
Слово «матовые» абсолютно не подходит к НЕМУ.
Из редакции звоню Ингрид с просьбой обеспечить мне алиби.
— Сегодня идем вместе на ужин. Вдвоем. А ты туда случайно не собираешься? Тебе понятно?
Мирек с Властой, услышав эти слова, вопросительно оборачиваются ко мне, и я заговорщически им подмигиваю.
— Думаю, ты отдаешь себе отчет в том, что делаешь, — озабоченно говорит Ингрид. — Ты соображаешь, дорогая, что это кончится в постели?
— Соображаю ли я? — повторяю я за ней. — Я на это надеюсь!
Ингрид молчит.
— А что Оливер? — спрашивает она чуть погодя.
Мирек не спускает с меня глаз.
— Я не знаю… — шепотом говорю я. — Если ты моя лучшая подруга, то прошу тебя не задавать мне таких сложных вопросов!
Мирек покачивает головой.
По дороге с работы захожу в Kodak. Поскольку речь идет об одной-единственной фотографии, мое волнение совсем несоразмерно. На улице я тут же открываю конверт и быстро просматриваю фотографии. Удачные, хорошо сфокусированные. Улыбаясь, натыкаюсь на людей. На большинстве фоток я. На некоторых я и Оливер. У меня перехватывает дыхание.
На следующей фотографии Оливер — и ОН.
Я люблю ЕГО, несомненно.
Вдруг кто-то сзади обнимает меня. Я испуганно оборачиваюсь. Передо мной стоит Оливер.
Я таращу на него глаза. Оливер улыбается. Шел, дескать, с работы и увидел меня.
— Может, зайдем выпьем кофе? — спрашивает он.
Не могу, говорю я. Иду, мол, ужинать с Ингрид и должна переодеться.
Глава XXXI
— Думаю, это неправда, — дома говорит мне с улыбкой Оливер.
— Что неправда? — осторожно спрашиваю я.
— Что идешь ужинать с Ингрид.
Я стою перед зеркалом в передней (я в одной юбке и в своем лучшем бюстгальтере).
— Ты так считаешь? — улыбаюсь ему в ответ. — Что ж, позвони ей и спроси.
Почему всегда это так противно?
— Мне кажется, ты идешь с НИМ.
Мы прощупываем друг друга. Не будь это столь грустно, возможно, было бы даже забавно.
— Да, разумеется, иду ужинать с НИМ, — говорю я спокойно, упиваясь собственной жестокостью. — Я сказала, что иду с Ингрид лишь для того, чтобы подбросить тебе более или менее успокаивающее объяснение. Я не хотела, чтобы ты страдал.
— Это было очень любезно с твоей стороны, — говорит Оливер.
Он все еще пытается говорить со мной в легком тоне, но его ироничная маска уже рассыпается в прах.
— Я сама хорошо знаю, как это… — говорю я, намекая на Блудичку, и следом перехожу в изначально незапланированное наступление. — Ты спал с ней? — спрашиваю, глядя ему прямо в глаза. — Ты спал с Блудичкой уже тогда, когда был со мной?
Оливер оторопело молчит.
Конечно, я догадывалась об этом, но просто не хотела в этом увериться. Его косвенное признание приводит к тому, что во мне поднимается волна справедливого гнева.
— Ну видишь, какой ты подонок! — шиплю я на него.
Он склоняет голову.
— Ты сам все испортил, — добавляю безжалостно.
Оливер с грустью смотрит, как я надеваю топик с глубоким вырезом. Он жутко раздражает меня. Поскорее бы уйти!
— Не ходи, — шепчет Оливер. — Прошу тебя.
Я презрительно усмехаюсь. Сроду терпеть не могу хныкающих мужиков. Скользнув в лодочки, еще раз проверяю содержимое сумки.
— В котором часу ты вернешься? — мучительно проговаривает он.
— Не знаю, — говорю я. — Но ясно одно: если до утра не вернусь, завтра пришлю тебе с посыльным букет цветов…
— На эту тему я отказываюсь шутить.
— А я не шучу.
Оливер сглатывает воздух.
— Если не придешь до полуночи, не приходи вовсе.
Я взрываюсь.
— А ты как? — ору я. — Ты можешь обманывать меня! Мужики могут ходить налево, а женщины нет?!
— Именно так, — говорит Оливер ледяным тоном. — Это успешно функционирующая модель, проверенная многими столетиями. Семейное счастье предшествующих поколений основано именно на этой модели — и не пытайся, черт возьми, ее менять!
В ответ у меня нет слов. Зато я сильно хлопаю дверью. Оливер тотчас распахивает ее.
— До полуночи! — кричит он мне вслед.
Я беру такси, выхожу на набережной и немного прохаживаюсь, чтобы успокоиться. Еще светло, от Влтавы дует ветер. Ее темно-зеленая гладь усеяна чайками. Приближается половина девятого.
У меня три с половиной часа на то, чтобы все решить.
Я вижу ЕГО, как только вхожу. ОН встает (Оливер в подобных случаях никогда не встает), идет ко мне навстречу и берет мое пальто (Оливер в основном забывает об этом). От НЕГО приятно пахнет; я почти уверена, что это Fahrenheit от Диора (Оливер презирает фирменные парфюмы). На НЕМ немнущийся темно-серый костюм Gianfranco Ferré и чуть более темная шелковая рубашка апаш (единственному костюму Оливера из ОП Простеёв[81] одиннадцать лет). ОН вежливо отодвигает для меня стул и ждет, пока я сяду (Оливеру такое и в голову не пришло бы).
— Ты прекрасно выглядишь, — говорит ОН, улыбаясь.
Я с удовольствием оглядываю интерьер с экзотическим (с персидским, уточняет ОН) декором. Взгляды от соседних столов мне льстят. На закуску я заказываю себе горшочек жареных баклажанов и креветки на гриле с ананасом. ОН — салат Тандори и ягнятину на чесноке с базиликом. В качестве аперитива мы пьем портвейн, к блюдам — выдержанное Sivi Pinot. В конце я заказываю мороженое с жареным инжиром в миндальном жакете.
Мама, конечно, порадовалась бы, глядя на меня.
В половине одиннадцатого ОН расплачивается золотой VISA-картой (Оливер платит мятыми купюрами и мелочью, которую вместе с носовым платком, жвачками, анальгетиками и трамвайными билетами постепенно вытаскивает из всех своих карманов), и мы переходим в ближайший бар «BUGSY'S». К сожалению, бар безнадежно переполнен, но ОН спустя минуту находит свободный стол (Оливер — даже если бы и зашел сюда, — ничего подобного никогда не сделал бы). Я пью коктейль под названием «Screaming Orgasm» (Оливеру показалось бы это безвкусным). ОН просит принести восемнадцатилетний солодовый виски с абсолютно непроизносимым названием и подробно объясняет мне его производство. Я слушаю с огромным интересом… А дело обстоит так, милые дамы. Влажный проросший ячмень сперва сушится на горячем воздухе и в торфяном дыму, оставляющем в зернах приятный дымный вкус. Возникший таким путем ячменный солод измельчается в помол, заливаемый горячей водой в мезговой кадке. Вы это видели? Я — нет. Оставшийся крахмал в помоле превращается в постепенно растворяющийся солодовый сахар, и возникает так называемая мезга. К мезге в бродильном чане добавляют бродильные грибки, и происходит ферментация — какое сексуальное слово, не правда ли? Перебродившая масса два раза дистиллируется в медных котлах, а уже из них в конце всего процесса вытекает молодой виски, который потом, по меньшей мере года три, дозревает в дубовых бочках.
Я не свожу с НЕГО глаз. ОН так умен и образован!
Мне кажется, что я никогда в жизни не слышала ничего более интересного.
ОН живет один в собственном особняке где-то под Прагой.
«Ауди-А6» плавно мчит по шоссе, мотор тихо шуршит. ОН включает музыку.
— У тебя там есть камин? — спрашиваю его.
ОН с улыбкой кивает.
— Растопим его? — спрашиваю я восхищенно.
В августе? — означает его взгляд.
— Глупость, я знаю, — говорю грустно. — А у тебя есть хотя бы свечи?
Он весело смотрит на меня.
— Я так люблю свечи! — с восторгом говорю ему.
Он молча поворачивает к ближайшей бензоколонке — и, притормозив, выходит. Я сижу одна в полутемном авто и рассматриваю светящуюся панель радио. На меня нападает какое-то веселое безразличие.
На все, что я делаю, у меня есть бесспорное право.
Вскоре он возвращается с тремя упаковками чайных свечей.
Ночь теплая, и мы сидим на террасе. ОН приносит французское шампанское (той же марки, что мы пили на яхте) и два высоких бокала. Я зажигаю свечи и размещаю их по всей длине мраморного парапета. Слегка трепещут язычки пламени. Мы молчим.
Где-то далеко во тьме отбивают полночь.
— Звонит, звонит измены звон, раскачался Альбион, — говорю я.
— Здорово, — улыбается ОН. — А это знаешь?
ОН застенчиво отворачивается и по-французски читает мне какое-то стихотворение Аполлинера:
Потом он читает еще три строфы. Я не понимаю ни слова, но звучит это прекрасно.
До того прекрасно, что я целую его. ОН возвращает мне поцелуй, и мы постепенно раздеваемся.
Утром мы снова отдаемся любви. Потом я жарю ему блины, и мы вместе завтракаем. ОН отвозит меня на работу. На прощание целует меня и обещает до обеда позвонить.
Но не звонит.
Я нервничаю. Беру свой мобильник и иду в туалет. Что делать, ума не приложу. ОТЗОВИСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, — пишу я ему во сколько-то минут второго, но телефон продолжает молчать. В половине третьего мобильник наконец звонит. Вмиг я мобилизую всю свою веселость, раскованность и порывистость.
ОЛИВЕР, — сообщает дисплей.
Я чуть колеблюсь, стоит ли вообще принимать разговор, но потом сдаюсь и нажимаю нужную кнопку; подсознательно жду, что Оливер будет кричать на меня, и потому держу трубку подальше от уха.
Но Оливер говорит тихо, я почти не слышу его.
Он просит, чтобы я прислала Ингрид или Губерта за своими вещами.
И тут же отключается.
Прага, 22 мая 2000
Дорогая Лаура!
В воскресенье днем я пошел посмотреть Пражский марафон. Придя поздно, я увидел лишь последних бегунов — тех, кого соревнование застало, очевидно, не в лучшей форме. Кое-кто перешел уже на ходьбу, иные хотя и бежали, но как-то рывками, что выглядело ужасно неестественно (если не знать, каких усилий им это стоило, их бег производил бы комичное впечатление). Я смотрел в их потные, изможденные лица и представлял, что они чувствуют. Ведь им наверняка давно было ясно, что при всем напряжении воли у них уже нет шанса не то что на выигрыш, но даже на достойное место, и все-таки они почему-то, превозмогая себя, тащились к далекой цели… Я не мог ни похлопать им, ни подбодрить их во весь голос (с некоторых пор на публике у меня это не получается), но смею утверждать, что я понимал их более, чем кто-либо из тех немногих оставшихся зрителей, громогласно выражавших свои симпатий (причем с плохо скрываемым превосходством людей, которые в данную минуту чувствуют себя в полном порядке, но на деле не пробежали бы и четверти их трассы…). Поначалу я думал, что прогулка по городу меня немного развеет, но, как оказалось, она меня вконец доконала. Все представилось мне ужасно печальным. В основном еще потому, что я сам отлично знаю, как горька честь побежденного: пот и слезы в конечном счете на вкус одинаковы.
Может, тебе трудно понять, почему я еще не сдался? Почему пишу тебе, хотя это давно производит смешное впечатление? Возможно, по той же причине, по которой миллионы людей во всем мире, вопреки постоянным предупреждениям, не перестают вновь и вновь открывать зараженную вирусом электронную почту с сомнительными посланиями типа I LOVE YOU или NEW LOVE[83]; да, они мечтают о любви так сильно (признаваясь себе в этом или нет), что скорее предпочтут уничтожить вирусом всю свою почту, чем рискнут стереть посланное им настоящее любовное письмо. И хотя такое письмо, наверное, никогда не придет, надежда не покидает их.
Мы целиком открыты любви, но она и уничтожает нас.
Я не перестаю думать о тебе: о твоих вечно холодных руках, о твоей бледной коже, о золотистом пушке на твоей шее, о маленьком шрамике на правом колене… О том, как, выходя из машины, ты придерживаешь юбку.
Как прикрываешь глаза, когда утром принимаешь душ.
Как ты спишь. Как ты дышишь.
Как ты живешь.
Не перестаю мечтать (к неудовольствию доктора Z., считающего мои дневные мечты ребячливо безответственным бегством от реальности).
Когда бы я ни был в кино (разумеется, один), воображаю, что ты, как прежде, сидишь слева от меня. Ты протягиваешь мне свои очки, я протираю их бумажным платком, возвращаю тебе, и ты снова надеваешь их. Гасят свет, но я в наступившей полутьме продолжаю смотреть на твой профиль, тем самым раздражая тебя. Чувствуя мой взгляд, ты поворачиваешься ко мне и застенчиво улыбаешься; потом легко кладешь голову мне на плечо и просовываешь руку между моими коленями.
Мы принадлежим друг другу.
Я люблю тебя. Вернись.
Оливер
Глава XXXII
ОН не звонит ни завтра, ни послезавтра.
Ни в последующие дни.
По нескольку раз на дню смотрю на ЕГО фотографию.
Когда закрываю глаза, вижу дисплей мобильника.
Ночами реву в подушку. Мама ни о чем не спрашивает, но ей все ясно. Подчас замечаю, как украдкой она смотрит на меня. Когда мы сталкиваемся в дверях кухни, извиняется она.
Читаю книгу немецкого психотерапевта Дорис Вольф «Когда партнер уходит», которую дала мне Ингрид (она купила ее для Губерта, но он отверг ее, и теперь на очереди я…). На суперобложке обещано, что после прочтения книги я узнаю:
— как избавиться от боли и отчаяния;
— как освободиться от горечи и ненависти;
— как преодолеть недоверие и сомнения в самой себе;
— как преодолеть чувство вины;
— как воскресить в себе радость жизни;
— как подготовить себя к новым и успешным, партнерским отношениям.
Ну а чтобы…
В редакции дела неважнецкие. Романа больна, и две недели я должна заниматься ее рубрикой. Я пишу заметки типа Мне опротивела джинса и Что делать, если в квартире не хватает положенного метража? Я практически не разговариваю. Власта со Зденой пытаются развлечь меня и что ни день наперебой пересказывают мне вчерашнюю часть телевизионного сериала «Цвета любви». Аврора рассердилась на Диего, ибо он скрыл от нее, что у него есть брат. Готовится свадьба Чео и Кандалерии, но Кандалерия весь вечер протанцевала с Элеазаром. Чео понапрасну ждал ее. Романс, исполняемый Ирен и Мартином, внезапно был прерван телефонным звонком. Тадео ослеп. Пепина выкинула и во всем обвинила Диего… Я слушаю их без всякого интереса, но потом вся эта галиматья вызывает у меня взрыв ярости.
— Пепина права, — злобно шиплю я. — Все мужики — свиньи, их бы надо кастрировать!
В конце недели даю Ингрид денег на такси и прошу привезти от Оливера мои вещи.
— Надеюсь, что он по крайней мере страдает? — спрашиваю я ее, когда мы с ней, вытащив все сумки и коробки из такси, поднимаемся по лестнице (Оливер, естественно, для меня совершенно не существует, но вы же понимаете, милые дамы, что трудно противиться даже самому ничтожному любопытству). Ингрид, пожимая плечами, задумывается.
— Ты хочешь сказать, что этот выродок совсем не страдает? — спрашиваю я. — Какой у него вообще вид?
— В целом нормальный.
Я так хорошо ее знаю, что сразу чувствую: за ее ответом что-то кроется.
— Он что, был под парами? — спрашиваю.
— Возможно. Не очень. Так, малость.
— Один был?
— Нет, — говорит Ингрид, помедлив.
Скупо описываю ей Блудичку.
— Ага, — кивает Ингрид. — Это была она.
Я не верю своим ушам. Не то чтобы Оливер даже в самой малой степени занимал меня, но все-таки…
Мир — настоящий отстойник.
Мама достает из буфета бутылку красного («Три грации», марка ее молодости), ловко откупоривает ее и наполняет наши рюмки. Мы сидим в кухне. Какое-то время непринужденно болтаем, а потом Ингрид выкладывает нам свои проблемы со студентом, который в данный момент живет у нее. Для вашего сведения: Ингрид с некоторых пор не может жить в одиночестве. Не может, дескать, представить себе, чтобы на подушке рядом было пусто… И потому каждого парня, с которым знакомится, сразу переселяет к себе.
No comment.
Последнего зовут Ондра, и он заядлый спортсмен. Времени для Ингрид у него практически не остается: во-первых, он еще учится (в Институте физического воспитания и спорта), а во-вторых, тренируется на какое-то чемпионское звание… Ежедневно по два часа ездит на велосипеде, затем отправляется бегать. В день он должен пробежать не менее десяти километров. По средам и воскресеньям вместо бега обязательно плавает. Ингрид иногда ходит с ним в бассейн, но он совсем не обращает на нее внимания, ибо должен проплыть бассейн из конца в конец шестьдесят раз.
Разговор о плавании напоминает мне дайвинг с НИМ. Я глубоко дышу, чтобы не разреветься.
— Хотя иной раз я вполне его понимаю, — кивает головой Ингрид. — Сколько ему еще остается? Пять лет? Десять? Спортсмены кончаются в тридцать, максимально в тридцать пять. А потом абзац всему…
Она выпивает свою рюмку и доливает всем нам.
— У спортсмена, в общем, такая же трагичная доля в жизни, как и у нас, баб… — рассуждает она вслух.
Мама мужественно улыбается…
— Возможно, я живу с ним просто из солидарности… — не замечая ничего вокруг, продолжает Ингрид.
Вино сперва расслабляет меня, но, как только выпиваю третью рюмку, впадаю в невыносимую тоску по НЕМУ. Чувствую, как на глаза навертываются слезы. Мама встает и приносит пакет с фисташками. Ингрид, усевшись ко мне на колени, гладит меня по спине.
— Примерно месяц назад я тоже познакомилась с одним спортсменом, — говорит вдруг мама, многозначительно поднимая брови. — С женатым спортсменом…
— С женатым?! — притворно возмущается Ингрид. — Ну ты даешь, Яна…
Ухмыляясь, мама робко начинает рассказывать (в основном она не очень-то откровенничает): зовут его Кирилл. Врач-диетолог. Иногда в городе они вместе обедают или выпивают по чашечке кофе. Она близка с ним, но только раз в неделю, а конкретно по средам вечером, когда диетолог ходит играть в сквош[84].
Ее непривычную откровенность я объясняю выпитым вином и желанием развеселить меня.
— Он приходит сюда? — спрашиваю я пораженно.
Мама кивает.
— Постой, — восклицает Ингрид, он что, переспит с тобой, а потом идет играть в сквош?!
— Да нет, сквош — только предлог, — объясняет мама.
Ингрид принимает это к сведению с явным облегчением.
— Но спортивный костюм, конечно, берет с собой, — сухо уточняет мама. — И кроссовки, и ракетку…
— Естественно… — говорит Ингрид с презрением.
— Он даже, — усмехается мама, — мочит этот костюм…
— Мочит?! — восклицает Ингрид.
Мы обе недоуменно смотрим на маму. Мама подбородком указывает на цветочные горшки на подоконнике.
— Вон тем пульверизатором для цветов, — объясняет мама. — Ради супруги… Чтобы у нее не было подозрений.
Ингрид встает, берет пульверизатор и зачарованно его осматривает.
— Это еще не все, — улыбается мама.
Мы в ожидании.
— Когда он наполняет пульверизатор водой, — откашливаясь, говорит мама, — то добавляет в нее соль… Ради достоверности.
Ироничное выражение вдруг исчезает с ее лица.
И неожиданно она грустнеет.
— Мама у нас есть еще вино? — спрашиваю я.
Мама приносит вторую бутылку; как только она открывает ее, я сразу пью.
— Боже правый, ну мужики… — качает головой Ингрид.
Видно, она еще не пришла в себя после рассказанной мамой истории.
— Однажды я встречалась с одним ужасным скупердяем, — говорит она. — Когда мы ходили в кино, каждый платил за себя. Представляете? Или же по пути ко мне он покупал новый «Cosmopolitan» для меня, а потом брал за него деньги… Вы поверите?..
— Скупердяи, пожалуй, наихудший вариант, — заключает мама.
— Он жил у меня примерно месяц, — вспоминает Ингрид. — Пользовался только своим мылом и своей пастой. А теперь представьте: целый месяц он пользовался одним и тем же обрывком зубной нити…
— Да ты что?! — не верит своим ушам мама.
— Клянусь! Я специально следила за ним. Все свои туалетные принадлежности он каждый вечер укладывал в такой черный пластиковый футляр. Тот кусочек нити тоже клал туда. В боковой кармашек. Всякий раз споласкивал ее и клал туда.
— Тьфу! — передергивается мама.
Я двигаюсь по самой границе трезвости, а порой слегка заступаю за нее. В какую-то минуту моя мысль абсолютно ясная, но тут же чувствую, что голова тяжелеет.
— В чем причина, что меня так мало любят? — вслух жалею я саму себя. — Почему?
— Ерунда, — говорит Ингрид. — Оливер, например, любит тебя по-прежнему, уверена на все сто.
— Или Джефф, разве Джефф не любил тебя? — присоединяется мама.
Джефф любил меня, приходится это признать. Бросила его я.
Мы бросаем — и нас бросают.
— Да, Джефф меня любил, — кисло говорю я, — до тех пор, пока я не забывала купить ему New York Times, арахисовый паштет или зефир в шоколаде…
Кто-то долго звонит в дверь, мы все вздрагиваем. Мама, вопросительно посмотрев на меня, идет открывать. Это Жемла, я слышу, как он здоровается. Припоминаю, что не видела его, самое малое, недели две. В передней — ошеломляющая тишина. Коснувшись плеча Ингрид, иду посмотреть, что там происходит.
Жемла стоит спиной ко мне. Он обнимает маму, его могучие плечи трясутся. В первый момент выглядит это смешно. На мгновение представляю себе, как он, наклонившись вперед, стоит на коленях меж маминых бедер, а его голый толстый зад торчит вверх к потолку… Жуткое видение…
Мама со всей серьезностью смотрит на меня и при этом гладит Жемлу по спине. Жемла громко всхлипывает. Видно, плохи дела.
— Добрый день, пан Жемла, — говорю я растерянно, с некой опаской.
Жемла поворачивает ко мне мокрое опухшее лицо и закусывает губы.
— Умерла утром, — говорит он.
Глава XXXIII
Мама принимает участие в похоронах, я, несмотря на ее настояния, отказываюсь.
— Я вожу бабушку на кладбище, — защищаюсь я. — Теперь твоя очередь.
С меня хватит и того, что я вижу маму в том черном платье, в котором она была, когда умер папа.
На следующей неделе она дважды приносит Жемле кастрюльку домашнего супа, и на том ставит точку.
Больше, дескать, она не хочет влезать в это дело. Она и без того хлебнула в жизни по полной.
У меня своих забот невпроворот. Я заполнила тест в книге «Когда партнер уходит»:
Слабит ли вас после разрыва? Да. У вас запор? Нет. Потеря сексуального желания? Нет. Наоборот. Болит ли у вас голова? Да. Ощущаете ли давление в груди? Да. Нарушен ли сон? Да. Нарушена ли концентрация? Да. Тревожит ли вас внутреннее напряжение? Да. Сердцебиение? Да. Приступы судорожного плача? Да. Приступы потоотделения? Да. Приступы прожорливости? Да. Тянет ли вас к алкоголю? Да. Чувствуете ли вы душевное беспокойство? Да. У вас полная апатия? Да!
Если вы ответите на один и более вопросов «да», ваше тело подсказывает вам, что вы в кризисе.
Итак, я в кризисе.
Согласно доктору Вольф кризис после разрыва претерпевает в общем четыре фазы. Первые две — хуже некуда. Прежде чем покинутый партнер достигает III фазы (новая ориентация), проходит примерно год. Для достижения IV фазы (новая жизненная концепция), возможно, потребуется от двух до четырех лет.
Ну и ну, уж никак эта немка мозги пудрит?!
Я твердо решила сократить свой кризис. Перенесу его, как грипп. В конце концов, не могу же я из-за НЕГО потерять от двух до четырех лет — слишком коротка жизнь. Я все-таки достаточно сильная, чтобы справиться с этим гораздо быстрее. (I am strong enough to live without HIM…[85]) Человек, заканчивающий автошколу no программе трехнедельного ускоренного курса, вовсе необязательно должен быть худшим водителем, чем те, что проходят курс за несколько месяцев. Я решаю выбрать из книги самое существенное:
1. Я принимаю свое отчаяние после разрыва с НИМ как нечто данное.
2. В течение дня я выделяю лишь один час, чтобы сполна выразить свою печаль; в остальные часы я запрещаю себе думать о НЕМ.
3. Не стану обсуждать свои чувства на рабочем месте.
4. Буду больше уделять внимания своей внешности.
5. Выброшу из квартиры все предметы, напоминающие о НЕМ.
Таких предметов у меня, собственно, всего два: фотография на яхте и раковина святого Иакова. Я укладываю их в коробку из-под конфет, обматываю ее скотчем и отношу вниз, в подвал. Возвращаюсь в комнату и встаю перед зеркалом.
— Я готова принять реальность, что наша связь кончилась, — проговорила я вслух, стараясь, чтобы прозвучало это решительно.
Мама открывает дверь.
— Ты что-то сказала?
— Нет.
Мама с тревогой смотрит на меня.
— Извини, но мне нужно побыть одной, — говорю я и с раздражением жду, когда она закроет за собой дверь.
— Я готова принять мою печаль, — продолжаю я шепотом. — Я готова принять свое одиночество.
Мне плохо.
Мне одиноко.
Мне страшно.
Перед сном согласно советам фрау Вольф я принимаю горячую ванну и выпиваю стакан теплого молока с медом, но уснуть все равно не могу. Волей-неволей все время думаю о НЕМ. Поэтому начинаю дышать животом: кладу ладонь на желудок и пытаюсь вообразить себе, как вдыхаемый воздух постепенно проникает под мою руку и высоко приподнимает ее, но фантазии у меня, увы, маловато.
Я только и думаю о том, как этот выродок мог сыграть со мной такую подлянку?!
Чувствую, что я все еще переполнена гневом. Ощущение ярости и ненависти — необходимая фаза на пути к освобождению. Люди, не способные проявить ненависть, лишь продлевают освободительный процесс. Да, надо дать выход этой ярости. Но как? Я снова открываю желтенькую книжицу: Возьмите из холодильника кубики льда и начните бросать их в ванной комнате на пол. При каждом броске выкрикивайте по одному упреку в адрес своего партнера. Кубики льда звенят, как стекло, но обладают тем преимуществом, что не оставляют после себя мусора. Однако немцы вряд ли живут в панельных домах… Остановите автомобиль на пустыре, закройте окна и постарайтесь выкричать весь свой гнев. В машине вас никто не услышит. Превосходно, фрау доктор, но у меня нет машины! Я покрываюсь потом, и давление в груди усиливается. Занимайтесь физической работой. Уберите квартиру, поработайте в саду, поиграйте в теннис или побегайте. Результаты подобной активности можно усилить вашей фантазией: представьте себе, что теннисный мячик — голова вашего партнера или что на бегу вы втаптываете ногами голову вашего партнера в землю.
Вот то, что надо! В один присест выскальзываю из ночной рубашки и быстро надеваю тренировочный костюм.
Мама выходит из ванной как раз в тот момент, когда я в бешенстве завязываю кроссовки.
— Ты идешь бегать? Сейчас, ночью?
— Главное, не пытайся меня отговорить!
Вся округа спит, в темном ряду противоположных панельных домов светятся лишь несколько окон. В оранжевом свете уличных фонарей кружат ночные бабочки. Тротуар безлюден. Я бегу и каждым шагом втаптываю ЕГО в асфальт. Все время я непроизвольно ускоряю бег, так что вскоре ощущаю жжение в груди. Я перебегаю шоссе, не оглядываясь по сторонам, надеюсь только на свой слух. Бегу все дальше и дальше, в направлении дома душевнобольных. Наконец останавливаюсь и, наклонившись вперед, с трудом перевожу дыхание.
Вокруг ни души.
— Оливер, ты говнюк! — кричу я во все горло. — Ненавижу тебя, Оливер!
ГЛАВА XXXIV
Немыслимо!
Я тоскую по сорокалетнему невропату-алкоголику, который изменяет мне и у которого все лето воняют ноги!
Я даже обнаруживаю, что все еще люблю его!
Вы можете в это поверить, милые сестры?
Я тоже не могу!
В июле раз десять я пытаюсь дозвониться Оливеру, но он никогда не берет трубку. Когда звоню ему с другого номера, он кладет трубку, как только услышит мой голос. В августе посылаю ему длинное письмо, но он возвращает его.
Нераспечатанным!
Естественно, я начинаю корить себя, что предала его. Согласно Дорис Вольф я до сих пор пребываю во II фазе, называемой «Взрыв эмоций»: у меня резкие колебания настроения, я чувствую себя беспомощной, внутренне опустошенной, виню себя в нарушении прекрасных партнерских отношений, терзаюсь тяжкими сомнениями и кажусь себе толстой, глупой и непривлекательной (страница 10).
— Мне нужно сбросить пять-шесть кило! — звоню я ночью Ингрид. — Может, и грудь мне уменьшить?
— Чушь. Ты абсолютно супер.
— Может, мне надо выйти замуж? Или хотя бы родить ребенка?
— Тебе надо выбросить из головы Оливера, — терпеливо втолковывает мне Ингрид.
Приходится признать, что в этом что-то есть. «Не позволяйте мыслям о вашем бывшем партнере определять ваши чувства и вашу жизнь», — предупреждает Дорис Вольф. Предлагает она и решение: жестокую, но якобы весьма действенную методу, способствующую окончательному и бесповоротному освобождению от любви к бывшему партнеру — так называемую «Обработку печали». Пример тому — траурные ритуалы некоторых внеевропейских культур, в которых скорбь не подавляется, а, напротив, осознанно выражается. Конкретно это выглядит так: выбираете подходящий день (лучше всего годовщину бракосочетания или нечто подобное), запираетесь в квартире одна и в течение по меньшей мере шести часов вызываете у себя самые прекрасные и самые приятные воспоминания о бывшем партнере (негативные воспоминания строго запрещены). Страданию не сопротивляйтесь, напротив, позвольте ему целиком овладеть вами; чем ваши страдания сейчас будут глубже, тем лучшего результата вы достигнете. Отчаяние будет смыто потоком слез, и вы навсегда обретете иммунитет против болезненных воспоминаний (при рецидиве повторите методу).
— Как ты считаешь? — спрашиваю я Ингрид.
— Чем черт не шутит, — говорит она не очень уверенно. — Я бы попробовала.
Я выбираю день первой годовщины знакомства с Оливером (случай благоприятствует мне: дома я одна, мама сопровождает диетолога в его двухдневной командировке в Карловы Вары).
Придя с работы, я запираюсь, опускаю во всех помещениях жалюзи, отключаю телефон и мобильник. Ощущение такое, будто готовлюсь к самоубийству. Я почему-то нервничаю и стыжусь саму себя: проходя переднюю, даже не смотрюсь в зеркало. Принимаю душ, надеваю романтическое летнее платье, которое когда-то мне купил Рикки: оно длинное, почти до пола, кремово-белое, в маленьких голубых цветочках. В нем я всегда казалась себе слишком солидной, но Рикки уверял, что оно очень идет мне (кстати, это платье точно отражает представление Рикки о женственности).
Я была в нем, когда год назад впервые увидела Оливера.
Сначала сажусь в гостиной, но потом, подумав, перехожу в свою комнату и ложусь на расстеленную постель.
На ту самую постель, на которой мы с Оливером впервые любили друг друга.
Я не в силах избавиться от ощущения, что доктор Вольф наблюдает за мной. В квартире необычно тихо. Я поднимаюсь с постели и вставляю в проигрыватель один из любимых дисков Оливера. Но что делать дальше? Все идет как-то очень тяжко. Ну ладно. Начну с того, что положу на постель все вещи, так или иначе связанные с Оливером. Их немного: два красно-желтых альбома с фотками, снятыми на Канарах и в Хорватии, серебряный поясок и сережки, подаренные мне ко дню рождения, его бритвенный аппарат (я так долго исподтишка брила им ноги, пока он вконец не разъярился и не подарил его мне…), его зубная щетка и черная майка с рекламой виски Johnnie Walker, в которой он поначалу здесь спал. Все эти предметы кажутся мне мертвыми, Оливера в них нет. Мои воспоминания оживляют только фотографии. Я задумчиво листаю хорватский альбом и вдруг вспоминаю веер морщин вокруг его глаз, его широкие плечи, его детские часики на загорелом запястье, его заношенные рубашки и свитера…
Отложив альбом, я вспоминаю его старую «шкоду» и наши загородные поездки. Вспоминаю, как в кино или в такси я клала голову ему на плечо.
Думаю о том, как он помогал бабушке убирать папину могилу.
Слышу, как гремел в замке его ключ.
Представляю себе, как он гладил меня. Вспоминаю его смех, его голос, его дыхание, его жесты, его походку, его усталость, его поцелуи.
(И разумеется, громко плачу.)
Глава XXXV
Как ни странно, совет доктора Вольф в самом деле сработал! Потихоньку, полегоньку, но сработал.
Прежде всего я заставила себя больше не надеяться, что Оливер напишет мне или позвонит. В дальнейшем я уже могла думать о нем и при этом не реветь (исключение подтверждает правило). Благодаря фрау Вольф я наконец осознала, что он бросил меня не для того, чтобы изничтожить. Своей связью с Блудичкой он ничуть не унизил меня — дело тут вовсе не в моей привлекательности. Он скрыл свою связь с Блудичкой только потому, что не способен отвечать за свои поступки и боится моей реакции на них.
И все, баста!
В конце сентября я отважилась принести из подвала его фото. Выбрав самую удачную, я положила ее на стол перед собой. Я уже могла смотреть ему в глаза.
— Я готова простить тебя, Оливер, — обратилась я к нему вслух. — Ты сделал то, что считал для себя самым лучшим и правильным…
(Но все равно ты отменный мерзавец!)
Конечно, мама радовалась моим успехам. Даже втайне от меня устроила вечер в честь моего дня рождения.
Было как в фильме: прихожу домой с работы, ничего не подозревая, открываю дверь (день рождения у меня еще только в воскресенье) и тщетно пытаюсь зажечь свет — ни один выключатель не работает. Всюду кромешная тьма и странный шум. Я в полном недоумении. Вдруг все лампы разом зажигаются — передо мной мама, Инрид и вся редакция «Разумниц»: Романа, Власта, Зденька, Мирек и — боже правый! — Тесаржова. И Жемла здесь. Ингрид держит торт с двадцатью одной свечкой.
— Happy birthday, дорогая Лаура, happy birthday to you! — поют все, а я плачу, как черепаха.
Тем не менее в тот вечер я поняла, что всех этих людей я знаю уже слишком давно и что мне позарез нужно обрести каких-нибудь новых знакомых.
Интересно ли вам, милые сестры, как после разрыва с партнером знакомиться с новыми людьми? Доктор Вольф и тут дает вам совет: возможность познакомиться с новыми людьми у вас есть в библиотеке, универмаге, театре, кинотеатре, бассейне и конторе. Такой совет кажется вам несколько абстрактным? Но, может, вам интересно, как после разрыва с Оливером я вела себя в универмаге «Tesco»? А вот так. С тележкой вы подъезжаете к любой полке, останавливаетесь, расстегиваете на блузке две верхние пуговки и смущенно оглядываетесь вокруг. Заметив на расстоянии десяти метров одинокого и довольно приличного вида парня (не ищите большой любви!), вы обращаетесь к нему. Совершенно без разницы, с чем вы к нему обратитесь: скажите хотя бы, что не можете найти стиральный порошок или тайский карри-соус. Если с актерской точки зрения это кажется вам слишком сложным, можно просто опустить голову и въехать в него тележкой. Кто не ищет знакомств, тот никогда не обретет друзей (страница 102). Улыбайтесь, перемолвитесь с ним несколькими фразами (все равно о чем), позвольте ему пригласить вас на чашечку кофе или дайте ему свой телефон. Главное, не старайтесь любой ценой выяснить, хочет ли упомянутый парень завязать с вами серьезные отношения. Лучше об этом даже не думать. А стоит вам об этом подумать, упомянутый парень тотчас просечет это по вашему виду и мгновенно смоется.
Но есть здесь одна проблема: при поиске новых знакомств вы несомненно не избежите… тупиков (сказано весьма туманно). Во всяком случае, этой осенью в таком тупике я оказалась трижды. Я все еще не поняла, как можно, например, в плавательном бассейне быть активной по отношению к мужчинам и при этом избежать промискуитета. Короче, мне не совсем ясно, как можно в баре принять приглашение выпить по коктейлю, а потом с этим парнем не переспать.
Доктору Вольф неплохо было бы объяснить это.
В бары и всякие клубы затаскивала меня Ингрид (случалось, с нами ходила и мама). Обычно я напускала на себя сочувствующий вид, словно все это я делаю только ради них, ровно ничего для себя не ожидая (издавна знаю, что вероятность познакомиться с кем-нибудь подходящим в барах и кабаках еще меньше, чем где бы то ни было). Тем не менее подчас это оказывалось занимательным спектаклем. Если вы, милые дамы, хоть иногда появляетесь где-нибудь одни, вдвоем или даже втроем, то наверняка догадываетесь, о чем идет речь. Начинается это со взглядов мужчин за соседними столами. Считаю, что все особы мужского пола свои многозначительные взгляды пару раз в жизни должны увидеть дома в зеркале, тогда они, может, и сами до чего-то дойдут. Очевидно, они вообще не представляют, во что такой многозначительный взгляд после четырех рюмок превращает их лица… Но это только начало. Рано или поздно один из них нахально подходит к вам, заглядывает вам в декольте и произносит что-то вроде Ну что, девчонки, как дела? (или нечто столь же изобретательное). Потом он гордо бросает взгляд на своих пятидесятилетних поседевших дружков, которые улыбаются вам, точно подростки, сгребает с вашего блюда полную горсть орешков и в ритме паровозного поршня начинает по одному забрасывать их в рот. Вы весьма сдержанно отвечаете ему, после чего дядя широко улыбается, показывает вам язык, покрытый желто-белым ковром разгрызенного арахиса (он, верно, так представляет себе сияющую улыбку), и говорит:
— Ну, ясно!
— Извините, — сдержанно сообщает ему мама, — но нам хотелось бы побыть одним.
— Одним? Люди ходят сюда развлечься! — наставляет ее парень, но в его самонадеянной улыбке уже намечается трещина.
— А мы вовсе не отличаемся от других, — говорит мама спокойно. — Еще минуту назад мы развлекались довольно мило.
— С нами вы могли бы развлечься еще лучше, — скалится парень, кивая на своих сотрапезников.
Мама пристально оглядывает их. Умышленно тянет время.
— Мне это кажется совершенно нереальным, — холодно улыбается она.
У парня такой вид, будто он вот-вот набросится на маму, но, повернувшись наконец, довольствуется лишь крепким словцом по адресу фригидных феминисток.
И все в таком роде.
В октябре в баре «Солидная неуверенность» я встретила юношу, который приятно отличался от подобных плейбоев. Звали его Роберт. Он был невысокий, но красивый, учился в педагогическом институте и пришел в бар с товарищем отпраздновать удачно сданный экзамен. Нас с Ингрид они почти не замечали, и потому я активно спросила его, можем ли мы пересесть за их стол.
Ингрид и товарищ Роберта спустя полчаса разошлись в разные стороны (у товарища, дескать, несло изо рта), а мы с Робертом остались и разговорились. Хотя «разговорились» не то слово: это был один из тех типов, кто или молчит, или говорит исключительно о себе, так что мне, сказать по правде, было с ним скучно. Разумеется, я все время, как и положено в обществе, улыбалась ему, но по-настоящему рассмешить меня за весь вечер ему так и не удалось. Ну и ладно, подумала я, это все-таки лучше, чем ничего. Где написано, что жизнь должна быть сплошным приколом? Во всяком случае, когда он говорил о письменных зачетах или об общем экзамене по специальности у доцента Маховой, глаза его горели небывалым возбуждением… Как только подали нам счет, я коснулась его руки.
— Я живу с мамой, ко мне нельзя, — сказала я. — Ты далеко живешь?
Вероятно, я стремилась преодолеть свое одиночество посредством секса. Вероятно, я хотела почувствовать плотскую близость и уверенность, что я все еще желанна (страница 106).
— На Страхове, — сказал он огорошенно. — В общежитии.
В постели Роберт был почти никакой, а я, надо сказать, стеснялась с первого раза выказать все, что мне нужно, — стало быть, об оргазме можно было только мечтать.
— Тебе было хорошо? — спросил он меня утром за завтраком.
Странное дело: они же не могут не знать, что даже если нам не было хорошо, мы все равно никогда им об этом не скажем, но они всегда упорно нас спрашивают…
— Ты хочешь, чтобы я аттестовала тебя? — спросила я.
Он нервно улыбался, вероятно, так, как перед каждой оценкой его успеваемости.
— Ты получил аттестат с отличием, — сказала я серьезно, и он удовлетворенно покраснел.
Жизнь Роберта протекала в цикле зимних и летних семестров. Его наивысшей жизненной целью было сдать общий экзамен по специальности у доцента Маховой.
Я старалась это понять.
Я старалась не слишком отвлекать его.
Виделись мы раз, от силы два раза в неделю, но я не жаловалась. Я утешала себя тем, что Роберт сдаст экзамен по специальности у доцента Маховой, мы вместе отпразднуем его и потом наконец заживем.
Глава XXXVI
Когда 5 декабря, возвратившись с работы, я привычным движением открыла почтовый ящик (я точно помню эту дату, ибо по дороге домой встречала бессчетных чертей, Микулашей[86] и ангелов), у меня кольнуло под сердцем.
Письмо Оливера я узнала мгновенно.
Дома, опустившись на ближайший стул, я стала разглядывать конверт. На марке знакомая картинка Лады[87]: заснеженная деревня. Я знаю, что письмо открывать нельзя (Не звоните ему! Не пишите ему! На его письма не отвечайте, страница 41), но вместе с тем сгораю от любопытства. Чувствую всем своим существом, как оживают мои старые надежды. Хватаю мобильник и звоню Ингрид.
— Он прислал мне письмо! — возбужденно говорю я.
— Роберт?
— Оливер! Оливер прислал мне письмо!
Ингрид вздыхает.
— Надеюсь, ты его не открыла? — обеспокоенно спрашивает она.
— Мне нельзя его даже прочесть?
— И не думай! — запрещает мне Ингрид. — Сунь его в большой конверт и моментально отошли обратно.
— Я не буду ему отвечать, — предлагаю я компромисс, — только прочту.
— Нет! — настаивает на своем Ингрид. — Ни в коем случае!
— Оливер написал мне письмо, — в тот же вечер говорю я маме. — Что мне делать?
Показываю ей конверт. Я до сих пор не открыла его, но вместе с тем уже несколько часов не могу ни о чем другом думать.
У мамы растерянный вид. Она садится к столу и закуривает. Белый конверт лежит между нами.
— Ты знаешь, девочка, как я люблю тебя, — говорит она, чуть погодя. — Ужасно хотелось бы посоветовать тебе что-то хорошее. Ужасно хотелось бы посоветовать тебе так, чтобы ты была счастлива, но посмотри на мою жизнь…
Она беспомощно разводит руками. Это единственное движение итожит все прошедшие годы, все ее неудачные связи.
— Разве я могу что-нибудь посоветовать? — добавляет она удрученно.
На следующий день я посылаю Оливеру письмо обратно.
Нераспечатанным.
Я горда собой; своей бескомпромиссностью я даже похваляюсь перед Робертом.
До Рождества получаю от Оливера еще два других письма.
По совету Дорис Вольф, Ингрид и Роберта я поступаю с ними подобным же образом.
Через несколько дней после Нового года обнаруживаю в метро по дороге в редакцию первое письмо. Разумеется, поначалу я вообще ни о чем не догадываюсь, а лишь отчасти с любопытством, отчасти с недоумением подхожу ближе к металлической рамочке и читаю:
Дорогая Лаура!
Единственное, что у меня осталось от тебя, — это воспоминания. Написанная фраза напоминает мне тот или иной дурацкий американский хит, над которым мы с тобой, бывало, потешались, — и вдруг это клише оказалось для меня печальной реальностью. Целыми часами, целыми днями вспоминаю тебя — на работе, в машине, дома, в приемной доктора Z. — повсюду. Вспоминаю, и, если неожиданно мне удается оживить в памяти какой-то забытый образ или всего лишь деталь, я прихожу в восторг, но тут же, увы, «трезвею»…
Я вдруг понимаю, что письмо писал Оливер и адресовано оно мне. От испуга у меня перехватывает дыхание, я невольно краснею, отступаю на шаг и с опаской оглядываюсь, не заподозрил ли кто из попутчиков, что адресат письма — именно я…
Мама, Ингрид и Роберт в один голос утверждают, что Оливер — нытик и эксгибиционист, и его идею откровенных любовных писем считают безвкусной. Меня же все полгода раздирают противоречивые чувства: это и неприятно, и льстит.
Когда в марте появляется третье письмо, в Роберте просыпается какая-то гневная воинственность, и мы решаем ответить Оливеру вместе; к содержанию ответа он даже привлекает товарища-юриста.
Оливер не сдается.
Пишет еще три письма.
Его решительность импонирует мне, и я часто думаю о нем.
Но июльское письмо последнее.
В июле я разочарованно проезжаю все трассы метро и на остановках пробегаю вагон за вагоном, но в квадратных рамках уже одни рекламы.
— Слава тебе господи, — кисло говорит Роберт.
(Общий экзамен по специальности он завалил.)
Эпилог
(Да, я знаю, милые дамы… Я тоже люблю счастливые концы…)
В начале прошлогоднего декабря, через шесть месяцев после последнего письма Оливера, на столе в нашей гостиной появляется зеленый рождественский венок с четырьмя красными свечками.
— Что это?! — изумляюсь я.
— Рождественский венок, дорогая, — отвечает мама. Она смотрит на Оливера и ухмыляется. Символ нашей семейной сплоченности…
Она старается, чтобы ее слова звучали цинично, но меня не обманешь.
Я недоуменно качаю головой.
— Мы же Рождество не справляем, — возражаю я.
— Тебе это неприятно?
— Да нет, ничего, — отвечаю я.
Я сажусь к Оливеру на колени и задумчиво смотрю на венок. Оливер осторожно обнимает меня и свободной рукой гладит мой огромный живот.
— В этом году будет десять лет, — говорит она чуть погодя. — Возможно, пришла пора перестроиться.
— Почему?
— Старею, дорогая, в этом вся штука. В результате климактерических изменений становлюсь несносно сентиментальной. Вы не поверите что иной раз приходит мне в голову…
Я настороженно гляжу на нее.
— Что, например? — спрашиваю я.
Мама смущается, откашливается и вздыхает.
— Мне пришло в голову позвать к нам на Сочельник пана Жемлу.
— Пана Жемлу? — восклицаем мы с Оливером одновременно.
А потом оба обнимаем ее.