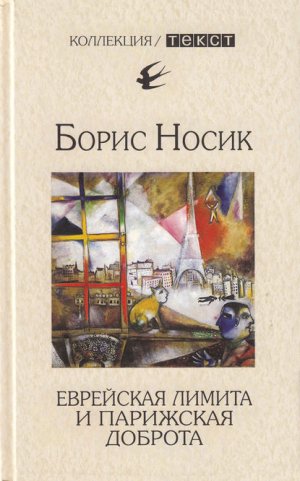
Трудолюбивые пчелки из улья доброго папы Буше
Архипенко Александр (1887–1964)
Барнс Альфред (1872–1951)
Бенатов Леонардо (Буниатян Левон) (1899–1972)
Буше Альфред (1850–1934)
Васильева Мария (1884–1957)
Видгоф Давид (1867–1933)
Воловик Лазарь (1902–1977)
Грановский Самюэль (Хаим) (1889–1942)
Добринский Исаак (1891–1973)
Ермолаева Вера (1893–1937)
Инденбаум Лев (1892–1981)
Кикоин Михаил (1892–1968)
Кислинг Моисей (1890–1953)
Кремень Павел (Пинхус) (1890–1981)
Липшиц (Липси) Морис
Липшиц Жак (Хаим-Якоб) (1891–1973)
Малевич Казимир (1878–1935)
Маревна (Воробьева-Стебельская) Мария (1892–1984)
Мещанинов Оскар (1886–1956)
Модильяни Амедео (1884–1920)
Найдич Владимир (1903–1980)
Орлова Хана (1888–1968)
Полисадов (Палисадов-Шарлай) Владимир (1883–1932)
Сутин Хаим (1893–1943)
Сюрваж Леопольд (Штюрцваге) (1879–1968)
Фера Серж (Ястребцов Сергей) (1881–1958)
Цадкин Осип (Иосель) (1890–1967)
Шагал Марк (Моисей) (1887–1985)
Шапиро Яков (Жак) (1897–1972)
Штеренберг Давид (1881–1948)
Эттинген Елена (Франсуа Анжибу) (1887–1950)
Монпарнас известен ныне всему миру как некая колыбель современного искусства. И всякий человек, хоть краем уха слышавший о современном искусстве, знает: есть город Париж, а в нем – бульвар Монпарнас. Эта репутация очень важна для парижской индустрии туризма, главной отрасли французской экономики.
Конечно, раньше Париж славился и как город просвещения, город-светоч: об этом на всех языках мира сообщали детям в школе. Позднее у тех взрослых, кто сумел забыть школьную премудрость, появились сомнения. Ну да, все эти их якобинские деятели сомнительного происхождения ненавидели церковь, отрезали головы королю, прекрасной королеве, ученым и священникам, подло обошлись с вандейцами и шуанами, а потом беспощадно резали друг друга до тех пор, пока пузатый коротышка-генерал не назначил сам себя императором и не послал французов завоевывать мир. И они покорно пошли, славя плебея-императора. На их счастье, всех французских мужиков он загубить не успел – его в очередной раз разгромили и вторично сослали на остров, так что нынче туристов водят поклоняться его пышному парижскому надгробию, однако замечено, что экскурсия эта лишь бросает тень на хваленое французское свободолюбие. Ну а если не знаменитая «Марсельеза», не пузатый коротышка-император и не сомнительный автор (в том смысле, что авторство его сомнительно) Дюма-отец, что же остается от репутации этого воистину прекрасного города в качестве города-«светоча»? Вот тут-то на помощь Парижу и приходит современное искусство. С конца позапрошлого века Париж считался Меккой художников. Отсюда исходили все новейшие течения (все «измы»), здесь рождались репутации, здесь произрастали гении. Конечно, не все они были французских кровей, но – все они стали французами, на худой конец – просто парижанами. Так что ныне туристы толпами бредут на бульвар Монпарнас, к их знаменитой колыбели, чтобы поклониться их памяти. Ибо кафе, где эти гении сидели за стаканом вина или чашкой кофе, чуть не все целы – и «Ротонда», и «Дом», и «Куполь». Правда, они стали такими шикарными и дорогими, что даже чашка кофе в них не всем по карману, не говоря уж о хорошем вине, но тут уж чем можно помочь?
Мы, впрочем, считаем, что выход есть. На помощь, как и в былые времена, может прийти просвещение – им мы и займемся.
Улей
Мы не станем убеждать вас, что истина не в вине. Напротив, мы сообщим вам, что знаменитый винный павильон художников цел, что эта колыбель парижского искусства сохранилась. Правда, она не здесь, не на бульваре дорогих кабаков: она чуть дальше, у южной границы города, всего в получасе неторопливой ходьбы от «Ротонды» (а уж езды на метро – и вовсе пустяк). Там все в сохранности, хотя и без многорядья автомобилей, без огней рекламы и блеска витрин, без вечерней толпы, зато все настоящее. Там уцелела, дремлет среди поредевшей зелени эта странной архитектуры ротонда, которую и можно считать скромным (для одних – священным, для других – вполне безбожным) Вифлеемом парижской школы искусства. Конечно, парижская школа – это еще не все французское искусство, так что неленивый человек найдет во Франции не меньше полдюжины колыбелей (есть еще бретонский Понт-Авен, есть Овер-сюр-Уаз, есть Барбизон, есть Живерни, есть усадьба Колет), но на всякий случай напомним, что здесь, к югу от Монпарнаса, между метро Плезанс и Версальской заставой, близ улицы Данциг, в крошечном Данцигском проезде, скромно стоит известное многим, однако еще не замеченное толпой пилигримов искусства круглое здание парижского «Улья». О его судьбе и о судьбе трудолюбивых его «пчелок» у нас и пойдет рассказ.
Историю обитателей «Улья» один из самых знаменитых его постояльцев, вышедших в официальные гении, описал жестокой фразой: «Здесь или подыхали с голоду, или становились знаменитыми…» Учтем, что он был еще немножко и сочинитель, этот знаменитый Шагал, на самом деле многие выжили, но не прославились (о них у нас тоже пойдет речь). Иные были убиты за что-то такое, о чем они и сами давно забыли (ах, это местечко, раввин, обрезание, погромы…).
А иных еще ждет признание, задержавшееся в дороге. Ведь и первые, и вторые, и третьи оставили после себя творения своих рук, след неуспокоенных душ. Как же нам не помянуть их всех, подходя по Данцигскому проезду к витым железным воротам «Улья», некогда украшавшим Женский павильон Всемирной выставки?
Альфред Буше
Возникновению этого уникального питомника искусств на южной окраине Парижа предшествовало стечение множества благоприятствовавших обстоятельств, среди которых ученые-искусствоведы отмечают начавшуюся уже в конце позапрошлого века миграцию парижских художников с севера (с Монмартрского холма) на юг (к бульвару Монпарнас), неизбежное восстание еще не признанных творцов как против творцов признанных, так и против всякого «академизма» в искусстве, против любых правил («любовь свободна, мир чарует»), против собственной нищеты и безвестности. Специалист по национальному вопросу напомнит нам также о еврейском неравноправии в странах Восточной Европы, о бегстве нацменской молодежи из Восточной Европы и России, о бунте ее против строгих религиозных правил общины и местечкового убожества. Французские специалисты намекнут, что и в самом названии этой общаги художников не обошлось без веянья революции, без влияния Фурье и его фаланстеров (или «фаланг»). Того самого Фурье, о котором нам со школы долбили как об «источнике и составной части марксизма». Впрочем, вы сами отметите, что более заметную роль, чем революция, сыграла в нашей истории монархия. И не только русская, поставлявшая Франции изгоев, но и другие, помельче, скажем, греческая или румынская. Да-да, румынская, не следует удивляться: до прихода к власти в Румынии «кондукатора» Чаушеску или энергичной коминтерновки Анны Паукер-Рабинович там сидели на троне короли и королевы, причем иные из них отличались красотой и талантами. Славилась, к примеру, на рубеже прошлого столетия румынская королева, которая писала романы и пьесы, недурно рисовала, оформляла театральные спектакли, резала деревянные скульптуры и вдобавок была красивой и щедрой. Чтобы избежать избыточных похвал, она свои произведения подписывала псевдонимом Кармен Сильва, но в домашнем быту ее называли запросто «Ваше Величество». На отдых румынские и другие иностранные монархи часто выезжали на французский водолечебный курорт Экс-ле-Бэн (Франция уже тогда славилась во всем мире отличной постановкой курортного дела). На этом курорте их румынские величества и познакомились с будущим благодетелем Парижской школы скульптором Альфредом Буше. Этот вполне популярный в те годы ваятель родился в середине позапрошлого века в бедной семье садовника неподалеку от городка Ножан-сюр-Сен, что лежит в департаменте Об. Отец маленького Альфреда ухаживал за садом местного скульптора-лепилы месье Рамю (между прочим, это он слепил статую королевы Анны Австрийской, что стоит в Люксембургском саду, в том самом его углу, где любил – при наличии свободных мест – отдыхать лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский). Иногда папа-садовник брал с собой на работу сынишку Альфреда, чтоб тот был под присмотром. Но разве за всем уследишь… Случилось так, что мальчонка, выбрав из кучи мусора куски гончарной глины, сляпал из них бюст папаши, притом до того похожий, что изумленный хозяин месье Рамю немедленно показал этот бюст своему другу месье Дюбуа, который оказался ни больше ни меньше как директором парижской Школы изящных искусств.
Месье Дюбуа взял низкородного мальчонку учиться на скульптора, и способный мальчик забирал у них там на конкурсах все медали. Потом Альфреда отправили за казенный счет во Флоренцию, но он и там не ударил в грязь лицом, а вернулся во Францию уже международной знаменитостью. Он очень удачно поселился затем в курортном городке Экс-ле-Бэне, где все знаменитости и монархи, приезжавшие туда для отдыха и лечения, просили его вылепить для потомства их бюсты, охотно позируя в свободное отпускное время. Буше никому не отказывал, в результате чего заработал кучу денег.
Особую щедрость проявила упомянутая нами выше румынская королева, которая, как и все клиенты, осталась довольна работой Буше, умевшего польстить заказчику и больше всего на свете ценившего красоту в человеке. Королева не только расплатилась с бородатым скульптором по высшей ставке, но и подарила ему шикарное издание своих произведений, украшенное королевским гербом, а также легкую коляску с лошадкой и элегантной упряжью. Знаменитый и всеми признанный скульптор Альфред Буше очень полюбил прогуливаться в этой дареной коляске по окрестностям Парижа вместе с другом своим Тудузом, тоже славным художником, немало оставившим своих росписей и в Сорбонне, и в Комической опере.
И вот во время одной из таких прогулок случилось происшествие, которое все историки «Улья» пересказывают со слов почтенного месье Перро, почетного президента Художественного общества департамента Об (того самого, где я теперь обитаю). Желая придать своему очерку наибольшую документальность, я решил просто перевести для вас ту часть речи месье Перро на заседании, посвященном памяти Альфреда Буше, где рассказано о том, как утомленные жарой Буше и его друг Тудуз остановили лошадку на пустыре у южной окраины города и зашли в тенек под навес кабака, чтобы промочить горло:
«Ожидая, пока им принесут заказанные напитки, Буше спросил у кабатчика:
– А что, земля, небось, не дорого стоит в этих местах?
– Нет, не дорого, – отозвался хозяин. – У меня вон рядом пять тысяч метров, если бы мне кто предложил пять тыщ франков, я бы ее сбыл с рук, эту землю, не торгуясь.
– Покупаю, – сказал Буше и вытащил из бумажника тыщу залога – ему явно пришла в голову гениальная идея.
Это было в конце 1900 года, в Париже как раз начали ломать Всемирную выставку и продавать все постройки с молотка. Буше приобрел винную ротонду – большое круглое здание – и несколько легких павильонов. Вместе они смогли одолеть трудности своего пути. И многие достигли известности. Среди них и знаменитый Шагал».
Этот пассаж из доклада почтенного месье Перро с большей или меньшей точностью обычно и пересказывают историки Парижской школы, отчего-то нисколько не удивляясь тому факту, что почти никто из молодых питомцев «Улья», достигших позднее известности, разбогатевших и написавших воспоминания о своем трудном пути к славе, не только не пожелал повторить альтруистический подвиг бородатого Буше, но и не упомянул о своем благодетеле (взять того же Шагала). А если и упомянул (как Жак Шапиро), то с более или менее мягкой издевкой: и скульптуры у него, дескать, были старомодные, у этого лепилы роденовского разлива Буше, и коллекционерский вкус престранный (облапошили его антиквары), и живописи своей он стеснялся (а все же писал), и старик был уже вполне дряхлый (в пятьдесят с небольшим, в том возрасте, когда современный художник только начинает искать очередную и, увы, не последнюю жену), и не теми скульптурами покрывал всякое свободное пространство в «Улье»… Мы-то с вами, наверное, убедились, что человеческая доброта важнее всяких скульптур, поэтому, хоть и не будучи напрочь лишенными чувства юмора, мы желали бы подчеркнуть прежде всего старомодно-идиллический характер этого начинания, ту ауру филантропической доброты, которая и нынче словно бы разлита над круглым павильоном бордолезских вин. Там по сю пору вечерами приветно светятся окна ателье в знаменитой ротонде близ углового дома, где в кафе «Данциг» состоялась знаменитая сделка с кабатчиком, над поредевшими аллеями сада, над Данцигским проездом…
Кстати, кабатчик папаша Либион нисколько не прогадал на этой сделке: он избавился от налога на землю, получил кучу новых клиентов-художников, заправлял в «Ротонде» и со временем купил (для тех же художников и им подобных) роскошное кафе «Куполь» на Монпарнасе.
Ну, а что папаша Буше? Думается, и он не прогадал – что можно потерять в этой жизни, кроме интереса к ней и здоровья? А он говорил иногда в старости, что ему удалось снести золотое яичко… И поправлял на груди орден Почетного легиона…
Еврейская лимита и парижская доброта
Поначалу Буше был очень увлечен своей затеей, замышлял академию, театр, открыл выставочный зал…
Народ прибывал – в «Улье» селились не только художники, но и актеры, ремесленники, торговцы, поэты, какие-то беспаспортные революционеры и бродяги. Наведывались анархисты, разные Эренбурги, Луначарские, Савинковы, девицы невыясненного поведения…
При этом иные из ремесленников, поэтов и актеров, наглядевшись на живописцев, и сами начинали марать холсты, лепить, тесать камень, а иные из живописцев и поэтов искали нового занятия (вроде Алэна Кюни, ставшего знаменитым актером). При этом полиция не сильно беспокоила беспаспортную здешнюю «лимиту». Художник Сутин (родом из Белоруссии) получил свое первое французское удостоверение личности лет через семь после водворения в «Улье». Да он к тому времени мог больше не бояться полиции. Попав как-то в «Улей» из любопытства и по служебной надобности, полицейский комиссар Заморон был так поражен этим странным занятием лепить краску на холст в надежде превзойти Творение Божие, что и сам увлекся собиранием живописи и стал снисходительно и даже ласково относиться к этим безвредным безумцам. «Лежит посреди бульвара? – кричал он в телефон. – Кто лежит? Художник? Везите его ко мне!» Если б не пагубная страсть комиссара к азартным играм, он бы оставил бесценную коллекцию своим наследникам, добрый комиссар Заморон…
Итак, народ все прибывал в «Улей», и Буше строил все новые и новые кельи. Был там теперь даже корпус повышенного качества – Дворец принцев. Открыто было ателье для совместной работы, куда вскладчину приглашали натурщиков. Открыт был и театр «Улья», где актеры из «Одеона» ставили спектакли. Но главное – крыша над головой, самое разорительное, что может быть для бедняка в Париже, – она оставалась в «Улье» фантастически дешевой (тридцать семь франков, а то и меньше за три месяца, где это видано?). Более того, те, кто давно уже не мог платить за жилье, даже самые злостные из неплательщиков, жили не прячась ни от консьержки, ни от судебного пристава, к помощи которого никогда не прибегал благодетель Буше.
Что до консьержки, то добрая близорукая мадам Сегонде, жалея этих бедолаг-художников, подкармливала самых голодных то супом, то вареной фасолью. Славилась своим хлебосольством и добротой русская семья Острунов. Мадам Острун кормила художников за ничтожную плату (а муж ее, придя с работы усталым, еще сбивал для них подрамники). Да и на рынке Конвансьон, что здесь неподалеку, овощи были дешевы. Помня о родных оладушках, плюшках и галушках, в этом русском «Рюше» («Улье») окрестили фирменное блюдо из картошки и помидоров «рюшками». И еще – везде пахло селедкой: любимая еда (приводившая в ярость юного Сименона, чья матушка пустила однажды постояльцев-студентов с Востока) – картошечка с селедочкой или с простоквашей.
Добрый самаритянин скульптор Лев Инденбаум писал сестре, оставшейся в хлебосольной России: «Выживаем каким-то чудом». Она не без юмора отвечала, что они-то дома «помирают чудом»… Ну, а в «Улье», вопреки легендам, с голоду не дохли. На бутылку, конечно, не всегда хватало. Но не все были пьющими. Инденбаум ухитрялся еще кормить птиц. Понятное дело, все скульптуры у него были заляпаны чем-то белым.
За парком «Улья» начинался пустырь с халупами и трущобами, со знаменитой Вожирарской бойней, где предсмертно ревели коровы и ржали кони, но здесь, в парке, было все очень мило и даже, по мнению иных из первых постояльцев, вполне буржуазно. Конечно, потом слишком много невнятного происхождения скульптур замаячило среди кустов, слишком много накопилось мусора (за всеми не уберешь), слишком много детишек бегало по дорожкам, играя в индейцев, в казаков-разбойников… «Слишком» – это для тех, кто не любит детей, а вот старый Лев Инденбаум и маленький Жак Кикоин (в зрелые годы решивший зваться Янкелем) считали этот парк и это скопище домишек своим раем. Еще там была ослица (может, эта она и попала на полотна Шагала, убедив Монпарнас, что Россия – страна мулов, как Испания), была обезьяна здешнего кузнеца… Еще была добрая племянница Буше, всех угощавшая фрикадельками – каждому только две, чтоб всем хватило.
Иногда по вечерам лысоватый молодой художник Поль де Ив (на самом деле Владимир Ионович Полисадов, бывший прапорщик с Украины) вытаскивал свой волшебный фонарь и показывал детям на экране картинки, которые он заранее специально рисовал на стекле:
– Вот, детки, Наполеон вступает в Москву, а Москва-то горит, горит…
(Его ласковым фрикативным «г» слушателей было не удивить – здесь не было ни гордых петербуржцев, ни москвичей.)
Позднее, следя за испохабившимся «международным положением», он обновлял свой запас картинок:
– Вон глядите, дети, это Муссолини на балконе. А это ихний Сталин в Кремле. Такая у них нынче мода… А теперь я вам сказку расскажу на ночь… В этой хате жила Баба-яга…
(И в Бабу-ягу, и в Деда Мороза часто рядился на радость детям литовец-скульптор Юцайтис, весь день вырезавший из камня тараканов и всякую мелочь – теперь она в музее в Каунасе.)
Кстати, этот Поль де Ив-Полисадов создал группу «Черная нищета», даже подготовил костюмы и все оформление для бала «Черной нищеты». Члены этой группы и без того ходили в драной одежде, так что легко себе представить, как бы они вырядились на бал «Черной нищеты» (который был властями на всякий случай запрещен). Иногда они предпринимали какие ни то благотворительные акции и вообще считались людьми религиозными (да и сам Полисадов перешел в католичество).
Добродушный скульптор Морис Липси говорил этому чудаку Полисадову:
– Разве это черная нищета? Это наша светлая бедность.
Да кто ж с ним соглашался, с простаком Липси, особенно глядя назад, из дали годов, с террасы богатой виллы: «Ах, моя бедная юность! Какая нищета!».
Полисадов устраивал музыкальные вечера – художественный свист: насвистывал мелодии из «Веселой вдовы» и, по мнению Липси, страшно фальшивил. Сам кудрявый Липси, когда не лепил скульптуры, играл на виолончели. Собственно, он был не Морис Липси, а Морис Липшиц. Но скульпторов Липшицев было в «Улье» два, и тот, второй, Жак (а еще точней – Хаим-Якоб), явился однажды к этому Морису и сказал: «Есть один скульптор Липшиц. Это я». И он оказался прав (по истечении времени, конечно) – сам Корбюзье построил ему виллу в Булонском лесу. А лохматый добродушный Морис Липшиц стал для всех Липси и далеко не ушел.
Ах, как я был тогда беден…
Из окон студий часто доносилось пение. Пели итальянцы, пели украинцы. У скульптора Архипенко был бас, и в книге Жанин Варно можно найти рассказ художника Фернана Леже о том, как он, будущий коммунист Леже, решил петь по дворам, чтоб заработать немножко денег. Он позвал и Александра Архипенко, но тот, добравшись с ним до площади Бастилии, вдруг заявил, что он, гордый украинец, петь без музыкального сопровождения не будет. Пришлось Леже идти назад, в «Улей», и оттуда тащить на спине арфу Архипенко. Скульптор запел, но прохожие, не понимавшие ни слова по-украински, не останавливались. Тогда друзья перебрались в квартал побогаче, к Этуали. Там какая-то сердобольная монашенка упросила консьержку, чтоб та разрешила бедным художникам попеть у нее во дворе под окнами. Архипенко повторил там весь свой малороссийский репертуар, и друзья подобрали с земли аж восемнадцать франков. «Такая была жизнь в “Улье”. Такой был Монпарнас, когда я был молод», – умиленно повторял старый коммунист Леже. К этому времени у него уже были русская жена-коммунистка, бывшая его ученица, а также большая вилла на Лазурном берегу, да ведь и Архипенко, женатый в ту пору на своей молоденькой ученице, безбедно жил в Новом Свете.
Не на таких напал…
Поначалу папаша Буше, сам известный скульптор, охотно давал уроки и скульпторам, и художникам в «Улье», но вскоре убедился, что здешним молокососам не нужны его уроки. «Я оказался в положении курицы, которая снесла утиное яйцо», – добродушно сокрушался папаша Буше. А его жильцы, даже и записавшись в студии Коларосси, Ла Палет или в Школу изящных искусств к Энжальберу, ходили туда недолго. Чаще ходили они в Лувр, в музеи, спорили между собой и заново изобретали искусство. Каждый из них был гений, пусть даже пока еще никем не признанный.
Скажем, тот же Александр Архипенко, который, приехав из своего Киева, объявился в «Улье» в 1908 году. Он был сын киевского университетского изобретателя и механика, внук иконописца, сам тоже имел склонность к математике и механике, но в конце концов стал учиться на скульптора в Киевском художественном училище. Кто мог чему научить его в Париже, если он уже и из киевского училища восемнадцати лет от роду был исключен за то, что критиковал всю их устаревшую систему преподавания? А двадцати пяти лет от роду он уже сам открыл в Париже (а чуть позднее и в Берлине) художественную школу, где начал учить других, проповедуя собственные художественные идеи. Правда, сразу по приезде в Париж он походил недели две в парижскую Школу изящных искусств (ту самую, окончанием которой так гордился папаша Буше), но быстро разочаровался в ней и вместе с новыми друзьями – Амедео Модильяни и молоденьким Анри Годье-Бжеским – стал ходить по музеям и самостоятельно заниматься искусством. Здесь им было у кого учиться – скульпторы Древнего Египта, Ассирии, Греции, Центральной Америки, мастера ранней готики…
«Моей настоящей школой был Лувр, – любил вспоминать Архипенко, – я туда ходил ежедневно».
Через год после приезда в Париж Архипенко создает свои первые стилизованные под архаику скульптуры («Сусанна», «Сидящий черный торс», «Женщина», «Адам и Ева»).
С 1910 года он регулярно выставлялся в Салоне независимых. В том же году он ушел из «Улья» и снял мастерскую на Монпарнасе. Он разрабатывал концепцию трехмерного кубизма, создал свою знаменитую скульптуру «Медрано-1», разлагая пластическую форму на простейшие объемы.
«Вовсе не обязательно быть кубистом для того, чтобы упрощать форму, сводя ее к единому мотиву, как это доказывают японские эстампы, – писал Архипенко. – То же упрощение геометрической формы можно отметить в скульптуре племени майя, в искусстве американских индейцев и в восточной скульптуре. Но все эти скульпторы не были кубистами.
Что же до моих работ, то геометрический характер моих трехмерных скульптур объясняется крайним упрощением формы, а не догмой кубизма. Я вовсе не позаимствовал кубизм, я просто его присоединил».
Произведения Архипенко были замечены в Париже очень скоро. Еще весной 1911 года Гийом Аполлинер, друг и поклонник многих обитателей «Улья», писал в журнале «Л’ Энтранзижан»:
«При первом взгляде новизна и темперамент Архипенко наводят на мысль о заимствованиях у мастеров минувших эпох. И он заимствует все что может, чувствуя, что способен дерзко превзойти предшественников.
…Архипенко вскормлен тем, что есть лучшего в мировом наследии. И привлекательность его работ в том внутреннем строе, который как бы возникает без его усилий и как бы служит костяком этих его странных скульптур, отмеченных небывалой и изысканной элегантностью форм».
Увидев на фотографии в журнале «Парижские вечера» скульптуру Архипенко «Голова», живший в «Улье» поэт Блез Сандрар написал стихотворение «Голова»:
Если стихи покажутся вам непривычными, напомним, что и творения Архипенко тоже были ни на что не похожими. Конечно, после мировой войны за Архипенко пошли (еще дальше пошли) российские братья Габо и Певзнер, англичанин Мур… Но пока на дворе только 1914-й, скульптор греется на солнце и работает в старой доброй Ницце.