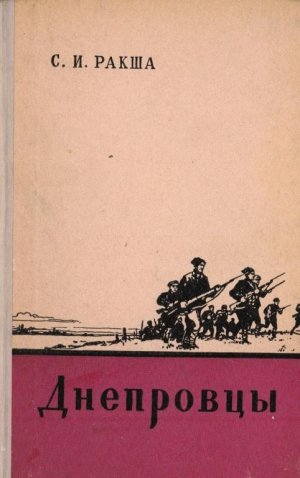
ЗЕМЛЯ И МИР
По предкам нас звали турбаевцами. Жили наши предки на Полтавщине, в селе Турбаи, и еще при Екатерине Второй убили своего пана, сожгли его поместье. За бунт царица повелела выслать все Турбаи в безводные степи Северной Таврии батрачить на немцев помещиков Фальца и Фейна. Этим Фальцу и Фейну, которые потом, породнившись между собой, стали именоваться Фальц-Фейнами, той же Екатериной были отданы все лучшие земли у Перекопа по пять копеек за десятину.
Дед мой говорил:
— Мы, турбаевцы, люди особые — очень живучие и плодовитые. От нас пошли и Чалбассы, и Чаплынка, и Каланчак, и Копани, обе Маячки, обе Збурьевки, старая и новая — все села от Сивашей до кучугур[1].
Все ли села, названные дедом, берут свое начало от турбаевцев, этого уже сейчас не проверишь. Но то, что турбаевцы люди живучие, это верно: дед мой, ровесник прошлого века, переживший его на восемь лет, не был среди них исключением.
Деда мальчиком отдали в батраки, и почти сто лет он пас на Перекопе несметные отары Фальц-Фейнов, дослужился там до атагаса — старшего чабана. А когда злая бестия София Богдановна Фальц-Фейн уволила его, перебрался из ее Преображенки в Скадовск и опять закабалил себя, нанявшись к новому хозяину конюхом и водовозом. Второй век шел деду, а он и летом и зимой спал на конюшне…
Отца я не знал. Слыхал, что служил он тоже у Фальц-Фейнов табунщиком и славился как редкостный танцор и джигит, хотя все наши табунщики были лихими плясунами и наездниками.
Однажды зимой, еще малышом, сидел я на корточках у печи, отогревал зазябшего воробушка, и вдруг кто-то постучал в окно. От испуга выпустил воробушка из рук, и он, впорхнув прямо в печь, сгорел в огне. Потом мне говорили, что стучал в окно мой отец, приезжавший домой. Но каков он был — не запомнилось. Вскоре после того отец помер — разбился, упав с лошади на скаку.
Как и все безземельные турбаевцы, еще мальчишкой ушел я из дому скитаться по миру. Исходил много поместий, хуторов, сел, городов и только в Николаеве задержался: понравилось суда строить, да и товарищей приобрел хороших. Они помогли мне разобраться в жизни и увидеть, где находится корень зла.
Поглядите на карту — от устья Днепра до Каховки, от Каховки прямо на юг к Перекопу, от Перекопа по берегу Черного моря до Днепровского лимана — вот этот угол земли между Днепром и морем и был Днепровским уездом. Разделите его пополам так, чтобы одна половина протянулась вдоль Днепра, а другая — вдоль моря, и если у вас в руках старая, дореволюционная карта, то вы сразу обратите внимание, что верхняя половина уезда населена много гуще, чем нижняя, хотя, казалось бы, должно быть наоборот: ведь у Днепра — кучугуры, белые пески, на которых растет один шелех, а ближе к морю — чернозем, и там на тучных пастбищах в иной год бывает такой травостой, что волы в нем скрываются, — идет стадо, а над травой только рога колышутся.
Так вот и поделен был уезд: у кучугуров, на песчаных землях, жались села турбаевцев, а на тучных черноземах раскинулись владения Фальц-Фейнов, Шпехтов, Шмидтов, Шредеров, Диминитру. Не знаю, где еще вопрос о земле был более жгучим, чем у нас. И не просто оказалось решать его, когда после свержения самодержавия мы вернулись с германской войны домой.
Каких только партий не развелось к тому времени в нашем уезде — кадеты, меньшевики, эсеры, трудовики, анархисты, бундовцы и эти еще украинские самостийники, ратовавшие за Центральную Раду. Все они грызлись между собой, но как только дело касалось земли, в один голос кричали, что до Учредительного собрания землю помещиков трогать нельзя, — это, мол, беззаконие, грабеж, на который толкают мужиков приехавшие с фронта большевики, не иначе как подкупленные немцами.
Конечно, и среди турбаевцев, получивших некогда на ревизскую душу по шесть десятин песков, люди были разные: и такие, что, прибрав к своим рукам наделы сотен ревизских душ, жили на хуторах не хуже иных помещиков, и такие, что еще держались кое-как, из последних сил за свою единственную ревизскую душу или что осталось от нее. Но если взять наше село Чалбассы, то тут большая часть крестьян уже забыла, что у них в роду тоже когда-то имелась земля.
Надо правду сказать, первое время крестьянская масса стояла в стороне от кипевшей в уезде межпартийной борьбы, на митингах голоса своего не подавала, только прислушивалась к спорам записных ораторов, про себя решая, за какой партией ей идти. У нас, в Чалбассах, всеми делами заправлял эсер Закруткин — председатель волостного земства. На митингах он распинался за демократию и социализм, а когда в Мелитополе был назначен крестьянский съезд северных уездов Таврии, хотел тишком, без выборов, послать туда только своих земцев.
Чтобы разоблачить обман, пришлось мне ударить в церковный колокол. Закруткин поднял крик: незаконно, мол, собирать народ без его ведома. Но у самого народа было на этот счет свое мнение: он стал на мою сторону и выбрал меня делегатом на съезд.
Закруткин в отместку провел в земстве постановление о высылке меня за пределы Днепровского уезда, как большевика и немецкого шпиона. Но он запоздал. Вернулись домой другие чалбассцы-большевики. Наша ячейка разрослась до двенадцати человек. Беднота почувствовала свою силу. И когда в Петрограде на Втором съезде Советов прозвучал голос Ленина: вся власть Советам, мир народам, фабрики рабочим, земля крестьянам, хлеб голодным, — мы взяли Закруткина под руки, вывели из волостного правления, раскачали и кинули с высокого крыльца вниз.
Так: было в ту пору по всему уезду: рабочие и крестьянская беднота решительно свергали и выбрасывали вон эсеро-меньшевистские волостные земства и комитеты, создавали вместо них свои советские органы. А Советы сразу же приступали к разделу помещичьей земли.
Вот с этого в уезде и началась великая битва.
— Скорее, скорее, товарищи!
— Шире шаг!
Чаще всего это был голос Сеньки Сухины. Он боялся, что наш отряд может опоздать, и проклинал предательскую клику Викжеля, сорвавшую в Херсоне подачу поездов для красногвардейцев.
Кто в Чалбассах не знал рыжего Сеньку Сухину? Это он однажды поднял бедняцких парней против кулаков, и на улице завязалась драка, в которую ввязался даже сельский поп. Долго смеялись потом в Чалбассах, вспоминая, как Сенька пугнул тогда батюшку, и тот, вихрем взметнувшись вверх, повис на плетне: зацепился рясой.
Сенька не был большевиком, но, когда Закруткин на митинге убеждал народ не трогать землю помещиков до решения Учредительного собрания, он, пробираясь сквозь толпу к крыльцу волостного правления, потрясал кулаком и кричал:
— Никто не даст нам избавленья: ни бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобожденья своею собственной рукой.
Буквально восприняв слова международного пролетарского гимна, он не раз порывался решать земельный вопрос в Чалбассах «своею собственной рукой».
И теперь вот Семен опять горячился. Да и как не горячиться было ему, потомственному батраку, наконец-то получившему землю? Надо сеять — весна уже, и вдруг приходит весть, что самостийная Центральная Рада заключила договор с немцами, которые идут на Украину, чтобы задушить революцию.
Рабочие Николаева выступили в числе первых дать отпор оккупантам и не одни сутки уже вели тяжелые бои. Мы спешили к ним на помощь — отряды из Херсона, Алешек, Каховки, Маячек и Чалбасс.
Прошли полпути от Херсона до Николаева, а умчавшиеся вперед конники все еще не давали о себе знать. Нервозность и беспокойство охватили всех.
Люди устали — ведь со вчерашнего вечера в походе, а привала еще не было: делали только пятиминутные остановки, чтобы портянки перемотать, и шагали дальше, тая про себя разные тревожные догадки. А если кто высказывал эти догадки вслух, Семен Сухина ругался:
— Чего подливаешь масла в огонь?
Наконец в лучах утреннего солнца показалось на горизонте несколько скачущих всадников. Когда они приблизились, отряды остановились. Остановились и всадники на взмыленных конях. Они еще ничего не сказали, но по их лицам и без слов можно было понять, что наша помощь опоздала. Это всем стало ясно, когда командир группы наших отрядов, выслушав доклад старшего из конников, снял шапку. Все сбившиеся в толпу бойцы и командиры тоже сняли шапки и стояли молча, потрясенные известием о тяжелых жертвах, которые понесли николаевцы при защите своего города.
Как быть дальше? Что делать? Никто из наших командиров этого не знал. Один из них помчался на коне в ближайшее село, чтобы связаться по телефону со штабом революционной обороны в Херсоне. В ожидании его возвращения красногвардейцы сидели на краю дороги. Кто в унылом раздумье опустил голову, кто, опираясь на винтовку, поглядывал тревожно на горизонт.
Казалось, что надвигается буря, но горизонт был чист. Только ветер порой подымал там пыль столбом, кружил и гнал ее по дороге, будто черт плясал. Да плыли по небу беленькие облачка, тень от которых мрачным крылом покрывала кое-где яркую зелень озимых. Кто-то сказал:
— Яровые-то уже взошли, — и по дороге прошел вздох — от одного красногвардейца к другому. Как не вздохнуть было тем, у кого только что полученная земля осталась незасеянной?
Не старики мы были — мало кто из нас успел жениться. Вернулись с одной войны и пошли на другую. Была и такая зеленая молодежь, как Митя Целинко, который говорил в походе:
— Мне бы только высмотреть себе невесту. — Но и он добавлял: — Подамся я тогда на выселки из Чалбасс, хорошую хату построю на своей земле…
Прошел час томительного ожидания и раздумья. Вернулся ездивший в село командир. Всполошились, забегали красногвардейцы, передавая по отрядам весть о том, что херсонский штаб дал приказ идти назад в Херсон и там готовить отпор немцам. Раздалась команда:
— Стройся!
И сейчас же ее покрыл другой голос:
— Товарищи! Земляки и братья!
Все обернулись на этот голос и увидели высокого солдата с протянутой вперед рукой, в которой он сжимал фуражку. Красное лицо, ястребиный нос, горящие глаза. Это и был командир нашего чалбасского отряда Семен Сухина.
Ветер раздувал его рыжие взлохмаченные волосы.
— Да что же это такое, товарищи дорогие? — надрывался Семен. — Немцы в Николаеве чинят расправу. Там льется кровь наших братьев, а нам приказ идти назад в Херсон? Да как же это можно? Вы только гляньте, сколько нас! Из Каховки пришли, из Алешек, из Маячек и мы, из Чалбасс. Больше хорошего полка. Все турбаевцы. Это же сила! Выбьем немцев из города, ручаюсь, что выбьем. Так шарахнем их, что эти душители революции ног не унесут.
Повторно отдана была команда «Строиться», но никто не шелохнулся, и Семен Сухина продолжал кричать:
— Чего нам бояться немцев, когда за нами весь Днепровский уезд? Пошли гонцов, и придет на помощь Чаплынка, и Каланчак придет, и Збурьевка, и Хорлы. Кто не встанет грудью за свою землю?
Командир нашей группы подошел к Семену и оборвал его:
— Прекрати митинг — дан приказ скорее идти в Херсон. Там и дадим решительный бой.
Но Семен не унимался. Ссылаясь на свой фронтовой опыт, он доказывал, что надо идти на Николаев и победа будет обеспечена.
— Немцы заняты своей добычей. Они не ждут нашего удара. Разобьем их и выручим рабочих. За одну сегодняшнюю ночь все сделаем. Поверьте мне, что момент очень удобный.
Командир группы снова оборвал его.
— Интересный ты человек, товарищ Сухина. Видно, что воин храбрый и опытный. К тому же и большой протестант. Все это очень хорошо, но ты солдат и, значит, знаешь: раз приказ дан, его надо выполнять. Согласен ты с этим, товарищ Сухина?
Семен посмотрел на командира осоловелыми глазами, махнул рукой, кинул фуражку под ноги, сел на землю и стал закуривать.
— Согласны, товарищи? — крикнул командир группы.
— Согласны… Приходится согласиться, — неуверенно и как-то вразнобой отвечали бойцы.
— Согласны? — повторил командир.
— Согласны, — ответили бойцы более дружно, но еще далеко не все.
И тогда, как это принято было у нас на сельских сходках, командир, возвысив голос, спросил в третий, последний, раз:
— Согласны?
— Согласны! — прогремело в ответ, и сейчас же снова последовала команда:
— Строиться!
Медленно, не по-военному собирались отряды. Нехотя строились по четыре.
К ночи отряды добрались до Херсона и стали занимать оборону. Наш чалбасский отряд получил участок на кладбище возле вокзала. К середине следующего дня мы уже сидели там в наскоро отрытых окопах.
Под вечер, выставив заставы и дозоры, Семен Сухина забрался на дерево и, поглядывая в степь, стал ругать немцев за то, что долго не идут.
— Осторожничают, трепят нервы революционному народу! Ждут, пока главные силы подтянутся. Ну и гады!..
Долго негодовал Семен. Доставалось от него и штабу обороны Херсона.
— Это же не царская война, чтобы без надобности томить людей в окопах. Зачем окопы? Раз народ сам поднялся, смело веди его в бой! Ни часу промедления! Пошли бы вчера на Николаев — и делу конец. Расчехвостили бы немцев в пух и прах. Я-то уж знаю…
По всему изрытому окопами кладбищу разносился голос нашего командира, ораторствовавшего с дерева. Потом он соскочил на землю, подошел ко мне и сказал:
— Ты большевик, и я тебя спрашиваю: кто это мутит воду? Не этот ли одесский командующий Муравьев, что посылал нам в ревком телеграммы с угрозами, диктовал, кого уничтожать, кого прогонять? А кто он такой? Какое он имеет к нам отношение? Чем мы ему обязаны?
Телеграммы Муравьева действительно были полны угроз и требований о жестоких расправах над «врагами революции». Кого только не причислял к врагам революции этот командующий из левых эсеров! Все у него были на подозрении, в том числе и георгиевские кавалеры. Последнее особенно задевало Семена Сухину: он вернулся с германской войны старшим унтер-офицером с четырьмя георгиевскими крестами.
Много смуты в умах наших людей сеяли тогда разные примазавшиеся к революции авантюристы вроде этого Муравьева, командовавшего красногвардейскими отрядами на юге Украины, а впоследствии расстрелянного на Волге за попытку поднять мятеж против Советской власти.
Объявилась у нас еще какая-то Маруська Никифорова со своим летучим конным отрядом под черным знаменем анархии. Она тоже призывала жестоко расправляться с врагами революции и под видом красного террора устраивала еврейские погромы.
Когда мы заняли оборону у Херсона, Маруська со своими «братишками» уже ушла за Днепр и барахолила по селам нашего уезда. Это волновало красногвардейцев, порождало всякие нехорошие слухи.
В тревожных разговорах о предательствах и изменах, которые могут нас погубить, прошла ночь, а немцев все не видно. Только после полудня далеко в степи показались их конные разъезды. Однако приблизиться к городу не рискнули — покрутились на почтительном расстоянии и скрылись.
Семен Сухина сразу забыл о своих обидах. Бегая по нашему участку обороны, проверяя, как обстоит дело с боеприпасами, не слишком ли далеко санитары, он говорил:
— Ну, хлопцы, теперь глядеть в оба! Будьте уверены — сейчас и главные силы их подойдут…
Солнце спустилось уже довольно низко, когда чуть в стороне от нас, у вокзала и завода сельхозмашин, стали рваться артиллерийские снаряды. Потом на горизонте появились кавалерийские эскадроны. Они быстро приближались к городу, вырастая на глазах. У кого-то невольно вырвалось:
— Удержимся ли?
Наш командир услыхал это и заговорил горячо:
— Да что вы, хлопцы!.. Кавалерия — это пустяки, только смелости больше и метко стреляйте. То скакуны, знаем мы их, они лишь в панику страшны, а в других случаях сами первые паникеры. Вот увидите, и теперь так будет.
И Семен оказался прав. Лихие скакуны после первых красногвардейских залпов повернули обратно.
— Я же вам говорил, что это чепуха! — торжествовал Семен.
Наконец уже после захода солнца показались и цепи немецкой пехоты.
— А вот этих вымуштрованных кайзером истуканов надо подпустить поближе, — наставлял Семен. — Тогда мы их тоже метким и дружным огнем заставим повернуть назад.
И опять командир оказался прав. Попав под огонь, немецкие пехотинцы повернулись к нам спинами и побежали. Даже раненых своих позабыли подобрать.
Ночь прошла спокойно, и под утро опять начались разговоры, что зря, мол, командиры держат нас в напряжении, немцы вряд ли теперь скоро сунутся. Кое-кто был такого мнения, что оккупанты вообще дальше Херсона не пойдут и поэтому нам лучше, пожалуй, отойти за Днепр, чтобы у себя в уезде держать оборону. Эти уездные стратеги предлагали объявить Днепровский уезд независимой крестьянской республикой, а если немцы откажутся признать ее, то вести с ними войну в плавнях и кучугурах. Но в закипевших спорах большинство все же твердо стояло на том, что нельзя подводить херсонских товарищей, да и все равно, отдав немцам Херсон, мы не удержимся долго в своих плавнях и кучугурах. Сторону большинства держал и Семен Сухина. Его высокая фигура в распахнутой шинели и с рыжим чубом у козырька фуражки сновала от одной группы спорящих к другой.
— Надо только стоять, товарищи, по-революционному, и немцам никогда не взять Херсона, — уверял он. — Вы же видели, как эти истуканы поворачиваются к нам тылом, когда мы достойно встречаем их огнем. А там, гляди, придет еще подмога. Наша революционная сила возрастет, и мы вернем Николаев.
Семен вкладывал в свои слова весь жар души, стараясь всех убедить, что победа непременно будет за нами. Казалось, что в пылающих глазах этого солдата появятся слезы, если ему не поверят.
— Вот разобьем всех этих душителей революции, — говорил Семен, — и кто из чалбассцев в Духвино пойдет или на Шмидтовскую усадьбу коммуной жить, кто — на выселки в Тарасовку, на земли Диминитру. А вот Митя Целинко собирается построить себе хорошую хату на шпехтовской земле. Он уже невесту себе высматривает. И, будьте уверены, высмотрит! Картинка хлопец: белокурый, голубоглазый, не шагает, а пляшет! Да за такого, если у него будет хорошая хата на своей земле, любая дивчина пойдет!.. Но и Митя, и все мы пропадем ни за грош, если Херсон не удержим. Лучше уж никому из нас не возвратиться в Чалбассы, чем опять впрягаться в батраки к Шмидту, Шпехту или к этой старой стерве Софке.
Днем были отбиты еще две атаки немецкой пехоты, и наша уверенность в том, что мы отстоим Херсон, возросла. Когда немцы передали воззвание с призывом прекратить сопротивление, красногвардейцы единодушно высказались за то, чтобы оставить это воззвание без ответа. Штаб обороны города так и поступил.
Минули сутки, и немцы снова начали наступление. Сразу пехотой и кавалерией. По нашим отрядам была дана команда: подпустить противника поближе, сбить его огнем и контратаковать. Все, казалось, закончилось полной нашей победой: не приняв контратаки, немцы побежали. Мы отогнали их далеко от города. Вдруг — приказ штаба: отрядам оставить свои позиции и быстро двигаться к Днепру, на пристань, для погрузки на суда и переправы на левый берег.
Мы видели, как враг бежит от нас, но мы не знали, что где-то там, севернее, немецкие полки беспрепятственно маршируют к Днепру, угрожая отрезать от переправы и окружить наши отряды. Упоенные победой, мы не могли поверить, что немцы сильнее нас, что нам действительно необходимо отходить.
Семен Сухина снова гневно кричал:
— Товарищи! Земляки и братья! Да что же это такое!
Он подозревал измену, предательство. Да и не только он один.
Переправившись через Днепр, мы вернулись к себе в Чалбассы, находившиеся на полпути от Алешек к Перекопу, куда отходили все красногвардейские отряды нижнего Приднепровья. Выглянули из цветущих уже садов выбеленные саманные, под камышовыми крышами хаты, и вот шагает отряд по широкой песчаной улице, затененной по краям старыми акациями в свежей весенней листве. С одного двора навстречу нам выезжает пароконный возок, нагруженный жердями и разной домашней рухлядью. Мужик, сидящий на возке, увидев нас, отворачивается, начинает с преувеличенной озабоченностью возиться в рухляди — что-то перекладывает, что-то запихивает.
Село наше протянулось в одну сторону на семь, а в другую на пять верст. Не все знают тут друг друга в лицо, но Павло в Чалбассах личность достаточно всем известная.
Исправный середняк, или ревизская душа, как у нас говорили о крестьянах, сохранивших свой земельный надел, Павло впервые заинтересовался политикой летом семнадцатого года, когда начались разговоры о разделе помещичьей земли. После установления Советской власти он целые дни топтался в ревкоме и стал там чем-то вроде главного советника при земельном комиссаре. Когда ревком решил послать на страх барам во все помещичьи усадьбы волости своих уполномоченных, или, как их назвали, комиссаров, первый выбор пал именно на Павло — и хозяин хороший, и активист.
Получив мандат и винтовку, Павло живо помчался на бричке к Диминитру и, по доходившим до нас слухам, комиссарствовал там усердно. Чего ж это он сейчас засуетился на возу? Чего лицо прячет?
— Куда это ты собрался, Павло? — окликаю его я.
— Да вот на луки еду помидоры садить да капусту. Запоздал нынче с огородными делами.
Луками назывался у нас оазис в кучугурах, верст за шесть от села, прикрытый от песчаных наносов рощами. Посыпались новые вопросы:
— На все лето, что ли, собрался — курень будешь ставить? Може, сторожем нанялся?
Павло сердито глянул в нашу сторону:
— А вы чего пытаете?
Кто-то из красногвардейцев зло крикнул ему вдогонку:
— А у Диминитру своего кобеля за себя комиссаром оставил?
Павло опять оглянулся:
— Тебя самого! Ты тот кобель и есть…
Как он крыл матом и нас, и революцию, и немцев! Все у него в голове перемешалось.
— Ну и человек! — негодовал Семен Сухина. — Когда землю делить, он первый тут. Тогда он — комиссар. А как за землю эту надо бороться — капусту кинулся сажать. Думает там, в кучугурах, отсидеться от немцев. Гляди, гляди, как коней погнал, — пыль аж до облаков поднял.
Многие чалбассцы в ту весну поставили свои курени на луках: место глухое, немцы, пожалуй, туда и не заглянут, а в случае чего есть где укрыться от них — вокруг рощи, песчаные холмы, недалеко и днепровские плавни.
Семейные говорили:
— Вам, холостякам, что? Для вас где кров, там и дом, и невеста, а у нас дети — их не бросишь, как щенят в воду. Опять же, не пускает из дому и сердечная жалость к жене. Как мы жен своих оставим на глумление врагу?
Держали людей и посевы.
— Посеяли, а кто убирать будет?
Иные, из тех, что три года просидели в окопах на германской, добавляли со злой откровенностью:
— Мы по большевистской-то программе не за войну, а за мир голосовали. Войной уже по горло сыты. А немцы что? Придут и уйдут — им тут долго делать нечего. У них тоже дома жены и дети.
По этим же причинам склонялись остаться в Чалбассах и некоторые наши семейные красногвардейцы, вернувшиеся из Херсона.
Надо было уже идти на Перекоп, где собирался объединенный Днепровский отряд под командой Ивана Матвеева, моряка из Алешек, но пришлось задержаться. В ревком ввалилась толпа евреев, ремесленная беднота — кузнецы, портные, сапожники, парикмахеры, фотографы. Подняли шум:
— Обождите, товарищи, не уходите. В Копанях Маруська Никифорова со своей ватагой балуется. Грозится, что зайдет по пути и в Чалбассы пустить «красного петуха».
Копани — соседнее с нами село. Ревком послал меня туда выяснить намерения этой Маруськи и в случае надобности предупредить ее, что красногвардейцы в Чалбассах не допустят погрома.
В Копанях на улицах метались обвешенные оружием всадники. По одежде будто моряки с военных кораблей, но до того волосатые, что бескозырки с ленточками выглядели на их головах какими-то игрушечными. И уж очень что-то волчье было в их повадках и взглядах.
Маруську я нашел по черному флагу, развевавшемуся над крыльцом поповского дома.
Говорили, что она женщина красивая и что ее адъютант бывший штабс-капитан Козубченко, тоже красавец и щеголь, не спускает с нее глаз.
Я застал их обоих. Маруська сидела у стола и мяла в зубах папироску. Чертовка и впрямь была красива: лет тридцати, цыганского типа, черноволосая, с пышной грудью, высоко поднимавшей гимнастерку. Адъютант ее лежал на диване в расстегнутом кителе и читал вслух какие-то стихи. Когда я вошел, он кинул книжку на стол и, приподнявшись, налил в стакан из стоявшего на столе пузатого чайника что-то похожее на чай. Но едва ли это был чай: хлебнув из стакана, штабс-капитан закусил соленым помидором.
Я готовился к тонкому разговору, но дипломатия оказалась ни к чему. Никифорова не стала скрывать своих намерений. Узнав, что я из чалбасского ревкома, она сказала:
— А мы как раз нынче вечером собирались завернуть к вам.
— Зачем вам завертывать? Можем и тут договориться, если есть дело, — ответил я.
— Дело небольшое, — Маруська уставилась на меня пьяными хохочущими глазами. — Хочу пустить «красного петуха» по вашим жидкам.
— Пожалуй, у вас из этого ничего не выйдет. Какова численность вашего отряда?
— Двести сабель, — ответила Маруська, не спуская с меня хохочущих глаз.
— А у нас четыреста штыков, — отрезал я, почти вдвое преувеличив силы нашего отряда.
Маруська вскочила.
— Да ты что, сволочь, пугаешь меня?
Казалось, что она сейчас же схватится за маузер, но в этот момент заговорил ее адъютант, до сих пор молча слушавший наш разговор:
— Ну зачем нам, Маруся, ссориться с большевиками из-за каких-то паршивых жидков. Давай лучше споем «Святый отче Иване, шо будемо робить, як водки не стане?»
И кто-то из другой комнаты, наварное хозяин дома, протянул басом:
— Господи, помилуй — два с половиной.
На этом разговор наш по существу и закончился. По всему видно было, что в отряде командует не Маруська, а ее адъютант, решивший, что ему, как бывшему штабс-капитану, лучше пока держаться в тени. С этой целью он, должно быть, и придумал весь этот маскарад со своей разудалой любовницей и матросами на конях.
Через несколько дней, уже на пути к Перекопу, где-то у Чаплынки, мы встретили эту анархистскую ватагу во главе со своей атаманшей и ее адъютантом. Оба были на белых конях, в черных каракулевых кубанках и с папиросами в зубах.
Адъютант и глазом не повел, а Маруська, скользнув пьяным взглядом по нашей посторонившейся с дороги колонне, оглянулась через плечо на своих конных морячков и самодовольно блеснула зубами. И действительно, маскарад был великолепный. Под всадниками, наряженными в матросские бескозырки, форменки и клеши или во все кожаное с ног до головы, скакали подобранные по масти лошади: ряд вороных, ряд гнедых, ряд белых и снова — вороные, гнедые, белые. За всадниками — гармонисты на тачанках, крытых коврами и мехами.
Семен Сухина долго потом ругался и плевался:
— Ну и собачья свадьба! За одной сукой сколько кобелей носится по степи!
Разгул анархистских и левоэсеровских ватаг усиливал брожение в наших отрядах после отступления из Херсона и утраты общего командования. Тяжело переживая это, Семен Сухина скрипел зубами. Ему уже казалось, что все пропало и революция погибла. Но как только мы останавливались, чтобы дать отпор врагу, к Семену опять возвращалась уверенность, что победа будет за нами.
Это был бесстрашный солдат с истрепанными нервами и душой ребенка.
В Преображенку, имение Фальц-Фейнов у Перекопа, мы прибыли вслед за анархистами Маруськи Никифоровой. Перед тем они два дня рыскали по каланчакским хуторам — все сундуки там перепотрошили, по всем чердакам пошарили, всех девок перемяли и у которых серьги были золотые — поснимали из ушей.
К нашему прибытию в Преображенку Маруськины «братишки» уже расквартировались в батрацких казармах и отобедали. На столах валялись остатки жареных кур и молодых барашков, заказанных самой Маруськой поварам Фальц-Фейнши.
После обеда одни бандиты завалились спать, другие играли в карты за бутылью самогона или бочонком вина. Однако атаманша со своим адъютантом была начеку — о том свидетельствовали усиленные караулы, особенно у большого амбара, в котором стояли тачанки. Выпряженные лошади кормились тут же — у своих тачанок, и сбруя с них не была снята.
Сильный караул охранял и штаб Никифоровой, расположившийся в одной из комнат роскошного дворца Фальц-Фейнши.
В этом же дворце, в противоположном крыле его, помещался штаб Ивана Матвеева, пытавшегося объединить разрозненные красногвардейские отряды.
Между Матвеевым и Никифоровой шли переговоры. Матвеев требовал от анархистов ответа: будут они подчиняться объединенному командованию Красной гвардии или нет. Никифорова с Козубченко не давали прямого ответа. Видимо желая выиграть время, они виляли: как будто и соглашались подчиниться, но только погодя. Еще, мол, не все отряды собрались; вот когда подойдут остальные и выяснится, у кого сколько людей, тогда и вынесем окончательное решение об общем командовании, а пока давайте лучше решим вопрос о гардеробе Фальц-Фейнши.
Маруськина банда уже пересчитала все платья, кофты и юбки, развешанные по шкафам огромной гардеробной комнаты. Шкафы там стояли длинными рядами, как в хорошем магазине готового платья. Побывали в гардеробной и наши бойцы — бывшие фальц-фейновские батраки, посмотрели на эти утренние, обеденные, вечерние и бальные наряды и поудивлялись от души: зачем одной старухе целый магазин тряпок. Маруська же по этому поводу развела демагогию:
— Имущество помещиков принадлежит не одному какому бы то ни было отряду, а всему народу. Пусть люди берут что хотят.
Иван Матвеев не стал вести с ней «принципиальный» спор о тряпках Фальц-Фейнши. И когда Маруська, рассердившись, хлопнула дверью, в штабе было решено, что терпеть больше нельзя, — надо разоружать ее отряд. Сам Матвеев и почти все люди из его штаба были военными моряками. Их морскую честь больно задевали матросские бескозырки на головах бандитов Маруськи.
— Из-за этой сволочи хоть снимай форму моряка, — с горечью говорили они.
Однако не так-то просто было разоружить ватагу Никифоровой. Пришлось схитрить. Матвеев созвал общий митинг всех красногвардейских отрядов, собравшихся в Преображение, рассчитывая, что придут и анархисты. И они пришли во главе с самой Маруськой. Правда, не все.
В тот день в Преображенку все подходили и подходили из степи новые отряды. К вечеру тут был сплошной бурлящий котел вооруженного народа. Вся усадьба с ее дворцом, парком, разными флигелями и казармами для рабочих, амбарами и другими хозяйственными постройками была забита людьми, лошадьми, повозками. Не всем хватило места под крышами, многие расположились под открытым небом — на телегах, бричках и тачанках.
Митинг начался, когда солнце, спустившись к земле, запылало в степи костром. Все перемешавшиеся, сгрудившиеся отряды придвинулись вплотную к белым колоннам дворца. Трибуной служил сначала балкон, а потом тачанка, стоявшая в густых зарослях туи.
Открыл митинг Поповицкий. Мы впервые тогда увидели этого немолодого уже военного моряка, который вскоре стал нашим партийным вожаком. Он вышел на балкон в бушлате и морской командирской фуражке. Кроме этой фуражки, ничего у него не было на вид командирского.
— Товарищи красногвардейцы и партизаны! — совсем негромко заговорил он, как будто обращался не к тысячам людей, а только к тем, кто стоял перед самым балконом.
Однако этот голос дошел до всех. После душераздирающих призывов таких ораторов, как наш Семен Сухина, особенно отрадно было слышать неторопливую, ровную речь этого невидного по фигуре моряка, толково объяснявшего, почему нашим отрядам пришлось отойти от Херсона к Перекопу. Ни разу он не взмахнул рукой, не бросил в толпу ни одного звонкого слова. Опираясь руками на перила балкона, Поповицкий смотрел вниз на людей спокойным взглядом и с какой-то очень надежной уверенностью в них.
Он говорил, что против нас действуют регулярные, хорошо вооруженные и вымуштрованные войска, что перед лицом такого противника нашим разрозненным отрядам следовало бы организоваться, что, только покончив с неорганизованностью, мы сможем, встав на Перекопе, задержать немцев. А в заключение порадовал:
— Сегодня должен вернуться артиллерист Гирский, посланный на Кинбургскую косу, чтобы снять оттуда береговую артиллерию.
И верно, — еще не кончился митинг, как упряжки по шесть уносов притащили в Преображенку дальнобойные пушки. Мы прозвали их потом «артиллерией Гирского» — в честь уважаемого нашего земляка, артиллериста старой армии, дослужившегося на фронте до фейерверкера. Грозный вид этой артиллерии внушал нам большие надежды.
Подошла в Преображенку и кавалерия — «бессарабская», как ее называли. Это тоже была какая-то старая воинская часть, добровольно присоединившаяся к красногвардейским отрядам.
После Поповицкого выступал Иван Матвеев. Поднявшись на тачанку, он стал весь как каменный — с тяжелыми плечами и с такими же тяжелыми, крепко сжатыми кулаками. Да и слова, которые он бросал с тачанки, с трудом двигая челюстью, были тоже, как камень: объединение… организация… дисциплина. Только этого, как он говорил, нам и не хватало.
Затем на тачанку вскочил Степан Кириченко из Херсонского губревкома — вдохновеннейший оратор! Он заговорил об анархистах, и Маруська сразу почувствовала в его голосе угрозу. Она дала знак своим людям, и те один за другим стали исчезать в зарослях туи.
Пока мы спохватились, анархисты выкатили из амбара тачанки и кинулись наутек. За ними была послана погоня, но ночь укрыла этих «вольных птиц степей» — так они себя называли.
На восходе солнца с балкона дворца Фальц-Фейнов штабники Ивана Матвеева увидели, как из Преображенки вырывались в степь всадники — один, другой, третий. Потом всадники стали вырываться группами, и через две — три минуты вся наша кавалерия — полтысячи сабель, — рассыпавшись по степи широкой лавой, на галопе удалялась от Преображенки в сторону Чаплынки, уже занятой немцами. Там вдали маячило с десяток конников. Они вильнули и быстро исчезли за горизонтом. Умчалась вслед за ними и наша кавалерия, а степь уже заполнялась толпами пеших бойцов, которые тоже хлынули в направлении Чаплынки.
Что же произошло? Оказывается, всех переполошил один наш дозорный. Увидав вдали разъезд противника, он истошно закричал: «Немцы!» — и люди вмиг сорвались со своих мест, готовые рубить клинком, колоть штыком, бить прикладом.
Так началось это невиданное наступление. Полтысячи кавалеристов гнались за десятком немцев. А пешие отряды бежали за своей кавалерией.
Иван Матвеев едва сумел на тачанке догнать отряды. Вот тебе и объединение, организация, дисциплина!..
От Преображенки в сторону Чаплынки простирались необозримые пастбища. Тут прадеды, деды, отцы наши пасли отары овец и табуны коней. Родная степь. Каждая балка знакома.
Около десяти километров отмахали мы не передохнув. Постепенно с бега перешли на шаг, но никто не отстал. Шли широким фронтом, не то цепями, не то толпами. Врага не видно и не слышно было. Впереди только ветер гулял, сгибая ковыль да красноголовые тюльпаны.
Но вот, наконец, показалась и Чаплынка с ее высокой колокольней и ветряками. Может быть, оттого, что немцы открыли оттуда стрельбу, а может, и потому, что люди просто выдохлись, отряды залегли. На левом фланге замоталась бессарабская кавалерия, на правом, где-то далеко за горизонтом, загрохотала артиллерия Гирского.
Когда в цепях появились убитые и раненые, люди потрезвели, поняли, что получилось неладно: под огнем до Чаплынки не добежишь и назад без урона не отойдешь — открытая степь. Послышались ворчливые голоса:
— Что же, так и будем лежать, пока немец всех не перебьет?
— Наступали, наступали, а теперь ни туда ни сюда.
Вспомнили, что у нас есть общее командование. Не подымая головы, озирались, спрашивали:
— Ну где он, штаб-то? Чего не командует?
Многие поглядывали назад — далеко ли до балки? Вдруг, видим, кто-то перекатывается с боку на бок, да так быстро, будто с горы. И правда, степь шла к балке под уклон — повертывайся на бок и катись.
Этим и кончилось наше наступление. Покатились люди от Чаплынки назад кубарем в обнимку с винтовкой.
Катились молча. Только однажды кто-то выкрикнул:
— Затворы поставьте, черти, на предохранитель!
Лишь когда подкатились к балке, языки развязались. Раздавалась брань — этим люди отводили накипевшую в душе злость.
В балке я увидел Митю Целинко. Он сидел на земле и, обхватив руками живот, качался от хохота. Его смешливость привела в ярость раненного в голову Семена Сухину. Сорвав с головы окровавленную повязку, он стал крыть Митьку в бога, в душу, в соленую мать.
У Семена началось помешательство, которое вскоре привело его в психиатрическую больницу, где он и умер. Не выдержали нервы, а может быть, сказалось и ранение в голову.
Отойдя к Перекопу, мы заняли оборону по Турецкому валу и держались тут около двух суток, пока немцы не выбили нас отсюда артиллерийским огнем. Потом наши отряды вместе с черноморскими моряками сражались за Симферополь. Город несколько раз переходил из рук в руки.
Из Симферополя пришлось отступать на Керчь и Севастополь. На Керчь пошел Иван Матвеев с большей частью пехоты, имея в виду, что там для переправы через пролив можно рассчитывать только на лодки и баркасы. А вся артиллерия, кавалерия и пулеметные тачанки подались на Севастополь для погрузки на корабли.
Я оказался с теми, что отступали на Севастополь. По пути нам пришлось еще раз схватиться с немцами под Альмой. Едва оторвавшись здесь от противника, мы опередили его в движении к Севастополю лишь на один день.
Когда вошли в порт и сгрудились у причалов, там всюду митинговали, и нельзя было понять, кто командует. Корабли в бухте и у причалов тоже стояли, как на митинге, голосуя своими флагами: красными, черными и желто-голубыми. Правда, красные флаги и тут имели большинство, особенно на военных кораблях. Флагманский на линкоре тоже был красным; его поднял левый эсер Саблин.
Наши штабники отправились на линкор. Саблин, встретив их, задал только один вопрос:
— Все прибыли?
Ответ последовал утвердительный, и Саблин стал командовать, кому на какие суда грузиться. Артиллерию он взял к себе, на линкор. Кавалерия и пехота попали частью на миноносцы, частью на транспорты.
Когда корабли начали отваливать от причалов, на берегу поднялся рев:
— Трусы!
— Предатели!
Слышны были издевательские выкрики.
— Вот вам земля! Вот вам и мир!
Команды трех транспортов, выйдя на рейд, бросили якоря и, спустив красные флаги, подняли желто-голубые. На двух из этих кораблей красногвардейцы силой оружия подавили мятеж, а на третьем, где не оказалось решительных командиров, наши люди растерялись, и им пришлось на другой день, когда в город уже вступили немцы, побросать оружие в море и сойти на берег. А там разбрелись кто куда. Большинство направилось в горы. Ушел туда и я с несколькими днепровскими большевиками, которым наши партийные руководители в самый последний момент сказали:
— Вам, товарищи, придется задержаться здесь. Будете работать в подполье.
Заново надо было собирать силы, заново подымать людей на борьбу.
ЧАПЛЫНСКИЙ ФРОНТ
Любили мы свою степь с ее привольным простором, причудливо изрезанные берега моря, сады и виноградники, окружавшие села, свои луки с огородами и бахчами, прикрытые от песков дубовыми, ясеневыми и яворовыми рощами.
«Эх вы, степи, степи вы широкие, за вашу красоту и просторы мы жизни не жалеем», — так писали своим землякам наши чалбасские зачинатели повстанческой борьбы Семен Гончарь и Иван Ветер, осужденные впоследствии немцами на казнь.
Сначала повстанцы действовали одиночками и небольшими группами в днепровских плавнях и песчаной гряде кучугур. В плавни посылали своих людей Алешки, Каховка, Збурьевка. В кучугурах партизанили селяне из Чалбасс, Копаней, Маячек.
Несколько позже, когда озимые хлеба поднялись, появились повстанцы вокруг Чаплынки и Каланчака. Еще больше стало их тут, когда кукуруза и подсолнечник вытянулась в свой полный рост.
Трудно было нашему подпольному укому в Алешках установить связь со всеми партизанами-одиночками, чтобы направлять их действия и их удары. Но к концу лета Поповицкий и Птахов преодолели эти трудности и с помощью всех оставшихся в уездном подполье партийцев собрали повстанческие силы в крепкий кулак.
Как и всюду на Украине, у наших партизан появились свои вожаки: в Чаплынке — Баржак, в Каланчаке — Харченко и Таран, во Владимировке — Костриков, в Алешках — Крылов, в Збурьевке — Биленко и Луппа, в Хорлах — Гончаров, Киселев, Задырко. Если весной 1918 года многим казалось, что оккупанты — сила, с которой трудно совладать, то к осени стало ясно, что сила эта уже на исходе.
Революция в Германии и брожение, начавшееся в бывших кайзеровских войсках, уставших от войны, ускорили развязку борьбы. На Украине вспыхнуло всеобщее восстание.
У нас в уезде первой поднялась Чаплынка. Я пришел сюда, когда село уже бурлило. Начали бабы, возмутившиеся мобилизацией, которую под покровительством немецких оккупантов стали проводить вылезшие из своего крымского гнезда белогвардейцы. Собрались бабы на церковной площади и подняли крик. На этот крик со всех сторон огромного села, имевшего больше трех с половиной тысяч дворов, потянулись и стар и мал. Сначала одиночками, а потом толпами.
Местная варта попыталась навести порядок, и это вызвало драку. В драку вмешался стоявший в Чаплынке немецкий взвод, но толпа селян, собравшихся на площади, быстро смяла и обезоружила его так же, как и вартовых, вместе с явившимися из Крыма белогвардейцами.
В тот же день о происшедшем в Чаплынке узнали в соседней Громовке. И Громовка тоже зашумела. На другой день зашумел Каланчак, а через два дня поднялся весь уезд. Селяне стекались в Чаплынку толпами и отрядами, кто с винтовками и саблями, а кто с вилами да косами.
Восстание в Чаплынке пытались возглавить многие: и шумно вынырнувший Жидченко, который перед тем был у Махно в Гуляй-Поле, и украинский самостийник, вожак зажиточных крестьян Гробко, и какой-то Барсухин, называвший себя военспецом и неизвестно откуда взявшийся. Они договаривались о едином фронте руководства и агитации, но командовать всеми вооруженными силами повстанцев стал бывший вахмистр коммунист Баржак, прискакавший в село с конным отрядом.
Большевистское руководство восстанием еще больше укрепилось на третий его день, после того как в Чаплынку прибыл Алешковский отряд подпольного укома во главе с Поповицким. Этот скромный, болезненного вида, да и на самом деле больной человек быстро и как-то незаметно для всех стал душой восстания. Когда он говорил удивительно ровным и тихим голосом, поглаживая и пощипывая свои черные усики, даже неугомонно шумливый Жидченко умолкал.
Селяне отдавали своему сельскому фронту все, что могли, — лошадей, фураж и продовольствие. Непрерывно, день и ночь вокруг села отрывались окопы. И, когда наблюдатели, дежурившие на колокольне, увидели вражескую кавалерию, Чаплынский фронт мигом пришел в движение. Все огневые средства стягивались в ту сторону, откуда шли немцы. Устанавливались заранее заготовленные заграждения. Конница Баржака сосредоточилась у околицы.
Подойдя к селу на расстояние ружейного выстрела, немецкая кавалерия ускорила движение. Повстанцы замерли в ожидании команды «Огонь!» Команды долго не было. Некоторые заворчали. Но тут же раздались успокаивающие голоса:
— Выдержка, выдержка, товарищи!..
Баржак в пожарной каске гарцевал на коне у самого въезда в село. Кулик, командовавший пехотой, сидел на корточках за углом крайней хаты и молча поглядывал то на приближавшегося противника, то на Баржака.
Кавалерия немцев уже подходила к поясу заграждений. Когда она затопталась перед наваленными на ее пути боронами, плугами и телегами, Баржак взмахнул рукой и Кулик передал команду:
— Огонь!
Так открылся Чаплынский фронт, и, хотя он весь, с правого до левого фланга, обозревался с сельской колокольни, немцы заметались перед ним из стороны в сторону. Немецкая артиллерия бросилась вправо, развернула пушки, но не успела сделать и десяти выстрелов, как на нее налетела своя же кавалерия, в беспорядке мчавшаяся назад. А тем временем из села вырвалась конница повстанцев под командой Баржака и довершила разгром оккупантов.
Более тридцати лошадей с седлами, много винтовок и патронов попало тогда в наши руки. Этот успех воодушевил всех необычайно. Не только в штабе, а по всей Чаплынке, — и в хатах, и на улицах шли шумные разговоры о том, как мы разбили немцев за какой-нибудь один час. И тут же высказывались предположения:
— Теперь они, пожалуй, подожмут хвост, не посмеют больше сунуться.
Однако Поповицкий продолжал стягивать к Чаплынке все повстанческие силы уезда. Создавалась вторая линия обороны, на которой располагались все новые и новые группы повстанцев. Никогда не существовавшее у нас единство крестьян стало фактом. Те, кто еще недавно на сходках бросались друг на друга с кулаками, сейчас шагали бок о бок в общем строю — и земельные, и безземельные, будто забывшие о своей вечной вражде.
Прошло два дня, и наши наблюдатели на колокольне снова увидели немцев, двигавшихся с востока полукольцом. На этот раз немцы развернули свои силы далеко от Чаплынки.
В центре шла пехота, на флангах — конница, а сзади стала на позиции артиллерия. Артиллеристы уже вели огонь по повстанцам, но те затаились в окопах и просто за хатами, не подавали никаких признаков жизни.
По мере приближения к селу немцы заметно ускоряли шаг. Справа и слева застрекотали их пулеметы. Немецкая артиллерия перенесла свой огонь с окраины села на центр. Топтавшаяся на флангах кавалерия рванулась вперед. А повстанцы все еще ждали команды. Ожидание становилось все напряженнее, и тут опять послышались голоса:
— Выдержка, выдержка, товарищи!
Боялись командиры, что не хватит у людей выдержки, — ведь первый раз в бою, а иные и оружие-то впервые в руки взяли. Но позади залегших в обороне мужиков были их родные хаты и семьи, сидевшие в подполах и погребах. Не удержишь оборону, не выдюжишь — немцы спалят село, не пощадят ни женщин, ни детей… И повстанческий фронт выдюжил.
Когда застрочили наши пулеметы, немецкие цепи залегли. Попытались подняться и снова залегли. А кавалерия, та сразу поспешила ретироваться из зоны поражения.
Примерно через час снова все повторилось, потом еще и еще. Немецкие цепи залегали все ближе и ближе к селу, и под конец дня противник пошел на штурм.
Один бросок отбит, другой отбит, но после третьего броска немцы приблизились почти вплотную к переднему краю обороны повстанцев. В этот-то момент и бросил Баржак в контратаку свою застоявшуюся конницу. Она опять решила исход боя, смяв фланги немцев и захватив их пушки.
До конца ноября мы держали фронт под Чаплынкой, а к декабрю немцы ушли из нашего уезда за Днепр. Немецкое командование спешило вывести с Украины свои все более и более разлагавшиеся войска.
Декабрь в наших краях принято считать началом зимы. Но в 1918 году еще и в декабре шли теплые осенние дожди. И белые акации в листве, и бордово-золотистые бурьяны, и бродившие в степи отары, и скворцы, юрко прыгавшие по спинам овец, — все было, как осенью. Только ветры дули по-зимнему да дожди становились все продолжительнее.
К этому времени плавни, овраги, кучугуры и кукурузные поля, не всюду еще убранные, опустели. Восставший народ перебрался в свои села, и снова встали жгучие вопросы о земле, о власти. Сложившееся было на время борьбы с оккупантами единство селян быстро распадалось.
В Чаллынке распри начались сразу же, как только Поповицкий с отрядом укома вернулся в Алешки. Мутил воду самостийник Гробко.
— Мы не против советской власти, — уверял он. — Но вот беда — в Крыму засело много белых, их Антанта поддерживает, и Чаплынке не устоять, если белые пойдут войной против нее. Поэтому лучше всего организовать нейтральную крестьянскую республику. Был у нас свой Чаплынский фронт, пусть будет своя независимая Чаплынская республика. Объявили же свою республику в Гуляй-Поле, в Высуни под Херсоном, в Баштанке под Николаевом…
Богатым мужикам понравилась эта мысль. Отсидеться от гражданской войны под нейтральным флагом своей сельской республики — что может быть лучше! Ни поборов тебе, ни мобилизации. Деньги свои печатай, торгуй с кем хочешь. Не житье — малина!..
Турки прослышали про эту хитрую затею наших самостийников и прислали в Чаплынку делегата для заключения с новой республикой торгового договора на вывозку хлеба. Но тут же вслед за турком примчался из Хорлов матрос-большевик Гончаров и поднял сполох:
— Пока вы тут с турками разговариваете, эскадра Антанты появилась на Черном море. Новые гости высиживаются в Севастополе и Одессе.
— А что ей, Антанте, до нас? — не понимали мужики.
— То же самое, видно, что и немецким оккупантам. Такие же паразиты, тунеядцы и гады, — объяснял матрос. — Для них свободного человека не существует, они его не желают признавать. Им не нравится, что мы царя прогнали, а потом и помещиков с капиталистами. Хотят снова на колени нас поставить и какому-нибудь помазаннику божьему со всеми потрохами вручить… Так что, товарищи, не теряйте время — не медля выступайте к Перекопу. Там теперь надо держать фронт.
Надвое раскололась Чаплынка: Гробко со своими самостийниками ведет переговоры с турками, а конники Баржака точат копья и сабли, седлают коней и торопятся к Перекопу.
КОМАНДУЮЩИЙ ЧЕРНОМОРСКИМ ПОБЕРЕЖЬЕМ
Если ехать из Чалбасс на юг, к морю, то не миновать большого торгового села, раскинувшегося на приморской возвышенности и оттого, вероятно, названного Каланчаком.
Много дорог, пересекавших степи Северной Таврии, сходилось в Каланчаке — на Чалбассы, на Чаплынку, на Перекоп, на Хорлы. Большие каланчаковские базары славились не меньше, чем ярмарки в Армянске. Они связывали днепровских помещиков и кулаков с крымскими торговцами скотом.
Вот в этом-то издавна шумном селе в конце 1918 года и появился вдруг долго отсутствовавший Прокофий Иванович Таран.
Дед его был из тех истинных турбаевцев, которые, прожив до ста лет, все еще вспоминали свои Турбаи на Полтавщине. Работал ом чабаном у Фальц-Фейнов. Отец тоже был чабаном, лет тридцать батрачил на тех же помещиков. Пас фальц-фейновских овец и сам Прокофий, но недолго — ему и четырнадцати не было, когда ушел он в Хорлы и стал работать в малярно-кровельной мастерской. Там, в Хорлах, его на другой год жандармы высекли розгами за то, что распространял листовки против царя. А спустя три года за бунтарство выслали из Хорлов с волчьим билетом, и с тех пор пошел Прокофий скитаться, сначала по России, потом по всему свету. Побывал в Англии, в Голландии, добрался до Америки, попал в Детройт на завод Форда, а оттуда перебрался в Канаду — выслали за участие в стачке.
И в Канаде не ужился, — работая на заводе в городе Винипег, вывел рабочих на демонстрацию против империалистической войны, после чего пришлось скрываться. В газетах появилась его фотография с надписью: «Черная шляпа, по следам которой рыщут сыщики». Следы беглеца исчезли за океаном, и в февральские дни 1917 года Прокофий Иванович Таран в той же черной шляпе появился на уличных митингах в Петрограде.
При Керенском его одели в шинель и отправили на фронт, где он сразу стал вожаком солдат. Вернувшись с фронта, после Октябрьской революции руководил Красной гвардией в Алешках. Куда девался потом, не знали. Лишь на исходе 1918 года объявился в своем родном Каланчаке — высокий, статный, голубоглазый красавец с усиками и окладистой бородкой от уха до уха.
Пришел он в Каланчак с заданием Цека украинских большевиков — должен был организовать в Днепровском уезде партизанский фронт против белых и интервентов, а затем держать этот фронт, пока советские войска не подойдут с севера.
В ту пору в Каланчаке существовало два небольших красногвардейских отряда: один кавалерийский — Степана Тарана, брата Прокофия Ивановича, другой пехотный — Феодосия Харченко. Командиры этих отрядов сразу признали Прокофия Ивановича за старшего и объединились под его командованием. В новый объединенный отряд влились со своими людьми и матрос Гончаров, и кавалерист Чепурко, и другие партизаны-большевики из Каланчака, Хорлов, Чалбасс, Бугаевки, Карги.
Шел дождь. Командиры являлись в штаб измокшие, шумно отряхивались и топтались у дверей, поглядывая на Тарана, сидевшего за столом спиной к ним. Таран не оборачивался — помечал что-то карандашом на разостланной по столу потрепанной карте, пока адъютант Амелин не доложил ему, что все в сборе. Тогда Прокофий Иванович обернулся и стал здороваться со всеми за руку.
Командиры расселись.
— Ну вот и хорошо, — сказал Таран. — Давайте теперь обсудим, что я вам предложу. Сидеть нам в Каланчаке больше нечего, организацию будем продолжать в пути. Вот только с оружием у нас плохо, но и его тоже будем добывать не сидя. Понятно?
— Понятно, — последовал согласный ответ.
— Значит, надо действовать, — продолжал Таран. — В уезде есть еще кое-где гетманская варта и белогвардейцы. Нужно их как можно скорее обезоружить — вот вам и оружие. Офицеров переловить и ликвидировать — вот вам и обмундирование. Тебе, Федор, — он повернулся к командиру кавалерии Чепурко, — задание: вывести всю эту контру, очистить от нее местность кругом на тридцать — сорок верст и далее по силе возможности. Тебе, Алексей, — он повернулся к командиру роты матросу Гончарову, — взять под охрану Хорлы и побережье, что вправо от них. Сам ты оттуда, и люди твои неплохо знают море. Феодосий Харченко со всей остальной пехотой пойдет на Перекоп — там белые из Крыма пакостят, да и чаплынцам надо помочь. В Каланчаке оставим Неволика с небольшой командой. Он — начальник хозяйства, носит красные штаны — пусть добывает нам харч.
Таран встал, одернул свою синюю гимнастерку, сделал три шага вперед, три шага назад и затем спросил:
— Как вы, товарищи, считаете мой план?
Командиры сидели молча, глядя перед собой на стол. Первым поднял голову командир пехоты Харченко. Почесал затылок одной рукой, потом другой, посмотрел и вправо и влево…
— Ну, что скажешь, Феодосий Степанович? — обратился к нему Таран.
— Я вот что скажу, Прокофий Иванович, — заговорил тот. — План ты предложил правильный, но Чепурко без пехоты только зря прогуляется. Надо дать и ему пехотинцев, посадить их на подводы, пусть едут. Толку будет больше… Да и план для них тоже надо продумать, — добавил он, глянув на Чепурко.
— Против пехоты я не возражаю, а план мы сами придумаем, — обиделся Чепурко.
— Ты, Федор, не сбивай Феодосия Степановича, дай ему высказаться до конца, — оборвал кавалериста Амелин.
— Давай продолжай, Феодосий Степанович, — сказал Таран.
— Надо трошки подумать, — отозвался на это Харченко и замолк.
Думал он долго, и все терпеливо ждали. Командир зашептал что-то на ухо адъютанту, и тот вытащил ив ящика стола листок бумаги, взялся за перо. Тут и Харченко собрался с мыслями.
— На Перекоп надо идти — это правильно, только лопаты следует прихватить с собой. По Турецкому валу хат нету, значит, землянки рыть придется, и не тилько от дощу, но и от снарядив, бо воны, диаволы, там в Крыму усе имеют. Чаплинцы мени рассказували, як их, тих билых, вооружили твои, Прошка, земляки, — сострил Харченко, имея в виду, что командир был в эмиграции.
После Харченко слово взял Гончаров.
— Я, товарищи, хочу только одно замечание сделать, — низко надвинув на лоб бескозырку, заговорил он. — В Хорлы, на мою родину, прошу послать других, а я с ротой пойду на Перекоп.
— Это, Алексей, не пройдет, — перебил его Таран.
— Так зачем же нас сюда собрали, раз нельзя говорить свое мнение, — загорячился матрос.
— А ты говори — говорить тебе никто не запрещает… Говори, чего остановился?
— И буду говорить, — запальчиво продолжал матрос. — Мне станут доказывать, что я и мои люди лучше других знают местность и население, — это верно, но вот что не учитывается тут: у каждого из нас в Хорлах есть родные, у некоторых жены, дети. Близость семьи не будет содействовать боеспособности и дисциплине. Поэтому я против посылки моей роты в Хорлы и свое мнение буду отстаивать.
— Отстаивай — этого тебе никто не запрещает, а я буду отстаивать свое, — не глядя на матроса, тихо сказал командир.
Потом говорил брат командира — Степан Таран. Он поддержал Гончарова, сказал, что если бы его оставили в Каланчаке, то тоже возражал бы. Но доводы выдвигал совсем другие.
— Своего, местного, люди будут плохо слушать, запанибрата станут, а это не на пользу. У своего авторитет не тот, что у чужого.
И Неволику тоже не хотелось оставаться в Каланчаке. Он говорил, что лучше бы ему расположиться в Преображенке, имении Фальц-Фейнов, поближе к отряду — удобнее будет снабжение осуществлять.
Прокофий Иванович усмехнулся:
— Ты уж прямо скажи — боишься, чтобы кулаки вместе с красными штанами не содрали с тебя шкуру на бубен. Не бойся — они теперь притихли.
К этому времени адъютант написал приказ, и командир повел совещание к концу.
— Смотрите, товарищи командиры, дождь уже проходит. Правда, грязь на улице непролазная, и у кого обувь плохая, неприятно ее месить. Но не разговаривать же нам, пока грязь просохнет… Есть у кого еще какие-нибудь предложения или замечания?
— Все, что было, уже сказано, — ответил за всех Харченко, тоже не любивший долгих разговоров.
— А я после всех вот что скажу, — продолжал командир. — Феодосий Степанович правильно рассудил — я с ним согласен, а вот с Гончаровым и Неволиком согласиться не могу. А почему? Объяснять это долго, а время дорого. Так что давайте, товарищи, разговоры на том кончим. Слушайте приказ — Амелин его зачитает вам.
Адъютант зачитал приказ. Командир спросил, понятно ли. Все ответили утвердительно.
— Значит, ступайте по местам и выполняйте, — заключил командир.
Когда все разошлись, Прокофий Иванович заметил, что в хате накурено.
— Ох, эти мне курильщики! — покачал он головой. — Из рукава втихомолку всю хату задымили. Хуже ребятишек проказничают, а еще командиры.
Таран не курил и не любил, чтобы другие курили в его присутствии.
Штаб Тарана перебрался в Преображенку. Амелин хотел расположить его в пустовавшем дворце Фальц-Фейнов, но Прокофий Иванович не разрешил.
— Там еще по углам пахнет этой старой крысой Софкой, — сказал он брезгливо. — Давайте лучше займем бывшую рабочую казарму.
Партизанская пехота под командой Харченко разведывала и осваивала оборону по Турецкому валу. Левее ее стояла чаплынская кавалерия Баржака.
Через несколько дней прибыли первые гонцы от Гончарова и Чепурко — сообщили, какие пункты очищены от всякой контры и сколько взято при этом винтовок. Неволик прислал из Каланчака печеный хлеб, немного сала и десятка два трофейных сапог, переданных ему Чепурко. И только роздали эти сапоги, как началось первое боевое крещение — артиллерия белых на Перекопе открыла по партизанам огонь.
К артиллерийской стрельбе белых мы применились скоро: после того как двух ухарей задело шрапнелью, все стали по команде прятаться в укрытия. А вот боевые корабли Антанты, нахально разгуливавшие у самых берегов, все больше беспокоили нас.
Гончаров каждый день передавал тревожные сообщения. Матрос очень опасался десанта, но ничего не мог предпринять против англо-французской эскадры, то появлявшейся на рейде у Хорлов и Скадовска, то вдруг куда-то исчезавшей.
После очередного тревожного сообщения Гончарова Прокофий Иванович решил направить в Хорлы часть эскадрона Чепурко, чтобы усилить наблюдение за морем. В ответ на эхо брат командира Степан сказал с горечью:
— Что это, Прокофий, за мера? Ну, пошлем двадцать — тридцать кавалеристов смотреть за морем, а в море-то ведь они не пойдут? Корабли Антанты как гуляли у наших берегов, так и будут гулять.
— А ты что предлагаешь, моряк?
— Я вот что предлагаю: во-первых, надо сделать вылазку за Турецкий вал и добыть у белых хотя бы пару пушек, во-вторых, — во что бы то ни стало разжиться где угодно каким-нибудь катером. Вот тогда бы мы могли что-нибудь предпринять против Антанты.
— Ну, брат, катерок с парой пушчонок — это тоже полумера, — усмехнулся Прокофий Иванович. — Нам сегодня что важно? Не прохлопать высадки десанта, не дать интервентам вылезти на сушу. А если вылезут, то, я думаю, мы как-нибудь с ними справимся. Только бы узнать вовремя. Для этого мы и посылаем в Хорлы конных. Ну а насчет катеров и пушек мечтайте. И я мечтаю, и Харченко говорил мне, что он тоже мечтает о них. Почему не помечтать? Только давайте, ребята, и о деле не будем забывать. Вон рыжий Свыщ говорит, что капитан Шпехт задался целью уничтожить нас. Хочет вернуться из Крыма в свое имение…
Бывший чалбасский помещик Шпехт командовал белогвардейским отрядом, стоявшим за Турецким валом. Наши разведчики, побывавшие там, докладывали, что он готовится к наступлению. Ждет только, пока мороз подсушит грязь. Рассчитывает, уничтожив нас побыстрее, рвануться к Херсону на соединение с тамошними десантами интервентов, ну а заодно и в свое имение заглянуть.
Подморозило лишь в конце января. Это было кстати не только Шпехту, но и нам — надоело уже вязнуть в грязи, рвавшей обувь, да и коням было тяжко.
А на месте нам не сиделось. Приходилось все время колесить по уезду. То в Алешки — там самостийники собрали свой кулацкий конгресс и какой-то ротмистр Леснобродский грозился расправиться с большевиками. То в Копани — там эсеры Коваль и Василец организовали кулацкую самооборону и устраивали засады против красных. То на Ищенские хутора — там кулачье зверски убило председателя уездного ревкома Птахова и Кожушенко из укома партии.
В первой половине февраля, когда крымские белогвардейцы начали наступление на Перекопе, силы наших отрядов оказались разбросанными. Пасмурной ночью Шпехт с отрядом в полторы тысячи штыков и сабель подошел к Максимовке и окружил батрацкие казармы, в которые незадолго до того переехал со своим штабом Таран. Считая, что Таран уже в его руках, Шпехт не торопился. А наш командир успел между тем послать гонца в Каланчак и Бугаевку, где находились тогда главные силы отряда. К тому же в самом партизанском штабе было пять ручных пулеметов Люиса. Отстреливаясь из них, штабники во главе с Прокофием Ивановичем продержались некоторое время в казарме, а потом в темноте незаметно покинули ее и канавой выбрались из окружения. А тут подоспели и Харченко с пехотой, и Чепурко со своим эскадроном, и Баржак с чаплынской кавалерией. Отряд Шпехта был разгромлен наголову. От него уцелело только несколько сот всадников, сумевших скрыться за Турецким валом. Сам Шпехт попал в плен и был расстрелян своими бывшими батраками.
После этого еще дважды пытались белогвардейцы прорваться из Крыма на соединение с интервентами в Херсоне, но опять были отбиты, и лишь артиллерия белых время от времени нарушала тишину, установившуюся па перешейке вдоль Турецкого вала.
А в Хорлах корабли Антанты все же высадили десант.
Вину за это многие приписывали штабу. Особенно доставалось Амелину.
— Ты, адъютант, прохлопал. Не усилил вовремя охрану побережья, — наседал на него брат командира.
— А если бы белые из Крыма прорвались? — спрашивал Амелин.
— Штабу поповоротливее надо быть, — не унимался Степан. — Я это и Прокофию говорил и тебе напоминаю.
— А что ты предлагаешь-то?
— Предлагаю всыпать тебе хорошо за то, что проморгал греков, и как можно скорее выбивать их. Сами они отсюда не уйдут, им у нас, говорят, нравится. А мы сидим сложа руки, ждем, пока они укрепятся.
— Ты, Степа, спокойнее, — заговорил Алексей Гончаров. — В панику не надо бросаться. Твоя нелишняя взвинченность передается другим. Не забывай, что греки в Хорлах в основном на воде сидят. Обмелевшая акватория не позволяет крупным военным судам входить в порт. Они на дальнем рейде. А там их без пушек не возьмешь. Так что не будем, Степа, зря трепать нервы адъютанту, подождем лучше, что скажет командир.
Четыре дня уже прошло, как греки высадились в Хорлах, а командир еще не высказался, словно высадка интервентов его нисколько не тревожила, хотя с часу на час он становился все угрюмее. Партизаны уже не раз спрашивали командирова ординарца:
— Чего говорит-то Прокофий Иванович?
— А ничего. Молчит все. Сильно не в духе, — отвечал ординарец.
И вот на пятый день Таран вдруг оказался в кругу наших стратегов, горячо обсуждавших положение.
— Ну, о чем у вас тут спор идет? — спросил он.
— Да все об этих самых греках, — сказал Алексей Гончаров. — Мало у нас заботы было, так вот еще гости на нашу шею пожаловали. Степан волнуется, как бы они не обосновались тут надолго и с белыми не сомкнулись. Ведь расстояние-то не больше тридцати — сорока верст.
— Вот это и меня тоже беспокоит, — сознался Прокофий Иванович. — Видно, заставит нас Антанта стать моряками. Другого выхода не вижу. Раз центром нашего внимания становится море, значит, правы наши мечтатели — надо заиметь свой какой-нибудь флот. Сухопутные силы у нас растут, а на море мы что корабли в поле.
— Нам бы только какую ни на есть посудину, — вздохнул Алексей Гончаров.
— Вот именно. Ты, я вижу, правильно подходишь к решению задачи, — продолжал Прокофий Иванович. — А раз общее мнение есть, нам остается только произвести удачную вылазку к причалам Хорлов. Крупные корабли стоят на рейде, а помельче — транспорты, катера — у причалов. Так почему бы нам не захватить их налетом кавалерии и пехоты? Как думаете? Не осрамимся?
— Конечно, раз нужно, не подкачаем, Прокофий Иванович, — ответил Харченко. — Но вот только как это кавалерия будет атаковать флот в море?..
— А ты как думаешь, моряк? — командир обернулся к Алексею Гончарову.
Матрос наморщил лоб и стал рассуждать:
— Задача, конечно, не простая… Что и говорить, сложная, трудная задача. Можно сказать, даже загадка. Ее еще надо разгадать…
— Да ты не юли, — перебил его командир. — Разгадывать тут нечего. Отвечай прямо: увяжется или нет?
— Прокофий Иванович, да к лицу ли нам духом падать?! — воскликнул матрос. — Конечно, увяжется! Надо только дерзнуть. Если захотим, все сбудется, как сказал товарищ Ленин. А без флота нам никак нельзя с греками воевать.
— Ну, в таком случае не теряйте время, — сказал командир, — готовьте канаты, багры, топоры, подбирайте людей, знающих морское дело, — механиков, рулевых. Выявляйте артиллеристов…
— Это вам не гайдамаков по клуням ловить, — говорил командир, давая своим помощникам задание на разведку сил и расположения греков в Хорлах. — Все-таки как-никак эскадрой командует адмирал Яникоста. Говорят, и Софка с ним приехала. Надо все до мелочей разузнать: дислокацию, перегруппировку кораблей на ночь, особо выяснить состав морской пехоты…
Отряд подтянулся поближе к Хорлам, расположился в балке, уже по-весеннему зазеленевшей, и стал поджидать тут высланных вперед разведчиков. Командиры собрались у штабной тачанки обсудить поступившее от чаплынцев предложение о помощи.
— Людей у нас достаточно. Вот если бы пушки дали!
— Но ведь их, этих пушек, и у чаплынцев нет.
— Как же нет, если они всю зиму палят по колокольне у Перекопа?
— А что толку? Разве это пушки? Они же бесприцельные. Знают, что на колокольне артиллерийские корректировщики белых сидят, вот и палят, да без прицелов ничего у них не получается.
— Ну что ж, обойдемся без пушек. Вот, может, кавалерию Баржака попросить сюда?
— Ладно, как-нибудь сами управимся, — решил командир. — Пехотинцев посадим на коней. Только седел, пожалуй, не хватит на всех.
В это время кто-то сказал:
— А вот и разведка пожаловала. — Все обернулись на голос и увидели: сквозь толпу бойцов, собравшихся у кухни, проталкивается рыжий Свыщ, а следом за ним — молодой разведчик Клименко. Подойдя к командиру, Свыщ пытался что-то сказать, но не мог — сильно запыхался.
— Ты прежде отдышись, а потом уж говори, — посоветовал Прокофий Иванович.
— Всю дорогу гнали, коней взмылили, чтобы скорее доложить…
— Ну давай, выкладывай, что там стряслось.
— Два корабля развернулись на рейде и взяли курс в море.
— Это и все?
— Нет, есть еще: жители говорят, что греки собираются все суда из бухты выводить, часть к южному краю причала, а часть на рейд.
— С чем это связано? Что они замышляют — узнали?
Свыщ кивнул на Клименко.
— В городе он только один был. Видел там этих греков, которые в татарских красных шапочках ходят, слышал их разговор, но понять не мог.
— Они по-своему лопочут, — объяснил Клименко.
— А жители говорят, — продолжал Свыщ, — что те два корабля, которые ушли в море, — французские. Вроде у них с греками какое-то несогласие. Теперь только греческие солдаты патрулируют в городе. Французов отставили; разговоры ходят, будто они не хотят воевать за капиталистов. Так что, товарищ командир, самое время сейчас ударить по этим грекам, пока они не увели весь свой флот на рейд. Потому мы с Клименко и торопились. Всю дорогу гнали коней, чтобы не упустить Антанту…
К вечеру основные силы отряда были разбиты на три группы. Разведчики еще раньше, немного отдохнув, снова ушли вперед, чтобы заняться «расчисткой» дороги. С ними ушел один взвод из эскадрона Чепурко. Ему было приказано зорко наблюдать за берегом.
Остальным предстояло действовать ночью. В два часа пополуночи все три ударные группы должны были приблизиться к Хорлам для одновременного броска с разных сторон.
Густая пелена тумана затягивала балку, в которой расположились ожидавшие выступления партизаны. На темневшем небосводе уже замигали звезды. Сидевшие и лежавшие на земле бойцы увидели вдруг выступившего из тумана командира.
— Ну теперь, хлопцы, уже почти все ясно, — сказал он. — Пора начинать — собирайтесь. Путь не близкий, и в пути все возможно. Ни в коем случае не обнаруживайте себя в дороге. Иначе провалим дело. Вражеские посты снимать бесшумно, лучше всего солдат брать живыми, чтобы с их помощью уточнить обстановку.
Кто-то спросил:
— А как будем уточнять, если не знаем языка этих иродов?
— Ничего, я по-английски как-нибудь договорюсь с ними, — ответил Таран.
Партизанские колонны стали вытягиваться из балки. Сначала все три группы двигались сообща. Затем командир велел остановиться. В чем дело — никто не знал. Вероятно, подошли раньше назначенного часа — надо было выждать.
Бойцы прислушивались и вглядывались в темноту с таким напряжением, словно надеялись увидеть, что их ждет впереди. Облака закрыли звезды. Из непроницаемого мрака текли холодные потоки воздуха. Чуть-чуть поддувал еще не выбравший направления предрассветный весенний ветерок. Озимь и сухую прошлогоднюю траву покрывала роса. Время тянулось невероятно долго: минута казалась часом.
Вдруг позади — конский топот. Это посланцы Баржака прискакали на мокрых конях. Вскоре появился и сам Баржак в своей блестевшей, как самовар, пожарной каске. Тарану пришлось изменять свой первоначальный план. При этом он поспорил с Баржаком — кому куда идти. Баржак уступил:
— Ладно, Прокофий Иванович, тебе видней.
Таран оставил за собой порт, а Баржак взял на себя устричный завод.
Для прикрытия флангов решено было выделить два взвода. Один — из роты Гончарова. Услыхав об этом, Гончаров всполошился: как же это так, его моряки останутся как бы в стороне. Да это же позор для них!
— Товарищ командир, разрешите всем нам, морякам, идти в атаку на этих иродов. Очень прошу вас — уважьте моих земляков. Иначе им стыдно будет в свой город зайти.
Таран угрюмо молчал — не любил он менять своих решений. Тем более не хотелось делать это в присутствии Баржака.
Но Баржак сам помог ему выйти из щекотливого положения:
— Эту просьбу, Прокофий Иванович, нужно бы удовлетворить, — сказал он. — Просьба основательная. Разрешите, я пошлю на ваш фланг свой взвод, а моряки пусть бьют греков с фронта. Им действительно обидно торчать на фланге.
— Ну, если так, я согласен, — уступил Таран.
На радостях кое-кто ив моряков затянул: «Эх ты, яблочко, куда ты катишься…»
— Отставить! — приказал Таран. — Вывести из строя тех, кто запел. Раз забываются, обнаруживают себя до атаки — в атаку не пойдут, пусть здесь на пригорке сидят и приучаются к выдержке.
А через несколько минут скомандовал:
— По коням, за мной вперед!
За Прокофием Ивановичем первой двинулась группа конных моряков, отобранных Гончаровым для захвата греческого флота.
— Вот здесь в укрытии и будем ждать, — сказал Таран, останавливая коня на подъеме из ложбинки. Своему брату командир приказал выдвинуться с ротой вперед. — А мы, остальные, — пояснил он, — будем пока резервом, на случай какой-нибудь неустойки.
Уже пришло время намеченного удара — с востока началось чуть заметное посветление, а от ударных групп никаких сигналов нет. Адъютант нервничал:
— Уж больно много наговорили мы об осторожности, Прокофий Иванович. Будут они теперь не на конях, а на карачках ползти.
— Может быть, попали в беду? — несмело вставил кто-то.
Но командир так поглядел в сторону говорившего, что тот сразу прикусил язык.
Вокруг все еще было завешено тьмой. Казалось, что и рассвет почему-то задерживается. Люди продрогли, стали приплясывать на месте, держа в поводу коней.
Командир приказал послать в головную ударную группу двух самых отважных и хорошо знающих город бойцов.
— Пусть один возьмет ручной пулемет, а другой — побольше гранат, — сказал он. — Во что бы то ни стало надо узнать, что там с этими моряками. Почему не дают о себе знать?
Но не успели те двое выехать, как из темноты донеслось далекое «ура». Вспыхнувшая затем беспорядочная стрельба продолжалась минут двадцать, после чего снова воцарилась немая тишина.
Командир распорядился о высылке на окраину города разъезда, а остальным велел следовать за ним к бухте.
Только выбрались мы из лощины, глядим, навстречу скачут трое конных. Они доложили, что все совершилось так, как было задумано: Хорлы в наших руках, захвачены пленные, трофеи, и в числе их три катера.
— Хорошо, организованно все получилось, без горячки, товарищ командир. Один катер взяли прямо на ходу. Греки завели его, но не успели отшвартовать, как наша братва оказалась уже на палубе. Они и чехлов не сумели снять со своих пулеметов.
— А почему долго ничего не сообщали?
— Да провозились с миноносцем. Едва заставили его уйти из порта. Сначала, гад, не соглашался ни в какую, грозил открыть огонь, но мы стали кидать гранаты к нему на палубу, и тогда миноносец, дав задний ход, удалился.
— А чего было канителиться? Надо было и его захватить.
— Да он, товарищ командир, миноносец-то этот — не завидный, какой-то ободранный.
— А пулеметов и пушек на нем много?
— Вот в том-то и дело, товарищ командир, что не сочтешь сколько, и все наготове.
Расспросив прискакавших из порта всадников, командир отдал новое распоряжение:
— Всем идти в город, тачанки с пулеметами держать сзади в прикрытии.
Сам он все же решил отправиться в порт и стал поименно называть всех, кто пойдет с ним. Отобрал всего тридцать всадников да два пулеметных расчета.
На рассвете Хорлы приветствовали своих освободителей. Почти в каждом доме жители готовили нам угощение. Исключение составляли немногие — те, что осторожно поглядывали на партизан, а потом поворачивали головы в сторону военных кораблей Антанты, стоявших на рейде в трех — четырех километрах от берега.
Таран лично наводил порядок в порту. Взятых в плен греков он велел отпустить.
— С греками мы не воюем, а непрошеных гостей знать не хотим, — сказал он. — Пусть догоняют своих в море на лодках. Оставить только тех, кто издевался над жителями города. Этих пусть народ рассчитает.
Народ показал на семнадцать греков. Их под конвоем отправили в Херсон.
А командир уже решал вопрос о трофеях.
— Катера зачислить в партизанский флот. Командующим назначаю матроса Алексея Гончарова… Брошенное греками оружие свезти к штабу, а шерсть и зерно с захваченных барж раздать беднейшему населению Хорлов, Каланчака и Чаплынки…
У Прокофия Ивановича и следа не осталось от той угрюмой озабоченности, которая не покидала его все последние дни. Вечером, собрав в штабе своих помощников, он говорил:
— Ну, друзья мои, есть теперь у нас и флот! Ты, Степан, мечтал о каком-нибудь суденышке, а мы имеем уже целых три. Правда, вооружены они только пулеметами, но зато везде могут ходить, даже у самого берега. Плоскодонные, мелкосидящие суда будут малоуязвимы с больших кораблей и всегда легко могут скрыться… Смотрите, как хорошо у нас получается: пехота будет атаковать противника на суше, кавалерия — ловить убегающих и совершать налеты по вражеским тылам, а флот — действовать на море. Отныне мы сила, что твоя республика! Антанте и на море придется оглядываться — мы ей и там можем показать, где раки зимуют! Только вот артиллерии еще недостает.
Все были веселы и, расходясь из штаба, шутили:
— Теперь нам море по колено.
На улице встретились с двумя партизанами, конвоировавшими в штаб греческого моряка.
— Смотрите! — воскликнул Алексей Гончаров. — Где-то еще одного грека раздобыли. Значит, не всех переловили.
Но оказалось, что это — парламентер. Только что приплыл на катере с каким-то пакетом от адмирала Яникоста.
Мы решили вернуться в штаб — может быть, получим новые указания.
Взяв пакет, Таран предложил парламентеру присесть, указав рукой куда. Парламентер козырнул, четко повернулся через левое плечо и сел на указанный ему стул.
Командир не спешил открывать пакет. Он прочел надпись на конверте, показал ее адъютанту, потом еще повертел пакет в руке, поднял на свет, чтобы посмотреть, с какою края лучше надрывать, и только после этого вскрыл. Прочитав послание — оно было написано на русском языке, — командир передал его Амелину и сказал:
— Давай, Николай, созывай старшину. В трудную минуту и Богдан Хмельницкий так поступал.
Амелин поддержал шутку:
— Но ведь мы, Прокофий Иванович, не казаки, жупанов не носим и оселедцев на головах у нас нет, а красные шаровары только у одного Неволика…
— Ты это брось, — перебил его Прокофий Иванович. — Давай-ка лучше созывай поскорее кого положено, а то адмирал Яникоста заждется, — и кивнул на парламентера, сидевшего на стуле истуканом.
Минут через пятнадцать все были в сборе. Прокофий Иванович прочел вслух послание греческого адмирала. Адмирал требовал немедленно освободить порт и всех пленных, угрожая в противном случае открыть огонь со своих кораблей.
Закончив чтение и отложив послание в сторону, Таран сказал:
— Угроз мы не боимся и в нашем доме распоряжаться никому не позволим. Пиши, адъютант, то, что я буду говорить. Не возражаете, товарищи? Потом обсудим, если что будет неясно.
Возражений не последовало, и Прокофий Иванович стал диктовать:
«Ответ командующему флотилией Антанты на Черном море Яникоста. На полученный от вас ультиматум я вам предлагаю немедленно уйти, в противном случае путем установки артиллерии на косе Джаларгач закрою выход в море завтра в семь часов утра… Вы непрошено пришли в нашу страну и поддерживаете бандитов и белогвардейцев, которые ненавистны рабочим и крестьянам… занялись грабежом… Предлагаю вам убраться… завтра уже будет поздно.
Командир партизанского отряда Таран П. И.»
— Ну как, будем обсуждать или всем все ясно? — опросил командир.
— Ясно, — ответил Харченко, и с этим все согласились.
Адъютант запечатал написанный им под диктовку командира ответ, вручил его парламентеру и велел дежурному проводить того на катер.
Парламентера увели, но собравшиеся в штабе командиры еще долго не расходились, продолжая разговор об ультиматуме адмирала Яникоста. Ультиматум не испортил наших победных настроений, а ответ Тарана еще больше подогрел их.
Между тем вернулся дежурный, провожавший парламентера, и сообщил, что все захваченные катера уже на ходу. На одном даже сооружена пушка из… трехдюймового резинового шланга.
— А толк какой от этого будет? — усомнился Харченко.
— Молодцы ребята, толк должен быть, — сказал командир и тут же поинтересовался: — А парламентер видел это орудие?
— Мы его туда близко не подводили, — ответил дежурный, — но издали наверняка видел…
Начинало темнеть, и Таран предложил всем командирам отправиться по своим местам, зорко следить за берегом.
— А сам я, — сказал он с улыбкой, — побреду на базу флота, к катерам.
Вернувшись в штаб поздно вечером, Прокофий Иванович еще раз похвалил наших моряков за изобретательность. Вскоре стали возвращаться и другие командиры, проверявшие охрану побережья. Таран приказал подать чего-нибудь поесть. За столом шел разговор о событиях минувшего дня. Все сходились на том, что денек выдался на редкость хороший.
Было за полночь, первые петухи уже пропели, как вдруг в штаб ворвались два партизана и с ними — опять тот же грек парламентер. Сначала мы подумали, что этот посланец Яникоста до сих пор еще не отбыл с нашим ответом, но оказалось, что он привез от своего адмирала новый пакет.
Приближался час, когда во исполнение своей угрозы мы должны были открыть артиллерийский огонь с косы Джаларгач. Не имея артиллерии, командир, естественно, начинал нервничать. Он приказал дежурному увести парламентера в другую комнату и сразу же стал читать вслух новое послание Яникоста. Послание это гласило:
«Милостивый государь господин Таран! Я не согласен с Вашим мнением. Я пришел сюда не как враг, ничего не позволял брать без разрешения. Вы напали без всяких причин на людей, которые находятся под защитой моего флота. Без всякого с моей стороны повода Вы имели смелость бросить мне вызов. Я принимаю Ваш вызов и готов защищать свой флаг, который Вы оскорбили. Своими пушками, гидропланами я разрушу все те деревни, над которыми Вы командуете. Я никому не хочу делать зла, особенно крестьянам и рабочим, которых считаю очень полезным элементом для страны. Поэтому я предлагаю, если желаете сохранить добрые отношения со мной, чтобы пленные, которых Вы взяли и которые находятся под защитой моего флота, были возвращены. Я жду Вашего ответа до завтрашнего утра, до семи часов в Бакале.
Командующий Яникоста».
Обсуждение новой ноты Яникоста продолжалось до трех часов ночи. Командир не торопил, хотел, чтобы все высказали свое мнение. Наконец решено было никакого ответа не посылать, а парламентера проводить до пристани, чтобы он поскорее убирался туда, откуда явился.
Утром в воздух поднялись гидропланы интервентов, загремели залпы с их кораблей. Туман еще не совсем рассеялся. Солнце то показывало свой безлучный диск, то скрывалось в ватной пелене. Но на морском горизонте было уже светло. Мы четко видели стоявшие на рейде корабли и вспышки их выстрелов.
Бомбардировка продолжалась недолго, и урон она причинила нам небольшой: было ранено несколько бойцов и убита одна лошадь. А как только стих грохот разрывов, из труб вражеских кораблей повалил густой бурый дым. Увидев это, мы сразу поняли, что греки вслед за французами решили покинуть наши воды.
Первыми взяли курс в море крейсер и миноносцы. За ними тронулись транспорты и вся прочая мелкота. Позади всех тащилась какая-то баржа. Алексей Гончаров на своей флагманской «Пчелке», сопровождаемой двумя другими трофейными катерами, устремился за ней, и на глазах уходивших в море интервентов баржа вынуждена была повернуть назад. Хорловским буржуям, пытавшимся удрать вслед за греками, пришлось вытаскивать на берег свои чемоданы с золотом и разными драгоценностями, которые Таран сдал потом в советскую казну.
Попала в руки партизан и София Богдановна Фальц-Фейн — некоронованная царица Хорлов, Перекопа и всех земель до Аскании-Новы. Во избежание самосуда, который грозил этой ненавистной народу старой злой барыне от рук ее бывших батраков, Таран велел ее арестовать и посадить в караулку при штабе.
Когда конвойные, едва отбившись от наседавшей на них толпы, привели Фальц-Фейншу в отведенное ей помещение, начальник караула Петро Колтун, тоже бывший ее батрак, закричал:
— Ну, чего притащили сюда эту крысу? Караулку поганить?
Старший конвойный стал его урезонивать:
— Ты, я вижу, в политике плохо разбираешься. Командир велел беречь ее. Не иначе как заложницей будет она теперь. Антанта будет с нами об ней торговаться.
— Да на кой черт она им нужна? Станут они из-за нее в такое время переговоры вести! Сам знаешь, как их адмирал Яникоста на нас рассерчал за то, что мы отклонили его ультиматум.
— Нет, ты, друг, не прав. Софка ведь сюда пригласила этих греков. Как же им о своей хозяйке не позаботиться. Да и сын ее Эдуард там где-то у них.
— В расход бы ее, стерву, пустить! — требовали другие караульные.
— Что вы, хлопцы, — возражал конвойный. — За это судить будут. Вы вот распишитесь в получении, а потом что хотите, то и делайте с ней.
— Не буду я расписываться за эту гадюку! — заупрямился Петро Колтун. — Сколько она нам платила за сезон? По восемь — десять целковых, да из них еще рубля по два штрафных удерживала. А приказчики ее, сколько нас угощали плетьми да пинками? К чему ж такую заложницей оставлять? Это чья-то глупая выдумка или кто-нибудь в шутку сказал, а вы, дураки, и поверили… Тьфу — заложница, да у всей Антанты золота не хватит на ее выкуп — уж очень много она из нас высосала. Ее долг далее не сосчитать, настолько он велик. Мало ли людей отправила эта тиранка на казнь и каторгу в пятом году! А помните, как на виноградниках намордники батрачкам надевали, чтобы они виноград не ели?
— Хватит тебе, Петро, счеты с этой барыней сводить. Знаем, что она тебе здорово насолила, да и всем нам не меньше, но не надо, товарищи, пачкаться, имейте уважение к себе, — сказал заглянувший в караулку на шум наш почтенный Степан Задырко, такой же фальц-фейновский батрак, как и все турбаевцы, по человек уже партийный.
В караулке стихло, и Фальц-Фейнша, молча сидевшая на лавке в углу в своих изодранных толпой шелках, осмелела — потребовала разговора с командиром наедине. Таран согласился, сам пошел в караулку. А когда вернулся, плюнул и сказал:
— Вот ведь, гадина, что придумала! Говорит мне: «Я вижу, Прошка, что ты умеешь управляться с людьми, иди служить ко мне — будешь управляющим всеми моими имениями, спасу тебя от петли, а то не минуешь ее, когда вернется порядок».
Несколько дней, пока мы были в Хорлах, Фальц-Фейнша сидела в караулке. Но, когда уходили обратно на Перекоп, Таран не захотел тащить ее с собой — велел выпустить, и вскоре до нас дошел слух, что какие-то конники, прискакавшие в Хорлы после нас, зарубили Софку шашками. Может быть, это были и наши турбаевцы, потихоньку отставшие в пути и вернувшиеся в Хорлы, чтобы свершить суд над своей бывшей барыней: расследованием этого дела тогда никто не занимался — не до того было.
Отряд наш снова занял свои старые позиции на Перекопе рядом с чаплынцами. В конце марта 1919 года на помощь нам подошли советские войска из группы Дыбенко. Общими силами был предпринят штурм укрепленного французскими инженерами перешейка, но не хватало артиллерии и толку не получилось — лишь напрасно жертвы понесли.
Неудачные бои привели Тарана к мысли, что удар с фронта следует подкрепить ударом с тыла, и катер «Пчелка», не доходя до пристани Сарабулат, высадил ночью десант — двенадцать смельчаков во главе с самим Тараном. Уничтожив охрану пристани, партизаны овладели телефоном, и Прокофий Иванович объявил по проводу:
— Я — Таран, командующий Черноморским побережьем, заявляю всем — и вам, белая сволочь, и вам, партизаны, — что многочисленные корабли Красного флота высадили в Крыму мощный десант с сильной артиллерией и к утру здесь от беляков мокрого места не останется — все будут уничтожены, если не сдадутся сейчас же.
В ответ из Бакала загремели тяжелые орудия. Однако снаряды летели не в Сарбулат, а в направлении Перекопа: в панике, не разобрав, где красные, артиллеристы противника стали бить по своим передовым позициям.
— Не верили, что у нас сильная артиллерия, так вот вам доказательство, — сказал Таран, заканчивая разговор по телефону.
С этого и началось наше совместное с Дыбенко наступление. А закончилось оно, как известно, освобождением большей части Крыма: с Перекопа белогвардейцы были отброшены на Керченский полуостров.
КРЕСТЬЯНСКИЙ ПОЛК
Давно уже ветра замели следы, которые, уходя из наших степей, оставили на дорогах немецкие оккупанты, но корабли Антанты все еще качались на черноморских волнах, и это обязывало партизан побережья быть начеку.
В селах Днепровщины бурно росла активность Советов. Крестьяне выходили на первую советскую весеннюю посевную страду.
Между тем справа от нашего уезда, за Днепром, разгуливали кулацкие банды, свирепствовали изменившие Советской власти григорьевцы, а слева надвигались полки Деникина. Весной деникинцы много раз пытались прорвать наш фронт на Керченском полуострове, но им не удавалось выйти на степные просторы Крыма, пока Махно, державший оборону в Приазовье, не открыл белым ворота, предательски сняв свои отряды с позиций. После этого мы вынуждены были отойти из-под Керчи и Феодосии, так как белые выходили нам в тыл.
Дыбенко и его помощники, размахивая маузерами и крича до хрипоты, тщетно пытались восстановить положение. Под давлением превосходящих сил Деникина наш фронт все уходил и уходил на север и на запад. А в это время махновцы, обосновавшиеся в Гуляй-Поле, носились по нашим тылам, мутили воду и в городах и в селах, собирая под свои черные знамена кулаков, уголовников и всякое жулье. Эти бандиты терроризировали все правобережье Днепра от Херсона до Екатеринослава. В Херсоне они пытались даже созвать съезд повстанческих отрядов Юга и поднять их против Советов.
В начале июня Таран отправил к Днепру обозы хозяйственной части отряда, а через неделю двинулись к Алешкам и наши боевые подразделения. Шли организованно, но очень невесело. К тому времени зеленый ковер степей уже становился золотистым — поспевала пшеница. В тот год многие впервые посеяли ее на своей собственной земле, только что полученной от Советов. Кому-то достанется зреющий на ней урожай?
Маршруты боевых групп были составлены так, чтобы весь отряд пришел в Каланчак одновременно.
В селе на площади состоялся короткий митинг, а потом наступили тяжкие минуты прощания. Женщины рыдали в голос, мужчины сдерживались, но и у них на глаза набегали слезы. Как-то незаметно, без всякой команды партизаны в общей массе с провожавшими двинулись по широкой дороге к Днепру. Далеко за село вытянулось шествие. Казалось, что все жители уходили вместе с нами. Но вот раздалась запоздавшая команда «По местам!». Шествие остановилось. Бойцы, простившись с родными, стали разбираться по своим подразделениям.
Таран низко поклонился провожавшим и крикнул:
— Прощайте, дорогие земляки!
Матери и жены запричитали:
— Та куда же вы, наши ясны соколы?
Верховые, высоко держа на древке красное знамя, поскакали вперед. За ними нескончаемой вереницей потянулись подводы с партизанской пехотой.
Чтобы скорее уйти от терзавших душу воплей, ездовые подстегивали лошадей кнутами, подергивали за вожжи.
Колонну замыкали тачанки с пулеметами. Запряженные в них лошади с вплетенными в гривы красными лентами тоже норовили вырваться вперед.
Жарко светило июньское солнце. Легкий ветерок поднимал вдоль дороги пыль длинной рыжей полосой. В пыли утонули огороды, сады, плетни и хаты. Лишь огромные зеленые шапки акаций в белых цветах выглядывали из-за кровель домов. Но вот и они окутались мглой, а потом и вовсе скрылись в мигающем мареве. Бойцы запели:
— Ничего, братва, не унывайте, — разобьем врага и снова будем дома, — крикнул кто-то в ответ на унылую песню.
Партийцы, присаживаясь на подводы к пригорюнившимся бойцам, говорили:
— Да что вы, хлопцы, как обманутые девки, сидите? — и, чтобы отвлечь товарищей от грустных мыслей, сообщали им последнюю новость — о решении укома партии создать на базе наших отрядов Днепровский крестьянский полк.
Известие об этом вызвало много толков. Люди приободрились. Но вот подошли мы к бывшему имению Духвино, в котором была уже создана сельскохозяйственная коммуна, встретились с коммунарами и — опять огорчение и слезы. Молодежь коммуны уходила с нами, а старики, женщины, дети — куда им деваться? Придут белые, учинят расправу и никого тут не пощадят.
Дойдя до развилки дороги, где стоял у колодца давно насквозь прогнивший крест, отряд разделился и пошел по двум дорогам: одни на Брилевку, другие на Чалбассы.
На Чалбассы двинулись и штаб отряда, и присоединившаяся к нам в пути чаплынская кавалерия Баржака.
Высланные вперед кавалерийские разъезды вскоре доложили, что у Ищенских хуторов гуляют какие-то белые банды. Таран приказал уничтожить их, и часа через два после короткого боя белые побежали к Скадовску.
Вторая наша колонна, которая двигалась на Брилевку под командой Чепурко, обнаружила на своем пути передовые части деникинцев, рассчитывавших отрезать нам пути на Херсон. Завязав с ними перестрелку, Чепурко послал гонцов к Тарану. Прокофий Иванович принял решение: пусть Чепурко отходит на Копани, а там белых будет ждать засада.
В ту пору наша колонна подошла уже к Чалбассам и расположилась на привал. Пока дежурные ходили к кухням за горячей пищей, люди толпились у колодцев. Помылись, пообедали, захотелось поразмяться — на площадке у плетня баянист уже наигрывал песенные мотивы. Пришли сюда и чалбасские девчата. Алексей Гончаров попросил баяниста сменить песню на плясовую и тут же сам первым пошел отбивать цыганочку. За ним и другие пустились в пляс.
Часа полтора длился этот веселый отдых. А тем временем конница Баржака, выступившая в Копани, поджидала там в засаде белых. О том, что эта засада удалась и с белыми, попавшими на нее, покончено, мы узнали от сигналиста, проигравшего сбор.
— Теперь до Алешек привала больше не будет, — объявили командиры.
Опять потянулась скучная дорога. Скрипели колеса, фыркали лошади. Начались знаменитые чалбасские кучугуры — песчаное море с островками сосновых рощ. Колеса тонули по ступицу. Лошади вязли по колено, тужились, выбивались из сил. Сверху жгло солнце, а снизу раскалившийся песок. Кое-кто пробовал идти босиком, но тут же обувался — песок обжигал ноги до волдырей.
В Копанях попоили лошадей в тени вишневых зарослей — здесь все изгороди живые, из вишневых кустов, — отряхнулись от песка и двинулись дальше. Вскоре колеса загрохотали по булыжнику так называемого Алешковского шоссе. Что это за шоссе, было вспомнить жутко: на ухабах дышла бросало от лошади к лошади, а партизаны в телегах валились с боку на бок.
К вечеру проехали полосатый шлагбаум с будкой, где раньше взимали с пустой подводы по десять копеек, с груженой — по двадцать. Отсюда начинались Алешки.
Благоустройством наш городок не блистал: лишь базарная площадь с многоглавой церковью да подъезд к ней были вымощены булыжником. На остальных улицах можно было увязнуть в песках. Только кое-где хозяева побогаче выложили у изгородей тротуарчики из глины.
И все же городок имел свою прелесть. Ее создавали сады и виноградники непременная принадлежность каждого дома, — цветущие розы, заросли сирени, туи, барбариса, ну и, конечно, белые акации.
Обычно это был тихий городок — с базарными завсегдатаями, сидевшими на скамейках в ожидании оказии выпить водочки за чужой счет, с тюрьмой за высокой оградой из темно-красного кирпича, с женским монастырем на красивом берегу речки и с мужским невдалеке. Но теперь в Алешках было многолюдно и шумно — с оркестром встречали уездные советские и партийные организации стекавшихся в город партизан.
У военкомата нас поджидал артиллерист Гирский — тот, что прошлой весной при нашествии немцев снял крепостную артиллерию с Кинбургской косы и привел ее на Перекоп к Матвееву. Он совершил поход с Таманской армией, вернулся в родной уезд и теперь был тут военкомом.
Гирский сам размещал нас на ночевку, кого в военкомате, кого в школе. Некоторые заночевали у знакомых горожан. А утром наши квартирьеры поехали в Херсон.
По всем улицам Алешек уже тянулись к пристани многочисленные обозы. Началась погрузка имущества на баржи — эвакуация. Она происходила без особой торопливости, хотя группы прикрытия совсем неподалеку вели бои с белыми, пытавшимися ворваться в город с ходу.
К вечеру, после того как было отбито две вражеские атаки, стали грузиться на пароходы основные силы будущего Днепровского крестьянского полка — формирование его предстояло осуществить уже в Херсоне.
У пристани собралось множество провожающих. Пароходы отходили переполненными — бойцы стояли на палубах плечо к плечу. И толпа на берегу стояла плотно. Уезжавшие и провожающие с грустью глядели друг на друга, женщины и дети на берегу подняли плач.
Далеко за полночь отвалил последний небольшой пароходишко с группой прикрытия. Ее возглавлял председатель уездной чека Степанов. К тому времени улицы Алешек были уже безмолвны и пусты. И на пристани никого не было. Казалось, что город опустошен пронесшимся через него ураганом.
Пусто было и в Херсонском порту. Грузчики, невесело бродившие у причалов, раскуривая последние щепотки табаку, показали нам остатки пакгауза, в котором интервенты перед своим уходом из Херсона сожгли более тысячи жителей города.
Пьяные патрули чужеземных завоевателей хватали на улицах прохожих, всех без разбору: мужчин и женщин, детей и стариков. Хватали и загоняли в этот пакгауз — пристанский перевалочный склад.
Согнанные сюда горожане думали поначалу, что произошло какое-то недоразумение, которое непременно должно скоро разъясниться, и их, конечно, выпустят. Уверенность в этом не покидала людей до самой последней минуты, пока в облитый керосином и подожженный факелами пакгауз не стал проникать дым. Пламя в один миг охватило длинное деревянное здание. Затрещали стены, крыша, и только тогда заключенные поняли, что они осуждены быть заживо сожженными.
Херсонские грузчики, рассказывавшие нам об этом, своими ушами слышали доносившиеся из пакгауза вопли ужаса и проклятия. Несчастные молили о помощи, но пулеметный огонь с кораблей интервентов не давал возможности подойти к горевшему зданию.
Потому-то теперь и было так безлюдно на берегу. Даже июньский зной не мог соблазнить оставшихся в живых херсонцев выйти на берег — подышать веявшей с моря прохладой. Пустовала и заводь, где всегда было много рыбачьих каюков, баркасов и разных морских парусников.
Штаб формирующегося полка разместился в бывшей женской гимназии. Здесь, у входа во двор, с утра до вечера стояла толпа людей, осаждавших часового просьбами пропустить их к командиру по неотложному делу. Часовой, разумеется, знал, что это за неотложное дело, и время от времени выкликал через ворота караульного начальника, а тот вызывал из штаба старика Диденко — «доверенное лицо командира по маловажным вопросам», как старик сам называл себя. А был он просто посыльным при штабе.
Выходя за ворота, Диденко по очереди оглядывал всех с ног до головы, особое внимание обращал на ноги. Плохо было в полку и с оружием, и с обмундированием, но тяжелее всего с обувью. А люди приходили обутыми кто во что — в постолы, в парусиновые туфли, в старые калоши, иные и вовсе босиком.
Оглядев плохонькую одежонку в обувку толпившихся у ворот людей, Диденко горестно декламировал:
А потом говорил:
— Вое это, хлопцы, истинная правда. Сам знаю — и у меня такая же биография. Но больше этому не бывать. За это мы и ведем борьбу. Ясно вам?
Из толпы отвечали:
— Ясно, папаша! Иначе мы не пришли бы сюда добровольцами.
После этого Диденко вел толпу добровольцев в штаб, продолжая по дороге объяснять им, за что мы боремся и почему командиры рот, которых они уже осаждали, всячески отговариваются от добровольцев.
— Бедность нас заедает. Разорила царская война. Обуток и тех не достать, — говорил он и добавлял: — Но это, конечно, не причина, чтобы отказывать людям.
Все подразделения полка были уже укомплектованы, а добровольцы шли и шли.
Наш командир полка, назначенный Советом обороны Херсона, или Советом пяти, как его называли, — Прокофий Иванович Таран редко кому отказывал. Он не считался с формальностями, не любил писанины. Когда его новый, только что появившийся на свет штаб начал родить бумаги, Таран вышел из себя:
— Что вы там строчите и строчите? Дайте мне приказ о том, какие подразделения должны быть в полку и кто ими будет командовать, — вот и все, что от вас требуется.
За составление проекта приказа засели Николай Кулиш — начальник штаба и Иван Фурсенко — адъютант.
— Ну давай, Ваня, подумаем, каким должен быть наш полк. Сколько в нем будет батальонов — три или четыре? — сказал Кулиш.
— Надо бы три, но фактически у нас уже четыре, — отозвался Фурсенко.
— Значит, придется оформлять приказом четыре. Так и пиши: полк в составе четырех батальонов.
— А кого будем ставить командирами батальонов?
— Давай так: кто фактически уже стоит на деле, того и будем оставлять на нем. Пиши: Харченко, Киселев…
— А сколько в батальоне стрелковых рот должно быть?
— Надо бы три, а у нас фактически везде по четыре.
— Значит, придется так и написать.
— А не получится наш полк очень уж громоздким?
— Не беда. Был бы только революционным сознанием крепок…
Таким образом, приказом узаконивались все подразделения, сами собой сложившиеся в ходе формирования: четыре батальона по четыре роты в каждом, кавдивизион, артбатарея, команды разведчиков — конных и пеших, пулеметная, связи. Начальником последней назначили меня, как солдата, служившего в старой армии телефонистом.
Оформили и комендантскую команду, и музыкантскую, и санчасть. Оставалось еще решить вопрос о сложившейся в походе группе агитаторов из нашего уездного партийного актива во главе с секретарем укома Поповицким. Кулиш и Фурсенко долго ломали головы, как ее назвать в приказе, пока не вспомнили, что старейший наш агитатор бородач Чуприна собрал библиотеку и оборудовал для нее походный фургон. Вспомнив про это, сразу решили: Чуприну назначить начальником клуба и группу агитаторов числить при нем.
Прочитав проект приказа, Прокофий Иванович долго вертел его в руках, глядел на бумажку с сомнением, потом подал ее комиссару.
— Как думаешь, Василий, комар носа не подточит?
Комиссаром полка был назначен Василий Лысенко, однорукий парень с протезом, бывший студент, работавший некоторое время в Днепровском укоме партии. Он и в полк пришел в студенческой фуражке, едва державшейся на пышной черной шевелюре. Он тоже был слаб в штабных делах и, прочитав приказ, сказал:
— Надо с кем-нибудь посоветоваться.
Таран посоветовался с Поповицким, а потом еще дня два протаскал бумагу в кармане, прежде чем вывел по ней мелким почерком собственноручную подпись: П. Таран.
Так было и в дальнейшем. Беря в руки любой письменный документ, Прокофий Иванович сразу терял всю свою решительность. Зная это, его бывший адъютант Амелин не заводил канцелярии, приказы и распоряжения передавал на словах и все, что нужно, надежно хранил в памяти. Незаменимый это был человек при Таране, и никогда бы они, наверное, не расстались, если бы не женились оба и почти одновременно на сестрах-красавицах, служивших у Фальц-Фейнши горничными, а потом устроившихся у нас в санчасти. Только потому Таран и отставил Амелина от себя — считал невозможным, чтобы адъютантом у него был свояк.
ДЕСАНТ В АЛЕШКИ
Деникинцы готовились к переправе через Днепр, чтобы атаковать Херсон, а мы снаряжали свой десант в Алешки.
Шли разговоры: для чего это нужно? Одни говорили, что эта вылазка должна показать белым нашу силу, другие считали, что главная цель — захватить оружие, которого в полку не хватает, особенно пушек (их было всего две, и те без прицелов). А кое-кто из новых людей считал, что все дело в нашей привычке к партизанским налетам, и поругивал командира за нежелание кончать с партизанщиной.
Но как бы то ни было, однажды ночью десантники на шлюпках и баркасах местных рыбаков переправились на остров Перебойня. Следующий день они провели в его ивовых и берестовых зарослях, не выходя на берег, чтобы сохранить в тайне свое пребывание здесь. А когда стало темнеть, Таран собрал командиров, политработников и еще раз предупредил, что двигаться надо бесшумно, ударить по врагу внезапно.
— Завтра встретимся в Алешках. А теперь, друзья, в добрый путь, — заключил командир свою короткую речь.
Бойцы начали рассаживаться по лодкам. Возле одной из лодок возник жаркий спор между стрелковым взводом и разведчиками. Спорили о том, кто должен плыть первым. Разведчики решительно отстаивали свое право, но стрелки никак не хотели уступать им. Подошел Таран и поддержал разведчиков. Стрелки обиделись — оказалось, что среди них много местных алешковских и збурьевских рыбаков…
Первые лодки, оставляя позади Днепр, подымались уже вверх по течению Конки. А на Перебойне все еще продолжалась посадка десанта: в нем участвовало два батальона, больше тысячи бойцов.
— А что, хлопцы, могучий флот? — говорил Таран, расхаживая со своей свитой по берегу. — У противника такого нет, у него — байдарки с копытами. Беда только, что эти казацкие байдарки на абордаж не возьмешь — брыкаются дюже.
Командир, комиссар и мы, сопровождавшие их, оставили Перебойню последними. Но наш путь лежал не в Алешки. Мы вернулись на катере в Херсон, где оставались еще главные силы полка.
Утром, только выползло солнце на край света, мы уже снова были на пристани. Никто еще не знал, успел ли наш десант высадиться до рассвета и что там происходит в Алешках.
Командир вошел на катер и остановился у рубки, когда на бугре за пристанью появился невысокий светло-русый паренек. Он бежал, махал черной шапкой, что-то кричал.
Прокофий Иванович приказал погодить с отплытием, и спустя минуту паренек стоял уже на трапе.
— Товарищи, прошу вас, возьмите меня в Алешки, — умолял он.
— А чего тебе туда? — спросил Таран.
— Да я из Таманской армии, — ответил тот. — Вы же знаете Матвеева — мы ушли с ним в Крым, потом держали фронт на Таманском полуострове, а потом на реке Лабе вели бои. Там много наших днепровцев погибло, а я, как видите, уцелел. Отходил через калмыцкие пустыни в Астрахань, болел тифом, но выздоровел. Потом попал в Одиннадцатую армию, был ранен, лечился в Саратове, и после излечения комиссия дала мне два месяца отпуска домой. Но как туда попадешь — белые путь отрезали. Вот я и хочу вступить в ваш полк добровольцем. Останусь с вами, пока всех белых не уничтожим.
Это был наш веселый и неутомимый искатель счастья Митя Целинко, с которым мы простились в Севастопольском порту.
— Прошу вас, хлопцы, возьмите своего земляка! — взмолился Митя, обращаясь уже к тем, кто знал его.
— Ручаетесь? — обернулся в нашу сторону и Прокофий Иванович.
— Ручаемся.
— Ладно, — согласился командир. — Садись, да будем отчаливать. Винтовку сам достанешь себе в Алешках.
И катер двинулся знакомой уже дорогой — к Перебойне. На этом острове он стоял у причала минут двадцать, и все это время Прокофий Иванович расхаживал по берегу, разговаривал с начальником заставы Гришей Мандусом, часто к чему-то прислушивался, поглядывая в сторону плавней.
Мы ждали командира на палубе. Команда катера тоже не сходила на берег. Где-то далеко раздался орудийный выстрел. Раскат его прошел по плавням. После небольшой паузы прокатился второй выстрел, еще и еще.
Прокофий Иванович быстро взбежал по трапу и приказал немедля идти на Алешки.
Минут через сорок из-за поворота показались Алешки со своими монастырями и многоглавой церковью. Не только в бинокль, но и простым глазом видно было оживление на пристани. Но кто там, наши или белые, — не разберешь.
Артиллерийская стрельба затихла. Только где-то в отдалении щелкали ружейные выстрелы.
Командир полка приказал держать курс прямо к пристани. Мы взяли ружья на изготовку. Прокофий Иванович вопросительно взглянул на нас.
— Чего это вы — на пристани ж наши!
Десантники потом рассказывали: чем выше подымались лодки вверх по речке, извилисто тянувшейся в густых зарослях камыша и ивняка, тем более досаждали им комары и гнус.
— Ох и стервы! Хоть в воду кидайся. Эта гнусь свой ядовитый нос даже сквозь портки совала. Хорошо, у кого шкура толстая, а ежели тонкая, так та дрянь до костей своим длинным жалом просверлит.
Когда рассвело, лодки вышли в лиман и выслали на берег разведку. Через несколько минут разведчики привели пленных — заставу белых они сняли без единого звука. Рассвет подгонял: до восхода солнца нужно было захватить у белых орудия и открыть огонь — условный сигнал, в ожидании которого в штабе никто не находил себе места.
Один батальон — Киселева — сразу направился в город, а другой — Владченко — топтался на берегу, ожидая своего вдруг исчезнувшего куда-то командира: нырнул в кусты и пропал. Больше мы его не видели — сбежал, трус. Говорили, что он еще в лодке жаловался на боль в животе.
Подождав немного исчезнувшего комбата, командиры рот Луппа и Подвойский стали решать, кому из них заступать на его место. Поспорили и решили: быть комбатом Луппе. Под его командой батальон двинулся к монастырю Потом разделились: Луппа с одной ротой пошел на батарею, стоявшую в кустах возле монастырской ограды, а рота Подвойского устремилась в самый монастырь и стала вытаскивать из келий монахинь, деникинских офицеров в одном нижнем белье.
Набожный пожилой боец Крамаренко не выдержал: закатил одной монашке оплеуху за блуд. У нее из постели бойцы вытащили пьяного командира деникинской батареи.
А тем временем Луппа захватил батарею — два шестидюймовых орудия русского образца и два английских в четыре с половиной дюйма калибром, с большим запасом снарядов. Наши артиллеристы под командой Гирского сейчас же развернули их в сторону брода, где с каждой минутой усиливалась ружейная стрельба. Это батальон Киселева завязал бой с белыми, отходившими вдоль шоссе. Ушел туда и Луппа, а за ним вскоре и Подвойский.
Крамаренко шел в цепи роты, как слепой, с невидящими глазами. Он был в шоке — не мог забыть, как захваченный им у монашки капитан умолял о пощаде ради жены и ребенка и сулил ему за это отдать все, что у него есть.
— Какой мерзавец! — возмущался Крамаренко. — Хотел меня купить. Было время, когда я продавал себя кулакам, но тогда другого выхода не было. А теперь выход мы нашли и ведем борьбу за свое будущее. Я не продаюсь больше!
Когда мы сошли с командирского катера на пристань, Алешки уже полностью были в руках десантников. На берегу стояло несколько подвод с ранеными и трофейным оружием. На одной из подвод лежал без сознания с окровавленной головой командир хорловской роты Алексей Гончаров. Вскоре подбежали Луппа и Подвойский, стали возбужденно докладывать командиру обстановку. Видно было, что они очень довольны ходом боя, но Таран, выслушав их, сказал:
— Все зависит от того, как кончим. Если кончим хорошо, значит, действовали правильно.
Прискакал на лошади связной и из батальона Киселева. Доложил, что батальон преследует белых, отступающих по шоссе. Командир велел ему лететь обратно и передать Киселеву, чтобы прекратил преследование, а трофеи, раненых и пленных немедленно отправлял на пристань.
Подъехала еще одна подвода — бойцы везли труп своего убитого товарища. Увидев командира, они обратились к нему с просьбой разрешить им отвезти тело в Херсон, чтобы похоронить там со всеми почестями.
— Хорошо, это я одобряю, — сказал Таран. — Кладите его на пристани и с первым транспортом везите в Херсон вместе с ранеными. Да заодно присмотрите и за Гончаровым, чтобы жив был. Отвечаете мне за него.
Затем чуть ли не на галопе подкатил к пристани легковой извозчик. Из экипажа вылезли двое раненых и сопровождавший их боец. Провожатый поблагодарил извозчика:
— Спасибо, дяденька, за любезность, — и пояснил стоявшим тут командирам: — Сочувствует Советам, сознательный человек — сам предложил отвезти раненых.
Потом легковые извозчики потянулись вереницей, но это уже были мобилизованные по приказу Тарана. Надо было ускорить вывозку раненых и трофеев к пристани — две баржи на буксире шли за этим из Херсона. Их вел комиссар.
— К вечеру все должны вывезти и уйти, — говорил Прокофий Иванович начальнику штаба. — А пока обеспечьте круговую охрану. Чтобы не было ни одной щели, через которую противник мог бы просочиться в город.
Для кругового охранения, вывозки и погрузки трофеев не хватало людей, и я со своим телефонистом Алексеем Часныком и Митей Целинкой, уже успевшим вооружиться трофейной винтовкой, сам вызвался пойти в караул. Нам пришлось стоять в сосновой роще за городским парком, возле дороги на Голую пристань.
На улицах жители кучками собирались вокруг красноармейцев, угощали их ранними яблоками и грушами. Но вот горожане как-то почувствовали, что мы пришли временно и, вероятно, уже сегодня уйдем. После этого их отношение к нам сразу изменилось. Люди засели в своих укрытых садами домишках, и только иногда кто-нибудь выглянет из калитки посмотреть, что делается на улице, увидит двигающиеся к пристани подводы с оружием, снаряжением и шагающих рядом бойцов, таких же мокрых от пота, как их лошади, повернется и скроется, словно в знак протеста.
На дороге к Голой пристани, которую мы втроем караулили, вовсе не было движения. Алеша Часнык грустно поглядывал на проходивший в стороне отсюда большак на Копани: недалеко до дому, а когда еще побудешь там? Этот высокий, неуклюжий парень, племянник кондуктора Часныка, расстрелянного вместе с лейтенантом Шмидтом в 1905 году на острове Березань, по своему здоровью не приспособлен был к тяготам боевых походов, но изо всех сил крепился, чтобы не ударить лицом в грязь перед своими земляками, чтившими память его дяди.
А Митя Целинко, которому походы были не в диковинку, все рассказывал, как он воевал в Таманской армии, и не мог нарадоваться, что встретил своих земляков.
— Подумать только — опять попал в Алешки! — говорил он, непрерывно крутя головой, все поглядывал вокруг и удивлялся, что в Алешках не видно девчат ни на улицах, ни в парке. — Всю Россию обошел, а невесты еще не высмотрел, — смеялся он. — Хотя чего торопиться, если корабли Антанты дымят еще на Черном море.
Мы и не заметили, как стемнело. А в темноте появились рядом вдруг фигуры каких-то людей. Окликнули их. Оказалось — местные рыбаки.
— А вы кто будете? Похоже — красные? — осведомился один из них.
— А почему вы спрашиваете?
— Как почему? Ваши ведь ушли уже на Херсон.
— Как ушли?
— Подвалил буксир с двумя большими баржами, на них погрузились с артиллерией и сразу же отшвартовались.
— Шутите?
— Какие тут шутки, когда у пристани казаки разъезжают, белые по всему городу шныряют.
Видимо, в спешке наше командование забыло о нас. Что делать?
Рыбаки стали поучать, как безопаснее добраться до переправы. А затем один из них, самый пожилой, подумав, сказал:
— Да ладно уж!.. Хоть брезент мой и шумит немного (на нем был костюм из брезента), но я пойду вас провожу. Давайте быстрее, а то белые весь берег оккупируют — и тогда беда!
Широкоплечий рыбак шел впереди и как бы на буксире тащил за собой нас. На улицах и в переулках, которыми мы проходили, было темно и тихо. Может быть, где-нибудь недалеко и проезжали казаки, но Алешки лежат в глубоких песках, и потому топота коней мы не слышали.
Проводник провел нас к реке правее монастыря и остановился в кустах.
— Теперь спуститесь немного вниз, а там будет лодка. На ней и правьте на ту сторону, в плавни, а там — ищи ветра в поле. Я уж спускаться с вами не буду, побреду обратно, — сказал он, добродушно усмехаясь.
На лодке весел не оказалось. Митя Целинко взял вместо них доску, служившую в лодке сиденьем. Он греб этой доской, а мы с Часныком как могли помогали ему ладонями. Река тут неширокая. Мы уже подплывали к камышам, когда с покинутого нами берега донеслись встревоженные голоса и загремели выстрелы.
Пули просвистели мимо, мы скрылись в камышах.
— Эх, хлопцы! — чуть ли не в полный голос воскликнул вдруг Митя Целинко. — Давно уж я не стрелял. Давайте дадим по ним пару залпов. Пусть подумают, переправляться за нами или нет. А ну, приготовьтесь!
И мы с Алешей, невольно поддавшись его боевому настроению, в один голос ответили:
— Готово!
— На мушку гадов — пли!.. Еще раз — пли!
Дали и третий залп, но уже вразброд. И как это ни странно, наши залпы подействовали — белые прекратили стрельбу и не стали нас преследовать.
Всю ночь мы шлепали по засасывающей болотной жиже плавней и к утру добрались до своей заставы мокрые, грязные, оборванные, босые. Мы с Алешей обувь свою по дороге бросили, так как она расползлась, а Митя Целинко принес свои сапоги в полной сохранности: они у него, как всегда в походе, висели связанными на шее.
Митю издалека можно было узнать: шагает солдат, за плечом — винтовка, на спине — мешок, а на груди — сапоги болтаются.
ДАН ПРИКАЗ ИДТИ НА СЕВЕР
За удачный десант Херсонский губисполком наградил полк Красным знаменем. Вооружившись алешковскими трофеями, мы стали хорошо оснащенной воинской частью. Появились артиллерия, телефонная связь, усилилась пулеметная команда, в ротах увеличилось число ручных пулеметов. Все конники из кавдивизиона заимели седла. Даже духовой оркестр доукомплектовался инструментами. Солиднее стала и обозная часть, правда, ее хозяйство — разные брички, лошади, верблюды, быки и стада овец для продовольствия — в основном было приобретено раньше, за счет помещиков и кулаков Таврии.
Гирский, получивший на вооружение своей батареи шестидюймовые пушки, похаживал вокруг них гоголем.
— Теперь держись, Антанта! — говорил он.
Но затишье, стоявшее на нашем участке, становилось все тревожнее. Вскоре было получено известие, что деникинцы, переправившиеся через Днепр севернее Херсона, захватили Кривой Рог и рвутся к Херсону со стороны Снегиревки.
Соседняя часть, стоявшая выше нас по Днепру, начала отход и обнажила наш левый фланг. В ночь на двенадцатое августа по этому обнаженному флангу ударил противник. Завязался тяжелый бой, и двадцать третьего вечером Совет пяти приказал нам на рассвете оставить город и форсированным маршем идти на Николаев.
Люди у нас, хоть и с горем на душе, но всегда что-нибудь напевали. Ох как разрывали сердца песни, с которыми полк оставлял Херсон! Растревожили всех думы о близких, оставшихся дома за Днепром: до последнего дня жила надежда, что мы удержимся в Херсоне и скоро вернемся в родной уезд.
Поповицкий, стараясь отвлечь людей от тяжких дум, говорил:
— Что же это вы, днепровцы-соколы, песнями нагоняете на себя грусть? Небось дома внушали своим родным не горевать, а сами нюни разводите. Не похоже это на вас.
Полк отходил на Николаев нестройными колоннами. На пятки нам наступали белоказаки Слащева. Донесения арьергардных подразделений держались штабом полка в строгом секрете, чтобы не будоражить и без того возбужденных бойцов.
Прошли полпути до Николаева, сделали короткий привал. Кухни роздали бойцам обед, и — снова ускоренный марш.
Командиры поминутно требовали прибавить шаг. Тех, кто поотбил ноги, усаживали на подводы.
К Николаеву подходили утром. Тихо лежал впереди город. Вдруг оттуда донеслись взрывы. Они следовали один за другим. На наших глазах вся левая часть города, прилегающая к Бугу, покрылась густыми черными клубами дыма. Головные подразделения полка остановились. Бойцы окружили комиссара, стоявшего посреди дороги в своей студенческой фуражке, с карабином за плечом.
— Что же это, товарищ комиссар? Разве и в Николаеве уже белые? Куда же мы теперь?
Лысенко и сам был взволнован, часто вытирал рукой пот со лба. Повисший протез левой руки придавал ему беспомощный вид, а каков комиссар на самом деле, бойцы еще не знали — не были с ним в бою.
Несколько минут полк стоял в оцепенении, глядя на клубящееся в городе облако дыма.
Таран приказал послать в Николаев вторую группу конных разведчиков и, когда они ускакали, двинул батальоны дальше, не меняя маршрута. Это внесло некоторое успокоение. Полк продолжал марш, хотя и замедленным темпом. Вперед на всякий случай было выслано несколько пулеметных тачанок, а артиллерию немного оттянули назад, чтобы отразить возможные наскоки белых со стороны Херсона.
Показались высокие башни заводских кранов, элеватор, плес Южного Буга, крытый док судоверфи и болтавшаяся на волнах коробка недостроенного большого корабля. Была видна и башня вокзальной водокачки вся в черном дыму.
Мы уже подходили к окраинам Николаева, когда вернулась первая разведка и доложила, что в городе разгуливают махновцы, рыскают по квартирам, взрывают склады и вагоны с боеприпасами. По приказу Тарана помчался в город один эскадрон из кавдивизиона Баржака, а полк стал занимать позиции на подступах к городу. В район расположения наших обозов и резервного батальона вскоре пожаловала группа конных махновцев и устроила митинг, пытаясь привлечь бойцов на свою сторону. Махновцы кричали, что «московские большевики» не хотят воевать с деникинцами, продали Украину и уходят к себе в Московию, что только «настоящие большевики», объединившись с анархистами, создадут «настоящие советы» и спасут Украину. Наши резервники послушали, послушали, а потом поняли, с кем имеют дело, и как по команде защелкали затворами. Бандиты мигом ускакали.
Непонятное сначала положение постепенно стало проясняться. Оказалось, что за два дня до нас в городе побывал Федько с двумя полками пехоты. По его приказанию на судостроительном заводе «Наваль» были взорваны четыре недостроенных бронепоезда, так как вывести их из Николаева было невозможно — все железнодорожные пути и на Харьков и на Киев перерезали деникинцы, а у самого Николаева подняли восстание немецкие кулаки-колонисты. Федько бросил против взбунтовавшихся колонистов два полка, которые уже более двух суток дрались за Варваровкой. К Тарану прибыли от Федько гонцы с просьбой пособить ударом конницы. Таран послал кавдивизион Баржака, а сам стал поторапливать пехоту с завершением окопных работ.
Сухопутные подступы к Николаеву ограничены двумя реками — Южным Бугом и Ингулом, полукольцом опоясывающими город. В этом проходе между Бугом и Ингулом полк и строил оборону.
К вечеру взрывы в городе прекратились, да и окопы были отрыты. Бойцы уже предвкушали заслуженный отдых. Но только село солнце за высокий берег Буга, как с противоположной стороны, из-за бугра, показался казачий разъезд. Он двигался в сторону кладбища, где занимали позиции роты первого батальона.
Покрутившись перед кладбищем, разъезд повернул назад и скрылся, а минут через двадцать из-за того же бугра стали выплывать эскадроны казаков. Сначала они двигались шагом, а затем, обнажив шашки, перешли на рысь, однако в лаву не развертывались.
Михаил Бондаренко, лежавший у пулемета в паре со своим младшим братом Василем, погрозил казакам пальцем — непорядок, мол. Он всегда грозил пальцем и бурчал себе под нос, когда замечал, что кто-нибудь — будь то свой или противник — ведет себя не так, как положено. Чаще всего от него доставалось за это неудержимому, слишком злому в бою брату, что нисколько не мешало им, однако, жить и воевать дружно.
Рядом с ними в окопе лежал наш молодой комиссар, своей единственной рукой все теснее и теснее прижимавший к себе карабин. Он только в тот день познакомился с братьями, и они сразу как-то подружились: потом комиссара часто можно было видеть о бою возле пулемета Бондаренок с карабином на протезе (протез он использовал при стрельбе в качестве упора). Словно вместо двух братьев стало трое.
— Комиссар, а волосы, как у неряшливого попа, — ворчал старший Бондаренко.
И он, как всегда, был прав — водился такой недостаток за нашим комиссаром.
…Ретивая атака казаков Слащева не принесла им славы. Развернувшиеся под нашим огнем, они быстро смешались. Одни всадники валились на землю, другие крутились на месте, а потом все эскадроны беспорядочно покатились назад и скрылись в тучах полевой пыли и надвигающихся сумерек.
Но это было только началом.
На другой день еще до восхода солнца артиллерия белых обрушилась на наши позиции в районе кладбища. В самом пекле оказалась вторая рота, решившая, что незачем рыть окопы, когда можно использовать кладбищенскую кирпичную ограду, проделав в ней бойницы. Много крови стоила роте эта ошибка: разлетавшиеся на куски кирпичи причиняли больший урон, чем снаряды, и раны от них оказались хуже, чем от металлических осколков.
Синеглазая, юркая медсестра, которую называли Марусей маленькой, хотя ее следовало бы называть Марусей бесстрашной, не успевала оказывать помощь раненым. На их крики прибежали начштаба полка Кулиш и комбат Луппа. Они пытались что-то предпринять, но безрезультатно: обстрел усиливался, раненых и убитых становилось все больше, и в конце концов комбату пришлось успокаивать начштаба, потерявшего в этом аду душевное равновесие. Кулиш вытаскивал из своей полевой сумки какие-то бумаги, рвал их и раскидывал клочки в разные стороны, а Луппа хватал его за руку, в чем-то убеждая.
Растерянность начштаба можно было понять. Он рассчитывал, что белым потребуется не меньше двух суток, чтобы подтянуть к Николаеву свою пехоту и артиллерию, а те сделали это за одни сутки. Если белые наступают с такой стремительностью, то не оказались ли мы уже в ловушке плотно окруженными врагом?
Дрогнут днепровцы или нет? От этого зависела судьба и жизнь полка. Нужно было продержаться, чего бы это ни стоило, пока части Федько и конники Баржака раскидают банды мятежников, преградившие путь на север. Продержаться или умереть!
После артподготовки из-за бугра вывалилась пехота белых. На полпути ее накрыла наша артиллерия. Белые залегли и начали групповые перебежки. Артиллеристы их возобновили огонь, чтобы прижать нас к земле, но это им не удалось. Когда пехота противника поднялась для последнего броска, наши позиции ощетинились, даже раненые, только что кричавшие от боли, встали с оружием за полуразрушенную кладбищенскую стенку, и атака белых захлебнулась.
Полк, истекая кровью, удерживал свои позиции, пока деникинцы не потеснили соседнюю с ними часть, упиравшуюся правым флангом в Буг. Корабли интервентов, войдя в фарватер Буга, стали демонстративно разворачиваться против нас. Но к этому времени наши обозы и санитарные повозки с ранеными уже заканчивали переправу — путь через Варваровку на север был расчищен.
Когда белые ворвались на кладбище, там уже было пусто — последние бойцы, прикрывавшие отход своей роты, перебирались через ограду.
Было пыльно, душно, нещадно жгло солнце. Жители рабочих предместий выставили у своих домов ведра с водой. Провожая нас, они желали счастливого пути и скорого возвращения.
Единственным свободным выходом из города был разводной мост через Буг. Противник обстреливал его из артиллерии, но снаряды рвались в реке, и полк перешел на правый берег без потерь. Только командир кавдивизиона Баржак потерял свою знаменитую пожарную каску. Она упала с головы и свалилась в воду, когда его лошадь вздыбилась, испугавшись близкого разрыва.
Конники проходили мост последними. Когда они переправились и стали обгонять взбиравшиеся на гору пулеметные тачанки, был дан приказ взорвать мост.
Мы укрылись от противника за Бугом, но занятые нами позиции на его высоком берегу оказались в зоне действенного огня корабельных орудий интервентов. Наша пехота еще не успела отрыть окопы, а вражеские миноносцы уже начали бомбардировку. Сразу появились раненые и убитые.
На следующий день обстрел усилился — к Николаеву подошли новые вражеские корабли. Таран приказал своей артиллерии открыть ответный огонь. Батарея Гирского быстро израсходовала весь запас снарядов английских трофейных пушек, и это возымело некоторое действие: корабли интервентов отошли вниз по реке. Однако на другой день корабельная артиллерия противника возобновила огонь и заставила нас метаться в поисках укрытий. Снаряды нашей батареи теперь уже не достигали цели: дальнобойность русских полевых пушек была меньше английских морских. Интервенты безнаказанно опустошали наши ряды. А тут еще пронесся слух, что деникинцы опять, как это было под Херсоном, обходят нас с севера.
Таран и Лысенко поехали в штаб Федько, надеясь там прояснить обстановку. Вернулись они вечером, когда артиллерийский обстрел с кораблей уже прекратился и санитары с выделенными им на помощь музыкантами полкового оркестра приступили к уборке трупов. Днем убитых не убирали, и на жаре, которая и к вечеру не спала, они начали уже разлагаться.
Это было 20 августа 1919 года — памятный день! По возвращении от Федько Таран, ничего не объясняя, приказал сниматься с позиций и уничтожить трофейные пушки, оставшиеся без снарядов. Лысенко послал связных в роты оповестить коммунистов, чтобы сейчас же шли в балку на партийное собрание.
Многие недоумевали:
— Время ли сейчас для собрания? А вдруг с кораблей снова откроют огонь? Надо сначала вывести полк из зоны артиллерийского обстрела, а потом уже созывать собрание.
Коммунисты медленно собирались в балке. Командиры и политруки были заняты — отводили с позиций свои подразделения, разыскивали куда-то пропавшие кухни, чтобы скорее накормить бойцов, уже сутки ничего не евших. Потом выяснилось, что кухни увлек за собой поток обозов Федько, хлынувший в тот день через район расположения нашего полка.
Комиссары батальонов просили отложить собрание, провести его после того, как полк отойдет в тыл.
— Это невозможно, — сказал Лысенко. — Никакого тыла у нас больше нет. Всюду фронт, и позади, и впереди, кругом. Придется с боями пробиваться на север, под Киев. Приказ получен из 12-й армии по радио. Наш полк входит в состав 58-й дивизии Федько[2].
— А чего обсуждать — приказ ведь дан! — перебил комиссара Таран. Он тоже считал, что вряд ли нужно сейчас созывать коммунистов на собрание.
— Мы не собираемся обсуждать приказ, — ответил комиссар. — Но коммунисты должны знать обстановку. Надо откровенно сказать народу, что все пути нашего отхода отрезаны. Если окажутся трусы и маловеры…
Прокофий Иванович опять перебил:
— Трусам и маловерам я не буду чинить препятствий — пусть уходят и не мешают нам… Ладно, поторапливайте коммунистов на собрание.
Взошла луна, и при ее свете было видно, как со всех сторон степи стекались в балку люди.
Около трехсот человек было в парторганизации полка — членов партии, кандидатов и сочувствующих, — и все из одного уезда: наша уездная партийная организация почти целиком влилась в полк. Уездное землячество делилось на сельские, и эти сельские землячества первое время представляли собой крепкие ядрышки. При формировании полка само собой получилось так, что в одной роте оказались сплошь каланчане, в другой — збурьевцы, в третьей — чалбассцы, в четвертой — чаплынцы.
И на партийное собрание коммунисты приходили и рассаживались по склону балки своими сельскими землячествами.
Сразу узнаешь збурьевцев. Вожак их — Луппа, в черной кубанке, с бородой — под казака рядится. Френч на нем из шинельного сукна с большими накладными карманами, на груди — бинокль, с которым он не расстается ни днем ни ночью. Идет спокойно, не торопясь, будто командующий перед фронтом расхаживает.
За ним братья Биленко шагают вразвалку, щелкая семечки и поплевывая скорлупой. Их четверо в полку, но на собрание идут трое — четвертый, старший, лежит в санчасти, раненый.
Чаплынцев тоже издалека видно. Баржак, хотя и потерял свою сверкающую каску на переправе через Буг, но его не спутаешь ни с кем — выделяется своей горделивой осанкой. Между тем человек он весьма скромный — в споры ни с кем не вступал, говорил, что его дело не рассуждать, а воевать. И воевал храбро — только прикажи идти в атаку, сразу шашку вон и «Эскадрон, вперед за мной!» Одна у него была слабость — любил яркую одежду. Теперь он щеголял в таких же красных штанах, какие раньше носил у нас один Неволик.
Баржак со своими конниками усаживается на пожухлую траву, и все чаплынские пехотинцы тоже начинают группироваться вокруг него. Кто располагается лежа, кто сидя. Один маленький Кулик стоит, зорко поглядывая по сторонам, — то ли это у него привычка разведчика, то ли он высматривает, кто еще из односельчан пришел на собрание. Вон идет, чтобы присоединиться к своим чаплынцам, и дед Чуприна — «партийный апостол», как его назвали в полку за степенную бороду и проповеди о партийной чести, которые он любил читать молодым партийцам.
Немного в стороне от чаплынцев рассаживаются каланчане. В центре их — Харченко и два Тарана: Степан, брат командира, и Семен, их однофамилец. Над всем маячит голова Семена — непомерно высокого роста он. На его румяных щеках ямочки играют, как у девушки, а разговаривает какой-то несвязной скороговоркой, но всегда с приветливой улыбкой.
А вот и маячковцы пожаловали — слышен громкий голос Подвойского. Всезнайкой он слыл у нас и был ужасный спорщик. Любил, чтобы с ним считалось командование полка. Часто приходил в штаб с каким-нибудь предложением или просто повидаться и поспорить со своим земляком, адъютантом Фурсенко.
Придя на собрание, тоже сразу же вцепился в него. Фурсенко отвечает ему тихо. Говорит он малость в нос и с обычной своей озабоченностью. Забот у адъютанта действительно много: надо и наличие людей в батальонах проверить, и запасы в обозах обозреть, и у соседей, что слева, узнать, как идут дела, и у тех, что справа, осведомиться. Фурсенко все успевал. Мог он и в бою подать пример, поднять в атаку роту. А в штабе, диктуя какую-нибудь бумажку, умел невзначай одарить своей лаской машинистку.
Тут же присаживаются два старика, земляки из Алешек — Савенков и Диденко, посыльные штаба, подручные адъютанта. Они всегда при нем и так его изучили, со всеми манерами и капризами, что по одному взгляду все понимали. Особенно отличался этим чутьем Савенков. Приказ он с лету ловил, однако с исполнением не взыщите — бегом не побежит. Старик он был не дряхлый, но все же ему перевалило за шестьдесят и ноги свои Савенков берег. Да и вообще уважал себя как самого старого по возрасту партийца.
Оба старика были хорошими агитаторами, а вот в личной жизни по некоторым пунктам расходились. Совершенно различных мнений придерживались они об отношении к врагу. Савенков считал, что наша партия мягка к врагам.
— Раз враг, — говорил он, — так его надо безусловно низвести, пленный он или не пленный. Раз враг, место его безусловно в яме.
Диденко не желал слушать таких речей, сердито отворачивался, и это бесило Савенкова. Стараясь вывести своего земляка из себя, он продолжал, обращаясь уже не к нему, а к мальчику Яше, третьему посыльному штаба:
— А лучше всего прах его — злодея — по ветру пустить, правда, Яшка?..
И на собрании Савенков все время зудил о чем-то на ухо Диденко, а тот отворачивался.
К ним вскоре подсели наши неразлучные чалбассовские коммунисты — Моисей Ганоцкий и Гавриил Соценко, тоже люди пожилые и тоже агитаторы. Кузнец Ганоцкий, уходя в полк, оставил дома семью в шесть человек, а Соценко — бобыль, «босявка», как его звали кулаки. Ему было за пятьдесят, а он еще только мечтал жениться, всю жизнь скитался в поисках работы, то в городе у ворот завода околачивался, то на черном дворе помещика — авось позовут уголь или соль разгружать. Оба они считались специалистами «по ужасам» классовой эксплуатации, примеры которых приводили из собственной жизни. Скиталец Соценко любил еще поговорить относительно «идиотизма деревенской жизни» — это тоже был его конек.
Идут Гриша Мендус и Роман Головачев. Оба они из Скадовска, тоже старые дружки. Гриша шагает босиком, в штанах, подвязанных внизу тесемкой, в серой измятой кепке. Роман — в сапогах, в черной морской фуражке. О чем-то горячо рассуждают. Роман то и дело подкручивает свои ржавые усы.
Навстречу им бросается Василий Коваленко, начальник пулеметной команды. Он давно уже тут, ввязался в спор с кем-то, но, увидев своих земляков, поспешил к ним. Обнимает Гришу, потом Романа, хлопает по плечу одного и другого — всячески выражает радость встречи с ними.
— А что же ты, Гриша, обувки до сих пор не достал? — спрашивает он, глядя на босые ноги Мендуса.
— На что она? И без нее жарко, — отвечает Мендус.
— Ты же, Гриша, командир, неудобно все-таки босиком — культурности не видно, — урезонивает Коваленко.
Но Мендус пренебрежительно отмахивается:
— Нашел о чем разговор вести!
Он считает обувку недостойным предметом для разговора между коммунистами.
Кажется, все уже собрались? Нет, вон хорловцы еще идут и несут на носилках своего вожака Алексея Гончарова. В Алешках деникинский офицер всадил ему в голову пулю из револьвера. Алексея вывезли на катере в Херсон, там положили на санитарную двуколку и довезли до Николаева, а он все не приходил в сознание. Думали уже, что не выживет, но, когда уходили из Николаева, на мосту через Буг под артиллерийским обстрелом Гончаров вдруг очнулся и сразу заволновался, узнав, как далеко отступили мы, пока он лежал в забытьи. Его все беспокоило: и почему оставили в Херсоне семьи ревкомовцев, и зачем было взрывать трофейные пушки? Услыхав о партийном собрании, он послал кого-то за своими товарищами и попросил их снести его туда на носилках.
Хорловские моряки положили Алексея Гончарова на краю балки так, чтобы он, не поворачивая забинтованной головы, мог видеть всех. И тотчас раздался чей-то нетерпеливый возглас:
— Ну чего же не начинаем? Все живые партийцы уже собрались.
— Отсутствуют только мертвые, — добавил кто-то.
Поповицкий шагнул вперед и, подняв руку, сказал:
— Товарищи! По предварительным данным, за последние дни погибло в боях двадцать три члена нашей партийной организации. Предлагаю почтить их память вставанием — и, сняв фуражку, встал в положение «смирно».
Собрание поднялось. Триста человек стояли с обнаженными головами на затененном склоне балки. Луна, еще невысоко взобравшаяся на небосклон, освещала только стоявших наверху Тарана, Лысенко, Поповицкого и лежавшего чуть пониже на носилках Алексея Гончарова.
Таран вдруг шагнул к Поповицкому и тронул его за плечо — должно быть, решил, что церемония излишке затягивается. Поповицкий, быстро надев фуражку, объявил, что слово для информации по текущему моменту предоставляется комиссару.
Информация была короткой и торопливой.
— Товарищи, собрание необходимо было созвать, — начал Лысенко, словно оправдываясь. — Положение чрезвычайно трудное. Коммунисты должны это знать. Враги жмут на нас со всех сторон. С востока идут наперерез нам деникинцы, с запада — петлюровцы. Путь на север закрывают банды Махно, Тютюника, Ангела и Зеленого. Но мы должны идти на север. Другого выхода нет. Нам приказано пробиваться к Киеву, и мы обязаны пробиться. Там собираются все силы Украинского фронта. Там нас ждет помощь из России. Политотдел дивизии обязал меня известить об этом коммунистов, чтобы мобилизовать всех бойцов и не допустить какой-либо паники.
Таран, присевший рядом, поторапливал комиссара своими нетерпеливыми взглядами. Когда Лысенко закончил призывом к коммунистам тесней сплотить свои ряды и Поповицкий спросил: «Кто еще хочет выступить», — командир поднялся и сказал:
— Вопрос ясен. Приказ дан идти на север, а кому это не по душе или кто в труса верует, тем мы должны прямо заявить: убирайтесь от нас на все четыре стороны, мы обойдемся без вас. Так, товарищи, и передайте в ротах. Без трусов и паникеров нам будет легче… Я все сказал, и давайте быстрее кончать собрание.
Никто больше не просил слова. Далекий и опасный предстоял нам поход. Перед глазами вставали родные хаты, семьи, детишки. Еще раз мысленно прощаясь с ними, все сидели молча, искоса поглядывали друг на друга. Только начальник пешей разведки Алехин завел какой-то разговор со своими земляками. Разговаривал он вполголоса, но с энергичной жестикуляцией.
— А ну, Алехин, о чем ты там толкуешь? Выкладывай нам всем свои суждения! — крикнул Поповицкий.
Алехина мы считали честным и преданным партии товарищем и поэтому снисходительно относились к некоторым его смешным претензиям. Одной из его претензий было желание иметь собственное суждение решительно по всем вопросам. Ко всему, что говорили командиры, он относился с какой-то странной подозрительностью и в то же время страдал удивительной восприимчивостью ко всяким слухам и толкам. Когда Поповицкий предложил ему выступить, Алехин заерзал и, поднявшись на колени, сказал:
— Я обожду — пусть сначала другие выскажутся.
Однако никто не желал выступать, общее настроение было за то, чтобы скорее кончать собрание. Вражеские корабли, стоявшие ниже Николаева, в любой момент могли обогнуть город и подойти вплотную к расположению полка, а наша артиллерия уже снялась с позиций. И Поповицкий объявил:
— Слово предоставляется Алехину.
Тот нехотя поднялся на ноги. В кругу своих приятелей он был боек на слово, и руками размахивал, и бил себя кулаком в грудь, но на собраниях не любил выступать, а если приходилось, то норовил последним, чтобы обругать всех ораторов: один, мол, говорит одно, другой другое — не собрание, а каша какая-то. Но что он сам хочет сказать, понять было невозможно. И на этот раз Алехин остался верен себе.
— Я так думаю, товарищи: а куда смотрели командиры раньше? — говорил он, ероша волосы на голове и озираясь по сторонам. — Я так думаю, что если уходить на север, то надо было уходить раньше, пока все дороги были свободны, а теперь, когда все дороги перерезаны, уже поздно — противник сотрет нас в порошок.
Собрание недовольно загудело, и громко прозвучал насмешливый голос командира:
— Мы знаем, что тебе, Алехин, как начальнику разведки, всегда известны планы противника. Так вот ты и подскажи-ка нам, что делать.
Набравшись духа, Алехин снова заговорил:
— Я так полагаю, что уходить на север нам не надо. Что там делается — неизвестно. Да и местность незнакомая нам… Я полагаю, что надо разбиться на мелкие группы и вернуться к себе в плавни и кучугуры, чтобы партизанить, как при немцах партизанили.
Песнь была не новая. Две реки — Днепр и Буг — отделяли уже нас от своих родных сел, где мы около года держали свой партизанский, воистину доморощенный фронт. И надо идти еще куда-то дальше, на север, под Киев. Дойдем ли? Деникин уже под Курском и к Киеву с каждым днем все быстрее прет. Как бы не попасть нам в такую же ловушку, как Иван Матвеев прошлым летом на Северном Кавказе попал. Многие ли вернулись из тех, кто ушел с ним? Может быть, и верно, что лучше опять партизанить в своих обжитых уже плавнях и кучугурах. Разве плохо тогда получалось? Начинали в одиночку, кучками, а потом чуть республику не объявили, флот свой завели, адмирала Яникоста с его антантовской эскадрой заставили убраться подальше от нашего побережья…
Как только Алехин заговорил о плавнях и кучугурах, Таран вскочил, будто на пружинах. Раздвинул стоявших рядом Поповицкого и Лысенко в разные стороны и вышел вперед, словно он своей командирской властью отстранял их от ведения собрания за то, что допустили такое возмутительное выступление.
— Кто тебе это подсказал, как погубить полк? — гневно закричал он, устремив на Алехина взгляд, под которым тот стал медленно оседать на колени. — Или сам, умный такой, додумался до этого?
— Я так думаю… Это только мое предложение… чтобы не погубить, а спасти полк… — бормотал Алехин, уже сидя в тени, еще покрывавшей склон балки.
— Шкуру свою спасти хочешь, а не полк, — тихо и с грустью сказал Алексей Гончаров, не подымая головы с носилок.
Кто-то вспомнил о раненых — в обозе полка их было более двухсот — и крикнул с отчаянной досадой:
— Да что его, Алехина, слушать! В плавни уйдем, а раненых бросим в степи, чтобы белые их порубали, — так, что ли?
Негодующий шум пошел по балке. Поповицкий снова шагнул вперед, призывая людей к порядку, и, после того как стих шум, спросил:
— Кто еще желает говорить?
Поднялось сразу много рук. Таран тоже поднял руку и сказал, что вносит предложение ввиду чрезвычайной обстановки превратить собрание.
Старик Чуприна запротестовал:
— Нет, это неправильно, не по-партийному. Надо высказаться всем, кто хочет.
— Проголосуем, — сказал Поповицкий.
Настроение людей изменилось, и большинство проголосовало за продолжение собрания: чрезвычайная обстановка не была принята во внимание. Таран молча сел на откос овражка рядом с начальником штаба и адъютантом. Собрание продолжалось, невзирая на то что корабли Антанты могли в любой момент накрыть балку огнем.
Ораторы один за другим подымались, кто на колени, кто во весь рост. Ругали Алехина, говорили, что если он не хочет идти со всей дивизией на север, то пусть идет в свои плавни и отлеживается там до нашего возвращения. А под конец выступил Харченко. По обыкновению своему начал он с того, что почесал голову одной рукой, затем другой, и лишь потом заговорил не торопясь:
— Как же это у нас с вами получается? Два десятка человек выступило, и все ругали Алехина. Правильно его ругали… Но сами товарищи, которые его ругали, тоже делают не так, как надо партийцам. Очень нехорошо поступают. Нужно было нам произвести перестановку партийцев по ротам? Нужно! А то в одной роте густо, а в другой пусто. Но что с того получилось? Трех дней не прошло после перестановки, а некоторые партийцы уже опять каким-то образом очутились на своих ридных местах: каланчане в каланчакской роте, чаплынцы в чаплынской. За Интернационал боремся, а без своих односельчан жить не можем. Дисциплина у нас оттого нарушается. С этим надо покончить. Я до вас, товарищи командир и комиссар, обращаюсь.
— Не беспокойся, Феодосий Степанович, покончим раз и навсегда, — пообещал ему с места Таран и, поднявшись, сказал: — Довожу до всеобщего сведения, что с сегодняшнего дня наш полк получил номер пятьсот семнадцатый и, значит, он больше не именуется Днепровским. Это слово должно быть вычеркнуто… Понятно всем?
Сначала люди в недоумении переглядывались, пожимали плечами. Потом стали раздаваться голоса:
— Непонятно.
— Зачем вычеркивать?
— Просим разъяснить.
— Чего тут непонятного? Все ясно, — кинул в ответ Кулиш. — Мы теперь регулярная часть Красной Армии, а частям Красной Армии не положено других наименований, кроме присвоенных им номеров.
Но и это разъяснение мало кого удовлетворило. Когда коммунисты расходились с собрания по своим ротам, многие говорили, что тут что-то не то.
— Кулиш определенно загнул, — горячился брат командира Степан. — Не помирится наш народ, чтобы вычеркивали память о его родной земле. Не может такого закона быть в Красной Армии. Надо, чтобы комиссар попросил разъяснения в политотделе дивизии… Что ж из того, что 517-й, а все-таки наш родной Днепровский.
РАЗГОВОР О БУДУЩЕМ
Ровные степи тянулись вдоль берега Буга и в сторону от него до далекого горизонта — хлебородные нивы немцев колонистов и богатых хуторян. Населенные пункты тут были редки, и только после захода солнца впереди показалось второе за день селение, кажется, колония Карле-Руэ. Опасаясь, как бы колонисты не открыли стрельбы в спину, Таран велел пройти это селение до наступления темноты.
Еще днем разведчики встретили двух мужиков.
— Откуда? Куда?
— Со своих баштанов. Случилась завируха у нас — вот мы и ушли на баштаны.
— А что за завируха?
— Да какой-то штаб красных был у нас с мачтой на зеленой машине. На рассвете уехал. Осталось несколько повозок и начальник в автомобиле. Тоже собирался уехать, а тут, откуда ни возьмись, казаки налетели, чи махновцы, чи петлюровцы, кто их знае. Сотни две, со свистом, с гиком, шашки сверкают. Ну мы и побегли…
Потом выяснилось, что в автомобиле был начальник артиллерии нашей дивизии Дьяконов. Бандиты зарубили его и всех, кто с ним оставался. Так начался наш поход на север.
В густом облаке пыли, простиравшемся лентой на несколько километров, проходил полк через Карле-Руэ: кавдивизион, штаб на тачанках, а дальше обоз — биндюги, мажары, брички, стада фальц-фейновских овец, батарея, санчасть на двуколках и чумазая от пыли пехота, шагавшая гуськом справа и слева от обоза.
Вдоль колонны носились верхом дежурные рот и батальонов.
— Разберись по взводам! Не отставай! Подтянись!..
Бойцов томила жажда, но командиры не велели выходить из строя. Жителей не видно было, — казалось, что селение покинуто людьми. Только иногда кто-нибудь высунется из-за высокого каменного забора, кинет взгляд на запряженных в мажары верблюдов — они тоже были взяты в фальц-фейновских имениях — и исчезнет, как неприятель за стеной своей крепости.
— Дальше на север бедноты будет больше. Там уж насладимся, попьем вволю, — успокаивал, приунывших бойцов командир взвода Гриша Мендус, пружинисто шагавший босиком обочь дороги.
— Попьем! — мрачно сказал кто-то. — Белые встретят, а если не белые, так какие-нибудь зеленые — попоят нас свинцовым дождем!
— Ну чего ноешь? Известное дело — война! — сердито отозвался другой.
— Да, товарищи, война! Война бедноты с богатеями за власть и землю, за счастье всех трудящихся, — мечтательно говорил Гриша Мендус. — Завтра пройдем колонию Шпеер, потом будет колония Ватерлоу, а там и город Новая Одесса на Буге.
— А ты откуда все знаешь — был, что ли, тут?
— У комроты Самарца на военной карте видел. На ней все дороги обозначены и даже колодцы. А населенные пункты как на ладони видны. Все там есть. Замечательная карта.
— Неужто до самого Киева дорога видна?
— Нет, только до Новой Одессы. Но в штабе есть, наверное, и до Киева.
— А какая там местность, на севере?
— Говорят, что там холмы, леса, в общем, местность пересеченная.
— Вот то-то и есть — для бандитов самая удобная.
— Да что они нам, эти бандиты! Сил у нас мало, что ли? Погляди, полк растянулся на сколько верст. А в дивизии еще сколько полков! Да там, слева, где-то еще одесская дивизия идет, тоже, говорят, большая сила. Пробьемся! И в разведке теперь за начальника не Алехин, а Кулик. Он маленький, но глазастый, все высмотрит и проверит, за ним смело можно идти…
Враждебно притаившаяся колония Карле-Руэ осталась позади. Уже стемнело. Кухни, готовившие пищу на ходу, начали съезжать с дороги на сторону. Дежурные передали долгожданную команду на привал.
В свете белой круглой луны видна была степь, заросшая бурьяном с копнами скошенного хлеба вдалеке. Но в какую бы сторону ни глядели истомленные жаждой люди, нигде не видели никаких признаков воды.
Конники рассыпались по степи на поиски какого-либо озерца, чтобы хоть лошадей попоить. А на кухнях ротные повара уже разливали по котелкам, бачкам и ведрам суп, расчетливо кладя по одному куску жирной баранины на каждого.
После трехчасового привала, во время которого люди, свободные от караула, успели немного подремать, полк продолжал свой путь. До рассвета бойцы шли молча. А если где и возникал разговор, то только о воде. Ругали разведчиков за то, что будто бы по их вине командиры не дали напиться в Карле-Руэ: пугали, мол, стрельбой в затылок и прочее, а ничего такого не было.
С восходом солнца все приободрились, словно почувствовали, что до колодцев уже недалеко. Скоро и впрямь раздался чей-то восторженный возглас:
— Смотрите, смотрите — там какое-то селение!
Это была колония Шпеер. На ее широкой улице наши кавалеристы уже осаждали колодцы.
Напившись, попоив лошадей и забрав сколько можно воды с собой, люди, не задерживаясь, двигались дальше.
Фурсенко, проверивший наличие боевого состава рот и команд, установил, что за ночь исчезло четверо бойцов. У Тарана это не вызвало никакого беспокойства. Наоборот, он воспринял доклад Фурсенко с удовлетворением: не так уж много в полку оказалось трусов и маловеров — думалось, что их будет побольше.
Покачиваясь на тачанке, Прокофий Иванович дремал, лишь время от времени подымая голову, чтобы взглянуть назад, но в облаке пыли, сопровождавшем колонну, в трех шагах ничего не было видно. И все ехавшие на повозках тоже дремали, кто сидя, кто лежа. Некоторые успели даже соорудить на своих возках шатры из брезента или шалашики из стеблей подсолнуха и кукурузы.
Прошли колонию Ватерлоу. Недалеко была и Новая Одесса, где намечался большой привал. Но вдруг штаб дивизии неожиданно изменил маршрут — Новая Одесса осталась справа. Вознесенск тоже оказался в стороне, а полк все шел и шел извилистыми проселками — день и ночь!
В степных просторах не видно было ничего, что могло бы насторожить, и бойцы, шагавшие гуськом по обе стороны обоза, притомившись, стали класть на повозки оружие.
На маршруте полка опять оказался Буг. Предстояла вторая переправа через него. Специалистом по переправам считался у нас Петро Биленко, старый збурьевский моряк, плававший за шкипера на грузовой шхуне. Его послали на Буг с командой бойцов из роты Шатохина. Возглавил команду сам ротный. Двадцать два человека ехало на двух подводах. Лошади взмокли. От усталости у них даже уши повисли, и Шатохин приказал всем спешиться. А тут как раз поле поспевавших уже подсолнухов. Пока каждый сорвал себе по шляпке, выбирая почернее да побольше, подводы, а с ними и оружие удалились на полверсты.
Дорога круто спускалась к Бугу и проходила под большой нависавшей над берегом скалой. Едва подводы миновали скалу, как из-за нее выскочили какие-то вооруженные люди, сбились в толпу и преградили путь бойцам.
Оплошавшие разведчики топтались в нерешительности. Шатохин пытался вступить в переговоры с бандитами, но из этого ничего не получалось. Выручил Биленко, оказавшийся позади всей команды. Увидав с бугра, что происходит в низине, и быстро оценив сложившуюся обстановку, он со свирепым видом накинулся на Шатохина:
— Ты чего тут рассусоливаешь, мать твою так! Красные идут на переправу. Живо разбирайте оружие и занимайте позицию у плотины. Господин полковник приказал перекрыть большевикам путь на тот берег и держаться до подхода полка.
— А хиба ж вы не бильшовики? — удивился один из бандитов.
— Ах ты сволочь! — заорал на него Биленко. — Вы что — до большевиков собрались? Вот сейчас их высокоблагородие подъедет — всех вас, сукиных детей, перевешают.
— Да мы не к бильшевикам… Мы за пана Петлюру, — загалдели бандиты.
— А если петлюровцы, так чего держитесь за бабьи юбки, вместо того чтобы воевать с большевиками?
— Патронов у нас нет.
— Патронов мы вам дадим, — пообещал Биленко и крикнул своим разведчикам:
— А ну, ребята, поделитесь с господами петлюровцами. Они, хоть и домоседы, но все же вроде как бы наши союзники.
Растолкав опешивших бандитов, разведчики кинулись к своим подводам, вмиг разобрали винтовки и и стали окружать банду. Она не оказала сопротивления. Двое, пытавшихся убежать, были убиты, остальные обезоружены и отпущены домой.
Так бывало не раз — столкнутся наши разведчики с бандитами, и начинается пытливый разговор:
— Кто такие?
— А вы кто такие?
По одежде не различишь: и те и другие мужики.
Двигаясь в первом эшелоне дивизии, полк перебрался по гребню ветхой плотины на северный берег Буга и опять, окутавшись облаком хрустевшей на зубах пыли, устремился дальше по заданному маршруту. От наседавшего сзади противника дивизия оторвалась. Теперь надо было, раскидывая и уничтожая бродившие на нашем пути мелкие банды, опередить деникинцев и петлюровцев, рвавшихся тоже на Киев — наперерез нам — одни с востока, другие с запада.
Для ускорения марша пришлось всю пехоту посадить на подводы, а это потребовало мобилизации крестьянского тягла и частой смены полковых лошадей.
Обычно ездовые просили селян указать кулаков, у которых хорошие кони, но случалось, что они меняли своих уставших или раненых лошадей и у небогатых мужиков. Подымался шум:
— Грабители!
Не обходилось без шума и при мобилизации подвод. Мужики орали:
— Нас махновцы и всякие банды совсем загоняли, хлеб в поле неубранный стоит, а тут еще и вы!
Бойцы объясняли:
— Поймите же, с нами едут подводы из-под Николаева. Нельзя не отпустить их.
Если объяснения не действовали, шли на крайнюю меру: сами запрягали коней и выезжали со двора. Тогда хозяин поневоле тоже садился на подводу, а хозяйка, провожая его, голосила, как по покойнику.
Сердце болело от таких сцен, но избежать их было невозможно. Между собой в походе мы часто вели грустные разговоры о том, что вот уже август кончается, а в поле много еще неубранного хлеба и все потому, что коней загоняли, покалечили, поубивали. Если война затянется, мужики вовсе останутся без лошадей, пахать не на чем будет, и какой тогда толк от того, что поделили помещичью землю.
Запоздалая уборка хлебов наводила бойцов на размышления о своих родных краях: неужели там тоже так?
Увидев в поле коров, запряженных в лобогрейку, кто-то подумал вслух:
— Не может того быть, чтобы и у нас так же вот коров запрягали!
А другой — в ответ ему:
— Напрасно надеешься, что в наших селах лошадей больше сохранилось. Белые, будь уверен, всех забрали. Им ведь казаков не на кол сажать, да и для обозов тоже кони нужны. Антанта им лошадей не даст — она сама английские орудия на мулах таскает.
Много велось таких разговоров и на марше, и на привалах в степи, у костров. Придя как-то в санчасть навестить своего друга Алексея Гончарова, заговорил о том же и Феодосий Харченко:
— Как после войны будем крестьянское хозяйство подымать, если за войну всех лошадей изничтожим?
Вокруг двуколки, на которой лежал Алексей Гончаров, на привалах часто собирался народ. Какие только тут вопросы не возникали, и все больше о будущем. Томясь от бездействия, Алексей неустанно думал о нем. Даже когда он стонал от боли, его затуманенные глаза смотрели куда-то ввысь, точно он видел там, в небе, то, о чем думал. Порой боль становилась невмоготу, и тогда он звал лекарей. Они не знали, чем ему помочь, и он, нервничая, говорил им:
— Ну что вы стоите? Помогите, прошу вас. Мне думать надо, а я не могу — голова сильно болит.
Наши полковые лекари — все они были деревенскими фельдшерами — страдали от своей беспомощности, а он не спускал с них острого, пронизывающего взгляда. Брови у него были насуплены — тугая повязка на лбу прижимала их книзу, отчего Алексей выглядел не по возрасту пожилым и суровым.
Но, когда вокруг него собирались земляки и друзья и речь заходила о будущем, он забывал о боли, взгляд его становился светлым и добрым.
— Ты, Феодосий Степанович, о лошадях не беспокойся, — заговорил Гончаров, отвечая на недоуменный вопрос нашего уважаемого комбата. — Разобьем врагов, и все пойдет по-другому, не так, как было до сих пор. Тяжелый труд людей заменят машины, и в плуги вместо коней будем запрягать машины. Уже выдуманы такие. Командир наш видел их в Америке на выставке. Поговори с ним — он тебе расскажет… Вот я и думаю…
— И не думай об этом, Алексей. То в Америке! На выставке! Прокофий мени усе это уже рассказувал. А я ему на то оказал, что мужик в жизнь не променяет коня на машину. Несбыточная это фантазия. Машины нужны — это правильно, я не возражаю, но тольки кони тоже нужны, без лошадей в крестьянстве невозможно. Пустая это балачка.
— О лошадях спору не может быть. Нельзя их изничтожать, нужные в хозяйстве животные, — поддержал Феодосия Харченко старик Савенков и тут же свернул на свое: — А буржуев надо изничтожить всех до одного, иначе опять голову подымут.
— Попробуем заставить их работать на себя, — заметил, вступая в разговор, Гавриил Соценко. — Мы же теперь хозяева государства. На самые тяжелые работы буржуев пошлем. Пусть таскают кирпич и бревна на рештовку, чтобы нам больше не надрываться.
— Будут они тебе таскать тяжести! Это же тунеядцы, люди бесполезные для тяжелого труда.
— Эх вы, старики! — снова заговорил Алексей Гончаров. — Слушаю я вас и думаю: по ужасам эксплуатации вы большие знатоки и природу тунеядцев хорошо знаете, а в коммунизме пока мало что смыслите. Будьте спокойны — никаких тяжестей при коммунизме никому таскать не придется. Как у нас во флоте на боевых кораблях грузят уголь, снаряды и другие тяжести? Подъемные краны для этого существуют. Люди только подвязывают. Так скоро всюду будет, лишь бы власть была в руках трудового народа, а не у буржуев. Буржуям незачем расходоваться для облегчения труда — не они же таскают груз, а грузчики. А когда хозяином станет народ, он сделает все для облегчения своего труда, ничего не пожалеет. Так что не волнуйтесь, товарищи грузчики и каменщики, — не придется никому надрываться, и на местах работы, как сейчас на боевых кораблях, будут поставлены разные подъемные машины, которые подадут любой груз на любую высоту.
Много народу собралось возле двуколки раненого моряка, а все подходили и подходили любители поговорить о будущем. Подошел и Степан, брат командира, спросил:
— О чем толкуешь, Алексей?
— Да вот Соценко говорит, что при коммунизме буржуи будут на нас работать, а я ему толкую, что не буржуи, а машины.
— Правильно толкуешь, — подтвердил Степан. — Мироедам, кровопийцам, разным паразитам и лодырям при коммунизме места не будет. Будут одни свободные труженики, владеющие всем богатством.
— Значит, все богатые будут? А ведь мы сейчас ведем борьбу с богатыми. Как же так? — спросил кто-то с недоумением.
— Вопрос ясный, — сказал Степан. — Мы против богачей, которые грабят бедных, издеваются над ними и не дают им никаких прав, но мы за богатство для всех, чтобы у тебя и твоей семьи было все, что нужно и сколько нужно. А что для этого должно быть? Государство наше должно быть богатым, иметь много заводов, фабрик, уйму одежды, обуви и всяких продуктов.
Степану будущее было ясно. Когда речь шла о будущем, он мог по любому вопросу, не задумываясь, дать разъяснение. И если его спрашивали, откуда он это знает, отвечал:
— Мне Прокофий, брат, говорил, а он Ленина и Маркса читал.
Алексей же Гончаров в таких случаях чаще всего ссылался на флотскую жизнь.
Зашел как-то разговор о равноправии женщин. Дотошный Харченко стал допытываться:
— А кто же по дому будет работать? Штаны-то кто-то должен зашить, обед кто-то должен сготовить, да и детишек надо обмыть. Если все это опять будет делать женщина, то где же тут равноправие?
— А ты, Феодосий, считай, что твоя семья стала большой, как экипаж на корабле, — сказал Алексей. — В такой семье каждый будет знать свои обязанности: ты за машиной ходишь, один сын кочегарит, другой вахту несет за штурвалом, ну а жена — кок, в камбузе у плиты орудует, и дочки там же — помощники кока. Вот тебе и равноправие в обязанностях и распределение труда.
— Погоди, погоди! Как же это так? — не уразумел Харченко. — Это хорошо, когда семья большая, а если маленькая?
— Я думал об этом, Феодосий. На заводе или на фабрике и сейчас все равно как на корабле. А вот в селе пока нет еще организованности. Но она должна быть. В селах тоже надо создавать сообща большое хозяйство — коммуну, как у нас в Духнино. Иначе нельзя…
— Допреж всего плодородие почвы треба подымать, чтобы народ сыто жил, — упрямо сказал Харченко. — Солончаковые и песчаные земли плохо у нас родят, а мы обязаны заставить их родить хорошо.
— Научные опыты надо делать, — живо подхватил Алеша Часнык. — Реки надо использовать в сельском хозяйстве для орошения. Можно даже искусственные дожди устраивать. А в кучугурах заводы построим, будем стекло варить из белых песков, чтобы они зря не пропадали.
Алеше было всего семнадцать лет. Но он слыл у нас ученым человеком. Его больше всего интересовала техника будущего. Когда в Скадовске появился первый в нашем крае автомобиль — им обзавелся тамошний помещик, любитель всяких новшеств, — Алеша за десятки верст ходил поглядеть, как эта машина соревновалась с лихой тройкой, запряженной в тачанку. Его старший брат, служа в армии, выучился на шофера, и Алеша тоже намеревался стать автомобилистом.
Все в будущем он связывал с автомобилями, аэропланами, электричеством и считал, что главная двигательная сила будущего — ветер: ветряные станции будут вырабатывать электричество.
— Наслушаешься ваших фантазий, а потом сны одолевают, — засмеялся наш пулеметный начальник Вася Коваленко.
В походе его убаюкивало на мягких рессорах тачанки, и он иногда сидя засыпал и чему-то улыбался во сне. Однажды, проснувшись, схватился за пулемет. Его спросили:
— Ты чего это, Вася, встревожился?
— Приснилось, — говорит, — будто я с какой-то девушкой на автомобиле еду. Подъезжаем мы к большому красивому дому, он весь в зелени утопает. Я даже подумал — вот это и есть тот самый рай, о котором нам долбили в священных писаниях.
— А что же в том доме на самом деле было? — заинтересовались пулеметчики.
— Этого я не доглядел. Только мы хотели войти в дом, как мне почудилось, что стрельба началась. «Банды Тютюника», — подумал я и проснулся.
А другой раз ему привиделось в походном сне, что все наши враги уже разбиты. Ленин выступает на каком-то огромном митинге и говорит: «Победу мы, товарищи, завоевали, теперь будем жить по-новому». И тут же отдает распоряжение пошить по сто миллионов мужских костюмов, женских платьев и сапог, чтобы одеть и обуть пообносившийся за войну народ.
ПРОРЫВ
Степные просторы, напоминавшие наш родной край, остались позади. Началась холмистая местность, которой многие из нас, днепровцев, в жизни еще не видели: подъем, спуск и снова подъем. Все чаще на пути попадались рощи, речки и села. Это была уже Киевщина, живописная и густо населенная.
То рысью, то шагом на подводах одолевали путь колонны полка. На каждой подводе — пятнадцать, а то и больше бойцов. Иные полулежат в привалку к друг другу, иные сидят, свесив ноги. Там хлопцы, только что разжившиеся в селе самосадом, закуривают компанией. Там шумят и сбрасывает кто-то кого-то с повозки, курица кудахчет — это куролова учат, чтобы не шарил по дворам.
— Стой! — передают дежурные по колонне.
Бойцы обрадованно соскакивают с повозок — не привал ли? Мокрые лошади оглядываются назад — не несут ли им сена?
Напрасная надежда — новая команда:
— Тронулись!
И снова подъем, спуск, подъем. Даже если с лошадью что случилось или колесо сломалось — движение не останавливается: подводу выводят с дороги на обочину, а бойцы, ехавшие на ней, торопливо размещаются на других возках.
Неподалеку от дороги видно сено в копнах. Все бросаются к ним, набирают полные охапки — надо запастись, лошади голодные.
Где-то далеко впереди раздаются выстрелы. Все хватаются за винтовки, настороженно глядят вперед, но с повозок не сходят, ждут команды. Стрельба впереди усиливается. Дежурные подают команду:
— Приготовиться!
Бойцы соскакивают с повозок и идут по обеим сторонам дороги гуськом. Ездовые забирают в руки вожжи покрепче, чтобы лошади, испугавшись, не помчали.
Вдруг стрельба поднимается где-то рядом. Один выстрел слева, другой справа. Кто, откуда стреляет, не поймешь: пыль столбом, ничего не видно. Кое-кто из мужиков-подводчиков бросает вожжи, поднимает руки — еще не зная, кому он сдается в плен, у кого просит пощады. Другие изо всей мочи хлещут коней. Подводы налетают одна на другую. Слышны команды:
— Рота за мной!
Роты уходят с дороги вправо и влево, чтобы прочесать местность или отбросить появившуюся на пути движения полка банду.
Медработники надевают свои сумки с красными крестами и бегут за ротами.
Через час стрельба затихает, роты возвращаются, бойцы шумно рассаживаются по подводам, и полк снова продолжает путь.
Вчера была стычка — можно назвать ее и боем — с бандой Тютюника. Сегодня схватились с бандой Ангела. Что ждет нас завтра, какие еще банды встретятся нам на пути?
Миновали Врадневку, впереди на расстоянии двух — трех переходов — Гайворон.
На одном привале возле какого-то небольшого села местные крестьяне говорили нам:
— Там, у Гайворона, на речке Синюхе, большие леса, опушки все в зарослях кустарника. Будьте осторожнее. В тех местах бандитов пропасть.
Эти же крестьяне жаловались:
— Вот уж сколько живем безо всякой власти. Двух председателей Совета бандиты убили. Теперь больше не выбираем — никто не хочет идти в Совет. Все бродим, как тени, всего и всех боимся. Уже не знаем, куда и прятаться. Раньше были здесь григорьевцы. Говорят, что их батьку убил другой батька — Махно, и они куда-то перекочевали. Теперь тут какой-то батько Зеленый появился и орудует со своими. Эти зеленые не люди, а звери. Все забирают — и лошадей, и поросят, и птицу. А если кто вздумает перечить, бьют прикладами, раздевают и куда-то уводят. Девки бедные днем и ночью прячутся от них… Недавно прошли тут и махновцы. Тоже зверствовали — убивали, хаты жгли. Вы уж нас извините, видим — идете, думаем — опять бандиты. Попрятались кто куда. А вы мимо прошли, в поле остановились — значит, не бандиты. Слух был, что деникинцы идут, а пришли, оказывается, красные.
Приближаясь к гнездовью бандитов, полк изменил порядок передвижения. Таран отдал команду перегруппироваться; головным стал первый батальон, конники пошли следом за ним, второй батальон был оттянут в прикрытие артиллерии, третий выдвинут вправо, четвертый — влево. Обозы со всем хозяйством под охраной кавэскадрона и двух пулеметных тачанок пошли другой дорогой вслед за полком Лунева.
Впереди вырастала, закрывая горизонт, темная, пугавшая наших степняков гряда леса с селом перед ним. Не доходя опушки, передовые роты развернулись в цепь, и, как только левофланговая вступила в кустарниковые заросли, затрещал бандитский пулемет, беспорядочно захлопали ружейные выстрелы. Наша артиллерия, уже успевшая развернуться, открыла ответный огонь. Через несколько минут все стихло: банда зеленых скрылась в лесной чаще.
Село, в которое вступил первый батальон, встретило нас ревом бродившего по улицам скота: при нашем приближении зеленые пытались угнать все стадо в лес, но не успели. Во многих хатах были выбиты оконные стекла. Откуда-то робко появлялись поодиночке мужики. Странный они имели вид: все с головы до ног осыпаны соломой или сеном. Оказалось, что во время бандитского налета люди прятались в скирдах и копнах.
Зеленый со своей бандой часто посещал это село. Невмоготу стало мужикам, и они, не успев очистить себя от соломенной и сенной трухи, обратились к командирам с просьбой о зачислении их в полк добровольцами. Прибывший в село комиссар полка велел организовать на площади у церкви митинг. Расположившийся тут же полковой оркестр заиграл марш, и со всех сторон ожившею села на площадь потянулся народ.
Добровольцы подымались на бричку, служившую трибуной, и клялись своим землякам отомстить и белым и зеленым. В это время бойцы третьего батальона привели на площадь несколько пойманных в лесу бандитов. Толпа с ревом надвинулась на них. Одна минута — и они были бы растерзаны, но комиссар успел предотвратить самосуд. Вскочив на бричку, он закричал:
— Граждане селяне, не волнуйтесь! До окончания митинга трибунал объявит приговор, и он тут же будет приведен в исполнение.
Так это и было. Под конец митинга на бричку поднялся комендант штаба Клевцов с листком бумаги в руке и прочел приговор «именем Советов». Бандиты были расстреляны.
На следующий день полк двигался лесной дорогой. Наконец-то мы избавились от порошившей глаза и скрипевшей на зубах степной пыли. И зной уже не мучил, не одолевала жажда. Лес был смешанный — хвойный и лиственный. И вид и запах его казались нам необыкновенными. Но всех настораживало самое легкое потрескивание сухих веток на обочине дороги: так и жди выстрела из-за любого куста.
В одном селе нас встретили бородатые старики с хлебом и солью, а на выходе из села полк подкарауливала банда. Завязавшийся с ней бой продолжался часа два. В другое село мы пришли после того, как тут побывали — в этот же день — махновцы и следом за ними еще какие-то бандиты. На улицах лежали трупы, до того изуродованные, что только по одежде можно было отличить мужчин от женщин. Дворы и палисадники — завалены разной домашней утварью, усыпаны пухом и пером из распоротых подушек.
Очень ожесточало это наших бойцов. И не случайно бывало переловят в лесу всю банду, а в штаб приведут для допроса только одного или двух бандитов. Таран спрашивает:
— А где остальные?
— Там, в лесу остались. Свалили всех в кучу.
Боролись с этим — и на собраниях говорилось, и строгие предупреждения давались, а самочинные расправы с бандитами все же случались.
…Миновали Ульяновку, прибыли в Грушку, и тут пришлось немного задержаться, потому что за Грушкой разъезжали какие-то верховые. Наша разведка сначала приняла их за банду, а потом выяснилось, что это конные разведчики из полка Лунева. Они крутились перед Грушкой, полагая, что там укрылись бандиты.
— А может быть, и укрылись, — сказал Таран. — Бандиты в здешних местах, как ужи, заползают и в хаты. Надо проверить.
Разведчики Лунева остались в Грушке проверять, а мы двинулись дальше на Гайворон. На речке Синюхе нас дважды обстреляли из пулеметов. Роты прочесывали лес. Он тут оказался особенно темным и жутким. А может быть, это только казалось нам?
В тот день стало известно, что Киев занят деникинцами и петлюровцами.
Куда отошли части Красной Армии из Киева? Удастся ли нам сомкнуться с ними или наш путь на север окончательно прегражден? А если так, значит, прав был Алехин — погибнем мы все тут, в чужом краю.
Притих весь двигавшийся на подводах полк: у многих в те дни уныние боролось с надеждой, и казалось, вот-вот уныние возьмет верх. Ведь деникинцы тогда захватывали один город за другим, наступление их продолжалось всюду, а на московском направлении они были уже под Орлом.
От Гайворона полк двигался на Умань. Уставшие до изнеможения люди только и мечтали о привале. И вот, наконец, прозвучала долгожданная команда. Батальоны расположились на обширном пшеничном поле среди копен только что убранного хлеба.
Впереди темнел густой лес, и по опушке его шла дорога в северном направлении, на Христиновку, Монастырище и далее на Жашков. Вдоль дороги на рельсовых опорах высились столбы, на них в несколько рядов тянулись телефонные и телеграфные провода. Недалеко была станция Вапнярка.
Ротные повара роздали обед. Уже несколько дней его варили без соли — запасы ее кончились. И вообще с продовольствием становилось плохо — доедали последнее.
После обеда состоялось партийное собрание. Комиссар созвал его в связи с тем, что от населения стали поступать жалобы на красноармейцев: ловят кур, поросят, берут сметану, яйца, а денег не платят. Одного недавно вступившего в полк бойца товарищи поймали с поличным в крестьянской хате у сундука. По приговору полковой группы трибунала он был публично расстрелян в том же селе.
Когда на собрании зашла речь о расстреле мародера, раздался голос Баржака:
— Об этом сметанникам надо почаще напоминать в назидание.
Сметанниками у нас стали называть кавалерийский отряд в двести пятьдесят сабель под командой Урсулова, присоединившийся к полку под Вознесенском. Лихо ездил командир этого отряда на своем выхоленном коне. Нарядные уздечка и седло, попона с рисунками, кинжал на поясе, княжеская сабля, отделанная серебром, и, конечно, усы придавали всаднику командармский вид.
Баржак, хотя он и сам носил щегольские штаны, сразу невзлюбил Урсулова.
— От его серебряной сбруи и ретивой братвы так и несет анархизмом, — говорил он, приравнивая анархизм к мародерству.
И был прав. Под внешним блеском и лихостью скрывалась гниль. Четырех самых забубенных урсуловцев сразу же пришлось выгнать из полка за пьянство и вымогательство. Однако это мало помогло. Только после расстрела барахольщика урсуловцы стали побаиваться залезать в крестьянские сундуки, но сметану промышлять продолжали.
Из-за сметанников и поднялся спор на собрании. Старик Чуприна, непримиримый к человеческим порокам, призывал железной метлой очищать полк от всякой дряни и скверны и даже обвинял командира и комиссара в попустительстве сметанникам. Многие требовали крутых мер. Было предложение разоружить весь эскадрон Урсулова. Баржак сказал, что он может взять это на себя. И все-таки решили, что нужно обождать, — урсуловцы еще могут исправиться.
— Надо действовать на людей словом и песнями, — сказал под конец комиссар и пояснил: — Приходят в полк новые бойцы, спойте с ними «Слушай, товарищ, война началась…». Объясняя международное значение нашей борьбы, спойте «Вставай, проклятьем заклейменный весь мир голодных и рабов»…
— Да разве проймешь песнями этих барахольщиков? — усомнился кто-то.
— Если у человека есть сердце, не может быть, чтобы наши революционные песни не дошли до него, — ответил комиссар. Он считал песню лучшим средством агитации.
Разойдясь после собрания по своим ротам, коммунисты подсели к бойцам, и разговор, начатый комиссаром, продолжался по всему полку, тюка сон не сморил давно уже не высыпавшихся людей.
А тем временем сам комиссар вместе с командиром полка шагал взад-вперед по столбовой дороге, которая перерезала наш постепенно затихавший бивуак. Командир шел молча, озабоченный только что полученными из штаба дивизии новыми сведениями о продвижении деникинцев и петлюровцев. Мы уже были у них в клещах: справа и позади — деникинцы, слева и впереди — петлюровцы.
А полк крайне нуждался в основательном отдыхе. Комиссар говорил:
— Нужна передышка, хотя бы на сутки, на двое. Уже около месяца в пути, позади осталось более пятисот верст, а если учесть все зигзаги, обходы и погони за бандитами, то будет много больше. Люди не имеют возможности как следует помыться, белье постирать.
— А держатся крепко, духом не падают, — перебил командир и, покосившись на комиссара, сказал: — Ты бы, Вася, сам хотя разок помылся как следует и гриву свою расчесал или, еще лучше, вовсе срезал бы, а то все других агитируешь, а о себе забываешь. Нехорошо, все-таки студент.
Подойдя к клубному фургону, стоявшему на обочине дороги, остановились. Здесь Чуприна, разложив возле себя на стерне влажные портянки, просвещал музыкантов, которые, раздевшись до пояса, занимались ручной санобработкой своих нательных рубах. Старик рассказывал, как в пятом году наши днепровские бунтари развозили по селам отобранное у помещиков добро и раздавали его бедноте.
— Для себя они ничего не брали. Я это хорошо помню, — уверял Чуприна.
Над головой командира звенели телефонные провода. Таран то подымал к ним глаза, то опускал их и хмурился. Тревожное внимание сменялось на его лице глубоким раздумьем.
— Вот как было, — продолжал свои воспоминания Чуприна. — Помнишь, Прокофий, листовку? — спросил он, обернувшись к командиру. — «Царь испугался, издал манифест — мертвым свобода, живых под арест».
Таран в ответ и бровью не шевельнул. Казалось, он прислушивался к звенящим проводам. И все стали прислушиваться. Я находился тут же, и меня словно что-то толкнуло: пошел к своим повозкам, взял телефонный аппарат, шест и стал попеременно включаться то в один провод, то в другой, пока те услышал в трубке треск и какие-то непонятные звуки. Когда, сделав заземление, я основательно подключился, в трубке четко зазвучал голос человека, разговаривавшего с кем-то по-украински.
Подошел командир и взял у меня трубку. Немного послушав, Прокофий Иванович заулыбался и даже озорно подмигнул мне. Потом он еще долго слушал с очень довольным видом, а под конец от нетерпения стал переступать с ноги на ногу, как на собрании, когда порывался уйти, не дослушав надоевших ему ораторов.
— Ну, хлопцы, крышка нам с вами, гроб с музыкой — паны полковники западню нам строят, — весело объявил он, возвращая мне трубку. — Сам Тютюник с каким-то Шуваевым разговаривал, передавал ему приказ об окружении и полном уничтожении нас. Вот как…
Через несколько минут полк пришел в движение.
Случайно подслушанный разговор раскрывал план противника. Петлюровские паны полковники, договорившись с деникинцами, точно все рассчитали, чтобы устроить нам западню. Из Вапнярки должен был выйти деникинский бронепоезд и отрезать нам путь на запад. Петлюровцы, стягивая артиллерию и пулеметы для огневого заслона, преграждали нам путь на север. А белоказаки, следовавшие за нами по пятам, должны были ударить с тыла. Разгром нам предполагалось учинить в два часа ночи по сигналу прожектора с бронепоезда.
Но, когда сверкнул прожектор, пехота полка была уже далеко от железной дороги. Деникинцы со своего бронепоезда в свете прожектора увидели только хвост нашей конницы, уходившей в лес. Они сделали по ней несколько неудачных артиллерийских выстрелов, и этим вся затея противника с западней под Вапняркой кончилась. А на рассвете полк с ходу разгромил какую-то петлюровскую часть, оказавшуюся на его пути, захватив в плен ее командира и несколько штабных офицеров.
Позади осталась хорошо встретившая нас Христиновка. Спустя несколько дней пришла весть, что наша дивизия вот-вот должна соединиться с 45-й дивизией Якира, двигавшейся из-под Одессы в одном направлении с нами. Надежда, что нам удастся вырваться из вражеского кольца, стала брать верх над унынием, которое было посеяно известием о том, что в Киеве деникинцы сомкнулись с петлюровцами и таким образом впереди нас образовался единый фронт украинских самостийников и русских белогвардейцев.
Не доходя Монастырища, полк стал на очередной привал. Штаб расположился на опушке небольшой рощи в трех — четырех километрах от местечка.
Таран, раздевшись до пояса, умывался возле своей тачанки, черпая воду из ведра жестяной кружкой, когда к нему примчался начальник конной разведки Недождий. Не слезая с коня, Недождий стал докладывать командиру, что Монастырище забито петлюровцами.
— Говорят, сегодня утром из Киева прибыли, целая дивизия, десять тысяч…
Таран, поливая водой из кружки свои плечи и грудь, перебил Недождия:
— Сам считал их? Или тебе кто помогал?
— Лично я их не видел, жители говорят. Хлопцы мои только заскочили на край улицы, думали там расквартироваться, а жители на них руками машут: «Куда вы лезете — в местечке полно петлюровцев, штаб их у церкви». Ну, хлопцы засуетились, спешились, хотели пройти по улице, чтобы самим убедиться, да тут я подъехал, узнал, в чем дело, и завернул их назад. Для проверки послал только одного пешего с проводником из местных жителей. Приказал выбрать такое место, откуда можно окинуть взглядом всех этих петлюровцев, или галичан, как их называют. Часа через два, думаю, придет мой разведчик обратно, если все благополучно будет. Прямо в штаб к вам явится.
Пока Недождий докладывал, Таран успел помыться, одеться и бородку расчесать.
— Ну так вот, брат, — сказал он, приведя себя в порядок. — Сидеть сложа руки и ждать твоего разведчика два часа я не намерен и тебе этого делать никогда не рекомендую. Раз народ говорит, что там петлюровцы, значит, верно, а сколько их, считать будем после. Зови ко мне всех комбатов с комиссарами. Артиллеристов и пулеметчиков тоже не забудь. Я здесь побуду, а ты давай во все концы аллюр три креста.
Бойцы в ротах спокойно обедали, не подозревая, что рядом в местечке находятся петлюровцы и тоже, как потом выяснилось, собираются обедать. Недождий на взмыленном коне носился от одного батальона к другому.
Минут через двадцать в штабе собрались все вызванные Тараном командиры и комиссары. Пришел и комроты Самарец, которого комбат Харченко не преминул захватить с собой как военспеца, чтобы тот при случае помог ему разобраться в карте. Этот комроты, окончивший в германскую войну школу прапорщиков, занимал в полку особое положение. Не один Харченко использовал его как своего военного советника. На привалах Самарца всегда окружали жадные до военных знаний наши доморощенные комроты из бывших солдат и унтеров. Все с почтением взимали ему, когда он, вытащив из своей полевой сумки и развернув карту, показывал маршрут движения и давал всякие пояснения, касающиеся условий местности, возможных действий противника и наших контрмер. Вступать в спор с Самарцем решался только самоуверенный Подвойский.
Собравшиеся командиры и комиссары уже знали, что в Монастырище петлюровцы, и, пока Таран с начальником штаба заканчивал разработку плана атаки, все сгрудились вокруг Самарца, развернувшего карту и высказывавшего свои соображения.
— Ну, что вы там, стратеги, смотрите на карту? — спросил Таран, шагнув к собравшимся. — Монастырище отсюда и без карты видно. Вон оно за леском. Сколько там петлюровцев — неизвестно. Наша разведка еще считает и через два часа, может быть, сосчитает, но мы терять времени не будем, — сказал он и сообщил принятый им план атаки, а потом, как всегда, задал вопрос, чтобы комбаты ее были в обиде: — Есть какие-нибудь предложения или замечания?
Харченко, пошептавшись с Самарцем, предложил с кавдивизионом, который должен был выйти противнику в тыл, послать два орудия. Таран принял это, а предложение одного комиссара батальона — обождать более точных данных разведки решительно отклонил.
На ворчливое замечание начштаба Кулиша, что все-таки следовало бы согласовать свои действия с дивизией и поставить в известность о них соседа — полк Лунева, Таран ответил так:
— Насчет соседа это верно — надо с ним связаться. С дивизией тоже надо, да время не позволяет — пусть сосед передаст, ему до дивизии ближе… Ну а теперь все, — заключил он, хотя Кулиш пытался пискнуть еще что-то.
Командиры разбежались по своим местам, и взбудораженный полк зашевелился, эскадроны и батальоны растеклись по указанным им направлениям.
Захваченный врасплох противник был атакован одновременно с четырех сторон. Основное его скопище оказалось на базарной площади. Батальон, с которым шел Таран, уже приближался к ней, а в местечке все еще не было заметно никакой тревоги. Наконец раздались взрывы гранат — это батальон, вступивший в Монастырище с противоположной стороны, вошел в соприкосновение с противником. Немного выждав, Таран дал сигнал правофланговой роте, и она с криком «ура» тоже ворвалась на площадь, а за ней устремились туда и остальные подразделения батальона. Почти одновременно с этим послышался гик конников Баржака. Подняв пыль, они мчались широкой улицей, вливавшейся в базарную площадь. Через минуту там все смешалось в одну кипящую массу: люди, лошади, повозки. Стрельбы никакой не было, и очень скоро наши бойцы стали выводить с площади построенных в колонну пленных, вывозить трофейное оружие, полевые кухни.
Кто-то громко кричал:
— Спасибо панам — кухни их курятиной заправлены, полакомимся теперь.
— Так курятина та награблена у населения, — сомневался другой.
— Ну и что же — не мы же грабили? Мы кухни эти как трофеи захватили, так что можем законно воспользоваться.
Под вечер батальоны возвращались из Монастырища с длинной вереницей пленных и подвод, нагруженных трофейным оружием, — одних пулеметов было захвачено около сотни. Под усиленным конвоем в штаб привели группу петлюровских офицеров. Таран шагнул им навстречу.
— Ну як, добродни, ваше почутя?
Кто-то из офицеров тихо ответил:
— Кепське, пан полковник.
После этого разговор пошел с каждым из них в отдельности. Выяснилось, что мы захватили в плен часть той петлюровской дивизии, которая встретилась в Киеве с деникинцами. Несмотря на соглашение, заключенное между Петлюрой и Деникиным, в Киеве они не поладили. Ссора произошла из-за жовтоблакитного прапора, вывешенного петлюровцами на здании городской думы. Деникинцы потребовали убрать этот флаг. Петлюровцы не согласились. Началась драка. Верх в этой драке одержали деникинцы. Они вывесили на думе трехцветный андреевский флаг и вытурили петлюровцев из Киева. Так эти самостийники невзначай попали нам в руки и, обескураженные, сдались без всякого сопротивления.
Весть о трещине, образовавшейся в едином фронте петлюровцев и деникинцев, вызвала в полку оживленные толки: раз у них раздоры пошли, нам легче будет прорваться.
После допроса пленных офицеров отправили в штаб дивизии и начали разговаривать с солдатами. В большинстве это были такие же крестьяне, как и мы. Много среди них оказалось одураченной петлюровскими демагогами бедноты. Надо было рассортировать пленных, и с этим наши политработники провозились до середины следующего дня: одних, отрекавшихся от Петлюры и стремившихся вернуться домой, отпускали небольшими партиями на все четыре стороны, других, желавших бороться за Советскую власть, принимали добровольцами в полк. Соблюдая осторожность, мы распределяли добровольцев из числа пленных но разным ротам и командам, но, надо сказать, что почти все они оказались хорошими бойцами и товарищами. Даже те, что раньше не раз перебегали из одного стана в другой, теперь твердо уразумели, на чью сторону им нужно становиться в этой войне.
В боях и стычках с петлюровскими бандами Тютюника, Ангела и множеством других более мелких кулацких батек полк кровью прокладывал себе путь на Умань и дальше на Сквиру.
У станции Попельня — там был стык петлюровцев с деникинцами — для нас готовилась новая западня, но безуспешно: бронепоезда, двигавшиеся наперерез нам, — деникинские из Киева, петлюровские из Казатина — были остановлены на подорванных путях, а части корпуса галичан опрокинуты. После этого наша дивизия, соединившись с 45-й дивизией Якира, продолжала свое движение на север уже не отдельными колоннами, а сплошным фронтом. И этот фронт вскоре сомкнулся на левом фланге 45-й дивизии, загибавшем к Житомиру, с фронтом 44-й дивизии, которой совсем еще недавно командовал Щорс. Так в начале сентября совершилось соединение Южной группы украинских советских войск с их Северной группой. Однако на правом фланге, где действовал наш полк, пока существовали позиции деникинцев, прикрывавшие Киев по реке Тетерев, и мотались какие-то петлюровские части. Некоторые из них уже вышли из подчинения Петлюры и повернули свой фронт против Деникина. С одной такой взбунтовавшейся ватагой самостийников мы оказались по соседству возле Белой Церкви, и у нас с ними установилось немое соглашение о нейтралитете.
— Что там за черт в кустах бродит? — заинтересовался Таран, заметив однажды какую-то черную фигуру, шнырявшую в расположении полка. — Поймайте и тащите сюда.
Бойцы привели растрепанного попика в черной ряске.
— Ты чего, отец, не в свой приход залез? — спросил его Таран.
Оказалось, что взбунтовавшиеся петлюровцы послали попа разузнать, какой мы веры придерживаемся и как относимся к крестьянству.
— Скажи, отец, своим прихожанам, что мы сами крестьяне, боремся за власть рабочих и крестьян и помещичья земелька нас, конечно, сильно манит. Вот какой мы веры придерживаемся, — ответил Таран.
Завязался разговор. Поп — политик: высказался и против Деникина, и против Петлюры, и против «коммунии».
— А за что же ты, отец, молишься со своими прихожанами? — спросил его Прокофий Иванович.
— Я молюсь за вольное крестьянство и вольную Украину.
— Ну, иди и молись, — Таран махнул рукой.
Уходя, поп то и дело оглядывался — видно, боялся, что пошлют ему пулю вдогонку, но бойцы только посмеивались:
— Смелей, батюшка, смелей идите, не бойтесь. Мы хоть и красные, но тоже православные христиане.
В той каше, которую заварили на Украине всевозможные батьки и атаманы, перемешались все программы, лозунги и универсалы. В селах люди обступали нас и допытывались:
— За что боретесь, кого уничтожаете, кого милуете?
А тем временем полковой оркестр уже созывал народ на митинг. На бричку, выкаченную на середину площади, подымались наши записные ораторы. Пытливо слушали их столпившиеся вокруг мужики и потом долго не расходились, почесывая, кто затылок, кто за ухом.
Вскоре после того как войска Южной группы соединились с Северной, наш полк получил приказ обогнуть Киев с запада и выйти в тыл деникинцам, занимавшим позиции на реке Тетерев. На пути к Тетереву встретились с каким-то войском, сидевшим в окопах за рекой Ирпень у моста. Приказав комбату Луппе с одной ротой переправиться через Ирпень километрах в двух — трех ниже, Таран вышел на мост и закричал:
— Эй, вы там! Чего сидите, за кого воевать думаете?
— За пана Петлюру, — ответил голос из окопа.
— Селяне?
— Ну, селяне. А тебе чего?
— Дураки! Петлюра вас обманул, заключил союз с Деникиным. Складывайте оружие и расходитесь по домам.
Петлюровцы загалдели. Пока Таран, стоя на мосту, перебранивался с ними, рота, скрытно переправившаяся через Ирпень, атаковала их с тыла. Прекратив галдеж, петлюровцы подняли руки. Эта была наша последняя встреча с самостийниками.
Полк готовился к решающим боям за Киев. И вдруг поступает приказ — командиру полка немедленно выехать в штаб дивизии.
Еще раньше был слух, что командование дивизии собирается изъять у нас в свое подчинение конницу и артиллерию, так как их-де у нас гораздо больше, чем положено по штату. Это и правда — за счет трофеев артиллерия наша разрослась до дивизиона, а конницы собралось еще больше: дивизион Баржака, эскадрон конной разведки Недождия да еще эскадрон Урсулова.
За Урсулова мы не держались — наоборот, были рады избавиться от его пришлого, с дурной славой, эскадрона. А кавдивизион Баржака и артиллерия Гирского — это была гордость полка. Таран и помыслить не мог, чтобы расстаться с ними.
— В дивизии думают жар загребать чужими руками, но это пустой номер, — сказал Прокофий Иванович, бросив косой взгляд на своего начштаба.
Последнее время он не ладил с Кулишом. Тот раздражал его и своей неуемной суетливостью, и своим тоненьким голоском, и, конечно, своими постоянными напоминаниями о дивизии. Когда начштаба пропищал что-то про штатные расписания и обвисшие усы его при этом оттопырились, начали подергиваться, Прокофий Иванович вскипел:
— Что мне ихние штаты! Я не требую от дивизии людей, я сам их ращу.
Он чувствовал себя в полку таким же самовластным хозяином, каким был на Перекопе, когда держал там свой доморощенный фронт и именовал себя командующим Черноморским побережьем.
В дивизию Таран уехал разгневанный.
— Голову свою положу, а не отдам ни конницы, ни артиллерии, — говорил он. — Там у них в штабе завелись царские офицеры, вот они и мутят воду, хотят лишить меня всякой самостоятельности, по рукам связать.
Полк входил в дивизию, но дивизия была для нас еще чужой. Мы подчинялись ей, однако не чувствовали себя ее частью. Если кто-нибудь говорил: «Там, в дивизии», — все понимали: это где-то очень далеко. Так оно и было в действительности во время нашего перехода с Херсонщины на Киевщину. Но теперь, когда развернулись фронтом, дивизия сразу приблизилась. И штаб армии, с которым раньше можно было связаться только по радио, имевшемся в дивизии, тоже стал ближе. На свою беду Таран не учел этого.
Из штаба дивизии, где с ним не смогли договориться, Прокофия Ивановича направили в штаб армии, и что уж произошло там, я не знаю, но в полк к нам он больше не вернулся.
Весть о том, что вместо Тарана к нам едет новый командир, отозвалась в полку острой болью и взбудоражила умы. Опять собрались наши ветераны возле двуколки Алексея Гончарова, лежавшего с помутневшим сознанием, — лечение его раны было безнадежным, он медленно умирал, но по-прежнему горячо переживал все, что происходило вокруг.
— Не может того быть, чтоб Прокофий уехал, не попрощавшись со своими товарищами. Тут что-то не то. Вот поверьте мне, я его знаю, — говорил Алексей.
До его сознания не доходило, что Тарана обвинили в партизанщине и за это сняли с командования полком. Он думал, что Прокофий Иванович сам покинул полк — сгоряча, обидевшись на начальство дивизии за то, что оно решило отнять конницу и артиллерию.
— Уверяю вас, — настаивал матрос, — он еще вернется и будет командовать полком. Это все какое-то недоразумение. Оно разъяснится. Прокофий докажет свою правоту.
Утомившись, Алексей сомкнул веки, немного полежал молча, потом открыл глаза и снова тихо заговорил о Прокофий Ивановиче:
— Это же такой замечательной души человек! Он и там, у них в Америке, за революцию боролся, не щадя себя. Вы же знаете — Тарана там прозвали «Черная шляпа» и полиция ходила по его следам. Для себя ему ничего не нужно — он даже морщится, когда курят, — не выносит запаха табака, а тем более водки. Один у него только недостаток — жену с собой в полк взял. Так разве можно его за то осуждать? Сами знаете, какая она молодая и красивая.
В десятых числах сентября круто повернуло на осень. Сырой, холодный ветер с колким дождем заставлял бойцов ежиться и прятаться за лошадей, повозки или просто друг за друга. Думалось, как тепло сейчас у нас под Херсоном и как далеко мы ушли от своих родных мест.
Но через несколько дней вернулась теплая и ясная погода. Солнце посочувствовало забравшимся на север южанам и снова стало светить, как летом. После жестокого боя с дроздовской офицерской частью и кавказской конницей Деникина наши батальоны расположились в не увядшей еще зеленой пойме Ирпеня.
— Тут мы остановимся, только не все, не все. Вы, товарищ Луппа, со своим первым батальоном пойдете в другое место, еще более интересное. Ах, какое это интересное место, — все будут завидовать вам! — говорил новый командир полка Васильев.
Мы еще не знали, что этот белокурый, огромный человек, бывший капитан царской армии может быть таким веселым и говорливым.
Комиссар предупредил нас, что Васильев, хотя и из офицеров, но большевик с дореволюционным партийным стажем. Но все же полк встретил его недружелюбно. Да и он сам держался сурово, не искал нашего расположения, строго требовал соблюдения уставных армейских порядков, которыми, сказать по правде, мы несколько пренебрегали.
В первом же бою все убедились, что Васильев человек храбрый и беспощадный: когда одна рота при встрече с дроздовской пехотой чуть было не дрогнула, он застрелил паникера и сам повел людей в атаку. А после боя, когда полк расположился в освещенной и согретой солнцем пойме Ирпеня, перед нами совершенно неожиданно раскрылись другие качества нового командира — его добродушие и веселость. И если не сразу, то очень скоро после этого полк полюбил Васильева.
Опять все пошло своим чередом, однако Тарана в полку часто вспоминали и жалели. Многие тогда считали, что с ним в дивизии поступили неправильно. Подозревали даже предательство[3].
«Интереснейшим местом», о котором говорил Васильев комбату Луппе, были позиции деникинцев на Тетереве. Батальон должен был прорвать эти позиции и соединиться с северянами, державшими фронт по противоположному берегу реки. Его усилили командами разведчиков, пулеметчиков, бомбометчиков, и он получил наименование «группы прорыва». Включили в эту группу и меня с несколькими связистами.
Идти нам предстояло по тылам белых, и, чтобы осуществить переход скрытно, решено было замаскироваться под белых — звезды и красные ленты снять, вместо них нацепить кокарды и погоны. Погоны вырезали из шинелей, кокарды — из консервных банок. Двигались лесами, обходя людные дороги и большие села.
В первый день прошли всего четыре часа. Еще не устали, а Луппа уже приказал останавливаться на ночлег.
— Темнеть начинает, надо как следует пощупать вокруг, — сказал он.
Группа расположилась в двух соседних деревушках, выставив вокруг них сторожевые заставы и разослав во все стороны пеших и конных разведчиков.
О мерах предосторожности Луппа никогда не забывал. Первой заповедью у него было:
— Береженого бог бережет.
В крестьянской хате, усевшись за стол с Фурсенко — начальником штаба группы и начальниками всех приданных ему команд. Луппа открыл «военный совет».
— Пусть разведчики пошуруют вокруг, а мы пока поглядим на карту и обмозгуем, какой нам принять план, — сказал он.
Было уже далеко за полночь, а «совет» все еще сидел за столом, обсуждал план действий, прикидывал маршрут движения и так и эдак. Постепенно штабники начали клевать носами, и Луппа объявил:
— Утро вечера мудренее. Пока вернутся разведчики, можно соснуть.
Немного поспав, все командиры подразделений и штаба опять уселись за стол. На улице уже светлело. Вернувшиеся разведчики, как хорошие хозяева, обхаживали на дворе трофейных лошадей, а захваченные ими «языки» в ожидании вызова сидели в караульном помещении — на кухне, занятой под штаб хаты.
Сначала докладывал начальник разведки и Луппа делал какие-то пометки на карте. Потом начался опрос пленных. Пора было посылать донесение в штаб полка с планом атаки, но Луппа не торопился — все еще не хватало ему каких-то данных. Не мог он по своему характеру послать донесение, не уточнив, не проверив всего, — чрезвычайно осторожный был комбат…
В тот день наша «группа прорыва» продвинулась еще километров на двадцать и к вечеру опять остановилась, чтобы тщательно пошарить вокруг. До рассвета простояли в лесу. Разведчики захватили несколько обозников, возивших боеприпасы на позиции деникинцев у Тетерева. Луппа долго выпытывал у них, как лучше подойти к окопам противника, и наконец сказал:
— Ну, теперь, кажется, все данные уже есть, а уточнять их будем по дороге.
До Тетерева оставалось 3—4 часа ходу. Шли лесом, по тропам и просекам, и вдруг услышали впереди тяжелые вздохи паровоза. Снова остановились — ждали, пока вернется конная разведка, посланная на железную дорогу: не бронепоезд ли пыхтит? Так и оказалось: на Тетерев двигался бронепоезд «Генерал Корнилов».
Луппа и Фурсенко стали думать, как быть: и поставленную задачу надо выполнять, и жаль упустить такую лакомую добычу.
— На передовых позициях этот дьявол долго не задержится, постреляет и поспешит назад, — сказал Фурсенко.
— А лес густой, подходит к самой железной дороге — удобное место для засады, — в тон ему ответил Луппа.
Посовещавшись, они решили, что в засаду сядет сам Фурсенко со взводом стрелков, двумя пулеметами и всеми бомбометами. Костриков и Вермейчук — наши подрывники — заложат под рельсы шашки, а Луппа с батальоном пойдет потихоньку своим маршрутом на Тетерев и там уже будет ждать, когда «Генерал Корнилов», отстрелявшись, даст задний ход. В тот момент они и трахнут одновременно: Фурсенко по бронепоезду, а Луппа по позициям пехоты, в затылок ей.
Все получилось точно, как задумали.
«Генерал Корнилов», дав задний ход, подорвался в устроенной ему ловушке. Его ремонтники, выскочившие на полотно с ломами, кирками и лопатами, были накрыты пулеметным огнем. В ответ затрещали пулеметы с бронепоезда, но огонь их прошел поверху. А когда из леса ударили наши бомбометы, белые посыпались с бронепоезда как горох. Тотчас же с бронеплощадки, на которую взобрались наши бойцы, кто-то весело закричал, глядя вслед убегавшим деникинцам:
— Смотри, смотри, ребята, позади всех поп драпает…
Так же стремительно развивались события и у Луппа, атаковавшего позиции вражеской пехоты. Боя почти не было — окопы взяли на «ура». Оно гремело все громче и громче. Бойцы кричали во все горло, стараясь этим привлечь внимание своих товарищей, занимавших оборону по ту сторону Тетерева, за мостом. Но оттуда никто не отзывался: не понимали, что тут происходит, опасались провокации.
Луппа снарядил делегацию к северянам, но как только она вошла на мост, с той стороны был открыт огонь. Делегация приползла назад. Предприняли еще несколько попыток пройти через мост, и опять все с тем же результатом. После этого послали одного добровольца, вызвавшегося перейти речку вброд в стороне от моста. Ему повезло, и северный берег Тетерева сразу ожил: оттуда раздались ответные крики «ура», заиграла музыка, к реке стали сбегаться красноармейцы. Некоторые переходили на нашу сторону вброд и, мокрые с ног до головы, обнимали наших бойцов, жали руки, хлопали по спинам и все повторяли:
— Здравствуй, товарищ!
Это были бойцы китайского батальона из Интернационального полка. Мало слов знали они по-русски, а мы не умели говорить по-китайски и отвечали им так же односложно:
— Здравствуй, товарищ!
— Да здравствует товарищ Ленин! — кричали довольные китайцы.
— Да здравствует Интернационал! — вторили им мы.
В ознаменование встречи с Интернациональным полком (кроме китайцев, в нем были венгры и немцы — по батальону каждой нации) был переименован захваченный нами у деникинцев бронепоезд. Старое название «Генерал Корнилов» зачеркнули углем и над ним написали мелом «Память 18 сентября».
На следующий день вечером, соединившись со своим полком, мы узнали, что получена поздравительная радиограмма от командования 12-й армии. Но там же ожидала нас и печальная весть: два часа назад скончался Алексей Гончаров. Говорили, что он умер сразу после того, как узнал о нашей победе, и, умирая, будто бы сказал:
— Ну теперь я могу спокойно расстаться с жизнью, уверен, что победа будет доведена до конца, — и попросил своих земляков, сидевших возле него, передать в Хорлы родным, чтобы они не плакали, а сам заплакал да так, со слезами на глазах, и помер.
Много разговоров было о смерти Гончарова. По-разному рассказывали. Некоторые утверждали, что его последними словами были такие:
— Пехотинцы умирают в поле, моряки в море, а я, моряк, умираю тут рядом с вами, — и будто бы при этом он не заплакал, а улыбнулся.
А другие заверяли, что, умирая, он пел любимую в полку песню, переделанную им на свой лад:
И все страшно ругали наших медиков: от Херсона почти до самого Киева довезли, лечили, лечили, а спасти не смогли!
Схоронили Гончарова на опушке леса, недалеко от Ирпеня. Когда заиграл оркестр, деникинская артиллерия открыла огонь, но похороны продолжались и обошлись без жертв — снаряды падали с большим перелетом.
ЗА ЧТО ТАКОЕ НАКАЗАНИЕ?
Тут можно было бы и закончить рассказ о боевом землячестве крестьянской бедноты Днепровщины — о том, как мы боролись за Советскую власть в своем родном уезде, как создали здесь свой полк и как этот крестьянский полк влился в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Но ведь и после того наши турбаевцы остались турбаевцами со всеми своими достоинствами, за которые их хвалили и славили, и со всеми своими недостатками, из-за которых нам еще пришлось пережить неприятности.
После походной жизни с бесконечными маршами и короткими бивуачными привалами начались тягучие позиционные будни.
Полк занимал оборону по левому болотистому и открытому берегу Ирпеня — тут рос только мелкий кустарник. А противоположный берег, занятый белыми, был высок и сплошь покрыт густым лесом.
До осеннего ненастья мы не позаботились как следует о благоустройстве своих окопов, землянок и блиндажей. В них начала всюду пробиваться вода. Пришлось спешно делать в окопах помосты, а в землянках нары.
С запозданием начали рыть и ходы сообщения. Думали обойтись без них, а нельзя было: белые нет-нет да и поймают на мушку связного, караульного или бойца, беспечно шагающего с котелком к кухням, стоявшим за поймой в небольшом леске.
С наступлением ненастья начал свирепствовать тиф. Одной из первых жертв его стал Алеша Часнык.
— Вот тоже большой мечтатель был, все рассказывал, как хорошо будем жить, а сам в восемнадцать лет помер, — говорили в полку.
Смерть от тифа казалась нашим людям особенно обидной. Вроде как бы помер человек без чести и славы, которая ему полагалась.
Опять в разговорах зазвучали унылые нотки. Плохо налаживалось дело с подвозом продовольствия. Холод и слякоть застали бойцов в летнем обмундировании, в драной обуви.
Иных ворчунов трудно было унять. Они во воем обвиняли каптеров и поваров. Как только не величали их — и бездушными тыловыми крысами, и дармоедами. Особенно доставалось каптерам после того, как в полк привезли шинели и пулеметчику Михаилу Бондаренко, дяде саженного роста, дали такую, которая впору была только связному мальчику Яше.
— Ну скажите, есть ли у них, у этих тыловых крыс, какое-нибудь чувство к человеку? — возмущался Бондаренко.
Пока не было шинелей, люди дрожали от холода, но не жаловались. А привезли шинели — и пошла воркотня: одному дали короткую, другому слишком длинную.
Тяготила днепровцев позиционная жизнь. Раздражали разные невзгоды. Досаждала артиллерия белых, методично бившая откуда-то издалека. Угнетала эпидемия тифа, вырывавшая из рядов полка еще больше жертв, чем фугаски противника. Но как только завязались горячие бои, воркотня опять затихла.
Дроздовцы пытались отбросить нас подальше от Киева, точно предчувствовали, что мы скоро пойдем в наступление. У местечка Ирпень они создали сильные предмостные позиции с пулеметными гнездами на кургане и оттуда рвались вперед. В контратаку пошла рота Павло Биленко и сбила белых с кургана. Дроздовцы отходили к мосту. Павло с полуротой кинулся им наперерез вдоль заросшего кустарником берега и тут, на резком изгибе реки, попал под перекрестный огонь двух кинжальных пулеметов. Четырнадцать бойцов и сам командир роты поплатились жизнью за отчаянную попытку овладеть мостом с ходу. Павло был убит наповал двумя пулями в голову.
Хоронили мы Павла на Ирпенском кладбище. С надгробными речами выступили оба его брата. Они говорили о своей Збурьевке — как бедно жило это безземельное село, окруженное песками и плавнями, какие испытания выпадали на долю его жителей — рыбаков, грузчиков и матросов, уходивших в море на жалких перегруженных парусниках. Выступали и земляки Павло — эти самые рыбаки, грузчики, матросы, и все говорили о своей Збурьевке — каких героев дало Красной Армии это бедное село!
Вдруг к могиле подходит и склоняет над ней голову какой-то незнакомый нам кудрявый, стройный человек. Осведомились — кто такой? Оказался венгерским коммунистом, командиром 3-го Интернационального полка, с которым мы встретились на Тетереве. Мы еще не знали, что этот полк включен в состав нашей бригады и выдвинут на соседний с нами участок.
С этого дня бойцы и командиры Интернационального полка — венгры, немцы и китайцы стали у нас частыми гостями. Особенно зачастил сам комполка — очень общительный и добродушный. Он не раз говорил, что как Днепр и Дунай текут в одно море, так и народы все идут к коммунизму.
Вскоре вместе с интернационалистами мы пошли в наступление на Киев. И если раньше нередко можно было услышать в полку жалобы на то, что вот, мол, как далеко мы забрались на север, то теперь днепровцы говорили:
— Мы хоть у себя на Украине, а они бог весть откуда пришли к нам на помощь.
Перед наступлением на Киев несколько наших пеших разведчиков были посланы в тыл противника. Пошел и Клименко, неистощимый по части всяких выдумок и проделок. Вернулся он в черном костюме, белой крахмальной рубашке и с цилиндром на голове. Покрутился, как цирковой клоун, показал свой наряд и спереди и сзади — «Ну чем не барин?» — и стал рассказывать, как встретил в Святошинском лесу какого-то молодого франта на прогулке:
— Иду я обочиной дороги, гляжу, навстречу кто-то на дрожках катит. «Вот, думаю, хорошо бы мне нарядиться под барина и на таких дрожках по Киеву покататься». Спрятался за сосну, жду. Подъезжают дрожки, и вижу я, что сидит в них молодой холеный господин. Усики у этого субчика — колечками, на лбу завиток, на руках перчатки, на носу пенсне со шнурочком, на голове вот этот цилиндр. Вышел я из-за сосны и говорю ему вполголоса: «Стой! Ни шагу дальше!» — и показываю револьверы, которые уже держу наготове в обеих руках. С испугу он начал было что-то лепетать, называл свою фамилию, но я ему сказал, что фамилия, его мне ни к чему, и провел у него возле носа наганом. У тою руки и ноги затряслись, глаза стали часто мигать. А я с вопросом: «Чего, сударь, разъезжаете здесь? Разве не знаете, что сейчас военное время?» — «По совету врача делаю, прогулку», — отвечает. Этот его ответ меня здорово рассердил. «Эх ты трутень, паразит проклятый!» — говорю ему и начинаю водить у носа уже двумя наганами. Тут он окончательно сдрейфил и бросил вожжи. Требую предъявить документы. Он полез в карман, и вдруг вот из этого бумажника падает пропуск коменданта города Киева. «Теперь порядок», — говорю и прошу этого барина слезть с коляски. А он малость опомнился и уже голос пытается повышать, грозит, что генералу Май-Маевскому будет на меня жаловаться. «Жаловаться вы будете потом, — говорю, — а пока прошу вас, господин хороший, быстро сойти со своих дрожек и раздеться». Он понял, что споры бесполезны, и быстренько стал раздеваться. Потом пришлось мне его связать, рот кляпом законопатить и оттащить за ноги подальше от дороги, чтобы он полежал там в кустах, пока я свою разведку закончу. После этого, представьте себе, весь Киев объехал на барских дрожках, с этим блестящим цилиндром на голове, и ни один черт меня нигде не остановил. Жаль, что времени мало было, а то бы я и к Май-Маевскому заглянул в гости, поговорил бы с ним о его планах и замыслах.
Наши разведчики восхищались:
— В каком полку есть еще такие проныры, как Клименко? Или такие лихачи, как рыжий Свыщ? Чего они только не откалывают, гуляя по тылам белых! Вот уж истинные турбаевцы! — И тут же жаловались: — Все дело во времени, очень уж ограничивают нам сроки, когда дают задания, а то мы во все штабы белых проникли бы и все их планы до тонкостей распознали.
А новому комиссару полка (Лысенко вскоре после ухода Тарана тоже был куда-то отозван) не понравился наряд, в котором вернулся из разведки Клименко.
— От этих штучек, — сказал он, ткнув пальцем в цилиндр, — махновщиной попахивает. С этим придется кончать.
— Какие же это махновские штучки? — недоумевал Клименко. — Это же по необходимости, для пользы дела. — И безнадежно махнул рукой: — Недооценивать у нас стали разведку. Вот Прокофий Иванович Таран — так тот относился к нам иначе, похваливал бывало: «Золотые люди наши разведчики, циркачи, — в любую щель пролезут!»
Справа от нас стояли фронтом богунцы и таращанцы — знаменитые полки дивизии, которой еще недавно командовал Щорс. В то слякотное, с дождем и снегом октябрьское утро, когда началось наступление на Киев, со стороны бывшей Щорсовской дивизии доносился сплошной гул канонады. Богунцы и таращанцы наносили главный удар вдоль Житомирского шоссе. Наша 58-я дивизия Федько играла в этом наступлении вспомогательную роль. У нас на участке пушки били прерывисто, наскоками, прокладывая путь на тот берег Ирпеня головному батальону, которым командовал Гриша Мендус.
— Ну вот, братцы, теперь только бы взять Киев, а оттуда уже будем двигаться обратно, в свою родную сторонку, — говорил Гриша своим бойцам перед атакой. — В дивизии по радио получена депеша, что Буденный уже наступает, под Воронежем белых бьет. Мамонтов в панике. Теперь здесь долго не задержимся.
Такое настроение было общим в полку: возьмем Киев и оттуда пойдем обратно на юг освобождать свой край. Заждались нас там родные и близкие, но ничего — скоро уже вернемся с победой, как обещали, уходя на север.
Потом говорили, что для захвата Киева у нас в октябре еще не было достаточно сил, что наше командование шло на большой риск, что по сути дела это был лишь налет. Но у нас тогда рассуждали иначе: мы думали о великом наступлении, и восторгам по этому поводу не было предела.
Надо сказать, что если днепровцы и могли иногда впасть в уныние, то им не так уж много нужно было, чтобы от уныния перейти к восторгу. Конец нашего позиционного сидения в болотах Ирпеня воспринимался в полку чуть ли не как конец всех военных тягот.
Сначала наступление шло успешно. Справа еще гремела канонада, когда Гриша Мендус послал в атаку передовую роту своего батальона. Ротой командовал Андрей Шульга — низкорослый и коренастый молодой мужик из Каховки, отпустивший себе для важности усы и бороду. Бесстрашный он был командир, но однажды, попав в санчасть с легким ранением в ногу, удивил всех наших медиков — этакий солидный дядя с усами и бородой при перевязке кричал и плакал, как маленький ребенок.
— Ну чего ты орал благим матом — рана-то ведь пустяковая? — спрашивали его потом.
— Пустяковая, а зачем сапог порезали? Два года ведь я без сапог воевал, а только получил — вы опять разули, — ответил он.
…После двухчасового боя рота Шульги вышла на правый берег Ирпеня, потеряв при этом половину своего состава. В пробитую брешь устремились другие подразделения. Полк быстро прошел до Святошинских дач, где был задержан артиллерией белых, но ненадолго. Богунцы и таращанцы уже овладели городом и рвались к мостам через Днепр.
С наступлением темноты наше продвижение опять несколько замедлилось. Не зная города, роты шли вперед ощупью. Полк потерял связь с соседями и справа и слева. Была дана команда отойти назад. Потом новый приказ — вперед! Рванулись и залезли в какое-то ущелье Куреневки, узкую, зажатую горами улицу. Сбились там в кучу два наших батальона, кавалерия и артиллерия бригады, полковые обозы. Подвела кромешная тьма пасмурной ночи, но она же и спасла нас.
Ночью трудно было разобраться в заварившейся каше. Часть нашего обоза перемешалась с обозом белых. До рассвета ни те ни другие не подозревали, с кем они ночуют по соседству, а на рассвете кинулись кто куда и случилось так, что наш обоз увлек за собой много подвод белых.
На главной улице Куреневки к командиру полка, остановившемуся на лошади возле фонаря, подошла какая-то развязная девица, похлопала ладошкой по шее коня и спросила:
— Что же это вы, господа, решили уходить из Киева?
— Нет, что вы! Пустяки, барышня, говорите, — ответил ей Васильев.
— Хорошие пустяки, когда все обозы на левый берег вывели, — сердито отрезала бойкая девица.
И действительно, к утру весь Киев, за исключением южной его части, вниз от Владимирского собора, был очищен от белых. В южной же части у мостов ожесточенные бои продолжались весь день. Не затихли они и ночью. Там богунцы и таращанцы отражали непрерывные контратаки деникинцев. А на следующее утро стало ясно, что, хотя Киев и взят нами, удержать его в своих руках будет трудно: обнаружилось огромное превосходство противника в силах. Особенно крепко нажимали деникинцы с юга, правым берегом Днепра.
В середине этого критического дня в тыл нам неожиданно ударил какой-то штрафной, или «арестантский», как его называли, полк бывших царских офицеров, в чем-то провинившихся перед белыми. Первые сутки «арестанты» не участвовали в боях, сидели, запершись в своих казармах, как бы держа нейтралитет, — выжидали, кто верх возьмет, а когда увидели, что перевес на стороне деникинцев, решили заслужить у них прощение.
Под огонь этих «арестантов», бивших с чердаков и из окон верхних этажей, попал батальон Гриши Мендуса, отходивший со стороны еврейского базара. Комбат вывел свои роты из огневого мешка, но сам не вышел из него. Сраженный пулей, он упал на крутом спуске улицы. Бойцы увидели своего любимого комбата лежащим ничком на булыжной мостовой. Кто-то пополз, чтобы вытащить его, но не добрался — был убит. Пополз второй — и замер по дороге, тяжело раненный. Пополз третий, но комроты Булах, принявший на себя командование батальоном, приказал вернуться назад. Он не хотел жертвовать людьми, так как видел, что все жертвы будут напрасны, а батальон и без того сильно поредел. Булах стоял под аркой глубоких домовых ворот среди сбившихся в этой трубе бойцов. Надо было быстро отходить дворами, чтобы не оторваться от полка, но люди стояли, подавленные горем: комбат лежал на мостовой, может быть, убитый, может быть, тяжело раненный, а к нему нельзя подступиться.
— Гриша, друг наш дорогой! — с отчаянием в голосе закричал Булах, выглядывая из ворот. — Прости нас, но мы не в силах тебе помочь. Эти дьяволы бьют из пулеметов кинжальным огнем. Гриша, друг, ты слышишь? Мы вынуждены уходить. Клянемся, что никогда ее забудем тебя. Прости, родной!
Гриша Мендус не отозвался. Всех своих героев мы хоронили с почестями, а вот с Гришей получилось нехорошо. Он лежал на булыжной мостовой в том же стареньком пиджаке, в котором ушел из дому, в изодранных полуботинках, которые раздобыл уже осенью, когда стало слишком холодно ходить босиком.
У себя в Скадовске он был грузовым извозчиком — возил в порт пшеницу для погрузки на иностранные корабли. У нас в полку командовал взводом, ротой, а под конец батальоном, но по одежде его все принимали за рядового бойца.
— Такой уж он человек — лично для себя ему никогда ничего не нужно, — говорили о Грише Мендусе в полку. — Он даже шинели себе не взял, сказал, что она ему ни к чему, — есть пиджак.
Никого нельзя было обвинять в том, что тело нашего комбата осталось в Киеве. Однако все в батальоне чувствовали себя виновными. Как будто можно было что-то сделать, но сделано это не было.
Спустя два месяца, когда мы снова вступили в Киев — на этот раз он был взят прочно, — возле дома с арочными воротами, где погиб Гриша Мендус, собрались все его друзья и земляки. Была еще какая-то надежда, что удастся найти хотя бы останки и захоронить со всеми воинскими почестями. Но и эта надежда не сбылась. Опрошенные нами дворники и жильцы окрестных домов сказали, что тут было подобрано несколько убитых и что они помнят одного в плохоньком пиджаке и полуботинках с обмотками. Он будто еще дышал, когда его подобрали проживавшие в этом квартале студенты-медики. Никто не думал, что он выживет, — пуля попала в висок, — но все-таки отвезли его в больницу.
Мы нашли этих студентов. Они показали нам больницу, в которую был доставлен наш комбат. Однако там не осталось никаких следов Гриши Мендуса.
— Чего кислые такие? Эх вы, вояки, прости господи… А ну-ка сейчас же бросьте нюниться — не к лицу это вам, орлы днепровские! — говорил комполка Васильев, обходя подразделения, опять оказавшиеся на своих старых ирпеньских позициях, в грязи чуть ли не по колено.
Ночью слегка примораживало, а днем всюду текло, сочилось, везде чавкало болото. Падал мокрый снег. В землянках непрерывно топились печи. Ветер трепал и разносил по позициям серый, как дождевые облака, дым. Люди грудились у печей, чтобы просушить хотя бы портянки.
Разные были мнения относительно нашего наступления на Киев и отхода назад. Многие обвиняли командование в напрасных жертвах:
— Надо было столько людей положить, чтобы снова в то же чертово болото залезть! Мало мы тут сидели в воде?! Скоро морозы начнутся — что мы, зимовать тут будем, что ли, на этой проклятой Ирпени? От тифа никакие окопы и блиндажи не спасут. Вон он как косит людей. Всюду берет на прицел и разит без промаха.
Политруки приносили в землянки газеты, и какой-нибудь боец пограмотней — из пулеметного расчета или батареи — читал вслух сводку о положении на фронте. После этого разговор принимал иное направление:
— Значит, Семен Буденный под Воронежем окончательно добил Мамонтова?
— И Орел снова красный!
— Ура, хлопцы. Наши всюду верх берут.
Конец октября прошел у нас довольно спокойно — санитары увозили в тыл только заболевших тифом. А в первых числах ноября на позиции полка вдруг обрушился шквальный огонь белогвардейских батарей и дроздовские батальоны пошли в психическую атаку.
Офицерские цепи выходили из леса, стройно шагали к реке с винтовками наперевес. Спускаясь с крутого берега, замедляли шаг, будто опасались входить в холодную воду, и в этот момент наши пулеметчики открывали огонь. От четкого боевого порядка дроздовцев ничего не оставалось. Но за первой беспорядочно отхлынувшей цепью вырастала вторая, за ней — третья… Потом новый шквал артиллерийского огня и следом — новая атака.
Несколько дней продолжались редкие по упорству бои. Вместе с дроздовцами бросались в атаку какие-то дружинники с белыми повязками на рукавах. Среди них были даже мальчишки в гимназических шинелях.
Собрав все что мог, генерал Май-Маевский пытался во что бы то ни стало прорвать наш фронт под Киевом и соединиться с белополяками Пилсудского, которые стояли у Коростеня, угрожая нам ударом с тыла. На участке одного нашего обескровленного в боях батальона ему удалось это осуществить, но с помощью соседнего полка прорыв вскоре был ликвидирован. Потом мы получили сильное подкрепление — батальон красных курсантов, железная стойкость которого поразила противника. Наиболее честные из белых офицеров откровенно заявляли:
— Подобной стойкости мы не видели на своем веку и, как русские патриоты, должны преклониться перед ней.
Завалив трупами своих солдат и дружинников крутой лесистый берег Ирпеня, Май-Маевский утихомирился. Он вынужден был отказаться от дальнейших попыток соединиться с войсками Пилсудского: положение на центральном участке фронта складывалось такое, что под Киевом белым стало уже не до атак, — начиналось повальное их бегство на юг.
Наш уменьшившийся почти наполовину полк до середины декабря бессменно простоял на своих ирпеньских позициях, а потом пошел вперед, ломая слабевшее с каждым часом сопротивление врага. И не слышно было, чтобы кто-нибудь роптал, что мы воюем без отдыха, не можем помыться, постираться, привести себя в чувство. Все рвались вперед и радовались:
— Дожили наконец до веселой поры! Теперь надо только не давать белым передышки, гнать их до Черного моря. Если не будем мешкать, к весне закончим войну и вернемся домой.
Прошли через Киев и дальше до Фастова, без остановки преследуя отступающих на юг деникинцев. Впереди была прямая дорога на Николаев и Херсон — знакомый уже путь, по которому мы летом шли на север. И вдруг — приказ: вернуться всей дивизией в Киев для несения гарнизонной службы.
Когда этот приказ объявили по ротам, полк потрясла буря негодования.
— За что нам такое наказание? — кричали бойцы.
Напрасно командиры и политруки пытались убедить людей, что гарнизонная служба в столице Украины — почетное дело, которое можно доверить далеко не каждой дивизии. Для людей, сделанных из такого теста, как наши днепровцы, это был мало убедительный довод. Они мечтали вернуться в свой родной край освободителями, а им сулят тыловую казарменную жизнь с караулами и парадами!
От обиды люди теряли головы. На ротных собраниях ораторы надрывно кричали, что если дивизия возвращается в Киев, то черт с ней, но полк не должен возвращаться, он обязан идти вперед с наступающими частями. Нельзя давать белым опомниться — это предательство. Если полк повернет назад, то рота выйдет из него и перейдет в другую, более сознательную часть, которая будет продолжать наступление до окончательного разгрома белых.
Люди опасались, что деникинцы, отступая, учинят кровавую расправу над их семьями и родными, оставшимися в селах. И разговоры об этом еще больше накаляли обстановку.
Ротные собрания, начавшиеся днем, продолжались и ночью, пока усилиями командования и всех партийцев удалось наконец образумить людей, убедить их, что полк покроет себя позором и все заслуги его будут забыты, если он не выполнит приказа командования.
На другой день, хотя и с ропотом, полк повернул назад. Никто так как следует и не понял, почему нам приходится возвращаться в Киев, — просто скрепя сердце подчинились приказу.
Потом уже нам, партийцам, стало известно, что истинной причиной для отдания того приказа послужили высказанные кем-то в штабе армии опасения, как бы наша дивизия бывших партизан Днепровщины и Таврии, вернувшись в свои родные края, не разошлась по домам или, еще хуже, не попала под влияние Махно, орудовавшего на юге. Мы начисто отвергали эти ничем не обоснованные, оскорбительные, глубоко возмущавшие нас подозрения и скрывали их от красноармейцев, чтобы не подливать масла в огонь.
ЛЮБОВЬ МИТИ ЦЕЛИНКО
И в Киеве, неся гарнизонную службу, наши днепровцы не переставали роптать. Их не радовало даже то, что кормить стали лучше, приоделись малость, баня есть, белье стирается, от вшивости избавились все. Воркотня продолжалась:
— Живем в Киеве, а города не видим, кроме тех улочек, по которым ходим в караулы. Надоели эти караулы до чертиков. А побываешь в городе, только душу расстроишь — комендантские патрули всюду цепляются. Война еще идет, беднота расправляется с богатеями на фронтах, а мы тут, в казармах, околачиваемся, в школе ликбеза занимаемся, просто неловко перед товарищами и родными, которые ждут от нас освобождения. Невесть на кого похожи стали, как паразиты, хлеб даром жуем.
В феврале — он был морозным и снежным — красноармейцы получили теплые портянки, ватные брюки и прошел слух, что полк пойдет против Пилсудского.
— Хоть против Пилсудского, хоть против любого другого черта, только бы от гарнизонных караулок избавиться, — рассуждали в ротах.
И когда наконец был получен приказ о погрузке в эшелоны для отправки на фронт, все вздохнули с облегчением. Митя Целинко, попавший после возвращения из госпиталя в пулеметную команду и дослужившийся уже до взводного, разглагольствовал:
— Стариков наших тянет на юг, хотят поближе к дому воевать, а нам, молодым, все равно, где контру бить. Видели мы всяких вояк — и Деникина, и Петлюру с Тютюником, и Махно, а теперь побачим и Пилсудского. Говорят, что англичане и французы здорово вооружили и одели пилсудчиков. Ладно, посмотрим и это, чтобы правильно судить о французских и английских модах… Ничего себе задумали — завладеть нашей землей от Балтийского до Черного моря. И откуда только аппетиты такие?
— А ты что, не знаешь, где собака зарыта? Все дело в Антанте, — вставил к слову начальник пулеметной команды Василий Коваленко, не упускавший случая дать свое авторитетное разъяснение по международному вопросу.
— Антанта! — усмехнулся Митя Целинко. — Говорят, она опять вытащила за уши на свет божий Симона Петлюру, а тот по своей дурости стал изо всех сил тужиться, доказывая Пилсудскому насчет своих прав на Украину. И тогда Антанта ему на ушко, приставив к носу кулак, тихо шепнула: «Ты, Симон, это оставь, не будь дураком, не заводи разлад в своем семействе, сейчас не время для споров, потом поговорим с тобой о твоих правах, где-нибудь в Лондоне или в Париже».
— И когда все это кончится? Скажи ты мне, товарищ начальник, — взмолился Михаил Бондаренко, очень расстроенный тем, что война затягивается и к весне — это уже очевидно — ему с братом домой не попасть.
— А ты, дружище, не унывай, — ответил Коваленко. — Деникин издыхает, Колчак сдох, Юденич едва ноги унес, остался, не считая моськи Махно, один пан Пилсудский. С ним управимся, и тогда можешь невесту себе присматривать. Вот Митя Целинко говорит, что без хозяйки домой не вернется…
Выгрузившись из эшелона на какой-то станции около Коростеня, полк под музыку оркестра вперемешку с песнями прошел маршем по лесной Волыни до Гуты Марьяновской и занял оборону, раскидав позиции батальонов далеко одну от другой. Тут мы сравнительно спокойно провели остаток зимы и встретили весну, которая сразу же, как только стаял снег и чуть просохла земля, чудесно оживила и разукрасила зеленью этот глухой лесисто-болотистый край.
Были перестрелки и стычки. Белополяки прощупывали нашу оборону, а мы ихнюю, и этим дело ограничивалось. Будто бы ни той, ни другой стороне не хотелось воевать. Правда, когда земля подсохла, пилсудчики начали предпринимать атаки, повторявшиеся почти ежедневно, но, ничего не добившись, вскоре затихли опять.
Свободного времени у бойцов было много. Умяв по ведру картошки на троих, запив кипяточком с сахаром, наши днепровцы погуливали в окрестностях, осматривали подворья волынских крестьян, вели хозяйственные разговоры с местными мужиками. А потом долго сидели у костров, свертывали козьи ножки, дымили и рассуждали о крестьянской жизни, сравнивая здешние обычаи с обычаями своего родного края. Все им тут не нравилось, — что скот и птица живут под одной крышей с людьми, что в хатах нет дымоходов, что мужики носят рубашки с завязками вместо пуговиц, что девушкам на свадьбе обрезают косы и вместо платка надевают какой-то колпак, что едят одну картошку и от нее животы у всех раздуты. И приходили к выводу, что нигде, видно, людям не живется лучше, чем на Днепровщине.
О войне разговоров не слышно было. Разве что какой-нибудь старательный ездовый из пулеметной команды, он же второй номер в расчете, натирая до блеска своего «максимку», скажет ласково:
— Эх «максимушка», друг мой, и дадим же мы жару — пусть только сунется кто!
В конце апреля полк отвели в Житомир на отдых, а на другой день белополяки начали наступление и прорвали фронт. В город хлынули паникеры, а по шоссе вслед за ними мчались уже броневики и кавалерия противника. Мы едва вырвались из Житомира. Через несколько дней, миновав Киев, перебрались на левый берег Днепра и только тут, заняв позиции у Дарницы, пришли в себя.
Сразу же начались кривотолки и споры:
— Отчего произошел такой конфуз?
— Почему так поспешно отступали?
— Зачем Киев сдали без боя?
Одни были того мнения, что виной всему наши сменщики, бросившие позиции у Гуты Марьяновской: если бы нас не сняли, белополякам ни за что не прорваться бы. Другие ругали командование и опять же все сводили к тому, что нас не вовремя сняли с позиций. А Митя Целинко, никогда не унывавший и не роптавший, — все принимал он как должное, — говорил, что никакого конфуза нет. Он мнил себя бывалым воякой и считал, что на войне и наступление, и отступление «происходят по стратегии».
Больше месяца стояли мы в лесу под Дарницей. Томясь от бездействия, бойцы были падки на всякие слухи, толковали их по-своему и спорили до хрипоты, пока не приходили к выводу, что «нечего глотку драть, все равно в стратегии ни шиша не кумекаем». Спор затихал, и сразу же начинались жалобы.
— Ну, долго ли еще мы будем тут торчать и глазеть на Киев издалека? Надоело это до нудьготы.
Общее настроение сразу изменилось, когда начались разговоры о прорыве Первой Конной под Сквирой.
— Я же говорил — стратегия! — торжествовал Митя Целинко. — Дал Буденный аллюр три креста и махнул со своими дивизиями через Днепр. У Рыдз-Смыглы глаза на лоб полезли, зовет он к себе Петлюру и велит ему быстро удочки сматывать. Петлюра напыжился и спрашивает: «С какой это стати, пан-генерал, я буду сматывать удочки?» — «Да ты, Симон, не пыжься, — отвечает ему Рыдз-Смыгла, — пока мы с тобой тут в Киеве грызлись, Семен Буденный под Сквирой прорвался». — «Не может того быть, пан-генерал, — отвечает Петлюра. — Мне доподлинно известно, что Буденный маршем идет с Кубани, а лошади у него худые, истощенные в походах, когда он еще дотащится». — «Нет, Симон, я вижу, что таких дурней, как ты, поискать надо, и напрасно с тобой Антанта цацкается, — говорит Рыдз-Смыгла. — Не веришь мне, так спроси у моих уланов. Они в панике бегут и не могут никак оторваться от Буденного, а ты говоришь, что у него лошади худые».
Все эти россказни исходили от разведчика Клименко. Он снова побывал в Киеве и потом гоголем расхаживал по Дарницкому лесу, где был расположен наш полковой резерв, направо и налево сыпал разными былями и небылицами.
Спустя несколько дней полк двинулся на Киев и вступил в город без боя. Появившись ночью на его слабо освещенных улицах, мы застали тут только несколько разрозненных групп пилсудчиков и петлюровцев, перепившихся и дравшихся между собой из-за подвод, да какую-то заставу, впопыхах забытую своим командованием. Солдаты этой заставы — польские мобилизованные крестьяне — встретили нас мирно и заявили, что давно уже ждут смены, а ее все нет и нет и по телефону почему-то никто не отвечает.
Из Киева полки нашей дивизии выступили с кумачовыми полотнищами, на которых было написано: «Смерть Антанте!», «Вперед за Советы!». Первое сопротивление встретили только на реке Уборть, где мы потоптались около суток, после чего опять началась погоня, и продолжалась она без передышки до реки Горынь. Тут потоптались немного подольше — пилсудчики отбили две наши атаки, пришлось подождать, пока подойдет артиллерия, и с ее помощью быстро форсировали Горынь. После этого наступали без остановки до реки Стырь. Здесь похоже было, что белополяки решили драться всерьез, но опять мы взяли верх и, переправившись через Стырь, скомандовали им: «Руки вверх! Выходить из блиндажей по одному».
Дальше до Западного Буга наше продвижение задерживали только собственные тылы, все время где-то застревавшие, отчего мы по нескольку дней оставались без провианта, а иногда и без боеприпасов. В батальонных повозках все запасы иссякали, а у местного населения тех разоренных и обобранных мест ничего нельзя было достать, кроме молока, да и то лишь в обмен на соль.
Люди уставали, голодали, но война быстро шла к концу, и никто не жаловался на изнурительный поход. Хвалили погоду, местность.
— Тепло, а не знойно, не то что у нас, на юге, в эту пору. Легко дышится тут в лесах. И речек много — есть где помыться.
Хвалили трофейные френчи французского фасона и английские шинели, в которые многие уже нарядились.
В пути нас нагнала 25-я Чапаевская дивизия. На Западном Буге, не доходя города Хелм, чапаевцы первыми пошли в атаку. Мы видели, как они с криком «ура» бросились в воды Буга. Потом в полку говорили:
— Интересные люди эти чапаевцы! Даже у пожилых глаза веселые, а бороды у всех одинаковые — русые, окладистые. И «ура» они кричат как-то особенно звонко. Подольше бы с ними рядом воевать!
Тяжелые тут были бои. Наш полк понес большие потери, пока переправился через эту каверзную реку. За Бугом пошли свободно, следом за первой бригадой Шишкина, которая форсировала реку по мостам и сразу же рванулась вперед. Шли с песнями по шоссе, обсаженному по обе стороны деревьями, подошли к лесу, окружавшему высившийся на горе город Хелм, и тут вдруг нас начали обсыпать из пулеметов. Была дана команда «Батальонам развернуться и занять позиции».
Не понимая, что произошло, мы простояли здесь дня три, пока не стало известно о трагической гибели первой бригады. Оказалось, что у самого Люблина ее поймали в ловушку белогвардейцы Булак-Булаховича, действовавшие вместе с пилсудчиками. Бригада погибла в полном составе — все три полка — во главе со своим храбрым комбригом, рабочим из Керчи, товарищем Шишкиным.
Покрутившись возле Хелма и Влдавы, мы ушли обратно за Буг. Нас не выбили — сами ушли по приказу командования, а по какой причине — этого мы долго не знали.
Потоптались в прибрежных песках Буга, около месяца простояли у каких-то болот и озер — тут и лето кончилось. Как метеор, пролетело оно в том году. А затем опять отход. Без боев, с досадой, недоумением отходили и отходили по приказу командования.
Ночью у костров, пылавших на лесных полянах и просеках, бойцы, суша портянки и обувь, тряся рубахи над пламенем, злились:
— До каких пор это будет? Куда отступаем? Зачем?
Прогорит костер, жар его передвинут дальше, и на обогретой земле люди укладываются спать. Ляжет боец, завернется в прожженную углями шинель — единственное укрытие и от холода и от дождя, — поворочается, затихнет — и вдруг станет ему неспокойно. Подымет голову, посмотрит вокруг и спросит:
— А может, измена?
Только Митя Целинко уверенно держится:
— Не измена, а стратегия.
Не тот он уже был, как в ту пору, когда своей детской смешливостью приводил в ярость нервно-взвинченного Сеньку Сухину. Если побасенки рассказывал, то только агитационные, все больше про Антанту и ее грызущихся между собой псов. Даже, пускаясь в пляс на привале, не забывал, что теперь он командир, — то кубаночку поправит, то всего себя оглядит.
Когда Митя укладывался спать у костра, это было целое священнодействие. Все уже храпят, а Митька все еще устраивает свою постель — и чтобы удобно было, и, главное, чтобы не запачкать, не помять, не попортить как-нибудь свою новенькую английскую шинель.
Еще никто в полку не знал, что война с белополяками заканчивается и что этим-то и вызван наш отход. На Горыни нас нагнали белогвардейцы Булак-Булаховича. Идя следом за нами, они пытались завязывать бои, тявкали, как моськи на слона.
В эти дни в какой-то польской деревушке, затерявшейся в Полесье, мы сменили часть крестьян-подводчиков, перевозивших наши грузы, и в полку появилась Анюта. Всех удивило, почему в деревне нарядили с подводой молоденькую девушку, — таких случаев еще не было. Потом заметили, что на подводу к девушке подсел Митя Целинко, и стали осуждать его — нашел время амуры разводить!
На привалах он не отходил от Анюты, обхаживал ее лошадей — и напоит, и корм задаст, и оботрет пучком сена. А потом притащит с кухни котелок супа, и обедают они вдвоем с Анютой, сидя на подводе.
— Ты чего голову дуришь девушке? — накинулся на него начальник команды Василий Коваленко. — Разгрузят подводы, и поедет она домой. У нее, наверное, жених есть. Нехорошо может получиться.
Целинко разобиделся, повернулся и пошел прочь от своего начальника.
Через несколько дней все подводчики из той полесской деревни действительно уехали под вечер домой, а Анюта осталась. Думали, что она побоялась ехать ночью, но утром ее увидели на козлах боевой тачанки Мити Целинко — в пулеметной команде появился новый ездовой!
Высказывались разные догадки и предположения относительно того, чем это может кончиться. Василий Коваленко пришел ко мне мрачный.
— Чего это ты, Вася, расстроился?
— Да вот эти издыхающие моськи, выброшенные вон из нашего общества революционной бурей, портят нервы своим лаем, а тут еще Митька чудить стал. Не нравится мне его номер. Боюсь, не поступил бы он с девушкой по-хамски. Она ему поверила, а вдруг он обманет — позор и срам какой всей команде!
— Не допускай! Ты же в своей команде хозяин.
— Подхода к нему не найду. Упрямый стал как осел. Разговаривать не желает. Ты у нас в полку партийный секретарь, а он твой земляк, поговорил бы с ним. Прошу тебя, узнай, почему эта полячка не едет домой и какие у них с Митькой намерения в дальнейшем. Я нашел Целинко и спросил его:
— Что это за новый ездовой появился в твоем взводе?
— Доброволец Анюта, — ответил он. — Прошу к ней относиться с уважением.
— Нет, я серьезно спрашиваю.
— Я тоже не шучу.
Не получалось у нас сначала откровенного разговора.
— Чего это ты, Митя, сильно ершистый стал? Вот и начальник твой на тебя обижается…
— Всяк по-своему судит. Мне, например, сдается, что лишний доброволец со своими конями не помешает в нашей команде. А что Анюта моя невеста, начальника это не касается. Жениться я пока не собираюсь. Кончится война, отвезу я ее к себе в Чалбассы, и там уже свадьбу сыграем. Домой возвращаться ей нельзя. Отец у нее нехороший, хочет насильно выдать за пьяницу.
— Ну что же, — оказал я, — намерения у тебя, как видно, серьезные, а если так, то остается только пожелать вам счастья.
— За это пожелание спасибо, — подобрев, улыбнулся Целинко. — Думаю, что так оно и случится в нашей супружеской жизни.
Много еще пересудов было, но постепенно Коваленко и все его пулеметчики свыклись с тем, что у Мити Целинко завелась невеста. Анюта стала у них в команде хозяйкой: и картошку почистит на кухне, и белье постирает, а если порвалось, даже и залатает.
Вскоре полк занял позиции на реке Уборть. Тут и застало нас полное окончание войны с белополяками. Под Олевском мы узнали, что заключено перемирие. Булак-Булахович не признавал его, пушки белогвардейцев еще тявкали, но теперь это никого в полку уже не беспокоило.
— Сколько не тявкайте, а все равно Митька скоро свадьбу отгуляет, и мы на его свадьбе повеселимся, — говорили наши пулеметчики.
После того прошло немного времени. Пока мы стояли в Полесье, Красная Армия покончила с Врангелем в Таврии, началась демобилизация, и Митя Целинко укатил к себе домой с Анютой на паре ее добрых коней.
Не многим днепровцам так повезло.