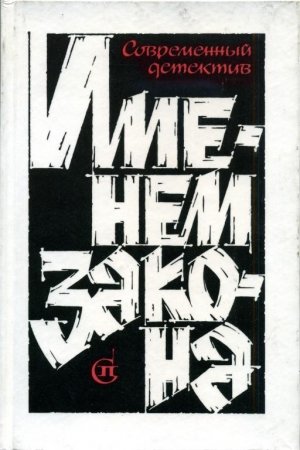
Игорь Гамаюнов, Валерий Чиков
Я СКАЖУ ВАМ ВСЮ ПРАВДУ…
Вторую неделю донимала старуха Кирпичникова следователя Игнатова. Подстерегала она его обычно в гулком вестибюле областной прокуратуры, у столика вахтера, возле стены, где стоял унылый ряд стульев с вертящимися, как в кинотеатре, скрипучими сиденьями. Увидев в дверях Игнатова, старуха тут же вставала, стул под ней громко хлопал сиденьем, будто выстреливал, и Игнатов замедлял шаг, понимая, что разговора не избежать.
Кирпичникова вцеплялась ему в рукав и смотрела снизу маленькими голубенькими глазками из паутины подвижных морщин, из-под седых, торчком стоявших бровок — из какой-то своей непонятной жизни, в которой успела девчонкой на оккупированной территории побыть связной у партизан, медсестрой в действующей армии, потом, в мирные годы, сменить множество разных работ и родить, наконец, в сорок лет единственного сына, а на тридцатом году его жизни узнать, что за страшное преступление он осужден на «не жизнь».
Узловатые ее пальцы, державшие рукав Игнатова, были странно крепкими, а прокуренный, с хрипотцой голос словно бы выпевал привычный уже вопрос:
— Гражданин следователь, миленький, узнал, где могилка моего сына?
Игнатов осторожно отцеплял от рукава костлявые пальцы, вел старуху к стульям и, сев рядом, начинал со вздохом повторять заученное вранье: запрос идет долго, дело-то не простое, инстанций много. Говорил он обстоятельно и монотонно, это и на старуху и на него самого действовало успокаивающе. Врал же потому, что язык не поворачивался сказать правду. Ну как скажешь, что никакой «могилки» нет и не было, что, после того как приговор привели в исполнение, сына ее сожгли в крематории, с другими такими же, и вот поэтому-то выполнить ее просьбу — перезахоронить «его косточки» на городском кладбище — невозможно.
Нет, не мог Игнатов сказать ей всего этого еще и по другой причине. Совсем недавно вел он следствие по делу человека, который почти десять лет по вечерам у дорог насиловал и убивал женщин, и все эти годы ловкие оперативники арестовывали вместо него других людей. И их осуждали потом за то, что они никогда не делали. Сын Кирпичниковой был одним из таких, и, рассказывая старухе о сложной работе разных инстанций, Игнатов злился на себя и свое вранье и, подавляя в себе злость, убеждал Кирпичникову побыть дома, подождать месяц-другой — он сам, как только придет сообщение, вызовет ее письмом или телеграммой. Старуха торопливо кивала, благодарила, но от письма и телеграммы отказывалась:
— Спасибо, гражданин следователь. Я завтра сама зайду.
В конце концов пришлось Игнатову прятаться от Кирпичниковой — проникать в здание прокуратуры со двора, где у распахнутых ворот служебного гаража он смешивался с небольшой толпой водителей прежде, чем направиться к заднему крыльцу.
В этот день у гаража он столкнулся с рыжим Лехой, водителем «рафика», оборудованного под передвижную «криминалистическую лабораторию». Узнав, что «рафик» наконец-то вышел из очередного ремонта, Игнатов предупредил Леху: сегодня они с Лосевым, молодым следователем, проходящим стажировку, должны съездить в пригородный поселок Заречный по поручению прокурора. Леха поморщился, потому как знал — дороги там гравийные, придется мотать только что починенную машину по колдобинам, но сопротивляться не стал: с транспортом в облпрокуратуре всегда было туго, да и протесты его обычно ни к чему хорошему не приводили.
За окном были сумерки, когда Игнатов наконец освободился. Громыхнув дверцей сейфа, сунул туда собранные со стола бумаги, надел плащ и шляпу, поморщился, увидев в оконном стекле свое отражение: был невысок, плечист, с крупным, почти квадратным лицом, потому полагал, что шляпа ему не идет, но жена заставляла носить, уверяя, что «так интеллигентнее», и он в конце концов смирился.
Заперев кабинет, Игнатов спустился на второй этаж, зашел за Лосевым. Тот обрадованно засуетился, тут же натянул куртку, жикнув «молнией», пристукнул каблуками: «Готов, товарищ начальник!» Было в нем еще что-то мальчишеское. Это вначале раздражало Игнатова, потом стало забавлять.
Спешно проехали городскую площадь со светильниками, источавшими яркий мандариново-желтый свет, миновали кинотеатр «Звездный», у подъезда которого в голубовато-красных неоновых отблесках шевелилась толпа, мимо длинного гастронома и кафе «Русский чай», здесь давно уже было пусто и на витринах и внутри, въехали на мост и увидели на мгновение плавный изгиб набережной, обозначенной цепочкой фонарей, пробившихся расплавленными пятнами сквозь дымку мелко моросящего дождя.
В Заречном гравийная дорога и в самом деле была вся в ухабах и колдобинах. Улицы и переулки, освещенные тусклыми лампочками под проржавевшими абажурами, казались необитаемыми. Только окна одноэтажных домов, отгороженных от дороги штакетными заборами и тощими палисадниками, обнадеживали: жизнь здесь все-таки теплилась. «Рафик» петлял в поисках Коптевского переулка, и Леха всякий раз замысловато ругался, заехав не туда. Резко разворачивал машину и приговаривал: «Вот ты мне еще в кювет сползи». На ухабах Игнатова и Лосева мотало, бросая друг на друга, они хватались то за поручень сиденья, то за угол столика, на котором подпрыгивал, норовя соскользнуть, «дипломат» Игнатова, и кричали Лехе, чтоб вез полегче, но не было в их голосах ни досады, ни усталости — лишь нетерпеливое ожидание: скорее бы!
Лосев, появившийся в прокуратуре месяц назад, выспрашивал у Игнатова подробности его, теперь знаменитого, дела: как он, Игнатов, по косвенным, третьестепенным данным, собранным из двух десятков уголовных дел, однажды вычислил местожительство, профессию и возраст того, кто десять лет вел свою страшную охоту; как группа захвата однажды, вот таким же дождливым вечером, подъехала к нужному им дому метров за триста — ближе из-за слякоти было нельзя; как Он, наводивший ужас на всю область, шел к машине, окруженный толпой, пристегнутый наручниками к руке одного из оперативников, — шел, дрожа от страха, и трижды останавливался, прося разрешения «отлить»; как толпа чуть-чуть расступалась, и он долго возился — заедала «молния», а одной рукой было неудобно, другая же, в стальном кольце, была чугунной, неспособной шевельнуться.
В группе захвата Игнатов не был и знал все это со слов, и потому, наверное, самым сильным его впечатлением были первые минуты допроса, когда увидел Его — высокого, кудрявого, с подковой усов, с длинными, почти до колен, рычагообразными руками. Он был почти до мелочей таким, каким Игнатов однажды его себе представил, собрав из уголовных дел косвенные свидетельства о его внешности.
Но все-таки самой потрясающей подробностью этой истории было другое: за Его преступления в лагерях отбывали наказание невинные, оговорившие себя люди, и их предстояло как можно быстрее освободить. Всех, кроме одного — сына Кирпичниковой…
Сейчас они ехали по поручению прокурора к человеку, с которым Игнатов мысленно не раз говорил и даже заготовил для него специальные слова и целые фразы. Правда, сейчас, вспоминая их, он все больше и больше в них сомневался, — здесь, в этом сумрачном поселке, затянутом дождевой мглой, они начинали ему казаться неубедительными и даже нелепыми.
Наконец они нашли Коптевский переулок, и Леха теперь вел «рафик» медленно, высматривая на воротах и калитках размытые дождем номера. Остановились у щелястого забора. «Кажется, приехали». Леха выключил зажигание. Калитка была не заперта. В тесном дворике, под навесом, в сумраке угадывались ряды дров. У крыльца, из будки, глухо поворчав, тявкнула собака. Постучали в дверь. Постояли, подняв воротники, — сверху по-прежнему сеял мелкий дождь. И, не дождавшись приглашения, вошли.
— Есть кто дома?
В слабом свете горбилась скособоченная, обитая войлоком дверь, слышалось бормотание телевизора. Игнатов взялся за ручку, потянул. Раздался чмокающий звук, и они оказались на кухне. Здесь сипел на плите чайник, пахло отсыревшей известкой, углем и дымом. Дверь в комнату была отворена. В ее проеме они увидели троих: щуплый, с редким пушком на голове старик, старушка с седым узелком на затылке и рослый мужчина неясного возраста, сидевший впереди, в шаге от экрана, как-то очень уж прямо, будто спина у него не гнулась, смотрели программу «Время».
— Можно?
У телевизора зашевелились. Старушка встала, кивая, застегивая быстрыми пальцами пуговицы на кофте.
— Захо́дьте, будьте до́бры.
Игнатов и Лосев вошли, остановившись у дверей. Комната была перегорожена шкафом, в зеркальной дверце которого мелькал отраженный экран. Под низким потолком тянулась бечевка, на ней висела цветастая, сдвинутая сейчас занавеска, открывшая металлическую кровать с блестевшими по углам шарами, и мужская рубашка.
— Садитесь, будьте до́бры, — говорила старушка, выдвигая стулья из-за круглого стола и проводя по ним рукой, будто смахивая невидимую пыль.
— Да мы ненадолго, — сказал Игнатов, раздумывая, проходить или оставаться у дверей. — Мы из прокуратуры.
Человек с прямой спиной повернулся, и, увидев его напряженное, как бы слушающее лицо с неподвижными глазами, Игнатов понял, что он слеп.
— Вы Иван Тимофеевич Горелов?
Слепой, ухватившись за спинку стула, стал медленно подниматься.
— Да, я Горелов, — подтвердил он и по-солдатски вытянулся у стула. — А что надо?
Голос его был глухим, и старушка, заторопившись к нему от шкафа, забормотала:
— Ванечка, сынок, не бойся, здесь я, здесь…
Старик, тоже встав, убавил звук телевизора. На экране мелькали груды строительного мусора, неподвижные башенные краны, пузырящиеся под дождем лужи, и какой-то человек в плаще, под зонтиком, что-то отвечал корреспонденту.
— Да вы садитесь, — сказал старик, напряженно разглядывая гостей. — Устали с дороги-то. — И добавил: — У нас тут второй день маршрутный автобус не ходит, так что в город только пешком.
— Мы на машине.
Игнатов, поставив «дипломат» на ближайший стул, щелкнул замками и вытащил листок со штампом областной прокуратуры.
— Иван Тимофеевич, мы вам привезли постановление прокурора о вашей реабилитации.
— Какое постановление? — еще больше встревожился слепой. — Зачем?
— Не бойся, Ванечка, — старушка гладила его по плечу. — Они люди добрые, тебе ничего не сделают.
— Понимаете, найден настоящий преступник. И следствие неопровержимо доказало, что это он убил Татьяну Семенову. И не только ее одну.
— То есть как так «найден»? — не понимал слепой. — Живой найден?
— Живой.
Слепой стоял по-прежнему неподвижно и ровно, будто окостенев, но мелкая дрожь сотрясала его всего, сверху донизу.
— Вам прочесть постановление? — спросил Игнатов.
Слепой молчал.
— Вы его извините, — ответила за него мать. — У него, когда очень волнуется, голос пропадает. И зрение там, в колонии, потерял от переживаний. Он там шесть лет промаялся.
— «В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, — стал читать Игнатов, — уголовное дело Горелова Ивана Тимофеевича проверено… Выявлен ряд нарушений Уголовно-процессуального кодекса РСФСР… Установлено, что бывший следователь по особо важным делам В. С. Жавнеровский сфальсифицировал доказательства вины И. Т. Горелова, оказал психологическое давление на подследственного, угрожая исключительной мерой наказания, вынудил его написать «явку с повинной»… Невиновность И. Т. Горелова доказана повторной проверкой, а также добытыми вещественными доказательствами, в частности сумкой погибшей, обнаруженной с помощью подлинного убийцы… Дело в отношении Горелова Ивана Тимофеевича прекратить за отсутствием состава преступления… Все принятые ранее по этому делу решения отменить…»
Игнатов прочитал фамилию подписавшего постановление прокурора, назвал дату и замолчал. Молчали и остальные. Только приглушенный телевизор бормотал что-то неразборчивое.
— Это, значит, как? — прервал наконец молчание отец Горелова, все еще не осознавая происходящего. — Теперь, значит, другой берет на себя, будто Татьяну Семенову погубил?
— Да нет, папаша, нет, — нетерпеливо вмешался Лосев. — Никто уже на себя не «берет», это доказано. Преступник показал, куда сумку убитой спрятал. И сумку эту нашли.
— Сумку… — эхом откликнулся слепой.
— Сядь, сынок, — мать подвинула ему стул.
— Сумку… — снова произнес слепой и, нащупывая дрожащей рукой стул, стал медленно опускаться.
— Это, значит, шесть лет, пока наш Ваня сидел, тот был на воле? — медленно соображал отец Горелова.
— Семь, — уточнил Лосев. — Ведь ваш сын уже год дома.
— Это как же так? Зачем так? — не мог до конца понять отец, переводя взгляд с Игнатова на Лосева…
Год назад привезли ему сына Ивана из далекой колонии, навсегда ослепшего и беспомощного, «утратившего опасность для общества», но все-таки виновного. А сейчас выходит, что он не виноват?
— Это что ж теперь будет? — спросил отец.
— Судью накажут, а против бывшего следователя Жавнеровского уже возбуждено уголовное дело по фактам нарушения соцзаконности, — сказал Лосев и посмотрел на Игнатова вопросительно: не сболтнул ли лишнего?
Игнатов протянул отцу Горелова постановление.
— Возьмите, это вам.
Отец не двигался. Недоверчиво щурясь, он всматривался в лица гостей.
— Значит, это как? Теперь — следователя в тюрьму? — Он отмахнулся от листка, отступил даже на шаг, отстраняясь.
Положив на стол лист, Игнатов произнес те, заготовленные заранее слова:
— Мы виноваты перед вами. Просим у вас извинения от имени прокуратуры. И от имени государства.
Слова эти, видимо, потрясли Гореловых. Они молчали, и Лосев снова решил объяснить им:
— Понимаете, государство очень виновато перед вами и готово возместить нанесенный ущерб.
Старики по-прежнему молчали, не понимая, как можно исправить то, что случилось, и только слепой опять откликнулся эхом:
— Ущерб…
Он, кажется, хотел еще что-то сказать, зашевелился, подавшись вперед, но стоявшая рядом мать положила ему на плечо руку, и он успокоился.
— Может, чая попьете? — неуверенно спросила она.
— Нет-нет, спасибо, не беспокойтесь. — Игнатов представил, как она хлопочет вокруг стола, покрытого старой, загнувшейся в местах порезов клеенкой, как стесняется скудости угощения, и ему стало не по себе. Казалось, будто везет людям облегчение и радость, а вот привез на самом деле лишь новую боль. — Так чем мы вам могли бы помочь?
Мать качнула головой:
— Да чем тут поможешь?.. — И, прерывисто вздохнув, добавила: — Вот только не знаем, кто за ним присматривать будет, когда мы умрем. Он же один не может. Без нас только вдоль стеночки ходит.
— Вы… Это самое… Извиняйте, если не так скажу, — вдруг заволновался отец Горелова. — Вы, к примеру, могли бы эту бумагу соседям показать? А то нам от соседей стыдно. Так покажете?
— И это все? — спросил Игнатов.
— О пенсии, наверное, нужно похлопотать, — подсказал Лосев.
— Пенсия пенсией… Это уж как получится… — мотнул головой отец. — Да и Ваня наш никуда не ходит, ни во что не рядится, ну а на крыльце с собакой во всем старом посидеть можно: пиджак есть, стеганка тоже. А вот к соседям-то… Зайдете — нет?
— А к кому нужно? — поинтересовался Лосев.
— Значит, так: вначале к Петровне, она рядом живет. — заторопился отец. — Потом к Хитяевым, Смоляковым и Рукавишниковым…
Лосев записывал фамилии. Отец, глядя на его блокнот, на блестевшую металлом шариковую ручку, продолжал диктовать, припоминая:
— К Синцовым обязательно. И к Голубевым.
Слепой жадно слушал, приоткрыв рот, и после каждой фамилии чуть заметно кивал.
— К Чебряевым и Сотниковым, к Тимонихе, она у колонки живет, к Сливенцовым… Вы не обижайтесь. Это справедливо будет.
Слепой продолжал кивать, мать стояла рядом, не снимая руки с его плеча и завороженно вслушиваясь в перечень знакомых фамилий. Оба они своей позой напоминали старинную фотографию.
Игнатов и Лосев вышли на улицу, аккуратно притворив скрипнувшую калитку. Моросило по-прежнему. В «рафике» Леха крутил ручку приемника, вылавливая легкую музыку. Игнатов кинул «дипломат» на пластиковый столик и, повертев головой, стал растирать ладонью затылок. Лосев сел напротив и, держа в кулаке сложенный вдвое блокнот, следил за Игнатовым. Потом сказал:
— Странно. Я думал, они обрадуются…
Леха приглушил музыку и, включив верхний плафон, повернулся, всматриваясь в них.
— Вы что смурные? Что-нибудь не так?
— Так, — тихо сказал Игнатов. — Все так.
Помолчали. Леха выключил приемник. Спросил:
— Ну что, поедем?
— Поедем. Вот по этим домам.
Игнатов кивнул на зажатый в руке Лосева блокнот. Лосев, раскрыв его, стал диктовать Лехе номера.
— Да вы что, ребята? Да это ж нам до утра ездить, — слабо сопротивлялся Леха.
— Поехали, — сказал Игнатов.
Они и в самом деле проездили по улицам и переулкам поселка до глубокой ночи. А утром следующего дня Игнатов снова увидел на заднем крыльце прокуратуры Кирпичникову. Она сидела, постелив на влажную ступеньку разорванный полиэтиленовый пакет, которым во время дождя повязывалась, как косынкой, и смотрела с надеждой и недоверием. Игнатов встретился с ней взглядом, и вдруг мелькнуло в памяти давно забытое, со школьных еще времен, слово: справедливость. «Да ведь это Горелова вчера произнесла, — окончательно вспомнил он. — «Справедливо будет…» Странно соединяются слова, очень даже странно: «было», «будет»… А «есть»? Где оно, это «есть»?»
— Идемте, — он помог старухе встать. — Я скажу вам всю правду…
Николай Оганесов
ВИЗИТ ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
В ПУТИ
Мы идем по пустынному перрону навстречу еще движущимся вагонам скорого пассажирского поезда. Мокрый, с матовыми от тумана окнами, он блестит стальными рифлеными боками в мертвенно-белом свете фонарей. Вдогонку, через спрятанный где-то в вокзальных сумерках транслятор, диктор объявляет о прибытии и причине опоздания. Встречающих мало, не больше двадцати человек на всю платформу. Они прячутся под зонтами, оглядываются с любопытством на нашу группу, но поезд замедляет ход, и встречающие теряют к нам интерес, переключают внимание на катящиеся мимо вагоны.
У сержанта из дорожного отдела милиции — паренька лет девятнадцати — сапоги подбиты подковками. Они отчетливо и звонко чеканят по мокрому, отражающему вокзальные огни асфальту.
— Который час? — спрашиваю у идущего рядом эксперта. Моя «Электроника» капризничает, самое время проверить — потом будет не до этого.
— Двадцать три двадцать, — односложно отвечает Геннадий Борисович, и голос выдает его состояние: конечно, раздражен поздним выездом на место происшествия, небось проклинает в душе сырость, ночь, дующий в лицо холодный ветер и все то, что проклинают в таких случаях эксперты — люди, которым выпало сомнительное удовольствие сопровождать нас. В отличие от него мне погода безразлична: снег, дождь — не все ли равно? Разумеется, я тоже предпочел бы смотреть на него в окно, сидя у телевизора в теплых носках и свитере, а не ежиться от стекающих за воротник струек воды, тем более что до конца моего дежурства оставались считанные минуты, каких-то четверть часа. Но это, как говорится, уже детали…
Мимо проплывает пятый вагон — тот самый, что нам нужен. На ступеньке у входа стоит высокий грузный мужчина, — судя по форменной фуражке, проводник. Он замечает нашу группу, ждет, когда состав окончательно остановится, потом неуклюже соскакивает на платформу и, зажав под мышкой сигнальные флажки, пропускает меня и моих спутников в вагон.
В коридоре нас встречают несколько пассажиров. Они стоят в проходе, настороженно смотрят на идущего первым сержанта. Тот останавливается, вежливо просит их разойтись по своим местам и ждет, пока не задвинутся все двери. Узкий коридор пустеет, становится видна малиновая ковровая дорожка, старенькая, местами вытоптанная до серой волокнистой основы.
— Где? — спрашиваю у проводника.
— В восьмом, — понимает он с полуслова. — Я запер.
Отмечаю, что его голос совершенно спокоен, даже равнодушен, будто нет ничего будничней, чем везти в закрытом купе труп.
Волобуев, следователь прокуратуры, просит отпереть дверь. Проводник возится с замком, потом отступает в сторону и замирает с тем же каменным выражением лица.
На тесном прямоугольнике пола лежит человек. Его лицо уткнулось в лужу крови. Она кажется почти черной и похожа на пролитый мазут.
Мы с Волобуевым переглядываемся. Он вместе с экспертом склоняется над трупом, а я отзываю проводника к окну.
— Кто его обнаружил?
— Пассажир из седьмого купе.
— Когда?
— С полчаса назад.
— Он здесь?
Проводник кивает на соседнее купе. В эмалированный ромбик на двери вписана семерка.
— Сколько пассажиров в вагоне?
Он беззвучно шевелит губами — пересчитывает.
— Семеро. — И, угадывая мой следующий вопрос, поясняет: — Все как сели, так и едут. Никто не сходил.
Хорошо, на всякий случай беру эти сведения на заметку. Жестом отпускаю проводника и заглядываю в восьмое купе.
Туда не войти. Видны только спины, за ними — пляшущий свет переносной лампы. Приглушенные голоса. Щелканье затвора фотоаппарата. Осмотр в разгаре. Вспышки блица отбрасывают на стены резкие голубоватые сполохи. Внизу — мне видна лишь нижняя половина тела — распростерся мужчина с неестественно подогнутыми в коленях ногами. Несчастный случай? Смерть от сердечного приступа? Или совершено преступление? Интуиция, которая считается чуть ли не обязательной для людей нашей профессии, молчит, ни звука. Не исключено, что через пять — десять минут все мы отправимся восвояси. Дай-то бог…
Чтобы не терять времени, стучу в седьмое купе. Дверь мгновенно открывается: похоже, меня ждали.
На пороге мужчина лет пятидесяти пяти, с ярко-розовой, в оправе рыжеватых волос, лысиной и таким же ярким румянцем на одутловатых щеках. По беспокойному, бегающему взгляду не поймешь — пьян он или взволнован, а может, и то, и другое вместе.
Я здороваюсь, представляюсь, задаю вопрос:
— Это вы обнаружили труп?
— Да… То есть нет, — отвечает владелец розовой лысины, и запах спиртного снимает сомнения — выпил, причем недавно.
На нижней полке, в углу, сидит женщина. Лица ее не видно — она демонстративно отвернулась к окну, в котором мутно отражаются полки с постельным бельем, спина моего собеседника и сама пассажирка, ее руки и плечи, укутанные теплым шарфом. Если меня здесь действительно ждали, то, уверен, не она. Мое присутствие явно ее раздражает.
— Пройдемте со мной, — приглашаю я мужчину.
Мы выходим, у поворота к тамбуру я вижу открытую дверь двухместного служебного купе. Оно свободно, и я приглашаю своего спутника войти. Тут тесно. Мы садимся в разных концах полки вполоборота друг к другу.
— Ваше имя, фамилия?
— Жохов Станислав Иванович.
Он не настолько пьян, как показалось сначала. Есть такой тип людей: при всех внешних признаках опьянения они сохраняют способность трезво мыслить, а иногда и действовать.
— Степан Гаврилович вас дезинформировал, труп обнаружил не я, — продолжает Станислав Иванович, и у меня возникает ощущение, что он присутствовал при нашем с проводником разговоре. — В восьмом купе уже был Эрих.
— Кто это — Эрих?
— Эрих? — Жохов делает неопределенный жест рукой, совсем как экспансивные герои итальянских фильмов. — Эрих тоже из восьмого купе. Они с Рубиным вместе ехали.
— А кто такой Рубин? — спрашиваю я, потому что… потому что каждая история должна иметь начало.
— Рубин? — Интонация и жест повторяются. — Рубин это тот… — Он морщится, затрудняясь объяснить. — Ну, тот, что лежит там…
«Тот, что лежит там». Понятно.
— Расскажите, как все произошло, — прошу я.
— Я же говорю, что там уже был Эрих. При чем здесь я? Ему лучше знать, что и как там у них произошло.
— А как вы сами оказались в восьмом купе?
— Как оказался? — переспрашивает Жохов. — Да очень просто… Пошел в туалет, вдруг слышу какой-то шум. Мне показалось, что там что-то неладно. Ну я и заглянул…
— Что это был за шум?
— Да как вам сказать…
Он снова задвигал руками, будто нащупывая в воздухе определение поточнее, а я подумал, что лишние движения при его небольшом росте, видимо, объясняются желанием обратить на себя внимание. С малоприметными людьми это бывает.
— Ну, шум как шум, — так и не подобрав нужных слов, продолжает он. — А может, мне показалось, кто его знает. — И доверительно сообщает: — Я, понимаете, не прислушивался, так что вполне мог ошибиться.
Собственная непоследовательность Жохова нисколько не смущает. Покопавшись в кармане, он вытаскивает пачку сигарет, просит разрешения закурить, и, хотя я не переношу табачного дыма, ради интересов дела приходится смириться.
— Значит, так… — Мой собеседник выпускает струйку дыма, деликатно направляя ее вверх, и лишь после этого переходит к изложению интересующих меня обстоятельств: — Когда я вошел, Виталий Рубин уже лежал на полу. Без движения. Под головой лужа крови. А рядом с ним на корточках сидел Эрих. Я в общем-то не из трусливых, но в тот момент, признаться, растерялся. Что делать? Решил звать на помощь. Крикнул что-то, уже не помню, что именно. Сразу сбежались люди, ну и пошло-покатилось. Вот и все. Кажется, ничего не пропустил.
— Вы не заметили, что делал Эрих над трупом?
— Как — что делал? Просто сидел на корточках.
— Он успел вам что-нибудь сказать, прежде чем вы начали звать на помощь?
— Ничего. Это точно. — Станислав Иванович провел ладонью от лба к затылку, приглаживая несуществующую шевелюру. — Когда собрались пассажиры, Эрих всем нам объяснил, что он спал и что разбудил его какой-то шум, что это Рубин упал с верхней полки и разбился. Так он говорил. Это могут подтвердить все.
— Вы не заметили, который был час?
— Точно не скажу, но все произошло совсем недавно, с полчаса назад, не больше. Значит… — он отдернул манжет рубашки и глянул на часы, — значит, приблизительно в одиннадцать.
— Вы заходили в восьмое купе или все время продолжали стоять на пороге?
— Конечно, заходил. И я, и все остальные. Мы же не были уверены, что Рубин мертв. Проверяли пульс, слушали дыхание.
— Сдвигали труп с места?
Жохов неопределенно жмет плечами:
— Да нет вроде. Проводник предупреждал, чтоб ничего не трогали до прибытия на станцию.
Я чувствую, как катастрофически быстро тает запас времени, но и вопросов у меня почти не осталось.
— Что вы можете сказать об Эрихе?
— Что сказать? Ну, познакомились в поезде. Вроде вежливый молодой человек. Интеллигентный…
— Не знаете, где он сейчас?
— Кажется, у Тенгиза.
— Ясно, — говорю я, но ясности-то как раз нет. Как, например, они успели перезнакомиться: Степан Гаврилович. Эрих, Рубин, теперь еще и Тенгиз? Если б речь шла о соседях по купе — куда ни шло, а тут — сплошные знакомые. Паспорта они, что ли, друг другу предъявляли? Или едут одной компанией?
Я поднимаюсь. Следом за мной поднимается Жохов.
— Станислав Иванович, вы еще можете нам понадобиться, чтобы уточнить кое-какие детали. Не возражаете?
— Конечно, конечно, — соглашается он. — Мы с женой едем до конечной остановки. Если что — добро пожаловать.
Мы вместе возвращаемся к седьмому купе. Когда дверь отодвигается, я вновь вижу сидящую у окна женщину — очевидно, жену Станислава Ивановича. Она нервно вскакивает с места, и за секунду до того, как дверь отрезает меня от супружеской пары, я успеваю заметить ее искаженное гневом лицо.
Коридор по-прежнему пуст. Только у восьмого купе продолжают стоять понятые. Где мне искать этого самого Эриха? Проводника не видно, и разыскивать его нет времени. Придется еще раз потревожить Станислава Ивановича, хотя и рискую, судя по всему, стать свидетелем бурной семейной сцены.
Я стучу в дверь, отодвигаю ее и слышу обрывок фразы:
— …Ты хуже убийцы!..
Сильно сказано.
Они растерянно смотрят на меня. Жохов поднимается с полки, куда успел забраться с ногами. Голос его срывается на дискант, а руки непроизвольно взмывают вверх:
— По какому праву вы врываетесь?! Кто вам позволил? Стучать надо…
— Простите, я стучал. — Совесть моя чиста, это соответствует действительности. — Станислав Иванович, вы сказали, что Эрих у Тенгиза. Я забыл уточнить, в каком это купе?
— В четвертом. — Он в упор смотрит на меня, и, даже отвернувшись, я все еще чувствую его неприязненный взгляд, направленный мне в затылок.
Поезд стоит на станции уже лишних полторы минуты. Диспетчер обещал десять, максимум пятнадцать, и ни секундой больше. Его можно понять — у нас разные ведомства…
В четвертом купе навстречу мне поднимается рослый молодой человек. Отгороженный его широкими плечами, я не сразу различаю лежащего на полке второго пассажира, который дает знать о своем присутствии голосом с характерным южным акцентом:
— Заходи, дорогой. Заходи, пожалуйста.
— Спасибо. — Я обращаюсь к молодому человеку: — Вы — Эрих?
— Да, Эрих Янкунс, — отвечает он, возвращаясь на свое место. — Если нужен документ…
— Пока не надо…
В купе полумрак, пропитанный табачным дымом и едва уловимым ароматом цитрусовых. На столике — пепельница, переполненная окурками. В руке Янкунса дымит сигарета.
— Извините, — говорит он, проследив за моим взглядом. — Я сильно накурил.
— Ничего. — Я подворачиваю край матраца и присаживаюсь на освободившееся место. — В вашем вагоне умер человек. Что вы можете сказать о случившемся?
— Нехорошо получилось, — вступает в разговор второй пассажир. Это, как я понимаю, и есть Тенгиз. — Человека дома ждут, встречать будут, а он… Нехорошо!
Справедливое замечание, но времени на эмоции у меня не осталось, и я снова обращаюсь к Янкунсу:
— Есть сведения, что первым труп обнаружили вы. Так ли это?
— Наверно, так.
— Наверно? Как это произошло, расскажите.
— Я спал. Около одиннадцати часов проснулся от шума. На полу увидел Виталия Рубина, соседа по купе. Встал посмотреть, что с ним. В это время вошел пассажир из седьмого купе.
— Жохов?
— Да. Так, кажется, его фамилия.
— Что за шум вы слышали?
— Как это? — удивляется Янкунс. — Виталий упал с верхней полки. От этого я и проснулся.
— В купе, кроме вас, никого не было?
— Да, мы вдвоем занимали восьмое купе.
— Вы знали своего соседа раньше?
— Нет. Познакомились в поезде.
— Когда обнаружили его лежащим на полу, он был еще жив?
Эрих отвечает, тщательно подбирая слова, словно боясь что-нибудь спутать. Возможно, это связано с нетвердым знанием языка, а возможно, причина совсем другая.
— Когда я проснулся, в купе было темно. На полу кто-то лежал. Я нагнулся, но ничего не успел рассмотреть. Открылась дверь. Вошел Жохов. Стал кричать. Собрались пассажиры. Только тогда мы увидели, что этот человек мертв.
— После случившегося вы перенесли свои вещи сюда?
— Да, я перешел на свободное место.
— До какой станции едете?
— Мне выходить на конечной. Завтра днем.
— Хорошо. Оставайтесь здесь…
Я не без облегчения покидаю сильно прокуренное купе.
В коридоре меня встречает Волобуев.
— Ну как у тебя, розыск? С уловом?
— Пока ничего определенного, — уклончиво отвечаю я.
— На вот, почитай, — он протягивает мне протокол осмотра. — Эксперт еще там, не закончил, просил подождать. Внутри духотища — не продохнуть.
Мы пропускаем мимо себя понятых, фотографа, криминалиста и возвращаемся к восьмому купе. Стоя у двери, я осматриваю то, что теперь официально называется местом происшествия, читаю протокол. Он составлен подробно и тщательно, как всегда, когда дело ведет Юрий Сергеевич.
Слева на полке, застеленной для сна, я вижу чемодан с откинутой крышкой. В нем беспорядочной кучей свалено мужское белье и одежда со свежими бурыми пятнами. Такие же, еще не успевшие высохнуть пятна на наволочке и простыне. Рядом с чемоданом — небрежно брошенный пиджак, из которого в ходе осмотра извлечены документы, принадлежавшие умершему. Из них следует, что фамилия его — Рубин, звали Виталий Федорович. Родился 10 сентября 1939 года, уроженец города Свердловска, русский, не женат, судим в 1965 году за хищение государственного имущества, наказание отбыл, с последнего места жительства выписан три месяца назад.
Этим информация о покойном исчерпывается.
Судебно-медицинский эксперт продолжает осматривать перенесенный на правую нижнюю полку труп. На полу толстой меловой чертой обведен контур тела. Поза нарушила его пропорции, и кажется, что этот след оставил уродливый карлик с короткими кривыми ногами.
Еще раз перечитываю протокол осмотра.
На вещах Рубина, на двери, столике и полках следов, пригодных к обработке и идентификации, не обнаружено. Дверные ручки полны смазанных отпечатков пальцев, поверхность пола затоптана десятками пар ног.
Я возвращаю протокол Волобуеву. Бумагу, которую он, подписав, передает мне, можно и не читать, я уже понял, что теплые носки и телевизор переносятся до лучших времен. Сегодняшнюю ночь мне придется провести здесь, в вагоне.
— Юрий Сергеевич, позвони жене, — прошу я. — Прямо из отдела.
— Конечно. Езжай спокойно, я ей все объясню, — обещает он.
В коридор, надевая на ходу плащ, выходит эксперт.
— Пошли, пошли, товарищи, — торопит Волобуев. — До отправления четыре минуты.
Мы покидаем вагон и вместе с экспертом идем вдоль состава.
— Что скажете, Геннадий Борисович? — спрашивает Волобуев. Зная щепетильность эксперта, он задает вопрос мягко, без присущей ему напористости.
— Итоги подводить рано. — Эксперт поддерживает воротник плаща у горла, бережется от сырого осеннего ветра. — Кое-что можно сказать уже сейчас, но при условии, что мое предварительное мнение будет использовано только в оперативных целях…
Наше молчание принимается им за полное согласие.
— Смерть наступила больше часа назад, а точнее — около двадцати двух часов. Не позже. Возможно, даже чуть раньше, в пределах, скажем, пяти — десяти минут. Причина — непроникающее ранение в височной области. Нанесено тупым предметом. Рассечен кожный покров на затылке, кровь оттуда…
Геннадий Борисович сверхосторожен в оценках и выводах, но тем надежней полученные от него сведения.
— Скажите, а могли образоваться такие повреждения при падении с верхней полки? — спрашиваю я, но в этот момент из вагона выносят носилки с трупом.
Эксперт ждет, пока санитары установят их на тележку, а я тем временем замечаю, как занавески на нескольких окнах вагона раздвигаются. За стеклами видны размытые белые пятна — лица пассажиров. Наконец тележка отъезжает, и я повторяю свой вопрос. В ответ эксперт демонстрирует свои способности по части дипломатии.
— В данном случае утверждать это я бы не стал, но и полностью исключить такую возможность было бы ошибкой.
Мне приходится менять тактику:
— По показаниям свидетелей, смерть наступила от падения с верхней полки в двадцать три часа. Из ваших же слов получается, что на час раньше.
— Хотите сказать, что с полки в одиннадцать часов упал уже труп? Едва ли такое возможно.
— Почему? Это очень важно.
— Дело в том, что под труп натекло много крови. Такое количество могло излиться только сразу после падения, а смерть наступила в десять. Повторяю, в десять, а не в одиннадцать. Ошибка в шестьдесят минут исключена. Если он и упал, как утверждают ваши свидетели, то только в двадцать два часа.
— Как быстро наступила смерть?
— Мгновенно, — не задумываясь, отвечает эксперт.
— А кровь на вещах?
Я понимаю, что сморозил глупость и что Геннадий Борисович не замедлит этим воспользоваться.
— А это, извините, уже в вашей компетенции, — ехидно щурится он. — По-моему, ясно, что человек, получивший смертельную рану, за которой последовала мгновенная смерть, не может копаться в собственном чемодане. Или у вас другое мнение?
Я признаю свое полное поражение.
— На сегодня, к сожалению, все. — Он разводит руками. — Добавить мне нечего. Остальное завтра — после вскрытия.
Последние его слова перекрывает дребезжащий удар гонга, за которым следует объявление об отправлении поезда. Пассажиров просят занять свои места. «Будьте внимательны и осторожны», — советует диктор. «Постараюсь», — мысленно отвечаю ему я.
— Ну, с богом, — говорит Волобуев и пожимает мне руку.
Я хочу напомнить о звонке домой, но он уже подталкивает, обещает, что будет поддерживать связь по поездному радио.
Состав плавно трогается.
Вместе с сержантом из дорожного отдела милиции мы прыгаем на подножку пятого вагона.
Гаврилыч — проводник пятого вагона — сидит напротив меня и разливает свежезаваренный чай. Темно-янтарная жидкость заполняет тонкостенные стаканы, ее верхняя кромка покачивается в такт движению поезда, превращается поочередно то в правильную окружность, то в эллипс: окружность — эллипс, окружность — эллипс…
Мы молчим уже несколько минут. Мне необходимо собраться с мыслями и привести в систему противоречивые данные, которые успел собрать за время стоянки.
Итак, первое: смерть Виталия Рубина наступила не позже двадцати двух часов. Это установлено.
Второе: труп обнаружен в двадцать три часа, то есть спустя час после смерти Рубина. Обнаружили его двое с разницей, по их словам, в пределах минуты. Возможно, часы Янкунса отстают? На целый час? Но даже если это действительно так, часы Жохова не могут отставать тоже ровно на один час. Да и сообщение о случившемся поступило в милицию сразу после одиннадцати.
Третье: смерть наступила мгновенно. Однако на вещах Рубина, на подушке, простыне и наволочке — следы крови.
Четвертое обстоятельство: и Жохов, и Янкунс, обнаружившие труп, утверждают, что непосредственно перед этим слышали шум. Эта версия не выдерживает критики: кровь на полу под трупом свидетельствует, что покойник лежал там с двадцати двух часов.
Но если Рубин не падал с полки в двадцать три часа, то какой шум могли слышать Янкунс и Жохов?
Если Станислав Иванович ослышался — зачем тогда он заходил в восьмое купе? В то же время, если Янкунс в самом деле спал, то почему он не проснулся в десять, почему не дал знать о случившемся несчастье?
И главное: кто рылся в чемодане и постели погибшего? Что там искали? Из протокола осмотра видно, что ничего особенного, заслуживающего внимания среди вещей покойного нет. Может, потому и нет, что кто-то успел взять?
Как всегда, любое дело начинается с вопросов. Они кажутся сложными, неразрешимыми. Правда, в конечном счете ответы, как правило, найти удается, но в том-то и особенность, что гарантий нет никогда, каждый раз начинаешь с ноля: ждет ли тебя удача или ты потерпишь сокрушительное фиаско — этого не знает никто, в том числе и ты сам…
Проводник достает горсть пакетиков с сахаром. Я вскрываю один из них, опускаю в стакан два белоснежных кирпичика и жду, когда они растворятся и осядут на дно, — пить чай, не размешивая сахара, научил меня один знакомый медик: никакого вреда и полная иллюзия, что ни в чем себе не отказываешь.
— Гаврилыч, — спрашиваю я, отхлебывая обжигающую пахучую жидкость, — а правду говорят, что вы в заварку соду добавляете? Для цвета.
— Ежели кто экономит, так и добавляет, — философски отвечает Гаврилыч, — особенно в общем вагоне. — И уточняет: — Не сомневайтесь, я вам хороший заварил — «Бодрость» называется. В Москве для себя покупаю.
— Ну, спасибо. А что так мало пассажиров в вагоне?
— Так ведь южное направление. Да и октябрь уже на излете, — охотно объясняет он. — Это летом вся страна на колесах. Студенты, школьники, детишки с родителями. Солидная публика — та в сентябре отзагоралась, ну, может, октябрь чуть зацепила. А теперь вот почти порожняком гоняем — последних с курортов развозим. Так, середняк в основном, неудачники. Большому начальству поздно, а крестьянству рановато вроде, те зимой в основном.
Любопытные наблюдения, но пора переходить к делу.
— А что, все ваши пассажиры сели на одной станции?
— Да, как сели вместе, так и едут: от конечной до конечной. Если интересуетесь, билетики могу показать.
Он вытаскивает из ящика раскладную парусиновую сумку с множеством маленьких карманчиков и отдает ее мне. Я поочередно рассматриваю прямоугольники билетов, потом возвращаю в сумку. Все сходится.
— Постарайтесь вспомнить, что происходило в вагоне с девяти до одиннадцати часов.
Общительный и контактный Гаврилыч как-то сразу скучнеет, теряет интерес к разговору:
— А ничего особенного не происходило. Кто чай пил, кто спал, кто что…
— Так и запишем в протокол? — спрашиваю я.
— Протокол, протокол, — бурчит он, — чуть чего — сразу протокол. Я и так расскажу, скрывать мне нечего… Видно, скучно им было, пассажирам-то. Так они карты затеяли. Сели играть. Не положено, конечно. Азартные игры. Я им замечание сделал раз-другой, а им как с гуся вода.
— Ну вот, а говорите, ничего. Кто же играл в карты?
— Да все и играли.
— А где?
— В восьмом купе. До девяти резались. Ну да, до девяти, а потом разошлись.
— Виталий Рубин тоже играл?
— Это который того?.. — Проводник хмыкает: — А как же. Без него не обошлось. И парень этот, как его? Эрих, сосед, тоже, значит, там был. И грузин из четвертого, и муж дамочки из седьмого — фамилии, извините, не знаю — лысый такой.
— Жохов?
— Во-во, Жохов. Они вместе с Эрихом и пассажиром из пятого купе после карт в ресторан пошли ужинать.
— А остальные?
— Остальные по местам своим разошлись, куда ж тут еще денешься. У нас ведь не погуляешь, тесно.
— И когда эти трое вернулись из ресторана?
— Поздненько. — Гаврилыч пожевал губами, вспоминая. — Около одиннадцати. Как раз перед тем, как бедолагу этого, Рубина, значит, обнаружили.
— Давайте посчитаем, кто оставался в вагоне с девяти до одиннадцати, — предлагаю я и начинаю перечислять: — Рубин Виталий — раз, Тенгиз из четвертого купе — два. Кто еще?
— Жена этого лысого, — подсказывает Гаврилыч.
— Жохова — три. Еще?
— Ну и Родион. Вообще-то билет у него в седьмое купе был, с Жоховыми то есть, но он с самого начала попросил меня перевести его в свободное: неудобно, мол, с супругами, зачем мешать. А мне что — жалко? Если есть свободные места, я не против, пожалуйста. Открыл ему второе купе, постель выдал, там он и лег.
— Давайте-ка еще разок, что-то я совсем запутался. Значит, во втором купе едет Родион. В четвертом Тенгиз. В пятом кто?
— Не знаю, как его кличут. Тихий такой. Он в ресторан вместе с лысым и Эрихом ушел. В девять.
— Так, дальше. В седьмом — муж и жена Жоховы, — продолжаю я. — В восьмом — Эрих и Рубин. Правильно?
— Правильно. Больше никого. Посторонних в вагоне с самого отправления не было, только свои.
Я допиваю остатки чая и прошу проводника позвать ко мне Эриха Янкунса.
После разговора с Гаврилычем я окончательно убедился, что этот человек говорил мне неправду. Во всяком случае, не всю правду…
В дверном проеме появляется Эрих.
Некоторое время мы молча смотрим друг на друга. Проносящаяся за окном цепочка огней отбрасывает на его фигуру резкие блики света, и, будь у меня фантазия побогаче, я назвал бы эту немую сцену зловещей… Его лицо трудно назвать красивым: узкий лоб, прямой крупный нос, капризно сжатые губы. Ему не больше тридцати — тридцати трех. Чисто выбрит, аккуратно подстрижен. Я не большой физиономист, но о таких людях почти безошибочно можно сказать, что они скрытны, самолюбивы, обидчивы и легко ранимы.
Однако молчание затянулось, и я приглашаю его войти.
— Проходите, Эрих, садитесь. — «Электроника» на моей руке показывает семь минут первого. Начались новые сутки. — Расскажите, пожалуйста, чем вы занимались между девятью и одиннадцатью часами.
— Спал, как все нормальные люди, — отвечает он с вызовом, давая понять, что беседа в столь поздний час не доставляет ему удовольствия.
Что ж, мне тоже.
— Если я вас правильно понял, вы легли в девять и спали все это время?
— Не совсем так.
— Уточните.
— До девяти мы играли в преферанс. Вас это тоже интересует? Могу рассказать о ходе игры.
— Пока в этом нет необходимости, — говорю я и, чтобы он не обольщался, повторяю: — Пока нет. Когда вы сели за карты?
Кажется, он сообразил, что от него требуется.
— Хорошо, я скажу. Сели мы в шесть. Играл Тенгиз, вы его видели. Играл еще Лисневский…
— Как зовут Лисневского, не знаете?
— Как будто Родион, но я не уверен.
— Продолжайте.
— Играл Виталий Рубин и я. В начале десятого закончили. Я вместе с Квасковым…
— Кто такой Квасков? — вновь перебиваю я.
— Он из пятого купе.
— Так. И что же вы сделали вместе с Квасковым?
— Пошли в вагон-ресторан поужинать. Вместе с нами пошел Жохов. Около десяти я ушел и лег спать. Остальное вы знаете: услышал шум, проснулся, увидел на полу Рубина.
— Когда вы вернулись из ресторана, он был еще жив?
Задавая вопрос, я не рассчитывал застать собеседника врасплох, однако это случилось. Он опустил голову, пробормотал что-то на незнакомом мне языке, потом неуверенно, запинаясь, ответил:
— Я не знаю… то есть я не знаю, жив он был или нет…
— Он лежал неподвижно?
— Не знаю.
— Но он находился в купе?
— Там было темно.
— А свет? Вы что, не включали свет?
Он отрицательно мотнул головой.
— Стало быть, вы хотите сказать, что после возвращения из вагона-ресторана вы не видели Рубина?
— Я думал, что он спит на верхней полке.
Очень оригинально: пассажир раскладывает постель на нижней полке, а спать ложится на голой верхней!
Но самое интересное другое: Рубин в это время был уже мертв. Выходит, Эрих перешагнул через труп и лег спать?!
Конечно, можно уличить Янкунса во лжи, можно зажать в угол вопросами, апеллировать к совести, но я чувствую, что есть что-то, что в данный момент сильнее любых моих доводов, сильнее его самого, и что прояви я настойчивость, он окончательно замкнется, а мне надо выудить из него еще очень многое.
— Ладно, — поразмыслив, сдаюсь я, — а вы не допускаете, что Рубин просто вышел из купе? Вышел, а потом, когда вы уже заснули, вернулся.
— Я думал, что он спит на верхней полке, — повторяет Эрих и отводит свои голубые с примесью серого глаза, похожие сейчас на холодные скользкие льдинки.
— Вы быстро заснули?
— Сразу.
— Получается, что могли не услышать, если кто-то входил в купе в этот промежуток времени?
— Я спал крепко.
Делаю паузу, чтобы осмыслить услышанное, а может, чтобы дать ему еще один шанс сказать правду. Но Янкунс этим шансом не пользуется — молчит.
— Итак, вы проснулись от шума?
— Да, от шума, — подтверждает он и тут же поправляет себя, в точности повторяя интонации Жохова: — В общем, были какие-то звуки… Но я не утверждаю… Как это сказать по-русски? Может, мне привиделось… да-да, привиделось во сне…
Сказав это, Эрих вымученно улыбается и, желая придать своим словам больше убедительности, добавляет:
— Жохов ведь тоже слышал шум. Я и подумал…
— Так вы слышали или подумали, что слышали? — пытаюсь шутить я, но ирония на него не действует.
— Не знаю, скорее всего, не слышал…
В наступившей тишине я слышу какой-то посторонний звук. Уж мне-то он точно не «привиделся». Быстро подхожу к двери, резко ее открываю и вижу метнувшегося в сторону проводника. Подслушивал!
Я подзываю его к себе. Гаврилыч неохотно, виновато понурясь, приближается и останавливается в двух шагах.
— У вас есть ключ от тамбура?
— Есть.
— Закройте двери между вагонами. Ключ отдайте сержанту и оставайтесь с ним до моего особого распоряжения. Ясно?
Он поспешно кивает и исчезает за дверью, а я возвращаюсь к Янкунсу.
— Эрих, почему вы ушли из ресторана раньше, чем остальные?
— Меня не устраивала компания.
— Кто именно? Жохов или Квасков?
— Оба. Жохов выпил много пива и вел себя несносно. А Квасков молчал, будто немой.
— А в чем конкретно выражалось несносное поведение Станислава Ивановича?
— Ну, не знаю… Просто неприятный человек. Жалобы, какие-то угрозы…
— А если еще конкретней?
Янкунс внимательно смотрит на меня, точно взвешивая, стоит ли посвящать меня в свою тайну. Потом, решившись, говорит быстро, заметно волнуясь:
— Вы — сыщик. Вы должны хорошенько в этом разобраться. — В спешке он пропускает предлоги, но все так же тщательно подбирает слова: — Это очень темная история. Я не хочу наговаривать напрасно. Жохов угрожал подраться Виталием. Он очень ревнивый. Как Отелло.
— У него что же, были основания ревновать?
И снова реакция моего собеседника заставляет подозревать, что он не готов к ответу. Одно из двух: или он ведет сверхтонкую игру, смысла которой я пока не понимаю, или проговорился и теперь постарается увести разговор в сторону.
— Наверно, были, — наконец решается сказать он, и у меня возникает ощущение, что в этот момент он кого-то предал. — Когда мы играли преферанс, — продолжает Эрих, — Рубин выходил из купе. А в ресторане Жохов сказал нам, что потом нашел у жены зажигалку Виталия. Вы не сомневайтесь. Это чистая правда.
Последние слова косвенно подтверждают то, в чем я успел убедиться раньше: у Янкунса две правды — чистая и нечистая. И та, что нечистая, — самое настоящее вранье.
— Вы не помните, на какое приблизительно время Рубин выходил из купе во время игры в карты?
— Всего на несколько минут.
— Какие именно угрозы высказывал Жохов?
— Он ругался, угрожал, сказал, что разделается с «этим щенком»…
Я чувствую, что продолжать разговор бессмысленно: любой мой вопрос будет теперь работать на уже определившуюся версию — версию, которую подбросил мне Янкунс, а ее сильные и слабые стороны еще предстоит проверить.
Я отпускаю Эриха и выхожу следом за ним.
Вижу, как переглядывается он со стоящим в проходе проводником. Гаврилыч, словно его застали на месте преступления, смущается, делает вид, что рассматривает расписание движения поездов, висящее на стене вагона. Когда я прохожу мимо, он втягивает живот и пропускает меня в тамбур.
— Возвращайтесь к себе, — говорю я ему.
Веснушчатый сержант вскакивает с откидного сиденья и вопросительно смотрит на меня.
Я сижу на откидном сиденье. Мне есть о чем подумать.
Проводник подслушивал наш разговор. Даже если допустить, что это простое любопытство, то взгляды, которыми они обменялись с Эрихом, на любопытство не спишешь. Такие взгляды иногда говорят больше слов, тем более если это слова Янкунса.
Какая связь может существовать между ним и проводником? В том, что их что-то связывает, я почти не сомневаюсь. Но что?
Я думаю об этом и тогда, когда объясняю сержанту задачу: глядеть в оба и ни под каким предлогом без моего ведома не выпускать пассажиров из вагона.
В окнах по обе стороны отражается внутренность тамбура, наши с сержантом лица. За толстыми двойными стеклами, покрытыми с внешней стороны дрожащими каплями дождя, темно. Изредка сквозь густую мглу проглядывают мутные, едва различимые просветы между деревьями, но они проносятся так быстро, что кажется, будто состав несется между двумя высокими глухими стенами по бесконечному черному тоннелю. Мрачноватая картина, что говорить, но и положение отнюдь не блестящее, это тоже надо признать.
Ритмичный стук колес напоминает о времени. Его крайне мало — каждая минута на счету. В нашем распоряжении одна только ночь. Завтра, по прибытии поезда на конечную станцию, пассажиры разойдутся, разъедутся кто куда, и тогда ищи ветра в поле…
«Кто из них? — думаю я. — Кто?!»
Мысли возвращаются к Янкунсу. В его показаниях при всей их сомнительности есть рациональное зерно: Жохов, вернувшись в свое купе после карточной игры, обнаружил у жены зажигалку Рубина. Не бог весть какая улика, но ее оказалось достаточно, чтобы приревновать Виталия, угрожать ему расправой…
Интересно, если бы Эрих подслушал мои мысли, обрадовал бы его ход моих размышлений? Хотел бы я это знать…
На этот раз я стучу гораздо громче и терпеливо ожидаю, когда кто-то отреагирует на мой приход. Дверь седьмого купе отодвигается. Ко мне выходит Жохова — ошибка исключена, она — единственная женщина во всем вагоне.
— Вам мужа? — спрашивает она.
— Нет, я хотел побеседовать с вами, — как можно любезней отвечаю я. — Всего несколько вопросов.
— Я вас слушаю.
— Здесь не совсем удобно. Давайте выйдем.
Она послушно следует за мной в служебное купе.
При нашем появлении проводник демонстрирует свои телепатические способности по части взглядов: без слов понимает меня — выходит, плотно притворив за собой дверь.
Я представляюсь по всей форме, предъявляю свое удостоверение, которое, впрочем, мою собеседницу явно не интересует.
— А теперь назовите ваше имя и отчество, — прошу я.
— Жохова Татьяна Николаевна, — отвечает она сухо.
— Скажите, вы знали раньше пострадавшего из соседнего купе?
— Нет.
— Его фамилия Рубин, имя — Виталий. Может, слышали?
— Нет, я его не знаю, — повторяет она. — Видела мельком при посадке, потом в вагоне, а знакома не была.
Вагон слегка тряхнуло. Доносится короткий гудок, поезд замедляет ход. Мимо проплывает скопище огней, станционные постройки. Состав останавливается, и мы оба смотрим в окно на освещенное прожекторами здание вокзала.
— Татьяна Николаевна, что за история произошла у вас с зажигалкой, расскажите, пожалуйста.
— С зажигалкой? — делает она удивленное лицо, не особенно при этом удивляясь.
— Ну да, с зажигалкой, — я прощаюсь с надеждой на легкую, непринужденную беседу.
— Какая ерунда. Кто вам сказал?
В свою очередь я тоже делаю вид, что не слышал вопроса.
— Не пойму, о чем вы? — настаивает она.
И мне приходится объяснять, хотя сам довольно смутно представляю, о чем идет речь:
— Я говорю о том предмете, который обнаружил ваш супруг после того, как вернулся из восьмого купе. Это было в двадцать один час.
— Ах вот оно что?! — Ее тонкие, оттененные карандашом брови хмурятся. — Эту зажигалку подарила мне приятельница.
В подтексте звучит: «Охота вам заниматься такими мелочами?»
«Неохота, — мысленно отвечаю я, — но что делать, работа».
А вслух спрашиваю:
— Фамилия, имя и отчество приятельницы, ее адрес?
Татьяна Николаевна бросает на меня полный презрения взгляд, прикусывает нижнюю губу. Сейчас она соврет, это точно. «Но если подруги не существует, — думаю я, слегка опережая события, — то кто принес зажигалку в купе? Рубин?»
— Фамилия ее Лаврова, — выдавливает из себя Жохова. — Зовут Надя. Отчества, простите, не знаю. Адреса тоже.
— Из какого она города?
— Кажется, из Ленинграда, но это неточно.
— Она отдыхала вместе с вами?
— Нет, мы отдыхали по путевке, а она — без.
— Опишите ее.
— У меня неважная зрительная память. Ну, она такая… ну, худенькая… — На этом ее фантазия иссякает, взгляд становится беспомощным, просящим.
— Вы можете показать зажигалку?
Жохова отрицательно качает головой:
— Она куда-то пропала.
Только этого не хватало!
— Я все вещи перерыла, — продолжает Татьяна Николаевна. — Она будто сквозь землю провалилась. Даже не знаю, что и думать…
Я тоже. В отличие от мифической подруги, заявление о пропаже выглядит довольно убедительно, во всяком случае, похоже, что моя собеседница искренне расстроена потерей этой вещи.
— Как она выглядела?
— Очень изящная вещица. Из старинных. Корпус из слоновой кости, а сверху серебряный футляр, витой, из стеблей и цветов. Я оставила ее на столике в купе, и вот…
— Скажите, а Станислав Иванович — он что же, не знал о подарке вашей ленинградской приятельницы?
— Я не успела ему сказать. Она подарила зажигалку перед самым отъездом. Муж ее увидел и…
— И на этой почве вы поссорились?
Она небрежным жестом поправляет прическу, и это движение говорит мне о ней больше, чем все, сказанное до сих пор. Ей лет под сорок, и, по-видимому, она страдает той же болезнью, что и супруг, — старается произвести впечатление, с одной лишь разницей: Станислав Иванович хочет выглядеть значительным, а Татьяна Николаевна — моложе и привлекательней. Эффектно и не без кокетства она закидывает ногу на ногу, показывая мне обтянутые узорными колготками колени.
— Итак, между вами произошла ссора?
— Вы, я вижу, хорошо осведомлены? — парирует она.
Скромность украшает человека, но в данном случае я предпочитаю обойтись без украшений:
— Возможно, больше, чем вы думаете.
Она опускает ресницы, чтобы погасить вспыхнувшую во взгляде неприязнь.
— Не понимаю, зачем в таком случае вам я?
— Хочу знать еще больше.
Она морщится, как от зубной боли, но все же отчасти удовлетворяет мое любопытство:
— Мужчины ревнивы, и Станислав Иванович не исключение. — Жохова вздыхает: мол, что делать, приходится терпеть. — Он выпил лишнего, с ним это случается, и когда вернулся… Бог знает что пришло ему в голову. Придрался к зажигалке, стал упрекать меня в неверности. Ему, видите ли, показалось, что эту вещь оставил в нашем купе Рубин — так, кажется, вы его назвали. Станислав Иванович начал фантазировать, будто он, Рубин, приходил ко мне, ну и так далее…
— Скажите, подобные сцены имели место раньше?
— Станислав Иванович, — она упорно называет мужа по имени и отчеству, — ревнив сверх меры, но столь острого объяснения я не припомню. — Татьяна Николаевна меняет наклон головы, и я вижу мелкую сетку морщин у переносицы, искусно скрытую слоем косметики. — Он говорил всякие гадости и вообще… не заставляйте меня повторять этот бред.
— В котором часу ушел из купе ваш муж?
— В начале десятого. Как раз в то время, когда в соседнем купе находился грузин.
— Вы имеете в виду восьмое?
— Да, восьмое.
— Откуда вы знаете, что в купе у Рубина кто-то был?
— Они так ругались, что голоса были слышны через перегородку.
— А почему вы думаете, что вторым был грузин?
— Один из них говорил с сильным акцентом.
— Как долго это продолжалось?
— Несколько минут. Я легла спать и заснула. Проснулась уже около одиннадцати…
Я подвожу итог нашему разговору:
— Значит, между девятью и десятью вечера Виталий Рубин к вам в купе не заходил?
— Нет, — твердо отвечает она.
Поблагодарив Татьяну Николаевну, я еще несколько минут сижу молча, переваривая то, что услышал. Потом выхожу в тамбур.
Поезд трогается с места, медленно набирает скорость.
Гаврилыч уткнулся в стекло входной двери и пристально смотрит на уплывающее в темноту здание вокзала.
Я прошу открыть мне свободное купе.
Мы возвращаемся в вагон и останавливаемся у двери с цифрой три. Щелкает замок. Гаврилыч быстро проходит к столику и резким, сильным движением поднимает оконную раму.
— Вот вам купе — устраивайтесь.
— Позовите ко мне Тенгиза, — прошу я и прибавляю: — Пожалуйста.
— Из четвертого? — уточняет он. — Сей момент.
Через минуту ко мне заходит полный мужчина в майке с мультипликационным волком на груди и в спортивных трикотажных брюках. Его загорелое лицо добродушно, слегка заспано, а губы, растянутые в улыбке, обнажают ослепительно белые зубы. Впрочем, один из них в блестящей золотой коронке.
— Ваша фамилия? — спрашиваю я.
— Зачем, слушай, фамилия? — удивляется он. — Тенгиз меня зовут. Я тебе без фамилии все скажу. Надо будет — всю ночь буду рассказывать…
Я беру протянутый им паспорт. Читаю.
— Скажите, Чаурия, — это его фамилия, — вы ссорились с пассажиром из восьмого купе?
— Виталием, да? — Он грузно опускается на противоположную полку, пожимает плечами, отчего волк на его груди строит мне уморительную гримасу. — Знал, что спросишь. Ругались мы, да, ругались. Как мы могли не ругаться? Играли в карты, понимаешь, а он спекулянтом называет. За что?! Я не вор, свои фрукты везу, не чужие. А он говорит: «Миллион с трудового народа сдирать едешь». Какой миллион?! Какой сдирать?! Своими руками копаю, своими руками ращу, какой, слушай, спекулянт, а?! Я и есть трудовой народ, понимаешь. Два мешка мандаринов везу — у меня справка сельсовета есть. Я честный колхозник! Чаурию каждый знает, он не спекулянт! Сейчас справку покажу…
Мандарины меня не интересуют, поэтому я останавливаю Чаурию, когда он лезет в задний карман за справкой.
— Этот разговор был во время игры?
— Да.
— А что вы делали после?
— Что делал? Ничего не делал. Чай пил.
— В восьмое купе заходили?
Стыдливо потупив взор, Чаурия подтверждает:
— Да, слушай, заходил. А ты бы не зашел?! Объяснить человеку надо? Справку сельсовета показать надо? Дорогой, говорю, зачем обижаешь? Зачем спекулянтом называешь? Я не спекулянт, я колхозник! У меня, говорю, справка есть, свои фрукты везу…
— И чем закончился ваш разговор?
— Извинился, — небрежно отвечает Тенгиз. — Сказал, что неправ был.
— В котором часу это происходило?
— Может, в девять, может, позже. Я ушел от него, а он в седьмое купе пошел.
— К Жоховой?
— Откуда я знаю: к Жоховой, не к Жоховой! Кто такой Жохова? Муж и жена там едут. Родион едет. Виталий зашел туда, а я пошел к себе чай пить. Потом в ресторан пошел — кушать захотел. Пришел оттуда, не успел спать лечь, как закричал кто-то. Выскочил я, а тут такое творится!
— Получается, что после девяти вы Рубина не видели?
— Совсем не видел. Скажу по секрету — нехороший человек Виталий. Со мной ругался, с Родионом ругался. Скандальный человек, не мужчина…
— С Родионом он тоже ссорился?
— А как же! Конечно, ссорился. Когда в карты играли.
— Из-за чего — не знаете?
— Вот этого, дорогой, не знаю.
Больше вопросов у меня нет, и я провожаю Чаурию.
Гаврилыч встречает меня в коридоре и приглашает выпить чаю. В надежде получить заодно и печенье я захожу в служебное купе и устраиваюсь на застеленной матрацем полке.
Только теперь я чувствую, как устали глаза от тусклого вагонного освещения, как хочется спать, а конца все еще не видно.
— Вы уж покрепче заварите, — прошу я. — И печенье, если можно. Утром рассчитаемся за все сразу.
— Обижаете, какие счеты.
Он неуклюже двигается в тесном купе. На столе появляется стакан в традиционном эмпээсовском подстаканнике и пачка печенья «Привет». Я делаю большой глоток и застываю с открытым ртом — обжегся. Перестарался Гаврилыч, но, что ни делается, все к лучшему: сон как рукой снимает. У меня назревает вопрос, и я задаю его в оплату за оказанное мне гостеприимство:
— Вчера вечером вы разносили чай по купе?
— Разносил, — отвечает проводник.
Я молчу, надеясь на его догадливость, и он не обманывает моих ожиданий, начинает рассказывать сам.
— Как положено. В половине десятого. Родиону подал во второе купе — я вам уже говорил, он хотел спать отдельно. Грузину принес в четвертое. Зашел в восьмое, оставил там два стакана. В седьмое тоже заходил. Там была дамочка — жена лысого гражданина — и этот, пострадавший.
— Рубин? — переспрашиваю я как можно равнодушней, чтобы не спугнуть удачу.
— Он самый.
— И что они делали?
— Что делали? — Гаврилыч морщит лоб. — Да ничего. Сидели. Я поставил чай и ушел. Сколько он там оставался — не знаю. Когда я стаканы собирал, его уже там не было.
— А когда вы собирали стаканы?
— Вроде десять уже было.
Вот оно! В десять Рубин был уже мертв.
— Расскажите, кто и где находился в это время, — прошу я, не меняя тона.
— Грузина в купе уже не было, стакан стоял пустой, и я его забрал. В седьмом дамочка была одна, а восьмое было закрыто. Я постучал — не отвечают. Ну, думаю, завтра и стакан заберу и за чай получу. Вот, стало быть, и получил.
— А Родион из второго купе где находился?
— Чай выпил и ко мне пришел. Скучно, видно, стало, не спится человеку. Я пошел стаканы собирать, и он со мной за компанию. Потом посидели с ним минут пяток, еще чайку выпили, и он спать отправился…
Дверь открывает худощавый, неопределенного возраста мужчина. Ему можно дать и сорок и все шестьдесят: гладко зачесанные назад волосы подозрительно черного цвета — вероятно, крашеные, — щеки гладкие, розовые, но на лбу и в углах рта глубокие, словно шрамы, морщины.
Несмотря на поздний час, его костюм в полном порядке. Пестрый галстук, жилетка, видавший виды, но чистый пиджак, и даже краешек платка из кармана выглядывает.
— Лисневский Родион, — представляется мужчина. Вместо «р» он произносит мягкое «в», отчего получается забавное «Водион».
— А отчество? — спрашиваю я.
— Не слишком ли официально для заполуночной беседы? А впрочем — Романович.
Знаменательное совпадение!
— Вы, наверно, по поводу несчастного случая? — продолжает он.
Я киваю и задаю ставший традиционным вопрос:
— Меня интересует, чем вы занимались между девятью и одиннадцатью вечера.
Он улыбается и вытаскивает из кармана пиджака портсигар из слоновой кости, покрытый тонкой серебряной вязью.
Про себя отмечаю, что в таком портсигаре пристало держать дорогие сигареты, может быть, даже сигары, но уж никак не «Астру», которой угощает меня хозяин этой шикарной вещицы.
— Вы спрашиваете, чем я занимался? Чем обычно занимаются мужчины, дабы скоротать свободный вечер? — «Вечер» он произносит без последнего «р», зато «скоротать» звучит интригующим «сквотать». — Играл в преф, побаловался чайком, потом баиньки. Сами понимаете, в пути выбор развлечений невелик.
Лисневский щелкает портсигаром и прячет его в карман.
— Меня интересуют подробности.
— Какие подробности?
— Всякие. В частности, ваша ссора с пострадавшим.
— Ага, — говорит Лисневский.
И с этого момента наши едва зародившиеся отношения вступают в новую фазу. На смену светской улыбке, как и следовало ожидать, приходит легкое раздражение. Он вытаскивает огромные часы-луковицу, недвусмысленно смотрит на ажурные стрелки, намекая на время.
— Пусть это вас не смущает, — говорю я. — В экстренных случаях мы имеем право беспокоить свидетелей в ночное время.
— Да-да. — «Водион» рассеянно смотрит куда-то поверх моей головы, скорей всего на свое собственное отражение в зеркале. — Случай, безусловно, экстренный…
— Итак, Родин Романович?
— Вас, наверно, смущает совпадение имен? — делает он следующую попытку уйти от вопроса. — Просто покойный родитель чрезмерно увлекался Федором Михайловичем…
— Родион Романович, меня интересует, при каких обстоятельствах произошла ваша ссора с Виталием Рубиным.
— С усопшим? — уточняет Лисневский и чешет висок длинным ногтем указательного пальца. — Собственно, ссора ли это? Он действительно вел себя вызывающе. Оскорбил Тенгиза, назвал меня мошенником, но, согласитесь, не вызывать же мне его на дуэль, а драться по такому поводу интеллигентному человеку просто глупо. К тому же мы с ним в разных весовых категориях.
— Так и не выяснили отношений?
— После игры я его не видел. Вас, кажется, интересует именно это? — Лисневский поправил узел галстука, хотя необходимости в этом не было. — В девять я вернулся к себе в купе. Там застал семейную сцену. Я, признаться, не любитель острых ощущений, поэтому попросил проводника перевести меня в свободное купе, что он и сделал. Милейший человек. Далее: я перешел во второе купе, побаловался чайком и лег спать.
— В котором часу баловались?
— Увы, не засек. — Он разводит руками. — Не имею привычки.
— Когда проводник убирал стаканы, вы уже спали?
— Ах да, совсем упустил. После чая я решил совершить нечто вроде вечернего моциона. Зашел к проводнику, поболтал с ним, так сказать, на вольные темы, а уж потом пошел к себе.
— Рубина, конечно, не видели?
— Только мельком. — Лисневский изящным щелчком сбивает невидимую пылинку с лацкана пиджака. — Он направлялся к себе, но, откровенно говоря, у меня не было ни малейшего желания общаться с этим типом.
— Кто, кроме вас, играл в карты?
— Рубин, Эрих и Тенгиз.
— А кто присутствовал при этом?
— Квасков и мой сосед Жохов.
— В каком купе едет Квасков?
— Володя? В пятом.
— Скажите, Родион Романович, почему вы не пошли вместе со всеми в ресторан?
— Я, знаете ли, поиздержался за время отпуска. В настоящее время, что называется, стеснен в средствах.
— Понятно. Ну а в период между десятью и одиннадцатью никуда из купе не отлучались?
— Спал, как сурок. — Он натянуто улыбается, но тут же улыбка сбегает с его лица, и, подавшись вперед, он проникновенно заглядывает мне в глаза: — Я вас очень прошу, бога ради, не вмешивайте вы меня в эту историю. Поверьте, что я не имею к ней ни малейшего отношения.
— А кто имеет? — спрашиваю я тем же тоном. — Может, подскажете? Время-то позднее.
Он выпрямляется, и мы некоторое время слушаем перестук колес, думая каждый о своем.
Когда я выхожу, на щеках «Водиона Вомановича» горит яркий румянец.
Мои попытки сдвинуть с места оконную раму ни к чему не приводят. А жаль — глоток свежего воздуха мне бы не помешал. Выхожу в коридор и стучу в пятое купе.
— Квасков? — спрашиваю у заспанного мужчины, появившегося на пороге.
— Так точно, — отвечает он, массируя веки пальцами. — Владимир Квасков.
— Разрешите войти?
— Конечно, — он пропускает меня к себе в купе.
Постель смята — хоть один человек в вагоне спал спокойно. На откидном столике стоит початая бутылка боржоми.
— Где брали? — спрашиваю у Кваскова.
— В ресторане. Хотите?
— Не откажусь.
Я наполняю стакан и жду, пока в нем прекратится извержение пузырьков.
— Вы догадываетесь, по какому я поводу?
— Догадываюсь, — отвечает он.
— Расскажите, чем вы занимались между девятью и одиннадцатью часами вчера вечером.
— Одну минуту, дайте припомнить. Значит, так: до девяти смотрел, как в восьмом купе играли в преферанс. Пошел в ресторан ужинать. Сидел один. Минут через десять пришли соседи по вагону: Станислав Иванович и этот, что из Прибалтики.
— Эрих?
— Не знаю, кажется, Эрих. Он посидел с полчаса и ушел, а мы остались. Так… Постойте, около десяти в ресторан пришел еще один. Тенгиз из четвертого купе, но он сел отдельно. В одиннадцать мы со Станиславом Ивановичем вернулись в вагон. Не успел я раздеться, как услышал крики. Вышел узнать, что случилось. Оказывается, мужчина из восьмого купе разбился.
— Не помните, с кем он ссорился во время игры?
— Ну, поругался с Тенгизом и с тем… пижоном.
— Лисневским?
— Да, с ним. Назвал его мошенником — не знаю почему. Я ведь за игрой не очень-то следил, сидел так, за компанию, от скуки. А с Тенгизом он сцепился из-за мандаринов, которые тот везет с собой.
— Вы долгое время находились в ресторане со Станиславом Ивановичем. О чем говорили?
— Это целая история. — Квасков показывает на бутылку: — Будете еще?
— Спасибо, — отказываюсь я.
Он делает несколько глотков прямо из горлышка.
— Значит, так. Станислав Иванович нашел у себя в купе зажигалку, вроде бы не свою, а этого… Рубина. Ну, закатил жене скандал, заподозрил, что, пока его не было, Рубин заходил к его жене. В ресторане только об этом и говорил. Обещал расправиться с ним, жене своей угрожал и всем на свете. Мне, знаете, даже надоедать стало, тем более что он солидно под градусом был, пива набрался, а пьяный человек, сами понимаете…
— Почему же вы не ушли, как Эрих, например?
— В том-то и дело. Он ведь попросил меня удержать Станислава Ивановича в ресторане как можно дольше.
— Кто, Эрих?
— Да.
— А чем он это объяснил?
— Сказал, что нехорошо получится, если Станислав Иванович в таком состоянии вернется в вагон. Начнет, дескать, приставать к пассажирам, скандалить…
На короткий промежуток времени я перестаю слышать Кваскова. Все, что касается Янкунса, вдруг выстраивается в одну логическую цепь. Оказывается, в ресторан пошли не втроем, а сначала Квасков, а уж за ними Эрих с Жоховым. Следовательно, Эрих привел Станислава Ивановича, Эрих оставил его на попечение Кваскова, Эрих попросил, чтобы тот задержал Жохова как можно дольше. Очень любопытно!
— Вы знали Рубина раньше?
— Вроде нет.
— А других пассажиров?
— Тоже.
— Станислав Иванович не показывал вам зажигалку: ту, что нашел у себя в купе?
— Нет, не показывал, но я видел ее во время игры. Она лежала на чемодане, и все, кто там был, прикуривали от нее.
— Это была зажигалка Рубина?
— Откуда же я знаю, чья она. Может, и его, но пользовались ею все курящие.
— Вы выходили из ресторана между десятью и одиннадцатью?
— Да, на пару минут. Вместе со Станиславом Ивановичем. Он, я уже говорил, был сильно пьян, и я отвел его в туалет.
Я желаю Кваскову спокойной ночи и выхожу в тамбур.
Сержант — его зовут Сережа — ни о чем меня не спрашивает, но я вижу, что ему не терпится узнать, продвинулся ли я за полтора часа непрерывных поисков.
Что ж, можно и рассказать.
— Попробуй-ка решить такую задачку, — начинаю я, предварительно убедившись, что за дверью нет любознательного Гаврилыча. На всякий случай я оставляю ее открытой. — Возвращаются из отпусков семь человек. Друг с другом незнакомы, но в пути завязываются какие-то отношения: разговоры, мелкие ссоры, карты, ужин в ресторане. И вдруг одного из них находят мертвым.
— Я читал этот детектив, — прерывает меня сержант. — В Англии дело было.
— Да ну?! И ты, значит, решил, что в поездах убивают только англичане?
— Да нет, — смущается он.
— Ладно, слушай дальше, — продолжаю я. — Смерть наступила от раны, нанесенной тупым предметом в висок. В десять вечера. Установлено, что в вещах убитого кто-то рылся. Таковы факты. Теперь о пассажирах. Заметь, Сережа, ни одного англичанина, все наши. В четвертом купе…
О том, кто едет в четвертом купе, я сказать не успел.
В вагоне раздается душераздирающий женский крик.
Мы выскакиваем в коридор и бежим к седьмому купе, у которого стоит Жохов. Его белое, цвета алебастра, лицо выражает крайнюю степень испуга. Увидев меня, он делает шаг назад и шепчет едва слышно:
— Я убил человека…
На полу, охватив голову руками, неподвижно лежит Родион Романович Лисневский.
Я нагибаюсь, переворачиваю его на спину и вижу, как из его ладони выскальзывает инкрустированная серебром зажигалка.
Веки Лисневского вздрагивают. Он приоткрывает глаза, силится что-то сказать, но ему это не удается. Из уголка рта выкатывается тонкая струйка крови.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ВИЗИТ ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ
Я оставляю Лисневского на попечение сержанта, а Жохова увожу с собой в третье купе.
Станислав Иванович пассивен, его плечи безвольно опущены вниз. Сейчас особенно заметно, что ему далеко за пятьдесят.
Усаживаю его, выжидаю минуту-другую. Постепенно к нему возвращается присутствие духа. Он осмысленно смотрит на меня, делает несколько судорожных вздохов и начинает говорить, по привычке жестикулируя руками:
— Мы легли спать… я уже заснул… вдруг слышу Танин крик… Меня как подбросило… вскочил — вижу, мужчина… В купе темно, лица не разглядеть… Я ударил что есть силы, он упал…
Я выжидаю еще минуту, пока он окончательно придет в себя.
— Вы верите мне? — Его рука прочертила в воздухе что-то, отдаленно похожее на вопросительный знак. — Верите? Я не хотел, но жена… Она так сильно кричала… После того, что с нами со всеми было, нервы на пределе…
— Я вам верю, — успокаиваю я Станислава Ивановича. — И потому постарайтесь припомнить, что происходило в восьмом купе во время игры в преферанс. Это очень важно.
— Преферанс? — Жохов обеими руками гладит свой лысый череп. — Ах, преферанс… Я не играл. Я наблюдал… Вы серьезно интересуетесь?
— Вполне, — заверяю его я.
— Ну что происходило? Очко было по две копейки. Постепенно игра захватила, игроки стали нервничать. Один мизер раз десять играли, не говоря уже о восьмерных. Сели после обеда, а пуля была до пятисот. Закончили в девять. Не обошлось без эксцессов. Лисневский не снес карты, играя в мизер, а Виталий, когда разложили, заметил это и обозвал мошенником.
— А Тенгиз? — подсказываю я.
— Да-да, Тенгиз. Когда стали подсчитывать, оказалось, что больше всех проиграл он. Тогда Рубин сказал: «У спекулянтов денег много, не обедняешь». Ну, Тенгиз, естественно, взорвался. В общем, стычка была основательная, они ругались даже после того, как все разошлись.
— А вы ссорились с Рубиным? — осторожно спрашиваю я.
— Я с ним не ссорился, — отвечает Жохов. — Если хотите знать мое личное мнение — он неприятный человек.
— Почему?
— Эти стычки во время игры, придирки, эти его анекдоты… Не сочтите меня ханжой, но должен же быть предел цинизму! Его сальные шутки вызывали тошноту.
— Что вы делали после, когда ушли из восьмого купе?
— Во время игры все мы выпили, и, когда вернулся к себе, я повздорил с женой. Настроение испортилось, чувствовал себя скверно и решил пойти в ресторан, тем более что меня пригласил туда Эрих. Там мы подсели к Кваскову и пробыли до закрытия. Верней, Эрих через полчаса ушел, а мы с Квасковым остались.
— Вспомните, о чем вы говорили?
— О разном, — уклоняется от ответа Жохов.
— Станислав Иванович, мне бы хотелось, чтоб вы были более откровенны.
— Но я действительно не помню.
— Вы о многом умалчиваете. Ведь вы угрожали Рубину. Ругались с ним. Мало того, причиной вашей ссоры с женой было не плохое настроение, как вы меня только что уверяли. Положение более чем серьезно, и мой вам совет: будьте правдивы.
Он вскидывает руку, очевидно собираясь доказывать что-то, но тут же бессильно ее опускает. Возможно, в этот момент он вспоминает о Лисневском.
— Хорошо, слушайте… Когда я вернулся в свое купе, то увидел на столике зажигалку этого подлеца. Ну и вспомнил, что во время игры он выходил на несколько минут из купе. Связав эти два факта, мне не оставалось ничего другого, как сделать вывод… — В его голосе появляется трещинка. — Если бы Таня хоть как-то объяснила мне эти совпадения. Она могла бы сказать, что Рубин действительно заходил к нам в купе по какому-нибудь делу или еще что-то. А она порола явную чушь. Про какую-то подругу, про подарок, и это в то время, как я лично видел эту самую зажигалку в руках у Рубина каких-то полчаса назад! Вы говорите, что я с ним ругался. Да, я обязательно поговорил бы с этим подонком, но, к сожалению, когда я хотел зайти к нему в купе, там был Тенгиз. Они кричали так, что их было слышно даже через стенку. Я хотел подождать, но Эрих тянул в ресторан. Мне надоело ждать, и мы пошли. Да, я был зол на Рубина, но не помню, чтобы угрожал ему расправой.
— Станислав Иванович, а вы уверены, что зажигалка, от которой прикуривал Рубин, и та, которую вы нашли у себя в купе, одна и та же? Может быть, они просто похожи, мало ли одинаковых зажигалок. И почему вы думаете, что к вам заходил именно Рубин? Разве он один выходил во время игры?
— Из купе выходил и Эрих, и Лисневский, — соглашается Жохов, — но зажигалка принадлежала Виталию, я это точно знаю. Она очень понравилась Лисневскому, и он спросил у Рубина, откуда у него такая красивая вещь. Тот ответил, что она досталась ему в наследство.
Я вытаскиваю зажигалку, которая выпала из руки Родиона Романовича.
— Это она?
Станислав Иванович берет ее в руки, внимательно рассматривает и возвращает мне.
— Как она к вам попала? Татьяна говорила мне, что она куда-то исчезла.
— Я взял ее у Лисневского, а вот как она у него оказалась — не знаю. Может быть, вы…
— Понятия не имею. Когда я уходил в ресторан, то оставил ее на столе. Спросите у жены.
— Ну что ж, дельный совет. При случае обязательно им воспользуюсь. А пока… Скажите, почему все-таки вы зашли в восьмое купе? Тогда, в одиннадцать часов?
Он слегка вздрагивает.
— Вернувшись из ресторана, я зашел к себе. Моей жены в купе не было. Ну и… Я подумал, может, она… может, она в восьмом?
— Там ее не оказалось, — закончил за него я. — И позже вы, конечно, спрашивали у нее, где она была в это время?
— Да, я спросил. Она сказала, что в туалете.
— Значит, никакого шума в восьмом купе вы не слышали, верно?
— Вы меня правильно поняли.
Я прошу Станислава Ивановича еще некоторое время оставаться на месте, а сам иду в седьмое купе.
Справа у окна в той же самой позе, в какой я увидел ее первый раз, сидит Татьяна Николаевна.
Лисневский лежит на левой нижней полке. Голова его запрокинута, пестрый галстук приспущен и съехал в сторону.
При моем появлении сержант встает и, придвинувшись вплотную, сообщает, что Родион Романович в сознании, но чувствует себя пока еще неважно.
— Свяжитесь с бригадиром поезда, — тихо говорю я. — Узнайте, нет ли радиограммы от Волобуева. Ждите меня у проводника.
Он уходит.
— Ну-с, Татьяна Николаевна, — обращаюсь я к Жоховой, — вы ничего не хотите мне сообщить?
Она поворачивает ко мне свое недоброе, почти злое лицо — усталость наложила на него свой отпечаток.
— Лучше бы сказали, когда закончатся эти безобразия! Вопрос законный, и я знаю, как на него ответить.
— Они закончатся, когда вы начнете говорить правду.
— Как это понимать? — с вызовом спрашивает она.
— В прямом смысле, самом что ни на есть прямом, — отвечаю я. — Почему, например, вы скрыли, что Виталий Рубин посетил вас около девяти вечера?
Она обиженно поджимает губы:
— Я не думала, что это имеет какое-то значение. Да, он заходил, это правда, но не в девять, а немного позже, и не ко мне, а к этому, — Жохова кивает на Лисневского. — Сказал, что он взял у него зажигалку. Я ему сообщила, что наш сосед перешел в другое купе. И все. Больше не было сказано ни слова. И это вы считаете важным?
— Право решать, что важно, а что нет, я оставляю за собой. С вашего разрешения, конечно.
Мое предупреждение, кажется, подействовало. Жохова рассматривает свое отражение в зеркальце, которое вытащила из сумки, и, обращаясь к нему, говорит:
— Я постараюсь не давать вам повода повторять это.
«Обмен любезностями» пошел на пользу — с этого момента Татьяна Николаевна отвечает на вопросы односложно, но вполне определенно.
— Вы утверждаете, что Виталий Рубин был у вас в купе после девяти?
— Да, утверждаю.
— Уже после того, как ваш муж ушел в ресторан?
— Да, после.
— И, кроме Рубина, к вам никто не заходил?
— Нет. Только он. Рубин искал зажигалку и подозревал, что ее украл у него наш сосед.
— Это она? — спрашиваю я, протягивая ей вещицу, которую уже опознал Жохов.
— Она.
— Значит, к Лисневскому она могла попасть только от убитого? — Я смотрю на лежавшего на противоположной полке человека, но он не подает никаких признаков жизни, что, впрочем, не мешает появлению яркого румянца на его щеках.
— Об этом спросите у него. — Татьяна Николаевна тоже смотрит на Лисневского.
— Вы выходили куда-нибудь в это время?
— Нет, — отвечает Жохова.
— А ваш супруг утверждает, что в двадцать три часа, вернувшись из ресторана, он не застал вас в купе.
— Я выходила только на несколько минут — умыться…
— Это неправда! — раздается голос Родиона Романовича. Он резко поднимается с полки и возмущенно выкрикивает: — Она вас обманывает! Ее не было, не было! И зажигалку я взял не у Виталия… Я вам все расскажу, только пусть она выйдет…
Начну по порядку, — продолжает он, когда Жохова покидает купе и плотно задвигает за собой дверь. — Все началось с этой проклятой зажигалки, будь она неладна… Вещь оригинальная и очень подходит в пару к моему портсигару. Смотрите…
Лисневский достает свой портсигар. Действительно, две эти вещи очень похожи, словно сделаны одним мастером, — обе покрыты тонким, витиеватым узором из серебряной нити.
— Я собираю подобные редкие вещицы, коллекционирую их. Захотелось приобрести и эту, но Виталий, хозяин зажигалки, наотрез отказал: самому, говорит, нравится. Может, я все же уговорил бы его, но за картами мы поругались. Я сыграл невнимательно, и он обозвал меня мошенником. Инфернальный тип, я вам говорил, — судя по словцу, которым украсил свою речь Родион Романович, расположение духа к нему вернулось. — Потом, как вы знаете, — продолжает он, — все ушли в ресторан, а я остался. Нелепая ссора с Виталием меня, признаться, очень расстроила. Я пошел к себе, но там выясняли отношения супруги Жоховы. Мне же хотелось отдохнуть, расслабиться, и я решил перейти в другое купе. Проводник открыл мне второе, выдал постель. Я выпил чай, попытался заснуть, но ничего не получилось, и я пошел к проводнику. И вот тут увидел то, что вас заинтересует. Сначала, так сказать, диспозиция. Гаврилыч сидел в служебном купе, а я стоял у двери, вполоборота к коридору. Вдруг вижу, как из седьмого купе вышел Виталий Рубин. Он вернулся к себе, в восьмое, а немного погодя в вагон с противоположной от меня стороны вошел Эрих. Он заглянул в восьмое купе, потом в седьмое. Оттуда появилась Жохова, и они вместе перешли в третье…
В памяти мгновенно всплывает Гаврилыч и то, как он поспешно кинулся закрывать окно, когда открыл нам третье купе. Несколькими часами раньше он уже открывал его по просьбе Янкунса. По-видимому, именно здесь кроется разгадка отношений, связывающих проводника и Эриха.
— Я решил перенести свои вещи, — продолжает тем временем Родион Романович, — ведь часть из них оставалась в седьмом купе. Вместе с Гаврилычем вошел туда, а когда он забрал пустые стаканы и вышел, я увидел на столике зажигалку… — Лисневский делает паузу, потом, собравшись с духом, заканчивает историю своего грехопадения: — Что тут объяснять. Стыдно… Поддался минутной слабости, соблазн был слишком велик… Я взял ее. И уже через пять минут пожалел об этом. Решил все же переговорить с Рубиным, упросить его продать мне эту вещь, а если откажет — возвратить. Когда подошел к восьмому купе, услышал там голоса. Что было делать? Я постоял, подождал и вынужден был вернуться к себе, отложив разговор до утра… Проснулся от криков Жохова. Вышел и увидел Виталия. Сами понимаете, тут было уже не до зажигалки. Потом появились вы, стали всех расспрашивать, я понял, что рано или поздно заинтересуетесь пропажей, ведь она принадлежала покойному. Поэтому решил: когда все улягутся спать, положу ее на место, туда, откуда взял, в седьмое купе. Я постучал, но мне никто не ответил. Дверь оказалась незапертой. Я подумал, что Жоховы спят, и вошел. Если бы оказалось, что они не спят, я бы извинился и сослался на то, что забыл свои вещи. Но не успел я и шага сделать, как раздался крик, а дальше ничего не помню — потерял сознание…
Возбужденный собственным рассказом, Лисневский заканчивает гораздо уверенней, чем начал:
— Теперь вы все знаете, судите сами. Конечно, я виноват, так порядочные люди не поступают. — И, помедлив, произносит то, что уже говорил в прошлый раз: — Поверьте, никакого отношения к несчастному случаю с Рубиным я не имею.
Если он рассказал правду, а похоже, что так оно и есть, то многое меняется. Очень многое! Значит, Янкунс не был в восьмом купе в двадцать два часа! Но кто же в таком случае там был?! Чьи голоса слышал Лисневский?
— Вы уверены, что человек, с которым Жохова ушла в шестое купе, был именно Эрих, а не кто-то другой?
— Не в шестое, а в третье, — не ловится в мою западню Родион Романович. — Несомненно, это был он. Зрение у меня хорошее, а память просто исключительная. С Татьяной Николаевной был Эрих. И вошли они в третье купе.
Звучит довольно категорично, быть может, даже слишком. И все же лучше подстраховаться, решаю я.
— Вот что, Родион Романович, давайте-ка проверим вашу наблюдательность. Могли бы вы описать внешность пассажиров нашего вагона? Хотя бы приблизительно.
— Нет ничего проще, — заверяет Лисневский. — С кого прикажете начать?
— Начните с проводника.
— Гаврилычу лет около шестидесяти. Мужчина видный. Плотный, если не сказать толстый. Брови густые, сросшиеся, прямые. Нос небольшой, остроконечный. Пиджак с эмблемой МПС. Поношенный. Рукава лоснятся, на обшлагах пятна. Брюки сравнительно новые, коричневого цвета.
— Квасков?
— Володе лет тридцать с небольшим. Среднего роста, физически развит. Лицо удлиненное, глаза карие. Одет в серый костюм и розовую рубашку. Темно-вишневый галстук. На руке, кажется правой, с тыльной стороны ладони — татуировка, якорь с цепью. Наверно, служил во флоте.
— Так, теперь Эрих.
— Высокий. Спортивного вида. Блондин. Прическа короткая. Возраст — тридцать три — тридцать четыре года. Ходит в джинсах, голубой рубашке, спортивной куртке…
— Достаточно, — останавливаю его я. — Память у вас действительно завидная.
Он польщен и отвечает мне легким полупоклоном.
— Вот и скажите, — продолжаю я, — кто был в купе у Рубина. Чей голос вы слышали и о чем там говорили?
Лисневский разводит руками:
— Увы, здесь я бессилен. Голоса были едва слышны. Я не разобрал ни единого слова. Одно могу сказать: оба голоса принадлежали мужчинам.
— Сколько времени вы простояли у двери?
— Минуту, может, полторы.
— И сразу ушли?
— Да, время позднее, неудобно было человека беспокоить.
— А если точней — который был час?
— Ровно десять. Не сомневайтесь — мои часы идут точно: Павел Буре, поставщик двора его величества…
— Еще вопрос. Вы видели, как Эрих вошел в вагон. Заходил он к себе в купе или только заглянул?
— Нет, только заглянул, потом сразу в седьмое, а оттуда, уже вместе с Татьяной Николаевной, ушел в третье.
— Он вас не заметил?
— Исключено. Я стоял у поворота…
Татьяна Николаевна успела подкрасить губы и наложить новый слой пудры, но от этого ее лицо не стало ни свежей, ни моложе. Она просит у меня сигарету, разминает ее, и, когда прикуривает от протянутой мной зажигалки, я замечаю, как мелко подрагивают ее пальцы.
— Задавайте свои вопросы, я устала и хочу спать, — говорит она глухо, разгоняя рукой табачный дым.
— Я тоже. Поэтому давайте говорить начистоту.
— Я уже все сказала.
— Все, кроме главного. Вы скрыли свои отношения с Эрихом Янкунсом. Простите, но нам придется обсудить и этот вопрос.
Она не подает вида, что удивлена. Огонек на конце ее сигареты пожирает тонкую белую бумагу, замирает, покрываясь серым налетом пепла, вновь вспыхивает. Сделав несколько глубоких затяжек, Жохова тушит окурок.
— Теперь мне все равно…
Она задумчиво смотрит в черный экран окна, и мне в голову приходит мысль, что она с удовольствием поменялась бы местами с кем угодно, только бы оказаться сейчас подальше отсюда, подальше от мужа, от меня, от назойливых вопросов, от грубого вторжения в ее личную жизнь. Конечно, жаль эту женщину, но чем я могу ей помочь?
— Зачем скрывать, это всегда обходится дороже…
По ее тону я догадываюсь, что все, что она сейчас скажет, будет по существу не продолжением разговора, а обращенным к себе самой монологом, и ей действительно все равно, будут ее слушать или нет, я сижу рядом или кто другой.
— Наш брак со Станиславом Ивановичем не сложился. Мне было восемнадцать, а ему за тридцать. Я была наивна, он упрям и энергичен. Конечно, он мне нравился, и на первых порах все шло вроде хорошо. Но вскоре я поняла, что его упрямство граничит с глупостью, забота обо мне — с эгоизмом. Детей у нас нет. Особых забот — тоже. Жили вместе, а фактически врозь. У него произошли какие-то неприятности на работе, потом понижение в должности, новый круг друзей, новые увлечения, но все это, как бы точнее сказать, ниже качеством, что ли. Я стала раздражительной, сварливой. Он тоже что-то чувствовал, но не подавал вида, верней, делал вид, что все нормально, все идет так, как нужно. Этакий грошовый оптимизм. Наверно, ему было выгодно, удобно притворяться слепым. В конце концов совместная жизнь стала невыносима, и я ему все сказала… Мы решили не торопиться, попробовать что-то склеить, исправить. Вот, договорились поехать вместе отдыхать, надеялись, что это хотя бы на время сблизит. Но, может быть, оттого, что ждали этого, ничего не получилось. Он еще больше отдалился от меня… А может, это я отдалилась, не в этом суть… Как-то на пляже, когда он увязался за подвыпившей мужской компанией, ко мне подошел Эрих. Как-то так получилось, что мы сразу нашли общий язык. Он был мягок, ненавязчив, предупредителен. Я так отвыкла от всего этого, что, не задумываясь, согласилась на встречу. Понимала, что поступаю легкомысленно, что он моложе меня, что нас со Станиславом все еще связывают привычка, прожитые годы… В общем, не смогла отказать. Наверно, потому, что Эрих воспринимал нашу встречу не как приключение, а как что-то серьезное, пожалуй, даже слишком серьезное. Бывали минуты, когда я думала, что, если бы не это, нам обоим было бы легче…
Дверь плавно отодвигается, и в купе заглядывает Жохов. Он смотрит на меня, потом на жену и исчезает бесшумно.
— Когда пришло время отъезда, — продолжает Татьяна Николаевна, — Эрих решил ехать вместе с нами, взял билет в наш вагон, несмотря на мои просьбы не делать этого. Он успокаивал меня тем, что они со Станиславом Ивановичем незнакомы, что он будет осторожен… И не сдержал слова. Дождался удобного момента, зашел ко мне. Муж в это время был в соседнем купе, с картежниками. Эрих стал умолять меня о последнем свидании, говорил, что нам надо поговорить, проститься… Я снова не смогла ему отказать, но про себя решила: это свидание должно стать последним. Он сказал, что уведет мужа в вагон-ресторан, а сам вернется. Вскоре пришел Станислав Иванович. Он обнаружил зажигалку — я не заметила, как Эрих оставил ее на столе, — устроил сцену, накричал, стал грозиться, что посчитается с каким-то Виталием, которого я вообще не знала. Мне не удалось его успокоить, он так и ушел вне себя от ревности, а через несколько минут в купе появился тот самый Виталий. Он о чем-то спрашивал, искал свою зажигалку, интересовался, где наш сосед, но я была в таком состоянии, что ничего толком не поняла и выпроводила его. Почти следом за ним пришел Эрих. Он успокоил меня, сказал, что Жохов в ресторане под присмотром надежного человека, сказал, что лучше всего нам поговорить на нейтральной территории. Мы ушли в третье купе. Пробыли там долго, до тех пор, пока не услышали в коридоре голос мужа… Эрих вышел первым, я за ним…
С помощью Татьяны Николаевны и Родиона Романовича я установил еще одно алиби. Янкунс не был в восьмом купе в двадцать два часа. Он вместе с Жоховой находился в третьем. И Лисневский, и Жохова не очень удивили меня, рассказав об этом. Они скорей подтвердили то, что до сих пор было предположением, догадкой… Но кто убил Рубина? С какой целью? Вопросы оставались, и мне необходимо ответить на них сегодня. Точки над «и» предстояло поставить в оставшиеся часы — завтра в моем распоряжении останутся только фамилии, адреса, номера телефонов…
Я выхожу в коридор, стучу в нужную дверь, жду, когда ко мне выйдет Янкунс.
— Спали? — спрашиваю у него.
— Нет.
Я почти физически ощущаю дефицит времени, чувствую, как мало его осталось. Спрашиваю напрямую:
— Как получилось, что вы оставили зажигалку в седьмом купе?
Эрих, как и следовало ожидать, молчит, и мне приходится сказать, что я знаю о его отношениях с Татьяной Николаевной. Он смотрит на меня без всякого выражения, но принимает мои слова как пароль, дающий ему право отвечать на вопросы.
— Я вышел во время игры, чтобы повидаться с ней, — едва слышно говорит он. — Перед этим закурил и автоматически прихватил зажигалку с собой, а у Татьяны забыл ее на столе…
Я иду в служебное купе и застаю там Сережу.
— Радиограмма, — докладывает он. — Только что получили.
Он протягивает сложенный вдвое листок. Разворачиваю, читаю:
«…ОСМОТРОМ ВЕЩЕЙ РУБИНА ВИТАЛИЯ ФЕДОРОВИЧА УСТАНОВЛЕНО: ЧЕМОДАН, ИЗЪЯТЫЙ ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ, ИМЕЕТ ДВОЙНОЕ ДНО. ИЗ ТАЙНИКА ИЗВЛЕЧЕНЫ ДЕНЬГИ В СУММЕ 24 437 РУБЛЕЙ. КУПЮРЫ, РАСКЛЕЙКА И СУММА СОВПАДАЮТ С ДАННЫМИ ВЧЕРАШНЕЙ ОРИЕНТИРОВКИ ОБ ОГРАБЛЕНИИ. УСТАНОВЛЕНО ТАКЖЕ, ЧТО КРОВЬ НА ВЕЩАХ ИЗ ЧЕМОДАНА И ПОСТЕЛЬНОМ БЕЛЬЕ СОВПАДАЕТ С КРОВЬЮ РУБИНА В. Ф.
ПОКА ВСЕ. ЖЕЛАЮ УДАЧИ. ВОЛОБУЕВ».
И в конце:
«ЗВОНИЛ. ПОРЯДОК».
Маленький листок содержит ценнейшую для меня информацию: становится известен мотив убийства. Преступник рылся в вещах покойного в поисках денег… Ориентировка, о которой идет речь в радиограмме, была скупа и лаконична. Двое суток назад при выезде с последней точки инкассатор Государственного банка был убит, шофер машины тяжело ранен. Грабителей было двое, вооружены огнестрельным оружием. Никаких примет в сообщении местного отдела внутренних дел не приводилось…
Я пытаюсь сосредоточиться. Чувствую, что какая-то неоформившаяся до конца мысль ускользает от меня, словно я только что стоял на верном пути к разгадке и в последний момент забыл самое важное, потерял нить…
Мы с сержантом выходим в тамбур.
— Ты читал радиограмму? — спрашиваю я.
Он кивает утвердительно.
— Ну и как? Какие соображения?
Он трет свой курносый нос — вид у него бодрый, и я немного ему завидую.
— Уверен, что Рубина убили из-за денег.
— Гениально. Это тоже из английского романа? — интересуюсь я и смотрю на пляшущие по насыпи пятна света. Если хорошенько приглядеться, можно различить и свою тень, которая вприпрыжку несется наперегонки с поездом…
— Есть хотите? — спрашивает Сережа. — Я у бригадира булочки достал и сыра кусок. Не очень свежий, но есть можно.
И вдруг меня осеняет! Я вспоминаю — ресторан. Ну конечно же ресторан! Это же так просто…
Стоп. Никакой спешки. Надо быть предельно внимательным и не совершить ошибки. Сейчас главное — не спугнуть убийцу. Он наверняка не спит. Психологически наиболее вероятное его состояние — тревога и ожидание…
Итак, Чаурия в четвертом, Квасков в пятом, а Жохов в седьмом…
Я иду вместе с сержантом по пустому коридору и почти зримо представляю, как за одной из дверей кто-то настороженно вслушивается в доносящиеся из коридора звуки. Проходя между четвертым и седьмым купе, я достаточно громко и отчетливо говорю:
— Возьмите у проводника постели. Пора отдохнуть. Займем третье купе, там и постелите…
Сережа удивленно смотрит на меня, но молчит.
Мы проходим в конец вагона. Тяжелым ключом, который я взял у сержанта, открываю дверь между вагонами. Сережа остается в тамбуре, а я оказываюсь в проходе между вагонами, где особенно остро ощущается бег поезда. Крошечное пространство буквально дрожит от лязга и скрежета. В щели дует холодный ветер. Прохожу через соседний вагон, открываю еще одну дверь, потом снова вагон, тамбур, изогнутый отрезок коридора. Следующий — вагон-ресторан. На переходном трапе сильно качает, и я с трудом попадаю в замочную скважину. Наконец дверь остается позади. Передо мной просторный салон, разделенный на две секции.
В полумраке белые скатерти и стеклянная посуда на пустых столах выглядят непривычно и даже чуть жутковато.
Стараясь не задеть стулья, прохожу в самый конец вагона, сворачиваю у буфетной стойки и оказываюсь перед тремя обитыми белым пластиком дверьми. Стучу в одну из них и почти сразу слышу возмущенный женский голос. Прошу открыть и называю себя.
На пороге появляется девушка. Показываю ей удостоверение. Она внимательно его изучает в слабом свете ночника, горящего над дверью.
— Скажите, кто обслуживал посетителей вчера между девятью и одиннадцатью часами вечера?
— Я обслуживала, — отвечает она и пытается шутить: — А что, обсчитали, что ли, кого?
Я прошу ее выйти со мной в зал.
Мы устраиваемся за ближайшим столиком. Она включает настольную лампу, накрытую желтым шелковым абажуром.
— Как вас зовут? — спрашиваю я.
— Лида.
— Скажите, Лида, много было посетителей вчера вечером?
— Нет, человек десять — двенадцать. А что все-таки случилось?
— Вспомните, обслуживали вы двух мужчин — один невысокий, лысый, лет под шестьдесят, он еще много выпил, а второй — в сером костюме и галстуке вишневого цвета. Сидели они вместе.
— Кажется, я знаю, о ком вы говорите. Они заказали по отбивной и бутылке пива, потом еще несколько раз заказывали пиво.
Я понятия не имею, что заказывали Жохов и Квасков, но поощряюще киваю в знак согласия.
— Да, один был в сером костюме, а другой маленький, все руками размахивал…
— Выходил кто-нибудь из них из-за стола?
— Да, выходили, — отвечает девушка. — Оба выходили. Ровно в десять. Я боялась, что они уйдут не расплатившись, но тот, что помоложе, сказал, что они из соседнего вагона, что выйдут на несколько минут, так как его товарищу плохо. Люди вроде приличные, но я на всякий случай засекла время. Если, думаю, не вернутся через десять минут, то буду принимать меры. Напрасно беспокоилась. Ровно через десять минут они пришли и больше уже не выходили. Сидели до закрытия.
— А когда вы закрывали?
— Зал начали освобождать без четверти одиннадцать.
Я подробно описываю ей Эриха, и Лида подтверждает, что его тоже видела, но, когда он ушел, не заметила.
— Может быть, заметили еще одного посетителя: полный такой, с усами, он пришел около десяти?
— Он сидел вот за этим столиком. — Лида разглаживает ладонью скатерть на столе, за которым мы расположились. — Я ему еще замечание сделала — в майке пришел и в спортивных брюках.
— Майка с волком?
— Ага, «Ну, погоди!».
— Так вы его не впустили?
— Впустила. Посетителей немного, а план делать надо.
— Он никуда не выходил?
— Кажется, нет… Точно сказать не могу, не заметила.
Двое выходили из ресторана и отсутствовали, по словам официантки, десять минут. Десять минут… Немного, но все же…
Я смотрю на светящиеся цифры своей «Электроники», медленно выхожу в тамбур и, не спеша, двигаюсь через наполненное грохотом пространство, пустые коридоры, мимо дремлющих проводников. Возвращаюсь в свой вагон, осторожно открываю двери восьмого купе и вхожу, стараясь не наступить на очерченный мелом контур.
Прошла минута и двадцать семь секунд.
Не включая свет, подхожу к окну. Сажусь.
По двойному стеклу, оставляя за собой змеящиеся неровные бороздки, ползут капли. Там, за окном, снова идет дождь.
Поезд врывается на мост. От металлических ферм рябит в глазах, но я успеваю увидеть сверкнувшую под зеленоватым лунным светом реку. Мост остается позади. Стук колес после этого кажется не таким громким. «Кто из них? — монотонно стучат они на стыках рельсов. — Кто из них?»
Убийца искал деньги. Никем не замеченный, он проник в восьмое купе, говорил с Рубиным — его голос слышал Лисневский. Потом убил и приступил к поискам. Ищет упорно. Переворачивает вещи, чемодан, осматривает постель и одежду. А время идет. Текут минуты. Он боится, что его застанут на месте преступления, и уходит. А часом позже вместе с остальными пассажирами пытается привести в чувство остывший труп…
Он хладнокровен — не бежит, не скрывается. Остается в вагоне. Почему? Ну, во-первых, понимает, что исчезновение одного из пассажиров сразу привлечет к себе внимание, тем более что, согласно билетам, все едут до конечной остановки. Кроме того, он оставил бы после себя шесть свидетелей, общавшихся с ним, запомнивших его внешность, манеру вести себя, другие приметы. Поимка в такой ситуации — вопрос времени. И во-вторых. Убийца не нашел того, что искал, из-за чего убил Рубина. Это основное. Но если так…
Я выхожу в коридор и по мягкой дорожке иду в тамбур, где меня ждет Сережа.
— Ну как, товарищ капитан? — спрашивает он почти шепотом. — Есть новости?
— Навалом, — вполголоса отвечаю я. — Слушай, сержант, внимательно. Отопри девятое купе — да так, чтоб ни одна душа не слышала. Приведи ко мне сюда пассажира из второго купе и проводника. С ними будь особенно осторожен — чтобы ни единого шороха. Сможешь?
— Конечно.
— Ну, дуй…
Не знаю, что говорил им мой помощник, но и Гаврилыч, и Лисневский возникают передо мной неслышно, точно привидения, и не произносят ни звука. Я коротко объясняю задачу, после чего сержант, а за ним Гаврилыч уходят в девятое купе. Родион Романович задерживается, пытается что-то сказать, но я слегка подталкиваю его в спину и посылаю вслед за ними.
Коридор по-прежнему пуст. Ощущение, что пассажиры давно спят, но я знаю, что это не так. Где-то, за одной из этих дверей, притаился человек, которого я ищу…
Осторожно прикрываю за собой дверь девятого купе. Сажусь слева, ближе к перегородке, отделяющей нас от восьмого купе.
Во тьме едва проглядывается грузная фигура Гаврилыча. Лисневский сидит рядом, а сержант у двери в позе человека, в любую минуту готового к прыжку. Думаю, что в таком положении ему вряд ли удобно, а ждать, возможно, придется очень долго.
Наступившую тишину можно было бы назвать полной, если бы не стук колес да поскрипывание деревянной обшивки…
Я собираю все силы, чтобы не дать себя убаюкать размеренному покачиванию вагона, сонной атмосфере в купе.
Надо сосредоточить на чем-то внимание. Перевожу взгляд на светящийся циферблат часов. Еще и еще раз взвешиваю все, что мне известно, и снова прихожу к выводу, что преступник обязательно постарается вернуться, чтобы продолжить поиски. Он убежден, что в вещах и чемодане убитого денег нет. Значит, не может не предположить, что они спрятаны где-то в купе. Он обязательно вернется. Если алчность одержит верх над осторожностью. Судя по всему, так оно и будет. Весь вчерашний вечер он ждал случая проникнуть туда. Сейчас он нетерпелив, бдительность его притупилась. Утром и днем он в купе не войдет. Значит, ночью! Важно не пропустить этот момент. Временами мне начинает казаться, что он уже там, за стеной, уже ищет…
Сержант осторожно меняет позу, опирается согнутыми в локтях руками о колени. На этот раз он устроился лучше и может ждать хоть до утра, чего не скажешь обо мне. Чем больше проходит времени, тем сильней давит тревога, тем больше сомнения…
Бесконечно долго тянутся минуты. Кажется, мы сидим здесь целую вечность. Меня снова клонит ко сну. Веки наливаются свинцом. Сейчас бы подставить голову под струю холодной воды. Или встать, размять затекшие ноги. Но эта роскошь нам недоступна.
«Конечно же, — думаю я, — он решил, что риск слишком велик, и давно спит. А утром, когда состав загонят в тупик, он спокойно…» Я не успеваю закончить свою мысль.
Какой-то звук доносится сквозь перегородку. Напряженный до предела слух старается уловить еще хотя бы один шорох. Тщетно. Никто из сидящих не подает признаков беспокойства. Неужели показалось?.. Так или иначе надо принимать решение. Если сейчас блокировать восьмое купе и там никого не окажется — вся моя затея летит к чертям. Если же преступник там, а мы будем ждать и дальше, то можем упустить его, дать уйти.
Еще раз взвешиваю все «за» и «против».
Нет, надо ждать.
Бесшумно придвигаюсь к перегородке. Кожей лица ощущаю ее шершавую поверхность, прижимаюсь к ней, выжидаю, притаив дыхание. Мгновение спустя отчетливо слышу, как по стенке ящика под нижней полкой провели рукой. Потом осторожно закрыли крышку…
Он там! На этот раз никаких сомнений.
Выпрямляюсь. Достаю из наплечной кобуры пистолет, снимаю его с предохранителя. Вижу, что сержант последовал моему примеру.
Мы выходим в коридор. Сергей, обойдя меня справа, стремительным рывком отодвигает дверь восьмого купе. В образовавшемся проеме темно.
— Сопротивление бессмысленно! — слышу я свой собственный голос. — Поднимите руки и выходите спиной вперед!
Секунды тянутся долго, очень долго. Затем раздается звон разбитого стекла. Вместе с порывом холодного промозглого воздуха из купе вылетает короткая, как блеск молнии, вспышка. Потом резкий звук выстрела. Одновременно с сержантом бросаюсь вперед, в темноте натыкаюсь на чью-то спину. Толчок от второго выстрела отдается в моем теле. Пуля с визгом рикошетит о металл, вспарывает обшивку.
Свет заливает купе, и я встречаю яростный взгляд лежащего на полу Кваскова…
Лисневский шепчет мне на ухо:
— Это он, товарищ капитан. Я узнал его голос. Это он был в купе у Рубина.
Сержант, успевший надеть на Кваскова наручники, протягивает мне паспорт, бумажник, ключи. Пистолет лежит на откидном столике. Рядом — пустая обойма и четыре желтых тупорылых патрона. Сам Квасков сидит напротив, рассматривая свои порезанные стеклом руки. Его узкое лицо лоснится от пота, опухшие веки почти полностью закрывают глаза, оставив лишь узкие, как амбразуры, щели, — как видно, сержант немного перестарался.
Я разъясняю Кваскову его права и объявляю, в совершении какого преступления он подозревается. Он молчит, и говорить приходится мне:
— Вчера в двенадцать часов десять минут вы вместе со своим сообщником Виталием Рубиным сели в пятый вагон скорого пассажирского поезда. Рубин вез с собой деньги, которыми вы два дня тому назад завладели, совершив разбойное нападение на инкассаторскую машину…
Смотрю на реакцию Кваскова. Он все так же молчит.
— Я могу только предполагать, но, кажется, вы с Рубиным не поделили деньги, а может, он пытался скрыться с выручкой, чтобы присвоить себе вашу долю.
— Законную долю, — вставляет Квасков слегка охрипшим голосом.
— Весь день вы искали возможность поговорить с сообщником наедине, но он избегает встречаться с вами. Рубин специально затеял игру в своем купе, он делает все, чтобы окружить себя людьми. Конфликтует с Чаурия, ищет ссоры с Лисневским… Вы терпеливо ждете. Идете в ресторан. Туда же приходят Эрих с Жоховым, а потом и Чаурия. Около десяти вечера Эрих уходит. Следом за ним выходите и вы. Ведете Жохова в туалет, а сами, оставив его там, возвращаетесь в вагон. Заходите к Рубину. Он один. Происходит короткий разговор. Он грубо отказывает вам, не хочет делиться. Вы возмущены поведением сообщника и…
— Неправда, — снова прерывает Квасков, но по выражению его лица я вижу, что мой рассказ близок к истине. — Я не убивал его. Он вообще не хотел говорить со мной, ударил в лицо… Я удержался на ногах и тоже его толкнул. Он не ожидал толчка, потерял равновесие и ударился головой сначала об откинутую верхнюю полку, а падая, об острый угол стола. Когда я нагнулся над ним, все было кончено…
Я краем глаза наблюдаю, как сержант торопливо заполняет линованный лист бумаги.
— Продолжайте, продолжайте, Квасков.
— Нечего мне продолжать, — огрызается он.
— Вы забыли рассказать, как рылись в вещах убитого.
— А зачем мертвому деньги? — криво улыбается он.
— Вы не нашли их. Перебрали все вещи, но время шло, и вы испугались, что вас застанут. Вышли, вымыли руки и вернулись в вагон-ресторан. На все это ушло меньше десяти минут. Жохов был еще в туалете. Вы увели его за столик и просидели там до закрытия. А ночью решили продолжить поиски.
— Этой глупости никогда себе не прощу…
Сержант протягивает мне протокол, а я совсем некстати вспоминаю о булочках и куске сыра, которые он раздобыл у бригадира поезда. Не очень свежие, но есть можно…
Андрей Молчанов
КТО ОТВЕТИТ?
Эту могилу он уже видел. Стандартную, ничем не примечательную: черный мраморный обелиск с выпуклым овалом фотографии, не отмеченный ни христианским крестом, ни звездой; имя, даты рождения и смерти, вытесанные резцом; у подножия надгробия — фиолетово-блеклые, понурые анютины глазки и жирно окрашенная грубой кистью светло-зеленая решетка ограды.
Здесь он оказался случайно. Таксист, попутно решив заправить бак, свернул с магистрали к колонке; дорога шла как раз в объезд кладбища, и, глядя на рябившую в оконце дощатую ограду с выглядывающими из нее купами лип, прореженными холодными ножницами осени, он — мучительно для себя, на усилии воли — попросил остановить машину и вышел из нее. В конце концов, торопиться все равно было некуда. До отправления поезда еще оставался час, томиться в зале ожидания, в толкучке и суетном гомоне, среди таких же, спешащих отсюда прочь людей, не хотелось и провести это время, вероятно, следовало здесь, на кладбище, ибо единственное, что связывало его с городом, раскинувшимся вокруг, был именно этот черный стандартный обелиск…
Впервые он увидел его несколько лет назад, мельком бросив рассеянный взгляд, когда проходил мимо, но с тех пор стали видеться сны о нем — частые и всякий раз страшные. Порою он попросту боялся уснуть, удерживая себя на зыбкой, качающейся грани дремы, — только бы вовремя очнуться, не сорвавшись, словно со склона, туда, где будет прошлое, спрессованное в мраморную тяжесть могильного камня, наваливающегося, преследующего, доводящего до отупелого, тоскливого сумасшествия.
Накрапывал дождь: редкий, невидимый, он, казалось, висел в воздухе — горько-пряном от первых запахов осени. Сентябрьский, еще не промозглый дождь, но от поникшей листвы кладбищенской сирени уже веяло застойным холодком, и сумерки были черны и угрюмы по-осеннему, и случайный ветерок вороват и остр.
Ступив на утоптанную песчаную тропинку, он направился к могиле, однако раздумал и зашагал прочь, к выходу.
Он заметил их.
Непонятно, что делали в поздний час девочка и женщина здесь, на кладбище, у э т о й могилы.
Когда-то он знал и женщину, склонившуюся над бессильно увядающими цветочками, и девочку, скучающе стоявшую рядом, жавшуюся в тонком плащике. Уходя же, расслышал голос девочки — родной до мучительной боли:
— Мама, смотри, как он похож на папу…
— Кто? — донеслось устало.
— Дядя… Вон пошел.
— Танечка, не говори глупостей…
— Ну, мам… Пойдем в машину. Дядя Толя ругаться будет. Поздно ведь… Вторая серия скоро начнется, а ему еще в гараж заезжать, не успеем… Весной все здесь приберем. Темно же, мам…
Он ускорил шаг. Он повторял механически, что-то трудно сглатывая в перехваченном судорогой, как петлей, горле:
— Вот так бы оно и было… Вот так бы…
Взглянул на часы. До отправления поезда оставалось сорок минут. Как раз, чтобы успеть приехать на вокзал автобусом. Такси решил не брать. Еще предстояли дорожные траты.
В серой «Волге», одиноко торчавшей на площадке возле кладбищенских ворот, томился, очевидно, «дядя Толя». Не без труда, как персонажа из давно забытого фильма, он припомнил этого человека. То ли из внешней торговли, то ли из иностранных дел… Основательный, неглупый чиновник. Вероника выбрала надежный вариант. Без особенных претензий, зато…
— Зато! — произнес он очень серьезно. И подумал с досадой: я допустил ошибку. Мертвым нельзя приходить к живым: это напрасно, больно, и все места заняты… навсегда!
Из оперативных и следственных документов, телефонограммНа Ваш запрос сообщаем:
Преступная группа, действовавшая на железнодорожном направлении «Юг-Т», специализировалась на хищениях из контейнеров, прибывающих из-за рубежа по валютным поставкам. В числе прочего похищены крупные партии пушнины, видео- и аудиоаппаратура, запасные части к автомобилям «Жигули», контейнер сигарет «Парламент». Засада, организованная на дистанции «31/2», ожидаемых результатов не принесла: двое преступников, застигнутых на месте совершения преступления, открыли огонь по группе захвата, воспрепятствовав ее спланированным действиям. Один из преступников скрылся на автомобиле «ВАЗ-2103», имевшем фальшивый, как выяснилось, номер. Второй преступник убит. При убитом обнаружен автомат «шмайссер» с запасным магазином, початая пачка сигарет «Парламент», зажигалка. Личность убитого установлена: Будницкий С. Г., дважды судимый, сцепщик вагонов. Результаты дактилоскопирования квартиры, где ранее проживал Будницкий, отрицательные — числящихся в картотеках пальцежировых отпечатков не обнаружено. Скрывшийся преступник вел огонь из пистолета «Вальтер PPK».
…Органами ГУБХСС задержаны скупщики-спекулянты в г. Баку и г. Ашхабаде, признавшие факт скупки в целях спекуляции трехсот и четырехсот блоков сигарет «Парламент» у неизвестного лица, чью внешность описать они не смогли. Контакт, по их утверждениям, произошел случайно, без долгосрочных обязательств…
…сообщаем: два видеомагнитофона «Панасоник», чьи номера (см. детальное приложение) совпадают с номерами из партии, похищенной на ж/д дистанции «31/2», обнаружены у частных лиц, однако первоначальный источник приобретения аппаратуры не выяснен…
Тетка была сварливой, толстой, от нее пахло прокисшим борщом, хозяйственным мылом и рыбой; соседки по большому пустынному двору — общему на три мазанки, скрытых в тени старых шелковиц, каждодневно переругивались с ней по всякому поводу, как и едва ли не полгорода, открыто враждовавшего с этой издерганной, крикливой женщиной; а она, взвинченная бесконечными стычками, вымотанная стиркой, возней с чахлым, страдающим от недостатка воды огородом, срывала все на нем, мальчишке.
— У, поганец! — теребила его выгоревшие до белизны на южном солнце вихры распаренными, в морщинах пальцами, словно сочившимися бессильной ненавистью. — Всю жизнь сломал! Ты, мать твоя, гадина, из-за нее все! За что только крест тащу!
Он не хныкал, не старался ни вывернуться, ни огрызнуться, терпеливо пережидая ее истерику. Выместив злость, она уйдет в дом, выглянувшая во двор соседка поинтересуется у него опасливо: опять, дескать? А он, покривившись, ответит:
— Да это — как радио… — И отмахнется худой мальчишеской рукой взрослым, усталым жестом.
Ребенком он себя и не помнил. Он всегда был взрослым. Потому что родился незадолго до войны, а после войны становиться маленьким было поздно и невозможно. Война же вспоминалась как самое первое осознание жизни. Голос ее — рокот самолетов, далекая стрельба — его не пугал, представляясь чем-то естественным и обычным, сродни звукам природы: шуму дождя, моря, ветра. Пугало другое: настороженные улицы, ползущие по ним громоздкие грузовики-фургоны с брезентовым верхом и подслеповатыми глазницами лобовых стекол; ропот вполголоса взрослых и растворенный в воздухе страх, невнятный и липкий. Страх тех, кто являл для него защиту и утешение. Страх и затаенность. Везде и во всем. Может, именно страх и пробудил в нем рельефное, словно бы черно-белое восприятие жизни, без пестроты и полутонов — подобное звериному, когда добро должно быть проверено и испытано, а зло — постоянно ожидаемо; когда интуиция опережает рождение чувства и мысли, подменяя их.
Отец — рабочий в порту, погиб при первой же бомбежке, оставшись безымянным ощущением чего-то сильного и надежного в его детском сознании, а мать вспоминалась, оживая в памяти какими-то угасающими озарениями, однако, когда он смотрел на фото ее, припрятанное теткой в комод, образ вдруг обретал постоянство, пространство и перспективу, будто где-то в зазеркалье фотокарточки жил, как в заточении, человек: миловидная, с застенчивой улыбкой женщина… Волосы, уложенные «корзиночкой», тихая, извиняющаяся улыбка… И слышался голос, вернее, интонация — неясная, ускользающая, но ее, материнская… Он понимал это нутром… А после всплывали слова — далекие, как бы приснившиеся: «Лешенька, сынок, если увидишь дядю Павла… Кукла… Передай: мама наказывала отдать тебе куклу…» И отчетливо виделось последнее из того самого страшного дня: ситцевая занавесочка, опасливо отодвинутая рукой матери, напряженно-окаменевшее лицо ее в перекрестье оконной рамы, а там, за окном, — пятнистый кузов машины, из которого беззвучно и ловко выпрыгивали, поправляя каски, большие, сильные солдаты с такими же напряженно-окаменевшими лицами… И первый, захолонувший душу ужас беды…
С треском ударили в дверь.
Она вывела его через черный ход.
— К тете беги. Быстро беги, Леша…
И все. Больше он мамы не видел. Прибежал к тете, расплакался; картавя, рассказал о страшной машине и заснул в слезах. А когда проснулся, была другая жизнь. Без мамы.
Поговаривали, будто мать увезли в гестапо, но поговаривали всегда неопределенно и сухо, подразумевая некий, лежавший на ней грех. Лишь однажды, вскользь тетка буркнула: дескать, мать была связана с партизанами, после ее ареста пошли провалы, и… кто знает, не повинна ли в них она? Толком же никто ничего не ведал. Но слушок креп, и, взрослея, он, Алексей, каждодневно и все отчетливее ощущал поле отчуждения взрослых и сверстников вокруг своего мирка, где была мазанка, дворик, занавешенный бельем, одинокий абрикос у ограды, чьи плоды, обрываемые мальчишками, никогда не успевали вызреть; голая солнечная пустошь перед покосившимися дощатыми воротами и куцый огородик с колдовавшей над ним теткой. В этом мирке было покойно, сонно и необыкновенно скучно. Так он и жил: один на один с теткой, сестрой отца, которую не любил и побаивался; и еще — со своим взрослым детством. Жил у синего моря, зовущегося Черным.
В подвале малограмотной тетки хранилась уйма книг — остатки библиотеки, растащенной с пожарища, и друзей он находил в книгах: отважных пиратов, благородных рыцарей, отчаянных ковбоев; а когда чтение надоедало, любил уходить куда-нибудь подальше: то на карьеры, то на скалистое взморье — ловить крабов, нырять за рапанами, подкалывать острогой ленивых ершей-скорпен либо искать нежно-розовые, намытые волной сердолики среди шуршащего мониста влажной прибойной гальки. И всегда при этом сочинять разные сказочные истории, героем которых — самым сильным и удачливым — был он.
И вот наступил День. День Второй. День Первый принес разлуку навсегда с матерью. День же Второй… предварял жизнь. Он часто возвращался после к тому дню — главному рубежу; знойному дню штиля и одуревшего в покое моря со стеклянной, покорной водой; вспоминая мягкий, мучнистый, прах пыльной дороги, высоченные пирамидальные тополя по краям ее и себя — возвращающегося домой с пляжа с кошелкой, полной крабов: зеленых «песчаников» и золотисто-коричневых «каменщиков», — в предвкушении, как будут они вариться на костерке в настоящей фашистской каске, найденной накануне в кустарнике; как начнут краснеть колючие панцири и как, отколупнув ногтем пленочку на сгибе клешни, он обнажит горячее, сладкое мясо и выдернет зубами первое нежное волоконце. А потом сварит мидий, наловленных еще утром, — целое ведро, набросав в отвар мяты. Вот и обед! И тетка будет довольна — как-никак, а сэкономили! А чтобы вовсе подобрела, принесет он ей к вечеру четыре ведра воды, пусть колонка почти за километр от дома. Ничего, на пользу. Он же хочет стать самым-самым сильным, и он станет таким! Кто из мальчишек доныривает до дна у старого пирса, где затопленная баржа? Только он! А там мало кто из взрослых сподобится, пятнадцать метров там глубина… А он — хоть бы что! Сглотнет слюну раз-другой, когда уши заломит, и все дела!
Тетка встретила его какой-то внезапной, пугающей лаской. Преувеличенно восхищалась крабами, обнимала за плечи, целуя в макушку; тут он заметил на ней выходное платье; волосы, обычно прихваченные грубым гребнем, обрели некое подобие прически; на ногах — узкие, с трудом втиснутые на толстые лодыжки туфли аспидно-черной лакировки — при такой-то жаре! Жгуче-малиновая помада на губах и легкий, неприятный запашок вина… А затем, войдя в дом, он узрел маленького человечка с насупленным узким личиком, коротко и деловито, как равному, кивнувшего ему. И пробежал внутри холодок пугающего предчувствия.
— Ты взрослый… — слышал он теткины слова, доносившиеся сквозь ее сентиментальные всхлипы. — Я тебя взрастила… Пора и свою жизнь устроить, Леша. И тебе в люди выходить надо…
— Детдом? — спросил он, зная — да, детдом.
— А нет, нет! Там… интернат называется. Хорошо там, ребятишки, весело. В Харькове это… Вот дядя Павел договорился уже. Директор — брат его, в обиду не даст…
«Никогда!» — кричало в нем все с болью, яростью и обреченностью, но он покорно выслушивал ее слова, сознавая: вот и конец маленького его счастья… Там тоже будет город, но другой — не в наступающих на море холмах, а на скучной, ровной земле. Да и не увидит он города за казенными стенами, где царят распорядок, учеба, зубрежка, злые подростки… А море останется здесь, и холмы, и крабы в расселинах скал, и раковины на прозрачной глубине, и старые шелковицы с гроздьями белых и сиреневых ягод… А потом словно ударило: дядя Павел… Кукла… Ситцевая занавесочка, серая громоздкая машина, солдаты, горохом посыпавшиеся из кузова…
— Хорошо, тетя, — сказал он. — В Харькове интересно.
Ах, какой восторг начался после этих слов, какой восторг! Даже тот, с узким личиком, хлопнув его по плечу, высказался: ты, мол, не теряйся, где наша не пропадала, вообще — умный пацан! А после мигнул тетке, и тетка, засмущавшись, сообщила вдруг, что постелет ему сегодня на улице — больно уж душно в доме… Он поначалу удивился: чего это она о ночлеге? — день еще стоит, жара… Ну да.
— Конечно, тетя, — сказал он.
Чинно пообедали. Втроем.
— А вы… — набравшись смелости, спросил он у узколицего, — в войну где были?
— В войну? — с неудовольствием оторвавшись от тарелки, переспросил тот. — Ну… далеко. А чего?
— А раньше бывали здесь?
— В Крыму? Ну… до войны когда-то…
Не тот дядя Павел… Тот не пришел. Кукла… Да, с куклой он пришел тогда к тетке; с куклой — ныне разломанной, распотрошенной, валяющейся в пыльном углу сарая. Какой-то выцветший, без руки клоун… Конечно! Еще несколько лет назад, следуя какому-то наитию, он распорол куклу, пытаясь найти в ней что-то… И нашел, кажется, клочок бумажки с непонятным рисунком. А где клочок? Выброшен?
Он встал из-за стола, поблагодарил тетку за обед и отправился к сараю. Стряхнув липучие, свалявшиеся нити паутины, взял клоуна. И в разрезе ветхой материи тут же увидел съеженную бумажку, облепленную опилками и обрывками линялых ниток.
Внезапно во дворе раздался голос тетки. Он отшвырнул останки куклы обратно в угол, сунул бумажку под майку и, отодвинув доску в стене, шмыгнул прочь. Привычно перемахнул через забор и улицей побрел к морю. У парапета железной дороги, проходившей вдоль городских пляжей, остановился. Достал из-под майки влажный от пота листок, развернул его. И увидел план: поселок, три дороги, расходящиеся от него, лес, кружок с надписью «валун», от которого вверх шла пунктирная черточка с обозначением «3 м» и стоял крестик. Все.
Для чего же нужен был так и не пришедшему дяде Павлу этот клочок бумаги? И что означает он? Поселок находился неподалеку от города, он, Алексей, бывал в нем. Знать бы раньше — наведался, посмотрел бы, что за валун… Но не пробуждалось сознание, не звало к действию, а теперь — времени нет, кончилось оно — время забав и бездумия…
Домой он вернулся к вечеру. Тетка, порядком уже захмелевшая, сменила навязчивую ласку на высокомерное снисхождение.
— Прошатался до ночи?.. А мне стелить? Ну-ка… Вон топчан под яблоней, одеяло… Сам давай устраивайся, не маленький, здоровенный лобище… Собирать тебя завтра еще весь день!
Завтра?!
— Почему завтра?! — вырвалось у него с ужасом. — Три дня еще до сентября…
— Завтра, — отрезала тетка и ушла.
Он лежал на топчане словно окаменев. Лежал долго. А потом расплакался. Беззвучно, всем нутром. Звезды ходили хороводами в глазах, мысли были ни о чем, и вспоминалось лишь сегодняшнее утреннее море — светлое, обновленное и тихое. Вспухал и мягко опадал песок под ногами, солнечные змеи переплетались, уходя в синь глубины, и он тоже шел за ними, как зачарованный.
Нет! Он встал, отогнав подступающий сон. Сон означал покорность. И если он заснет, то завтра утром будет бесповоротно поздно. Он подчинится. А разве так поступали сильные, прекрасные люди, о которых он читал? Нож у него был. Настоящий немецкий штык. Завернутый в тряпицу, хранившийся под скатом крыши. Вот он — грозно-тяжелый, остро отточенный… Он сунул его под цветастую подушку. Затем спеленал шерстяное одеяло в тугую скатку — пригодится.
Дверь в дом была заперта на внутренний крючок, но с крючком он справился легко, поддев его через щель заржавленным обломком ножовочного полотна.
Вошел, чутко прислушиваясь к дыханию спящих, раскрыл шкаф. Свет луны резко и бело отразился в зеркале, укрепленном на тыльной стороне дверцы.
Замер на миг, ощущая не страх, нет, — ожесточенное, расчетливое спокойствие умелого вора. Вытащил лежавший в самом низу старенький рюкзачок, взял свой свитер, куртку, пару носков и белье. Собрал со стола продукты. Методично и тихо. На тумбочке лежали часы узколицего, мутно зеленевшие фосфоресцирующим циферблатом. Он прихватил и их — украв в первый раз, но так, словно бы крал до этого все время. После, обшарив пиджак благодетеля, выгреб все деньги — шестьдесят рублей с мелочью. Раньше такая сумма показалась бы ему сущим богатством, теперь же — мелочью, бумажками, необходимыми для жизни. Чтобы поддержать свою маленькую жизнь, не унижаясь перед жизнью большой.
Постоял, раздумывая: все ли? Кажется, да, все.
Не скрипнув половицей, ступая с пяток на кончики пальцев, пригнувшись, прошел в горницу. Выпил крынку козьего молока — не хотел, но выпил. Впрок.
У ворот задержался. Знакомый двор, погруженный в ночь, обрел неизвестные, отчужденные черты. Три мазанки размыто белели в отдалении. Захотелось плакать. Снова. Но с этим он справился. К тому же надо было спешить. Через шесть-семь часов проснется тетка; и, как только ею будет осознан его побег, город станет ловушкой. Он должен успеть… Он должен сделать все, чтобы воплотилась дремлющая его мечта, властно пробудившаяся сегодня и позвавшая прочь отсюда. Он обязан как-то попасть в порт и сесть на корабль. И в трюме приехать в какие-нибудь расчудесные страны, где тоже обязательно будет море, и скалы, и крабы, но только все лучше, и люди лучше, и уж там он будет всем обязательно нужен…
В тени уличных деревьев он пробрался к набережной, нырнул в кустарник, заполонивший приморский газон, и начал пробираться к порту. А когда подобрался близко, застыл, пораженный внезапным открытием… Совершить задуманное оказалось невозможным. Днем порт выглядел иначе — доступным, шумным… Ночь же беспристрастно обозначила все выверенные границы его…
В порту сиял свет, высветляя подходы к сетчатой ограде, вдоль которой прохаживались какие-то люди… А корабли стояли далеко, и море вокруг них тоже ровно и продуманно освещалось, а пограничные прожекторы, бороздившие небо, вдруг неожиданно и коварно бросали свои лучи то на воду, то на берег.
Неуклонно занимался ранний рассвет; улицы серели, пустыми и равнодушными глазницами смотрели окна домов, море казалось холодным и жестоким…
Он натянул куртку, привстав из-за куста.
— Ты… что тут делаешь, мальчик?
Милиционер вышел словно из ниоткуда, тут же уверенно направившись к нему. Красное, синее, черное. Околыш, китель, сапоги. Цепкий взгляд ухватил рюкзачок:
— Куда собрался? В Грецию, поди? Или в Турцию?
Он ловко поднырнул под расставленные руки, а после, подгоняемый нудно повисшей в воздухе трелью свистка, долго бежал по переулкам. Ужас давил его; ужас и ненависть — что он сделал этому милиционеру, что?!
У кинотеатра стояла грузовая машина. Двигатель работал, шофер, взобравшись на бампер, ковырялся под раскрытым, как гигантский клюв, капотом.
Он прислонился к стене дома, вдавившись в нее; затем короткими прыжками, приседая, подобрался к кузову, закинул в него рюкзак и, подтянувшись, перевалился через борт. Затаил дыхание. Сейчас шофер заглянет в кузов, обязательно заглянет — ведь он так громыхнул башмаком по дощатому настилу, так неудачно!
С тяжелым лязгом замкнулся замок капота. Чиркнула о коробок спичка — водитель закурил. Хлопнула дверь. Заверещали шестерни стартера. Машина содрогнулась на месте и поехала. Выехали за город, началось шоссе с голыми степными обочинами; затаенно полыхнуло солнце из-за далекого пригорка, и тут к нему пришла вязкая, безнадежная усталость. И он заснул. Проснулся от надсадного, с хрипом рева мотора; старый грузовичок с трудом взбирался в гору по крутой грунтовой дороге. Вокруг стоял лес. Машина тяжко дернулась — водитель включил нижнюю передачу. В этот момент мелькнул дорожный указатель со знакомым названием поселка…
Чисто интуитивно, мало что соображая одуревшей от случайного сна головой, он перевалился через задний борт, ухватив под локоть рюкзак, и спрыгнул на дорогу. Упал, перевернулся в пыли и юркнул в упругие заросли кизила, больно хлестнувшие по лицу розгами веток, ослепившими.
Когда он протер саднящие веки, разболтанно вихлявшийся кузов машины уже скрывался за гребнем подъема.
Неподалеку нашел родник. Умылся, съел кусок хлеба. Утро постепенно набирало силу, солнце начало припекать, пора было идти… Но куда?
Он вспомнил дорожный указатель, следом — бумагу с планом, где обозначался тот же самый поселок… Пойти разведать что-либо согласно рисунку? А собственно, что еще оставалось делать? В порт — окончательно ясно — не проникнешь. В город нельзя — там его ищут… Ну, что же, он пойдет по маршруту, начертанному на бумажке. Неизвестно на что надеясь, но пойдет.
Холмистым лесом он обогнул поселок. Дорога, указанная на схеме как основная, была давно заброшена: порой на нее наступал кустарник и колючая трава, иногда ныряла она в разломы выветренных скал, теряясь в них, переходя в едва приметную тропку.
Когда-то здесь шли бои. Прошло уже одиннадцать послевоенных лет, но еще не ушли в землю стреляные гильзы, дырявые каски; из-под россыпи камней он вытащил прогнивший остов автомата, сразу отбросив его в сторону. Такие находки не удивляли: снаряды, патроны, части оружия он и другие мальчишки обнаруживали в округе частенько, относясь к ним с равнодушием. Валун выступил из-за поворота внезапно и массивно — как бы поджидал его… Даже и не валун — остаток скалы, разрушенной дождем и ветрами, сгладившими ее ребра, отполировавшими податливую породу, как яичную скорлупу. Но и в ней уже наметились глубокие трещины — предвестники новых разломов.
Он сверился с планом. Тот валун, определенно тот. Обошел его, оскальзываясь на неверной осыпи рыхловатого песка и мелких камней. Вот расселина, чертой указанная на схеме, «3 м» конечно же означает три метра. Он старательно отшагал их и остановился, прислушавшись… Никого. Ни шороха, ни ветерка. Опустил взгляд под ноги. Неужели что-то там есть, в земле?
Вытащил штык. С силой вонзил его под корень какого-то дикого цветка. Еще раз, еще. Лезвие легко уходило вглубь, до «уса» рукоятки. Если тут «что-то» и было, то наверняка требовалась лопата. Он понимал это, но все же, стоя на корточках, продолжал упорно, со всего размаха кромсать штыком землю.
Глухой удар. Свело соскочившие, врезавшиеся в упор пальцы.
Он вырезал кусок дерна, просунул осторожно руку в прохладу сухой почвы, обмирая в неожиданном подозрении: вдруг мина?! — и ощутил влажный холод металла… Аккуратно начал поддевать земляные пласты, складывая их рядом. И вскоре увидел люк. Тяжелый чугунный люк с рычагом ручки.
Собравшись с силами, отодвинул его. В лицо пахнуло колодезной застоялой прохладцей. Чернота — и уходящая вниз деревянная, в мучнистом налете плесени лесенка.
Зажег спичку, склонившись над провалом и щурясь от медленно разгоравшегося огонька… Бревенчатые стены и пол, какие-то ящики…
Робко ступил на лесенку, сошел по ней вниз.
В первом ящике хранились мины — в пушистой, как мох, ржавчине. Во втором — несколько изъеденных коррозией винтовок. Третий был набит патронами — целехонькими. Густо промасленная бумага надежно сохранила металл.
Он копался в подземелье около часа, понимая: перед ним — заброшенный партизанский тайник. Нашел пару немецких «шмайссеров» — новеньких, в масле; пять гранат, десяток тщательно законсервированных пистолетов. Многое другое безвозвратно сгнило.
Прихватив тяжелый, в жирной смазке парабеллум, он выбрался наружу. И словно попал в иной мир — странный своей спокойной обыденностью и отстраненностью от него — лихорадочно возбужденного, потрясенного… Разверстый зев люка виднелся преддверием какой-то ирреальности, полной мрачных чудес.
Он оторопело смотрел на оружие — грозно-красивое, надежное, и его захлестнула сумасшедшая, воспаленная радость. Даже не представлялось, что те полуистлевшие металлические остовы, которые он находил раньше, могли иметь что-то общее с волшебным совершенством вороненой гладкой стали и рубчатой, твердо вжимающейся в ладонь рукоятью, заключавших в себе послушную ему мощь, право на власть и бесстрашие…
Закрыв лаз, он аккуратно переложил куски дерна, подогнав их — один в один, без зазоров. После, утрамбовав землю, придирчиво оценил: заметны ли какие-либо следы? Нет, здорово все замаскировано, надежно таятся его сокровища…
Изнеможенно, как после тяжкой работы, опустился у подножия валуна. Механически достал из кармана план-схему, поджег…
Глядел на огонь, болезненно морщась, едва не плача… Почему? Лишь потом, многими годами позже уяснил: в огне том горело прошлое… Прошлая война, память о маме, грузовая машина, солдаты, так и оставшийся неизвестным дядя Павел…
Но от слез удержался, хотя и запомнил их — невыплаканные. И пронес их через десятилетия — тогда неведомые.
Бумажка сгорела; растоптав ее, он вытащил из рюкзака чистую майку и любовно протер парабеллум. Выгреб из куртки патроны, набив три обоймы. После кончиками пальцев ласково погладил шероховатую рукоять пистолета. Стрельнуть бы… Хотя к чему лишний шум? Ствол к тому же надо прочистить… И сегодня же, сейчас же, выбираться отсюда на материк. Там много городов, много людей… Много денег. Их у него сейчас кот наплакал, но они будут.
Исподволь точивший его страх оказаться пойманным ушел. Он уже не боялся ничего. И не из-за того, что держал в руках оружие. Теперь у него была тайна… Своя большая тайна, которую нельзя доверить никому и с которой он будет сильнее всех!
— Я вернусь, — прошептал он скрытому в земле арсеналу, — вернусь, слышь? Вот стану взрослым, и… Ты меня подожди…
И, сжимая парабеллум, побрел через лес. Ему была нужна железная дорога.
Из оперативных и следственных документов29.03 …при производстве ремонтных работ в траншее теплотрассы обнаружен труп мужчины. Смерть, по заключению судебно-медицинской экспертизы, наступила около недели назад от проникающего пулевого ранения в грудь. Есть основания полагать, что время смерти совпадает с датой заполнения траншеи грунтом. Необходимость ремонтных работ была вызвана расхождением сварного шва на магистральной трубе. Личность убитого не установлена, отпечатки пальцев в дактилоскопических картотеках не имеются. Одежда — импортного производства. В карманах обнаружены табачные крошки, совпадающие по своему составу с набивкой сигарет «Парламент» (производство США). Результаты трасологической экспертизы: выстрел был произведен в упор, из пистолета «Вальтер PPK», в настоящее время находящегося в розыске.
22.03 …на 21 километре шоссе обнаружены два трупа мужчин с огнестрельными ранениями. На трупах — форменная одежда работников ГАИ. Согласно результатам дактилоскопирования, убитые — жители Ростовской области, ранее судимые: Семенов В. В. (кличка «Шило») и Скурин Д. И. (кличка «Псих»). Экспертиза показала: выстрелы были произведены с близкого расстояния, из пистолета «Вальтер PPK», в настоящее время находящегося в розыске. По оперативным данным, убитые связаны с преступной группой, возглавляемой жителем г. Ростова-на-Дону Овечкиным М. П. (кличка «Равелло»), неоднократно судимым за разбойные нападения и квартирные кражи.
Версия: Семенов В. В. совместно со Скуриным Д. И. встречали на шоссе известную им машину, перевозившую ценности, захват которых не удался. Около места обнаружения трупов выявлены следы белой «Волги». Результаты экспертизы микрочастиц краски, оставленных на кустах при въезде в лес, проб масляных пятен на грунте и отпечатков протектора прилагаются.
В двух километрах от места обнаружения трупов, в лесу, найдена автомашина «ВАЗ-2106» без номерных знаков. На дверных ручках и рулевом колесе — отпечатки пальцев убитых Семенова В. В. и Скурина Д. И. Личность владельца автомобиля выясняется.
Дорога подходила к концу. Скоро он будет дома, где можно наконец отоспаться — сутки, двое, времени он не пожалеет. Отоспится же он не в городе — не в квартире законной и не в коммуналке конспиративной, а на даче Машиной — сосны, апрельский озоновый воздух, мягкий велюр дивана… Выпьет коньячку, чтобы снять стресс, — хоть и не выносит алкоголь с детства, но позволит себе, ладно, лучше ведь, нежели димедрол какой… А после в небытие, перемежающееся редкими всплесками осознания себя в сладкой дреме. В высоком окне — синее небо, хвоя, а вокруг — уют теплой спальни… Быстрее бы! Устал…
Одно точило: что ждет по возвращении? Вдруг — завал в делах? Вдруг что-то с Хозяином, с шестерками? Вечное, вошедшее в кровь ожидание неожиданного, страх неизвестности.
Не терзайся, убеждал он себя, еще какой-нибудь годик, и все. Дальше будет лишь море, Маша, дом, где и короля не стыдно принять: с оранжереей, балконом, каминным залом и холлом… Он запнулся на этой мысли — не надо, ты вымотан, отстранись от всего, от мечтаний тоже. Будь частью машины, ее следящей системой, а думы и переживания оставь на потом… И лучше всего — до того дня, когда приедешь к Маше. Навсегда приедешь. Со слегка измененной после пластической операции физиономией, с новой фамилией в паспорте… благо фальшивомонетчик Прогонов документики справил замечательные. Надо бы, кстати, на всякий случай и еще у него чистыми бланками поразжиться… А вообще — опасный Прогонов свидетель, Вольдемарыч этот. Убрать? Не сегодня, не сейчас, конечно. Сейчас ты — следящая система машины, так выражается Хозяин. Разметка, скорость, встречные, обгоны, запас по дистанции — вот твоя проблематика.
А все же хорошо, что не поленился, заехал на Азов, хоть крюк вышел немалый. Зато душа не ноет: освоилась Машенька на новом месте, обжилась. Садик-огородик, фрукты-овощи… Даже тархун с анисом в рассаду вывела… ох, баба! Бриллиант! А в доме? Дворец! Музей! Машенька! Вот странно-то как… Никогда никакой любви для него и в помине не существовало. Женщины? Их было множество великое. Порой увлекался даже, да. Но чем кончалось? Или истериками, жаждой властвовать над ним, или попросту бытовой скукой… Просто было лишь с проститутками. Он платил, они работали. Красивые создания ценились дорого, но тут уж, по его убеждениям, жалеть денег представлялось… порочным. И вот как-то, в дымном гомоне интуристовского бара, размышляя о девочке на ночь, шепнул он шестерке своей, ведавшей здешними шлюхами: кто, мол, такая там, за соседним столиком?.. Э, Матерый, ответила шестерка бархатно, то не в продаже. То само по себе. Она свободу отработала, она и тебя перекупит. Назвала шестерка и двух бывших мужей незнакомки — отошедших в мир иной согласно судебным приговорам. И понял Матерый: жизнь этой женщиной наизусть выучена, все открытия позади, равно как и надежды с восторгами, а потому приглянуться ей — задача практически без решения… Но — приглянулся. Годы убил, а добился ее. И вот настало утро, когда проснулись вместе, посмотрел он ей в глаза, и ответила она ему на невысказанный вопрос: «Буду верной».
Так появился друг и партнер. Любовь? О ней не говорилось, не думалось. Пусть любят другие, кто о том ведает, решил он. Меня же устроит кондовая надежность битой бабы. Э-эх, дурак! Не знал любви и знать не хотел, доступность случайных, ветреных попутчиц выхолостила душу, а любовь все равно пришла, пробилась сквозь коросту сердца, и теперь нет у тебя ничего, кроме любви; все остальное — белиберда, текучка, поденщина…
Машенька! Как бы быстрее возле тебя очутиться, ведьма; как бы быстрее, родная моя…
Стоп! Ты — следящая система… Прочь все воспоминания, прочь! И события дней последних, оставшиеся там, за спиной, и фрагменты их, назойливо всплывающие: клювы нефтяных насосов под Баку, постовые со смуглыми лицами, прохладный подвал караван-сарая с вишневыми скатертями на столах и хрусталем; штормящий Каспий, браконьерские ладьи, осетровые и белужьи туши в звездных костяных шипах, чаны с черной, липкой икрой, бледно-розовые потроха рыб, чем-то напоминающие поросячьи… Точно: в Иране осетровых не едят: рыба — свинья… Ну, чудаки! А мы лопаем! И слава богу, что пока лопаем! Икры же этой в «Волге» — две трети багажника! Одна треть — балык. Ах, Прогонов, спасибо за специальный документик… Гореть бы без него на этом маршруте, причем по-дешевому, за копейки. Но как не урвать? Хозяин бы, конечно, от возмущения лопнул, узнай, на какой риск иду… Грешим за его спиной, грешим… Ох, будет концерт, как проведает… Хотя куда он без нас? Он — мозг, а мы — руки. Шаловливые. Плохо это! От начала до конца плохо. Жадность фрайера… Ну, ехал бы сейчас порожний, скучающе, чинно… Сколько вся икра стоит? Тьфу! Нет, надо лишний червонец сорвать с куста! Ну, лишние тысячи… Чуть больше их или чуть меньше, какая разница? Жлоб ты, Матерый! Нет у тебя кругозора, нет широты, прав Хозяин! А погоришь — его подведешь… Все, кончай, Матерый, с такой мелочевкой, кончай! Икорку через Леву сплавишь в последний раз, и пусть Лева из игры рыбной выходит. Ненадежен он, торгаш, продаст в полкасания, хоть и есть у него с блатными своя линия по всей стране. Да и тебя Лева опасаться начал, по всему видно. Сдрейфил. Силу за тобой почувствовал, масштаб; а страх перед компаньоном — чревато это, склизко. Тем более — повязал ты Леву когда-то на серьезных кушах, на погромах железнодорожных; через него, барыгу, много чего ушло, а сейчас прикидывает Лева: какой срок за то самое «много»? Ведь не в архиве то самое; да и вещички еще в обороте; вдруг, не ровен час, вылезет для сыщиков кончик? Занервничал Лева, задергался. А почему? Дна у него нет, лечь некуда. Грянет час страшный, протрубят трубы или фанфары, и загремит под их завывания Лева в преисподнюю, потому что воровал без оглядки, текущим днем жил, а будущего себе не сочинил, да и деньги никогда не умел вкладывать — или проматывал, или копил. Их удел, торгашей. И твой когда-то удел был, Матерый. Помнишь? А помнишь, как года три назад славно посидели ночку у Хозяина за разговорами? Что тебе Хозяин напоследок сказал? Время, сказал, ныне разухабистое, пей-лей, народное — значит, твое; но настанет момент, и другая демократия поспешит сменить нынешнюю, и всех перепивших и переевших она опохмелит. Знаю: обманываете вы меня, в люди я вас тяну, а вы обманываете… И за обман поплатитесь. Вместе со мной. Потому если спастись хочешь — готовь отступной вариант. Срочно: гуляночка на закате…
Крепко ему, Матерому, эти слова в душу запали, отрезвили. К тому же имелось, чем дорожить: Машей — случайно и счастливо встреченной, первой ж е н щ и н о й, смыслом всего.
Нашедшейся, как драгоценный камень среди пляжной гальки. И ради нее стоило подготовить то будущее, где место лишь цветам, морю, любви и солнцу. И так — до конца. Покуда сон блаженный — как тот, что предвкушаем сейчас — с соснами и березками за синим дачным окном в кратких моментах пробуждения, — не сменится мраком навсегда, ничем.
…Груз полагалось оставить на перевалочной базе в Подольске, в одном из гаражей.
Он открыл багажник, механически надел перчатки и подумал: глупо… Сколько людей хваталось за эти канистры с икрой, за фольгу, которой обернуты балыки… Да и в гараже этом наверняка есть отпечатки пальчиков тех, кто знал либо видел его. Если суждено, так или иначе найдут…
Вновь колко сжала горло обреченность. Быстрее бы… Гараж был ангажирован Левой у директора местного ресторанчика, кормившегося на браконьерской рыбке и икре с самого начала «предприятия». Крепкий гаражик, снабженный тремя внутренними замками повышенной секретности; литыми, будто чугунными, воротами; оформленный дальновидно на дядю директора — инженера, вышедшего на пенсию, — то есть человека с нейтральным, неассоциативным общественным статусом… Конспиративную цепочку Матерый просчитал точно: бармен, правая рука директора, в случае возникающих у шефа неприятностей, оперативно связывался с шестеркой Матерого, и, пока милиция выходила бы извилистыми путями на гаражик, содержимое бы его перебазировалось. Директору тоже внушили: горишь, гори один. Купил икру или рыбу случайно, продавца помню смутно: лысый, в очках. Чистосердечное признание — штука хорошая, но учти: идешь на срок в одиночку — часть первая; с компанией — вторая, а то и третья.
Закрыв гараж, Матерый снял номера с машины в поросшем кустарником закутке возле гаражей и, достав лопату, закопал их. Номера «светились», долой! Рукастый Толик-мастер отштампует новые, а техпаспорта Прогонов рисует как дружеские шаржи.
Взглянул на часы. По времени он укладывался точно, несмотря на проделанный крюк к Азову… Успел. До Москвы — рукой подать, а там — первый же телефон, контрольный звонок Леве: «Привет. На уху есть…» Он выехал на магистраль. И прислушался к себе, к неприятному, тягостному чувству, непонятно отчего крепнувшему с каждой минутой… Впервые оно пришло к нему, когда выезжал из Ростова. Будто следил за ним некто всевидящий и коварный. Нервы? Здоровая настороженность? Или смертельно устал?
Попытался вспомнить цифры новых номеров; не вспомнил. Стянув зубами перчатки, бросил их на сиденье, прошептал, успокаивая себя: не психуй, если бы что — брали бы у гаража, на горячем. Однако тревога не отпускала. Тренированное чутье словно талдычило: не так что-то, что-то не так…
— Черт! — не удержался он. — Отпусти… Всю жизнь меня крутишь; я-то знаю: есть ты… Ну, отпусти! Сыграй на руку, хоть не из твоей я гвардии, не люблю тебя…
Обновленное свежим асфальтом шоссе полилось под колеса туго, широко и свободно.
Двое в форме. ГАИ. Полосатый жезл, белые перчатки… Машины рядом нет. Останавливают… Проскочить? Сзади — лабух в желтых «Жигулях», догонит навряд ли… Эх, рация у них…
Тормознем. Наверняка не по нашу душу, так захват не производится. Хотя… В любом случае — попросят подвезти. По выражениям лиц видно. Чуть проедь… Вот. «Вальтер» из-под сиденья под ногу, предохранитель спусти… Безразличие, легкая усталость… Зеркало подправь — один сзади сядет, горло пережмет, если всерьез это… Не по-хозяйски бредут, семенят, как фрайера, вприпрыжку… Лейтенант и сержантик. Ну, рожи! Лимитчики? Первый, лейтенант, еще ничего так, а… Ну-ка соберись. Не по этим ли сволочам тревога тебя ела? Напрягись, как струна; не ублажай душу, что без груза; номера — липа, техпаспорт — липа… Матерый приспустил стекло.
— До поста довезешь? — наклонившись, спросил лейтенант — молодой приземистый парень с рысьими, зеленоватыми глазами.
— Можно.
Уселись. Лейтенант — на переднее сиденье, сержант — позади. Чем-то они не нравились ему, эти милиционеры. Было в них что-то неестественное, шедшее от примет даже внешних: дурноватое, чуть отекшее лицо лейтенанта — без режима живет, разбросанно; а сержант — жесткий мужик, таких на плач и сердобольность не прикупишь — только силой, властью. И озабочен сержант как-то мрачно, целеустремленно, до ломоты в скулах.
Нет, не гаишники они… Может — оперы? Тоже нет. У оперов — печать на печати, сразу видать… Да и не стали бы оперы вымученных сюжетов накручивать, взяли бы на посту, чего мудрить? А может, ряженые? Похоже! Деньги… Везу деньги. У гаража выследили и, пока копался там, чуток опередили. Кто-то навел, значит. Так. Сейчас я еще вполоборота к тому, «сержанту», сейчас не его момент, опасно, а их капитально насчет меня предупредили! Стало быть, ждут, когда отвлекусь. Тут — нож в спину, молодой сразу к рулю потянется, если тронуться успею — скорость мала, но все же… Но кто знал, что с деньгами я буду? Друзья восточные? Так они же и отстегивали, им не резон… Левка? Но ведь ему же деньги везу… Неужели нервы? Спокойно. Попроси «сержанта» дверцу покрепче захлопнуть — и газу резко, вот так. А, не готовы были? Ну, теперь давайте, теперь если имелась схема, то она сломана: на спидометре — сорок, шестьдесят, восемьдесят… поздно! На ходу кончать — риск. Четвертая передача. Упущен момент, сявки. А «сержант» думает… Боковым зрением Матерый наблюдал за ним в зеркало.
«Лейтенант» с угрюмой сосредоточенностью смотрел куда-то вдаль. Руки его, лежавшие на коленях, были явно напряжены. Жезл он положил на сиденье рядом с дверцей.
Губы «сержанта» шевельнулись… молчит, подбирает слова.
— Слышь, может, до поста сойдем? — неуверенно спросил он «лейтенанта». — А то вдруг — начальство? Проверка сегодня… Переждем, а? Сколько времени-то натикало?
«Лейтенант» оголил кисть. Часы «Ориентил» — массивные, с уймой красивеньких излишеств, — шантрапа такие любит, «хапужные» часы — мясников, кладбищенских деятелей, автослесарей — словом, удачливых кусочников, на мелких точках подворовывающих, знак их касты; но часы — ладно, а татуировочка вот у тебя на запястье, дружок любезный…
Заплясали мысли, встраивая фрагмент татуировки в известные схемы… Есть! Не ошибка молодости, не любительщина армейская или флотская, не блатная даже, а с «кичи», в тюряге наколот этот крест, обвитый змеей; ряженые!
— Вот тут тормозни, — произнес «лейтенант» сдавленно.
Матерый принял вправо.
Рука «сержанта» скользнула под полу кителя.
Резко пошла вниз стрелка спидометра.
«Лейтенант» инстинктивно подался ближе к рулю.
Сзади блеснула сталь лезвия.
Матерый с силой вдавил педаль тормоза в пол.
«Лейтенант», растопырив руки, всем телом навалился на «торпеду». Фуражка слетела с его головы. В то же мгновение Матерый, распахнув дверцу, выбросился наружу. Нож вонзился в край клавиши звукового сигнала, соскочив затем в паз поперечины. Резкий, внезапный звук оглушил; по лицам «милиционеров» скользнули испуг и растерянность. Матерый тоже замешкался, но лишь на секунду, а потом увидел как бы все сразу: лес по обочинам, жало лезвия, плотно застрявшее в пластмассе; ошеломленных, торопливо соображающих «гаишников», сзади — далекое желтое пятнышко приближающихся «Жигулей», пустую встречную полосу, мушку «вальтера» — и когда он его выхватить-то успел…
Выстрел прозвучал негромко и безобидно, будто хлопнули в ладоши. На лбу у «сержанта» словно раздавили клюкву. Закатились глаза, открылся рот, обнажив редкие, прокуренные зубы; и устало, как после тяжкой работы, он отвалился спиной назад.
«Чехлы менять — точно», — рассудил Матерый, целясь в «лейтенанта». Тот громко икнул от ужаса. Рука его, потянувшаяся было за пазуху, застыла в воздухе, как бы сведенная параличом.
— Будешь вести себя хорошо, эта штука не выстрелит, — процедил Матерый, усаживаясь за руль и вытаскивая из него нож.
Желтые «Жигули» пронеслись мимо. Проводив их взглядом искоса, Матерый тронулся следом. «Лейтенант» дрожал, затравленно глядя на него. Шептал как заклинание:
— Не убивай… только не…
Приметив ближайший съезд в лес, Матерый свернул с дороги. Брезгливо отпихнул потянувшегося к рулю «лейтенанта», почувствовавшего, видимо, недоброе в таком маневре.
— Не дергайся, гнида…
Остановился на краю поляны, куда вывела узенькая лесная тропка, окаймленная почернелым, истаявшим снегом.
— Ну, — вновь направил пистолет на ряженого, — теперь говори: кто, что, как, почему…
— Левка это… — прозвучал едва слышный ответ. — Левка. Ростовские мы…
— Ростовские, псковские… Что — Левка?! Концы резать хотел?
— Не знаю… Мы — нанятые, бойцы; я, он… — Опасливо зыркнул на мертвеца. — Равелло послал, он у нас пахан. Подсобите, сказал, человеку. Он заплатит. Левка, значит. Ну, мы сюда, в стольный град. Свиделись. Десять кусков за тебя посулил. С монетами ты, знаю. Там, у гаража, тебя ждали, но там стремно показалось. Ну, пока разгружался ты, Левка сюда нас довез, а сам в город подался.
— Ну, кончили бы меня, — равнодушно кивнул Матерый. — Дальше?
— Тачку в ельник, деньги к Левке… Он нам свои колеса оставил — неподалеку тут, в лесу… Показать?
— Не надо. Лева ждет?
— Сегодня, — с готовностью пояснил «лейтенант», не отрывая взгляд от пистолета, — в девять часов, вечером…
— Дома у себя?
— Ну да!
— Предварительно звонить надо?
— Не… Подъезжаем на хату, расчет — и разбежались.
— А ежели без расчета?.. И привет Леве?
— Ты что! Петля! Равелло удавит… Мы ж блатные, закон понимаем…
Матерый не удержался, фыркнул: закон!
— Ходки есть? — спросил резко. — Тянул?
— У меня — две, у него… — «лейтенант» вновь оглянулся на труп, — у Шила — четыре…
Матерый сунул «вальтер» за пояс.
— Помоги вытащить его, — приказал озабоченно.
Тело грузно опустилось на землю.
— Говорил же! — причитал «лейтенант», отирая ладони о брюки. — Зачем на мокруху идти? Не, чесалось у Шила! За десять-то кусков, тьфу! Если бы не Равелло…
Снова легкий хлопок. «Лейтенант» повалился на труп напарника, не застонав, словно в рот ему с размаху всадили кляп.
Матерый неторопливо осмотрелся. Вокруг стоял голый, тусклый весенний лес, превозмогающий прение трав и засилье глинистой, талой воды — пиши для своего воскресения.
Перевел взгляд на трупы. Это мясо надо упаковать в багажник: после придумать, где зарыть его; затем с машиной Левкиной разобраться — от нее многое потянется… не было печали!
И вдруг — голоса! Он ушам не поверил… Точно. Голоса. Люди. Идут сюда. Что им делать-то здесь в пору такую? С ума посходили? Слова… Что-то про подснежники, про сморчки… Ну сколько же на свете белом идиотов праздношатающихся! И все, как назло, там норовят очутиться, где дьявол бал правит…
Он влез в машину; газуя на раскисшей почве, развернулся и ринулся обратно, к шоссе. После, выбравшись на асфальт, рванул вперед, выжимая из двигателя весь ресурс мощности. Исподволь утешал себя: правильно, свидетелей убирать не стоило, да и не получилось бы, — тут пулемет нужен, а так — кинутся врассыпную, и… Но зато теперь — труба! Ненависти к Левке не было. Не деньги Левке нужны были. Деньги — гонорар этим ублюдкам дохлым. Концы Лева резал. Занервничал, трус, так и есть!
Теперь. Трупы, считай, уже найдены. Машину Левину тоже обнаружат, без вопросов. Дальше — просто. Выяснить личности ряженых — чепуха. Ситуацию поймут: неудачно нарвались. А зачем на гастроли пожаловали? Тоже, в общем, не тайна тайн. Преступный мир секреты хранит, как дырявый мешок — змей. Сведения из него просачиваются куда надо, руслами многочисленными и налаженными. Выйдут конечно же на Равелло, от него — к Леве, и начнется! Вся железнодорожная эпопея раскрутится, каналы сбыта, а далее — сопутствующие дела Хозяина, а на тех делах большие люди… А причиной — пугливенький Лева… Скотина, мразь!
Он с силой ударил кулаком по рулю. И тут пронзительно уяснил всю логику ситуации, ее закономерность и неотвратимость. Он не мог не убить ряженых, а ряженые не могли отказаться от убийства его, Матерого, ибо подчинялись закону шайки, где главенствовал наверняка деспотичный бандюга. А над бандюгой царил Лева, за которым стояли слишком большие деньги и связи, чтобы отказать Леве в мелкой услуге перерезать кому-то горло. Лева же нуждался в безопасности, иначе грозило бы ему лишь одно: смерть. Высшая мера. В лучшем случае — пятнадцать лет, означавшие ту же гибель, но куда более мучительную, долгую и страшную для него — изнеженного и праздного, нежели мгновение полета пули, вгрызающейся в сердце или мозг. Вот почему надлежало убрать тебя, Матерый. Твоя смерть, именно — смерть, являла залог безопасности Левы, равно как его смерть — залог твоей безопасности. Это не месть, не свара, не дележ добычи, это — деловые отношения. Ты еще лишь в общем понимал сущность происходящего, когда убивал «лейтенанта», но понимал верно, пусть и подумывал: не горячусь ли, вдруг да использовать гаденыша в качестве контактного звена, через которое выдернешь на свидание Леву? Нет. Покуда в шоке, быдло покорно, но после за него не поручишься. К тому же исчезновение Шила незаметным бы не осталось. Все ты грамотно сделал. Если бы не людишки в лесу, вообще бы… Так. Дальше думаем. К Равелло милиция притопает, ее таланты принижать не будем. Не сразу, не наскоком, но расколют они пахана. А тот? Сдаст Леву? Но ведь и только, насчет меня он — ни гугу, Равелло этот. А если гугу? Вряд ли. Хорошо: допустим, ни гугу. Тогда выход на меня исключительно через Леву. Вернее, через труп Левы. А здесь — прикинь. Где, когда видели тебя с ним, какая информация о тебе могла уйти по его знакомым — этого не существующего уже в принципе Левы? Вспомнилась дача, велюр дивана, мечта о сладком сне…
— Забот-то теперь, забот… — Он озадаченно посмотрел на часы. — До вечера надо что-то обязательно придумать, надо успеть… «Волгу» в порядок привести: кровь сзади на чехлах замыть, от пистолета освободиться… А как освободишься, если к арсеналу триста верст пилить, далеко тайник, а без оружия куда? Придется рисковать, придется и таскать с собой улику, и воспользоваться ею. А если ножом Леву? Но неизвестно еще, какая обстановочка сложится. Да и ненадежно ножом…
Неужели все кончено? Неужели сейчас начало краха? Тогда, в перестрелке на путях, он думал: финиш, приплыл к водопаду — ан обошлось вроде… Вдруг и здесь обойдется? Одно несомненно: предстоит разговор с Хозяином. Трудный разговор. Боязно и подумать о нем. Ведь предупреждал Хозяин, тысячу раз наказывал: не лезь в уголовщину, делом занимайся, зарабатывай, помогая людям и государству… Кивал ты, соглашался, а сам… В шестнадцатом бы веке тебе родиться, Матерый, был бы ты там к месту: большая дорога или широкое море, твоя любовь. Пиратом ты на свет явился, вольным разбойничком, и никак не мог приладиться к бумажно-компьютерному, жестокому веку, где убивают, душа в объятиях, а зарабатывают на резолюциях, связях и визах. Да, придется объясниться с Хозяином. Ибо: выйдут на тебя, выйдут и на него. А если его прижмут — все побережья всех морей обшарят, и уж про Азов не забудут…
А… убрать Хозяина? Еще хуже. Тогда точно на тебя выйдут.
— Ох, забот-то, — стиснул он зубы. — Ну, забот!
Он уехал, не дождавшись развязки. Страшась увидеть то, чего столь страстно желал все последнее время. Смалодушничал. Ведь там, у гаража, где разгружался Матерый, все бы могло и завершиться. Но — дрогнул, перевел стрелку на запасной вариант, чтобы не стать свидетелем бойни, убедив и себя, и наймитов — убийц то есть, да-да, именно — убийц! — и сам ты тоже убийца! — с ленцой убедив — чтобы авторитет не занизить: дескать, не стоит здесь, слишком людно, да и «Волгу» с трупом перегонять… Работайте «милицейских попутчиков». И смотался трусливо, скрывая ужас надменностью киношного мафиозо, — мол, времени нет, чтобы на пустяки его транжирить, дела ждут, сами разбирайтесь, шестерки… А теперь — жди! Жди, взвинчивая себе нервы, томясь в неизвестности. А если прикарманили наймиты деньги и — на вокзал? Вряд ли… Да и пусть бы так, пусть! Лишь бы…
Неужели положили Матерого? Весь этот комок мускулов, расчетливого ума… Даже если сразу в сердце попали, умирал он наверняка тяжело, до последнего вздоха борясь за жизнь, исходя кровью, ненавистью, вычислив все, и его, Льва, тоже…
Он вздрогнул. Звонок в дверь. Кто? Эти шакалы? А если засыпались, если милиция?
Судорожно выпил рюмку водки. Оглядел комнату. Картины, стильная мебель, видео, компьютер для телеигр, гобелены… Этого хотел всю жизнь? Ну, вот и… решается. Или твое, или…
Подошел к двери, ткнулся лбом в пухлую кожаную обивку.
— Кто? — проронил грубо.
— К Леве я, к Леве, — ответил приглушенно развязный, прокуренный голос.
Накинув цепочку, он открыл дверь. В узком просвете увидел незнакомого парня: кожанка, кепочка, скуластое лицо, стылый взгляд много разной погани видевших глаз; крупные черты лица.
— Привет от Шила…
— Где он?
Парень ногтем потрогал цепочку. Хмыкнул снисходительно:
— Так и будем… беседы беседовать?
— Именно, — отрезал Лева.
— В общем, — хмуро сказал гость, пальцем подняв козырек кепочки, — Шило передать просил: дело подняли большое, у тебя долю делить — стремно, езжай к ним, получи. Или у Равелло возьмешь, как знаешь. Я — кореш Шилов… На тачке я, таксер. Решай. Едем — едем. Нет — покеда. Все. Выдохся. Думай, свет очей моих. И еще — стольничек за визит. Я не курьер из конторы в контору. Отработал — отдай.
— С чего это я тебе… — начал Лева.
— А… с вас всех трех по стольничку, — с невозмутимой угодливостью разъяснил таксер. — И я — могила. Наворотили ведь? Значит, тоже рискую, не общественник-энтузиаст…
— А ехать куда? — Лев соображал: провокация? Не похоже. А если против него что-то ребятки замыслили? У сброда ведь логика путаная… Но тоже — какой резон?
Вот она — плата за трусость! А не дергался бы, не финтил, не стоял бы сейчас перед тобой этот подонок, никто бы не принуждал мчаться в неизвестность; сиди, пей водку да смотри телик — приключения разных там брюсов и джеймсов бондов…
— Так куда ехать? — повторил он.
— Ко мне. В Перово. Хата у меня там. — Таксер вздохнул: — Ты… быстрее прикидывай, голова, недосуг мне.
— Иди… — сказал Лев. — Внизу обожди. Я сейчас…
Закрыл дверь. Уперся в отчаянии лбом в косяк. А что, если таксист — мент? Нет. С такой рожей и с такой стрижкой? А вдруг стукачок? Ладно гадать. Не дрейфь. В случае чего — был пьян, поехал по инерции… А Матерый? Мог вывернуться и свою игру начать, перекупив наймитов? Ну… то из области фантазий, больного воображения. Похоже, шизиком ты становишься от излишних нервных нагрузок, которыми жизнь твоя обременена каждодневно…
Он оделся. У порога перекрестился на темноту комнаты, в которой висели иконы. Тщательно запер дверь.
Таксист включил счетчик.
— Только учти, — предупредил, как бы извиняясь, — стольник стольником, а что на счетчике — отдельно.
— Двигай, крохобор, — обронил Лев, превозмогая невольную дрожь.
— Двинуть-то я двину, но учти…
— Учел, учел! — обернулся Лев к таксисту с яростью. — И еще сверху пятьдесят своих копеек получишь, успокойся!
— Ну и… поехали, — откликнулся таксист миролюбиво. — Отличное обслуживание гарантирую.
Город уже засыпал, пустые улицы были сухи от ночных апрельских заморозков; шины шелестели по асфальту гудяще, тягуче… Поежившись, Лев оглянулся назад. Затем, отогнув кисть, осторожно вытряхнул из-под рукава куртки нож — обыкновенный, столовый нож… Подумал: кретин… Трусливый кретин. И чего маешься? Чего грозит тебе? И кто? Выдернула тебя шпана, потому как не поверила в честный расчет, — провинциалы, дуболомы…
Машина въехала в район новостроек, дорога пошла ухабистая, узкая, петлявшая среди пустырей, загроможденных строительным хламом: кирпичным, бетонным боем и искореженной арматурой.
— Тэк-с, — сказал таксист, тормозя. — Прибыли. Вон тот дом. Тележку уродовать не будем, сплошные колдобины, мать их, пешком дойдем, тут две минуты. Счетчик выключать? Или обратно тебя доставить?
— Обратно, — буркнул Лев, вылезая из машины.
Двинулись вдоль стены строящегося дома, поминутно попадая то в грязь, то в лужи. Таксист, злобно матерясь, шагал впереди.
— Во, хату где дали, — сетовал он. — Еще век пройдет, пока тут асфальт проложат…
— От таксопарка получил? — спросил Лев, тревожно всматриваясь в темноту.
— Ну, конечно, от парка! Дождешься! Кооператив… Тут вот осторожнее, бочком, а то — траншея, не ровен час…
Лев крепко сжимал рукоять ножа. Сердце ныло от алкоголя, страха, безвестности унизительного пути в темноте и в грязи…
У штабеля бетонных плит, вплотную лежавших к краю траншеи, он замешкался; провожатый обогнул штабель, канув в темноту, Лев, поразмыслив, шагнул за ним и вдруг почувствовал, как грудью наткнулся на какой-то выступ, и, прежде чем сообразил, что не выступ это, упал навзничь, отброшенный сильным, упругим толчком. Ноющая боль в сердце сменилась жгучей пустотой, внезапно образовавшейся где-то внутри, словно взорвалось там что-то, разметав все по сторонам — жестоко, навсегда разметав… И он закричал. Закричал изо всей силы, как бы вслед уходящему от него самому дорогому существу, — не в состоянии остановить его, задержать даже на мгновение… И чем громче кричал он, погружаясь в вечность этого крика, тем более казался ему крик немым и беспомощным, а стеклянная темная вечность все надвигалась и надвигалась, а после из нее выплыла какая-то огромная, однако невидимая рыба, и, кося сумасшедшим глазом, тоже, словно в крике, открыла безгубый, разверзнутый в ничто рот, и…
…— Карманчики пустенькие, — сказал Матерый. — Выстрел в упор, как шарик, лопнул. Точно в исстрадавшееся сердце.
— Легкая смерть, — скорбно вздохнул таксист. — И не пикнул, гражданинчик.
— У, смотри-ка, ножичек он с собою нес! — Матерый смешливо качнул головой. — Дорого готовился в случае чего…
— Кухонный… Фрайер, — констатировал таксист.
— Все, чистый он. — Матерый еще раз проверил внутренние карманы. — Теперь давай без суеты, но по-скорому… Под плечи его бери, не измажься смотри…
— Впервые на мокрое иду. — Голос у таксиста неожиданно пресекся. — Противно… Как бы не повязали еще…
— Десятку плачу! — прорычал Матерый сквозь стиснутые зубы. — За эту шваль…
— Вот десяточку и дадут, — заметил таксист, с кряхтением приподнимая труп.
— Покаркай! Лопата где?
— Рядом, под ногой у тебя, гляди лучше…
— К осыпи его давай! Точно траншею завтра заровняют?
— Ну, сам же слышал! Видишь, и бульдозер оставили. Этот малый клялся бригадиру: прямо с утра, говорил, наглухо канаву заглажу, сегодня отпусти, переэкзаменовка какая-то там…
— А у нас — экзамен! Посвети, кровища есть? Вот тут присыплем, понял? А завтра проверишь насчет бульдозера и вообще…
— Ну! Дело общее, серьезное…
— Вот то-то! Если что — звони. Ботинки выбрось, одежду проверь: не замарался ли?
— Матерый, слышь, а точно он тебя сдать хотел?
— Х-хэ… Меня! Думаешь, только свое дело отмазываю? И тебя за дурика держу?
— Да нет, я верю…
— Спасибо, доверчивый ты мой! Кто «Волги» ваши угнанные через него сплавлял? Я! А молчать бы ему не позволили — хищение в особо крупных… Дальше — дело техники. Через моих знакомых — на тебя, рецидивиста. А у «Волг» этих ты крутился. Вот тебе и тормоз на долгие лета! С гидравлическим усилением!
— Профилактика, выходит?
— Выходит.
— А если боком выйдет? Вышак?
— Вышак, пятнашка, какая разница? В зоне не жизнь, сам знаешь.
— Ну нет, Матерый, лучше уж в зоне…
— Да ты вон на покойничка посмотри… Тихий, смирный, никаких головных болей — все за чертой… Ботинок присыпь. Ты чего, слепнуть начал?
— Знаю. Помолчи, будь другом, понял? Вырвет сейчас…
— Я те вырву! Вещественные доказательства не оставлять!
— Да глохни же ты! — раздалось сквозь стон.
Старинные часы в узорчатом саркофаге футляра долго и настойчиво гудели томными ударами: полдень.
Он с трудом поднялся с кровати. Обычное утро, пустая квартира. Жена давно на работе, дочь скоро придет из школы. Прозрачный алый шелк штор, свет, застывшими полосами пробивающийся в спальню, и мягкий ковер, где, царапая ворс, тянулся, покачивая пушистым хвостом, ангорский кот.
Ярославцев выпростал из-под одеяла ногу и медленно провел голой стопой по теплому, чистому кусочку меха, нежно и шершаво лизнувшего его палец. Встал, кривясь от надсадной боли в затылке и растопыренной пятерней массируя макушку.
«Спиваюсь, — подумалось обреченно и равнодушно. — Надо кончать… Каждый день… Каждый ведь день, скотина!»
Умылся, прошел на кухню. Есть не хотелось. Выпил, давясь, бутылку холодной «пепси», закурил. Провел ладонью по щеке — неопрятно колкой, в щетине… Мог ли он предположить, что когда-нибудь станет вкладывать в понятие «работа» то, что никак не вяжется с понятиями, ей сопутствующими: «зарплата», «трудовой коллектив», «общественные обязанности», «сверхурочные»… Впрочем, официальный статус у него имеется: как-никак, консультант министерства, а точнее, министерств; и зарплата есть, причем не одна; одна — с учтенным подоходным налогом, другие же более схожи с гонорарами, получаемыми сразу за год, в пухлых конвертах — в высоких кабинетах: за труд того же самого незаменимого консультанта. И существует, наконец, з а р а б о т о к, перед которым меркнут все эти зарплаты и гонорары, но цена заработку — адский труд, нервы, здоровье и… вероятно, голова, как он понимает сейчас.
Потянулся за второй сигаретой, но в пачке осталась лишь упаковочная фольга… Все. Кончился «Парламент», классное курево. Надо заглянуть в валютный бар, не зря же пристроил там человечков, пусть уж на табачок расколются.
Вставил телефонный штепсель в розетку. День сегодня выдавался сравнительно легкий, половина вопросов решалась по проводам.
— Милочка? Это Ярославцев. Звонили, никто не отвечал? Естественно, с шести утра на ногах… Вот именно, потому, Милочка, и вечно бодр. Наш грозный шеф, надеюсь, на месте?
Грозный шеф снял трубку незамедлительно.
— Ты не присутствовал на утреннем совещании, — в голосе его звучало трудно скрываемое раздражение, — а зря! Я же тебя просил, обсуждались планы…
— Не зря, — оборвал он. — И не кипятись. Если я буду участвовать в твоих совещаниях, дело встанет. А если встанет дело… В общем, присылай машины. Документы подписаны, стройматериалы будут сегодня же у заказчика.
— Володечка… — резко переменился тон. — Володечка… Когда успел?
— А! И куда чиновный раж делся? Успел… Вчера, в двадцать пятом часу. Но материалы — не за просто так…
— Да? — настороженно спросил голос.
— В твоем подчинении имеется один интересный учебный полигон. Грошев там директор, так? Ну, вот. У Грошева этого на пятом складе пять лет лежит законсервированный дизель.
— Откуда я знаю, чего есть у какого-то там…
— Очень плохо, что не знаешь. Прояви осведомленность, повысь тем самым авторитет среди подчиненных. Это еще тебе, считай, и презент от меня… в смысле моральной поддержки штанов. Далее. Заявится сегодня к вашей милости человечек от наших стройматериальных благодетелей. Потоми его в прихожей, сколько положено согласно рангу, потом подпиши ему бумажку. Там, в бумажке, просьба о передаче дизеля, гарантия об оплате, полный набор формальностей. Заодно избавишь своего Грошева от барахла, а народному хозяйству — польза.
— Но вдруг…
— «Вдруг» с дизелем не наступало пять лет. Но пусть «вдруг». Новый дизель тогда за мной. Без задержек и без всяких вспомогательных потуг с твоей стороны.
— Идет. А как с бензином на этот квартал?
— Завтра после коллегии к тебе пожалует человечек. Его в прихожей не томи.
— Понял.
— У меня все.
— У тебя точно — все! Все на свете! Когда будешь?
— Когда будет нужда. У тебя или у меня.
Он положил трубку. Еще два-три таких звонка, и, кажется, свою непосредственную работу на общество он на сегодня завершил… Задался внезапно вопросом: а когда ты работал только на себя, на собственные нужды, ради наживы, наконец? Есть грех: открыта с твоей легкой руки чертова уйма всяких промыслов: легальных, полулегальных и нелегальных; однако на них производится то, что необходимо людям, то, за что люди охотно готовы платить, причем не интересуясь ни суммой прибыли, ни ее распределением…
Он отогнал от себя дальнейшие мысли — как праздные и одновременно тягостные; оделся и вышел на улицу.
Внезапно потеплело, асфальт стал влажен и черен, морось порывами осыпала стекло, мелкой грязью пылили грузовики, серая и дымная магистраль, заполоненная машинами, жила какой-то угрюмой, механической жизнью индустриальной повседневности, а он, следуя в этом тумане промозглого дня, выхлопов и громыхающего, в липкой грязи железа, вспоминал будни иные, прошедшие; вспоминал, как просыпался по звонку будильника, как дорог и сладок был растревоженный этим заливистым трезвоном сон, однако расставался он с ним не усилием воли, не властным приказом самому себе: «Надо!» — надо тянуть лямку, надо не опоздать, надо не получить выволочки; нет, его поднимало другое — желание труда, желание видеть людей, разделяющих с ним этот труд — порой нудный, изматывающий, но всегда необходимый.
Труд не пугал его, напротив, был в радость, и он тянулся к нему, тем более что взрослые отвечали на это неизменно благодарностью и уважением, а гонять с полудня до вечера мяч во дворе, где сушилось белье и простыни на канатах, протянутых меж старыми липами, не хотелось, хотя никто вроде бы и не неволил, — иди, двери открыты, и мяч есть собственный, и уроки сделаны, иди… Но — не шел.
— А это — тебе. — Отец достал пять рублей. — Вместе пахали, получай.
Тогда он помогал отцу ставить новую дверь на петли в соседнем доме, обивать ее дерматином.
— Да ты что, пап, я ж так…
— Не за так, а за работу. За так, сынок, денег не платят. Ну, чего покупать будешь? Мороженое небось?
— Не, я на куртку денег коплю… Кожаную. Как у летчиков.
— Пилотом, стало быть, хочешь?
— Хочу, в общем… Теплая она, куртка… Да и чувствуешь в ней себя как-то… Ну… таким.
— Мужиком, понятно. Ну-ну.
Куртку он себе вскоре купил. Но походил в ней всего два дня. Вечером третьего дня куртку с него сняла в подъезде компания подвыпивших подростков. Помахали ножами, угрожая и неумело матерясь; разбили губу… Зачинщика он знал. Знал и других — шпана с соседней улицы, но никому ничего не сказал. Украли, мол, когда в футбол играл, — бросил на краю площадки, разиня… Ну и забегался. Утром следующего дня навестил зачинщика, подняв его с постели. Зачинщик был голубятником.
— Куртку поносил? — спросил он с порога.
— Какая… Да иди ты…
— Голубков не жалко?
— Че?
— На лестницу выйди, в окошечко глянь…
На тусклой утренней улице, у обшарпанной стены дома из красного кирпича, жалась непроспавшаяся троица: уже взрослая шпана во главе с Мишкой Сухарем — хулиганы отпетые, побывавшие в колониях, гроза мелкой шпаны, блатные. Нанятые за червонец постоять утром на углу дома. Такая легкая задача Сухаря устраивала, он и объяснений не потребовал.
— Голубки твои на вертел пойдут. Шашлык ребята с утра любят, — заметил Ярославцев и помахал Сухарю рукой.
— Да пошутили мы, че ты… Ща вынесу…
— И два червонца с тебя.
— Да ты че?! За што?! — выдавил зачинщик из сухого со сна горла сорванный возмущением крик.
Ярославцев молча указал на вспухшую губу.
— Да откуда двадцать рублей я те найду, откуда?!
— Пока!
— Э, ну до вечера потерпи, до вечера…
— Где живу, знаешь.
— Принесу, ей-бог… Голубков не трогай, а? Куртку я щас… пошутили, чего ты…
— Небось на понт мелкоту брал? — Осоловелый с похмелья Сухарь миролюбиво прищурился. — Ну, халява…
— Будь здоров, — коротко попрощался Ярославцев.
…— Куртка-то… неужто нашлась? — спросил отец.
— Вещь приметная, — сказал он.
Он всегда был серьезен, деловит, прилежен и сдержанно-дружелюбен со всеми — со сверстниками, родственниками, учителями, и, может, поэтому, хоть и не ходил в рубахах-парнях, сторонился шумных компаний и молодежных забав, единогласно был избран в комсорги. Воздержавшихся не имелось. Объяснялись же подобные выборы просто: он всегда и всем помогал по д е л у, помощью своей не спекулируя, не кичась; бескорыстно.
В райкоме комсомола его заметили сразу, пригласили на работу; затем экономический факультет университета, куда поступил на вечернее отделение; перевод в горком — там он познакомился с Вероникой; первый его поход с ней в театр, ее рука в его руке, темный зал, актеры на сцене — что-то говорящие, но он не слышал их, а видел только ее, Вероники, профиль и ощущал со сладкой тревогой в сердце нежное, покорное тепло ладони ее…
Наконец, разговор с будущим тестем.
— Значит, вы и есть тот самый Володя, — иронически констатировал тесть, поднимаясь из большого кожаного кресла, массивно стоящего за письменным, тоже весьма основательным столом — со столешницей, окантованной витиеватым узором бронзы.
— Да, я самый, — подтвердил Ярославцев, робея про себя в просторе такого огромного домашнего кабинета, где полки, вплотную доходившие до четырехметрового потолка, были заполнены собраниями энциклопедий, мемуарами политиков и трудами экономистов — беллетристикой хозяин не увлекался.
— Тогда, Володя, будем знакомы. — Он вышел из-за стола, пожал руку и вернулся обратно в кресло, указав ему на изящный стул с гнутыми ножками, хрупко ютившийся в уголке кабинета. Как просителю указав, в приемные часы пожаловавшему. — Хотел бы, — продолжил глубокомысленно, — поговорить с вами наедине, без Вероники. Разговор же, как понимаю, назрел. Итак, без преамбул: расцениваю ваш брак как несколько ранний, однако вам, молодым, виднее… И я близок к тому, чтобы намерения ваши благословить. Но сначала желал бы задать несколько вопросов. Можно на «ты»?
— Конечно, — смущенно замялся Ярославцев и вдруг испытал стыд перед собою, будто пришел сюда клянчить нечто у сильного, от которого только-то все и зависело. Благоволящего к нему сильного, да. Это мирило, но это и унижало.
— Ну, так кем же ты представляешь себя? В перспективе? — вздернулся в мягкой усмешке волевой подбородок.
— Организатором, — рассудительно молвил он нелепое слово, в интонации передавая всю подспудную и, по его мнению, весомую значимость его. — Партийным. — Выдержал паузу. — Советским. Хозяйственным… Каким — решится, естественно, не мною.
— Организатором! — удивленно, но и одобрительно прозвучал отзыв. — Научились выбирать обтекаемые формулировки, молодой человек! Руководителем — нескромно, да?
— Наивно, я бы сказал.
— У вас, у тебя вернее, все задатки дипломата. Не привлекает такая стезя?
— Предлагаете мне протекцию?
— Я выясняю твои устремления. — Голос зазвучал жестко. — Я вправе выяснять устремления человека, претендующего на роль моего зятя.
— Хорошо, отвечу. Дипломатическая работа, видимо, не для меня. Я бездарен в иностранных языках, неуклюж, из довольно простой семьи…
— Ну, коли о происхождении, то все наши дипломаты…
— Во-первых, не все. Во-вторых, у меня нет тех высоких соображений, благодаря которым жизнь можно было бы прожить в чужом, что называется, доме. Материальные же соображения такой жертвы, по-моему, не стоят. В-третьих, мне проще и… интереснее работать с создателями… материальных ценностей. Я, конечно, молод, резок в суждениях…
— А вот резкость-то эта — достоинство обоюдоострое. Начинай становиться мудрее. Меньше давай конкретных ответов. Затем, учти: не все собеседники заранее искренни… А потому, — усмехнулся, — особенно для… организатора, необходима тактика разоружения партнера по переговорам, раскрывающая его планы, сомнения, умозрения… Не стремись опередить ход чужих мыслей, демонстрируя свою логику и провидение, — это удел не организатора, а уже руководителя… Прости за нотацию. Что же касается дипстези, будем считать, в начале твоего пути я сделал тебе любопытное предложение. Ты от него отказался. Хотя… есть еще время подумать. Однако если твердо не жаждешь о спланированной не тобою карьеры, то позволь предупредить: на данном, самостоятельном этапе один опрометчивый шаг будет стоить тебе… ну, скажем, много времени, ибо выведет тебя с широкой дороги на тропинку окольную, а по ней придется долго блуждать… чтобы выйти в лучшем случае — на то место, где оступился. Ты хочешь делать судьбу сам? Достойно сильного и думающего человека. Но все же советую чаще обращаться ко мне, когда принимаешь решение… Большое решение. Или — малое, влекущее за собой большие последствия. Особенно когда решения подобного рода диктуют тебе эмоции, принципиальность, нетерпимость и прочая…
— Вот я и обращаюсь, перебил он. — Представьте: я принял решение жениться на вашей дочери. Решение принципиальное и прочая…
— Ну, это мы уже обсудили… Вы же понятливый человек, Володя.
…Мудрый покойный тесть, думал он; ты старательно вытаскивал меня из передряг, помогал, сначала пылко отчитывая за промахи — как мальчишку, сына; затем — терпеливо, без упреков: дескать, таков уж крест, судьба… Ты мог бы рассорить меня с Вероникой, вообще смешать с прахом, отлучить от всего, но ты не делал этого, наоборот, ты всегда протягивал руку, ты если не ценил, то прощал людям их искренность и убежденность, как дар редчайший, воистину — божий… Может, поэтому и не сумел ты достичь высоких вершин, а ведь стремился к ним, хотя ни мечты свои, ни разочарования не поверял никому.
Не было тестя на том злополучном собрании, где в президиуме восседало начальство из центрального аппарата, не было! И когда отзвучали первые ударные речи о победах и доблестях, бодро и взахлеб зачитанные по согласованным шпаргалкам, и слово было предоставлено ему, Ярославцеву, дабы и его голосишко грянул в общем благолепном хоре, он, дрожа от дерзости, сказал незаученное: о бумаготворчестве, о высиживании гладенькими юными чиновниками с комсомольскими значками «взрослых» мест, о лжи, о большой лжи, пестующейся здесь, в молодежи, где ее не должно быть по самому естеству и определению.
И сквозь недоуменный ропот в президиуме кто-то четко и властно потребовал:
— Примеры, пожалуйста!
Он выложил «примеры». И — прокололся. Взаимосвязь людей, их поступков, отношений — все перепуталось; он боялся обидеть невиновных и показаться банальным склочником, обвиняя заведомых недругов; очевидно вопиющие факты вдруг обрели себе оправдание, а сам запев обличительной речи увиделся нелепым до сумасбродства…
Аплодисменты, правда, прозвучали. Разрозненные, квакающе-испуганные и невероятно глупые…
А после была комиссия, пожелания и впредь занимать позицию, активную к недостаткам; затем комиссия завершила работу, и его, как «принципиального, политически грамотного, непримиримого к негативным явлениям», отправили в огромное, разваливающееся от неорганизованности и пьянства автохозяйство.
— Ты, Володя, теперь дипломированный экономист, прошедший серьезную школу комсомола, — с теплой улыбкой напутствовал его автор замечательной характеристики, — и уж на месте, уверен, сумеешь проявить всю боевитость своего характера. Со своей стороны готовы поддерживать тебя ежеминутно и по любым вопросам.
— Ну, Володя, — сказал тесть, — не обессудь: устроен тебе лучший вариант из всех грозящих… Теперь — так: ты в школе учился, знаешь термин «большая перемена». Вот она и грянула. Идешь ты ныне в другой класс, золотой медали не видать… Впрочем, есть шанс сменить школу… Давай-ка, дружок, покуда я жив: в дипакадемию, послушай старого человека.
Не послушал. Ринулся в атаку на автохозяйство. Уже не помнит, что руководило им в таком выборе, — кажется, желание сохранить в себе целостность; да, наверное, так. Целостность и убежденность. И стало хозяйство передовым. Выбил сотрудникам квартиры, новую технику, пьянь если не перевоспитал, то подтянул, сам не пил, брезговал, но к падшим как к больным относился — не на улицу же, не в отчаяние и погибель: давайте выздоравливайте, граждане алкоголики, избавляйтесь от порока, к дисциплине его примеряйте, а не получается — извольте лечиться, только так. И порядок стал идеальный, и план выполнялся, и решались все проблемы каждого, но — какой ценой? Какими приемами? С них и начался его первый шажок в то никуда, в котором он сейчас: в день сегодняшний, когда он едет в сумраке индустриального города на жалкой и грязной собственной машинке — движок подымливает, резина лысовата, краска пооблупилась… А в глазах — не черный, сырой асфальт, не стальные коридоры из грузовиков и рефрижераторов, истекающих мутной влагой, не морось и едва угадываемое ощущение царящего над миром унылого неба, а прошлое: зимний тихий вечер, свет в заснеженной конторке, столик с бумагами и — Матерый, то бишь Лешка Монин: в кожанке, только что сбросивший доху на стул, молодой, сил — как у быка, шоферюга — ас, стоит, усмехается…
И вновь — конторский стол. Запомнил он его. И бумаг вороха на нем запомнил — все его же, Ярославцева, запросы, и все резолюции на них, в лучшем случае — уклончивые. Ни одной — чтобы: «поддерживаю», «отпустить», «не против». Обычно: «изыскать по возможности».
— Товарищ Монин, — поднимает он отчужденные глаза, — поступил сигнал, будто вы регулярно сливаете из государственной, закрепленной за вами машины бензин… В канистры. Для собственной, вероятно?
— Агентурная брехня. Бездоказательно. Выжить хотят. Думают, раз сидел…
— Сидели вы не раз. Это — раз. Теперь — два: в прошлое воскресенье вы проводили в третьем боксе ремонт своей «Победы». Сторож признался, вот его объяснительная…
— Ну и проводил ремонт. Зима же, куда зимой без ямы, гражданин начальник? Ямы жалко? Пустого места? Въехал человек, сделал дело, выехал. Кому урон нанес? Или в снегу обязательно надо? Хвори належивать, заслуженный бюллетень?
— Непорядок. Могли бы подойти ко мне, согласовать.
— И по всякому такому пустяку кланяться? У себя время красть, у вас?
— Монин, вы всего год как из заключения. Откуда машина, можно полюбопытствовать?
— Кровно нажитое на лесоповале, — прозвучало глумливо. — Там ведь расходов нет, все в копилку идет…
— Монин… да, вот стул, что вы тут, как… при высочайшей особе… У вас множество нарушений трудовой дисциплины. Множество! И…
— Так. План перевозок я выполняю?
— План… да. Но кроме плана…
— Резину так и не выбили?
— То есть?
— Не выбили, начальник… — Монин присел на стул. Подмял зажатую под мышкой ушанку. — Вот что. Хорошо меня слушай, внимательно. Я, конечно, для тебя — тьфу, уголовник… но скажу! Итак, договоримся: если после разговора этого в обиду полезешь, то сразу заявление пишу и — пока! Идет? Так вот. Прошлый хозяин наш — пустой человечишко. Выпивоха, краснобай. Ну, коли сам пьешь, чего со слесаря спросишь? Да тебя открыто пошлют… Но держался он. Покуда совсем дело не развалил. А почему держался? Бумажки умно сочинял для плана, ремонты для нужных людей организовывал да затягивал с ними умело, на нервах играл, чтобы в пиковый момент — извольте: шик, блеск… Все секреты. А ты с начальством как? По правилам. И они с тобой строго. Ну, а резины-то у кого нет? У нас, водил, не у тебя! А кому ты нужен, чтобы выделять ее, опальный деятель комсомольский? И мы кому? И побежали бы мы отсюда, как тараканы от мора, если бы не бензин дармовой, не яма для халтуры и спидометры без пломб! А отними это — привет, друг! Я — на другую базу, другой — на третью, а тебя в итоге — домоуправом. Хорошо, если в крепкий дом! Не болеешь ты нуждами нашими…
— Неправ ты, Монин. Фактор материальной заинтересованности я учитываю…
— Чего ты по-газетному-то мне? И какой фактор? Червонец к зарплате? Да я тебе этот червонец сам каждый день отдавать буду, только не лезь со своими нарушениями… трудовой дисциплины! Ты мне, конечно, красиво возразить желаешь. А ты умерь пыл. Мы одного поколения, ровесники, давай хоть сегодня на равных… Тебе же выбираться отсюда надо, иначе — каюк. Не надоело, как киту в луже, пузыри пускать среди шелупени, килек всяких? В винном соусе… Кого пугнешь, кого сожрешь, а толку? Выбираться надо! Ищи сподвижников, верных, деловых. И начальников ублажай по мелочам, а проси у них по-крупному. Чиновников не знаешь? Они тебе за комплект резины для личного тарантаса, не моргнув, казенный миллион на счет базы переведут. А к народцу не цепляйся, масштабно с него спрашивай, не размениваясь, он тогда даже в ерунде тебя не подведет — не то чтобы побоится — посовестится. А жандармом быть — как истуканом — последнее дело: перекрестятся на тебя перстами прямыми, а в кармане персты в фигу сложат…
И понравился ему Лешка Монин. Открытостью, напором, силой. И сдружились они. Не теми приемчиками, какими Монин советовал, хозяйство он поднял, хотя и те порою в ход шли… На министерские нужды начало работать автохозяйство, на хозрасчетные заказы, ну и на серьезных людей, у которых тоже много хлопот имелось, — как государственных, так и сугубо личных. И становились отношения с серьезными людьми доверительными, и где дружба, а где служба часто не различалось… Отсюда пошли и квартиры работникам, и оборудование, и фонды, и в итоге — новое подчинение автохозяйства, расширение его.
Кучи мусора на дворе волшебно трансформировались в клумбы, исчезли пыльные залежи заезженных покрышек; покосившиеся бараки-мастерские сменились чистенькими кирпичными постройками, и машины выезжали из сияющих свежей краской ворот чистыми, сыто урчащими… А на лицах людей появилось осознание своего дела, своей работы и… негласного устава своего монастыря, за неукоснительным соблюдением которого надзирал — на общественных началах, разумеется! — профсоюзный лидер Леша Монин.
Вскоре окольная тропа, предреченная тестем, кончилась. И вывела она его вновь на магистральный путь: присмотрелись сверху к мелкому хозяйственнику, на удивление всех защитившему диссертацию по экономике, хотя не наукой хозяйственник занимался, а шоферюгами да моторами, и выдвинули его в крупные руководители районного масштаба, а затем и городского…
Леша Монин автоматом-переводом перекочевывал из одной его персональной машины в другую и уже редко когда позволял себе напутствовать шефа — разве в порыве несдержанности, да и то предварительно за порыв извинившись…
И тесть качал головой в недоумении; на пенсии уже тесть был, не у дел, пусть и с прочными старыми связями; однако тоже поучениями не злоупотреблял, говорил как с равным, умным, лишь изредка сомнение выказывал: не случайность ли возвысила? Не остался ли юношеский максимализм? Не собьют ли на взлете?
Сбили…
Из оперативно-следственных документов и телефонограмм…подтверждаем: характерные следы, оставленные бойком и затворной частью оружия на стреляных гильзах, совпадают со следами, выявленными трасологической экспертизой на гильзах, выпущенных из пистолета «Вальтер PPK» в перестрелке с группой захвата на дистанции «31/2».
…На Ваш запрос: имеющиеся приметы лиц, находящихся в розыске по фактам исчезновения, не совпадают с личностью убитого, найденного в траншее теплотрассы…
…Согласно данным экспертизы, Семенов В. В. (кличка «Шило») был убит в салоне автомобиля «Волга», где могут остаться следы выстрела, пятна крови, что необходимо проверить.
Дополнение к рабочей версии: неопознанный убитый, чей труп обнаружен в траншее теплотрассы, возможно, был связан, как наводчик, с Семеновым В. В. и Скуриным Д. И. Тот факт, что на трупе были легкие летние туфли, дает основание полагать: убитый на место совершения преступления был завлечен обманом, не зная, куда именно он следует, — в район новостроек с неблагоустроенной территорией, без асфальтового покрытия. Преступники были уверены в скором завершении работ по заполнению траншеи грунтом: лицо трупа деформациям не подверглось, пальцы не отчленены.
…Рабочий-бульдозерист, производивший заполнение траншеи грунтом, на допросе показал: накануне он отпросился у бригадира на коллоквиум в вуз, где учится на вечернем отделении. Непосредственных свидетелей разговора не было, однако неподалеку стояло такси синего цвета, в багажнике которого прибирался водитель. Слышать данный разговор водитель мог. Бригадир показания бульдозериста подтвердил и дополнил: таксист был одет в клетчатые брюки, на заднем же стекле автомобиля имелся явно самодельный обогреватель в виде неровных полос серебристого цвета.
…сообщаем: работники таксопарков, проживающие в указанном районе, с приметами, данными в розыск, не совпадают…
Автомобиль «ВАЗ-2106», обнаруженный в лесу на 23 км, принадлежит жителю г. Москвы Колечицкому Л. А., адрес прилагается. Дополнительной экспертизой установлено: общее состояние автомобиля не соответствует году его выпуска. Автомобиль произведен заводом-изготовителем шесть месяцев назад, серийные же знаки на стеклах и пр. указывают на четырехлетнюю давность его изготовления. Особо критический анализ позволил выявить: номера на блоке двигателя и кузове вварены с окружающими их кусками металла, вырезанными из другой автомашины. Метод подобной фальсификации высокотехнологичен и аналогов не имеет. Изложенное позволяет предположить, что данный автомобиль — из числа угнанных и в настоящее время находится в розыске.
…установлено: работник таксопарка № 5 Коржиков М. П., имеющий клетчатые брюки и соответствующий указанным свидетелями приметам, 22.03 действительно подвозил гр. Соколову Е. В. к ее дому, расположенному рядом с местом обнаружения трупа. За Коржиковым М. П. закреплено такси № 12-34 ММЛ синего цвета, оборудованное самодельным обогревателем заднего стекла. Следы протектора и микрочастицы краски, оставленные автомобилем «Волга» на 21 км, не совпадают с данными по автомобилю № 12-34 ММЛ. Личных связей гр. Соколовой Е. В. с Коржиковым М. П. не выявлено.
…Коржиков М. П. дважды судим за спекуляцию автомобилями. Согласно оперативным данным, по характеру Коржиков патологически алчен, однако незаконного приработка на непосредственной службе избегает. Дополнительные доходы извлекает за счет производства ремонтных работ над частными автомобилями в кооперативе «Мотор». Основное увлечение — случайные связи с женщинами. Фактов выезда Коржикова М. П. в другие города не зафиксировано, круг привходящих лиц не установлен. Дополнительные запросы посланы в ИТК, где Коржиков М. П. отбывал наказание.
УВД г. Баку сообщает:Фотография убитого, высланная Вами в наш адрес, опознана лицами, находящимися в настоящее время под следствием. Фамилия — Колечицкий, имя — Лев. Житель г. Москвы. Поставлял в Азербайджан бытовую радиоаппаратуру, сигареты производства США, импортную одежду; связан с браконьерами, промышлявшими осетровыми породами рыб, снабжая большую преступную группу необходимой снастью, покрышками от шасси «Ту-154», которыми оборудовались специальные платформы для перевозки рыбы от причалов по труднопроходимой скальной и песчаной почве к подпольным цехам переработки продукции. Номера покрышек — в приложении.
Сбили? Нет, сам он себя тогда сбил. Сам! Вспомни: раннее утро, персональная «Волга», из которой ты вылезаешь — непроспавшийся, раздраженный, в модном пальто, купленном в недавней поездке по Европе; наодеколоненный, в хрустком крахмале рубашки, с шелковым галстуком… И попадается ненароком на глаза дворник, и начинаешь ты отчитывать его — съеженного, покорно кивающего; мол, почему образовались сосульки на карнизе представительного учреждения? Позор! Немедленно… Знать не знаю, какая еще там оттепель ночью была! Совещание сегодня, высокие люди приезжают, чтобы через пятнадцать минут…
Мялся дворник боязливо, сказать что-то пытался, да к чему только слушать, о чем лепечет этот серый человек в черной телогрейке? Отвернулся, повторив гневный наказ, и пошел, плечи расправив и подбородок вздернув, по скользкой от гололеда лестнице, — вверх, к массивным дверям с бронзовыми ручками.
А дворник на крышу полез. Март, подтаявший наст едва держался на скатах и под тяжестью человека рухнул… И не стало человека.
Конечно бы обошлось, нашлись бы оправдания — и, чего греха таить, пытался он извернуться, но не учел: всегда есть любители профессионально сбивать на взлете, и, коли попал на их мушку, не спасешься… Впрочем, мог он спастись… Мог! Если бы не отправился на похороны. Увидел лицо человека в гробу: незнакомое, он ведь и не разглядел тогда, утром злополучным, это лицо; близких увидел, семью — простых людей, простое горе их… И сломался. Не пошел выклянчивать милости, валяться в ногах; муторно вдруг стало, вечностью потянуло, и вспомнились понятия самые что ни на есть отвлеченные: совесть, грех, суета, выбор… И он сделал выбор, очистив совесть от греха и суеты, пусть выбор объяснялся минутной слабостью, но она-то и предрешила судьбу, ибо просить о милости тоже надо своевременно, не затягивая с колебаниями…
А после состоялся разговор с тестем — одряхлевшим, поблекшим, слабеньким, уходящим… И в глазах старика он увидел не разочарование, не презрение, не осуждение, а лишь легонькое, схожее с нежностью сожаление… Старик уже мыслил иным, к чему он, Ярославцев, прикоснулся в этом своем выборе — либо унизиться, либо принять понижение; старик понял суть суеты, ее внешний блеск и тягостную пустоту скрытого за блеском… И потому не осуждал. Но старик не мог постичь истины до конца, он способен был лишь приблизиться к ней, ибо путь его тоже шел мимо, и только на последних шагах открылся ему горизонт — далекий, очаровывающий, но чуждый по естеству… И отчасти поэтому заставил себя старик что-то привычно-ловко сообразить, кого-то нужного припомнить и, сняв трубку телефона, твердить в нее заученные фразы, справляясь поначалу о здоровье и семье этого нужного, болтая о разных разностях и уж после, в конце разговора, прося об одолжении для зятя…
И следующим же днем приехал Ярославцев в огромное, на века отстроенное здание с остроконечной макушкой, скромненько принял пропуск из амбразуры окошечка и поднялся, шалея от бликов света на мраморе, от простора коридоров, помпезности ковров, в кабинетик-клетушку, где желтый, сухой человечек в роговых очках, основной характерной чертой облика которого была абсолютная лысина, принял от него анкету, лапидарно притом сказав: «Я позвоню… Сам».
Позвонил. И месяц спустя в некоем министерстве обменяли паспорт Ярославцева на иной, заграничный, и очутился он как по волшебству в чужедальней тропической стране, на большой стройке — в качестве начальника с ограниченными полномочиями. Бытие зарубежное шиком не отличалось: тесный гостиничный номер в провинциальном отеле, труд от зари до зари, хлопоты с женой, ожидавшей ребенка, отъезд ее… Из развлечений же — фильм по воскресеньям в местном кинотеатре на открытом воздухе.
Но работал он самозабвенно, тем более — окрыляющее чувство значимости такой работы захлестнуло его всецело. Экзотические восторги улеглись через несколько дней, и проявилась явь: жуткая нищета и невежество, царящие вокруг; голод, болезни, социальный разброд… И стало ясно: здесь он нужен. И не в роли наблюдателя преобразований, а их вершителя.
Затем — долгожданный отпуск, родина, семья, ребенок; уже привычные коридоры здания, где хранился его зелено-серый паспортишко, знакомые лица чиновников…
— Послушайте, — сказал он одному из них, казавшемуся более-менее инициативным, — зачем нам покупать за валюту материалы, которые мы вкладываем в эту стройку? Материалы отнюдь не худшие выпускаются и у нас. Только мы упустили из поля зрения заводы, их выпускающие, не договорились с ними, не помогли им, наконец. И гоним в итоге импортные контейнеры…
— Крепкая идейка, — ответил чиновник. — Но возникает масса проблем со всякими согласованиями, заказами, транспортом… Живите проще, Вова!
— Я, — сказал он, — второй день как в отпуске. То есть у меня полно времени. С поставщиками договорюсь. Обещайте лишь пяток поездок их людям. Как экспертам. Понимаю. Сложно. Но прикиньте разницу по валютным суммам… Командировочных жалко?
Прикинули. И отправились на тропическую стройку материалы из холодной Сибири, и сетующих на их качество не было.
Внезапно — отзыв.
— Товарищ Ярославцев! С фирмой-поставщиком мы устанавливали контакты, исходя не из купеческих амбиций. Вы что же, взяли на себя не только оценку целесообразности в международной торговле, но и проблем международных отношений в принципе?
— Но меня не поддержали…
— Да, по недальновидности. Некомпетентные лица, введшие в заблуждение руководство. Однако даже их не следует впутывать в планы, продиктованные вашей личной, весьма сомнительной инициативой. Еще предстоит разобраться, что за нею стоит, кроме безграмотного понимания…
Что стояло за этой нотацией сурового дяди, выяснилось позже: дядя определял целесообразность сотрудничества с той или иной фирмой на основе банальных взяток, что выяснилось позже, увы, много позже, когда Ярославцев о дяде уже и забыл и реабилитацию свою из-за давности посчитал бы делом никчемным. Но так или иначе — был Ярославцев уволен.
Какие-то деньги у него имелись. Во всяком случае, существовала возможность спокойно обдумать свое положение, не тяготясь отсутствием зарплаты и не лихорадя себя в поисках относительно пристойной службы. Хотя служить не хотелось… Устал. Но искать работу было необходимо, жизнь не кончалась с последней его неудачей, пусть очевидно сознавался крах устремлений глобально-честолюбивых и тщетность их воскрешения. Основная игра была проиграна без надежд на реванш.
Пытался искать поддержки у тестя, но тот однозначно и твердо дал понять, что взрослый человек обязан устраивать судьбу сам, а ошибки простительны лишь несознательно их совершающим. Отец, вышедший на пенсию и служивший вахтером на родном заводе, вполне серьезно пообещал устроить его мастером в механический цех… Это увлекательное предложение вызвало поначалу у Ярославцева неудержимый смех, но, отсмеявшись, он почувствовал внезапную тревогу… Радужные прожекты проваливались один за другим, круг сужался; жена уже искоса поглядывала на праздношатающегося мужа, деньги таяли, как снег на солнышке, и предложение отца начало восприниматься не столько с иронией, сколько с досадой полнейшей беспомощности…
И вдруг появился Монин… Матерый. Весело, беспечно вошел в квартиру: с цветами, шампанским, свертками; запоздало поздравил с рождением дочери… Затем посидели, попили-поели, послушали рассказы гостя о новой нелегкой его профессии начальника автоколонны таксопарка, и, когда ночью тот уходил из кухни, где они остались наедине с хозяином попить чайку, продолжив ни к чему не обязывающую беседу, вытащил Матерый из кармана пиджака небольшой, туго свернутый пакет, перетянутый резинкой. И веселость его безмятежная вдруг куда-то ушла, как явно наигранная и чуждая самой природе его.
— Здесь, — он положил пакет на стол, — три штуки. Или тысячи — по-интеллигентному. Месяца два проживешь без забот, хватит. Но тут — и на работу: приемы, визиты… Давай. Налаживай связи. Не удастся, не встанешь на ноги — пустой ты парень тогда. Встанешь — опять в шоферы к тебе готов. То, что в начальники не попадешь, ясно, но м е с т о найди! Это не в долг, так… Надеюсь на тебя, Хозяин.
Последнее слово он подчеркнул. После оно превратилось в некую кличку. Хотя чего уж… В кличку.
Он просидел за кухонным столом до утра. Тусклым, больным взором глядя на деньги. Были ли они подачкой? Нет… Скорее — жестом сильного и благодарного человека по отношению к равному себе или же к более сильному, но в какой-то момент оступившемуся, проигравшемуся по крупной, однако способному перекрыть проигрыш удачей в другой игре. Обязанному перекрыть!
Полистал записную книжку. Над каждой фамилией задумывался долго, не пренебрегая никем: ни мелкими людьми при мелком деле, ни случайными знакомцами — давно, вероятно, и подзабывшими его. После составился список — довольно длинный. Наутро объяснил жене: пойми правильно — хлопот у тебя хватает, но, несмотря на них, предстоит тебе еще более хлопотный месяц. Потрудись воспринять его как должное. Как аврал.
Одно празднество сменяло другое. Гости приходили и уходили. Квартира стала являть не то салон, не то ресторан. Вечером поднимались тосты, крутился магнитофон, менялись блюда и велись разговоры, а утром он мчался на рынок и по кулинариям в поисках продуктов. Денег не жалел.
Однако приемы, чья пышность в соответствии с наличными неуклонно увядала, оказались мероприятиями напрасными. «Нужные» люди, охотно поднимающие бокалы, с аппетитом закусывающие и яро обещающие поддержку на любом уровне, на следующий день исчезали в никуда: в казенность выстраданных ими кабинетов, за заслон секретарш, занятости, телефонного нивелирования жизненных проблем и уклончивых ответов типа: «Нужно время… Ситуация непростая. Как только — так сразу…»
И однажды, осенним мрачноватым деньком, отмеченным унылой непогодой, когда мир воспринимается эскизом некоей декорации, скелетом сути, в дожде и смоге брел он по улице после пустого визита к пустому влиятельному лицу, в очередной раз что-то пусто ему пообещавшему, и вдруг припомнил: вот в том министерстве, вклиненном коренастым монолитом среди облезлых домишек дореволюционной постройки, говаривали, служит в больших начальниках один толковый малый, некогда его подчиненный…
Надо было переходить дорогу подземным переходом, а вдалеке показался нужный троллейбус, чей маршрут отличала крайняя нерегулярность; в министерстве же, как сознавалось, предстояло еще объяснить: кто, к кому, по какому вопросу; звонить, получать — в лучшем случае! — пропуск… Да и о чем ты?.. Даже если предложат место, понимаешь ли ты сколь-нибудь в какой-то там обрабатывающей промышленности?
Когда двери троллейбуса заскрипели, захлопываясь, он вышел из них.
В министерство удалось проскользнуть, не вдаваясь в объяснения с вахтером, но знакомый чиновник находился на совещании, и полтора часа Ярославцев бесцельно шатался по коридорам, стараясь возбудить в себе интерес к здешней суете, что-то осмыслить и проанализировать…
Потом же вместе они вспоминали времена ушедшие, вспоминали тепло; Ярославцев пригласил в гости — поехали; скромно поужинали на кухне (деньги приходилось уже всерьез экономить); и за чаем, взглянув на часы, чиновник молвил:
— Пора мне… И вот что скажу, Володя. Ты — толковый человек. Но у тебя нескончаемая полоса невезения. О последних твоих неприятностях не знаю, но они, чувствую, есть. Не ошибусь, если обозначу их причину: ты неосторожен в решениях генеральных. Ты слепо веришь в очередную правоту той или иной необходимости. Ты не политик в конъюнктуре. Ты политик вообще, по натуре, но, чтобы выйти на уровень признанного «политика вообще», надо успешно окончить все классы школы… Знаешь, как фигуристы? Лучше всех отплясал, всех поразил, а в скучном, профессиональном тесте на школу, в умении хрестоматийных телодвижений и фигур дал маху. В итоге — зарезал все. Так и с тобой. За исключением: у тебя нет перспективы следующего чемпионата. Я к чему? Твое место — советник. Серый кардинал. И я готов помочь тебе с местом. Для дела ты человек незаменимый, и, если не против, на службу тебя возьму. Консультантом. Ну, придумаем какую-нибудь должность согласно имеющимся ставкам — не машинистки, конечно. И будешь при мне помогать достраивать коммунизм в сфере обрабатывающей промышленности. Завтра в первой половине дня оформишься. Анкета, фото у тебя наверняка готовы. Так? Во второй же половине дня запремся, отключим телефончики, и расскажу я тебе очень подробно о проблемах министерства. А послезавтра ты активно начнешь данные проблемы устранять. Если начнешь устранять как дурак, выкину вон — сразу и без жалости. Все. Мне пора. Спасибо за чай, очень вкусный.
Для начала ему дали опробовать силы в одной из головных организаций министерства, работа которой шла откровенно наперекосяк. Спустя четыре месяца организацию посетил известный комментатор, специализирующийся на пропаганде передовых методов ведения экономики. Анализируя внезапные достижения, комментатор, вдумчиво подбирая слова, высказался так:
— Характерной особенностью предприятий, подчиненных организации, является то, что конструкторскими вопросами на них занимается конструкторский отдел, а технологическими — технологический…
В министерстве эта фраза прозвучала как развеселый, надолго всем запомнившийся анекдот. Неулыбчивый министр тоже хохотал от души, а отсмеявшись, попросил подготовить приказ о премировании некоего консультанта Ярославцева, телекомментатором не упомянутого.
Сколько людей впоследствии предлагали ему эту роль: консультанта… И сколько таких ролей он исполняет сейчас — в разных министерствах, ведомствах, департаментах, — координируя, увязывая, пробивая, внося коррективы и вынося готовые решения…
Предлагалось и другое… Влияние росло, о старых ошибках вспоминали — если уж позволяли себе вспомнить! — неизменно с юмором и наперебой звали занять посты. Он был уже необходим многим именно на п о с т у. Но — отказывался. Пост — даже звучало скучно, казарменно; пост — нечто конкретное, обязательное и… опасное. Ибо за что-то необходимо отвечать, существуя в замкнутом пространстве должности. А как замечательно не отвечать ни за что, пребывая извне и везде! И пусть его скромное общественное положение не блещет в иерархии чинов и званий. Главное — не в чине, а в том, кто есть ты сам… И другое пугало, то, с чем столкнулся он, будучи большим начальником: изоляция от тех, кому служил. И еще: узость круга знакомых, продиктованная самим статусом, неукоснительное соблюдение ритуалов и правил, подобных корсету; наконец, одиночество и оторванность… Будто в пламени неналаженной газовой горелки, в пламени, что коптит отдельно, само по себе, находился он тогда, и главным было — не оторваться ни в копоть, ни в то безвоздушное пространство возле форсунки, где витало неразличимо поступавшее к плазме топливо…
«А что есть я ныне?..» Он часто задавал себе такой вопрос, не подыскивая ему ответы упрощенные, поскольку задавался вопрос с тревогой и болью…
Конечно, можно занять пост, зарыться в бумаги, играть роль безупречного гражданина, семьянина, но… зачем лгать себе? Ведь не ради приобретения внешних благочестивых атрибутов он живет, а живет жизнью самим же созданной системы, ее духом и идеологией. Эволюция этой идеологии была долгой, многоступенчатой, сложной в анализе, но, состоявшись, она обрела весьма незатейливую суть. Поначалу он упрощенно полагал, будто в обществе существует лишь две категории людей: деловых и неделовых. Неделовые сидят на зарплате или же на пенсии, в домах умалишенных и прочая, деловые своими поступками и идеями двигают общество вперед. Поступками и идеями. Зарплата для них — фактор необязательный, но зарабатывать они должны много, естественно, принося ощутимую пользу окружающим, и в первую очередь неделовым. Удовлетворяя их спрос. Деньги в таком процессе извлекаются исключительно за счет личного вклада сил и энергии, а исходное сырье приобретается законно.
Вот и создавались им артели, скоро и качественно доставлявшие и возводившие на садовых участках летние и зимние домики; сервис при гаражных кооперативах, бригады по превращению открытых автостоянок в закрытые; после началось увлечение кооперативным строительством, едва не обернувшееся судимостью благодаря алчным компаньонам, решившим поманипулировать со стройматериалами. Тогда-то им остро уяснился конфликт между устремлениями к обогащению и государственной системой обеспечения сырьем. Сырье — основа прибыли, с трудом приобреталось и без труда кралось, ибо вели к нему не лазейки, а широкие врата без запоров… В канализацию спускались миллионы, пропадали вагоны с готовой продукцией, ниагарами лился налево госбензин, к припискам относились едва ли не как к политически оправданной акции; успехи производства определялись фактором количественными очень мало где — качественным; понятие «зарплата» приобрело оттенок анекдотический, и, конечно, деловые своего тут не упускали. Они драли бешеные деньги за то, чего жаждали неделовые, то есть за дефицит. Созидались состояния. И начал Ярославцев понимать: деловые обществу никак уже не полезны; умные и предприимчивые люди ухватились за простенькие методы обогащения: спекуляцию, взятки, рэкет, хищения. Ценностей ими не создавалось. Ценности либо умело добывались и перепродавались, либо наживались непосредственным паразитированием на государстве — то есть на людях неделовых, служащих за зарплату, но тоже стремящихся к благам дня современного, завидующих удачливым лихоимцам и в итоге призывам к ударному труду не внемлющих. Образовывались круги, касты, шайки, присасывающиеся к дойной корове державы и лихорадочно набивающие карманы, причем в уверенности своей безнаказанности, ибо стоящие выше или контролирующие охотно «брали», а значит, молчали. Задача была, таким образом, проста: нахапать в расчете на все взлеты цен в течение, по минимуму, полувека. И с ними, с этими зажиревшими деловыми, Ярославцеву приходилось сталкиваться изо дня в день, ибо с и т у а ц и е й владели лишь они, и приходилось идти частенько на поводу у них, чтобы выжить, удержаться на ногах. Внутренне же им исповедовался иной принцип: надо зарабатывать, создавая товар доступный, конъюнктурный, высшего качества. И он пытался делать это, что само по себе было не так уж и сложно; куда труднее оказывалось обуздать жадность исполнителей, держать их в узде, тем паче, свирепея от узды, они видели в нем своего врага, едва ли не прокурора, не дававшего расхищать.
Можно ли создавать экономику внутри экономики, не нарушив закон? Поначалу он думал и верил: можно. Оказалось — нельзя. И в один прекрасный день вдруг уяснил себе всю мощь гигантской машины, что была умозрительно выкрашена им в привлекательную красочку якобы высоконравственных принципов, а внутри же машины чавкали в липком, вонючем масле шатуны и крутились шестерни. И кпд машины падал день ото дня, и поднять его Ярославцев не мог: машина стала неуправляемой, а он превратился в символического ее Хозяина, а вернее, в уважаемого ею создателя, получавшего свои пенсионные блага в любом желаемом размере. Он предпочитал размер более чем скромный, но время шло, и перед законом этот размер достиг высших пределов… И тогда пришел страх. А в середине восьмидесятых грянули перемены, и посыпались с насиженных мест «деловые» с ожиревшими мозгами — перепуганные, ничего не соображающие: почему, как? — и казавшееся незыблемым рухнуло, и канули в никуда покровители, сметенные свежими ветрами, столь желанными. Покровители, в том числе с милицейскими расшитыми погонами и прокурорскими лычками с крупными звездами. Он, Ярославцев, искренне переменам радовался, хотя понимал: и для него тоже настала развязка, предтеча краха. Да, желал он наступления нового времени, но когда время настало, открылось: не его это время, он там — в прошлом, с людьми прошлого. Ступив в болото, он поначалу ловко лавировал по кочкам и вдруг, оглянувшись, увидел позади себя сплошную трясину… Такая же трясина лежала и впереди… Куда? Виделись еще несколько кочек, он вовремя приметил их, но что будет там, за ними, не знал. Возможно, трясина еще более страшная…
И о сегодняшнем своем крахе он знал заранее. Думая о нем как о некоей вероятности, но все же выстраивая свои комбинации через Матерого — основное связующее его с машиной звено. Полной конспирации такой метод, конечно, не гарантировал. Вокруг крутилось множество людей, сверхзадачу связующего звена пусть до конца и не уяснивших, но о предназначении его в общих чертах догадывающихся. Множество людей, кому в мысли не заглянешь, за чьи поступки не поручишься. И потому оставалось одно: уповать на судьбу и в любой момент быть готовым перескочить на спасительную кочку… Спасет ли? А если без аллегорий, то завяз ты, Ярославцев, незаметно, но прочно в компромиссах, противоречащих с законодательством, и, вероятно, очень скоро придут в твою квартиру люди с серьезными и враждебными лицами и скажут тебе: собирайтесь, гражданин… А этого произойти не должно. Вот почему в последнее время все чаще задумываешься ты о деньгах, борец за идею… Чтобы не голым уйти да прихода непримиримо настроенных к тебе людей. Вот и вся сущность твоя: не просто спастись, а сытеньким, благополучным… Плохо это, скверно, хотя и логично… Да как склеишь нравственность с социальными проблемами? И ради кого? Не ради же тех, кто придет за тобой, не ради же механизмов…
— Какая досада! Нагрешил не ко времени… — сказал он и пошел на обгон по встречной…
Из оперативной информации, телефонограмм…Овечкин М. П. (кличка «Равелло»), житель города Ростова-на-Дону, в настоящее время работает ночным сторожем в розарии. По оперативным данным — возглавляет преступную группу через цепь особо доверенных лиц. Прямых доказательств противоправной деятельности Овечкина М. П. не имеется. Связь с помощниками осуществляет внезапно, по неустановленным телефонам. Убитые Семенов В. В. («Шило») и Скурин Д. И. («Псих») — подручные Овечкина, специализировались на рэкете. Согласно Вашим указаниям, за Овечкиным М. П. установлено наблюдение с привлечением дополнительных средств…
…докладываю: обыск места жительства Колечицкого Л. А. результатов не дал. Экспертизой установлено: все следы пребывания в квартире каких-либо лиц тщательно уничтожены, ценности вывезены. Перспективным материалом для дактилоскопирования представились две порожние бутылки из-под напитка «Байкал», обнаруженные в правом углу лоджии. Выявленные на бутылках пальцевые отпечатки отосланы для экспертизы.
…УВД г. Ростова-на-Дону сообщает:Сегодня, в 15.00, гр. Овечкин М. П. задержан при совершении им квартирной кражи. При задержанном найдены инструменты, использующиеся для квартирных взломов, а также пятьсот английских фунтов стерлингов в банковской упаковке.
…— Ну, и что делать будем, товарищ воспитатель? — Человек в форме, сидевший на рассохшемся стуле с облезлой дерматиновой обивкой сиденья, вытащил папиросу, замял узловатыми пальцами ее мундштук. — Два побега, драки нескончаемые — этого вот, Котова, сегодня изувечил: поведение вызывающее…
— Ну да и Котов не херувим! — Собеседник — полный, с залысинами и редкими рыжеватыми остатками волос, в мешковатом костюме, замасленном, тоненьком галстуке, являющем какую-то нелепую и одновременно необходимую деталь в общей гармонии его облачения, — выдернул глубоко скрытый под рукавом пиджака манжет рубашки, севшей от многих стирок. — А Монин… Наша тут вина, кажется. Ключа не подберем.
— Чи-истый! — протянул человек в форме не то насмешливо, не то раздумчиво. Черенком потухшей спички сковырнул присохшую к голенищу ялового сапога капельку грязи. — Вы что, его личное дело забыли? Ограбление магазина, вооруженное сопротивление милиции… сержанта ранил! В пятнадцать-то лет!
— Ну, а детство какое? Война…
— А у меня какое детство? — Человек в форме резко поднялся со стула Машинально оправил гимнастерку под ремнем. — Отца в гражданскую убили, нас у матери пятеро… Деревня, голод, я — за старшего… А у вас?
В дверь постучали. Вошел подросток: крепкий, большеголовый, насупленно-сдержанный, в громоздких, с побитыми мысками ботинках. Враждебно-затаенный взгляд скользнул по комнатке, ушел в себя, глубоко.
— Присаживайся, Монин, — вздохнул человек в форме, внимательно рассматривая дымящуюся папиросу. — Куришь, поди?
— В рот этой отравы не беру, — прозвучал ответ. — Не дурак, чтобы потом гноем отплевываться.
— А я, выходит… — начал военный изумленно.
— Ну, вот что, Алексей, — вступил человек в гражданском. — Я, как воспитатель, должен в последний раз тебя предупредить: если…
— Если, если… — Парень вскинул яростно блеснувшие глаза. — За дело я Котову впечатал, гниде! Кого хотите спросите… Разжирел на кухне, силы от харчей понабрался, куролесит, падла, в миски харкает, кто ему слово скажет; обирает всех… И чтобы я ему койку заправлял и пятки чесал…
— Вывернул ему стопу, избил зверски, — констатировал военный. — Табуретом! Сотрясение мозга, губу зашивали, два ребра… сломаны, врач говорит — в больницу надо везти, в город. Это же преступление! Он тебя… хоть пальцем тронул?
— Других тронул.
— Монин! — Воспитатель коротко оглянулся на военного. — Дай слово, что больше такого не повторится. Слово мужчины.
— Не дам.
— Почему?
— Потому. Котов — мразь, — убежденно повторил парень. — Выйдет отсюда, вырастет, точно — завмагом станет. Крыса жирная. Его пусти, где сытно, все сожрет. Давить таких буду.
— Пойдешь в изолятор, — тяжело дыша, сказал военный, стиснув плечо воспитателя, — мол, помолчи. — Понял? Пойдешь… если не понимаешь человеческого…
— Испугали! — Парень сплюнул в угол. — Мне и в карцере есть чем заняться.
— Ты у меня поплюйся! — угрожающе вздыбил плечи военный.
— Чем же ты собираешься заниматься в изоляторе? — тихо спросил воспитатель.
— А я там бегаю. — Парень зевнул. — Бегаю, приседаю… Отжимаюсь. — Помолчал. — Сплошная физкультура. Устану — посплю. Могу и с открытыми глазами… А проснусь — по новой…
— Спортсменом хочешь стать? — спросил военный неожиданно миролюбивым тоном.
— Неа, — лениво сказал парень. — Хочу таких, как Котов ваш, с одного удара валить. Без табурета.
— Дурак ты, — проронил военный устало. — Думаешь крепким кулаком все в жизни решить?
— Вы — умный… — отрешенно парировал парень.
— Погоди, Алексей. — Воспитатель неуклюже прошелся по комнате, внимательно осматривая потеки масляной краски на стенах, хлипкие стулья, решетку на окне, будто запоминая все это. — Вот ограбил ты магазин. Кому хуже сделал, ежели из голого принципа исходить? Продавцам, которых за жуликов посчитал?
— Ну. — Парень поднял на него уверенный взгляд. — Ревизия там потом была, одного посадили, точно знаю.
— А в милиционера зачем стрелял? Милиционер-то — не чета жуликам, верно?
— Оборонялся. Или я его, или он меня… Чего непонятного?
— Так. — Воспитатель с силой потер затылок. — А награбленное куда бы дел?
— Себе бы взял. — Парень не раздумывал. — Заработанное.
— Заработанное? Чем же? Трудом великим?
— Шкурой. — Ответ прозвучал резко. — Риском. Кто как умеет. Один — руками, другой — башкой, а третий — и тем, и другим, а еще — волыной. Так вот!
— Слабенькая у тебя позиция, Монин, — сказал воспитатель. — Слабенькая и плохонькая. Один ты против всех. А вокруг либо жулики, по твоему разумению, либо враги заклятые. Ну, а ты в мечтах своих — самый из жуликов сильный, самый отважный, да? И потому есть у тебя право стрелять, людей калечить… Котов же ведь никого не…
— А трус потому что, — лениво перебил парень. — Срока боится, карцера, фрайер…
— Ты слова подбирай, слова, — сказал военный напряженно.
— Ну, чего, макаренки? — весело спросил парень, поднимаясь. — Спать хочу, организм требует… Куда мне? На койку отпустите или в изолятор на нары?..
— У тебя наряд сегодня, Монин, — сказал военный. — Вне очереди. В ночь. Так что с койкой обождать придется.
— Сортир, значит, драить? — Парень потянулся. — Не, другого ищите. Котов вот с больнички возвратится…
— Ты себя что… лучше других считаешь? — Воспитатель повысил голос.
— Лучше.
— Монин! Ты сейчас же отправишься в наряд… — отрывисто, на звенящей ноте приказал военный.
— Ясно, — кивнул парень утомленно. — Значит, в изолятор… — И вышел за дверь, пискнувшую провисшей петлей.
— Во — экземпляр! — обреченно качнул полысевшей головой воспитатель. — Никак… Ну… придется… ужесточить меры.
— Страха в нем нет, — отозвался военный задумчиво. — Стенкой закончит, до упора пойдет, знал таких…
— Так мы же его остановить должны…
— Должны-то должны… — Военный перевел взгляд на серую, растрескавшуюся штукатурку потолка. — Да попробуй переломить его… Ты читал, как он на следствии себя вел? Ведь насчет оружия серьезно его крутили, без скидок, что малолетка, а ничего не вышло: нашел и нашел, где — не помню.
— Он действительно в изоляторе это… отжимается? — недоуменно спросил воспитатель.
— Угу, — угрюмо подтвердил военный. — Как заведенная машина. На хлебе-воде, а все равно — до трех потов. Воля! Не на то дело употреблена только. Кабы в другое русло ее…
Забавная была карикатура в газете, веселенькая. Два дружка шагают по улице мимо пиццерии, и один говорит другому, в подтексте выделяя итальянское наименование учреждения: не ходи, мол, Вася, туда, в пиццерию, — там мафия!
Он свернул с дороги прямо на тротуар, обогнул здание и поставил машину сбоку от пиццерии. И подумал: до чего же счастливо-обманчиво мироощущение обывателя. Как падок он на некие тайны, в основном — мрачные, витающие якобы где-то совсем рядом; как увлекают его термины «мафия», «бизнес»; слухи о дерзновенных преступлениях, вообще все подпольное. Обыватель живет сказкой, придуманной им же самим. И получает подтверждение этой сказки в боевичках с лихо закрученным сюжетом, в домыслах и сплетнях своего окружения, байках «бывалых», не зная главного: зарабатывать деньги преступным путем — с к у ч н о. Ибо заработать много можно не на разбойно-хулиганской стезе, а на хозяйственно-экономической, где нет никакой романтики и ничего выдающегося, а попросту существуют люди, умеющие широко, но с толком тратить средства, извлекая из затрат прибыль. Обыватель же тратить боится. За кровный рубль он держится мертвой хваткой. Да и вообще тратить — романтика. А романтика опасна… Куда лучше посудачить о ней, пофантазировать на темы мира противоположного восприятия ценностей… На самом деле таких миров, исключая мир обывателя, два. Один, вовсе обывателя не интересующий, — истинно духовный, далекий и от денег, и от усердных их накопителей; другой же — скучно и обыденно деньги делающий… В чем скучно и в чем обыденно? В том, что все заранее распределено: кому, за что, каким образом. В том, что иного занятия нет, И, наконец, не остановиться на этом пути никогда и никак. Обыватель представляет цифры: украденный, например, миллион. Ой, как много! Ой, если бы у меня… да миллион, я бы… Но не представляет иного: философии и психологии самых талантливых, а потому и самых несчастных «деловых». Они могут заработать или украсть пресловутый миллион с трудностями или без оных; всласть искупаться в роскоши, но они сравнительно легко воспримут полную потерю и миллиона, и роскоши. Рвут на себе волосы либо корябают лысину ногтями жулики, крупные по недоразумению, да и то — рвут и корябают не из-за осознания материальных потерь — свободы… Или в преддверии казни. А миллионов не жалко, они — наживное. В этой пиццерии, Ярославцев был уверен, не погорит никто. Каждый здесь зарабатывал в день столько, сколько без смущения мог бы предъявить при выходе отсюда кому угодно. Не наглея, на излишках излишков. И того хватало. Коллектив был дружный, на авантюры не падкий, работающий во благо клиента. Люди нормально трудились, и он с удовольствием помогал им. Помогал практически на общественных началах.
Невзирая на томившуюся у входа очередь, он подошел к двери, постучал. Толпа не пикнула, разгадав в нем начальственную стать… Не привнесенное барство, не пижонство, не игру…
Человек в униформе помог снять пальто.
Ярославцев прошел к стойке бара. Виталий коротко посмотрел на него; поправив «бабочку» на белоснежной, с короткими рукавами рубашечке, кивнул в корректном приветствии:
— Перекусишь?
— Обязательно.
— Тогда утоляй аппетит, и заодно поговорим. Пиццу сейчас принесут. Такую испекут — в Риме не попробуешь…
Пиццу и впрямь принесли отменную: ароматную, с грибами… Он завтракал, в неторопливой беседе с Виталием обсуждая дела.
— Барменом в валютный бар мальчика пристроим? — спрашивал Виталий уважительно-вкрадчиво. — Документы в полном порядке, опыт есть, классный люмпен-пролетарий… Я слышал, в «Интуристе» освободилось местечко…
— И почему ты меня обижаешь? — Ярославцев медленно отер рот салфеткой. — Что, сам не способен решить эту проблемку? Не надо… обращаться ко мне по подобным кадровым вопросам. Или… у тебя есть еще кандидатура уборщицы в Совет Министров?
— Извините… Просто хороший парень… Ладно. Другой вопрос. В тресте туго с поставками. Дефицит идет по чайной ложке. Фирменных напитков мало, а клиент капризный пошел, венгерское сухое за оскорбление принимает, кьянти ему подавай; с ветчиной баночной перебои… Я не от себя прошу, поймите, мне начальство намекнуло: пусть бы твой друг подсобил бы… Ну, а что потребуется — через меня…
— Решим. Но в течение следующей недели. Все у тебя?
— Пиво есть баночное. «Карлсберг». Загрузить упаковку?
— А сигарет найдешь приличных? Не лицензионных…
— Блок найду. Я сам через Матерого хотел… — Виталий осекся.
— Сколько сигарет он тебе поставлял? — спросил Ярославцев сухо. — Ну? Только не ври, это плохо влияет на мое отношение к людям.
— По мелочи… Пять коробок… Сто блоков. Семечки… да и когда было!
— «Парламент»?
— Ну… да.
«Вот что значит знакомить коммуникабельных негодяев», — отрешенно глядя в лицо собеседника, размышлял Ярославцев.
— Я пока дожую, — сказал, поморщившись. — А ты… вот ключи, пиво забрось в багажник. Сколько денег надо?
— Меня тоже не стоит обижать, — с достоинством ответил Виталий и, подхватив ключи в воздухе над бокалом, удалился.
Питательная пицца приободрила… Дальнейший хлопотный день, казавшийся невероятно тяжким, легко выстроился в схему: сейчас на станцию, переобуть две покрышки, зайти к директору — ящик контактных групп для замков зажигания прибудет к нему, осажденному сотней заявителей, требующих гарантийного ремонта, послезавтра. Это — начало, первая партия, которая пошла в производство в подсобном цехе одного из захудалых заводиков. И уж эти контактные группы будущих хозяев не подведут — технология их изготовления куда выше пусть импортной, но безобразно халтурной. Заводик же с данного подпольного цеха способен начать свое второе рождение — лишь бы духу у директора хватило, да только вряд ли хватит — слабенький хозяйственник, без инициативы, трусоват… И жаден, что в итоге его погубит. Мог бы ведь выпускать продукцию на кооперативных началах, но не станет — с кооператива какой профит да и налоги, учет сырья… К тому же зарабатывать будет не он, кооператоры, а если и урвет он что-нибудь с них, то на первом этапе, за помощь в организации дел, то есть элементарную взятку…
Он вышел из пиццерии, хлопнул по плечу Виталия, дожидавшегося его у машины, уселся за руль.
Визит в автосервис решил отложить на часок. Неподалеку была еще одна «контора». Он закусил губу от досады. Каждый день, каждый час с недавних пор словно демонстрировали ему его же загнанность в созданной им ловушке. Ведь не хотел он знакомить Виталия с Матерым, знал: порознь надо держать их, и на коротких поводках. Но… Дела навалились, за всем не уследишь, пришлось сконтактировать людей напрямую. И вот сегодня выплыли коробки с сигаретами… «Парламент». Откуда? Врал Лешка, будто перекупили по сказочной дешевке (госцена) списанные излишки «представительских»… Врал! А он не одернул, пропустил мимо ушей — без того проблем с выяснениями отношений хватало… И вот сто блоков только у Виталия… Излишки? Но дело не столько в сигаретах… Через блоки эти паршивые на другое ведь выйдут… на то, что творят эти деятели за его спиной!
Он остановил машину у старого московского дома, прошел в высокий, с мемориальной доской у входа подъезд.
Звонок. Желтая точка врезанного в двустворчатую дверь «глазка» на мгновение потемнела, потом осторожный голос вежливо осведомился: «Кто?» — видимо, личность посетителя как следует разглядеть не сумели.
— Открывайте, Эдуард, пока — свои…
— Тсс… — Лысый сутулый Эдуард, поправив очки — огромные, стрекозиные, приложил к тонким губам палец. — В комнату тихо идем, переводчик там…
Мрачно усмехнувшись, Ярославцев покачал головой. Снял пальто. Тихо, как и просил хозяин, проследовал в комнату.
То, что ожидалось…
Респектабельного вида переводчик в галстуке, с пухлыми наушниками фирмы «Сони», удобно расположившись в кресле с бокалом аперитива, бубнил в микрофон фирмы «Акай»:
— История мира? Да чего ее изучать, сначала были динозавры, после они сдохли и превратились в нефть. А потом появились арабы, начали нефть продавать и покупать себе «мерседесы».
Телевизор фирмы «Джей-Ви-Си» демонстрировал очень сомнительный фильм, а десять видеомагнитофонов, расставленных на полу в паучьем переплетении проводов, копировали продукцию. Тут же грудами теснились кассеты — фирм разнообразных, но Ярославцев уловил еще один нехороший симптом: наклейки указывали на приобретение в магазине, торгующем на живую валюту…
— Пройдемте на кухню, Эдуард, — шепнул он хозяину на ухо. — Оторвитесь… Времени мало.
На кухне работал лазерный проигрыватель и копировали с крутившегося на нем диска еще парочка магнитофончиков.
— Ну, я все понял, — сказал Ярославцев. — Аппетиты, Эдик, у вас выросли изрядно.
— Ой, не надо праведных нотаций, — отозвался тот. — На плачевный финал намекаете? Ну… если суждено, не судьба.
— Позвольте объяснить вам элементарные вещи, — продолжил Ярославцев, чувствуя, что говорит впустую. — Я понимаю: кассета без записи стоит одно, а с записью — совершенно другое… Наклейки, кстати, сдерите — тут еще и валютными операциями попахивает… Дело выгодное, ясно. Но у каждой кассеты есть свой покупатель. Кассет — сотни. Вероятность провала…
— Я все сдаю через скупщика.
— Поздравляю. Вероятность уменьшается. Но не исчезает. Потом. Что ты пишешь? Я видел названия…
— Людям как раз нравится, — со вздохом перебил Эдуард. — Затем… в данный момент такие поставки, пляшем от печки: какой оригинал, такая копия. Еще замечу: основную массу не увлекает ни Феллини, ни Антониони…
— Может быть. Но зачем же сознательно идти на статью? Или думаешь, все шито-крыто? Разочарую: уже идет информация о создании тобой сети радиоперехвата… На частных посудинках в Балтийском море, на сухопутных государственных станциях дальней космической связи… Мне импонирует такой размах, но органам — едва ли. Если тебя коробит мой переход на «ты»…
— Наоборот. Весьма лестная для меня форма общения.
— Спасибо. Так вот. Я же, казалось, убедил тебя: появились видеотеки, тебя хорошо пристроили, развивай дело на государственных принципах…
— Знаете… — Эдуард выдержал скорбную паузу. — Я — не подвижник. Пробовал — не получилось. Каждый фильм согласовывай, нервы трепи, всякие худсоветы… А цены? Кому нужна пленка на вечер за такую цену? В кино десять раз можно сходить!
— А твои цены?
— Мои? Практически… бесплатно. Человек покупает пленку. За сумму куда меньшую, чем в магазине. С дивной к тому же коммерческой картиной. Она у него пусть год в обороте, а через год он отдаст ее либо за те же монеты, либо в обмен… Одно слово: клад! С видом на проценты, кстати. А мне — доход. Да и чего за зарплату ломаться? Вон лазер работает… круглосуточно. Чистейшее воспроизведение. Полсуток — уже зарплата! Так что не надо душеспасительных бесед. Вот если бы со своими связями в дело включились…
— Порнографию распространять?
— Мы распространим… Нам материалы нужны: пленка, техника. Знаю: вы смотрите на меня как на дешевку, но каждый живет своим, и не приставляйте мне собственную голову.
— Сколько магнитофонов пришло к тебе через Матерого? — внезапно спросил Ярославцев.
— Ну это… — Эдуард явно замешкался, — это… наши дела, простите, конечно…
— Эдик, — произнес Ярославцев с нажимом, — я понимаю: ты человек независимый, самостоятельный, не любишь, когда тебя поучают, у тебя своя очень умная голова, но обязан заметить, что тебе изменяет чувство меры, мой мальчик, в смысле демократии по отношению к старшим.
— Да я ведь… — отозвался Эдик с ноткой испуга, и глаза его за гигантскими стеклами очков непроизвольно моргнули. — Я-то чего? Ну… двадцать, может, тридцать магнитофонов… Только — между нами…
— Именно. — Ярославцев отправился в прихожую.
— Правы вы. — Эдик задумчиво поджал губы. — Понимаю — правы! А… не в состоянии на тормоз нажать! Тут приятеля свинтили… Ну, а жена сдуру и дала показания: да, кое-что смотрела… Не жена даже, сожительница. Центровая девка, понравилась, поселил возле себя… В общем, семейка: если он налево ходил, то она — и налево, и направо. А суд влепил по полной заготовке. За развращение супруги! Она как услышала, так ржать начала. Я думал, плохо ей будет…
— Плохо будет, Эдуард, плохо. — Ярославцев затворил дверь.
«Ах, Матерый, ах, Лешка… Главное — откуда? Магнитофоны, сигареты, ондатра… С честным взором лгал о «чистых» источниках — с напором лгал! — а я, дурачок, если и не верил, то принуждал себя верить, хотел! И пристраивал эти «излишки», это якобы списанное, бракованное, бесхозное… А икра? А рыба? Неодобряемое перевыполнение плана рыбозаводом: или в море выбросить, или… Пошел ты на это? Пошел! Деньги получил? То-то».
Подумай! Эдик, Виталий — вот уже двое за сегодняшний день, кто, может, не зная истинную цену тебе, верно о ней догадываются. Первым, конечно, скрутят Матерого, и уж потом только начнется перебор звеньев цепи, так что запас по времени тебе обеспечен. Но каков он, запас? Вопрос ныне неотвязный, несущий страх, ставший уже частью существа, въевшийся в душу.
Ну-ка, давай холодно, отстраненно. Кое-что тобою приготовлено — но так, с ленцой, на всякий случай… А не пора ли подготовиться основательно и детально, чтобы достойно встретить свой самый черный день?
Однако еще вопрос: при чем здесь ты и такое высокое, благородное наречие «достойно»?
Из материалов следствия, телефонограмм…На Ваш запрос о подробностях задержания Овечкина М. П. сообщаем: гр. Овечкин М. П. задержан хозяином подвергшейся взлому квартиры, неожиданно пришедшим с работы. Угрожая преступнику антикварным мечом, хозяин вынудил его поднять руки и оставаться на месте, сообщив о происшествии в райотдел милиции, где на поступивший сигнал не отреагировали, — полагаем, хозяин ошибся номером, попав к недобросовестному абоненту… Оперативная группа из УВД города прибыла на место происшествия только через два часа по повторному вызову…
Из магнитной записи допроса Овечкина М. П.— Ну, Равелло, соблазнился шикарной квартиркой?
— Чего ликуешь? Случайность вам помогла. Вы ж думали, я дома, чай-кофе пью, не так? Меня ж не проведешь — обставили вы мою личность наглухо в последние деньки… Почему вот — не знаю, но выгорело бы сегодня — полное алиби бы вышло…
— А вышло — с особой дерзостью.
— Не юридическое понятие… Воды можно?
— На здоровье. Итак. При задержании у тебя обнаружена валюта. Откуда, интересно?
— Нашел.
— Так уж и нашел…
— Ну, купил.
— У кого купил, где, когда?
— Х-ха! У неизвестного лица на железнодорожном вокзале, находясь в состоянии опьянения. За три рубля.
— Дешево.
— Нормально. Да! Вспомнил! Слышь, начальник, пиши: номер купюры этой трехрублевой: 335 333. Прошу занести в протокол как факт, способный помочь следствию.
— Подпишитесь. Вот тут, тут и тут…
— Не учи ученого, съешь дерьма печеного…
— Чего уж… учить! Ладно. С фактом проникновения в квартиру мы покуда повременим. И вернемся к убедительным твоим показаниям насчет фунтов стерлингов, не возражаешь?
— А там тоже факт: купил за трояк. А против фактов, как известно, не попрешь…
— А мы и не будем идти против фактов, мы пойдем от них. Судя по показаниям — подписанным! — ты совершил деяние, предусматриваемое законом как нарушение правил о валютных операциях. Кодекс показать?
— Три рубля — операция? Будет лапшу-то…
— Важно событие незаконной скупки валюты, родной. Ты его подтвердил. А суд… он поймет, чего стоят твои три рубля. И мы постараемся, чтобы понял… Теперь прикидывай — прошлые судимости, нынешний прокол, а там — часть третья: рецидив, тайное проникновение, использование технических средств… Да плюс к тому — статья о валюте… Какой срок в итоге? По валюте ведь срок начислят, мы постараемся, повторяю…
— Ну… попал! Ну… на ровном месте! Ладно, готов я… Давай договариваться. Я — правду горькую, а ты протокольчик этот — в корзинку. Идет?
— По крыше воробей. Все от тебя зависит…
— В общем, наколол я две квартирки… Взял первую. Худо взял: золотишка нет, две сотняги в сервизе и пачка фунтов этих в столе письменном. Ну, думаю, кисло, а отстреляться надо, красиво ведь на дело вышел, все ваши хвосты обрезал… Ну, а на второй хате нестыковка по времени вышла, вернулся фрайер, когда на работе сидеть должен был, ан удрал, сачок. Я вообще скажу: самурай! Два часа с поднятыми клешнями на карачках…
— Знаем. Адрес первой квартиры?..
— Пиши: Ленина, пять, четыреста два… Тюрин фамилия…
Из магнитной записи допроса гр. Тюрина Э. Б.— Эдуард Борисович, по нашим данным, в вашей квартире вчера побывали воры… Вернее, вор.
— Да нет… Как?
— Эдуард Борисович… Вы — профессор, уважаемый человек, вам не к лицу говорить неправду…
— Я… искренен… Никаких воров…
— Так. Ознакомьтесь. Это — собственноручно начертанный преступником план вашей квартиры с указанием расположения мебели, описанием деталей интерьера, того, что хранилось в письменном столе по соседству с валютой… План составлен в присутствии понятых.
— Э-э… Предметы обстановки совпадают, но ограбления…
— Э… Эдуард Борисович! Пачка фунтов стерлингов лежала в левом ящике письменного стола под серой картонной папкой с бумагами. Если вы станете запираться далее, мы совершим два мероприятия: немедленно проследуем на место вашего жительства с понятыми, где установим соответствие протокольных данных с реалиями, а после — сопоставим отпечатки пальцев на фунтах стерлингов с вашими отпечатками… Об уголовной ответственности за дачу ложных показаний вы, напомню, предупреждены…
— Был грех… Неделю назад вернулся из Англии, кое-что получил за лекции… ну, привез, сдать не успел…
— В декларации, конечно, ничего не заявили?
— Нет…
— Мероприятия отменяются, распишитесь в протоколе…
— Товарищ следователь… Это… уголовное дело?..
— Ну… поздравить вас не с чем, так скажем…
Из магнитной записи допроса Овечкина М. П. Продолжение
— …Ох, невезуха, невезуха-то!..
— Ладно убиваться, Равелло… «Трехрублевый» свой протокол видишь?..
— Начальник, мы ж договорились…
— Ага. И пакт заключили.
— Ну ты и…
— Продолжай, продолжай… Не хочешь? Тогда продолжу я. Мне, Равелло, очень усердно поработать надо, чтобы хозяин фунтов во всем признался, понял? А стимул какой?
— Бабки надо? Плачу, какие дела…
— Дела такие. Вот тебе фотографии дружков твоих. Узнаешь? Шило и Псих. В фас и в профиль. Зачем в Москву их намылил?
— Э-эх! Стукачики вы мои, стукачики, все-то вы ведаете, кто бы о вас проведал… Знать ничего не знаю, начальник! Валюта, говоришь, мне шьется? Плевать хотел! Ничего не выжмешь, в камеру давай, буду там перестукиваться, этому научен, а стучать — никогда, как на понт ни кидай…
— Не выступай, голубь ты мой идейный, гляди лучше, еще что покажу… Вот тебе трупик Шила со звездой кровавой во лбу, вот Псих убиенный, а вот и Лева Колечицкий… Приветов, как понимаешь, от них не передаю… Колись, Равелло, помогай, за нами не заржавеет…
— Ну… и какие предложения?
— Самые серьезные.
— Та-ак. Левку знал. Дружили мы с ним… Но не наш он, не блатной, из деловых щук… Мы у него на подхвате работали, на перевозках — ну, шмотки он возил, то-се, — об этом, правда, помолчать имею желание… Ну, а нам надо что — Лева завсегда делал. Любой заказ по дешевке. От телика японского до машины. Учти: я не для протокола, да и вижу — тебе сам смысл важен… Ну, короче. Дел его не знаю, но человек был полезный, повторяю, уважительный… и вот просит он у меня двух бойцов. Ну, я нашел… Ан, вижу, напоролся Лева на рифы с моими матросами. Чего там Лева мудрил — не ведаю, ей-бог.
— Чем занимался Колечицкий?
— Говорю же: Лева — мужик на товаре. Техника, меха, шмотки… Знаю, икоркой, рыбкой баловался: подбрасывал нам кое-что в Ростов — по кабакам, по базам… Мы в тех делах шестерками состояли — грузчиками, охраной… шелупенью, в общем. За кости работали. С завязанными глазами — подай-принеси.
— Круг знакомых Колечицкого. Смелее!
— Никого не знаю. Мы с ним один на один… Все! Больше ни слова, начальник. Хватит от меня. В камеру мне пора, обживаться. И думать там. Крепко. О чем тебе наговорил, о всяком-разном… Жду теперь новостей от тебя. Шабаш. Зови конвой.
Судьба Вани Лямзина поначалу ничем не отличалась от судеб тысяч его сверстников: детсад, семья и школа. Мама — зав. буфетом на автовокзале, папа — механик в гараже НИИ, дом крепкий, достаток и благополучие. С троечками окончив десятилетку, был Ваня пристроен на службу в НИИ, где трудился отец. На должность лаборанта в головную лабораторию. Нелегко доставались блага бытия юному Ивану в ту пору: зарплата была мизерной, работать заставляли много, и стонал лаборант, размышляя, где бы иное местечко найти — хлебное да вольготное, но суровый родитель, мечтавший о сыне-ученом, любые заикания о таких мечтах пресекал, жестко заставляя Ваню трудиться, где указано. Так и трудился Ваня — с вдохновением раба под ярмом, через пень-колоду, замечая между тем интересных вокруг себя людей, в частности шефа лаборатории — ловкача и пройдоху, не вылезающего из-за границ, с «Волгой» и прочими атрибутами благополучия, умело подчиненными распоряжающегося и научные изыскания лихо обращающего на безусловную пользу себе лично.
И как-то поймал шеф этот ловкий Ваню на гнусненькой краже, когда залез тот в сумку одной из чертежниц, откуда похитил четвертной билет. Ну, подумал Ваня, вот и конец: выгонят и посадят: шеф был не только ловок, но и жесток… Однако не выгнал и не посадил Ваню шеф, даже отцу не нажаловался, то ли потому, что Ванин папа машину ему починял регулярно и бесплатно, то ли перевоспитать Ваню шеф решил, а то ли пожалел, ибо младшего неразумного собрата своего в нем узрел; так или иначе, но стал с тех пор Иван секретарем-машинисткой возле сильного шефа, мотивировавшего, впрочем, назначение такое, как изоляцию преступного молодого человека от коллектива беззащитных тружеников. А Ване — что! Пошла у него жизнь праздная при редко появляющемся начальнике, независимая. А после поступил Ваня в институт не без помощи шефа — с тайным желанием подобной же карьеры. Так и расстались они навсегда. Вскоре папа умер, но мама зав. буфетом семью содержала, крепилась; учеба в институте нелегко, но продвигалась, и смутные мечты Вани начали принимать характер конкретный: влезть в доверие к академику, директору какого-нибудь КБ, а после, будучи при дипломе, действовать по усвоенным схемам бывшего шефа-благодетеля. Но грянула беда. На краже модных замшевых перчаток попался Ваня в институтском гардеробе и немедленно из вуза был выдворен. И ждала Ваню армия — искупающая и воспитывающая. Но до призыва предстояло трудоустроиться… А так не хотелось, так не хотелось!..
И тут, словно по заказу, возник возле Вани толстенький, деловитый человечек с лысинкой. И имя человечку было Сема. Сема распахнул перед Ваней горизонты ослепительные. Прошлая жизнь в их сиянии предстала перед Ваней ничтожной и ошибочной, понятой в корне неправильно и искаженно. А разбитые перспективные планы на будущее — наивными и жалкими. Он во всем оказался неправ. И в том, что рисковал шкурой за четвертной и модные перчатки, и в том, что стремился достигнуть высот какого-нибудь зав. лабораторией или даже академика…
Сема — человек широкой натуры — предложил Ване зарплату — пятьсот рублей в месяц плюс квартальная премия. Работа же — пустяк: раз в недельку, получив дополнительные командировочные, летать по маршруту Москва — Баку. С «брюликами». На Ванин недоуменный вопрос: что есть «брюлики»? — Сема, мудро усмехнувшись, достал маленький пакетик из плотной коричневой бумаги и высыпал из пакетика в свою пухлую ладошку мелкие, слабо мерцающие камушки. И Ваня понял: «брюлики» — означало бриллианты.
— Тащи трудовую, на работу, чтоб участковый не цеплялся, устрою, — говорил Сема, щедрой рукой наливая Ване алкоголь и подавая вилку с куском семги. — Истопник, герой труда, устроит? Зарплату начальнику, сам — свободен… Мнешься? Трусишь? Напрасно. Ты кто? Спецкурьер. Пакетик взял, пакетик передал. Вот я — да, должен бояться. И знаешь чего в первую очередь? Длинного твоего языка. Вдруг кому-либо брякнешь…
Ваня оскорблялся: неужели он похож на дурака?
— Нет-нет, — качал лысиной Сема, как бы извиняясь, — ты очень умный, я сразу понял…
И через несколько дней Ваня, с тайным страхом в груди, однако гордый до высокомерия ответственной и таинственной миссией, вылетел с первой партией «брюликов» в город Баку.
Работа ему понравилась. Самолет, комфортабельное кресло, красивый город с пальмами и приморским бульваром, шашлыки из севрюги, дешевое сухое винцо, фрукты… И — полминуты на процедуру передачи пакетика в обмен на дензнаки условленному лицу в условленном месте. Сказка! Жизнь обрела сладостный оттенок и глубочайший смысл, состоявший, по мнению Вани, в том, что довелось ему наконец-то горделиво возвыситься над суетой.
В модной рубашке, импортном костюмчике, он уже по-хозяйски входил в прохладный салон самолета и, со скукой наблюдая за манипуляциями стюардесс, заученно демонстрирующих пассажирам правила обращения со спасательными жилетами под комментарии из динамика: «…так как наш полет проходит над значительной территорией водной поверхности…» — притрагивался к карману пиджака, где лежал очередной пакетик с очередными «брюликами», думая о программе развлечений: пляж, бар, знакомство с дамой, ресторан…
Д У Р А К И В С Е!
Так думал Ваня.
В семь часов утра долго позвонили в дверь. Ваня, уже привыкший спать до полудня, очумело вскочил с кровати; даже не спрашивая — кто? — открыл дверь…
И о н и вошли. И все кончилось. Авиарейсы, пятьсот в месяц, премия, шашлыки и возвышение над суетой — последнее было для Вани особенно трагично. Жизнь показала фигу.
Механика расследования, известная Ване, сложностью не отличалась: взяли Сему, тот заложил курьера, то бишь Лямзина; взяли курьера, обнаружив в квартире его партию «брюликов».
— Ничего не знаю! — отбивался «наученный» Ваня. — Милиция подкинула! Требую прокурора!
— Ах, милиция… — вдумчиво сказал прокурор. — Ах уж эта милиция! Но да ознакомьтесь сначала с актами экспертиз.
Бриллианты оказались меченными изотопами, Ваня, кое-что разумевший в науке — НИИ чего только стоило! — признал вину… Впрочем, не отчаявшись. Ну, курьер — взял пакетик, передал пакетик… Авось неизвестные коллеги-истопники возьмут на поруки, а добренькие дяди из органов примут во внимание молодость, естественно связанные с ней ошибки, и, надеясь на армейское перевоспитание, отпустят Ваню по-доброму в солдаты.
Но дни шли, КПЗ уже начало становиться привычным местом обитания, и надежды на добреньких дядь потихонечку улетучивались. Тем паче были бриллианты не только мечеными, но и ворованными — причем из одного весьма серьезного источника — и, кроме того, ненастоящими… Толстый Сема, прекрасно осведомленный об истинной цене бриллиантов, не ведал, однако, главного: кому именно они предназначались, введенный в заблуждение выступавшим в роли покупателя человеком из Баку, которому в качестве жертвы он подставлял Ваню — на случай разоблачения искусственного происхождения камней и последующих за тем разборов, — Ваня играл роль буфера, должного принять на себя первый удар и дать возможность Семе кануть в безопасное местечко от расплаты одураченных клиентов. Лицом же истинно в бриллиантах заинтересованным был служащий одной из японских фирм, он же — опытный промышленный шпион, с дальним прицелом создавший сложную цепь подставных лиц и перекупщиков. Толстый Сема и не подозревал, что является всего лишь марионеткой наихитрейшего японца, кого именно искусственные бриллианты и привлекали… Водили же за нос Сему не без умысла: ибо иметь какие-либо отношения со статьей «Измена Родине» он бы, конечно, не пожелал, да и Ване бы не посоветовал…
В итоге же хитрости хитрых кончились пшиком. Компетентные лица, гуманно настроенные даже к иностранцам лукавого нрава, с позором выслали шпиона из страны пребывания, а лысый Сема и остриженный, с оттопыренными ушами Ваня предстали перед судом. И тут-то судьба нанесла удар вероломнейший. Змей-искуситель, Сема проходил по делу как мошенник, выдавший заведомо фальшивое за истинное, получил три года. Услышав такой приговор, Ваня оттаял сердцем: может, обойдется условным сроком — ведь кто он? — мелочь, дурачок лопоухий. И в диссонанс этим его справедливым по существу мыслям из уст строгого прокурора прозвучало: «Прошу восемь лет…» Суд дал семь.
Так Лямзин столкнулся с превратностями закона. Превратности же заключались в том, что бриллианты курьер считал настоящими, а потому совершал преступление, карающееся не как мошенничество, а как нарушение правил о валютных операциях.
Верховный суд, вняв апелляции гражданина Лямзина, скостил три года, но посидеть все-таки пришлось…
Прибыв по месту жительства, Иван тотчас занялся своим здоровьем: лег в больницу, откуда с диагнозом «язва желудка» явился в медкомиссию военкомата, спасаясь от действительной покуда еще угрозы армейской службы…
Четыре года исправительного труда выработали у Вани стойкое к труду отвращение, и никому, кроме как самому себе, служить Ваня уже не намеревался. Кроме того, отведав сладко-горький плод нетрудовых доходов, Лямзин, как и подобные ему «гурманы», тянулся исключительно к нему. Однако заработать большие деньги путем безнравственным — с точки зрения официальной морали, разумеется, — идея заманчивая, но и абстрактная. А все абстрактные идеи — стратегические и без конкретных тактических идеек, их подкрепляющих, не приносят ни гроша, — это Ваня уяснил. Так что вопрос «сколько заработать?» был не менее важен, чем и вопрос «каким образом?». Вопроса «зачем?» для Ивана не существовало.
Поначалу устроился поближе к дефициту — грузчиком в магазине, после, когда раздобыл на совесть сработанный умельцем дипломчик, — официантом в поезде… Вскоре последовала удачная своим разводом женитьба: супруга, получив компенсацию, прописалась к новому мужу, а Ваня очутился один-одинешенек в просторной двухкомнатной квартире. Пришла пора обустраиваться. По счастью, взяли «халдеем» в хороший столичный ресторан, и начал жить-поживать Лямзин под крылышком по-доброму относившегося к нему директора, очередного покровителя. Бегал Ваня по приватным директорским делам, выбивая себе тем льготы по службе; держал язык за зубами — этой науке он выучился на «отлично» и потому авторитетом и доверием у патрона заслуженно пользовался. Но хорошее, увы, проходит быстро. Грянула в стране кампания за трезвый образ жизни, оскудел поток чаевых, днем клиент сидел смурной, — да и какой клиент? — все комплексный обедик норовит заказать, ибо деликатесы под компот — баловство и… безвкусица.
Борьба за трезвость сильно Ивана смутила. Но поначалу. После заметил: начали с самым открытием ресторана приходить особо смурные — приходить как к оплоту последней надежды и, доверительно дыша перегаром, совать мятые червонцы — выручай!.. И выручал Ваня: нес в нарзанных бутылках прозрачный напиток, куда более целебный для смурных, нежели богатая полезными минеральными солями газированная водичка. И куда как с большим энтузиазмом ходил теперь на работу Иван! Ящики спиртного штабелями стояли в его квартире, и не оскудевали запасы: благо имелись «концы» в трех магазинах с уютными туда лазейками для избранных.
Счастье, однако, привалило и отчалило. При проверке ресторана органами ОБХСС был Ваня обезврежен буквально «на лету», когда нес в зал, красиво держа мельхиоровый поднос, емкость с псевдоессентуками.
Помотали нервы, погрозили ответственностью, но обошлось легко: увольнением по статье.
Благодарный директор, тоже получивший по шапке за нерадивого подчиненного, все-таки снизошел к проблемам его нового трудоустройства. В приличные места, сказал директор, хода тебе в настоящий момент нет, но так чтобы на хлеб хватало, пристрою. Есть и у меня патрон, Ваня. Ищет себе он надежную шестерку. Пойдешь в шестерки? Тогда замолвлю словечко.
— Хоть шестеркой, хоть джокером, — отозвался Иван. — Только чтобы платили как валету по крайней мере.
Так встретился Ваня с Ярославцевым. Не прошло и первых пяти минут разговора с этим человеком, но уже прочно Лямзиным уяснилось: вот — босс! И какой! Куда до него прошлому вертопраху ниишному и идолам ресторанным, не говоря уж о хитреньких семах… И потому изложил Иван всю правду о своей жизни, со всеми ее неудачами и разочарованиями.
— Значит, Иван, так, — выслушав без смешков, сопереживаний и вопросов, молвил босс — Дам я тебе зарплату: триста рублей. Будешь бегать по министерствам с бумажками. Свободного времени гарантирую тьму, гонорары тоже устрою от случая к случаю, только работай честно. А дальше, проявишь себя, другое занятие подыщу. Но учти: финтить станешь, в самодеятельность потянет — петля! С гарантией.
И бегал Ваня полгода с бумажками, и зарплату получал исправно, и гонорары перепадали, и зарекомендовал он себя человеком исполнительным и неболтливым.
— Что ж, Ваня, — сказал босс через полгода, — отбегался ты, хватит. Зарплату не урезаю, но дело теперь будет иное… Вернее, два дела. Ты, как понимаю, по складу характера лентяй и домосед. Любишь, нежась на диванчике, глазеть в телевизор и мечтать о жизни лучшей, не выходя из дома… Не спорь, замечал. Вот и получишь работку в соответствии с природными наклонностями. Одно «но»: надо, Ваня, научиться немного шить… Это — первое дело. Одновременно — новая, полезная профессия. И доходы от нее к «зарплате» отношения не имеют. А то, что за «зарплату» делать придется, — через месяц расскажу.
Срочным порядком выучился Лямзин шить зимние ушанки, законно приобретя на то лицензию. А с сырьем — в частности с ондатрой — крупно подсобил босс, благодаря чему застрочила машинка чистоган. Сколько настрочишь — все твое. Минус, конечно, естественные вычеты и проценты, но сумма прибыли все равно набиралась изрядная.
— Теперь — второе дело, — заявил вскоре босс, — за «зарплату». Одну из комнат в твоей квартире на время займет мой человек. Живи с ним мирно и дружно, к тому же не так часто будет он тебе досаждать своим присутствием… но помни: каждое слово человека этого, каждый жест должен знать я — твой… шапочный знакомый, понял? Комнатку твою оборудуем соответственно: поставим некоторые механизмы на телефон, на прочее… И все-то ты, Ваня, строча шапочки, обязан фиксировать… За что и платится тебе зарплата. Идет?
— Мне нравится, — сказал Ваня. — Только одно «однако»: как бы не сесть за шпионаж?
— Исключено, — отрезал босс. — Время пройдет, поймешь: тут дела не внешние, а внутренние, причем не просто внутренние, а мои внутренние… Ты же — в роли частного детектива. А за это не сажают. Не учтено пока законом.
Вскоре в квартире появился здоровенный коренастый мужик, представившийся Алексеем. На жизнь Ваня не сетовал: шапки шились, деньги текли, а квартиру сосед навещал изредка, и замки на запертой теперь двери коммунального сожителя Лямзина не смущали. Когда же тот появлялся — бывало, что не один, врубал Ваня хитрую звукозаписывающую аппаратуру, а после его отбытия — из автомата брякал боссу: материал есть!
В сущность вмененных ему функций Иван вник, руководствуясь элементарной логикой, и вник верно: коренастый Леша, видимо, ходил в ближайших подручных у общего их руководителя, которому надлежало знать о всех телодвижениях особо доверенных подчиненных… Потому комнатка эта коренастому Леше устроилась неспроста… Мысли свои по данному поводу Ваня откровенно высказал Ярославцеву, и ответил тот: «Да».
— Значит, я — Ваня-филер, — резюмировал Лямзин. — Одновременно — содержатель конспиративной квартиры. Во, дошел, а? Так! Возникает вопрос. На шапочках, спасибо вам, проживу я теперь без страданий всю жизнь. Так зачем искать приключений за дополнительных триста рублей? Отвечу сам: я вас уважаю, начальник. И знаю: вы выручите, когда фортуна повернется задницей. Это держит… Но мне нужны гарантии. За придурка я уже отработал с «брюликами».
— Ты — не подставка, Иван, — ответил Ярославцев серьезно. — Ты — страховка. Я ее выплачиваю, я ее и сохраню. За одно не ручаюсь: за лично твои безграмотные начинания…
Иван поверил. Удивительно, но впервые поверил: тут он имеет дело с честным человеком.
Из телефонограммСегодня на допросе Овечкин М. П. показал: у Колечицкого Л. А. был знакомый по имени Толя, легко достававший дефицитные запчасти к любым автомобилям и качественно производивший сложнейшие кузовные работы. Лично Овечкиным М. П. при встрече с Толей в Москве, в районе метро «Первомайская», был приобретен два года назад ящик с шаровыми опорами для «Жигулей». Толя подъехал на автомобиле марки «вольво» синего цвета.
…установлено: Коржиков М. П. производит ремонты частных автомобилей в кооперативе «Мотор» совместно с Анатолием Матвеевичем Вороновым, владельцем синего «вольво», № 00-04. Место работы Воронова — завод «Октябрь», должность — слесарь.
Мучили дурные, тревожные сны и тяжкое предчувствие беды. Болезненно саднило сердце — видимо, от нервной перегрузки последних дней. Как нечто недостижимо-иллюзорное вспоминалось: дом на море, Маша, но путь туда, в мечту, покуда был перекрыт преградами дел, часть которых предстояло завершить, часть попросту свернуть, а часть еще и начать…
Проснулся он поздно, время шло к одиннадцати часам утра, но вставать не хотелось: в доме стояла уютная, теплая тишина; пахло печью и смолистым деревом.
Хвойный лес за окном сливался в пасмурную, присмиревшую декорацию; белесое, заполоненное моросью небо словно стлалось над соснами, и вылезать из постели пришлось на усилии воли.
Он сделал несколько резких махов руками, разгоняя вялость, и вновь ощутил саднящее беспокойство где-то глубоко в груди… Неужели сердце? Нет, скорее невроз… Сердце здорово: не курил никогда, не пил, спорт ставил превыше всего… Определенно какая-нибудь дистония… или как ее там…
Прошел в ванную — огромную, как зала: черный кафель с матово-белым узором, зеркало во всю стену… Сколько он сил угрохал, чтобы помочь Маше отстроить все это… Ладно ванная, а дом? Князю в таком жить не зазорно. Хорошо — покупатель достойный нашелся: с большими деньгами человек, уважаемый композитор, хотя, пройдясь по дому, и он задумчиво губу кусал, а после напрямик попросил: дайте срок сумму добрать, сразу не потяну… Но уверил клятвенно: покупаю! Такой дом, сказал, мечтой всей жизни был, потому: умоляю, потерпите… Работает небось композитор сейчас на износ, торопится; каждый день звонит: не изменились ли обстоятельства? Не изменились, есть еще время, благодаря делам, что наперекосяк и вразброд… Надел кроссовки, тренировочный костюм, прошел в гостиную. Колченогий Акимыч, опираясь на палку, почтительно привстал из кожаного кресла возле камина, пробурчал, кряхтя:
— Завтрак, барин, разогревать? Чай, кофе?
— Чай. Зеленый.
— Опять бегать идешь? Тю, прям пацан…
— Иди, старче, чайник ставь. И не выступай. Физкультура — залог… всего, в общем. Не дано тебе пенять. Всю жизнь лакаешь, табак содишь, и гляди какой — еле ползаешь, а всего-то — шестьдесят пять…
— Да ты еще до таких-то лет доживи! — с напором возразил Акимыч, отправляясь, стуча палкой, на кухню. — Доживи еще со своей гимнастикой, бегун-беглец…
«Это ты точно, старый павиан…» Матерый постоял на крыльце, глубоко вдыхая влажный воздух. И опять легонько укололо в груди, будто иголочкой кто ткнул. Вот незадача…
Он размашисто прыгнул вперед, побежал по тропинке в осиннике — густом, мокром… Ветхая прошлогодняя листва шуршала под ногами, вминаясь в осклизлый налет начинавшей оттаивать почвы.
С каждой секундой приходили бодрость и ощущение силы, однако иголочка в сердце, существуя как бы независимо, покалывала все настойчивее и чувствительней… Матерый остановился.
«Ну к черту! — подумал испуганно, утихомиривая дыхание. — Лучше прогуляюсь, а то в самом деле — как шандарахнет, так и останешься тут подыхать, — здоровеньким, что обидно…»
Неторопливо побрел обратно к дому. Мысли крутились неотступно возле одного и того же: каким образом остановить дела? А может, не стоит останавливать, обойдется? Вряд ли… Да и Мишка Коржиков вчера сообщил: разрыли траншею… Значит, извлекли пулю из Левы… И почему не ножом он его?.. «Вальтер» ныне в болоте, но толку? Леву опознают, в Ростове публику тряхнут, и выплывет, конечно, многое… То-се, следствие, бумаги; запас по времени, конечно, есть…
Знать бы, кто ведет дело… Знать бы, что они знают — сыщики, прокуроры. А если бы еще и договориться с ними… Нет. Свой народ остался в органах, но сидит ныне тихо, насмерть перепуганный чистками. А засветиться на покрытии организованной преступности… Из новых же, молодых, редко кто покроет убийцу, тут они безжалостны, как роботы: главное — схватить и уничтожить, иных задач нет. И попробуй докажи, что убивал, ибо не существовало выбора, попробуй объясни, что покоя хочется и искупления — хочется ведь, правда! — смешно для них будет все это, из анекдота просто… Все, между прочим, хотят. Но не все, скажут, убивают и наживают миллионы преступным путем! Да, но эти «не все» расплачиваются скромным, сереньким существованием… Правильно, ответят. Зато вы — дырками в теле от пистолетных выстрелов в камере исполнения приговора, где уткнетесь носом в присыпанный опилочками цементный пол… Впрочем, Матерый, у тебя что, очень яркое существование было? Ну, курорты, бабы, ресторанные блюда, вещицы… Сон! Не задалась жизнь! Все ведь теперь готов отдать, все, лишь бы сидеть в яме какого-нибудь автохозяйства слесарем, крутить гайки, радоваться левой трешке за честные труды и ни о какой камере исполнения не думать…
Он грузно ступил на крыльцо. Погладил резные, из дуба, перила. Навек строил, для себя… А теперь — чужому дяде-композитору. Хоть и за деньги, а чужому. Ради чего тогда суетился?
— Вскипело там, — коротко сообщил Акимыч.
Матерый вскользь оглянулся на старика. Вот тоже проблема! Этот анахронизм куда девать? С собой не потащишь, да и проку от него… Но верный барбос, просто на улицу выкинуть жаль, да и человек ты все же, Матерый, помнишь, как в зоне еще мальчишкой возле него очутился — старого вора, с авторитетом, с властью по тем временам непререкаемой… Тут бы, согласно логике, прилепившись к нему, отправился бы ты вместе с ним под откос со всей рухлядью блатной морали и законов, но от природы был мудр старичок, дальновиден, завидным чувством современности обладал, мимикрии, желанием выжить, а потому и сам от гнилых устоев отказался и его, волчонка, уберег — кормил, пестовал и умного волка в нем взрастил — чтобы потом возле него же на старости и кормиться — пусть крохами, но надежно… Так и вышло. Получает Акимыч зарплату, несколько тысчонок на черный денек скопил, жильем обзавелся, и теперь в самый раз пристроить его швейцаром в хорошее заведение, вручив одновременно кое-какую сумму, чтобы укрепить бюджет старика на случай все того же черного дня.
Чай был крепок. Старик не жалел заварки — очевидно, сказывалась тюремная привычка… Матерый, сплюнув, долил в чашку кипятка, надкусил бутерброд с толстым ломтем пресной баночной ветчины.
— Акимыч, — позвал негромко.
Припадая на хромую ногу, изувеченную автоматной пулей при попытке побега из лагеря, старик вошел в кухню.
— Акимыч, — Матерый увлеченно жевал, — придется нам вскорости расстаться. Сыграна игра, на отдых пора, на дно, а на нем знаешь как отлеживаться: друзья по прошлому — без надобности, стремно.
— Спалился, значит, — угрюмо молвил старик, громоздко усаживаясь на изящную кухонную табуреточку.
— Не спалился еще, но тяжело в природе, грозу ощущаю близкую. — Матерый сел к нему вполоборота, уставившись взглядом в пол. — Дачу продаю. Не хочу, душой болею, но — надо…
— Дно-то… надежное, мутное? — глухо спросил старик.
— Э… — болезненно покривился Матерый. — Кто ж знает? Вроде… Ну да ты мне тут не советчик, о другом давай толковать… Жилье в городе у тебя есть, на работу тебя приткну. К надежным людям, на хорошее место — и не Христа ради, и не бедным родственником… Теперь. Сколько денег надо, скажи? Вообще — какие проблемы? Без связи будем, а я не хочу, чтоб…
— Вот чего боялся я, Лешка… — Старик надсадно закашлялся. — Вот чего… Надеялся я… крепко надеялся: на верные ты стежки вышел, с большими людьми отношения заимел, — ну, думал, пронесет… Машка тут появилась — ладная деваха, уважительная. Ну, мечтал в дедах походить…
— Приметный ты больно дед, в том и беда, — сказал Матерый откровенно горько.
— Точно. Не набиваюсь. Ну, а срок-то какой набрал?
— Выше крыши. И еще раз. И еще раза два. А то и вовсе со счета собьешься. Астрономию в самый раз изучать… чтобы, по Млечному гуляя, не заблудиться.
— Сегодня отрываешься? — Старик встал.
— Да нет… Так, готовлю тебя, чтоб по чести…
— Ясно. — У двери Акимыч обернулся. Сказал: — Денег не надо. Или пусть они залогом станут — те, что дать хочешь. Залогом, что навестишь еще, не забудешь. Ты ж мне сын, Лешка… Беда в пахане твоем: вор я был, вором и остался, хоть пятнадцать лет уже не грешу. А тебя жизни научить не мог, не знал я ее, жизнь. А когда узнавать случай сподобился, поздно было, мозги уже закаменели в дерьме… Так что не серчай на меня, хотя… из-за меня же все это…
Он еще постоял у двери — спиной к Матерому, будто размышляя о чем-то… Сгорбленный, с палкой под мышкой, разведя локти рук, неловко засунутых в карманы пиджака. Затем ушел.
Матерый поднялся в спальню. Грустно усмехнувшись, оглядел тщательно заправленную стараниями старика кровать…
Переоделся. Из погреба взял три бутылки коллекционного вина, балык. Сегодня в последний, вероятно, раз он ехал в гости к Хозяину. Для разговора, в котором вино и балык ничегошеньки не решали. Как бы только за издевку не принял Хозяин эти гостинцы… Он бы, Матерый, такому вот визитеру за его новости балык навроде кляпа в пасть заправил, а бутылками — по башке! В ответ на соблюдение правил хорошего тона…
И вдруг возникла надежда: что, если не все проиграно? И ни к чему Акимыча было дергать, и самому мучиться, и к Хозяину ехать, нервы трепать обоим… Если не так и страшно все? Бывают же нераскрытые преступления… Глянь, да и закроют прокуроры провисшее дело, и он дела закроет, вообще — мир и дружба с этим охотящимся за ним миром…
Нет. Он не страус, прячущий головенку с куриными мозгами в теплый песочек от опасности. Он — волк, опасность упреждающий, чующий само ее рождение, и обманывать себя не вправе. Его природа против безмятежности и иллюзии, против достоинства и инстинкта. Пусть волчьих, но таким бог создал… А люди все довершили. В соответствии с тем, что положено свыше.
Или детство виновато? Вряд ли… А если и да — какая разница, он уже ни о чем не жалеет. Он уже привык… Так.
Из материалов следствияНа Ваш запрос сообщаем:
Житель г. Баку Гаджиев А. Т. убил на глазах у свидетелей своего напарника по браконьерскому промыслу осетровых, в чем сразу же сознался, явившись в органы милиции. Убийство мотивировал сильным душевным волнением, ответом на глубокое оскорбление. После вынесения судом приговора об исключительной мере наказания опроверг свои показания, заявив, что убийца — его дядя Султанов И. И., который воспитывал его с детства и в доме которого он проживал. За ложное признание в убийстве дядя заплатил ему полмиллиона рублей, гарантировав досрочное освобождение из колонии, где Гаджиев якобы будет находиться на привилегированном положении, что подтверждалось ему компетентным официальным лицом, также склонявшим Гаджиева к самооговору. Следствие велось поверхностно, недобросовестность свидетелей не вскрылась, что привело к судебной ошибке.
После ареста Султанов И. И. признался в совершенном убийстве. Далее следствием установлено: Султанов — глава преступной группы, имеющей мощные плавсредства, оригинальную снасть, огнестрельное и холодное оружие. Балычно-икорный цех, в котором производилась обработка осетровых туш, добытых браконьерскими способами ловли, был замаскирован под филиал судоремонтного завода на побережье. Как утверждает Султанов И. И., убийство браконьера он совершил в ответ на попытку шантажа со стороны последнего, нанеся ему пять ножевых ран. Официальное лицо, подтверждавшее Гаджиеву гарантии Султанова и покровительствовавшее действиям преступников, покончило жизнь самоубийством. Свидетели, давшие ложные показания, предварительно подверглись убедительным угрозам об убийстве их в случае неповиновения и противостоять Султанову И. И. не могли.
Колечицкий Л. А., чье фото опознали и Султанов и Гаджиев, снабжал преступные элементы в г. Баку дефицитными промышленными и продовольственными товарами, реализовавшимися на черном рынке города. Также Колечицкий Л. А. скупал икорно-балычную продукцию, перепродаваемую им неустановленным адресатам.
Согласно показаниям Султанова, действиями Колечицкого Л. А. руководило неизвестное лицо, заинтересованное в промысле осетровых, расширявшее масштабы промысла и обеспечивающее браконьеров необходимой снастью, в том числе покрышками от шасси «Ту-154». По описанию Гаджиева — это невысокий, коренастый блондин с серыми глазами, физически развитый, лет сорока, одет изысканно, держится уверенно, неулыбчив, строг… Фоторобот «блондина» высылаем.
Из магнитной записи допроса Султанова И. И.…— Этот блондин… контактировал только… с упомянутым официальным лицом?
— С ним, лишь с ним! Его спроси! Его, шакала, он меня подбивал… Риба, сказал, давай, большим людям надо! От самолет колеса достанут, мотор от «Чайка» для лодка, дизель…
— Вы показали, что этот человек очень развит физически… Как вы в том убедились?
— Что убедились — сплошной мускул, видно. Одын платформа без шасси в море затащит!
— Вы утверждаете, что «блондин» просто подставлял Колечицкого как якобы самостоятельного скупщика икры и рыбы?
— Да. Рэфрижратор приехал… грузим, после — до свидания…
— Рефрижератор?
— Э, для отвод глаз рэфрижратор! В военный часть тут же, в Азербайджан, а дальше самолет… Туркмения через море, Грузия через гора… Милиция гонится, а как милиция в военный часть попасть? У КП солдат с автомат, проход командир запретил… Где командир? А нет командир, занят, политико-воспитательный работа ведет… Пока с военной прокуратур связь, самолет улетел…
Когда появилась у него эта кличка — Матерый? Он уже и забыл… Вспоминая себя прежнего, сравнивая и оценивая через призму опыта разочарований устремления и поступки юности, он, как бы ни пытался, не находил никакой разницы в своей былой и нынешней духовной сущности, мироощущении и решениях. И с горечью сознавал, что всегда поступал единственно для себя возможно, приемлемо и верно. Но почему с горечью? Потому что верными или же выверенными были поступки по отношению к тем или иным обстоятельствам жизни; он ловко проводил контрприемы, не упуская ни одного нюанса направленной против него атаки, реагируя на нее мгновенно и безошибочно, но вот подняться над обстоятельствами или минуть схватку — не умел. Он всегда шел напролом сквозь стены, неспособный преодолеть их на каком-либо взлете. Но мечта и тоска об этом неведомом ему способе покорения бытия и судьбы через прыжок, полет глодали, точили, унижали, как сильную птицу, лишенную крыльев. А если, часто спрашивал он себя, я просто родился в курятнике, где перышки повыщипывали, прежде чем чувство крыла осозналось? Кто ответит?
В зоне, на втором сроке, он встретил Акимыча. Старый вор, знавший всю подноготную д е л а , тюрем и малин, тот сразу приметил озлобленного, крепкого паренька, взял к себе — и на выучку, и «столоваться возле тех, кто в законе», и порученцем — вначале по мелочам… Через год Алексей знал о том, что именуется «преступной средой», практически все. Уроки порока и зла, которые преподал ему Акимыч, он усвоил блестяще. Вот и второй срок — тяжко и муторно тянувшийся в голой оренбургской степи — подошел к концу, и открылись решетчатые двери вахты, и ухмыльнулся долговязый солдатик-контролер куражливо, поздравляя его, Монина, со свободой — наверняка, по мнению солдатика, недолгой: через месячишко, мол, вновь войдешь ты в такой же закуток, составленный из наглухо сваренной строительной арматуры, — с другой, правда, стороны… А он, Леша, долгой и мертвой улыбочкой ответил солдатику-мудрецу, запомнив и физиономию его на всякий случай… Нет, солдатик, зря губки кривишь, мудрец ты казарменный, последний раз шмонают меня, последний раз справочку с кислой фиолетовой печатью тебе вручаю, чтобы ознакомился внимательно…
Но в чем-то и прав был солдатик. Неуклонно притяжение тюрьмы для тех, кто хоть один раз изведал ее. Свобода означала те же стены, решетки, колючую проволоку — сплошными заслонами, только имена им были иными: людская подозрительность, безденежье, отчуждение и — в противовес этому — самое радушное гостеприимство ворья… Что выбирать?
Выбрал таран: крушились стены, синяки оставляя; колючка, внатяг лопаясь, в душу отточенными своими завитками впивалась… Но — выдержал. И настал-таки восхитительный миг: он, человек с паспортом и пропиской, токарь четвертого разряда, сидит на диванчике в собственной комнате, предоставленной ему заводом, и все в комнате — его! Собственное! И диван, купленный по дешевке у бабки-соседки, и стул — пусть с помойки, но хороший, крепкий, ножку ему он сам вытесал и спинку укрепил; трат теперь, правда, предстоит: будильник, чайник, вилки-ложки, телевизор — но это пока мечта…
Пришло счастье, нашло его. Обошлось даже без конфликтов с прежними дружками, хотя и недоумевающими по поводу его рабочей профессии и нового стиля жизни, но вражды не выказывающими. Им он разъяснил ситуацию лаконично: мол, есть с в о й расклад, а кому не по нраву — от винта! Так и порешили.
В работу на заводе он втянулся не сразу, однако ремеслу учился прилежно, норов старался наружу не выставлять, и заладилось. Смена, отдых, полностью посвященный спортзалу; новые приятели — все шло своим чередом.
А после встретил Марину… Странно встретил. Шел после тренировки поздним вечером через парк в летний ливень, запахнувшись в курточку, и вдруг в темном, простеганном дождем пространстве различил на одной из скамеек бесконечно одинокую, понурую человеческую фигуру. Подошел ближе. Какая-то женщина. Безучастно-немая. И дождь ей был безразличен, и ночь эта сырая, и бормочущий шелест измокшей листвы…
— Девушка, что… сложности какие-то? — Слова произнеслись сами собой.
Она не отвечала, замерев в одном ей ведомом раздумье; не убирала прижатых судорожно к лицу ладоней. Вода стекала со слипшихся ее волос на колени, на юбку…
Взяв за кисть, он отвел руку ее в сторону. И встретил безразличный взгляд смотрящих в никуда глаз. Она была смертельно пьяна, эта девица. Уже собрался идти дальше, но тут расслышал, как еле дрогнувшие губы шепнули: «Помогите».
— Где живешь-то, а, поддатая? — спросил он, поднимая ее со скамьи, но ответа не дождался.
Буквально на руках, отдуваясь и матерясь, он донес ее до дома, переодел в свою чистую рубаху и уложил в постель.
Всю ночь ее рвало, она бредила, косо, безумно глядя на него, отчаянно проклинавшего и эту негаданную встречу, и глупое свое сочувствие; огрызавшегося на любопытных соседей, бдительно шаставших мимо двери… Но главное из бессвязных ее слов он уяснил: девчонку подпоили какие-то ребята, подпоили с целью определенной, а после вышвырнули на улицу.
— Ну, — сказал он утром, не без труда разбудив гостью, — вставай, будешь завтракать рассолом.
— Можно… я останусь… немножко? — прошептала она.
— Только на глазах соседей не мельтеши, — угрюмо согласился он, собиравшийся на работу. — Итак, теперь на неделю шорохи за спиной обеспечены… — Помедлил. — Ты… из вчерашнего-то помнишь чего-нибудь? — спросил с презрительным состраданием.
— Помню… Спасибо тебе, — сказала она.
Отвернувшись, он молча вышел. А затем, весь день глядя на вьющуюся под упрямым натиском резца ленту стружки, привычными движениями вытаскивая и заправляя в барабан станка детали, он думал о ней и почему-го, сам себе раздражаясь, хотел встречи, пусть и понимал, что вряд ли таковая состоится… А когда вернулся, открыв дверь комнаты, то не знал, радоваться или ругаться: жилище было прибрано, мебель переставлена — причем довольно мило, а гостья, похоже, уходить так никуда и не собралась.
— У тебя замок не захлопывается, — произнесла она виновато.
— Значит, собирай ужин, кивнул он.
После ужина проводил ее к дому. Зная уже все. О помолвленном с ней, Мариной, мальчике Игоре — сыне влиятельных родителей, долго и издавна друживших с ее отцом и матерью; о недавнем пьяном вечере, когда, упоив свою «невесту» до бесчувствия, Игорь поделил ее с товарищем…
— Ничего история, да? — спросила она Алексея. — Вот что случается, когда навязывают в жены нелюбимых девушек…
— Ну, и чего делать будешь? — хмуро полюбопытствовал он. — В милицию с заявлением?
— Куда? — Она вымученно рассмеялась.
Однако смысл такого ее смеха он не понял, да и не мог тогда понять…
Она помолчала. А после на убежденном выдохе заявила:
— Убью его.
Тут настал черед рассмеяться ему. От души. Отсмеявшись, спросил:
— Дома у тебя сейчас есть кто?..
— Нет… Родители в отпуске…
— Тогда позвонишь своему Игорю… Так и так, ничего не помню, люблю и хочу встречи… Не перебивай! — Отмахнулся. — Главное, чтоб пришел… А я тоже кой-кого приглашу… Есть тут у меня корешок. Колей кличут. Мамонтом.
Мальчик Игорь, человек с перспективами заграничных скитаний, на встречу согласился легко, — видимо, все-таки был озабочен последствиями гуляночки и своих диких поступков, продиктованных раскрепощающим подсознание алкоголем… С другой стороны, беспечный тон Марины обнадеживал. Все сошлось: и любопытство, и испуг, и желание выйти сухим из воды… Мальчик Игорь заглотил наживку.
В гости он пожаловал с шампанским и с цветами. Букет и бутылки приняла, однако, не Марина, а какой-то небритый верзила в клетчатой байковой рубашке и в клешах, встретивший его на пороге знакомой квартиры.
Обреченно щелкнул за спиной замок.
— Ну, чего застыл? — обдавая гостя ароматом пива и чеснока, изрек тип в клетчатом, возвышаясь едва ли не до потолка в тесном для его гигантского телосложения пространстве коридорчика. — Проходи. Не зря же газировку принес и лютики-гвоздички на закусь…
— Я-я… — промычал Игорь, пытаясь сделать обратный маневр по направлению к двери, но тут же и осекся: мощная рука, легшая на его плечо, тяжестью своей однозначно дала понять — сопротивление бессмысленно.
Прошли на кухню, где вместо Марины мальчик Игорь застал еще одного бандита, высоким ростом не отличавшегося, но шеи у бандита была бычья, подбородок квадратный, а кулаки словно из камня высеченные, рельефные. И если тот, что за спиной стоял, напоминал скалу, то в кухне сидевший — хищную кошку.
— Садись, — сказал второй, со взглядом пантерьим.
Вновь тяжело опустилась на ключицу Игоря длань человека-скалы, и вот уже гость оказался на стуле.
— Пей, — сказал все тот же, что за столом сидел, наполняя стакан водкой и Игорю стакан придвигая.
Ох, не хотелось Игорю прикасаться к стакану этому, но лапидарное «пей» прозвучало инструкцией по выживанию в данной нехорошей обстановке.
Давясь, он проглотил тепловатый алкоголь; с души воротило, рвота поднималась неудержная, но заботливый компаньон по застолью тут же, сочувственно кивнув, шампанского в стакан плеснул — запей, мол, все полегче…
Нахлынула отупелость. Ощущение себя жертвой, предназначенной на заклание, постепенно и страшно постигало Игоря, но смысл вершившегося ритуала оставался неясен, к тому же мысли непоправимо спутала водка, а оба бандита таинственно и упорно молчали. Паузу же их гость не прерывал пустыми расспросами, нутром понимая: пауза — это еще жизнь…
Время будто остановилось. Неподвижны были лица, пусты глаза, душен и тяжек воздух.
— Пей, — внезапно и резко произнес человек за столом, вновь наполняя стакан.
Гость было издал протестующий звук, но тут что-то легонько вспорхнуло над его головой, и краем расширенного ужасом взгляда он увидел скользнувшую по воротнику рубахи шелковую нить, накинутую тем, кто стоял за спиной; нить, что в следующий миг крепко и жестоко перехватила такое нежное, беспомощное горло.
— Пей, — повторили безучастно. — Каплю прольешь — петля.
— Запить бы… — позволил себе реплику Игорь.
— Это да.
И густо запенилось в чайной кружке шампанское, стекая с краев ее на клеенку кухонного стола.
За вторым стаканом последовал третий, за третьим еще два, но как осилил их, Игорь уже не помнил. Не помнил он и дальнейшие события, а было так.
Стараясь не испачкаться, Коля-Мамонт выдернул наружу рубаху бесчувственного гостя, надел на него пиджак задом наперед, аккуратно, впрочем, застегнув на спине пуговицы. Затем же, принеся с лестничной клетки старую, кривую швабру, легко, пальцами, отломил от нее истертую, измочаленную щетку. Достигнув таким образом подобия кола, продел его в рукава пиджака, и раскрылись руки безвольные Игоря, как крылья у птицы.
Дождавшись, когда забытье начало отступать и гость предпринял инстинктивные попытки передвижения к свободе, друзья, нахлобучив на него мятую соломенную шляпу с пришпиленными к ее тулье гвоздиками, вывели жертву на улицу. И крякнули удовлетворенно, глядя, как странное крестообразное существо, вихляя и спотыкаясь, напоминая прохожим ожившее чучело, тронулось в слепой и неведомый путь свой, должный — по коварным расчетам Коли-Мамонта — закончиться в вытрезвителе: чучело брело аккурат к отделению милиции, так что финал такого маршрута никаких положительных перспектив Игорю не сулил.
Подняв голову, в окне на третьем этаже Алексей увидел лицо Марины.
— Ну, как там зрители на галерке? — перехватив его взгляд, спросил Коля-Мамонт.
— Наблюдают, — ответил Алексей хмуро.
— Нда? Ну так иди, присоединись. А я потопаю… Дельце у меня сегодня. Хватит радостных забав. Бывай.
— Спасибо.
— Чего там… Хоть улыбнулся сегодня — в кои-то веки… Иди-иди, ждет тебя баба, верняк. А я нашего распятого проконтролирую, чтоб куда надо доплыл.
И он, Алексей, пошел обратно, к Марине. Шел, зная, что ждет его, угнетенный определенностью этого знания…
Он и хотел и не хотел близости с ней; случайная их встреча так и осталась случайной для него по самой своей сути; но желалось женщины, желалось разрушить монотонность бытия и одиночества, разорвать замкнутый круг окружившего его мирка, в который он заключил себя сам — пусть против своей воли, на голом решении, с маетой по прежней разгульной жизни, но навсегда и не иначе — так было приказано…
И он поднялся туда, наверх, на третий этаж. Скучно раздумывая о том, что, может быть, для полного несчастья надо еще и жениться… Это — тоже продолжение той работы, в которую он втянулся, тот же конвейер. Но и способ выжить, ибо не желающий служить конвейеру будет смят им.
А через неделю домой к нему пожаловал незнакомец. В скромном, но складном костюме; лицо грубоватое, с крупными чертами; взгляд — сонливо-ироничный…
— Я — отец Марины, — коротко представился он с порога, глядя мимо Алексея и морщась, — словно с каким-то заранее укрепившимся отвращением к собеседнику.
Прошли в комнату.
О родителях Марина не говорила ничего, разве что констатировала их существование как данность. Алексей тоже разговора о них не заводил, да и не в его характере было допытываться о том, о чем, чувствовал, рассказывать ему не хотели. А она не хотела… Это он уяснил сразу — по интонации ее, скороговорке с резкой переменой темы… Теперь же секрет недомолвок раскрылся: ни Алексей, ни Маринин папа симпатий друг к другу испытывать не могли, поскольку служил папа в милицейских начальниках, о чем кавалера дочери, имеющего уголовное прошлое, уведомил с многозначительной неприязнью.
— Зла тебе не желаю, добра тоже, — сказал он, продолжая кривиться гадливо. — Чего там с Игорем у них вышло, не знаю и знать не хочу. А ты парня подставил, как сволочь… — С силой сжал кулак. — Но ладно, забудем, проехали. Теперь так… Они разберутся. Сами, понял? А ты по своей дорожке иди, на чужие не забредай…
— Разберутся? — спросил Алексей утвердительно, испытывая озноб неудержной ненависти.
— Да. С гарантией. И еще гарантию тебе дам: пойдешь против меня…
— Уже иду, — сказал Алексей, поднимаясь. — И если через три секунды не испаришься, ни одна гарантийная мастерская тебя в починку не примет…
Вечером того же дня Алексей Монин, ранее неоднократно судимый, нарядом милиции был препровожден в отделение, где ему сообщили, что задержан он в связи с поступившим заявлением гражданина Кузохина Игоря Мартыновича, студента, в отношении которого им, Мониным, совершены злостные хулиганские действия.
Через трое суток, дав подписку о невыезде, Алексей вернулся домой. Не заходя в комнату, из прихожей, где висел приколоченный к обшарпанной стене коммунальный телефон, позвонил Марине. Отозвалась не она, а ее милицейский папа.
— А! — сказал папа с радостным удивлением. — Вот и хулиган объявился… Ну, как настроение, хулиган? — И, не дожидаясь ответа, продолжил: — Могу тебе, кстати, его, настроение-то, поднять: заявление свое гражданин Кузохин согласен забрать обратно… Согласен, понял? Марину позвать? Что ж… — Голос зазвучал глуше. — Иди, дочка, тебя…
— Леша… — донеслось на каком-то прерывистом всхлипе, — я… — Она замолчала, видимо, дожидаясь, когда выйдет из комнаты отец. — Леша, милый… пойми меня правильно: все сложилось очень непросто… Мы должны забыть… то, что было…
— Как?!. — вырвалось у него с болью и недоумением.
— Да. Должны! — на выдохе повторила она.
— Ты… за меня, что ль, боишься? — Он внезапно даже обрадовался такому своему предположению. — Да отобьемся, не дрейфь, чего там…
— Я не хочу и не буду тебе объяснять, но… Мы квиты с ним, с Игорем… Мы.
— Да скажи толком! — перебил он с яростью. — Мы, вы…
— У нас не выйдет с тобой, Леша, — тихо произнесла она. — Не выйдет… Отец… ну… он прав.
Он мог бы еще расспрашивать, выяснять причины, подоплеку ее слов, всякое разное, но делать этого не стал. Скука обморочная одолела и усталость. Повесил захватанную жирными пальцами коммунальных хозяек трубку на вилку рычага, ковырнул пальцем рассеянно лоскут облезлых обоев, исписанных телефонными номерами, и отправился в свою комнату.
«То ли я рехнулся, то ли она… — Размышлялось лениво и равнодушно, будто бы о чем-то мимолетном и давнем, уже навсегда и ничего в судьбе не решавшем. — То ли папаша-чародей накудесничал… А может, гражданин Кузохин свой козырь про запас имел… Тьфу-ты, бывает же…»
Вспоминалось с апатией: сегодня надо идти на завод… Ударным трудом отстаивать свое право на пребывание в обществе. И следом стены КПЗ вспомнились: бетонные, в рябчатых потеках масляной краски… Неотступно-знакомые. Во всех КПЗ, что ли, они такие?.. Э, осенило, да на заводе же в раздевалке — точь-в-точь… А он-то все соображал: откуда они — словно бы недавние; или из сна, или из яви, в суете промелькнувшей?
Нет, идти на завод не мог… Просто — не мог. И объяснений тому не находил — вздор, да и только; и на себя же злился и взвинчивался, а все равно знал в глубине убежденно: не пойдет!
Отправился к Коле-Мамонту.
Коля как раз садился за завтрак: пол-литра, шпроты, головка чеснока, лук и почему-то ананас.
Выслушав Алексея, Коля, чавкая, пустился в комментарии.
— Насчет меня, значит, ни гугу? — уточнял он, подцепляя вилкой со дна консервной банки масляное рыбное крошево. — Ну, ясен божий мир: пугнуть тебя хотели, матч-реванш… А баба скуксилась, матрешка. С другой стороны, — дополнил он глубокомысленно, — там — семейка… С традициями, усекаешь? И расклады там, Леха, темные, навроде как в зоне: пока самолично не прокантуешься — хрен до чего допрешь. А вдруг и сломал ее батя, как нас ломает; да и девка — кость хрупка…
— Как бы вот я не сломался… — неохотно произнес Алексей. — На работу вроде как надо, а ноги, вишь, не идут…
— А это как против проклятой лечение — завод твой… — Коля кивнул на бутылку, финкой полосуя ананас. — Вот я однажды… хоть и на воле, а год трезвенником, с ампулой бродил, деньги откладывал; все, думал, завязка мертвая, скоро милиционером буду, верняк; а поди ж ты — пошел раскрут, да еще настроение… и хлебнул! С ампулой. Откачали. А уж как откачали, ради чего дальше страдать?.. Понеслось! — Он обреченно вздохнул, — Бери овощ, закусон богов… Так и ты. Да и сдалось тебе в фрайерах околачиваться?.. Не твое. Мука одна.
— Выходит, так и шататься? — испытующе прищурился Алексей. — Между делом и зоной?
— А ты стоящие дела поднимай. — Коля с прилежным сопением обгладывал ананасную корку. — Чтоб было за что в зону! Чтобы и там такую же овощь трескать! — Бросил корку на стол. — И не на пустое место вернуться. Вот пришьют вашему благородию со дня на день хулиганку, типун мне… Ну, куда после денешься? Ни шиша в кармане, кирза, телогрей да волчий билет… А?
— Отобьемся, — сказал Алексей. — Не стращай пуганого.
— А я не стращаю. — Коля опустил кулаки на стол. Поежился, словно в раздумье. — Есть, Леха, моментик… — произнес с расстановкой. — Не ах, не золотая жила, но, коли подзалетишь сейчас из-за любви и дружбы на годик-два, вернешься не к разбитому причалу… Докладывать? — Вскинул настороженные глаза.
— Ты меня на живца не отлавливай! — огрызнулся Алексей. — Приходили! Еще подписку о неразглашении вручи…
— Ша, — кивнул Коля покладисто. — Слушай. Едет завтра один человечек на Кавказ. Гастролер. Побомбил по столице, собрал сто кусков наличными, теперь погулять решил… А переночует сегодня с монетами и охранником своим по указанному мне адресу…
— Что от меня надо?
— Ты нужен. — Коля встал из-за стола, потянулся, рыгнув. — Ты! И оружие… У тебя есть, знаю, не отбрехивайся. Доля твоя — половина. Но мне даешь еще на год волыну в прокат… Калибр желательно посерьезней. Ты думай… — скосился он мельком на бесстрастное лицо собеседника. — Умолять не стану, охотники найдутся, другой вопрос — каменный тут подельник нужен, не дешевка. Думай. Но до семи вечера брякни, сообщи.
— Каменный! Елей-то где лить научился?! — Алексей направился к двери. — Я понял… Обойдешься дешевками.
— До семи часов, — прозвучало вслед вдумчивое напутствие.
На улице Алексей остановился, как бы споткнувшись. Зажмурив глаза, тряхнул головой ошарашенно. Мысли и образы путались: стены КПЗ, разговор с Мариной, жирные, в шпротном масле губы Коли-Мамонта, изрекающего блатные премудрости, неосознанная тяжесть чего-то обязательного и несвершенного… А, завод! На завод же сегодня… Иди! В сторону все, сцепи зубы и — вперед, как под конвоем, — ни влево шаг, ни вправо…
К началу смены он опоздал и потому допуска к станку не получил. Начальник цеха, относившийся к нему с откровенной неприязнью, холодно и учтиво, как следователь на допросе, проанализировал время выхода из КПЗ, время пути к дому и от дома к заводу; затем же подвел итог: допущено нарушение трудовой дисциплины, ступайте в кадры… С вами тем более там жаждут поговорить.
Беседа в отделе кадров с седовласым человеком с орденской колодкой на штатском пиджаке была коротка: проступок, дескать, без внимания не останется, как не останется без внимания моральный облик бытового хулигана Монина. Вскользь высказалось замечание о неучастии в общественной жизни коллектива, припомнилось какое-то критиканство в адрес администрации, прозвучавшее год назад то ли в раздевалке, то ли в умывалке… Однако — нездоровое критиканство! Резюме: место ли такому типу в здоровой рабочей среде?
— Телефоном воспользоваться могу? — выслушав кадровика, спросил Алексей. И, набрав номер, деловито сообщил: — Коля, до семи я у тебя. С аппаратурой.
В полночь, аккуратно вскрыв дверь в одном из старых деревянных домиков, ютившихся возле Сокольнического парка, Коля и он с пистолетами, засунутыми за ремни брюк, вошли в затхлую, глухо зашторенную комнатку с бархатной продавленной мебелью, драными гобеленами и линялым паркетным полом. Напялив маски, заняли оговоренные позиции: Коля встал в углу прихожей, у дверного косяка, Алексей — у входа в комнату, за стеной.
— Значит, бьешь первый… Звонче, в лоб, рукояткой, — сдавленным голосом повторил Коля-Мамонт инструкцию. — А второго я сзади… Если еще кто с ними — в сторону прыгай, я палить буду…
— Не учи кита нырять! — оборвал его Алексей. — Сам, гляди, не потони! Глохни вообще! — Он прижался щекой к стене, затянутой скользким шелком, пропитанным прогорклыми запахами парфюмерии, табака и еще какой-то душной мерзости, — вероятно, подумалось, духом тех, кто проживал и гостил в этом притончике…
— Прощай, Марина, — прошептал он в пыльную темноту, вернее, прошепталось само по себе — отчетливо и… глупо. Он даже хохотнул растерянно.
Коля-Мамонт стеснительно кашлянул. Понял.
Тогда еще живой Коля-Мамонт. Любитель ананасов и шпрот. Через пять лет в Новочеркасской тюрьме он примет положенные ему приговором пули. Добьет его восьмая, последняя в обойме исполнителя.
— Просто слон, — скажет врач, констатируя смерть.
— Мамонт, — угрюмо подтвердит прокурор. — Но да им положено вымирать…
Из протокола допроса сотрудника МГА Курдюмова П. С.Вопрос. Петр Сергеевич, подтверждаете ли вы тот факт, что распорядились через отдел снабжения передать покрышки от шасси «Ту-154» лицу, которое прибудет с данным поручением от вас лично?
Ответ. Такого не припоминаю…
Вопрос. Вы не против и данном случае ознакомиться сейчас же с показаниями ваших подчиненных?
Ответ. Конечно, давайте…
Вопрос. Согласны с показаниями?
Ответ. Н-не совсем… Я в общем-то уже и забыл… Однако заявляю: речь шла о негодных шасси, которые мы безболезненно могли отдать представителю Министерства рыбного хозяйства, если не изменяет память… Я не стал вникать, для чего именно они потребовались, материал все равно шел на списание…
Вопрос. Петр Сергеевич, вы внимательно изучили представленные вам показания? В них наглядно подтверждается факт вашего распоряжения о выдаче новых покрышек.
Ответ. Да, внимательно. Однако речь шла о покрышках списанных. Да и зачем рыбному хозяйству новые шасси? То есть вообще зачем… мда. Кстати, могу дать объяснение вашему начальству на любом уровне… А за действиями кладовщиков, знаете ли, я уследить не в силах — какие там они покрышки выдают и какими соображениями при том руководствуются… С этим вопросом будем разбираться, виновных накажем.
Вопрос. Кто именно получал покрышки?
Ответ. Работник из рыбного хозяйства, вероятно… Не знаю.
Вопрос. Узнаете ли вы кого-либо по данному фотороботу? Ваши подчиненные утверждают, что это был именно получатель…
Ответ. Н-незнаком… Просил меня Ярославцев Владимир Иванович об этой услуге — консультант министерства, бывший партийный работник… Вот, кстати, визитная его карточка, можете взять… Да и просил вскользь… По-моему, наши сотрудники проявили чрезмерное усердие, но повторяю: мы разберемся…
Вопрос. Петр Сергеевич, понимаете, вам… повредит, если информация о нашем разговоре будет передана Ярославцеву?
Ответ. В этом вопросе… я… на вашей стороне, нет сомнений… Только и вы…
Из оперативно-следственных материалов…Срочно требую данные по гр. Ярославцеву В. И., проживающему по адресу…
…Квалификация Воронова А. М. как специалиста по авторемонтам достаточно высока. Обладает большим набором импортного оборудования и инструмента. Замечен в мелких хищениях ценных материалов с завода, где работает, однако меры по пресечению таковых действий руководством цеха и завода, чьи личные автомобили Воронов обслуживает, не предпринимаются…
…сообщаем: в машине «ВАЗ-2106», обнаруженной на 23 километре, отпечатки пальцев Воронова А. М.
…Данные по угонам автомобилей, числящихся в розыске, совпадают с фактами появления транспортных средств аналогичных марок (по приблизительным датам) около ремонтного бокса Воронова А. М. Два автомобиля с фальшивыми номерами кузовов и двигателей обнаружены, адреса владельцев — в приложении.
Вначале он решил заехать в коммунальное логово: проверить, все ли на месте, кто звонил, — «сосед» Ванька Лямзин за четвертной в месяц исправно выспрашивал у абонентов, кто есть кто, получая, естественно, имена-пароли: Иваном Ивановичем мог быть Петр Петрович; но дело он делал, а как уж распорядиться информацией, Матерый знал.
По дороге от дачи к городу он тщательно проверился: нет ли хвоста? Вдруг… Напряженно всматривался в постовых: не сообщают ли, глядя вслед его машине, указания иным постам по рациям или же телефонам из своих прозрачных будочек? Впрочем, не спасешься ведь, если до такого дошло, не спасешься…
В дверь «логова» позвонил, как условлено, четыре раза. Дверь открылась, оказавшись предусмотрительно замкнутой на цепочку, — Ваня был человеком опытным, к тому же грешил самогоноварением… Так что излишняя осторожность ему не мешала.
После приветствий и пустых вопросов типа «как жизнь, как дела?» услужливо передал Матерому листок абонентов: имя-отчество, день, час.
Матерый молча вытащил из бумажника два четвертных билета.
— Спасибо, — кивнул коротко. — Сразу: за текущий и за последующий месяцы.
— Советую, — Ваня поднял палец, — облегчиться еще на одну бумажку. За идею, бумажку определенно окупающую.
— Чего-чего?
— Излагаю, — невозмутимо продолжил вымогатель. — Я, простите, многие превратности на себе испытал, так что с понятием, хотя в чужие вопросы и не суюсь… Итак. Представляем: приходят вдруг… Нет, дел я ваших не знаю, не сочтите за грязные намеки…
— Ну, валяй-валяй, — сказал Матерый.
— Ну, а вдруг в натуре?! — повторил Ваня с вызовом. — Приходят люди в серых шинелях и в штатском барахле, и что характерно к вам… Я, естественно, могу пострадать за домашний алкоголь…
— По кумполу желаешь, темнила? — миролюбиво спросил Матерый.
— Буду конкретнее, — покорно согласился собеседник. — У вас — шмон, ко мне — вопросы; я, конечно, что вообще знаю, кроме таблицы умножения?.. Ась? Когда будет? Не докладывал… Ну и так далее. Ушли посторонние лица, а я… тоже вслед за ними. И когда из двери подъезда выходить буду… Впрочем, — Ваня задумался, — может, и не ушли… понимаете? Но я-то — личность свободная, надеюсь?
— Надейся, — сказал Матерый. — Надежда умирает последней.
— Во-от. Беру я мелок и, выходя из подъезда, закрывая дверь, так сказать, чирк им по двери этой… Вертикальную полоску под самой ручкой… Незаметно. Если «наружка» сечет, все равно не увидит, точно рассчитано. И в магазин за кефиром… После — обратно, гостей потчевать. Не желаете молочнокислых продуктов? А вы на машинке мимо проезжаете и… на дверцу подъезда рассеянный такой взглядик, между прочим…
— На. — Матерый протянул деньги. — Конспиратор. Заработал. — И, открыв дверь своей комнаты, тут же захлопнул ее перед Ваниным носом.
Осмотрелся… Все «секретки» на месте, не входили сюда. Ванька, сволочь проворная, конечно, влезть может, сукин сын, но крепится — боится, видать, стукачок… Хозяин его выставил в осведомители, наверняка… А почему? Эх, прост вопрос. Тоже обезопаситься желает, тоже за шкуру трясется, тоже не уверен… И винить тут некого, закон таков. Сказать ему, может, что раскусил я фокус с Ваней, с комнатухой этой, с истинными целями благотворительности, — мол, сюда не придут, дублирующий вариант… Нет, не стоит. Неприятно обоим будет, вот и все.
Матерый с тоской оглядел пыль и грязь на свертках и коробках, заставивших комнату. Все это надо переправить Маше, это — капитал. Раньше оттягивал с отправкой, лень одолевала, теперь необходимо поторопиться, время не ждет… Сейчас загружайся, немедленно. Сколько увезешь, но загрузи.
Коробки к машине таскали вместе с Ваней, выклянчившим пару дисков для компьютерных игр — основного его увлечения.
С грузом Матерый поехал к Хозяину. Жил тот в аристократическом районе — на широком и гладеньком Кутузовском проспекте, в доме с высокими потолками и длинными коридорами, — квартира эта досталась ему в наследство от некогда высокопоставленного тестя — ничего, впрочем, замечательного, кроме квартиры, потомкам своим не оставившего. За исключением разве всякого модного в былые эпохи барахла… Да и что он мог оставить еще после себя?
Встретила гостя жена Хозяина — Вероника.
Точно и мило разыграли ритуал встречи: комплимент даме, улыбка, передача пакетика с вином и рыбой; общие вопросы с необходимой толикой юмора; наконец, рукопожатие с Хозяином, твердые, доброжелательные взгляды — глаза в глаза, все — фальшивое!!!
Посидели у телевизора, ругая штампы массовой культуры Запада и восхищаясь вкусом вина, принесенного непьющим гостем; посудачили о последних новостях внутренней и внешней обстановки, прошлись насчет ядерной угрозы; затем Вероника, сославшись на трудный завтрашний день в НИИ, где работала начальником отдела, отправилась спать, и мужчины остались наедине.
По старой привычке сели на кухне, располагавшей к разговору тихому и доверительному.
— Чувствую, с проблемами гость явился, — улыбнулся Хозяин, заваривая чай. — И с крупными. Такое вино… как в последний раз…
— Точно, — согласился Матерый. — Оставь чайники, присядь и слушай, чего я натворил. Внимательно. Хотя… насчет «внимательно» — само собой, иначе нельзя.
Он рассказал все. О кражах на железной дороге, об уголовничках-подручных, об оружии, некогда найденном в тайнике партизан, о Леве, попытавшемся обрезать концы, о «гаишниках»; о том, наконец, как обманывал его, Хозяина, манипулируя на «честных» начинаниях: от дачных строительств до сбыта икры, мехов, сигарет, напитков, убедительно обосновывая всякий раз легальную добычу товара…
Рассказал. Все.
— Я не хочу тебя обижать, — сказал Хозяин, нарушив долгое молчание, воцарившееся после последних слов Матерого. — Но. Твоя трагедия заключается в том, что всю жизнь был ты, во-первых, романтиком, а во-вторых, мелким жуликом — жалким и недалеким. И пытался одурачить тех, вернее, того, кто желал тебе добра; желал верить тебе, трудиться с тобой, строить какое-то будущее, искать перспективы совместно и для нас же обоих… Я безуспешно и глупо стремился перевоспитать бандита. Вижу: Макаренко из меня — никакой… Хотя сравнение идиотское — и по возрасту воспитуемого, и по возрасту века, и конъюнктуры его, и идеалов… Кое-что, однако, мне удалось: ранее для полного счастья и умиротворения ты мечтал красть в день по четвертному, затем — сотню, две, три. Из жулика мелкого стал жуликом средненьким. Вот результаты роста личности и плоды, увы, всей воспитательной работы. Наглядный примерчик перехода количе… Виноват: никакого перехода количества в качество не состоялось. Одни лишь голые расценки… Рвач и разбойник.
— Давай без ярлыков и поучений, — сказал Матерый уныло.
— Давай, — безучастно согласился Хозяин. — Ну, что ты хочешь услышать? Что-либо оптимистичное, как я понимаю по уровню твоей откровенности? Нет, ситуация плохая, неуправляемая и, уверен, безнадежная. Следствие идет, воспрепятствовать ему по нынешним временам сложно, хотя есть некоторые… нет, нереально. Одно скажу: попить чаек спокойно мы сегодня еще в состоянии. Механизм тут вступил в противодействие нам ржавый, неважно оснащенный технически, с провалами в организационной структуре, однако, поверь, хорошо информированный! Это поставлено, как радио, как телевидение: хоть что-нибудь, но каждодневно и в заданном объеме. Сетовать не приходится: такова их система, и, согласись, оправданность такой системы несомненна. Вообще-то, — покривился, — беседа с тобой удовольствия мне не доставляет. Ты ведь под крах меня подвел… Но да ладно, истина такова: мы — две главные крысы на одном тонущем судне: я — умная, ты хоть и сильная, но дурная, взбалмошная.
— Мы же договорились… насчет ярлыков, — привстал Матерый.
— Это аллегории, — отмахнулся Ярославцев. — И не корчи, прошу, оскорбленных физиономий… Вспомни лучше эволюцию своего бизнеса: сначала — грабежи в духе вестернов, затем — шантаж жизнью-смертью богатых жуликов; после, когда уяснил, что себе дороже такое занятие, перешел в авторыночные «кидалы» с одновременным открытием школ каратэ. А когда шуганули твоих сэнсэев и дурачков под их началом, начал девок заезжей публике выставлять. Хороша карьерка!
— А куда мне еще было? С биографией такой? — зло спросил Матерый.
— Дела с наркотиками налаживать, — сказал Ярославцев. — Логически оправданный, последний этап. Губить души, как травушку выкашивать, грести сказочные барыши, становиться исчадием ада. И самое страшное — получилось бы у тебя… Хорошо, я удержал. Для людей хорошо, не для меня. Я ведь, прости за наивность, стремился научить тебя жить и поступать честно. Может, порой и вразрез с формальностями юридическими, но честно по внутренней сути. Чтобы и сам зарабатывал, и другим заработать давал, но главное — чтобы способствовал процветанию, не побоюсь обобщить, общества в целом. Но тебя не устраивал ограниченный, хотя и приличный, заработок. Ты хотел хапнуть побольше. А я, дурак, тебе верил… Не скажу чтобы очень, но на поводу у тебя шел… Внимал легендам и мифам об обреченных на гниение фондированных материалах, о контейнерах, якобы потерявшихся и запоздало, когда уже списаны, обнаружившихся… Многому другому. Врал ты искусно, доказательства приводил идеальные, аргументы конъюнктурные, хотя, начни я оправдываться ими перед коллегией по уголовным делам, был бы выставлен как жалкий лгун, оскорбляющий интеллект судей… Короче. Ныне со всеми благими намерениями я очутился коренным в одной упряжке с уголовным сбродом. А в общем-то… — добавил тихо, — признание твое — не открытие Фактура любопытна и в чем-то внезапна… Но да что она решает? Тем более под сенью начинаний наших много тебе подобных. Грешат они самодеятельностью и так же сводят счеты. Так что не с новостью ты явился, а с подтверждением известного вывода: надо бежать… Об этом мы уже как-то деликатно друг другу намекали.
— Я отдам тебе деньги. Всю твою долю, — сказал Матерый.
— Все зажуленное? — перевел Ярославцев. — Леша, да разве это главное? Жизнь мы с тобой профукали, а ее не компенсировать. Ты как убить-то смог? Ужель и не дрогнул?..
— А просто это, — Матерый поднял на него больные, искренние глаза. — Это в первый раз: то в жар, то в озноб… Да и чего оставалось? Не я, так они…
— А почему бы и меня заодно не…
— Думал. — Матерый опустил голову. — Но не ты ко мне ведешь, а я к тебе… Несправедливо.
— Гляди, а жизнь-то… страшненькая штука… Быт то есть, — сказал Ярославцев. — Ну да все равно — спасибо. И тебе я благодарен. Не смалодушничал, не смылся а пришел и рассказал. Пусть страх тобою двигал, поддержки ты искал, совета, как глубже в ил зарыться, но все же… Совет, кстати, я тебе когда-то дал. В шутку, но ее ты, по-моему, воспринял всерьез… Как, стоит уже домик на морском берегу? — Хмыкнул.
— Не пахнет там морем, — отрезал Матерый.
— Хорошо. Значит, в тайге. Но, как бы там ни было, туда не спеши. Паниковать не стоит. Нам надо завершить массу дел.
— То есть, ты считаешь, не все еще…
— Погоди. — Хозяин встал, прошел в коридор, настороженно прислушался. — Тише, жена спит… Я считаю, в бега подаваться — рано. Худо-бедно, но превентивные меры всяк по-своему мы продумали. Их надо попросту укрепить уже тем, что диктует ситуация конкретная. Спросишь, почему именно так рассуждаю? Потому что бежать — стыдно. Мы ведь феномен политический, хотя и с уголовным оттенком… А знаешь, в чем ошибка наша? Не верили мы в перемены, лгали себе: приближаем их, а сами отодвигали… А наступили перемены, мы — как символ всех прошлых заблуждений — и выявились. Лично же моя ошибка — не с теми дело начал, не то дело и не так. Теперь — реалии: есть бандиты — ты да я, пытающиеся избежать возмездия. Каким образом? Надо методично сжигать за собою мосты… Все не скроешь, но хотя бы масштабы…
— Сжигать! Огня не хватит! — вырвалось у Матерого.
— Да, — кивнул Ярославцев. — За каждым из нас тянется шлейф, сотканный из забытых нами мелочей, которым мы и внимания не уделяли. А Лев… знал тех, с кем мы встречались каждодневно. То есть умный следователь выйдет на нас обязательно. Но ошибки бывают и у умных. И счастье бывает у дураков… Улыбнется оно — езжай в свой домик на берег тайги спокойно и чинно, а я тоже что-нибудь себе придумаю. Новое, скажем, занятие. Но сначала закроем все точки, где Лева как-то фигурировал…
— Известные нам точки, — поправил Матерый. — Да, думал.
— Через Леву, — продолжил Ярославцев, — должны выйти на тебя. Наверняка без хитростей: пожалуют на место постоянной прописки… Соседа своего, надеюсь, завербовал?
— И сосед предупредит, и на другом месте жительства Ваня твой тебе стукнет, — усмехнулся Матерый.
— Вот и чудесно. А на даче как? Чисто?
— О даче знаешь только ты.
— Значит, будет с кого спросить… — Ярославцев рассмеялся — нервно, принужденно: щека еще долго подергивалась, словно в болезненном тике.
— Ну, а закрыть точки? — спросил Матерый. — Как? Подъехать и распорядиться об окончании работ? Кто послушает? Многие своего еще недобрали, многим просто понравилось…
— Перекроем кислород, — сказал Хозяин. — Не будет сырья, механизм застопорится. Не будет лазерных дисков и дешевых оригиналов, конец видеописателям. Не будет леса и кирпича, бросят шабашники пилы.
— Теперь они умные, сами источники найдут… в прогрессивные кооператоры подадутся, переродятся…
— Источники они найдут, — сказал Хозяин. — Но не сразу. А насчет кооперативов — вряд ли… Те, кто развращен воровством исходного сырья, трудностей искать не станет, на потери не пойдет. Их-то ты и пугнешь — боевичков, кстати, своих, каратистов привлеки: кому-то про закон напомнишь, благо юридически подкован; кого-то материала лишишь или базы… Надо пустить машину хотя бы на холостые обороты… Ясно?
— Теория, идеализм, — покривился Матерый. — Но да иного не дано. Скажи, — спросил, — а чего ты за привычное цепляешься? Семьей дорожишь? Но у тебя же все… прожитое, в золу обращенное. И семья, и работа… все. Тебе заново надо. Это мне — на покой. Потому что есть еще порох… И другой вопрос: ты ж как поп был, проповедуя идейность мероприятий наших… Неужто и впрямь в нее верил? Или просто утвердиться хотел, когда за бортом оказался и в одиночку за кораблем поплыл?
— Да не за бортом, — протянул Ярославцев раздраженно. — Вцепился, понимаешь, в сравнение… Просто меня разжаловали. И даже не столько люди, сколько обстоятельства.
— Ошибаешься, — возразил Матерый. — Разжалован — значит, шестерка, а шестерка все равно в колоде. А ты откололся. Напридумывал иллюзий и начал жить ими. Нас, сброд, призывал работать на государство! Причем нам — крохи, государству — куски. Мы не перечили, да, ты для нас олицетворял то, чему мы подчинялись беспрекословно с детства! И радовались, гордились даже, что такой дядя из партейных начальников нам патронирует. И оставался нам лишь обман — привычный, обыденный: соглашаясь с одним, втихую творить другое… А нынче ты тоже наш, уголовный, хоть и с завихрениями некоторыми… Потому долю тебе я верну. Долю, понял? За обман же — прости, если сможешь. Так воспитали… Как понял, призываешь ты в ил в последний момент уходить, чтобы, в нем будучи, дерьмом собственного страха преждевременно не захлебнуться? А не кажется, слишком велик риск? Нет? Тогда повинуюсь, лады. Ну, все. — Матерый встал. — Прощай — человек с будущим в прошлом. А в случае чего — связь через Ваньку-встаньку. И еще. Есть у меня оружие. Подарить пистолетик на память?
— Ну я же взрослый человек… — сказал Хозяин. — О чем ты? Какие пистолетики?
— Смотри. А то я как раз в свой ружпарк собираюсь. Мне, в отличие от тебя, пистолетики нужны, без них я — будто моллюск без ракушки. Хотя чушь это, моральная подстраховка…
— Хороши грезы… А три трупа — тоже грезы? — заметил Ярославцев. — Прощай, Леша… Если ты переселился в данную оболочку из флибустьера, то в следующей жизни быть тебе космическим пиратом. Каким бы лучезарным не явилось будущее. По крайней мере, место нам в нем найдется. Тебе уж — точно. Волк нужен стаду, он его санитар.
— Для выездной сессии это законспектируй, — буркнул Матерый. — Как обоснование высшей меры. Особый цинизм, скажет прокурор, ярая антиобщественная позиция, гнилая философия подсудимого дает мне полное право просить у суда… И так далее. Ну, пока!
Из рапорта…следует полагать, что Коржиков М. П. в сговоре с Вороновым А. М. многократно совершал угоны новых легковых автомобилей, которые после соответствующей фальсификации «возвращались» якобы по исполнении ремонтных работ хозяевам автотранспортных средств. Установлено место хранения и захоронения материала, предназначенного в лом. Обычно материал вывозится от гаража Воронова А. М. Коржиковым М. П. в крытом кузове автомобиля «ЗИЛ-130». предоставляемого по поддельным документам начальником РСУ-3.
Из оперативной информации…сообщаю: вчера, в 17.05—17.30, Воронов А. М. осматривал в присутствии владельца поврежденную в ДТП автомашину «ВАЗ-2107», имеющую сложные деформации кузова. В 17.58 данный автомобиль был вывезен в кузове автомашины «ЗИЛ» Коржиковым М. П. в направлении Ярославского шоссе.
…сообщаю: сегодня, в 7.02, Воронов А. М. поставил в ремонтный бокс исправный автомобиль «ВАЗ-2107», имеющий номерные знаки автомобиля, вывезенного в направлении Ярославского шоссе…
…подтверждается угон автомобиля «ВАЗ-2107», происшедший сегодня, около четырех часов утра, в Красногвардейском районе г. Москвы.
…всем оперативным группам быть готовым к проведению операции…
…сообщаю: в 16.00 Коржиков М. П. посетил базовую точку в районе Ярославского шоссе, где, загрузив в багажник такси некоторые детали, оставшиеся от расчлененного автомобиля «ВАЗ-2107» и имеющие, вероятно, характерные признаки, отправился обратно в Москву.
…Докладываю: в 17.30, согласно плану «ОСМ» по делу №…, оперативная «Волга» бампером задела заднюю дверцу такси Коржикова. Разбор ДТП начался в 17.35.
…сообщаю: в 18.00 Воронин вошел в ремонтный бокс, закрылся изнутри и включил газовую горелку.
…сообщаю: около таксопарка Коржиков перегрузил сумку с «характерными деталями» из багажника такси в свой личный автомобиль, на котором в 19.02 направился в сторону гаражного кооператива…
…Задержите автомобиль с Коржиковым в районе Преображенской площади. Предлог — проверка документов. Если не будем успевать по времени, направьте Коржикова в центральное ГАИ для освидетельствования на трезвость…
…сообщаю: сварочные работы в боксе Воронова завершены. Началась окраска.
…Группе два! Отпустите Коржикова. Извинитесь…
…Внимание! Группа захвата может приступать к действию.
…Докладываю: группа захвата вошла в ремонтный бокс. Воронов сопротивления не оказал. Улики налицо. К боксу приближается Коржиков.
Из рапорта…Свое посещение гаража Воронова Коржиков мотивировал тем, что ему необходима краска для служебного такси, попавшего в аварию. Сумка Коржикова досмотру не подвергалась. На наше предложение быть в группе понятых при обыске гаража Коржиков с готовностью согласился. Расписавшись в протоколе и покинув гараж, Коржиков сел в личный автомобиль и незамедлительно уехал. Ближайший телефон-автомат оставил без внимания. Вторым — на углу, возле пересечения с главной дорогой, воспользовался. Номер абонента установлен. Абонент — Лямзин И. З., ранее судимый за нарушение правил о валютных операциях.
Техническая запись разговора Коржикова М. П. с неизвестным— Матерый, приветик… Хорошо — застал…
— Ну?
— Толик сильно приболел. На тачке продуло. Прихожу, а там доктора. Диагноз поставили — один в один!
— Откуда звонишь?
— Да тут все тихо. Из автомата. С улицы. Ни души, даже страшно, хе…
— Похекай-похекай…
— От нервов, ладно те…
— Как было?
— Как, как… Залетаю к нему, там доктора. Меня заодно прослушали. А потом — слышь, потеха — в ассистенты записали… А Толик крепился. Четко. Как дуб под ветрами.
— Вот что… Коржик-бублик… Боюсь, заразит нас Толя, злокачественная у него хвороба. Завтра давай к двенадцати дня греби к Виталику на набережную. Пожуем там и… увидим.
Гудки.
Из магнитной записи допроса Воронова А. М.
— …не знаете его? А гражданин Власов вами доволен… Из праха, говорит, собрал новую машину… Ну, а Виталик с набережной? Чего насчет него скажешь? Тоже — не знаю, не ведаю?
— А он-то при чем? Да, рихтовал я пару раз «форд» его по пустякам: крыло, капот… По-дружески, чтоб пиццей приличной угостил при случае…
— Да откуда у него приличная…
— Не, у них в пиццерии нормально готовят!
— На набережной?..
— Ну. Где ж еще…
— А Коржиков? Он вроде Виталию друг?
— Кто?! Так. Спать хочу. Права вы не имеете в это время…
Телефон звонил долго, нудно, безжалостно буравя непрочный сон, пришедший к Ярославцеву лишь под утро, — всю ночь он промаялся в беспокойстве и безысходности воспаленных мыслей, прочащих скорую беду… И — сбылось предчувствие!
— Это я, — прозвучал голос Матерого, вклиниваясь в парализованное дремой сознание. — Слышь? Все плохо! В Баку гроза, а в Ашхабаде вовсе тайфун… Тольку Воронина помнишь? В клинику отвезли… Началось, в общем. С шасси этими прокол, точно, номерные они… Не случилось чуда! Пора в поход…
С минуту он лежал с закрытыми глазами, думал. Искал хотя бы тень надежды. После отрезвленно осознал: чуда не будет.
Встал, запахнувшись в халат, прошел в ванную.
«Идешь воровать, один иди! — тупо ударила в висках зазубренная мудренькая истина. — Стоп… Я же не воровать хотел, не воровать!»
Очередное утро, столь похожее на все предыдущие. Привычные, милые мелочи повседневного быта. Все кончается. Кончится и это.
Он пил свой утренний, до черноты заваренный чай, рассеянно глядел на кота, дурачившегося с мотком шерсти, гонявшего его из угла в угол, и слушал мягкое, переливчатое треньканье телефона, чья упорная электроника пробивалась, согласно программе, к плотно занятому номеру нужного абонента.
— Зинаида Федоровна? Ярославцев беспокоит… У нас на ближайшее время в министерстве никаких турпоездок? Румыния? Был, знаете ли… ФРГ? Большая группа? Так, вообще — любопытно… Что, осенью круиз? Увы, Зинаида Федоровна, дорого. К тому же до осени еще дожить надо, а вот ФРГ… Ну, запишите. За мной подарок, богиня вы моя… И — без возражений, а то обижусь. Договорились?
Положил трубку. Турист… Авантюрист. Какая еще, к чертям, турпоездка! Прошу политического убежища, спасаюсь от преследования как идейный уголовник или же бандит по недоразумению? А может, от нечего делать звякаешь? Соломинки в бушующих волнах под руками нащупываешь? Нервный ты, оказывается.
Он отставил чашку. Внезапно обхватил голову руками. Неужели все-таки придется сделать этот шаг, неужели?.. Ты уже много раз мысленно совершал его, ты уже пробовал, насколько прочны нити, и знаешь, как болезненно будет рвать их — соединяющие тебя и все, чем жив: прошлое твое, землю твою, близких. Инстинкт самосохранения — волчий, безоглядный, сильнее… Гибнет растение, вырванное ветром и унесенное прочь, но ведь бывает, приживается оно на иной почве, бывает…
Да и что тебя соединяет с этой страной? Люди? Какие? Сослуживцы? Да у тебя их и нет — они статисты в театре, где ты актер и единственный зритель. Друзья? Их вообще никогда не существовало. Были т о в а р и щ и. По работе, по делу, по делишкам. Затем — друзей выбирают. А ты раньше выбрать не мог. Тебе вменялось дружить исключительно со своим кругом. Либо с кем-то из круга повыше. Но не с верхним, ибо тому кругу с тобой тоже дружить не положено было. Отчасти поэтому и тянулся ты к Матерому, и помогал ему, и наставлял, вопиющим образом нарушая правила игры и наивно полагая, будто нарушение ненаказуемо…
Жена, дочь? Тут ясно. Вероника выйдет замуж, сохранив туманное сожаление о бывшем супруге-неудачнике и весьма конкретное сожаление о своей загубленной якобы жизни, — им, неудачником, конечно, загубленной… А дочь — та вовсе под чужим созвездием родилась, дочери вообще папа на данном этапе без надобности, ей связи его нужны и наследство. И странно, и страшно чувствовать в маленьком, хрупком человечке, не определившемся ни в социальных, ни в нравственных ориентирах, железную хватку и волю уже бесповоротно состоявшегося потребителя. Дочь себя пристроит, за нее волноваться — пустое, ген выживаемости здесь доминирующий, хотя и дурно мыслить так о собственном, любимом — да, именно любимом — ребенке…
Теперь — о себе. Уже никуда никогда не подняться. И лучшее, что он мог совершить во имя собственных амбиций после изгнания из рая, совершено: стать консультантом тех, кто сколь-нибудь решает, суфлером десятка театров. Но да и только. Он ничего не значил сам, он исполнял, грамотно корректируя, чужую волю, а проявление воли собственной свелось к уголовщине. Он… прожил жизнь!
В сознание неожиданно ворвались какие-то знакомые интонации голосов и маршевые звуки, доносившиеся из радиотранслятора. Он повернул рычажок регулировки громкости до упора, и кухню буквально заполонил, гремя барабанной дробью и пронизывая звонкой медью горнов, пионерский парад, вдохновенно комментируемый взволнованным гласом диктора, призывающего «быть достойными… гордо нести…».
Он выдернул шнур ретранслятора из сети; наспех допил чай и спустился к машине. С обреченной решимостью, словно гвоздями распявшей сомнения и трепет души.
До фирмы Джимми доехал Ярославцев быстро. Машину бросил в переулке неподалеку; подняв воротник пальто, пошел к офису.
С Джимми он познакомился в той злополучной заграничной командировке, на стройке. Фирма, где тот тогда служил, специализировалась на выпуске облицовочных материалов, и именно эту фирму Ярославцев когда-то крупно надул, выхватив у него из-под носа большой заказ — и погорев на том заказе…
А после, спустя пять лет, Джимми объявился в Москве, позвонил и сказал:
— Я приехал сюда учиться твоей деловой хватке, Володя.
Встречались они редко, но неизменно сердечно, говорили всегда откровенно, не темня, и цену друг другу знали прекрасно. И сейчас, шагая к подъезду офиса, Ярославцев знал, что здесь может говорить без околичностей, и поймут его здесь.
— Дорогой гость… — Джимми, улыбаясь, встал из-за стола, протянул руку. — Какими ветрами и судьбами?
— Слушай, — сказал Ярославцев, всматриваясь в его лицо. — Удивительное дело: иностранца видно сразу. И даже не в одежке дело. У вас чужие лица и непостижимо отстраненные глаза…
Джимми степенно поправил темно-синий галстук в мелкую белую звездочку. Застегнул лощеный, с «плечиками», пиджак.
— Отстраненные… от чего?
— От наших проблем. Вы живете здесь во имя благ жизни там, может, поэтому… Ты не против прогуляться?
— Буду через час, — кивнул Джимми симпатичной секретарше, холодно и приветливо улыбнувшейся шефу, гостю и тотчас спрятавшей лицо в бумаги и в ухоженные рыжеватые локоны.
Медленно побрели по тротуару узенькой старой улочки.
— Боже, — искренне вырвалось у Ярославцева, озиравшегося потерянно на церкви, колонны купеческих особняков, лепку карнизов. — Все — знакомо, и все — как впервые. Да и пешком идти, как впервые… В основном — за рулем же, в глазах — асфальт, выбоины-колдобины, разметка, а по сторонам — размытый фон: дома, камни-кирпичи… Ну, думается, и бог с ними, камнями, быстрее бы к дому, к телевизору…
— Ты, увы, неоригинален, — поддакнул Джимми натянуто.
— Я приехал к тебе по серьезному делу, — упредил Ярославцев недомолвки.
— Я рад.
— Джимми… — Он помедлил. — Однажды, год, да, кажется, год назад, будучи у меня в гостях, ты посетовал на нехватку денег, так?..
— В тот раз был неоригинален я, — отозвался Джимми. — Ибо у денег всего два состояния: или их нет, или их нет совсем…
Сдержанно рассмеялись.
— Джимми, — оборвав смех, с нажимом повторил Ярославцев, — в тот раз ты… намекал о необходимости не абстрактных денег, а рублей, за которые ты готов платить валютой. Коэффициенты не обозначались, фраза вообще была проходной… Я же понял тебя так: в то время подобная операция виделась актуальной для решения незначительных бытовых проблем. Проблем не острых, сиюминутных, сугубо личных; прибыль от операции тоже носила характер бытовой, в рамках улучшения бюджета месяца…
— Со стороны виднее, — неопределенно ответил Джимми. — Однако ныне проблема исчерпана.
— Значит, — сказал Ярославцев, — или ее, проблему, ты решил достаточно долгосрочно, или…
— Владимир, выкладывай дело.
— Извини… У меня есть сумма. Б О Л Ь Ш А Я сумма. Я заинтересован в ее обмене на иные денежные единицы.
— Ты серьезно? — Джимми замедлил шаг. — Впрочем… ты серьезно. Но ты же…
— Да, Джимми, — согласился Ярославцев. — И… я все объясню. Только сначала — ответь.
— Реально… — Джимми узко прищурился, — реально, в долларах, ты можешь рассчитывать на сумму в семь-восемь раз меньшую. Это уже бизнес, Володя. И я должен что-то заработать.
— Сроки?
— То есть?
— То есть я не о законодательстве.
— В течение трех недель.
— Хорошо. Три недели. Завтра я назову тебе точную сумму, предлагаемую для обмена. Паспорт у тебя с собой?
— Да… — Джимми удивленно скосился на него. — А…
— Джимми, — прошептал Ярославцев, глядя куда-то мимо него, — я должен бежать из страны, поэтому мне нужна валюта и нужен паспорт… На реальное имя. Иначе не приобрести билет.
— Но паспорт… мой!
— Твой, Джимми, твой, и никто его не отнимает. Ты просто дашь мне ею на неделю. Всего-то. Через неделю паспорт вернется. Конечно, не исключены неприятности… Но мы знакомы. Я мог выкрасть паспорт, причем незаметно; ты, в конце концов, сподобился оставить портмоне у меня… был в гостях, портмоне выпало, не обратил внимания, ну и так далее… Риск? Но это же бизнес, Джимми.
— А что случилось? — В голосе собеседника прозвучала сочувственная тревога. — Я всегда считал тебя… не обижайся… цельным и честным человеком. Я знал: у тебя хватало недоразумений с властями, но предавать страну… Володя, я не сказал еще одной вещи: да, я в состоянии обменять твои деньги. Но, как ты понимаешь, внушительная сумма вряд ли заинтересует частных лиц… Она заинтересует организацию… Не стану скрывать: мне от того — лишь набранные очки но службе и финансовый профит… А тебе? Это же пойдет против… твоей страны.
— Прости, Джимми, — оборвал его Ярославцев. — Прости, что пришлось тебя столь разочаровать… Я просто спасаю жизнь. Ничего больше. Итак — паспорт. Думаю, данная услуга войдет в оговоренный, как полагаю, нами процент.
— Услуга! — Джимми хмыкнул невольно. — Да без нее же бессмыслен весь предыдущий и дальнейший разговор… Но — условие. Объяснения со всякого рода властями следующие: паспорт ты выкрал…
— Да. Да. Да.
Простились у машины. Отъезжая, Ярославцев подумал с радостью: все складывается чертовски удачно! Для… покушения на те преступления, за какие по совокупности, в лучшем случае, максимальный срок… Одно успокаивает: через Джимми — выход на серьезный канал. Связываться же с валютчиками в таких играх опасно: слишком велики суммы, да и по срокам не уложатся валютчики с обменами; к тому же они — шушера, а Джимми будет посредником, с интересом хоть чужедальним, неведомым, однако, безусловно, масштабным…
Представилась бумажка: один чек, который можно сунуть в карман пиджака как сугубо личный документ мистера такого-то…
— Смертельный номер, — пробормотал он себе под нос. — Лица со слабой нервной системой обречены на инфаркт. — И поддал газку, спеша пересечь перекресток на зеленый мигающий свет. Следующий адрес вырисовывался теперь очевидно.
Имя адресата: Виктор Вольдемарович Прогонов. Весьма одаренный художник-график, реставратор и попутно — цинкограф. Волей судьбы — неудачник. Художественных открытий Виктор Вольдемарович не совершил, а в узкие врата доходных сфер, где плотно отирались преуспевающие бездари, втиснуться не сумел, несмотря на целую палитру дарований. В то же время один из знакомых Прогонова, способный лишь разнообразно вырисовывать на том или ином фоне профиль вождя революции, занимал ответственные посты, имел две мастерские, учеников и великое множество благ, нисколько не стесняясь ремесленностью скудного своего кредо. С другой стороны, в основе такого процветания лежал тоже своеобразный талант, начисто у Прогонова отсутствующий. И потому жил Виктор Вольдемарович скромно — до той поры, покуда не уяснил, что государственная служба с его специальностями дает доходы куда более скромные, нежели те, что можно извлечь, используя специальности приватным образом.
Первые заработки, не обремененные вычетом подоходных налогов, были вполне безвинны: воссоздание старинных полотен состоятельным клиентам. Все шло ровно, хорошо, но вскоре один из состоятельных был задержан как спекулянт отреставрированными художественными ценностями… Так, пусть в роли свидетеля, но довелось посетить Прогонову и кабинет следователя, и народный суд, где со всей очевидностью ему дали понять о его специальностях и талантах как о факторах, способных представлять узкоуголовный интерес. Но круг состоятельных вырос, вырос уровень жизни Прогонова, выросли соответственно и запросы, а потому уже приходилось сознательно рисковать… Впрочем, риск по мелочи Виктора Вольдемаровича более не устраивал. Жаждалось крупного дела, дабы единым махом разрешить проблемы финансовые и обеспечить себе уход в жизнь спокойную, праздную, добычей хлеба насущного не омраченную. И такое дело Прогонова нашло. Вернее, сначала нашел Прогонова один очень энергичный человек по имени Алексей, имевший к тому же многозначительную кличку Матерый.
За внушительный гонорар Прогонов исполнил заказ на достовернейшую копию знаменитого итальянского мастера… Фальшивку изготовили правдоподобную фантастически. Затем еще одну, еще… Дурные сны начали сниться Прогонову, нервная экзема обметала руки, но наркотик наживы намертво въелся в кровь, не отпускал. Сны снились не напрасно: вскоре вспыхнул скандал. Возмутился кто-то из одураченных иностранцев, раскрыв — нелогично, себе же в ущерб — источник покупки, и затрепетал искусник Прогонов в преддверии краха… Чудом пронесло. Имя копииста в показаниях обвиняемых не прозвучало, но волк Матерый, приписав сотворение чуда себе, надел на Виктора Вольдемаровича ярмо раба, тотчас потребовав — якобы в оплату за чудо — разного рода услуг: изготовления паспортов, водительских документов и многого прочего — в частности, создания произведения псевдо-Фаберже, — из-за которых вновь пришлось Прогонову обливаться холодным потом дикого страха, но в итоге оценить и ум детально знающего преступную среду шефа: подделки сбывались на фоне действий большой группы иных аферистов, громко прогоревших и тем самым в бурной широте потока своей продукции скрывших маленький, однако поистине золотой ручеек прибыли, вырученной Прогоновым и Матерым.
Каждодневный риск становился привычкой, но неблагополучные издержки его неизменно обходили Виктора Вольдемаровича стороной, и хотя пули отчетливо свистели рядом, прикрытием от них с фронта и с тыла выступал дальновидный Матерый, кому Прогонов теперь верил слепо, — впрочем, ничего иного просто не оставалось… Осторожность, естественно, соблюдалась неукоснительная: ни денег, ни орудий производства, ни толики продукции дома Виктор Вольдемарович не держал, а на конспиративную квартиру-мастерскую, снятую у надежного человека, где созидались старинные фламандские и французские полотна, ездил, соблюдая утонченнейшие нюансы секретности. Не ведал Прогонов одного: не ведал о существовании некоего Ивана Лямзина, тщательно фиксирующего все переговоры своего соседа с «рукодельником Вольдемарушкой» — в те времена, когда сосед в случайном присутствии возле себя Вани не сомневался.
— Разрешите пройти, Виктор? — спросил Ярославцев, встав в проеме двери.
— Простите, не имею чести… — низким бархатным голосом отозвался Прогонов.
— Я — от Матерого. — Ярославцев напористо шагнул в квартиру, снял пальто, мельком в зеркале уследив за выражением лица Виктора Вольдемаровича.
Это длинное лицо, характерными чертами которого были седые бакенбарды, крупные зубы и длинный, как бы позаимствованный из голландской портретной живописи нос, выражало немалое удивление, но вместе с тем дружелюбие и любезность. Внешний вид хозяина отличался респектабельностью: белая сорочка без галстука, легкие, на тонкой подошве штиблеты, халат с серебряной и золотой ниткой узора…
— Прошу… — Рука Прогонова указала путь в комнаты, где в прозрачном блеске паркета отражались чинно расставленные в горках изделия фарфоровые и хрустальные.
Посреди же комнаты, очень не к месту, стояло чучело пингвина, обутое зачем-то в домашние тапочки без задников.
— Птичка, ласточка моя, — произнес Прогонов, взял пингвина за крыло, — ну-ка, проснись, ну-ка, ванну пойди прими…
Тут глаз птицы внезапно раскрылся: живой, блестящий… И пингвин, переваливаясь, вышел вон.
— Живу один, холостяком, — поделился Прогонов, затягивая ловкими, холеными пальцами узел на поясе халата. — Вот… завел фауну. Экзотика, понимаю ваше…
— Мда, — согласился Ярославцев, — чего-чего…
— Ходит сам в туалет, спускает за собой воду, любит принимать душ и обожает тяжелый рок, — гордо доложил хозяин. — Спит стоя. Очень удобно.
— Признаюсь — поразили, — сказал Ярославцев, усаживаясь в изысканный уют кресла карельской березы. — Готов отплатить вам тем же. Не возражаете?
Любезное выражение лица Виктора Вольдемаровича преобразилось, став настороженным, но настороженность эту он легко трансформировал в благожелательную озабоченность.
— Коньяк? — вопросил галантно.
— Товарищ Прогонов, — начал Ярославцев, предложение о коньяке игнорируя, — разрешите, наконец, представиться. Я — Хозяин. Такой пошлой кличкой, увы, меня окрестили дурные люди. То есть я — тот самый человек, на которого неоднократно ссылался ваш друг Матерый как на избавителя якобы от прокурорских напастей и милицейских происков.
— Якобы… — вдумчиво повторил Прогонов. — Та-ак. А нельзя ли разъяснить, в чем суть прокурорских напастей и ваших намеков в принципе?
— Извольте, — кивнул Ярославцев. — Разъясню.
Процедура разъяснений оказалась для Прогонова весьма неприятной: от слов собеседника он морщился, как от болезненных уколов, однако в глазах его ощутимо проявлялась готовность, отбросив ложную дипломатию, вести дальнейшие переговоры без затей, напрямик.
— Ну-с, довольно, кажется. — Ярославцев перевел дух. — Теперь — хорошие новости: надеюсь, первая наша встреча окажется и после… нет, предпоследней. Также надеюсь, что на последней встрече получу несколько необходимых документов. Два-три чистых бланка советских паспортов, клише печатей к ним, то же — относительно водительских удостоверений с десятком-другим запасных талонов, а то мои, ваши, вернее, — он вытащил из бумажника зеленые, с красной полосой карточки, — уже на исходе… Не люблю, знаете ли, заискивать перед всякой сволочью…
Мрачная тень какого-то смутного подозрения легла на лицо Прогонова.
— Нет, — сказал Ярославцев. — Адрес секретного цеха на Пресне мне известен… там просто музей вещдоков… так что это не провокация, а деловой разговор, означающий: за услуги вы получите солидные деньги. Шантажировать же вас своей осведомленностью я категорически не намерен. Она, осведомленность, — лишь залог и подтверждение моей благожелательности.
— А что означают, в свою очередь… солидные деньги? — спросил Прогонов с мягкой сатирой в голосе.
— Тысяч восемь… десять.
— Солидные? — переспросил Прогонов вежливо. — Вам не откажешь в чувстве юмора, гость дорогой.
— Бросьте паясничать! — Ярославцев приподнялся из кресла.
Облезлые брови Прогонова вздернулись, и он засмеялся:
— Ну, право… Что за манеры? Вам-то уж не к лицу терять лицо… Такой респектабельный господин…
— Вы правы. Извините. — Ярославцев вновь уселся в кресло. — Нервы. И вот еще… Главное. — Он вытащил паспорт Джимми. — Нужна копия. Один в один. Только с иной фотографией.
Прогонов достал из черепахового футлярчика небольшие, в позолоченной оправе очки. Полистал паспорт. Положил его на столик. Затем грустно и коротко заявил:
— Невозможно.
— Не принижайте высоту своей квалификации, — возразил Ярославцев. — И… не вынуждайте меня прибегнуть к грубым приемам.
— Кстати, Матерый тоже сегодня меня навестил, — неожиданно поделился Прогонов. — И тоже — заказы впрок… Не такие, конечно… Ординарнее, попривычнее… Значит, где-то запахло горелым. — Оживился. — А почему бы Леше не представить вас мне в официальном порядке? И каким образом вы…
— Потому что вы — его капитал, — ответил Ярославцев. — Тайный и неделимый. А каким образом?.. Оперативная работа. А ее методы огласке не подлежат. Хотя какие там методы? — сплошная импровизация…
— То есть вы совершаете воистину грабительское покушение на чужую собственность? — подытожил Прогонов. — Отличненько. Но почему десять тысяч? Таким, кажется, обозначен гонорар, не ослышался? — Ладонью он бережно накрыл паспорт.
— Постыдитесь, Виктор Вольдемарович, — укорил Ярославцев. — Я ухожу из вашей жизни, оставляя вас в спокойствии и благоденствии. Вам бы уместно мне приплатить!
— Довод. Тогда простите, вопрос сугубо гуманитарного свойства: зачем вам именно т у д а? Я, к примеру, очень и очень вскользь наслышан, будто у Леши есть один карманный челюстно-лицевой хирург…
— Мне нравится их пестрая, буржуазная жизнь, — сказал Ярославцев. — Я безоглядно романтичен. Достаточно?
— Надо же как… — позволил себе порассуждать Виктор Вольдемарович, не принимая во внимание подчеркнутую сухость ответа. — А мне вот их жизнь… не нравится. Смотрю ее каждодневно по видеоканалам — собственным, разумеется… не нравится. Все деньги, деньги… Еще замечу: бездуховность и наплевательство на ближнего. Так это, так, права наша контрпропаганда. И преступность там — кошмар беспросветный! Не говорю о гангстерах и мафии; армия шпаны! Если бы нашей доблестной милиции на денек бы такую нагрузочку, как тамошней…
— А вот мне как раз не нравится наша доблестная милиция, — сказал Ярославцев. — И прочие органы. Когда надо, а может, когда и не надо, работать они умеют. И возмездие неотвратимо — наслышаны, вероятно? Знаком афоризм?
— К делу. — Прогонов взял паспорт в руки. — Что значит ваше предложение? Побег за границу, измена Родине. Статья за нумером 64, до смертной казни включительно. Это — о вас. Теперь обо мне, рабе божьем. Соучастие в упомянутом преступлении — раз. Изготовление документика — два. Тоже прилично… А я — старый человек и хочу остаток дней…
— Вы старый мошенник, — перебил Ярославцев. — И извольте мыслить сообразно своему статусу. Да, между прочим: напоминаю об одном придурке, месяц назад купившем немыслимую сумму западногерманских марок вашего производства… Очень грубо, извините, но вы меня вынудили… Теперь уясните: я уеду, и все оборвется. Останется достаточно средств, чтобы жить честной жизнью обывателя и испустить последний вздох… не в больничке на зоне, без возврата трупа родственникам, хотя у вас вроде один пингвин — истинно заинтересованное лицо…
— Вы невыносимы! — произнес Прогонов со стоном. — Но вам надо сфотографироваться… И не в ателье, что на углу…
— Когда?
— Думаю, послезавтра.
— Мы очень плодотворно провели разговор. — Ярославцев направился в прихожую. — Срок вам — неделя. Удачи!
— Мне приходится, — Прогонов погладил по голове пингвина, любопытно высунувшегося из ванной в коридор, — пожелать удачи и вам. Удачи и… безвозвратной дороги.
— Одновременно мечтая: эх бы да сверзился лайнер вместе с тобою из высей поднебесных на самую твердую почву планеты!
— Не секрет: люди греховны в своих помыслах, — сокрушенно развел Прогонов широкие рукава халата. — Вы чудовищно правы…
С тем и расстались.
Из оперативных материалов…Установлено: на бутылке из-под напитка «Байкал», обнаруженной на месте жительства Колечицкого Л. А., выявлен отпечаток пальца, совпадающий с имеющимся в картотеке — Монина А. М. (кличка «Матерый»), неоднократно судимого.
…Для сведения: приметы фоторобота «блондина» совпадают с приметами Монина А. М. (кличка «Матерый»).
…докладываю: в 12.05 в пиццерии произошел контакт Коржикова М. П. с Мониным А. М. Магнитная запись разговора данных лиц прилагается. Разговор шел о необходимости скорейшего уничтожения вещественных доказательств по угонам автотранспортных средств, а также — к выражению тревоги по поводу расследования убийства Колечицкого Л. А. Затрагивалось то обстоятельство, что «ВАЗ-2106», обнаруженный на 23 км, может фигурировать в деле Воронова А. И.
Монин А. М. рекомендовал Коржикову М. П. скрыться с имеющимся у последнего фальшивым паспортом, предварительно изменив внешность с помощью знакомого им челюстно-лицевого хирурга. Имя и место проживания хирурга не упоминались.
…докладываю: покинув пиццерию, Коржиков отправился к месту складирования негодных для восстановления автомобильных кузовов, где был задержан оперативной группой.
Из рапорта…после контакта с Коржиковым М. П. объект наблюдения — Монин А. М., на автомобиле «Волга» белого цвета, № 14-35 МЕЧ, отправился в сторону улицы Арбат. Объект держался настороженно, автомашиной управлял резко, превышая скоростной режим и совершая нарушения правил ДД, что затруднило наблюдение за ним. В дальнейшем просим постоянной поддержки группы наблюдения сотрудниками ГАИ города, области, а также иными службами…
Адреса, которые навещал Монин, прилагаются.
Из оперативных материалов…приметы автомобиля № 14-15 МЕЧ (номерные знаки сфальсифицированы) совпадают с данными по автомобилю «Волга» белого цвета, находившемуся в месте обнаружения трупов двух мужчин на 21 км…
…Справка: первая судимость Монина А. М. связана с разбойным нападением на кассира продовольственного магазина и применением в сторону работника милиции огнестрельного оружия марки «парабеллум», источник приобретения которого остался невыясненным. Данное уголовное дело запрошено из архива.
…Докладываю:
Адресаты, которых навещал Монин А. М. после встречи с Коржиковым М. П., следующие:
Адресат № 1. Прогонов В. В. — несудим, художник, цинкограф, реставратор. Инвалид, пенсионер. По неподтвержденным данным — изготовитель поддельных художественных ценностей, фальшивых дипломов. Предпринимавшиеся ранее попытки установить с Прогоновым перспективные отношения успеха не имели. Живет замкнуто, холост. По месту жительства предметов и инструментов, уличающих его в преступном промысле, не хранит.
Сразу же после отбытия Монина от дома Прогонова к последнему прибыл Ярославцев В. И., что зафиксировано фотосъемкой. Ярославцев пробыл у адресата сорок минут.
Необходимо отметить: на протяжении нескольких лет Монин — персональный водитель Ярославцева Выписки из трудовых книжек обоих лиц прилагаются.
Адресат № 2. Лямзин И. З. — установленный абонент Коржикова М. П. после операции по задержанию Воронова А. М. Установлено: Монин А. М. временно проживает (без прописки) на квартире Лямзина, используя данный адрес как запасное, видимо, убежище. По оперативным данным, Лямзин И. З. — спекулянт видеоаппаратурой, кассетами, персональными компьютерами. Аппаратуру приобретает мошенническим путем у комиссионных магазинов, обманывая частных лиц, идущих на сделку с ним, при денежных расчетах.
Подробности в отношении трех последующих адресатов выясняются. Источники утверждают, что все трое — главы преступных групп, связанных с теневой экономикой. Один из адресатов — Переверзев К. А. — председатель кооператива по выращиванию свеклы, на базе которого создан подпольный завод по производству водки — с собственным сырьем и высокопроизводительной технологией. Данные получены из органов ГУБХСС, готовящих реализацию дела, требующуюся из-за вновь открывшихся фактов согласования. Считаю необходимым подключить к расследованию сотрудников ГУБХСС, т. к. обозначился выход на лиц, занимающихся незаконной хозяйственно-экономической деятельностью.
Из рапортов…исходя из установленных контактов Монина А. М. и успешной разработки связей Ярославцева В. И., задержание их полагал бы преждевременным, тем более что откровенно «лобовые» действия Монина А. М. указывают, вероятнее всего, на его предположения о всего лишь начальном этапе следственной работы по делу об убийстве Колечицкого Л. А. и не связанном с ней разоблачении Воронова А. И. Отсутствие дальнейших контактов Монина с Коржиковым будет в глазах первого оправдываться логикой сложившейся ситуации.
…докладываю: гр. Лямзин И. З. задержан при попытке путем мошенничества приобрести у частного лица видеомагнитофон «Шарп-799» за сумму, составляющую половину требуемой, которая, в свою очередь, соответствует цене реализации данного товара через комиссионный магазин.
Из магнитной записи допроса Лямзина И. З.— Гражданин Лямзин… Установлено: путем мошенничества вы…
— Ничего не установлено! Клиент жулик! Деньги пытался у меня отобрать, вот и потасовка… А чтобы оправдаться — клевещет! На голый крючок не ловите, свидетелей нет, я — одно, он — другое… Доказывайте!
— По-хорошему, значит, Лямзин, не хотите…
— Чего? Дождешься от вас хорошего!
— Ладно. Давайте иначе… Вчера в магазине «Березка» вами был приобретен телевизор «Тошиба». Номер его, ваша подпись фигурируют как в документах, оставшихся в торгующей организации, так и в гарантийном талоне… А талон покуда изъят у установленного лица, показавшего, что телевизор вы ему продали по спекулятивной цене. Опять валюта, Лямзин. Через бытовую радиоаппаратуру, но по сути…
— Беллетристика. Гнилые привязки. Это раз. Теперь два: ничего не знаю. Понастроили всяких «березок», теперь хватаете кого ни попадя… Подпись в талоне… ха! Веская улика! Там что Лямзин, что Чарли Чаплин — никакая экспертиза не установит!
— Ну вы и тип…
— Не нравлюсь? Готов уйти. Кстати, начальник, вы Библию хоть раз на сон грядущий почитывали? Я так чувствую — нет. Заповедей не знаете, не по-божески инкриминируете. Может, Моисей и кокнул часть скрижалей, покуда нес их с горы Синай, но в тех, что донес, не сказано: «Не продай». Вы сами загляните, убедитесь… А в Библии все есть… что надо!
— Лямзин, истинно говорю вам: не спекулируйте тем товаром, которого у вас нет в наличии. Имею в виду вашу набожность. Поехали лучше домой. К вам домой… Вот постановление о проведении обыска, ознакомьтесь…
— Миша, сердечно рад видеть тебя… — Ярославцев жестом пригласил присесть рядом с собой в машине полного дородного мужчину с загорелым, в резких морщинах лицом. — Рассказывай, как живешь, дорогой, какие проблемы…
— Все по-прежнему, — обреченно вздохнул Миша. — По-прежнему нет главного: ума, здоровья и денег. Но… все завидуют.
— Понимаю тебя, как никто, — рассеянно улыбнулся Ярославцев. — Э… Ты, конечно, удивлен нашим прямым контактом? Тогда сразу развею двусмысленность: есть срочное дело, Матерый вне его, а мне… остро и быстро необходимы деньги.
Миша важно кивнул, подчеркивая полное осознание значимости слов собеседника.
Ярославцев тронул пальцем брелок, прицепленный к связке ключей, торчавших в замке зажигания.
— Знаешь, что за брелочек?
Миша, вытянув губы, мелодично посвистел. Тотчас брелок отозвался переливом маршевой мелодии.
— Очень хорошо, — констатировал Ярославцев. — Теперь слушай. Часть пластмассы и микросхем можно приобрести официально. Для подстраховки. Вдруг: откуда, что?..
— Азбука Буратино, — прокомментировал Миша.
— Пластмасса есть. Микросхемы есть. Макет брелка есть. Люди, задействованные на производстве — будущем, естественно, тоже есть. Всю эту макросхему я готов продать. Ты — цыганский барон, рынок сбыта у тебя свой, надежнее любой сицилианской мафии… По вокзалам и поездам побредут бесчисленные…
— …пестрые соплеменники мои, — закончил Миша, раскуривая сигару. — Сколько стоит макросхема? Людишки твои… проверенные, а?
— Ручаться я привык исключительно за себя, — мягко ответил Ярославцев. — О цене же так: много не надо, тысяч пятьдесят.
— Столько с собой не ношу… — Лицо Миши озарилось мрачноватой улыбкой. — Куда желаешь, чтобы калым принесли? Когда желаешь? Какого человека желаешь, чтобы принес? Может, симпатичного желаешь?
— Завтра. В два часа дня. У меня дома, — отчеканил Ярославцев. — С людьми к тому моменту договорюсь. Координаты их тебе передадут. Послушание гарантирую безоговорочное.
— Ох, — вздохнул Миша. — Умная у тебя голова, Хозяин. Сколько брелков подарил этих, как спички дарил — не думал…
— Да если бы и думал. Не в брелках деньги, а в людях. До свидания, Миша.
— Прощай, Хозяин.
Склонившись понуро над рулем, он стылым взглядом исподлобья провожал грузную, в клетчатом, модного покроя пальто, фигуру цыганского барона, усаживающегося на заднее кожаное сиденье своего заграничного лимузина, фыркавшего выхлопом двухсот шестидесяти лошадиных сил.
Все. С мелочами сегодняшнего дня он покончил. Теперь предстояло главное: предстояло совершить насилие над собой… Впрочем, не было ли насилием над собою то, что совершено им сегодня? Да, но совершено-то на технике сухих переговоров; он ни перед кем не играл, действовал искренне и открыто, а вот сейчас начиналось тягостное и порочное…
Анна. Женщина, существующая как некий объект… чрезвычайного, стратегического назначения. Объект, требующий неусыпного контроля, вклада средств и точной нацеленности на запланированную функцию.
Операция «Анна» началась год назад, когда он впервые ощутил неминуемость приближающейся грозы… Ощутил, но не отмахнулся легкомысленно, не пошел на поводу расхолаживающего благоденствия сиюминутности, наоборот: начал жить встречей катастрофы. Заставил себя.
Заставил себя встать однажды ранним утром, поехать на противоположный конец города, дождаться, когда из подъезда жилого дома выйдет малопривлекательная сорокалетняя женщина, сядет в «Жигули» и отправится привычным маршрутом на службу. А он последует за ней и на очередном перекрестке «неловко» перестроится из ряда в ряд, покорежив крыло ее автомобиля.
С этого началось «знакомство». С ее истерических упреков, поползновений немедленно вызвать ГАИ, сильного душевного волнения, вызывавшего в нем едва сдерживаемый смех…
— Как вы думаете… во сколько обойдется ремонт? — терпеливо спросил он, выслушав ее возмущенные причитания.
— Да тут… на двести рублей…
— Очень хорошо. Вот двести рублей. За моральные издержки. Расходы по ремонту тоже беру на себя. Через три часа подъезжайте на станцию в Нагатино и там заберете свою машину.
— Я не могу через три… только вечером!
— Как скажете. А пока моя машина к вашим услугам.
Вечером, получив идеально отремонтированный автомобиль с попутно устраненными дефектами, дама позволила себе, наконец, представиться Ярославцеву как Анна, смущенно возвратив двести рублей. Тот долго отнекивался, а после весело предложил:
— Данный конфликт заслуживает того, чтобы его отметить где-нибудь, скажем в «Арагви». Деньги мои, платите вы… Идет?
Отметили. Познакомились.
Так и появился объект… стратегического назначения.
Анна отличалась вздорным характером, благодаря которому растеряла все былые привязанности к ней мужчин и замкнулась в работе, обретя в ней смысл и опору. Занимала Анна определенную должность в финансовом ведомстве Внешторга; должность ответственную, связанную с крупными валютными операциями.
Отношения с любовницей развивались именно так, как Ярославцев и предполагал: в Анне все более крепла привязанность к нему, и все острее желалось ей женского, обычного — надежного мужа, детей, — при полном, впрочем, понимании неосуществимости такого желания, — возлюбленный имел семью, устоявшийся быт, прочный достаток и ничего иного, помимо тайной связи, не мыслил. Но и тем дорожила увядающая Анна: наконец-то в чистенькой квартирке ее с разнообразными половичками, салфеточками и целой коллекцией гипсовых статуэток появился настоящий мужчина — щедрый, тактичный, с положением — как-никак, а близок к одному из министров: а может, и не к одному…
С блистательной небрежностью преподносились им сногсшибательные но ценам подарки, играючи разрешались острые житейские проблемки… Одно угнетало Анну: нечасто, как о том мечталось, навещал ее любимый, а мечталось… да, о многом мечталось Анне! И как-то, превозмогая страх, рискнула она все-таки спросить его: могут ли они быть вместе? Как муж и жена. Ответа она ожидала любого, но услышала более чем внезапное…
— Не хочу тебе лгать. — ответил Ярославцев. — А правда же такова: в этой стране я не добился ничего. О сути моих неудач ты знаешь… Короче. Страну я собираюсь покинуть. Ты же со мной не поедешь. Так?
Покинуть страну… Она не могла вымолвить ни слова. На том разговор и окончился. А после были бессонные ночи и какая-то деформировавшаяся реальность повседневности, в которой думалось ей больно и ясно о ценностях сегодняшней ее жизни. Привыкла она к Ярославцеву; привыкла как к наркотику, утрата которого лишала жизнь всей прелести и аромата, всей радости и надежды, оставляя лишь голую, накатанную схему ее прошлого, пустенького бытия. А что было в нем? И не вспомнить…
И разговор возобновился. И сказала она: готова идти за тобой куда угодно…
— Милая, — ответил он, — но и это не все… Я тоже еще о многом должен подумать. Ведь сломать судьбу себе — одно, а любимому человеку — другое.
…Сейчас, поднимаясь пешком по узким лестничным пролетам типовой пятиэтажки, он старался настроить себя на бесстрастное продолжение игры, напрочь подавив какие-либо эмоции; отбросив прочь как розовенькие понятия жалости и милосердия, так и мрачный — подлости, жестокости… Он обязан воплотиться в робота, в автомат. Падение случилось, теперь ему предстояло быть бесконечным, а попытка затормозить его означала разбиться сразу, о первый же выступ стены бездны, куда он летел…
Всю чепуху этих размышлений он оставил за дверью. Начиналась игра. В любовь и трудно скрываемую озабоченность житейскими передрягами. И то и другое Ярославцев в течение двух часов изображал довольно-таки убедительно.
В итоге сели пить чай на кухоньке, способной по чистоте своей соперничать с операционной.
— У тебя неприятности, да? — посочувствовала она, с нежностью целуя его в шею.
— Присядь… — Он легонько отстранил ее. Выдержал паузу, напряженно и искательно глядя в глаза напротив: преданно-испуганные, как у собачки. — Я начал собирать чемоданы.
— А я?.. — вырвалось у нее растерянно.
— А тебе предстоит решать.
Но я же решила… Я… Да, но каким образом? — озадачилась она. — Я ведь не подавала никаких заявлений…
— И слава богу. — Ярославцев невольно усмехнулся. «Заявлений»! — Аня… Заявлений попросту не примут. А билет и паспорт ты получишь… в неофициальном порядке. Это как раз несложно. Сложность в ином: нужны деньги. Уезжать туда голым смысла не имеет.
— Я все продам… — пробормотала она.
— Глупость. Золото и деньги не вывезешь. Но имеющиеся у тебя под рукой валютные документы… — Он помедлил. — Да, это очень некрасиво с точки зрения закона и морали… от которых ты уедешь.
Ее глаза были стеклянно-безумны от страха, сомнений и тысяч вопросов.
— Я понимаю, — кивнул Ярославцев. — Те бумажки, что проходят через твои руки каждодневно, не более чем бумажки. И только усилием изощренной фантазии они представляются воплощенными в жизнь: в дом, машины, путешествия, прислугу… Но та, слишком другая для твоего понимания жизнь есть. И тебе в ней тоже найдется место.
Он замолчал. Муторный осадок всех предыдущих встреч неожиданно поднялся, комом встав в горле.
«Что ты делаешь?! — вырвалась из-под спуда бездумия обжигающая стыдом и болью мысль. — Опутал бабу, перевернул ей мозги, держишь ее под гипнозом, как удав мышку… Зачем? Это т в о е падение, не увлекай других».
— Я пойду. — Ярославцев встал. — Тебе надо остаться одной и подумать.
Она не ответила, замерев оглушенно, как после удара.
— Это горько и нехорошо, Аня, — вымолвил он на прощание. — Но все иное… нецелесообразно. Пойми.
Из рапорта…При проведении обыска в квартире гр. Лямзина И. З. тот, разыграв замешательство при обнаружении следователем прокуратуры потайной кнопки, находящейся внизу самодельного серванта, спровоцировал нажатие последним данной кнопки, что привело к падению серванта, представлявшего собой дно убирающейся к стене кровати, декоративно оформленное под место хранения посуды. Следователь госпитализирован с сотрясением мозга и мелкими порезами лица…
…При препровождении гр. Лямзина И. З. от места жительства к оперативной машине им была предпринята попытка оказания сопротивления сопровождавшим его сотрудникам УУР. При анализе мотивов такого поступка выяснилось: Лямзин, идя на подобный конфликт, имел намерение незаметно провести на двери подъезда меловую черту, представляющую, видимо, своеобразный знак. Мелок обнаружен в салоне оперативной машины спустя тридцать минут после вышеизложенного инцидента. Меловая черта, согласно докладу участкового инспектора, уничтожена.
Из магнитной записи допроса Лямзина И. З.— Гражданин Лямзин, на одной из дверей комнат вашей квартиры имеется замок…
— Понял, можно не продолжать. Человек у меня живет. Попросился и… живет. Зовут, кажется, Гена. Или Петя… запамятовал. Познакомился с ним по пьянке, кто, чего — не в курсе, в отличие от вас в чужие дела не суюсь.
— Так… А что скажете об обнаруженных у вас видеокассетах порнографического содержания?
— Мое. Чистосердечно признаюсь: я — патологический тип. Но факт распространения отсутствует, а на личные увлечения карательная сила кодекса не распространяется.
— В шкафу обнаружена коробка с патронами от мелкокалиберной винтовки. Ваши?
— Э…
— Коробка — на дактилоскопической экспертизе.
— Ну… еще со школьных лет осталась…
— Хранение боеприпасов. Думаете, никчемные придирки? Напрасно. Пусть от «мелкашки» — все равно статья.
— Понял. Сидел со мной один… Тоже — за два патрона. Тоже — найдены при обыске. Искали, конечно, другое… Но за неимением… В общем, знакомо. Понятны ваши задачи.
— Вы полагаете?
— Чего уж… Цель оправдывает средства… Цель — я.
— Гражданин Лямзин… А зачем вам подслушивающая система? Соседом интересовались?
— Законом не карается. Природное любопытство. Оставшееся неудовлетворенным, кстати.
— Лямзин… хватит, а? Призываю вас к откровенности. Вы сели… в лужу, по крайней мере. Патроны, спекуляция… Самогон к тому же обнаружен… Три литра. Хорошо очищенный, судя по запаху.
— Спасибо за комплимент. А вообще — лажа все. Спекуляцию придется доказать. Самогон? Впервые вляпался, значит, штраф. Заплатим, не обеднеем. Насчет патронов — подкинули.
— Ярославцева знаете?
— Нет.
— Номер его телефона в вашей записной книжке.
— Может быть. У меня много народа шапки покупает… Всех не упомнишь.
— Что хранил ваш сосед в своей комнате?.. Какие вещи?
— Пауза будет бесконечной.
— Тогда, Лямзин, придется вам надолго у нас задержаться…
— Хотите, скажу банальность?
— Ну.
— Ненавижу вас.
Он запер машину, прошел в подъезд, вытащил почту из ячейки общего шкафа и, на ходу перебирая газеты, направился к лифту. Внезапно остановился, вглядываясь в конверт, попавшийся среди прочей корреспонденции. Прочел: «УВД горисполкома…»
Повестка. Такого-то числа зайти в отделение милиции в комнату номер шесть.
Он почувствовал нервную тошноту, как от удара под дых. Заскакали мысли: «Ну, повестка… Наверняка по ерунде… Если что — не вызывали бы… А может, хитрый ход?»
Сунув бумажку в карман пальто, открыл дверь квартиры. Первой его встретила дочь.
— Пап, принес что-нибудь посмотреть? — Имелась в виду конечно же видеоинформация.
— Танюша, деточка, завтра, не до того… — Он разделся. — Да и зачем тебе этот видиот? Жизнь куда более прекрасна…
— Ну, а музыкалки? — Имелись в виду эстрадные программы. — И уму и сердцу!
— Ну ладно… завтра. Только напиши, что именно.
— Ой! — И радостная дочь помчалась за бумагой и ручкой. — Я записалась на курсы английского, — прозвучало уже издалека. — Чтобы… Ну, в общем, стюардессой хочу стать… на международных линиях. У них там пенсия знаешь какая?! И всего до тридцати лет работаешь. А потом… — Сколько мечты, восторга, надежды было в последнем слове…
Ярославцев вздохнул. Не хотел он слышать этого от дочери, другого желалось. А чего другого? Не житейской мудрости, а наивных ребячьих разговоров? Но не ты ли пестовал в ней мудрость эту обывательскую? Может, не целенаправленно, но личным примером наверняка.
— Ужинать будешь? — Появившаяся в прихожей Вероника, повязывавшая цветастый накрахмаленный передничек, чмокнула его в щеку. Красивая, энергичная, сразу видно: все знает, все умеет; а если насчет милых женских слабостей, то и их сыграет в нужный момент безупречно. Партнер надежный.
— Сыт я, — сказал Ярославцев.
— Можешь поздравить: через неделю твоя супруга — начальник отделения института, — поделилась она игриво. — Собственные темы, три поездки в год… А? Ты не рад?
— Видишь, только я у вас иду мимо жизни, — ответил Ярославцев, с удовольствием сдирая тесную петлю галстука. — Потому на вас, женщин с будущим, вся надежда.
— Кстати, о будущем невредно бы и тебе подумать, — заметила она. — Пока поступают предложения, во всяком случае.
— Выбираю лучшее, — ответил он.
— Володя, дорогой, ты посмотри на свою жизнь… — Она говорила доверительно, мягко, как хороший друг; она всегда, впрочем, так говорила — на воркующей какой-то ноте участия и совета, не назидательности. — Спишь до полудня, сплошные мотания, заработки непонятные, вообще — неизвестно, кто таков…
— И все же, полагаю, высокая зарплата министерского чиновника устроила бы тебя в меньшей степени, — возразил Ярославцев, улыбнувшись.
— Ошибаешься. Устроила бы. Я скоро буду доктором, диссертация на подходе… У нас все есть, деньги нужны лишь на текущие расходы…
Разговор велся без накала, как бы между прочим, покуда закипал чай и Вероника выставляла на стол печенье, конфеты и орешки: Ярославцев же безразлично размышлял: что же его связывает с женой? Взрослеющая дочь? Квартира и мебель? Постель? Или попросту привычка каждодневных встреч друг с другом за чаем и такие вот разговоры, чья цель — большее либо меньшее обозначение перманентных ее претензий к нему?
— Сегодня, надеюсь, пить не будешь? — спросила она с очаровательным юмором в интонации.
— Как изволите приказать, — ответил Ярославцев сухо, сам же подумав: «А выпил бы… Повестка эта… Завтра к десяти утра тащиться — вот, черт… испытание. Физическое и моральное. Кстати. В тюрьме встают рано. И ложатся рано. Привыкай. И затей там никаких… Нет, не пережить тюрьмы. Лучше из окна вниз головой!»
— Слушай, мне надо все-таки сделать подарок шефу, — ворвался в сознание голос жены. — Мое назначение — исключительно его заслуга.
— И сделай, — пожал плечами Ярославцев.
— Не так-то просто… Не дай бог, сочтет за взятку! Он знаешь какой!
— Не берет? — вопросил Ярославцев с иронией.
— Да о чем ты!..
— Ну, положим, дать взятку можно любому. Другое дело: как дать?.. — Он поднял на жену глаза испытующе. — Может, в чем-то нуждается твой шеф? Услуги, связи?..
— Кто знает? — Она озабоченно размышляла. — Слышала, двухкассетник он сыну ищет…
— Возьми наш, — сказал Ярославцев. — Тот, новенький, что Лешка Монин подарил.
— Да ты что, он же… Не так расценит…
— А ты скажи: знакомые привезли. Цену посмотри по каталогу, там долларов сто… И поясни ему: знакомые эти — люди сродни вам, кристальной честности, хотят за кассетник строго по курсу, так что гоните… сколько там ныне доллар в пересчете на рубли? Ну, девяносто, скажем, рублей. Вот и клюнул твой шеф. Все чинно-благородно до безобразия, даже противно.
— Мысль! — согласилась Вероника, наливая чай мудрому мужу. — Шеф, конечно, не дурак, но…
— Милая жена, а теперь вопрос к тебе, — неотрывно глядя на ловкие, ухоженные руки ее, сказал Ярославцев. — Как ты считаешь: что в принципе нас с тобой связывает на день сегодняшний? Уверяю: вопрос без прицела, праздный.
— То же, что и всегда… любовь, дорогой. — Она поцеловала его в макушку. И засмеялась — легко и беззаботно.
— Точно, — усмехнулся он. — Очень ты правильно… подметила. И главное — я рад, что наши мнения совпадают.
Из рапорта…Предполагается, что подслушивающая и звукозаписывающая аппаратура, обнаруженная в квартире Лямзина И. З., использовалась с целью фиксирования телефонных разговоров, а также бесед, которые вел Монин А. М. со своими гостями. Убедительна версия о передаче записанной информации Ярославцеву В. И., заинтересованному в контроле за действиями Монина А. М.
…Основное место пребывания Монина А. М. не установлено. Сложность задачи в данном случае заключается в самом маршруте, по которому объект следует к месту жительства. Маршрут проходит через лесные объезды и пустынные участки, на которых группа наблюдения может быть легко выявлена. Целесообразна установка на автомобиль Монина А. М. радиомаяка.
Чувство опасности не подводило его никогда. Вот и сейчас, противным холодком цепенящее все тело, в которое будто бы целились невидимые штыки, оно овладело им, и как бы ни убеждал он себя: чушь, нервы — убедить не мог. Никакой слежки он не заметил, да и как заметишь: если дело крутят по существу, занимаются им, Матерым, гвардейцы, а у них и техническая база, и гибкая, без пошлых «хвостов» тактика с секретами и вывертами неведомыми… Да и знай тактику, все равно не спасет…
Интуиции он верил слепо. Начал вычислять: если прицепились, то когда? Много он успел проколоть адресов? С ужасом постиг: невероятно много… И вдруг решил для себя: все, надо резать концы. Одним махом.
Притормозил у дома Прогонова. Подхватив атташе-кейс, прошел в подъезд, гадая: «засветил» ли он адрес Виктора Вольдемаровича или покуда нет? Как бы там ни было — лишь бы не взяли тут, сейчас…
Он расстегнул пиджак, сдвинув легким движением пальца предохранитель парабеллума, засунутого за пояс. Будут играть милицейские оркестры на похоронах, если затеяли в данную минуту что-нибудь граждане сыщики…
Нет, осадил себя, давай без излишней уверенности… Вспомни одного большого мастера каратэ, которого на уголовщину потянуло… Предчувствовал мастер арест, но хвастался, кичась силой: мол, поглядим, как они меня брать будут… Я их… в кисель… в компот… А они защемили пустозвона дверью в метро и повязали, как бобика, тявкнуть не успел. Так что — скромнее, Матерый, утихомирься, ты не ухарь-пижон.
Позвонил в дверь. «Глазок» — желто-горящий — на секунду потемнел. Затем щелкнул замок, и показалось лицо Прогонова.
— Один? — спросил Матерый, впиваясь холодным взором в лживые глаза Виктора Вольдемаровича.
— Пока… один.
Матерый прошел в комнату; положив на стол кейс, раскрыл его, вытащил несколько пухлых пачек денег, перетянутых резинками.
— Документы, — потребовал кратко.
Прогонов, вкрадчиво улыбаясь, провел ладонью над деньгами, и те исчезли, словно растворились в пространстве.
— Минуточку! — попросил учтиво и скрылся в смежной комнате, вернувшись оттуда с небольшим свертком. — Прошу, — протянул сверток. Затем сообщил сокрушенно: — Как понимаю, твой последний заказ. Выполнен заказ на совесть, сомнениями не обижай. Мда. Что-то мы все о делах… Может, чаю?
Матерый, не слушая его, сунул сверток в карман пиджака, подошел к окну, вгляделся в темноту; покачал головой, глубокомысленно что-то прикидывая…
— Слышь, Вольдемарыч, — сказал не оборачиваясь. — Надеюсь, хвост я за собой не привел, но рисковать не стану. Чую: паленым несет… Гаси свет, открывай окно — тут пожарная лестница вроде рядом…
— У меня там гортензия! — озабоченно всплеснул руками хозяин. — На подоконнике… Ради всего святого — осторожнее… Да, учти, здесь пятый этаж…
— К черту гортензию, — на выдохе процедил Матерый. — Свет гаси, сказал же! Отрываться надо. Портфель себе оставь!
Под причитания Прогонова он встал на подоконник; стараясь не смотреть вниз, легко прыгнул в темную пустоту, тут же ухватившись руками за перекладину из ржавой арматуры; повис, нащупывая занывшей от удара о железо ногой опору…
Улица освещалась слабо, стена дома терялась в темноте, и это его немало порадовало.
Стараясь не шуметь, спустился вниз. Отер ладонь о ладонь, стряхнув ржавчину и прах старой, облезлой краски.
Затем, скрываясь в кустах шиповника и жасмина, разросшихся на широком газоне, двинулся параллельно улице прочь.
Ну и все. «Волгу» пришлось бросить — плевать! «Волга» ворованная, техпаспорт фальшивый; три года к тому же машине — пусть пойдет на запчасти нуждающимся. Через месяц-два от нее останется лишь остов — народ наблюдателен, точно угадывает бесхозное… А может, и выплывет эта «Волга», как довесок к деяниям Анатолия…
Он перевел дыхание, глубоко и радостно ощутив внезапное чувство свободы и раскованности… В воздухе было разлито торжество вступившей в нрава весны: запахи молодой травы, первых цветов мая; росистая, бодрящая свежесть…
Он перебрался через железнодорожную насыпь, поблуждал переулками какого-то незнакомого района, поймав, наконец, «левака».
— В центр, — сказал коротко.
— Центр большой, — ответили справедливо.
— Москва, Кремль, — сказал Матерый. — Двигай.
У Манежа действительно стояла «дежурная» «трешка» — то бишь третья модель «Жигулей» — одна из самых первых криминальных халтур Толи; машинка старенькая, но надежная. Вот на ней он и уедет на дачу. А дачу он не провалил: очень правильно себя вел, не терял головы.
Из рапорта…оставив машину у подъезда дома, где проживает Прогонов В. В., объект — Монин А. М. — поднялся в квартиру последнего, откуда скрылся в неизвестном направлении по пожарной лестнице.
В целях восстановления наблюдения за объектом необходимо усилить контроль за квартирой гр. Лямзина И. З., где находятся вещи, принадлежащие гр. Монину А. М.
В комнате за номером шесть, куда, руководствуясь повесткой из отделения, Ярославцев зашел, сидел молодой человек в легкой спортивной куртке и джинсах и оживленно разговаривал по телефону. Узрев посетителя, человек спешно разговор завершил и представился оперативным уполномоченным Курылевым.
— Тэк-с, — начал он, скорбно изучив протянутую повестку. — Ярославцев… Неприятности у вас, товарищ… — И устремил скучающий взгляд куда-то в окно. Продолжил: — Навещали ли вы три дня назад известного вам гражданина Докукина?
— То есть? — не понял Ярославцев.
— Заходили ли вы три дня назад к гражданину Докукину домой? — внятно и медленно произнес Курылев.
Ярославцев вспомнил… Действительно, существовал среди его окружения работник мясокомбината Докукин, с кем связывали его деловые отношения по мелочам, в основном, быта. И три дня назад действительно заехал он к этому Докукину за своим компьютерным дисководом, одолженным тем на время. Дверь в квартире оказалась незапертой, Ярославцев вошел, кликнул хозяина, но тот не отозвался. Дисковод между тем стоял на виду, в нише «стенки». Поскучав минут пять, Ярославцев, куда-то торопившийся, решил выйти из положения следующим образом: написал записку хозяину, — мол, все в порядке, технику я забрал, а дверь зря открытой держишь, — и отправился восвояси, далее дожидаться Докукина не собираясь. Ну, вышел, вероятно, человек к соседям, задержался там… Уже через час Ярославцев и думать забыл об этом эпизоде. И вот…
— Ваша записочка? — Курылев вытащил из папки, лежавшей на столе, клочок бумаги.
— Моя.
— Когда, при каких обстоятельствах…
Ярославцев рассказал.
— Значит, об ограблении вам ничего не известно? — выслушав, спросил Курылев. — Квартирку-то потрясли, — сообщил он грустно. — Потому и дверь открыта была. А украли ценную картину. Целенаправленно, значит.
— Но при чем здесь… — начал Ярославцев.
— А при том, — перебил Курылев. — Странно вы как-то все объясняете, товарищ. Чудно… Я, конечно, не следователь — тот болен, я по его поручению тут с вами… беседую; но — чудно… Входите в чужую квартиру, не удивляясь отсутствию хозяина, тому, что дверь настежь… Берете аппаратуру…
— Так свою же аппаратуру!
— Правильно. Насчет нее состава нет…
— Спешил я, поймите!
— И доспешились. — Курылев насупился. Помолчал, крутя в пальцах авторучку. — А гражданин Докукин, между прочим, утверждает, будто на картину вы неоднократно и напряженно заглядывались, купить картину предлагали также — неоднократно… Есть свидетели.
— Ну… крепостной художник, помню… Портрет девушки; милое лицо, живые глаза… Да, предлагал… и что же?
— А то, что гражданин Докукин на вас очень серьезную бочку катит, — сообщил Курылев.
И тут Ярославцев припомнил: Докукин был должен ему три тысячи. С долгом тянул год… Может, посчитал экспроприацию картины как акт погашения долга и оскорбился, накляузничал?
— Но я же не брал, клянусь! — воскликнул Ярославцев с горячностью и замолк, потрясенный нелепостью всего происходящего здесь, унизительностью обстоятельств и неимоверной их глупостью. И еще — невольным смятением своим. — Ерунда какая-то, — произнес, озлобляясь.
— Хорошенькая ерунда… — усмехнулся Курылев. — Сейчас задержим вас из-за нее на трое суточек, а после посмотрим, о какой такой ерунде вы речь поведете… На работу сообщим…
— Доводы! — признал Ярославцев. — Потому давайте думать, согласен. Итак. Картину похитили. Полагаю, и в самом деле — с прицелом и с умыслом. Значит, возвратить ее силами вашего отделения будет нелегко, так?
— Интересно излагаете, — с апатичной хитринкой в голосе произнес Курылев. — С удовольствием послушаю дальше.
— Докукина я знаю довольно поверхностно, — продолжил Ярославцев и замолчал: в памяти всплыла забавная сценка: он и Докукин едут по какому-то пустяковому дельцу на машине Докукина; заворачивают на заправку гостранспорта, и Докукин, прихватив батончик ворованной с мясокомбината колбасы, идет на переговоры с заправщицей, повергая Ярославцева в беспросветную удрученность от своей сопричастности к какому-то жалкому ливерному расхитителю…
— …знаете поверхностно, — напомнил Курылев.
— Да. Но кое-что в характере его для меня очевидно: жаден, расчетлив и, видимо, используя ситуацию, желает из меня что-нибудь да выжать. Так?
— Ну, на такие вопросы мы ответов не даем, — важно отозвался Курылев, выпятив нижнюю губу. — Но бочка катится, учтите.
— А если так: я ему компенсирую и… с концом дело! — взвинчиваясь, предложил Ярославцев. — Не до того мне, чтобы еще в склоку со всякой сволочью лезть… Пусть назначает цену.
— Героически вы! — одобрил Курылев не без удивления. — Только… дело-то не с концом! В начале дело, в периоде расследования. И закрыть его могут лишь в следственном отделе района — при отсутствии, дополняю, состава преступления или его события… Что решает исключительно прокурор. Дошло? — Он пристально вгляделся в Ярославцева, как бы постигая сущность собеседника и характер его. — А может, — произнес полушепотом, опуская глаза, — у вас с Докукиным договоренность имелась о продаже картины, а? Он вам доверял, а потому и ключи у вас были… там замок чистенько вскрыт, нда. Ну, а про договоренность Докукин подзабыл или на всякий случай милицию вызвал, поскольку к вам дозвониться не сумел… А после все утряслось. Поговорите с Докукиным, авось вспомнит чего… Следователь — женщина благожелательная… В общем, зайдите ко мне сегодня вечерком после разговора с потерпевшим…
С гудевшей от злости головой Ярославцев от отделения позвонил потерпевшему домой. Тот, хорошо, оказался на месте.
— Ты что же творишь, пакостник? — начал Ярославцев.
— А ты чего творишь? — донесся грубый ответ. — Чего по квартирам шастаешь?
— Короче, ищешь крайнего, на милицию не надеешься?
— Почему? — раздалось в трубке лениво. — Я заявление подал, пусть разбираются, у них служба такая.
— Но меня-то зачем приплел? — Ярославцев закусил губу. — Возможность договориться есть. Сколько ты хочешь за мазню?
— За старинное полотно я хочу десять тысяч советских рублей, — молвил рассудительно и чеканно.
— Подумаю.
Он повесил трубку. А потом словно очнулся. Да о чем он заботится, в конце концов! О сохранении престижа — как бы на работе не прознали, в какое дело ненароком вляпался? Или следствия испугался? Да эти же волнения — из прошлого, из другой, навсегда другой жизни. Да, можно и на своем стоять, можно и договариваться как-то… Опер Курылев и женщина-следователь, которым выгоднее списать дело в архив, конечно же поймут его, не поверят, что способен на такую дешевку, да оно и видно: сразу, вполглаза, и играть не надо в честного и благородного, — образ убедителен сам по себе, а масштаб образа тоже виден издалека… Остановись в суете, Володя. Прояви хотя бы немного уважения… к собственной личности. И договариваться с хищненькой крыской Докукиным, равно как и с милицией, вынужденной охранять интересы потерпевшего, не стоит; когда-то стоило, теперь — нет. Только бы потянуть время… Вообще, конечно, некстати, ох как некстати все!
И — еще раз о суете… Куда теперь-то ты собрался, мил человек? В министерство? А зачем? Инерция, да? Общественное ты животное, Вова, и даже когда все законы общества для себя сломал, пытаешься им следовать, смешной человек… Другой вопрос — неудобно, ждут тебя там…
Он опустил в паз телефонного приемника еще одну монету.
— Привет, старина, — произнес механически. — Как вы там без меня, не скучаете?
— Ты где? — донеслось с оттенком испуга.
— Пока на свободе, — сказал Ярославцев грустно.
— Слушай, брось дурака валять! У нас неприятности…
— О чем ты?.. — насторожился Ярославцев.
— Ну, приезжай, не по проводам же…
Разговор в министерстве подтвердил истину: беда не приходит одна. Сигналы были тревожны: вся документация по «цеховым» производствам изучалась ОБХСС, кое-кто из знавших механику создания цехов приземлился на нары следственного изолятора, но самое главное — им, Ярославцевым, интересовались…
Он вышел из министерства и вдруг заметил ту же машину, что стояла в отдалении около милиции, — «Москвич»-фургончик с окрашенным черной нитроэмалью бампером. Или совпадение?
Сел в «Жигули», тронулся с места. «Москвич» следом не поехал. Совпадение наверняка…
И вдруг снизошло дремотное безразличие. Предстоящая кутерьма дел представилась настолько тягостной и беспощадно опустошающей душу, что ввязываться в нее он не мог просто физически. И вместо того, чтобы ехать в центр, круто развернулся на сплошной линии, а после, бросая машину из ряда в ряд выверенными, с запасом маневрами, двинулся в сторону кольцевой автодороги, за город.
С шоссе свернул на бетонку, проложенную через сосновый бор; въехал на пригорок, и оттуда вольготно и радостно открылась знакомая картина: излучина реки, скопление домиков за одинаково крашенным в зеленый цвет штакетником — он завез сюда и штакетник, и краску… Для всех. Вернее, Матерый по его поручению.
Дачи у него не было. Считал, не стоит вклада нервов и сил в пустое. Матерый — тот да, обстоятельно сооружал себе загородные хоромы — с бильярдной, винным погребком, облицованными мрамором каминами и бархатной мебелью, — зачем только, спрашивается? И для кого? Он же, Ярославцев, купил дом в деревне — просторный, крепкий, с русской печью; перевез туда старую мебель, холодильник, утварь и тем ограничился. Правда, отдыхать здесь так и не пришлось… Дорогу помог совхозу заасфальтировать, водопровод соорудить, теплицы… Это по личной инициативе. А после начали донимать просители: кому лесоматериалы достань, кому цемент, кому инвентарь. И доставал — соседи, как не уважить…
Ворота он открывать не стал; остановил машину напротив ограды, прошел через калитку в сад, поднялся на крыльцо.
Дом встретил его стылой затхлостью: вымерз за зиму в шубе снега и льда, отстоял нетопленым…
Открыв закопченные заслонки печи, сложил шалашиком дрова, плеснул керосин из бутылки… Пламя с шипением пыхнуло; пелена дыма, качнувшись, нехотя устремилась в трубу — не ослабла тяга за зиму, не сдала печь. Грустно стало до боли. Чего топить… да и зачем он приехал сюда? Говорят, перед смертью люди обходят дорогие им места… Правильно говорят, наверное, есть в том необходимость… А какая? Чтобы вспомнить и осознать? Пройти от истока к устью? Вновь? Отдать дань прожитому перед судом себя самого? Но к чему судиться даже и с самим собой перед обращением в ничто? Или… есть перспективы?
Он как бы осекся на этой мысли. Перспектива. Какая же перспектива у него?
Прогнувшись, скрипнули половицы в сенях.
— Наше почтение! — На пороге, ухватившись натруженными пальцами за выступ притолоки, стоял Константин — местный житель, молодой плечистый парень.
— Привет, — выдавил Ярославцев, отрываясь от мыслей.
— А я гляжу — пропал. — Константин шагнул в избу. — Ну, думаю, завертелся, значит, в делах…
— Дела, дела, — подтвердил Ярославцев механически.
— Ну, думаю, огород вскопаю, посажу там… ну, как в прошлом году — огурчики, помидорчики, понимаешь…
Константин, согласно заключенному с Ярославцевым соглашению, ухаживал за его огородом.
— Спасибо, Костя. Если какие расходы…
— Во! — Костя со скрипом почесал крепкий затылок. — Рассада, то-се, в общем, вышел из бюджета. Поможешь?
— Сколько? — Столь же механически, как и говорил, Ярославцев достал бумажник.
— Ну, замена полиэтилена на теплице, семена… Огурцы, между прочим, отборный сорт! Потом киндза эта, как заказывал… Чего ради только? Она ж вонючая, дух такой, аж…
— Спасибо, Костя. Сколько?
— На стольник за все про все потянет, верняк! — выпалил Костя с торопливой убежденностью.
— Сто рублей. — Ярославцев положил на стол деньги.
— Премного благодарствуем. — Деньги исчезли в Костиной телогрейке. — Да, бензинчик тут есть по дешевке… — Он смущенно закряхтел. — Смотри, я б договорился… А то туда-сюда ездишь как заведенный, а тут вроде за полцены…
— Ворованный?
— А? Ну… естественно, не свой же. Не, ну цены заделали, да? Будто у нас расстояния, как в Монте-Карло каком!
— Не надо, Костя. На бензине не сэкономишь. Мазаться… в канистры переливать… противно. Да и канистр нет.
— Ну… — Костя помялся, подыскивая предмет для дальнейшего разговора. — Это… Я тут с бабой-то своей вспоминал… Помнишь, телик ты привозил с приставкой, кино глядели… Так я того, соображаю: может, подсобишь приобрести?
— Костя. Это дорого. И пленки дорогие.
— Да мне б пару всего… позабористее, понимаешь? Я б… — Костя присел на скамью. — Ты б одолжил мне, а? Ну, не за бесплатно, ясное дело. Я б… в момент… в общем.
— Окупил бы, да? — кивнул Ярославцев. — Мужичков бы собрал, с каждого по десяточке…
— Да если стоящее чего — и по четвертному бы отвалили!
Ярославцев почувствовал запойную какую-то усталость. О чем говорит этот человечек? О чем?! Ведь был же парень как парень. Щедрый, работящий, любящий землю и крестьянское дело. А кто сейчас? Хам, рвач, сволочь в самом естестве. Что по замашкам, что по сути. А кто сделал его таким? Ты, Ярославцев, ты! Платил, не считая денег, Косте за мелкие услуги и за восхищение его перед интеллектом твоим, широтой и возможностями… Да еще и учил его, но не как хозяйство вести, а как дензнаки заколачивать. Бросил после такой науки Костя трактор и, отстроив теплицы, растит не помидоры-огурцы для города, невыгодно, а тюльпанчики для рынка! Корову продал, у соседней бабки молока взять можно, а тюльпанчики куда меньше времени отнимут, чем рогатые да хвостатые. Знай считай барыши… А уж на молочко хватит, чтобы раскошелиться…
— Из бюджета, значит, вышел, — вздохнул Ярославцев.
— Ну да: То-се, баба шубу купила… из норки. Ну, как насчет телика-то?..
— С теликом, Костя, тебя посадят, — ответил Ярославцев. — И выбрось из головы свои… забористые идеи.
— Кхэ, — Костя обиженно крякнул. — Коли отказываешь… другие есть… люди. У лесника у сына тоже имеется… Но дорого просит, черт!
Ярославцев, отдернув занавеску, поглядел в окно. В деревне было тихо, солнечно и как-то по-особенному уютно. И еще: мудро. Раздражал только деловито бормочущий голосок Кости.
— Так что тут с тебя еще пятерочка, — донеслось до Ярославцева.
— Ну, запиши в долг. — Он встал. — Давай. Поехал я. Дом цел, убедился… слава богу. Поливай грядки. Счет оплатим.
— Карбонадику бы… — заскулил Костя. — А? Я б тебе тоже удружил, знаешь меня…
«Вот бы кого с Докукиным свести…» — подумал Ярославцев.
— Самому надо карбонадик сочинять, — отрезал он, с силой вгоняя печные заслонки обратно в пазы. — Подумай, кстати. Хорошее дело. Денежное.
Такой идеей Костя не проникся, сказал: «Чересчур трудоемко», — но дальнейшие его слова Ярославцев уже не воспринимал. Он был захвачен иным: видом этой деревенской улицы, ее вековой тишью и убогой красотой, таившей в себе некую непознанную тайну… Но почему убога она? Почему покосились дома? Почему кривыми жердями отгорожены усадьбы? Отчего смертной тоской вырождения веет? Не так все надо, не так!
И вспомнились предместья Праги и Берлина, Брюсселя и Лондона: просторные коттеджи, где каждый цементный шов в кладке выверен до миллиметра, где за фасадом ощущался простор интерьера; где, наконец, вспоминалось о больших городах как о чем-то весьма непривлекательном… Малые страны? Уклад другой? Культура? И в этом дело. Но главное — в инерции страны-гиганта, в торопливости ее скроить что-то и якобы лишь бы успеть в основных «показателях» — подчас голых до схематизма…
Так размышлял он, подъезжая к городу, немыслимо разросшемуся в одинаковости белых коробок зданий на пустырях. И снова подумал: ну, уеду. Вольюсь в жующее стадо среднего звена… И приветик? Все.
Решение. Оно полыхнуло зарницей, высветив в кромешной тьме безнадежности единственное для него приемлемое.
Из первого же телефона-автомата он позвонил Анне. Сказал:
— Слушай внимательно. То, что я говорил, — бред. Полный бред! Не делай глупостей, поняла? И… прости меня. Тогда я был… сумасшедшим.
Она радовалась, пыталась что-то выяснить, уточнить, но он оборвал поток ее слов и возбужденных эмоций:
— Я спешу. Извини. Звонков в ближайшее время не ожидай. — И повесил трубку на лапку рычага.
Задумался. «Москвич»-фургончик. Началось, продолжается или мерещится? Будем считать — началось. И продолжается.
Он нанес три визита. Три бесполезных, пустых визита к серьезным людям. Выпил пять чашек кофе и поболтал о пустяках. Так было надо.
Вечером заехал в отделение.
— А-а, вы… — поднял тот на него равнодушные, но в глубине чем-то обеспокоенные глаза. — Говорили с Докукиным?
— Пробовал, — сказал Ярославцев. — Он не против… — Замолчал, выжидая, что ответит оперуполномоченный.
Покрутив вокруг да около, оперуполномоченный заявил, что в невиновность Ярославцева верит, с Докукиным более никаких переговоров вести не стоит, вора они найдут и, когда возникнет необходимость, его, Ярославцева, вызовут. Живите спокойно.
Выйдя из отделения, Ярославцев сказал сам себе:
— Кажется, продолжается… А когда началось?
Из материалов инспекции по личному составу…таким образом, показания гр. Докукина на гр. Ярославцева носят характер шантажа в целях получения денег за похищенную неизвестными лицами картину, что не принимается во внимание оперативным уполномоченным Курылевым С. Д., работающим по данному факту квартирной кражи. Курылев С. Д. строго предупрежден о служебной ответственности в случае недобросовестного ведения оперативно-розыскных мероприятий.
Дачу новым ее владельцам передавали вдвоем с колченогим Акимычем. Законный уже хозяин — известный композитор — стеснительно предлагал отобедать, затем, спохватываясь, выспрашивал упущенные подробности относительно эксплуатации отопительной системы и водопровода, после снова возвращался к предложению перекусить в честь, так сказать… Композиторская жена, без колебаний осознавшая вступление в права собственности, вела себя иначе: подчеркнуто отчужденно; обеда не предлагала и к общению не стремилась.
— Достал ты ее ценой, — шепнул Акимыч Матерому.
Тот снисходительно усмехнулся.
Наскоро попрощавшись с покупателями, сели в машину, и вот в последний раз мелькнула за ветвями яблонь знакомая крыша…
— На квартиру-то меня подбросишь? — спросил Акимыч, жавшийся на заднем сиденье к своему скарбу — двум потертым чемоданам и холщовому мешку с одеждой.
Матерый мимолетно обернулся в сторону старика.
— Акимыч… друг! — сказал с чувством. — Есть просьба. Не хочу тебя подставлять… сам еле вроде ушел от ментозавров, чтоб они повымерли. Но кой-чего в городе осталось. На одной квартиренции. Просто жаль терять, Акимыч.
— А квартиренция простреливается? — ожесточенно проскрипел старик.
— Вот не знаю… Телефон у соседа молчит, а почему?.. Вдруг уехал, вдруг запой… Ваней его кличут, соседа. А задача, Акимыч, такая. Дам я тебе ключики, войдешь в квартирку; если Ваню застанешь, скажи: просил тебе Матерый передать: все барахло, что в комнате, в коробках, твое, Ваня, в подарок. А если нет там Вани, а другие люди околачиваются, скажешь: человек на улице за троячок намылил меня вернуть ключи хозяину…
— Как лысого причесывать, не учи, — огрызнулся Акимыч.
— Прости, родной. — Матерый засмеялся. Ему в самом деле было весело и отдохновенно — будто всю предыдущую жизнь выделывал он какую-то затейливую, изматывающую работу, а теперь — конец работе, ну разве часок еще последний остался, а там, дальше, долгий век беспечности, свободы и солнца. — Войдешь в комнатку, — продолжил. — На подоконнике — кактус. А возле кактуса — леечка. Маленькая, пластмассовая… Худая — по шву разошлась. Моя фирма делала, — цокнул языком, припомнив. — Возьмешь ты леечку, бросишь ее в пакетик, а после поблуждаешь по городу, отрываясь от возможного…
— Камушки в леечке? — спросил старик. — В пластмассу заварил? Ясно… Боюсь: стар я стал…
— Акимыч… Сделай, родной. Я бы тебе леечку на сохранение оставил, но чего уж — давай откровенно: не двадцать тебе годиков… А я в этот город теперь ни ногой. На риск, думаешь, толкаю? Есть такой момент, да. Но так он всегда есть — вон на машинке сейчас катим, а колесико вдруг да отскочи…
— Тьфу, дьявол, типун тебе… — заерзал старик. — Ну, а коли засыплюсь? — спросил осторожно.
— Да тебе-то что? — отмахнулся Матерый. — Криминала на тебе никакого. И, по-моему, — посерьезнел он, — чисто там. Вчера проезжал — чисто. Знак на подъезде в случае провала должен быть: меловая черта. Ан нет черты.
— Э-э, где наша не пропадала! — согласился Акимыч. — Только домой сначала давай, барахло сброшу.
Матерый кивнул, насвистывая разухабистый мотивчик.
Через три часа на условленном месте Акимыч вручил ему заветную леечку.
— Квартира пустая, — доложился старик. — Ну, взял вот… А после по городу… до седьмого пота петлял, аки лис от гончей стаи. Но вроде от страху петлял, не от нужды.
— Спасибо, Акимыч. — Матерый стиснул его плечо. — Не поминай лихом. Будет судьба — свидимся.
— Да уж… простились, Лешка! — Старик толкнул дверь машины. — Чего там… Осторожно езжай только, спеши в меру… Далеко ведь собрался, знаю…
Матерый проводил его взглядом — старого, хромого, такого одинокого в оживленно спешащей, обтекающей его толпе…
Прощай, непутевое детство… Прощай, Акимыч!
А теперь уходи прочь, пролетай за стеклом город-капкан, город страха и тягостных будней, город-кошмар — да, ты вернешься еще во снах и не раз заставишь вскочить среди ночи с постели с испуганно бьющимся, как птица а силках, сердцем…
На выезде из города у поста ГАИ стояло пять машин — шла какая-то проверка. Двое инспекторов на обочине пристально высматривали в потоке машин одним им только ведомые цели.
Пронесет? Нет… Лейтенант указал жезлом — принять вправо! Матерый стиснул зубы. Город, город, ты не хочешь выпустить меня, ты издеваешься надо мной, выкручивая последние нервы… Отстегнул ремень безопасности, сунув палец под куртку, привычным движением спустил предохранитель с парабеллума. Некстати вспомнился перевод названия пистолета: «готовься к войне».
— Ваши документы… — козырнул лейтенант. Принял водительское удостоверение и техпаспорт, бегло просмотрел их. Вернул. — Идите на пост, отметьтесь, — буркнул, отворачиваясь.
— Зачем? Не ночь же…
— Идите на пост, отметьтесь, — раздраженно повторил инспектор. — Ночь, день… какая разница? — И вновь отвел в сторону жезл, останавливая теперь уже «Волгу».
Ну, гады! Матерый прошел в стеклянный куб помещения, осмотрелся — коротко и чутко: двое, очевидно водители, стояли за спиной капитана, сидевшего возле пульта и переписывающего их данные из документов в журнал. Трое сержантов толклись посередине, обсуждая со смешками и прибаутками какой-то эпизод из служебной практики. Еще один — пожилой, в штатском, но по всему чувствовалось — не гаишник, опер — битый, опытный, — сидел на стуле в углу, листая невнимательно брошюрку.
Больно, невыносимо больно кольнуло в груди… Что-то горячее медленно обволокло сердце, прошибло потом… Но не это занимало Матерого, другое: в том, к а к стояли и сидели здесь люди, в том, к а к беседовали, возились с бумажками, открыл он голую, беспощадную с х е м у.
— Вы тоже с документами? Давайте… — едва обернувшись в его сторону, произнес капитан, оторвавшись от журнала.
Вот пальцы капитана, вот касается их серая книжечка техпаспорта, а вот его, Матерого, кисть, а к ней стремительно приближается ловко выпорхнувшая из рукава одного из «водителей» клешня наручника…
Он видел все происходящее в каком-то замедленном, ватном темпе, и точно так же неторопливо и густо окутывала сердце жгучая, скручивающаяся волна…
А после время сделало скачок и словно пустилось в галоп.
Щелк — наручник плотно охватил запястье. Милиционеры разом бросились на Матерого сзади, «водители» повисли на руках…
— Черта с два… — прохрипел он, наливая все мышцы не силой, уходящей уже, сломленной, — ненавистью.
Обвиснув на «водителях», ударил ногами сержантов, целя каблуками в переносицы. Двое рухнули. Капитан за столом выхватил пистолет из кобуры, потянул затвор, но капитан Матерого не пугал: пока еще успеет пальнуть… Локтями отбился от сержантов, настырно устремленных к нему, не то угрожавших, не то увещевавших… Или увещевал тот, пожилой, главный? Мир потерял все звуки. Матерый бил — беспощадно и точно; бил этих коварных врагов, а они цеплялись и цеплялись, а ненависть уходила и уходила, лишая его шансов, а в груди уже была какая-то холодная, погасшая пустота, будто вырвали оттуда все начисто, и теперь ничего, кроме пустоты, там не существовало.
И вдруг в сумятице лиц, рук, милицейских погон он отчетливо, как в фокусе, различил лицо пожилого — жесткое, неумолимое. Он, пожилой, наверняка и рассчитал, как его, Матерого, брать — чтобы все чисто произошло, без зазоринки; он — главный волкодав. И, последним усилием сбросив с себя тяжкую, пригибающую к полу массу, он перекатился к стене и, изловчившись, выхватил парабеллум.
Мир окончательно сузился. Ныне в нем было лишь напряженное лицо главного врага, мушка и… неуловимо дрогнувший от выстрела ствол оружия. И мысли: вот вам — хитрые, организованные овчарки, идущие по следу, истребляющие меня — санитара этого стада, выгоняющие неизменно на флажки закона, не дающего ни двигаться, ни дышать, ни жить… Мне! Да, пусть только мне, но я тоже целый мир, тоже! И стреляю сейчас в ваш мир — всегда меня изгонявший и не приемлющий мой…
А после ничего не стало.
Из рапортовУспешное наблюдение за лицом, навестившим квартиру Лямзина И. З., позволило вновь выйти на Монина А. М., пытавшегося скрыться из города. При задержании Монин А. М. оказал вооруженное сопротивление. Начальник оперативно-розыскной бригады Лузгин И. М. убит, двое оперативных уполномоченных госпитализированы с тяжкими телесными повреждениями. Монин А. М. скончался на месте задержания. Смерть, по заключению судебно-медицинской экспертизы, произошла от обширного инфаркта миокарда.
…установлено: гр. Ярославцев В. И. по паспорту представителя инофирмы Д. Солборна приобрел авиабилет по маршруту Москва — Лондон. Знакомство Д. Солборна с Ярославцевым В. И. произошло вне СССР, когда Ярославцев В. И. находился в длительной служебной командировке за рубежом. Наличие документов у Д. Солборна позволяет предположить использование Ярославцевым В. И. паспорта-дубликата, изготовленного гр. Прогоновым В. В.
Задержание гр. Ярославцева В. И. в настоящее время считаю нецелесообразным, т. к., во-первых, объекту перспективно предоставить возможности сбора материальных ценностей, а во-вторых, контролируемое пересечение Государственной границы СССР, что позволяет дополнительное применение к нему ст. 64 УК РСФСР.
Из магнитофонной записи допроса Прогонова В. В.— Виктор Вольдемаревич, вам предъявляются бланки обнаруженных у гражданина Монина паспортов, водительских документов, фальшивых печатей…
— Любопытно, но никакого отношения к данным предметам…
— Каковы ваши отношения с Мониным?
— Ну… просил несколько раз за бутылку-другую расчистить не представляющие художественного интереса иконки… На чай заходил, побеседовать об искусстве…
— Знакомо ли вам понятие: измена Родине?
— Никогда…
— Значит, вы добросовестно заблуждаетесь. Возьму на себя труд повысить ваш уровень правовых знаний. Так вот. Недавно некто Ярославцев принес вам заграничный, в полном смысле этого слова, паспорт…
— Какой еще…
— Вы уж не перебивайте. Итак. Вами был изготовлен дубликат. И вы… стали соучастником государственного преступления. Суть преступления — именно что побег за границу в целях избежания наказания за преступления иные… Контрабандой Ярославцев не занят, любимой девушки или же родственников в странах с иной общественной системой не имеет…
— Хм. Такую, с позволения сказать, лекцию я мог бы прочесть и вам. Увы, ни одного юридического открытия.
— Ярославцев еще в стране, под нашим плотным контролем. Авиабилет Москва — Лондон им уже заказан. Посему… вам имеет полный смысл повиниться…
— Очень хорошее слово! Но… представим теперь идеальный, хотя и отвлеченный, вариант: я оказываю — причем добровольно! — как жертва шантажа этого ужасного государственного преступника — помощь следствию… Более того! Никакие причины в дальнейшем не побудят меня к совершению аналоги…
— Виктор Вольдемарович, вы чересчур многого хотите. Нет. С паспортом разберемся подобру-поздорову, обещаю, за остальное придется пострадать. Ярославцев же покрывать вас не станет, не надейтесь. Да и мы ему не позволим, вы же понимаете… Затем, кто вы для него? Так, эпизод. Вы для Матерого — клад сокровищ, учитывая специфику его откровенно бандитского статуса.. Кстати, с подоконника следы стерли?
— Паспорт… было! Очень нехорошо, понимаю… Э-э… у меня просьба… Звонок любимой женщине, чтобы присмотрела за пингвином. Родное существо.
— Существо придется сдать в зоопарк. По крайней мере, до окончания следствия.
— Не надо столь лукаво обнадеживать… Следствия… До окончания сроков!
— Сожалею, Виктор Вольдемарович, принес вам несчастье. Такая работа.
Из оперативной информации…докладываю: Ярославцев не выходит из квартиры уже третьи сутки. На телефонные звонки его супруга отвечает, что у мужа приступ повышенного давления, он отдыхает и в переговоры вступать не намерен.
…группе захвата следовать в аэропорт Шереметьево-2. Согласно операции обеспечить Ярославцеву свободное прохождение таможенного и паспортного контроля. Учитывать все вероятные контакты Ярославцева в аэропорту. Арест произвести на подходе объекта к трапу самолета.
…докладываю: из дома объект по-прежнему не выходит…
…докладываю: на посадку в самолет объект не явился. Все улетевшие пассажиры проверены с особой тщательностью.
Из рапортаСогласно показаниям супруги Ярославцева В. И., за два дня до его отлета в Лондон, о котором она не знала, муж сообщил ей, что ночью он должен отбыть в командировку в Сибирь. Всем, кто будет звонить, просил отвечать, будто у него приступ повышенного давления, мотивируя просьбу такого рода служебными интригами с начальством. Предполагается, что вышел из дома Ярославцев в гриме, введя в заблуждение группу наблюдения. Справочные данные Аэрофлота подтверждают: Ярославцев вылетел в Красноярск, где остановился у своего товарища, с кем ранее учился в институте. Цель своей поездки Ярославцев объяснил необходимостью посещения некоторых местных предприятий. Затем через день сообщил, что свои задачи он выполнил и предлагает на выходные дни сходить компанией в тайгу, в поход, на берег притока Енисея. Так как по притоку идет молевый сплав, Ярославцев предложил вспомнить бытовавшую ранее в компании традицию, проследовав на самодельном плоту к месту впадения притока в Енисей.
При следовании по реке на одном из порогов произошел крен плота, и Ярославцев очутился в воде. По показаниям свидетелей, его скрыли следовавшие за плотом бревна. Внезапность происшедшего, а также высокая скорость плота сказались на невозможности оказания помощи Ярославцеву.
Районной прокуратурой возбуждено уголовное дело, однако, по утверждению следователя, обнаружения трупа может не состояться, если тело прибьет в отстойники с многометровой толщей древесины на поверхности воды.
В чемодане Ярославцева, изъятого из квартиры его знакомого, у которого он останавливался, обнаружен авиабилет Москва — Лондон, паспорт на имя Д. Солборна и крупная сумма советских денег и иностранной валюты.
Целесообразно объявить Ярославцева В. И. в розыск, так как последние его действия, полагаю, предназначались для введения оперативно-следственной бригады в заблуждение, что в итоге позволило Ярославцеву В. И. скрыться.
Из телефонограммыОбъявление гр. Ярославцева В. И. в розыск считаю нецелесообразным, что подтверждается обнаруженными ценностями, объективностью свидетельских показаний об утонутии[1] и отсутствии новых оперативных данных. Версия о введении оперативно-следственной бригады в заблуждение неоправданна, поскольку степень риска в последних зафиксированных действиях Ярославцева В. И. крайне велика и расценка их, как заведомых контрмер, нереальна.
Из оперативной информации…В трех километрах от места впадения притока в Енисей обнаружен труп неизвестного мужчины. Причина смерти — утопление. Выяснить личность не удалось. Установлено: труп по своим признакам не совпадает с имеющимися приметами и медицинскими данными на Ярославцева В. И.
…докладываем: тело сильно пострадало от долгого нахождения в воде. Похороны возможны только в закрытом гробу.
Из телефонограммы…доставленный труп неизвестного лица захоронить в обозначенном месте с одновременным разъяснением ситуации сторожу кладбища, чья кандидатура на проведение долгосрочной операции согласована. Исходя из анализа личностных качеств Ярославцева В. И. в случае его жизнедеятельности в настоящее время, посещение им кладбища вероятно.
…Он вошел в купе, забросил чемоданчик наверх, а после отправился покурить в тамбур. Поезд тронулся — неслышно и плавно. По вагону проводница разносила чай, приглушенно играла музыка в динамиках, неслась в оконцах синяя темнота подступавшей ночи, редко прорезанная огнями. Дела он сделал, поездка оказалась выработанной, удачной, им будут довольны.
Задумался о предстоящих хлопотах: холодильник надо, что ли, купить; но хороший — дорого, а потом достань…
Исподволь вспомнил могильный обелиск. Чего-то в нем не хватало… Эпитафии, может быть? А какой? Какой именно?
— Кто ответит? — пробормотал он, отгоняя от себя пустое, ненужное раздумье.
Кто ответит?
1986—1987
Борис Руденко
ДО ВЕСНЫ ЕЩЕ ДАЛЕКО…
— Вот твой стол, — Костин звучно хлопнул ладонью по блестящей поверхности. — Бумагу и всякие принадлежности возьмешь в канцелярии. Знаешь, где канцелярия?
— Нет! — решительно сказал Сокольников. Тоном своим он намеревался показать готовность самостоятельно и немедленно решить любую проблему, но Костин этого не оценил.
— Викторов тебе покажет, — проговорил он, выходя из кабинета. — Со всеми вопросами к нему. Он твой начальник.
Старший группы, Александр Семенович Викторов, в данный момент говорил по телефону. Услышав свое имя, рассеянно кивнул, так и не поняв, кажется, о чем идет речь.
Вот таким образом у Сокольникова начинался первый рабочий день. Вообще он начался чуть раньше — в кабинете начальника отдела БХСС Чанышева. Туда собрались на утреннюю пятиминутку все сотрудники, и Чанышев — молодой, но уже изрядно располневший человек с малоподвижным лицом — сказал:
— Это наш новый коллега. Олег Алексеевич Сокольников. Будет работать в группе Викторова.
Сокольников догадался, что нужно встать, когда разговор пошел уже совсем на другую тему — о каких-то заявлениях и сроках, которые никак нельзя нарушать. Он постоял еще немного и сел, багровый от своей неловкости. Никто вокруг, правда, этого не заметил, все были заняты другим. Чанышев листал большую тетрадь и называл по очереди фамилии своих подчиненных. Те отвечали, объясняли что-то, а Чанышев крестообразными движениями карандаша делал в тетради пометки. Как видно, тетрадь эта в жизни отдела значила не так уж мало.
Едва Сокольников пришел к этой мысли, как круговой опрос закончился. Все разом встали и пошли из кабинета, и тут Сокольников спохватился, что, собственно, не знает, куда идти. Кто такой Викторов, он просто не запомнил. Сделал несколько растерянных шагов по опустевшему коридору. Стало жарко. Неудачно получалось.
Из кабинета вышел Костин — заместитель начальника. Только его, кроме Чанышева, Сокольников тут и знал. Костин хмыкнул добродушно: «Пойдем покажу твой кабинет», — и Сокольников поплелся, страшно переживая собственную бестолковость.
На самом деле он не был ни бестолков, ни излишне застенчив. Но ощущать свою принадлежность к романтическому, таинственному миру сыщиков было слишком необычно. Требовалось время, чтобы привыкнуть и осознать свое место в нем.
…А Викторов все говорил по телефону. Собственно, он больше слушал, отвечая коротко, так, что понять, о чем идет речь, было совершенно невозможно. Видно, собеседник попался из болтливых.
Чтобы не сидеть истуканом за пустым столом, Сокольников попытался найти себе занятие. Открыл дверцу тумбы и выдвинул все ящики. Там было пусто, дно ящиков аккуратно застилали чистые листы бумаги. Викторов все вел свой непонятный разговор. Тогда Сокольников задвинул ящики и снова выдвинул, уже в обратном порядке.
— Ты чего ящиками гремишь? — спросил Викторов, положив трубку. — Ты извини, что я сразу убежал после пятиминутки: очень ждал звонка, боялся, что не застанут меня.
— Ничего, — с жаром сказал Сокольников, — я понимаю!
— Раз понимаешь, значит, хорошо.
Викторов внимательно поглядел на него и улыбнулся одними глазами. Было ему года тридцать два. Симпатичное смуглое лицо привлекало не столько правильностью черт, сколько совершеннейшей невозмутимостью. Наверное, с таким выражением Викторов однажды появился на свет и даже не закричал. Да и теперь казалось невозможным, чтобы он повысил голос или начал ругаться. В разговоре Викторов пришепетывал. Не сильно, а так, немного совсем, воспринималось это не как дефект речи, а словно некая особенность, не лишенная приятности.
— Александр Семенович, а где канцелярия? — спросил Сокольников.
Викторов задумчиво провел рукой по курчавым волосам.
— Давай-ка, брат, на «ты» переходить. Меня Саша зовут. А канцелярия на втором этаже. Одиннадцатая комната.
В канцелярии за деревянным барьером сидела молодая женщина.
— Тоня, это наш новый сотрудник, — сказал Викторов, — выдай ему письменные принадлежности. Пожалуйста.
Тоня мгновенно поджала губы и на Сокольникова даже не взглянула. Новые сотрудники ее не интересовали. Сокольников воспринял этот факт с некоторой обидой, но тут же злорадно подумал: «Да ведь и ты, матушка, мне до лампочки». Тоня была некрасивая, с маленькими глазками на толстом лице, и одевалась к тому же как-то странно. Все на ней было широко, ярко, красно, зелено и даже в голубой ударяло. У Сокольникова зарябило в глазах.
— Бумаги много не дам.
Тоня шваркнула на барьер тоненькую стопочку, несколько карандашей, линейку и ластик. Подумав, добавила еще и авторучку. После этого она ушла в угол комнаты и спряталась за сейф. Оказывается, там у нее специально был поставлен стол. Но все равно яркая раскраска ее выдавала, всякий вошедший в канцелярию мог ее тут же заметить.
Вернулись, у кабинета их ждали. Высокий представительный старик в сверхстаромодном костюме не спеша расхаживал по коридору.
— Здравствуйте, Александр Семенович, — степенно поздоровался он, и Викторов ответил в тон:
— Здравствуйте, Марк Викентьевич.
Разница в возрасте у них была изрядная, но Сокольников видел, что два этих человека знакомы давно и относятся друг к другу очень уважительно. Сокольникову захотелось, чтобы Виктор представил его старику. Тогда бы он, Сокольников, сдержанно наклонил бы голову и негромко произнес: «Оперуполномоченный Сокольников»… или лучше просто: «Сокольников», вступив тем самым на равных в деловой разговор серьезных людей. Но Викторов представлять Сокольникова не торопился, провел старика к своему столу и усадил в кресло напротив. Они негромко заговорили, не таились, но смысл все равно был непонятен. Сокольников делал вид, будто разговор его не интересует, но, конечно, прислушивался. Беседа действительно шла о бухгалтерских документах.
Потом зазвонил внутренний телефон, и Викторов пошел к начальнику, оставив старика и Сокольникова вдвоем. Сидели молча, и если старику было все равно, с кем и сколько молчать, то Сокольников вновь почувствовал себя неловко. Он принялся за ящики, но сразу же перестал, показалось, что уловил усмешливый взгляд старика.
«Черт знает что! — напряженно думал Сокольников. — Совершенно неправильно ставить своего товарища по работе в дурацкое положение. Сиди тут как истукан! Разве о погоде поговорить?..»
Но тут вернулся Викторов и с порога сказал:
— Одевайся, Олег, сейчас едем.
Этого момента Сокольников ждал с самого начала. Даже не с сегодняшнего дня, а гораздо раньше — едва только переступил порог управления кадров. Шутка ли — первый выезд на дело! Странное чувство охватило его, какая-то смесь гордости, робости и восторга. Он отправлялся на выезд, как самый настоящий герой детективных романов.
— Значит, мы едем на завод «Стройдеталь», — объяснял Викторов. — Снимем остатки и изымем документацию за последние три года.
— Ясно. — Сокольников кивнул как профессионал профессионалу, но не удержался и спросил: — А зачем?
Прежде чем ответить, Викторов посмотрел на старика, потом на Сокольникова и легонько подмигнул. Впрочем, может, Сокольникову это просто показалось, а то бы он очень обиделся.
— Чтобы жуликов поймать, — сказал Викторов.
Стоял мартовский день, пропитанный солнцем и холодом. С карнизов и крыш уже вовсю капало, но горожане не торопились расставаться с зимней одеждой.
На завод они добирались не на оперативной машине с сиреной, как рассчитывал Сокольников, а на трамвае номер тридцать девять. Потом еще долго шли по раскисшему снегу, перебирались через железнодорожные пути, усыпанные вкусно пахнущей щепой и обрывками коры, пока не очутились перед воротами в длинном голубом заборе. Рядом была маленькая дверь в проходную. Туда и вошли.
За окошечком обозначилось строгое лицо сторожа.
— Кто, куда, зачем? — без особого интереса осведомился он.
— Из милиции, — ответил Викторов, и Сокольникова это немного покоробило.
Лучше бы Викторов сказал: «Из ОБХСС»… И вообще, как жаль, что нельзя пройти молча, значительно и с роковым оттенком.
Сторож взял из рук Викторова удостоверение и поднес к очкам. Сокольников вдруг обратил внимание, какие у него странные очки. Толстенные линзы чуть не на сантиметр выступали из оправы. Глаза сторожа сквозь них казались совсем маленькими, словно перевернутый бинокль. Удивительно было, как он вообще с таким плохим зрением мог что-либо разобрать. Читал он долго, сделался еще неприступнее.
— К кому идете? — сурово поинтересовался он.
Тут бы его и одернуть, но Викторов мирно ответил, что к директору, и не спеша пошел дальше, а Сокольников, когда прикрывал за собой дверь, заметил, что сторож резво накручивает телефонный диск.
— Предупреждает… — Сокольников тронул начальника за плечо.
Но странно. Викторов почему-то улыбнулся.
Дирекция размещалась неподалеку от проходной, в древней деревянной халупе. Впрочем, изнутри она выглядела несравненно более пристойной, а кабинет директора, отделанный панелями под красное дерево и обставленный мягкой мебелью, вообще мог при желании сойти за министерский.
Хозяина кабинета звали Шафоротов В. И. — так значилось на табличке. Непонятно, зачем Шафоротов В. И. носил на верхней губе короткие усики щеточкой, какие обычно надевал Аркадий Райкин, изображая дремучих бюрократов. Уже только из-за этих усов Сокольников не мог испытывать к Шафоротову никаких теплых чувств. К тому же сейчас Шафоротов сидел в своем директорском кресле страшно бледный, с трясущимися руками. Сокольников даже был разочарован. Он ожидал трудной борьбы, словесного поединка, а Шафоротова можно было брать уже сейчас и вести в тюрьму, стенографируя по пути чистосердечное признание и раскаяние. Но самым удивительным было то, что Викторов, казалось, совершенно не чувствовал этого удобного момента. Не спеша сел за стол, долго расстегивал пуговицы на куртке, снял шапку и лишь после этого спокойно сказал:
— Мы у вас должны провести проверку.
— Проверку? Так! — судорожно повторил Шафоротов, а трясущаяся рука его схватила крышечку от чернильного прибора. Неясно, к чему здесь был этот прибор: рядом в стаканчике торчали штук шесть отличных шариковых авторучек. Прибор же стоял сухой, но красивый.
— Сделаем инвентаризацию лесоматериалов, — неторопливо говорил Викторов.
— Так! — отрывисто повторил директор и добавил, судорожно сглотнув слюну: — Пожалуйста!
— …ну и бухгалтерию нужно будет свести. Сравнить книжный остаток с фактическим.
— Хорошо! Так… Пожалуйста!
Без стука распахнулась дверь, и в кабинет уверенно, как к себе, вошел человек лет пятидесяти.
— Здравствуйте. Чем обязаны? — спросил он, окидывая всех быстрым и внимательным взглядом.
— Эдуард, это милиция, — сказал Шафоротов и снова сглотнул.
— Простите, а вы кто? — спросил Викторов, но смысл был таков: «А чего, собственно, вы вмешиваетесь?»
— Я — главный инженер, Зелинский. Из милиции? И с чем связан ваш визит, если не секрет?
Зелинский был совершенно спокоен, и Сокольников догадался, кому звонил сторож. Рядом с махровым бюрократом Шафоротовым Зелинский смотрелся очень выигрышно. Густая седая шевелюра, породистое, крупное лицо: профессор консерватории, да и только. Одет был весьма скромно: темный костюм, джемпер. Только на запястье высверкивали иностранные часы на широком металлическом браслете.
— …Будем проводить у вас инвентаризацию, — терпеливо объяснил Викторов.
— Инвентаризацию? — Зелинский красиво вскинул брови. — А на каком основании?
— Эдуард, перестань, — промямлил Шафоротов.
Он уже не трясся, а как-то обмяк и растекся по своему шикарному креслу.
— Подождите, Владимир Иванович, — резко и жестко одернул его Зелинский, словно это он был директором, а не Шафоротов. — У вас что, постановление прокурора?
Викторов сидел молча, но всем своим видом показал, что не склонен отвечать на всякие пустяковые вопросы. Впрочем, Зелинский не стал настаивать.
— А почему именно к нам? — зашел он с другого бока. — Почему, к примеру, не в магазин напротив?
— Магазинами у нас другие занимаются, — сказал Викторов. — Может, не будем тратить времени?
— Позвольте! — Зелинский насмешливо склонил голову набок. — Но ведь именно теперь мы будем тратить все свое рабочее время… На вас. Могу я хотя бы узнать причину?
— Можете, — согласился Викторов. — Вот закончим проверку, и все узнаете. А теперь составим комиссию. От нас в нее войдет товарищ Глан Марк Викентьевич — очень опытный специалист. А от вас нужен представитель руководства и двое понятых. Тем временем пусть главбух начнет выводить книжный остаток. Возражений нет?
Сокольникову очень хотелось поговорить с Викторовым, обменяться впечатлениями, но до самого вечера так и не случилось побыть наедине. Весь остаток дня он ходил с комиссией по пахнувшему свежей древесиной лесоскладу и считал кругляк, брус, тес и прочие материалы. Это было неинтересно, ужасно скучно. Вначале он старался быть начеку, чтобы Зелинский, который вошел в состав комиссии, их не обманул. Однако весьма скоро он убедился, что с его знаниями в этом деле остаться обведенным вокруг пальца несложно. Зато обмануть опытного Марка Викентьевича было совершенно невозможно. Поэтому Сокольников просто переходил вместе со всеми от штабеля к штабелю, заботясь лишь о том, чтобы удержать на лице выражение деловитости и понимания. Со временем, впрочем, и это стало удаваться с трудом: Сокольников совсем замерз, лицо потеряло подвижность, к тому же из носа начало течь.
Только и прервались — на обед.
Когда закончили, стало совсем темно. Распрощавшись, Марк Викентьевич пошел к метро, а Сокольников с Викторовым поехали на трамвае — им оказалось по пути. Только тут и удалось перемолвиться словом.
— Саша, ты заметил, как директор перепугался?
Викторов кивнул довольно равнодушно, чем Сокольникова несколько удивил.
— Но как же, — растерянно сказал он, — совершенно же ясно, что у него совесть не чиста.
— Еще бы, — согласился Викторов, — с чего же совести быть чистой, если ворует.
— Так, может быть… — Сокольников постеснялся высказать свою мысль до конца.
— Хватать его надо было, верно? — подсказал Викторов.
— Ну, не хватать, а… поговорить, что ли… Он ведь мог признаться.
Викторов отрицательно помотал головой:
— Нет. Не признался бы. Он трус, конечно, изрядный, но не дурак. Да и Зелинский не дал бы. Но даже если бы и признался — что толку? На одном признании в наших делах далеко не уедешь. Сегодня признался, завтра отказался. Слова словами. Доказывать надо. Документально. Сначала установим, на какую сумму недостача, а дальше видно будет.
Все это говорил Викторов очень спокойно, отстраненно даже, будто он не оперативный сотрудник, а счетовод. У Сокольникова такое отношение вызывало активный протест, но он помалкивал, пасуя перед старшинством и опытностью Викторова и в общем-то подсознательно признавая его правоту. Но все равно было обидно. Совсем не так он представлял себе борьбу с расхитителями.
Дома, конечно, своего разочарования он показывать не стал. От расспросов матери отделался односложными ответами и многозначительным отмалчиванием. Поужинал и лег спать — с непривычки усталость навалилась. Все же целый день на воздухе да на ногах!
На следующий день опять считали лес, теперь на другом дворе. А потом Сокольников под присмотром Викторова изымал в бухгалтерии документы — толстые переплетенные тома отчетности за три года. По правилам, нужно было нумеровать все страницы — просто адская работа. Хорошо еще, что Викторов привел с собой общественника — народного дружинника с соседнего предприятия, очень старательного очкастого инженера, добросовестно зарабатывавшего отгул. Сокольников с инженером нумеровали страницы и записывали тома в протокол, как научил Викторов.
В бухгалтерии завода под началом главбуха работали еще трое. Одна девушка — серенькая, как мышка, совсем незаметная, — Сокольников даже не запомнил, как ее зовут. Зато другая — Света, настоящая красавица, длинноногая и стройная, — попала в бухгалтерию явно по ошибке. Настоящее ее место было конечно же где-нибудь перед кинокамерой. Света сама это хорошо понимала, поэтому общалась с окружающими лишь в случае крайней необходимости и весьма снисходительно. Сокольникова она совсем не замечала, и оттого он чувствовал невольную симпатию к третьему работнику бухгалтерии — некрасивому парню по имени Сева. Этот Сева был человеком добродушным и общительным, часто улыбался, и лицо его с близко посаженными глазами, тонким ртом и огромным носом скоро стало казаться Сокольникову даже не лишенным приятности. Тем более что сам Сева, судя по всему, комплексами по поводу своей внешности не страдал.
Он тут же сообщил, что окончил финансовый институт и работает на заводе второй год по распределению. В ответ Сокольников незаметно для себя тоже разговорился. Рассказал, что и он — недавний студент, тоже работал в КБ по распределению, а в ОБХСС попал по направлению комсомола. Сева стал допытываться, интересная ли у Сокольникова работа. Тому неудобно было признаваться, что трудится всего третий день. Приходилось отвечать сдержанно, напускать больше туману, — в общем, Сева скоро с уважением отступился.
Совершенно не был похож на расхитителя и главбух — худощавый, жизнерадостный и лысый. Он с веселым шуршанием перекладывал с места на место свои бумажки, порхал пальцами по клавиатуре счетной машинки, а говорил в основном о рыбалке. К тому же Сокольников скоро узнал от Севы, что главбух на заводе работал всего три месяца и вряд ли успел сделаться членом преступной шайки.
С Викторовым они виделись редко. Тот ходил где-то по заводу, приносил новые вороха документов, с кем-то разговаривал и лишь изредка появлялся в бухгалтерии, чтобы подсказать, что должен делать Сокольников и в какой последовательности. И все, что происходило в эти дни, было обыденным и скучным. Если бы Сокольникову вдруг сказали: иди получи зарплату, он, наверное, пошел бы в заводскую кассу потому, что за эти несколько дней привык ощущать себя работником бухгалтерии, в которой проводил весь рабочий день. Он все реже представлял себе сцену ареста с поличным, картину допросов, после которых матерые хищники раскаиваются и просят последнего свидания с мамой. Наверное, всего этого и в природе не было. Тянулась какая-то серая рутина. У Сокольникова даже к Зелинскому стало меняться отношение. Тот довольно часто забегал в бухгалтерию за разными справками, пошучивал с бухгалтером, Севой, Светой и самим Сокольниковым — причем все пристойно, без насмешечек и панибратства. Вполне нормальный дядька. Чем дальше, тем больше ощущал себя Сокольников истуканом, который ни с того ни с сего торчит здесь, мешая людям работать. Это было очень неприятно.
Тут пришел Викторов, сказал:
— Олег, пойдем изымем сторожевую книгу.
Сторож с линзами-очками как раз выпускал с территории машину, груженную досками. Он взял у водителя накладную и поднес вплотную к своим очкам. Подержал немного, вернул и пошел открывать ворота.
— Совсем ничего не видит, — сочувственно сказал Сокольников.
— В том-то и дело, — откликнулся Викторов, имея в виду еще что-то.
Фамилия сторожа была Скоробогатов. Когда Викторов попросил отдать книгу, лицо Скоробогатова сделалось гневным и обиженным.
— Без указания не могу, — заявил он.
— Есть, есть указания, — подтвердил Викторов, — директор лично распорядился.
— Я ничего не знаю.
— Ну, позвоните ему. — Викторов устал и не хотел препираться.
Сторож решительно снял телефонную трубку и внезапно согласился:
— Забирайте. Пожалуйста.
Викторов полистал толстую замусоленную тетрадь.
— Вы сюда все машины записываете?
Некоторое время сторож оскорбленно молчал. Казалось, вопрос так возмутил его, что он и речь потерял.
— А как же иначе? — сказал он наконец. — Как бы вы хотели?
— А груз проверяете?
Прошла, наверное, целая минута, пока Скоробогатов ответил:
— А вы как думаете?
Сегодня Сокольникова не задевал его тон. Сторож изо всех сил старался рассердиться, показать свое презрение, но получалось это у него неловко, даже смешно, как всегда бывает у робких, неуверенных в себе людей. Он пытался придумать слова пообиднее, поязвительнее, да выходило все невпопад. Сторож понимал это и волновался все больше.
— У вас какая группа? — тихо спросил Викторов.
— А это… к делу не относится. Вторая группа у меня. Вам это знать ни к чему! — нервно и отрывисто говорил Скоробогатов.
— Да я просто так спросил. Скажите, не может быть такого, чтобы в накладной было записано одно, а вывезли другое?
— Что другое-то? Компот с вареньем? Я все контролирую. Не может быть! Исключено. Есть еще вопросы?
— Нет, вопросов пока нет. Спасибо вам. — Викторов передал книгу Сокольникову. — Пойдем, Олег.
— Вторая группа инвалидности, — в сердцах сказал Викторов на улице. — Они его специально по всему городу искали, это точно. Какое там варенье — слона вывезти можно, если только под фанеру покрасить!
Оказалось, что главбух наконец закончил свой отчет. Оказалось также, что пиломатериалов и всяческого леса на заводе в наличии было на сорок шесть тысяч рублей меньше, чем по бумагам. Главбуха все это не очень беспокоило — спроса с него нет, но для вида он немного посокрушался, поахал, почмокал губами.
Пришел Зелинский, проглядел отчет и авторитетно заявил:
— Это ошибка. Быть такого не может.
Викторов равнодушно пожал плечами. Зелинский так же уверенно продолжал:
— Я вам скажу, в чем тут ошибка. Во-первых, мы считали очень приблизительно. Я просто не хотел спорить, когда ваш специалист таксировал штабели. Во-первых, в незавершенном производстве наверняка произошла путаница с расценками. Это, к сожалению, дело обычное — мы каждый квартал по десятку новых видов продукции выдаем. У нас такие объемы, знаете ли… Непосвященным трудно.
Он даже, кажется, сочувствовал Викторову и Сокольникову.
— Мы посмотрим, — только и сказал Викторов, засовывая бухгалтерский отчет в свою папку.
Сегодня Сокольников впервые в жизни ехал на настоящей оперативной машине с сиреной и рацией. Машину вызвали, чтобы перевезти изъятые документы: в руках такую кучу унести было невозможно. Водителя машины — крепкого, коренастого, уже в возрасте — все называли просто: Гена. Гена водил с показной лихостью — входил в повороты, почти не снижая скорости, резко тормозил и заставлял двигатель реветь при переключении передач. Весь колесный транспорт делился для него на «чайников» — так он называл владельцев личных автомашин — и «таксеров». В первую группу, впрочем, он иногда заносил и грузовые автомобили. И те и другие, по его убеждению, ездить не умели и только мешали нормальному уличному движению. Пешеходов он вообще не признавал, для них в его лексиконе обозначения не было. Однако, как скоро убедился Сокольников, покидая свое рабочее место, Гена становился нормальным человеком.
Когда все книги перетащили, кабинет стал похож на изрядно запущенный архив. На подоконнике, на сейфах, на телефонном столике и шкафу для одежды лежали тома.
— Ну вот, — удовлетворенно оглядел кабинет Викторов. — Теперь давай подумаем над тем, что мы имеем и что будем делать дальше.
— Имеем тонну макулатуры, — пробормотал Сокольников, ощутил строгий взгляд своего начальника и умолк.
— Неким работникам завода «Стройдеталь» перестало хватать зарплаты, — заговорил Викторов. — Тогда они стали договариваться со строительными организациями и выписывать фиктивные накладные на стройматериалы. Знаешь, что такое «фиктивные»?
— Это значит, что липовые, — тон у Сокольникова был мрачноватый. Он чувствовал себя в положении школяра, и это ему не нравилось.
— Не совсем. Они, эти жулики, люди не глупые и машины порожняком с завода не гоняли. Просто грузили поменьше, чем показывали в накладной. Или другим сортом, подешевле. А излишки, естественно, продавали на сторону. Понятно?
Сокольников кивнул.
— Все понятно? — допытывался Викторов.
— Все, все.
Викторов вздохнул:
— Хорошо тебе. А мне пока что очень многое не ясно.
Насмешки в его словах не было. Грустновато они прозвучали.
— А что именно не ясно? — осторожно спросил Сокольников.
— Да так… — Викторов легонько стукнул ладонью по столу. — Будем работать…
Сокольников уже хотел спросить, какая теперь будет у него задача, но в этот момент отворилась дверь и вошел старший опер Трошин. Его Сокольников успел запомнить. Дело в том, что Трошин был передовик. Его фотография, большая и цветная, висела на Доске почета. Мимо этой доски все по утрам шли на работу, что обеспечивало лучшим людям широкую известность даже среди новичков вроде Сокольникова.
На снимке Трошин получился очень удачно: русая шапка волос, внимательный, вдумчивый взгляд. По фотографии сразу было понятно, что старший оперуполномоченный Трошин человек надежный и положительный. Да и в жизни Трошин выглядел как настоящий отличник.
— Викторов, — сказал Трошин, — рыбный заказ брать будешь?
— Давай, — рассеянно согласился Викторов.
— А молодой твой?
Не успел Сокольников обидеться на такое обращение, как Викторов поправил передовика.
— Тут у нас все сотрудники, — сдержанно сказал он. — Олег, ты будешь брать заказ?
— Я не знаю, — ответил Сокольников, одновременно шаря в пустом кармане. — А что за заказ?
Трошин положил перед ним листочек со списком и снова повернулся к Викторову.
— Я слышал, ты «Стройдеталь» начал бомбить?
— От кого же ты, интересно, это слышал?
— Между прочим, я тоже в отделе работаю.
— Да ну? — спокойно удивился Викторов.
— Там все непросто.
— А что конкретно? Почему? По какой причине?
— Если хочешь, как-нибудь поговорим. — Трошин не принял насмешливого тона и в свою очередь решил уколоть: — Я тебе сочувствую, Викторов… После таких реализаций к дантисту ходят.
— Смотри ты… А зачем?
— Зубов недостает.
— Это хорошо. — Викторов выглядел задумчивым. Даже немного сонным. — Ты мне вот что скажи, Женя…
— Да?
— Деньги за заказ тебе отдавать?
Трошин ждал другого вопроса. Он внимательно посмотрел на Викторова и, поиграв бровями, сказал:
— Деньги принимает Тоня. Желаю успеха, Викторов.
Сокольников догадался, что в их отношениях не все было ладно, но причины не понимал. Ему казалось странным, что два таких значительных человека не дружны между собой.
— Пойдем к Тоне, Олег? — будто встряхнувшись, предложил Викторов. — Так что насчет заказа?
— Я бы взял, — сказал Сокольников, — только у меня с собой денег нет…
Деньги Викторов ему одолжил. Дома Сокольников с немалой гордостью выложил на стол содержимое большого полиэтиленового пакета. Чего тут только не было! Банка красной икры и банка черной, лосось в собственном соку, полкило кеты, копченая спинка осетра и даже килограмм дефицитнейшей воблы в отдельном бумажном кульке.
Осмотрев все это, отец тихо присвистнул и покачал головой.
— Смотри-ка, мать, — с непонятной иронией сказал он. — Олег-то у нас — добытчик.
— А чем плохо? — Мать тут же отреагировала на интонацию. — Ведь не крадено!
— Это у вас всем дают? — нейтрально полюбопытствовал отец.
— Всем.
— Здорово. А у нас в цехе такой заказ на пятнадцать человек разыгрывают. Но без воблы.
— Сравнил тоже, — сказала мать.
— И где же такие наборы приобретаются?
— Недалеко. — Сокольников понемногу начал обижаться. — В рыбном возле Новокузнецкой.
— Скажи пожалуйста! Недавно туда заходил, так кроме минтая только луфаря увидел. Вообще тоже рыба… с плавниками. Еще иваси была.
Отец пошел и лег на диван.
— Ну, а если, к примеру, завтра в этом магазине придется проверку делать? — спросил он через минуту.
— Я магазинами не занимаюсь, — сердито ответил Сокольников.
— Ну, не тебе. Сослуживцам твоим.
— Что ж, и сделают… Собственно, зачем это вдруг там делать проверку?
— Мало ли! Покупатели пожалуются. Или кто-то проворуется. Могут они провороваться?
— Нет. — Сокольников постарался вложить в свои слова как можно больше убежденности. — В этом магазине все в порядке. Иначе мы бы с ними связываться не стали.
— А-а! — глубокомысленно сказал отец. — Тогда другое дело.
Мать не выдержала.
— Прекрати! — цыкнула она. — Чего дурака валяешь? Люди вокруг не хуже живут. Все воруют, что ли? Оглянись, прежде чем вопросиками шпынять.
— Все-все. — Отец повернулся на бок, носом в стенку, а газету положил на затылок.
Мать засмеялась и звучно шлепнула по газете полотенцем.
— Вставай, еда на столе…
Они ужинали, смотрели телевизор, все было как обычно, а Сокольников думал, что вопросы свои отец задавал неспроста. Действительно, что, если?.. Ну так что ж! Пойдут и проверят. Хотя конечно же не очень-то удобно устраивать проверку симпатичной заведующей в тугом крахмальном халатике, которая лично отпускала товар с такой приветливой улыбкой. Во всяком случае Сокольников предпочел бы с проверкой к ней не ходить. С другой же стороны получается, что в магазин теперь вообще не зайди! В другой район, что ли, ехать?! Надо бы с Викторовым поговорить на эту тему.
Когда Сокольников возвращался с обеда, в коридоре его остановил Трошин.
— Как раз ты мне и нужен, — радостно сообщил он. — У тебя время есть? Тогда зайди.
В его кабинет Сокольников попал впервые. Ничего себе кабинет. Самый светлый, наверное, в отделе — угловой, окна на две стороны. На самом видном месте переходящий вымпел «Лучший оперативный сотрудник».
На столе у Трошина лежали какие-то бумаги, и он быстро перевернул их лицевой стороной вниз, чтобы Сокольников ненароком не прочитал, а на его недоуменный взгляд назидательно заметил:
— Это сопутствующий принцип нашей работы. Привыкай.
— Какой «принцип»? — удивился Сокольников. — Не доверять никому?
— Доверие тут ни при чем. Важен порядок. Кроме твоего непосредственного начальника, никому не положено знать, чем ты занимаешься. Это называется бдительность.
— И Чанышеву не положено?
— Чанышев и есть твой непосредственный начальник. Не валяй дурака. Ты все прекрасно понял.
Сокольников готов был с ним согласиться, но что-то мешало. Мало приятного было в такой бдительности.
— Ты садись, — сказал Трошин. — Как у тебя с общественными науками?
— Нормально, — пожал плечами Сокольников. — А в чем дело?
— Яснее ясного это дело… Ты у нас молодой, растущий… — Последние два слова он проговорил как бы привычной скороговоркой. — Есть мнение доверить тебе важное общественное поручение. Станешь у нас политинформатором. Раз в неделю будешь рассказывать о текущих событиях внутренней и внешней жизни. То есть международной. Мы считаем, что тебе такое поручение по плечу. К тому же надо заботиться о своем служебном будущем. Показать себя на общественной работе ответственным и размышляющим товарищем. Все понимаешь?
Сокольников кивнул, пожал плечами, сказал: «Ладно». Все ясно. Раз новенький, обязательно чем-нибудь загрузят. Хорошо еще, что не стенгазету выпускать. Интересно, есть тут стенгазета? Только непонятно, зачем Трошин так с ним разговаривает. Словно перед телекамерой. Мог бы и попроще сказать.
— Очень надеюсь, что ты нас не подведешь, — сказал Трошин в таком же неестественно-выспреннем тоне.
— Ладно, — повторил Сокольников. Ему стало неудобно.
— Вот и отлично. — Трошин встал и поправил на стене вымпел. — Ну, как у вас дела на «Стройдетали»?
Сокольников и сам не знал точно, как у них дела.
— Нормально. Работаем.
— А перспектива есть?
— Сейчас пока трудно сказать, — подумав, ответил Сокольников.
— Викторов-то как считает? — выспрашивал Трошин вроде уже просто из вежливости, чтобы не обрывать разговор. Сам он уже копался в своем сейфе.
— Кое-что интересное есть.
— Ну… хорошо. — Трошин вытащил толстую папку и разложил на столе. — Значит, договорились. Со следующего понедельника ты и начнешь. Готовься посерьезнее. Вполне возможно, будут проверяющие…
Спускаясь к себе, Сокольников вдруг вспомнил, что обещал купить матери почтовые конверты. Киоск был метрах в двухстах от управления. Накинув куртку, выскочил за ворота и едва не столкнулся с Севой. Тот стоял у газетного стенда, заложив руки в карманы очень модного плаща, только еще слишком легкого по такой погоде. На кончике большого носа Севы поблескивала капелька влаги.
— А! Олежек! — обрадовался Сева и простуженно швыркнул. — Какая встреча.
— Привет, — сказал Сокольников. — Ты как тут оказался?
— Вот бумаги относил, которые твой начальник затребовал. А как твои дела?
— Нормально, — сказал Сокольников в который раз за последние полчаса.
— Ты в какую сторону? — полюбопытствовал Сева.
— Конверты купить.
Сева пошел сбоку и швыркнул два раза подряд.
— Вот мне интересно, — сказал он, — наше дело сложное считается или как?
— Или как… — Сокольников пожал плечами.
— Ты знаешь, мне кажется, что вы ничего не найдете.
— Почему же?
— Так ведь нет ничего, — хитро сказал Сева. — Ты что же думаешь, там все жулики сидят?
— Я ничего не думаю.
— Если дело только в недостаче. Так это мура.
— Как сказать, — Сокольникову ужасно надоел Сева со своим разговором, и он был рад, что киоск уже рядом.
Пока он покупал конверты, Сева топтался рядом, изъявляя готовность сопровождать Сокольникова и далее.
— Я тебе точно говорю, — продолжил он, — недостача и хищение — разные вещи. Вот если есть еще что-то, тогда совсем другое дело.
— Есть, есть, не беспокойся, — сказал Сокольников, чтобы Сева поскорее отвязался.
— Ну, например, что? — с живым интересом спросил Сева.
— Секрет, — раздражаясь, ответил Сокольников.
— Да ты не торопись, Олежек, — засуетился Сева. — Я вообще с тобой хотел поговорить. Знаешь, все эти дела на заводе… Неприятно. Честно, неприятно. У нас руководство неплохое, я тебе точно говорю. Всегда могут войти в положение, понять человека… Такое не часто встретишь. А тут ходят люди, можно сказать, в неизвестности… Надо бы помочь, а, Олежек?
Только сейчас Сокольников вдруг сообразил, что не просто так Сева выспрашивает, что есть у него вполне определенная цель и что именно его, Сокольникова, избрал он, чтобы попытаться выудить информацию. Может, даже специально тут поджидал. Однако вместо гнева Сокольников испытал стыд за Севу, нахального и глупого. И за себя стало стыдно, за то, что показался Севе таким же дурачком. А Сева помаргивал без малейшей застенчивости своими маленькими глазками, а под носом у него наливалась прозрачная капля.
— Ты вот что, — мрачно сказал Сокольников, — будь здоров.
— Олежек, слушай! — уцепился Сева за его рукав. — Дай мне свой телефон. Встретимся, посидим. Тут Света о тебе спрашивала.
Вероятно, сейчас Сева казался себе очень ловким. А Сокольников никак не мог набраться решимости послать его подальше. Вместо этого он криво улыбнулся, пробормотал, как бы извиняясь: «Не получится, работы много», — и поспешил к себе.
Викторова на месте все еще не было — после обеда он отлучился куда-то по своим делам. От нечего делать Сокольников взял из стопки изъятых документов толстую книгу и принялся изучать. Это оказалась та самая, которую они забрали у сторожа Скоробогатова. Уголки листов были захватаны до черноты и скручивались трубочкой. Сокольников очень отчетливо представил себе, как Скоробогатов листает страницы, слюнявя палец и щуря почти совсем слепые глаза под огромными линзами. Почерк у Скоробогатова был неровный, корявый, но разборчивый. Как видно, он любил аккуратность и пунктуальность и подробно заносил в соответствующие графы название груза, его количество, номер машины и организацию-грузополучатель. Завод «Стройдеталь» производил брус, половую доску, вагонку, фанеру, а также двери, оконные рамы и многое другое. Все это отправлялось в различные строительные тресты и управления, которых Сокольников насчитал более десятка уже на первых страницах. Иногда в графе «Получатель» указывалась просто фамилия. В графе «Груз» тогда обязательно значилось: «обрезки». Сокольников принялся выискивать обрезки по всей книге и обнаружил, что обратной зависимости нет. Очень часто получателем обрезков оказывались некие КОТ-2 и КОТ-5. Сокольников попытался отыскать еще какую-нибудь закономерность, но в эту минуту зазвонил внутренний телефон.
— Кто? — спросила трубка голосом Чанышева.
Сокольников ответил.
— Зайдите ко мне! — потребовала трубка.
Поскольку Чанышев впервые вызвал его к себе, Сокольников почему-то решил, что сейчас он непременно получит важное задание. Ну, не то чтобы решил, а так ему в душе очень хотелось. Потому он махнул четыре лестничных пролета на одном дыхании.
Кабинет у Чанышева был темноватый: окна выходили в узкий каменный колодец двора. На столе горела лампа.
— Садитесь, — Чанышев указал на стул. — Как работается?
Чанышев вначале смотрел на собеседника, потом отводил глаза и произносил фразу и снова смотрел в лицо. Такая у него была манера.
Сокольников кашлянул и ответил, что нормально.
Последовало еще несколько совершенно незначащих вопросов, на которые Сокольников отвечал с готовностью и некоторым недоумением. Ответы его Чанышев выслушивал, пожалуй, не особенно внимательно, только отчего-то все поглядывал на Сокольникова в упор.
— Скажи, пожалуйста, — Чанышев вдруг перешел на «ты», — с кем ты сегодня встречался?
— Ни с кем, — удивился Сокольников.
— Нда, — задумчиво сказал Чанышев, — около управления.
— А, с этим… — Сокольников только теперь понял, о ком речь. — Со «Стройдетали»?
— Как его фамилия?
— Не знаю даже… Зовут Сева. Он в бухгалтерии работает.
— Скажи, Сокольников, что у вас общего? — Чанышев так и впился в него взглядом.
— В каком смысле? — растерялся Сокольников.
— В самом прямом! Работник ОБХСС почему-то встречается с сомнительными личностями, рассказывает ему то, что знать не положено.
— Я ничего ему не рассказывал, — тихо сказал Сокольников.
— О чем же вы говорили?
— Ни о чем. — Сокольников ощутил, как охрип у него почему-то голос. — Он спросил, как у нас идет работа. Я сказал, что нормально.
— В каком смысле нормально?
— Ни в каком. Просто я так сказал.
— Дальше!
— Дальше ничего не было. На этом мы и расстались.
— Это точно?
— Да.
Чанышев медленно-медленно вытянул из стаканчика карандаш, попробовал острие пальцем, провел несколько линий на листочке перед собой и поставил карандаш на прежнее место.
— Я прошу запомнить, — заговорил он, уже не глядя на Сокольникова, — раз и навсегда. Никаких разговоров с посторонними людьми быть не должно. Никакого общения с подобными личностями. Ясно?
— Ясно… Но ничего…
— Если вы намерены работать в органах, прошу запомнить. Вы свободны.
Сокольников встал, шагнул к двери, потом повернулся:
— Вы мне не верите? Я могу и сейчас уволиться. Если вы считаете, что…
— Я ничего не считаю, — тон у Чанышева стал чуть мягче. — Просто прошу учесть все, что здесь говорилось. Идите работайте.
На свой этаж Сокольников спускался медленно. По ступенечке. Обида перехватила горло. За что его так? Разве когда-нибудь совершал он бесчестные поступки? Господи, как он вел-то себя у Чанышева! Будто и в самом деле виноват. Совсем не то говорил, не то делал. Если бы Чанышев его еще раз вызвал, он бы нашел что сказать! Какие, собственно, у него основания подозревать Сокольникова?..
Викторов, оказывается, уже вернулся, сидел на своем месте. Он тоже как-то странно, очень внимательно посмотрел на Сокольникова.
— Ты где был?
— У начальника. — Хмурый Сокольников прошел за свой стол. Сейчас он очень нуждался в сочувствии. — Ты знаешь, как страшно получилось… Я тут после обеда встречаю Севу со «Стройдетали». Он сюда какие-то документы привозил… по крайней мере, мне так сказал. Прошлись с ним до газетного киоска и обратно. Он все выпытывал, как у нас идут дела. Ну, естественно, я с ним распрощался. А Чанышев вдруг вызывает и говорит со мной так, будто я… — Сокольников запнулся, потом окончил: — И откуда только узнал. Но, Саша, если ты думаешь, что я мог что-то выболтать, то, знаешь…
— О чем именно этот Сева спрашивал, скажи, пожалуйста?
— Интересовался, что у нас есть да как дела идут. Телефон у меня еще просил, предлагал встретиться, посидеть.
— Это понятно, — кивнул Викторов. — Я так думаю, что это не последний заход. Ты это учти.
— Да я!.. — воскликнул Сокольников, но Викторов нетерпеливым жестом прервал его дальнейшие излияния.
— Успокойся.
Некоторое время они молчали. Сокольников сопел за столом, потихоньку отходя от обиды и волнений.
— Все-таки интересно, откуда Чанышев узнал? — сказал он.
— Оттуда, откуда и я, — грустновато усмехнулся Викторов. — Все очень просто. Тебя с этим Севой Трошин в окно увидел.
— И сразу доложил Чанышеву?
— Может, и не сразу. Может, сначала покурил. — Викторов открыл ящик своего стола и принялся раздраженно и бесцельно перекладывать там бумаги. — Он у нас бдительный.
— Может, так и надо, — нерешительно предположил Сокольников, — только мне кажется, что это как-то нехорошо.
Викторов молча ковырялся в ящике.
— Если не доверяете, не надо было на работу принимать.
— Успокойся, — сказал Викторов. — Я тебе доверяю.
Все равно настроение у Сокольникова было изрядно подпорчено. Он с грустью подумал, что сегодня для него открылась совсем неизвестная сторона жизни. До сих пор все было просто и ясно. Где-то проходила условная граница, разделяющая людей на честных и нечестных, но — где-то! — очень далеко от Сокольникова. Рядом же была учеба, друзья, родители — и никаких загадок, никаких темных углов. Нечестные люди таятся, прячутся, но не потому их Сокольников до сей поры не встречал. Суть в том, что их очень мало. Об этом ежедневно твердили газеты, телевидение и радио. Конечно, в компаниях возникали разговоры на интригующие криминальные темы, о том, что воров и взяточников пруд пруди, и такие разговоры Сокольников, бывало, с азартом подхватывал, припоминая фельетоны из «Крокодила» и «Удивительные истории» Пантелеймона Корягина на известинских страницах. Но попроси его назвать хоть одного знакомого взяточника — тут Сокольников бы и спасовал. Откуда взяться взяточникам среди знакомых студента технического вуза?
А теперь получалось так, что и безусловно честные люди, к которым относился и сам Сокольников, и Чанышев, и Трошин, должны друг друга в чем-то подозревать. Это было противоестественно и вообще неправильно. У Сокольникова вдруг появилось ощущение, что ему не известны какие-то элементарные вещи, о которых прекрасно осведомлен любой из его теперешних коллег. Он даже испугался своей неполноценности и задумался: не зря ли вообще пошел на эту работу?
— Саша, скажи, а могут нас послать проверять тот магазин, где мы получаем заказы? — неожиданно спросил Сокольников.
— В принципе могут, — после недолгого молчания ответил Викторов.
— Неудобно как-то…
— В принципе, — повторил Викторов. — Но, думаю, не пошлют.
— Ну а вдруг? Если там что-то не так?
Викторов усмехнулся. Но, кажется, не столько вопросу, сколько своим мыслям.
— Там все так, — сказал он. — Не сомневайся.
Однако он не вложил в свои слова должной убежденности. Да и не старался.
— В каждом районе есть хотя бы один магазин, где всегда все хорошо. Понял?
— Не совсем.
— Если каждый работник ОБХСС будет шастать по магазинам, чтобы достать вкусненького, — это не дело. Лучше уж получать заказы. Тем более, — он сделал паузу, — что не одни мы там питаемся.
— Что-то здесь неправильно, — упрямо сказал Сокольников. Вообще он уже сожалел, что начал этот разговор. — Не понимаю, зачем нужно вообще шастать по магазинам.
— Неправильно, — согласился вдруг Викторов. — Только так сложилось, и менять этого никто не собирается. Скажи-ка, разве ты заказом недоволен? Или твои родные?
— Заказ хороший, ничего не скажешь…
— Тогда на этом и остановимся. До времени. А сейчас вот чем займемся: со следующей недели, надеюсь, с документацией начнут работать ревизоры. Давай немного разберемся в этих книгах. Разложим их по годам, что ли. Это что у тебя на столе?
— Книга, которую взяли у сторожа. Саша, что такое КОТ?
— Животное такое. Мышей ест.
— Я знаю, — отмахнулся Сокольников. — Вот тут в книге обрезки иногда увозят на КОТ-5 или КОТ-2, а иногда в этой графе просто фамилия.
Викторов поглядел и немедленно заинтересовался. Забрал книгу и минут пятнадцать молча листал страницы.
— А ведь я эту книгу просто так изъял, на всякий случай, — признался Викторов. — Зато теперь могу точно сказать, что сторож Скоробогатов не в курсе дел на заводе.
Он закрыл книгу и хлопнул ею по столу.
— Молодец ты, Олег. Цены тебе нет!
Сокольников пока не понимал, в чем дело, склоняясь к мысли, что Викторов над ним просто подшучивает.
— Объясняю! — Викторов взял книгу, подтащил стул и уселся рядом. — КОТ — это котельные. Так их Скоробогатов обозначил. Туда вывозятся отходы производства. Вывозились они или нет — проверить уже невозможно. Все сгорело. Или как бы сгорело. Скоробогатов же по слабости зрения не мог проверить, что в машине. На это они и рассчитывали. Но книгу свою он вел тщательно.
— Ты хочешь сказать, что под видом обрезков вывозили хорошие материалы?
— Почти уверен. Тем более что обрезки можно в порядке исключения отпускать частным лицам. По символической цене. Теперь мы с тобой вот что будем делать. Выпиши все машины, которые были заняты вывозкой отходов. Опросим водителей. Работа эта, прямо скажем, долгая и нудная. Но другого пути пока не вижу. — Викторов еще немного подумал и добавил: — То есть другой путь, конечно, имеется. Но на нем нас ожидают трудности совсем иного порядка.
Но Сокольников не понял, что имел в виду Викторов, и значения последней фразе не придал. Его уже охватил охотничий азарт.
— А как насчет тех машин, против которых стоят фамилии? Это ведь покупатели. Их ведь тоже надо опрашивать.
— Надо, — мрачно сказал Викторов. — Но с фамилиями пока обождем. Фамилии пока выписывать не надо, и вообще об этом постарайся ни с кем не говорить.
Он пристально посмотрел на Сокольникова и повторил еще раз:
— Никому ни слова.
— И Чанышеву? — на всякий случай уточнил Сокольников.
— Ему я доложу сам.
Список получился очень длинным, но Сокольников скоро убедился, что многие машины в нем повторялись. Оно и не удивительно. Завод «Стройдеталь» обслуживался автокомбинатом № 3 — так объяснил Викторов. Это здорово сокращало объем работы. Однако в списке было немало машин и с других автобаз города. Ими Викторов решил заняться сам, а автокомбинат оставил за Сокольниковым.
Между тем пошел второй месяц, как Сокольников начал работать в отделе. Против его ожидания, домашние привыкли к его новой профессии, наверное, даже раньше его самого. Он, как и прежде, в одно и то же время уходил на работу и точно так же возвращался, не отличаясь ничем от представителей любой другой профессии. Отец, правда, некоторое время называл его «пинкертоном», но все реже и реже. А мать более всего интересовало, голоден ли он и почему так плохо ест.
Сегодня у Сокольникова был очень ответственный день. Он впервые отбирал официальное объяснение. Можно сказать — допрашивал. На стуле перед ним сидел первый из вызванных водителей — молодой парень в кожаной, истертой до невозможности тужурке. Наверное, тужурка ему досталась по наследству от дедушки. Парень чувствовал себя не слишком уверенно — все-таки вызов в милицию, в районное управление. Но Сокольников этого заметить не мог потому, что сам волновался ужасно. Он и не подозревал, что способен так волноваться. До крупной дрожи в пальцах, которые из-за этого все время приходилось держать под столом.
Конечно, рядом был Викторов, готовый всегда прийти на помощь и поддержать. Но лучше бы он ушел. Не хотелось Сокольникову перед ним оплошать. Особенно после того, как Викторов подробнейшим образом объяснил, что нужно спрашивать и как.
В общем, это был настоящий допрос, только бланк другой. А так все как в детективном фильме. Следователь задает умные неотразимые вопросы и быстро добивается признания. Точно так должно было получиться у Сокольникова, и он очень переживал, что не получится.
— Ваш паспорт, — как бы привычно, спокойно произнес Сокольников, но на последних буквах все же дал петуха.
От неожиданности водитель вздрогнул.
— Вот.
Сокольников долго перелистывал паспорт.
— Фамилия? — задал он следующий вопрос и покрылся испариной.
«Господи, что спрашиваю! Паспорт же держу в руках. Он меня за идиота примет!»
Но водитель не удивился. Наверное, тоже интересовался детективами и решил, что этот нелепый на первый взгляд вопрос может быть частью тонко продуманного плана.
— Шепитько Андрей Николаевич, — подумав, ответил он.
Сокольников записал. Волнение понемногу проходило.
— Так, — сказал Сокольников, — вы на автокомбинате работаете?
— Да.
— Хорошо.
Они немного помолчали, буравя друг друга взглядами.
— Ну, а куда ездите? — поинтересовался Сокольников.
Шепитько посмотрел с тревогой и непониманием.
— Куда путевку выпишут.
— Вы прямо отвечайте! — потребовал Сокольников, снова ощущая, что его несет не туда.
— На завод «Стройдеталь» приходилось ездить? — спросил Викторов, который незаметно оказался рядом.
— Ну, приходилось.
— Двадцатого ноября ездка была?
— Какого? Двадцатого? Я не помню, давно было, — выражение лица Шепитько заметно изменилось. Скорее всего, он уже понял, о чем пойдет речь, и размышлял, как поступить: то ли рассказать все как есть, то ли отказываться.
Сокольников совершенно успокоился. Жаль только, что Викторов вмешался и перехватил инициативу.
— Вот в путевом листе записано, что была, — без нажима сказал Викторов.
— Ну, значит, была, раз записано.
— А вы не помните? — с подозрением сказал Сокольников. — Странно.
— Чего же тут странного! — заволновался водитель. — Почти полгода назад, откуда же мне помнить!
— Ну, а что везли, тоже не помните? — У Викторова тон был мирный, домашний, и Шепитько сразу успокоился.
— Доски какие-то. Не помню я.
— А куда?
— Да кто его знает! — с отчаянием воскликнул Шепитько.
— Да вы не беспокойтесь. Сейчас мы вместе разберемся. Олег Алексеевич, что там у нас указано?
— В котельную номер пять, — прочитал Сокольников.
— Раз указано, значит, в котельную.
— Но в котельную-то вы ничего не привезли, — покачал головой Викторов.
— Как так?
— Очень просто. У них поступление досок не отмечено. Вот документ.
— А-а, — протянул Шепитько, то ли соглашаясь, то ли просто выигрывая время для раздумья.
В конце концов он ничего не украл. А калым — это семечки, решил Шепитько.
— Так куда вы ездили?
— Куда? Я честно не помню. За город куда-то. По Рязанке и налево, куда Гриша показывал.
— Гриша — это кто?
— Да мужик один, — Шепитько махнул рукой. — Гриша, Григорий Васильевич его зовут…
Этот первый опрос позволил выяснить очень интересные вещи. Гриша, или Григорий Васильевич, был посредник. Услугами водителей комбината он пользовался регулярно. Его хорошо знали человек шесть водителей — из тех, кто ездил на «Стройдеталь» более или менее постоянно. Гриша всегда был в курсе, кто и когда едет на завод, и заранее предлагал подхалтурить. Но чуть-чуть, вполне в рамках. Не в котельную везти, а куда покажет. Платил от червонца до двадцати рублей, в зависимости от расстояния. Накладные у Гриши всегда имелись и, по-видимому, были в полном порядке: пару раз машины по дороге останавливали работники ГАИ, проверяли. На завод Гриша не ездил, подсаживался обычно в обусловленном месте. Вот адреса его никто не знал. И фамилии тоже…
К концу второй недели, когда они закончили опрос водителей, набралось около двадцати загородных поездок. Сокольников был очень доволен. Викторов тоже доволен, но не очень.
— А что мы, собственно, имеем? — охладил он как-то восторги Сокольникова. — Гриши пока нет. Рано или поздно мы его найдем, я не сомневаюсь, но дело-то не в этом. По самой грубой прикидке с помощью Гриши похищено всего на четыре тысячи рублей. А недостача — на сорок. Но нам эти четыре тысячи рублей нужны как воздух, потому что с них мы и начнем раскручивать самое главное. Гриша — это факт, от которого уже не отпереться. Понимаешь?
О «самом главном» Викторов не хотел говорить даже с Сокольниковым. Это «самое главное» его немало тревожило, что не могло укрыться от Сокольникова. Будто Викторов, все время ждал, что в течение событий вот-вот вмешаются какие-то силы и все испортят.
Как-то ближе к вечеру, когда Сокольников в одиночестве перебирал документы, в кабинет зашел заместитель начальника Костин. Начал он с довольно неожиданной фразы:
— У тебя никаких срочных дел нет?
Даже если б были, разве бы Сокольников признался? Неловко же, в самом деле, говорить начальству: «Я занят». Поэтому он заверил, что срочных дел не имеется. Костин, разумеется, так и предполагал.
— Тогда сделай вот что…
Он вручил Сокольникову листок бумаги, тридцать рублей и объяснил, что надо сходить в магазин, где получали заказы, спросить Ольгу Аркадьевну — это директор — и отдать ей записку.
— А дальше?
— Дальше она знает, — заверил Костин.
По дороге в магазин Сокольников раздумывал: странное какое-то поручение… Уж не курьером ли его послали? С одной стороны, он не курьером сюда устраивался. Но с другой — это явное свидетельство доверия. Он ведь — куда ни кинь — становился в отделе своим. Да и Костин — не может же он сам свои записки разносить? Он должен блюсти свой авторитет среди работников торговли.
Рабочее место Ольги Аркадьевны было в маленькой, но уютной комнатке, куда Сокольникова провела одна из продавщиц. Трудилась Ольга Аркадьевна, как всегда, в белоснежном халатике, который лучше всякого платья облегал ее стройную фигуру. В этом халатике она была похожа не на работника торговли, а на врача-терапевта, притом очень хорошего. Она небрежно пробежала взглядом записку и позвала в открытую дверь:
— Люба!
Дисциплина, как понял Сокольников, была здесь на уровне. Где-то в конце длинного коридора немедленно подхватили в несколько голосов: «Люба! К Ольге Аркадьевне!» — а через несколько секунд появилась молоденькая девица со смешным маленьким носиком-пуговкой на круглой сонной мордашке. Девица была, в общем, ничего, только сильно накрашена.
— Вот, Люба, — Ольга Аркадьевна протянула ей записку Костина, — все сделаешь и отдашь молодому человеку.
Про Сокольникова она тут же забыла, принявшись звонить по телефону, а он, уязвленный невниманием к себе и в своем лице к своей службе, которую он представлял, не стал в отместку говорить ей «до свидания». Впрочем, Ольга Аркадьевна, кажется, этого не заметила.
Раскрашенная Люба повела его в подвал и там обронила небрежно: «Постой здесь, я сейчас» — и скрылась за тяжелыми, как в банке, дверьми. «А ведь там, наверное, бог знает что… — подумал Сокольников. — Почище, чем в заказе было». Только теперь он понял, что Костин послал его за пищевым дефицитом. Может быть, у него мама больна? Но, возвращаясь, Сокольников увидел у кабинета директора еще двоих весьма солидных мужчин, ожидавших с достоинством, привычным спокойствием и уверенностью, и ему стало неудобно.
Выходить надо было тем же путем — через торговый зал, до отказа заполненный обычными, рядовыми покупателями. И было неудобно протискиваться с набитой доверху сумкой. Показалось, что все смотрят на него с подозрением и осуждением. Хорошо еще, что сумка была плотная и банки не видны. Но все равно Сокольников постарался выбраться на улицу как можно быстрее.
Костин встретил улыбкой, впрочем, вполне уверенной:
— Ты уж, поди, догадался? Ну и ладно, секрета от своих нет. Дядька из Конотопа приезжает, хочу подкормить. У них там кроме частика в томате — днем с огнем…
Следователя Гайдаленка Сокольников уже не раз встречал в коридоре управления и успел запомнить. С виду Гайдаленок вполне тянул на начальника. Сокольников вначале так и решил, что это начальник. Именно Гайдаленку попала через канцелярию потолстевшая папка с аккуратно подшитыми материалами по «Стройдетали».
В теперешней жизни Сокольникова многие новые знакомства по работе начинались с телефонных звонков. Вот и сегодня зазвонил телефон, и мягкий баритон спросил:
— Кто?
— Это оперуполномоченный Сокольников.
— М-м, — сказал баритон, — а Викторов?
— Вышел он, — ответил Сокольников, немного заинтригованный бархатистым тембром, — сейчас придет.
На том конце секунду поразмыслили:
— Передайте, пусть зайдет к Гайдаленку.
Викторов был у начальника и вернулся чем-то раздосадованный. Услышав про звонок, кажется, разозлился еще больше.
— Так я и думал, — процедил он, а потом скомандовал: — Пошли вместе.
Следователи в управлении целиком занимали третий этаж. У каждого был хотя и маленький, но зато отдельный кабинет, потому Сокольников полагал следователей на более высокой ступени в милицейской иерархии. К тому же после недавнего ремонта коридор третьего этажа был отделан панелями светлого дерева, что еще более повышало престиж следственного отдела.
Они вошли в комнатку, и там сразу стало тесно. Мало что ее хозяин сам изрядно места занимал. Сокольников ожидал, что следователь станет разговаривать начальственно и свысока, но тот расплылся в улыбке.
— Александр, рад тебя видеть. — Глазки у него сузились и почти совсем пропали. — Садись, пожалуйста. А этот молодой человек, как я понимаю, твой новый коллега. Очень рад, коллега, прошу.
Манера общения Гайдаленка и весь его гладкий вальяжный вид вызывали у Сокольникова неясные ассоциации. Где-то все это он уже видел. Где-то это было.
— Ты понимаешь, какое дело, Александр, — сокрушенно начал Гайдаленок, — получил я материал и должен тебя огорчить. Не могу принять, то есть совершенно не могу! Ты уж не взыщи, дружище.
Викторов усмехнулся:
— Ты мне будто в личной просьбе отказываешь. Давай ближе к теме. Почему не хочешь возбуждать дело?
— Разве я сказал «не хочу»? — воскликнул Гайдаленок. В каждую фразу он вкладывал чуть больше эмоций, чем требовалось по ситуации. — Я сказал: «Не могу». Большая разница! А причина в том, что дело пока не имеет судебной перспективы.
— Что так? — жестко прищурился Викторов.
— Сам посуди: допустим, есть факт недостачи. Заметь — только допустим, поскольку официальной ревизии еще не проводилось. Ну и что? А где доказательства, что это хищение? Кто, собственно, похищал? Кому сбывал? Где, наконец, похищенное? Если хочешь, могу еще с десяток вопросов накидать.
— Послушай! — На скулах Викторова медленно заходили желваки. — Я эти вопросы тоже могу задать. Но ты ведь следователь. Ты отвечать на них должен. Вместе со мной. И ты не хуже меня знаешь, что на половину этих вопросов ответ уже есть! И оснований для возбуждения дела более чем достаточно. Ты полистай материалы. Что до ревизии — ее проводить без возбуждения дела не станут. Будут тянуть. А факты вывоза продукции налево мы зафиксировали, дело за тобой.
Гайдаленок вздохнул, с укоризной посмотрел на Викторова.
— Не поймут нас. Прокуратура не поймет. Кому вывозили? Кто перекупщик? А?
В глазах Викторова появился иронический блеск.
— Я не понимаю, Георгий, ты что, себе тоже дачу строишь?
На лице Гайдаленка появилось выражение праведного гнева, и голос затрепетал.
— Не ожидал я от тебя таких слов. Прямо тебе скажу, не ожидал! Помнишь Штирлица? Так шутят болваны, мой милый…
— Ладно, — Викторов устало махнул рукой, — перекупщика найдем. Но это матерый вор, его надо немедленно задерживать, ты его задержишь?
— Ну, сейчас говорить преждевременно. Посмотрим, подумаем…
Викторов молча забрал папку и поднялся. Сокольников, глядя на него, тоже встал.
— Пойми, Александр, — Гайдаленок говорил сейчас с проникновенной теплотой, — не всегда мы поступаем так, как нам хотелось бы. Обстоятельства, знаешь ли… Милиция работает среди людей.
— Не надо… — спокойно произнес Викторов. — Ты все понимаешь, и я все понимаю. Только неплохо бы еще и совесть иметь. Раз уж мы среди людей…
Он не стал слушать, как кудахчет обиженный Гайдаленок, и быстро вышел, едва не защемив дверью Сокольникова, который тоже поторопился выскочить в коридор вслед за своим руководителем. Сокольников все-таки успел взглянуть в последний раз на Гайдаленка. Тот сидел за своим столом, демонстрируя скорбь и обиду. Теперь Сокольников догадался, на кого он похож. Гайдаленок здорово напоминал водевильного персонажа, все время принимающего красивые позы. Только затемненные его очки в красивой модной оправе слегка смазывали это впечатление.
Викторов с молчаливой злостью шагал по коридору и размахивал папкой. Сокольников старался держаться подальше, чтобы не задел. Спустились на этаж. Тут Сокольников понял: идут к Чанышеву.
У самого кабинета Сокольников в нерешительности притормозил.
— Слушай, Саш, может, мне туда не надо?
— Идем!
В полутемном кабинете горела настольная лампа. Сокольников уже знал, что верхнего света Чанышев не любил и зажигал его только во время общих сборов. Викторов сказал: «Разрешите?» — но прозвучало это как: «Руки вверх!» Чанышев не удивился. Спокойно смотрел на него, будто давно знал наперед, с чем Викторов сюда заявится. Вид у него был слегка замученный.
— Следствие не хочет принимать дело к производству, — кратко сказал Викторов и выложил папку на стол.
— Я знаю, — меланхолически ответил Чанышев.
— Что будем делать?
— Работать. — Чанышев медленно помассировал веки. — Формально они правы. Если бы я не хотел брать дело, тоже нашел бы кучу возражений. И они были бы вполне обоснованны.
— Ладно, — согласился Викторов. — И что дальше?
Чанышев не спеша поднялся, пересек кабинет и зажег люстру. Потом вернулся и долго устраивался в своем удобном кресле.
— Ищите перекупщика. Будем добиваться проведения ревизии. А там будет видно.
— Все ведь кошке под хвост пойдет, — зло сказал Викторов.
Чанышев протянул пухлую руку, щелкнул выключателем лампы. Свет погас, лицо его сразу же потеряло резкость, сделалось размытым.
— На то ты и оперативник, чтобы этого не допустить.
Они сидели в своем кабинете и молчали. Викторов полез в сейф, пошуршал, вытаскивая начатую пачку сигарет и коробок спичек.
— Ты разве куришь? — изумился Сокольников.
— Не курю, — буркнул Викторов, зажигая спичку.
Сокольникову страшно захотелось что-нибудь для него сделать.
— Слушай, Саша, может, ты зря расстраиваешься? Неужели мы этого Гришу не найдем! Куда он денется!
Викторов невесело засмеялся, поперхнулся дымом и загасил сигарету.
— Да в Грише ли дело! К тому же найти его трудновато. Думаю, Гриша сейчас уже далеко. Где-нибудь у моря. А может, и не у моря — чего ему, собственно, бояться?
Он уселся на стуле верхом и принялся покачиваться.
— Хочешь расскажу, чем кончится наше дело? Ревизия начнется года через полтора. Зелинский ее постарается оттянуть, не сомневайся. Ему помогут — свет не без добрых людей. А к тому времени недостачу они уменьшат настолько, что и говорить будет не о чем.
— Как это уменьшат? — не поверил Сокольников.
— Как угодно. Докажет, например, что было списание материалов в связи с браком, или купит где-нибудь пару вагонов.
— Что-то я сомневаюсь, — сказал Сокольников. — Где он их купит?
— Шучу, — мрачно отвечал Викторов. — Хотя нет. Не очень шучу. Может, и купит, черт его знает. В Австралии, например. Он сумеет. Короче, даже если недостача останется прежней, за это время столько воды утечет…
Он выставил перед Сокольниковым ладонь.
— Водители изменят показания. Скажут, что возили отходы. Хоть бы и за город. — Викторов загнул один палец. — Сам Гриша исчезнет. Если уже не исчез, — он загнул другой палец, — …к тому времени Зелинский уволится и уедет работать в Армавир. Или на Камчатку… И если вдруг случится чудо и дело по факту недостачи все же возбудят, то только на Шафоротова, да и то ненадолго. Прекратят с передачей на товарищеский суд. Шафоротова переведут на другую работу и даже не обязательно с понижением. — Викторов сжал пальцы в кулак и внимательно его осмотрел со всех сторон. — Все.
— Но почему же так, Саша? — тихо спросил Сокольников. — Разве для них закона нет?
— Молодой ты, — казенным противным голосом сказал Викторов, — жизни не знаешь. Вот я тебе сейчас объясню. — Он сморщился и потряс головой. — Не хотел вообще-то говорить. Расстраивать не хотел. Рассчитывал: прорвемся. Но ты бы все равно потом узнал… Помнишь, в книжке у сторожа фамилии в графе получателей?
Сокольников кивнул. Тогда Викторов снова полез в сейф и вытащил книгу.
— Иди-ка сюда, смотри… Тридцатое ноября, машина такая-то, отходы. Получатель — Архипов. Это наш народный судья. Дальше. Январь. Получатель Фирзин. Этот из исполкома. Семнадцатое марта. Отходы. Получатель — Сливенков. Ну уж Сливенкова ты должен знать. Начальник нашей вневедомственной охраны. Неглупый, между прочим, мужик. Говорят, скоро станет заместителем начальника управления. И так далее… Все понял?
Чувство, которое Сокольников сейчас испытывал, было странным — будто пробуждение после долгого сна. Почему-то вспомнился старый фильм, некогда увиденный в нежном возрасте. Там толстый бухгалтер произносил сакраментальную фразу: «Все прогнило насквозь…» Ну, что… Разочарования или уныния — как не бывало. Даже наоборот. В мозгу начали рождаться огненные картины дальнейшей суровой борьбы за правду.
— Понятно, — отчеканил он. — Значит, будем бороться.
Викторов посмотрел с сожалением.
— С кем, собственно? И по какому поводу? Тебе что же, точно известно, что они вывозили не отходы? Сейчас многие дачи строят. Это у нас не запрещается, — он язвительно ухмыльнулся, — и все из отходов. Поди проверь. У Сливенкова, к примеру, я на даче не бывал. Но дело не в том. Проверять тебе не дадут. Их всех Зелинский в одну связку повязал. Теперь они с ним заодно. Как же им ему не помочь? Вот Гайдаленок сегодня перед нами спектакль разыгрывал — ведь ясно почему. Был звонок, не один, наверное. Вот и сказали Гайдаленку: не торопись, подойди объективно. Именно так и сказали — объективно. Мол, не нужно пороть горячки, многое еще не ясно. Намекнули. Гайдаленок — понятливый. Сразу все усек. А любое хозяйственное дело — ты еще в этом убедишься — можно очень спокойно развалить. Нужно только желание. И с виду все будет нормально. Конечно, только с виду, но глубже никто не полезет. В этом все дело. Вот так!
— Скажи, Саша, — осторожно спросил Сокольников, — а других фамилий в списке нет?
— Понимаю, о чем ты. Нет Чанышева в списке. Он в это дело бы не полез, надо отдать ему должное. Но это ничего не меняет. Обострять отношения Чанышев не станет, ты ведь убедился? Не нужны ему осложнения. Молодой, перспективный, — с гримасой проговорил Викторов, явно передразнивая манеру передовика Трошина, — к тому же Чанышев хорошо понимает, что от шума толку не будет.
— Ерунда какая-то получается, — сказал Сокольников, — черт знает что. Круговая порука. Мафия какая-то!
— Ну, ты скажешь, — хмыкнул Викторов, — мафия! Мафия горрайорганов не касается. Мы и без нее проживем. Я свой пистолет как на складе получил, так сразу старшине сдал и больше не видел. И слава богу, а то еще потеряю. Мафии нам не надо, ею пусть центральный аппарат занимается. А Сливенков, Фирзин и другие — какие они мафиози? Позволяют чуток больше, чем, к примеру, твой батя. Он ведь у тебя на заводе работает? Во-от! Ну и если надо — отчего не помочь друг другу в трудную минуту? Ведь ни в чем таком не замешаны. Так, чуток… А как без этого? Такая работа. Ответственная…
Тон у Викторова был бодрый и веселый, а глаза совсем грустные. Он начал собирать бумажки, не глядя закидывая их в сейф.
— А за халатность, за притупление бдительности их, конечно, накажут, — бормотал он. — Принципиально. Строжайшим выговором. Может, и двумя. Но без занесения…
— Саша! — воскликнул Сокольников, захваченный внезапной мыслью. — Откуда его Трошин знает?
Викторов прервал свое занятие и посмотрел на Сокольникова.
— Кого? Ты о чем это?
— Помнишь, Трошин донес Чанышеву, что я с Севой разговаривал, — торопясь, объяснял он ставшее для него очевидным, — с этим, из бухгалтерии завода?
— Ну!
— Он нас видел только из окна. Откуда же он знает, что Сева именно с завода?
Несколько секунд Викторов молча переваривал информацию. Потом сдержанно кашлянул:
— Да-а-а. Как-то это… Хм… Ты прав. Что тут сказать… Дачи как будто у Трошина нет… Дел на заводе — тоже…
Внезапно откуда-то из-под стола раздалась резкая трель звонка. От неожиданности оба вздрогнули. Викторов торопливо полез под стол, вытащил из портфеля будильник.
— Сегодня из ремонта получил, — несколько смущенно объяснил он. — Оказывается, неплохо починили. Даже звонит.
Этот дурацкий звонок совершенно сбил Сокольникова с мысли. Осталось только ощущение, что утеряно нечто важное.
— Скажи, Саша, а почему Трошин на Доске почета?
Прежде чем ответить, Викторов поиграл немного со своим будильником.
— Вообще он неплохой работник. Хваткий, энергичный…
Сокольников чувствовал, что начальник недоговаривает, однако расспрашивать не стал.
— Сам со временем разберешься, — заключил Викторов, и неясным осталось, в чем предстоит разобраться Сокольникову: то ли в процедуре выдвижения кандидатур на Доску почета, то ли в чем-то ином.
За окном потемнело. Хотя капель звонко и весело молотила по карнизу, погода была сырой и зябкой. Совсем не хотелось выходить из теплого кабинета. Но и задерживаться сегодня у Сокольникова желания не было.
— Черт его знает, — обиженно сказал он, собирая со стола вещи, — работаешь-работаешь… а для чего, собственно?
— Как для чего! — возмутился Викторов. — Да если бы нас совсем не было, знаешь что творилось бы! Все-таки жулики нас боятся. Не все, к сожалению… Нет, так вопрос ставить нельзя. Дело не в том, чтобы нас боялись. Нужно, чтобы воровать стало невозможно. А это не только от нас зависит. Но все равно ты носа не вешай. Вот разыщем Гришу, посмотрим, куда водители свой груз возили…
Однако с Гришей Сокольникову довелось встретиться лишь через несколько лет и совсем по другому поводу. А тогда Сокольникова отправили в Ленинград на трехмесячные учебные сборы. Никакого умысла тут не было, отправляться Сокольникову нужно было обязательно — таков порядок. Лишь по окончании курсов ему могли присвоить специальное звание лейтенанта милиции. Так что куда тут денешься…
За три месяца его отсутствия произошли изменения. Чанышев перешел преподавателем в высшую школу. Говорили, что он долго хлопотал о своем переводе, очень уж ему хотелось заниматься наукой, писать диссертацию. Викторова в отделе тоже не было. Его повысили, он теперь работал заместителем начальника отделения милиции.
Сокольников, конечно, сразу стал интересоваться, как дела со «Стройдеталью», и узнал, что материал по заводу заканчивал Трошин. Взялся он энергично, с присущей ему деловитой хваткой, и весьма скоро расставил все точки на «i». Удалось установить, что недостача на заводе была допущена по халатности прежнего главного бухгалтера, который незадолго до начала расследования ушел на пенсию по болезни и по старости. Привлечь его к уголовной ответственности за халатность у Трошина основания были, но он поступил гуманно, по-человечески. Все же бухгалтер был ветераном войны и труда и совсем старик, поэтому материалы о его проступке Трошин передал на рассмотрение товарищеского суда, Шафоротова с завода, разумеется, уволили. И, кажется, даже объявили выговор.
И жизнь пошла своим чередом…
Когда выпадает дежурство по отделу, нужно весь день сидеть на месте. Можно спокойно заниматься своими делами — приводить в порядок бумаги, которых всегда немало, писать разные справки о проведенных мероприятиях. Раньше все справки писала Люда Тарасова. У нее был особый талант и высшее библиотечное образование. Люда писала справки каждый день с утра до вечера, но с тех пор, как она ушла в декретный отпуск, ее обязанности разделили на всех поровну. Это было не только справедливо, но и разумно: в одиночку сладить со справками было совершенно невозможно.
Дежурному нужно сидеть на своем месте весь день на случай, если вдруг произойдет что-то непредвиденное по линии ОБХСС: обнаружатся где-нибудь расхитители или взяточники. Хотя такого, как правило, не случалось. Расхитители творили свои черные дела тихо, без бузы и скандала. Дежурство в ОБХСС совсем не напоминало будни уголовного розыска. Однако порядок есть порядок. Установленный очень давно неизвестно кем, он строго выполнялся, и если все в основном расходились по домам часов в семь, то дежурный сидел до одиннадцати.
К половине десятого Сокольников успел написать половину справки о борьбе со спекуляцией и торговлей с рук возле универмага «Заречный». Он перечислил предприятия района, с которых привлекались народные дружинники, проанализировал контингент задержанных, как того требовал руководящий документ, и уже готовился перейти к классификации предметов преступного промысла, как зазвонил телефон, который связывал его с дежурным по управлению.
— Алло, Сокольников, ты сегодня дежуришь? Это Цыбин говорит. Зайди в дежурную часть. Тут заявитель по вашей линии.
Цыбин был опытный дежурный, работал лет двадцать, знал всех, и все его уважали.
— Что-нибудь серьезное, Михалыч? — Сокольникову очень не хотелось задерживаться из-за какой-нибудь ерунды вроде жалобы на соседа по коммуналке.
— По-всякому может повернуться, — неопределенно ответил Цыбин. — Иди разбирайся…
На деревянном диванчике в дежурной части сидел невзрачный и довольно потрепанный мужичок со смятой кепочкой в кулаке. Он был небрит, да вдобавок под градусом, — это Сокольников сразу понял, едва вошел в помещение. Мужичок оценивающе осмотрел Сокольникова, потом поделился результатом с Цыбиным:
— Молодой товарищ-то.
— Старые все на пенсии, — строго обрезал Цыбин. Панибратства с сомнительными типами он не терпел, а глаз на посетителей у него был наметан.
— Да ведь это хорошо, — с энтузиазмом подхватил мужичок. — Молодой — значит принципиальный. Так или нет?
Цыбин отвечать не стал, но мужичка это мало смутило. Вид у него был такой, словно он только что разоблачил законспирированную сеть иностранных шпионов. Он взглянул на Сокольникова в упор, словно предлагая незамедлительно представиться.
— Моя фамилия Сокольников. Я оперуполномоченный отдела БХСС.
— Я хочу сделать заявление, — гордо сказал мужичок. — Азаркин моя фамилия.
— Я вас слушаю. — Сокольников обреченно приготовился выслушать любую чушь.
— Моя жена совершила опасное преступление. И я, как гражданин, обязан — что? Так или нет?
— Что же она такое совершила?
— Нарушение правил о валютных операциях, — очень квалифицированно выговорил Азаркин. — Рыжьем торгует. Золотом то есть. Вот до чего дошла. Это как называется? Я на такое смотреть не могу. И как гражданин…
— Сокольников, — мрачновато позвал Цыбин, — он тут все изложил. Вот возьми.
А когда Сокольников подошел, добавил шепотом:
— Если б не заявление, я бы его в вытрезвитель отправил. Очень алкогольная личность.
Сокольников попытался разобраться в нетрезвых каракулях, но убедился, что с ходу этого сделать не удастся. Поэтому вздохнул и проговорил:
— Ну что ж, пойдемте ко мне.
В кабинете Азаркин, не дожидаясь приглашения, сразу же уселся на стул нога на ногу и кепочку свою натянул на колено. Он был готов к долгой и откровенной беседе.
— Рассказывайте, — Сокольников с сожалением взглянул на часы.
— Ей наследство досталось. Ну, жене моей, — начал Азаркин. — Не знаю там, тетка, кажется, из Куйбышева померла. В прошлом году. Богатая тетка, я тебе скажу. Кольца разные, кулончики, браслеты и рыжье. Царские червонцы. Вот она и начала монетами торговать. Я ей говорю: ты что, паскуда, делаешь! На зону захотела! Так же нельзя, это ж восемьдесят восьмая. А ей все нулем. Но я ж не могу на все это смотреть, ты ж понимаешь! Вы извините, что я на «ты». Вообще меня Николаем зовут. А вас, извиняюсь, как?
По словечкам, что то и дело сквозили в речи Азаркина, определенной юридической подкованности да еще по полублатной тягучей интонации Сокольников догадался, что заявитель прежде «тянул».
— Меня зовут Олег Алексеевич. За что судимы?
Вопросу Азаркин не удивился. Привык, как видно…
— Было дело. Случайно. Но я не о том. В общем, я такого терпеть не стал и пошел сюда. Каждое слово — чистая правда.
— Хорошо, — сказал Сокольников. — Ну а кому она продавала — вы знаете?
— Золото, что ль? Какой разговор! — обрадовался Азаркин. — Очень хорошо знаю. Может, мне и в заявлении надо было указать? Да я где угодно подтвердю. Слово, ну!
Сокольников испытывал растерянность. Муж на жену? Нда… А впрочем, чему тут удивляться… И на родителей в былые годы доносили. По другому, правда, поводу…
— Вы посидите в коридорчике, — распорядился он. — Мне надо доложить руководству.
— Понял, — сказал Азаркин, с готовностью исчезая за дверью.
Никому Сокольников звонить не собирался. Просто захотелось минут пять поразмыслить спокойно. По-человечески Азаркина нужно было выгнать пинками. Но по правилам требовалось отобрать объяснение. Сокольников был в некоторой растерянности…
Придвинул телефонный аппарат и набрал «100». «Двадцать два часа семнадцать минут», — сообщил автомат. Сокольников держал трубку около уха, пока не раздались гудки отбоя, потом осторожно положил на рычаг.
— Заходите, Азаркин, — пригласил он, распахивая дверь. — Вы с женой совместно проживаете?
— Ну! — сказал Азаркин.
— И… дети есть?
— Как же! — Азаркин оживился, вопрос ему очень понравился. — Двое. Старший, ты понимаешь, угрюмый, чертенок. А младший — весь в меня. Палец в рот не клади.
Сокольникову хотелось спросить, как же это Азаркин додумался заявлять на мать своих детей, но вместо этого сухо объявил:
— В общем, так. Завтра к одиннадцати приходите сюда. Будем решать.
— Все понял, — с нетрезвой угодливостью кивнул Азаркин. — Буду как штык. А объяснение брать не станете?
— Завтра, — буркнул Сокольников. — И объяснение завтра… если потребуется.
В глазах Азаркина он прочитал снисходительность к своей молодости и неопытности. Заявитель нахлобучил кепочку на лысеющую макушку, отчего сразу сделался похожим на вредный, несъедобный гриб.
— До скорого, гражданин начальник, — сказал Азаркин.
Утром он обо всем рассказал Трошину.
— Ты объяснение у него отобрал? — нетерпеливо перебил Трошин где-то посредине рассказа.
Сокольников пожал плечами.
— Нет. Противно было.
— Ну, Сокольников, ты даешь. — Трошин заходил по кабинету взволнованными кругами. — Чему вас там, на курсах, только учат! Ему дело само в руки идет, а он ушами хлопает. А если этот тип от всего откажется? Или вообще больше не придет?
— Воздух чище будет, — мрачно сказал Сокольников.
Трошин не расслышал. Он был весь погружен в обдумывание дальнейших действий.
— Поглядим-поглядим, — озабоченно пробормотал он. — Заявление зарегистрировал?
— Нет еще.
— Дай-ка его мне. Я сам… Все должно быть как положено. Чтобы ни у кого не было повода обвинить нас…
— В чем это? — удивился Сокольников.
— Как в чем? — Трошин удивился. — Хотя бы в укрывательстве преступления. Совершено серьезное преступление. Имеется официальное заявление. А ты? Этак до первой прокурорской проверки не доработаешь. Ты слышал, что в двенадцатом отделении было? Нет? Как-нибудь расскажу. Не-ет, так работать нельзя. Зачем мы тут сидим, по-твоему? Зарплату получаем… Народные деньги проедаем…
Глубокая убежденность и справедливое возмущение звучали в голосе Трошина, и Сокольников почти готов был поверить в искренность его слов. Не хватало только маленького штришка. Самой малости — Сокольников ощущал незавершенность.
После возвращения с курсов он работал в группе Трошина. В общем, они поладили, хотя Сокольникову претило трошинское морализаторство. Впрочем, у каждого свои недостатки, этот — не из худших.
— Где же твой заявитель? — требовательно спросил Трошин, показывая на часы, и как раз в этот момент в дверь постучали.
В кабинет просунулась сначала кепочка, а потом и голова Азаркина.
— Я извиняюсь. Можно?
— Заходите, — сказал Трошин.
— Здрасьте, Олег… я извиняюсь, забыл, как по отчеству, — сказал Азаркин, а все свое внимание уже полностью устремил на Трошина, мгновенно разобравшись, кто здесь главный. — Меня к одиннадцати вызывали. — Он подобострастно посмотрел на Трошина.
— Я в курсе, — изрек Трошин. — Повторите, пожалуйста, вкратце.
А Сокольников смотрел на Азаркина, и более всего его удивляло, что сейчас Азаркин был небрит в точности по-вчерашнему. Та же двухсуточная щетина покрывала его щеки и подбородок. А вот голос с утра был гораздо более хриплым. Пока Азаркин пересказывал свою историю, Сокольников делал вид, что занимается документами.
— …Я же просто не могу на такое смотреть, — с чувством излагал Азаркин. — Это же серьезное дело. Так или нет?
— Все правильно, — согласно кивал Трошин, — все логично.
— Государственное преступление! Нет, мимо таких фактов проходить нельзя, правильно я говорю? — взывал Азаркин, и Трошин подтверждал:
— Совершенно верно.
Контакт у них установился полнейший, что было свидетельством богатого психологического опыта Трошина. Они оживленно беседовали около получаса, пока Трошин, выяснив все, что представлялось ему важным, не отправился к начальству.
Некоторое время Азаркин сидел спокойно и разглядывал кабинет. Особенно ему понравился вымпел «Лучший оперативный сотрудник». Высоко задирая голову на тощей кадыкастой шее, Азаркин целую минуту внимательно его изучал. Потом интерес к живому общению пробудился в нем с новой силой.
— Я так понимаю, вы недавно тут работаете? — деликатно кашлянув в кулак, спросил он.
— Допустим, — строго ответил Сокольников. — И что же?
— Да это… вы без обиды, ладно? Как бы это… хватки пока не чувствуется. Понимаешь, о чем толкую, да? Вот старший ваш — другое дело. Сразу чувствуется. Но — без обиды, ладно? Я — по-свойски. Вашего брата я повидал. Да. Знаю. Деловой начальник, это точно. Вообще это дело наживное.
Сокольников безразлично пожал плечами. Не хватало еще, чтобы этот тип учил его жизни.
— Я вот одного опера знал, из розыска. Вот был человек! Шкаф! — Азаркин широко развел руки, демонстрируя физические размеры знакомого. — Его урки уважали. И, между прочим, очень спокойно всегда разговаривал. Не нервничал, что в вашей профессии наиважняк, верно?
Слушать воспоминания Азаркина не хотелось, но Сокольников не знал, как их прервать. Может потеряться психологический контакт — так учили на курсах. По счастью, скоро возвратился Трошин.
— Ваша жена сейчас где? — спросил он с порога.
— Дома, — сообщил Азаркин. — На больничном. Опять симулирует. У нее врачиха знакомая.
— Вы ей ничего не говорили?
— Ну что вы, — оскорбился Азаркин, — мы понимаем.
— Подождите в коридоре.
Азаркин вышел, а Трошин, охваченный азартом, распорядился:
— Поедете к нему домой и привезете жену. Машина у подъезда. Только в темпе.
Когда Трошин давал указания, он всегда переходил на «вы». Сокольников не понимал, как это так легко удается разговаривать почти одновременно на двух совершенно разных языках. Ему это не очень нравилось, но он мирился. У всех свои причуды.
— Может, кого другого послать? У меня тут бумаг разных накопилось, — сделал Сокольников попытку увильнуть от неприятного поручения.
— Это распоряжение Костина, — холодно сказал Трошин. — Машина внизу. С ней никаких разговоров. Сразу сюда, ничего не объясняя.
На машине сегодня работал Гена. По обыкновению, он сразу рванул с места на второй передаче, однако ехать было недалеко, и продемонстрировать весь набор трюков Гена не успел, хотя все же обругал по пути одного таксиста за слишком быструю, по его мнению, езду, а также частника на «Запорожце» — за чересчур медленную.
Дом, где жили Азаркины, был старый, строился, наверное, еще до революции. Между вторым и третьим этажами по всему его периметру на прохожих скалились лепные черти. У многих были облуплены рожи, от круглых голых животов отлетели кусочки, но в целом гляделись они еще достаточно внушительно, особенно в компании.
Дверь квартиры тоже очень старая — тяжелая, дубовая, с массивной чугунной ручкой. Таких дверей, к радости квартирных жуликов, нигде уже не делают. Их не вышибить ударом плеча.
Сокольников позвонил и ждал довольно долго. Потом за дверью услышал легкие шаги и женский голос:
— Кто там?
— Из милиции, — ответил Сокольников.
Загремели замки, в дверном проеме обозначилась худенькая женщина в заношенном домашнем халате. Ей могло быть и тридцать, и сорок, и даже больше — очень уж усталой она выглядела, с синевой под глазами и выступающими острыми ключицами.
— Проходите, — сказала она равнодушно и пошла вперед.
Вероятно, квартира эта могла бы выглядеть шикарной. Все здесь для этого было — и высоченные потолки, и огромный коридор, и даже дубовый паркет. Однако стены были обшарпаны, и комната, куда Сокольников вошел вслед за хозяйкой, тоже казалась унылой и даже сырой, хотя такого, разумеется, быть не могло.
— Здравствуйте, — сказал Сокольников, прогоняя томительное, тягостное чувство. — Извините, я, наверное, не вовремя… — Он произнес эти странные слова и удивился: зачем?
В комнате сидела еще одна женщина, совсем старая.
— Это из милиции, — с прежним равнодушием проговорила та, что его впустила.
— Колька! Подлец! — внезапно сказала старуха. Голос у нее был негромкий, но ясный не по возрасту.
— Что? — растерянно переспросил Сокольников, но старуха на него и не взглянула.
— Мне нужна Азаркина Надежда Григорьевна, — сказал Сокольников.
— Зачем это она вам нужна? — строго спросила старуха. — Без нее вы не обойдетесь?
— Не надо, мама, — сказала молодая. — Я — Надежда Григорьевна. В чем дело?
— Нужно, чтобы вы поехали со мной… это ненадолго.
— Чего это она с вами поедет? — не отставала старуха. — Нечего ей там делать.
— Не надо, мама.
Чем дальше, тем большую неловкость ощущал Сокольников.
— Сейчас я переоденусь, — сказала Азаркина. — Николай у вас?
— У нас, — признался Сокольников с тягостным ожиданием.
— Опять забрали, — сказала старуха. — Колька — подлец!
Азаркина ходила по комнате, без нужды перекладывая с места на место какие-то вещи.
— Мама, сходите за детьми, если я задержусь.
— Он что натворил? — спросила старуха, когда Азаркина ушла одеваться.
— Ничего страшного, — торопливо проговорил Сокольников, — просто нужно кое-что выяснить.
Старуха кивнула.
— В прошлый раз то же самое говорили. Пропади он пропадом!
На том месте, где стоял Сокольников, пол поскрипывал при малейшем движении. Чтобы избавиться от этого навязчивого звука, Сокольников сделал несколько шагов к старому платяному шкафу. Все вещи здесь были старые, но совсем не такие, какие продают в антикварных магазинах любителям старины. Такие вещи держат дома, когда на новые нет денег.
— Вы — его теща? — осторожно спросил Сокольников, чтобы разорвать напряженную тишину.
— Мать я ему, — горько сказала старуха. — Что, не похожа?
— Я не знаю, — смешался Сокольников.
— Всех замучил. Столько лет… Одно и то же, одно и то же. Ее, — она кивнула на дверь, за которой скрылась Азаркина, — детей, меня. Всех. Мне жизнь испортил. И им теперь портит.
— Что, сильно пьет?
— А вы не знаете? — насмешливо сказала старуха. — Алкаш он. Вам зачем Надежда понадобилась? Двое детей на ней. Сама больная. Молодая, а больная. И без того мается…
— Уточнить надо… кое-что, — с трудом пробормотал Сокольников, осознав, какую беду принес в этот дом. — Вы не беспокойтесь.
«Хорошенькое дело… — повторил он про себя. — Не беспокойтесь».
Старуха посмотрела на него пристально, словно почувствовала, что за речами пришельца кроется совсем иное, и взгляд этот окончательно поверг Сокольникова в смятение. К счастью, в этот момент вернулась Надежда. Она переоделась в темное платье, сидевшее на ней неловко, словно чужое. Ясно было, что Азаркина уже давно махнула на себя рукой.
— Вы ее там долго не держите, — потребовала старуха. — Нечего ее там держать. Дети дома.
Молча сошли вниз и молча поехали в управление. Сокольников был рад, что Надежда не задает вопросов, на которые он не знал ответа. А ей, кажется, было все равно.
У Азаркина с Трошиным, как видно, все это время продолжалась оживленная беседа. Азаркин расположился в кабинете совсем как свой — развалившись на стуле, с потухшей папиросой во рту. Задержанные так не сидят. Надежда сразу почувствовала несоответствие, и тень недоумения появилась на ее маловыразительном лице. Азаркин же, завидев супругу, поднялся навстречу с довольным и злорадным видом.
— Здрасьте, — с издевкой в голосе сказал он и не спеша двинулся мимо нее в коридор.
— Я пока там посижу, да, Георгий? — объявил он свое самостоятельное решение.
Надежда непонимающе поглядела ему вслед, потом перевела взгляд на Сокольникова, и ему тоже захотелось немедленно выйти.
— Садитесь, — приказал Трошин, делаясь недоступным и жестким.
Надежда послушно села, где показали, положив на плотно сдвинутые колени свою потертую сумочку.
— Азаркина Надежда Григорьевна?
Она молча кивнула.
— Я вам сейчас задам несколько вопросов, — напористо и громко говорил Трошин. — Но хочу вас предупредить сразу: от того, как вы на них ответите, зависит очень многое. Для вас. Важно не сделать ошибки. Неискренность может очень дорого обойтись. Вам ясно?
Надежда снова кивнула. Недоумение так и не сходило с ее лица. Недоумение, к которому постепенно начала примешиваться тревога.
— Вы прошлым летом получили наследство, так?
— Так, — тихонько сказала Надежда.
— Что за наследство? Какое?
Надежда нервно затеребила ремешок сумки.
— Вещи всякие… Сережек три пары, кулончик, цепочки там…
— Что еще?
— Две картины, статуэтка… Это моя тетка мне завещала, — словно опомнившись, она возвысила голос. — Моя родная тетка!
— Мне это известно, — прервал ее Трошин. — Так что там еще было?
— Посуда, серебро…
— И золото?
— Да… и золото тоже.
— Какое золото?
— Ну… монеты.
— Сколько?
— Семнадцать… да, семнадцать монет.
— Очень хорошо! — Трошин поднял руку, как бы призывая к особому вниманию. — Значит, семнадцать штук золотых монет царской чеканки. Червонцы.
— Да, — подтвердила Надежда, — по десять рублей.
— Где они сейчас?
Надежда опустила голову и долго молчала.
— Дома, — сказала она, не поднимая глаз.
— Все семнадцать? Вы меня слышите? Я повторяю вопрос: сколько монет у вас осталось?
— Теперь мне все понятно, — Надежда горько усмехнулась. — Вот, значит, что. А я думала, Николай опять… Продала я их. Девять штук продала. А что, нельзя? Не краденое.
— Ну, ладно, — тон у Трошина сделался удовлетворенным и мирным. — Сейчас мы все запишем, а потом посмотрим, что у вас получилось. Правду ли вы нам сказали.
— Зачем же вы их продали? — неожиданно спросил Сокольников и осекся под мгновенным яростным взглядом Трошина.
— А что мне было делать? — печально удивилась Надежда. — Есть что-то надо, детей кормить. Николай из тюрьмы вернулся и в первый же день все деньги из дома забрал. Как раз после получки…
Лицо ее скривилось, губы затряслись. Она торопливо раскрыла сумку и достала платок.
— Я на руки сто рублей получаю, да еще свекровь пенсию шестьдесят… У старшего школьной формы нет. А этот вернулся и в первый же день все деньги до копейки…
Она судорожно всхлипнула и прижала платок к подбородку.
Сочувственно кивая головой, Трошин быстро заполнял бланк объяснения.
— А кому монеты-то продали? — как бы мимоходом поинтересовался он.
— Пять штук этому… со станции техобслуживания. А еще четыре Ольга купила.
— Кто это — Ольга?
— Из магазина, — Надежда сделала неопределенный жест рукой. — Николай их обоих знает. Чего ж вы у него до конца все не выспросили?
— Спросим еще, — скороговоркой произнес Трошин, — порядок просто у нас такой. Порядок… А этого со станции техобслуживания как зовут?
— Константин… или Эдуард. Инженер он там. Да я же его совсем не знаю!
Сокольникова сейчас очень удивляло то, что Надежда совсем не высказывает озлобленности против Азаркина. Словно сделался он для нее некоей данностью, неизбежной и неотвратимой бедой, с которой она смирилась настолько, что даже забыла о ее существовании.
— Ну и ладно, — ласково сказал Трошин. — Прочтите и распишитесь. Здесь и здесь. Теперь посидите, пожалуйста, в коридоре. Нет, постойте! Олег Алексеевич, проводите Азаркина на другой этаж. А потом возвращайтесь сюда.
Трошин не хотел, чтобы супруги Азаркины оказались вместе.
Происходящее невероятно тяготило Сокольникова, ему хотелось сказать Надежде что-нибудь ободряющее, хотелось, чтобы все это вообще прекратилось, но в следующий момент он уже почитал свои желания несерьезными и недостойными взрослого человека и офицера, выполняющего служебный долг.
Азаркина же он сейчас почти ненавидел и, когда тот этажом выше попытался фамильярно о чем-то спросить, резко оборвал, приказав сидеть тихо.
— Понимаю, — нахально отозвался Азаркин и подмигнул. Он все понял по-своему и решил, что Сокольников попросту завидует Трошину в его умении ладить с людьми.
Сокольников вновь подошел к своему кабинету. Надежда его будто не заметила, сидела неподвижно, уставясь в стенку ничего не выражающим взглядом.
— Ты что, с ума сошел? — напустился на Сокольникова Трошин, едва он закрыл дверь. — Захотел все дело развалить? Может, ты ей еще консультации будешь давать, как себя на следствии вести?
— Она же совершенно не понимала, что этого делать нельзя, — раздраженно возразил Сокольников. — Откуда ей знать, что продажа золота с рук — это преступление. Она и сейчас этого не понимает.
— «Незнание закона не освобождает от ответственности…» — процитировал Трошин. — Тебе это на курсах должны были объяснить. Слушай, ты вообще чем занимался? Тебя тактике оперативного мастерства учили? Наше дело разобраться. Следователь задокументирует. А решать будет суд. Ты же обязан сделать свое дело быстро и как можно лучше. — Он ухмыльнулся. — Быстро я ее раскрутил?
И поскольку Сокольников молчал, Трошин закончил в более спокойном, назидательном тоне:
— Этому, друг любезный, тоже надо учиться. Нужно уметь ориентироваться.
Такие науки Сокольникову совсем не нравились, но говорить об этом он не стал и только спросил:
— Дальше чем будем заниматься?
— Все по порядку, — заверил Трошин. — Сейчас следователь возбудит дело, он нам уже выделен, я позаботился, пока ты за Азаркиной ездил. Ты его, кстати, знаешь. Это Гайдаленок. Нужно искать монеты. Ты вот Азаркину жалеешь, и чисто по-человечески я тебя понимаю. Но подумай: кто у нее покупал золото? Тоже несчастные люди? Тоже будем жалеть? Вот когда мы их прижмем, ты на них полюбуешься. Понимаешь, о чем говорю?
В чем-то Трошин был прав. Но правота эта так тесно перемежалась с тем, что Сокольникову было чуждо и неприятно, что отделить, вычленить одно из другого, казалось, не было никакой возможности. Это и удручало Сокольникова более всего.
Трошин аккуратно вшил объяснение Надежды в новенькую картонную обложку и поднялся.
— Я займусь чем надо, а Азаркину приглашу сюда. Нехорошо, что она без присмотра у нас. Мало ли что! Ты с ней посиди. Лучше пока ни о чем не разговаривай. На отвлеченные темы — можно. Но готовься к тому, что домой мы с тобой сегодня не скоро попадем…
Тяжело было Сокольникову сидеть наедине с Надеждой. Он все старался отделаться от неподходящих мыслей, твердил себе, что поступает так, как предписывает закон, и по-другому поступить не вправе, но сомнения точили, как зубная боль, и, пожалуй, впервые Сокольникову захотелось снова оказаться в своем КБ перед кульманом.
Надежда сидела молча и только изредка поглядывала на часики и робко — на Сокольникова. Он чувствовал этот взгляд, напрягался и начинал ожесточенно шелестеть бумагами.
Всего раз она сказала негромко:
— Мама Сашеньку уже из садика привела…
События между тем развивались. Пришел Гайдаленок, чтобы допросить Надежду Азаркину. Пока он этим занимался, Костин собрал у себя в кабинете оперативную группу. Кроме Трошина и Сокольникова туда вошел Витя Коротков — медлительный, сонный с виду опер из продовольственной группы — и ветеран Демченко, который дохаживал до пенсии последний год и был очень недоволен тем, что ему придется сегодня работать допоздна.
Прежде всего предстояло сделать обыск в квартире Азаркиных. Трошин решил поехать туда сам, и Сокольников даже вздохнул с облегчением, поняв, что ему не придется выполнять это тягостное поручение. Сокольникову была поставлена другая задача.
Надо сказать, что в деле Трошин смотрелся. Он сейчас казался даже значительнее Костина. Говорил убедительно и лаконично и не более того, что следовало сказать в данную минуту. Фамилии покупателей золота, например, до сих пор не называл, хотя ясно дал понять, что они уже установлены. Одного из этих покупателей, как выяснилось, Сокольников и должен был вместе с Витей Коротковым привезти в отдел.
На обыск вместе с Трошиным выпало ехать старику Демченко. Собственно, стариком он был только по милицейским меркам — лет пятидесяти с небольшим, сухой и вполне крепкий. Демченко заданием был крайне недоволен и немедленно принялся бурчать в окружающее пространство, утвердился, что он не лошадь и не палочка-выручалочка и молодым не вредно побегать с его…
— Хватит, Михаил Федорович, — строго сказал Костин, и Демченко, надувшись, замолчал.
Он служил в милиции лет тридцать и дослужился до капитана. В общем-то он был невредным человеком, но каждое продвижение любого из сослуживцев воспринимал с большим подозрением. Некоторые считали его завистником, но Сокольников скоро разобрался, что не зависть это, а просто накопившаяся обида на несложившуюся судьбу и на службу, которая всегда шла у него с великими трудами, несмотря на то что никакого другого дела в жизни он не знал и не умел. Демченко часто брюзжал, но пакостей никому не строил. К тому же опыт имел немалый.
Первыми ушли собираться Трошин и Демченко. Тогда Костин выбрался из-за стола и усмехнулся:
— Сокольников, ты знаешь, за кем сейчас поедешь?
— Я думаю, какой-то работник станции техобслуживания?
— Представь себе, работник этот не кто иной, как известный тебе Зелинский.
— Здорово! — Сокольников был действительно ошарашен.
Витя Коротков истории со «Стройдеталью» не знал и смотрел на них непонимающе.
— Это мой хороший знакомый, — объяснил Сокольников. — Жулик один. У Викторова на него материал был. Значит, опять повидаемся. Есть все же правда на свете!
— А ты сомневался! — укоризненно сказал Костин. — Тут мне Трошин поведал о твоих колебаниях. Запомни, Сокольников, если все делается по закону, то ничего не делается зря. Только брать его нужно осторожно, потихоньку. Он с работы выйдет, вы его аккуратненько и пригласите, без лишнего шума, чтобы монеты от нас не уплыли. А может, там и еще что имеется кроме монет.
— Не понимаю, — сказал Сокольников. — Почему бы к нему сразу с постановлением на обыск не поехать? Насколько мне известно, основания для этого есть. Прямые показания Азаркиной и ее мужа.
— Не совсем прямые. Фамилии они его не знают. Азаркин показал, где он живет, и мы быстренько установили. Сначала нужно, чтобы Азаркина его официально опознала.
— А второй покупатель кто?
— Трошин сейчас окончательно выяснит. Какая-то продавщица. Есть домашний телефон…
Трошин отворил дверь без стука, стремительно подошел вплотную к Костину и что-то негромко сказал.
— Да-а! — Костин изумленно поднял брови и покачал головой. А потом еще почесал затылок. — Интересная новость.
Трошин снова заговорил с ним, склоняясь к самому уху. Костин слушал и сосредоточенно размышлял.
— Кое-что переиграем, — объявил он. — На обыск к Азаркиной поедут Демченко и Сокольников. Демченко старший.
— А как же Зелинский? — обеспокоился Сокольников, но Костин его утешил:
— Зелинский — утром. Возьмете его от дома, по пути на работу. До утра времени много, в самый раз успеете.
Очень невеселая эта процедура — обыск. Ни для обыскиваемых, ни для тех, кому приходится его проводить. Пусть это необходимость, работа. Пусть даже ведется обыск у самого закоренелого, самого матерого преступника. Они, закоренелые, тоже живут не в одиночку. У каждого, как правило, семья…
Надежда Азаркина не была ни закоренелой, ни матерой. Когда Демченко зачитал постановление и предложил предъявить и выдать «деньги, ценности, оружие, наркотические вещества», Надежда торопливо поднялась с диванчика, где сидела в покорно-отрешенной позе, и принесла пластмассовую коробку с остатками теткиного наследства.
— Вот, — сказала Надежда, — а никаких наркотических веществ нет.
Не Демченко и Сокольникову предназначались эти слова, а понятым — двум женщинам, которых пригласили поприсутствовать из квартиры напротив. Сильно смущенные и подавленные происходящим, понятые торопливо закивали головами, но произнести что-нибудь вслух не осмелились.
— Я понимаю, — заверил Демченко, — это так полагается говорить по протоколу. Надо соблюсти, так сказать, формальности. Вы вот что, женщины, — повернулся он к понятым, — хочу предупредить: никаких разговоров разносить не надо. В жизни всякое случается. Бывает, что и приходится нам потом извиняться. Разберутся — и окажется, что нет ничего такого. Так что попрошу воздержаться!
— Да мы и не собираемся, — замахала руками одна из соседок, — что мы, Надежду не знаем!
— Если ничего нет, то и приходить было незачем, — сердито сказала Надеждина свекровь. — Нашли преступницу!
Она сидела на стуле у окна и держала на коленях младшего внука — худенького малыша трех лет. Малыш сидел тихо, только глаза таращил на незнакомых людей, заполнивших вдруг их квартиру. Старший сын Надежды — десятилетний парнишка — торчал неприкаянным столбиком в уголке.
— Мы — исполнители, мамаша, — примирительно произнес Демченко. — Нас послали, мы пришли. Какой с нас спрос! Никто ее в преступницы не записывает. Выяснится все.
Он придвинул удобнее стул и принялся перекладывать копиркой бланки протоколов.
— Вы бы детишек взяли в другую комнату. Тут не место.
Надежда поднялась, но свекровь сказала с горьким вызовом: «Сиди, пусть смотрят!» И Надежда послушно опустилась на место.
— Зря вы так, — укоряюще покачал головой Демченко. — Не надо бы… Ну, дело ваше. Ты тут взгляни, Олег, а я протокол оформлять буду.
Смотреть в этой квартире было в общем-то нечего и не на что. Но все равно Сокольников был обязан провести обыск по всем правилам, как учили на курсах. Обойти каждое помещение по часовой стрелке, тщательно осматривая ящики, полки, шкафы и прочие места, пригодные для сокрытия «предметов, имеющих значение по делу». Таких мест в комнате было только два — старый шифоньер и облупленный письменный стол, за которым, наверное, старший сын Азаркиной делал уроки. Сокольников нерешительно двинулся к шкафу, но в этот момент громко хлопнула входная дверь, по коридору протопали шаги, и в комнату ввалился Азаркин.
— Привет компании! — Он приподнял кепочку и вежливо поклонился, удерживая равновесие изрядным усилием воли.
Из управления он ушел часа два назад и провел это время с большим для себя удовольствием. Настроение у него было приподнятое и изрядно подогретое. Оценив обстановку, однако, он счел нужным принять строгий и печальный вид. Азаркин ухватил свободный стул и уселся рядом с матерью.
— Ирод ты, — сказала старуха. — Скотина!
— Мать! Не надо этих слов! — убежденно возразил Азаркин. — При детях, понимаешь, на отца!.. Я тоже много всяких выражений знаю.
Нетвердый его взгляд упал на малыша.
— Сашка! Ну-ка, сынок, иди к папке!
Преодолевая сопротивление старухи, Азаркин перетащил малыша к себе на колени и принялся гладить по головенке нащупывающими, плохо скоординированными движениями пьяницы.
— Такие вот дела, Сашка. Мамка твоя — преступница. Да-а. Мамку твою в тюрьму теперь посадят.
Сашка вполне уже освоился с обстановкой и что-то весело лепетал, хитро поглядывая на незнакомых, но, по всей видимости, не злых теть и дядь.
Сокольников невольно перевел взгляд на Надежду и вздрогнул от неожиданности. Лицо ее вдруг переменилось, глаза расширились и налились гневными слезами.
— Преступница твоя мамка. Слышь, что говорю, Сашок?
— Отдай ребенка! — тонко и пронзительно крикнула Надежда, сорвалась с места, подлетела, выхватила сына.
Азаркин, испугавшись, отпрянул, потерял равновесие и едва не свалился со стула. Сашка тоже испугался и было затрубил негромко, но вспышка эта, отнявшая у Надежды остатки воли и сил, уже прошла.
— Ты прекрати мне! — запоздало цыкнул Азаркин, косясь на Демченко.
Он чувствовал себя неуверенно и не знал, как поступить.
— Спокойнее, граждане, — с невозмутимостью автоответчика сказал Демченко, до этой минуты ни разу не поднявший глаз от бумаг. — Теперь послушаем внимательно. Протокол. От семнадцатого сентября…
Возвращались пешком: машину вызвали по рации в управление и передали в распоряжение уголовного розыска — там закрутилась какая-то серьезная и хлопотная работа. Уже стемнело. Вечер был тихим и теплым. Уходящее лето отдавало последние свои щедроты. Ходить по пустым улицам такими вечерами покойно и приятно, поэтому ни Сокольников, ни Демченко не сделали попытки прокатиться на трамвае. Они просто пошли уютными переулочками, в которых и в дневное время почти никого не встретишь.
— Дрянное дело, — нарушил молчание Демченко и сплюнул: — Дуры бабы, подберут невесть кого, потом всю жизнь так расхлебывают.
— Неужели до суда действительно дойдет, Михаил Федорович?
— Это уж как твой приятель Трошин повернет. Да еще Гайдаленок. Хотя по сути, как ни крути, итог один. Монеты она продавала? Продавала. Показания есть, доказательства мы сегодня изъяли. Чистая восемьдесят восьмая. Поганое, в общем, дело.
— Хорошо хоть, позориться не стали с обыском, — сказал Сокольников. — Не хватало еще у нее в вещах ковыряться. Это вы правильно решили, Михаил Федорович.
Демченко остановился и круто развернулся к Сокольникову.
— Как это не стали? Ты что это такое говоришь, молодой? Может, тебе в органах работать надоело? Постановление на обыск есть. Как это можно его не выполнить? Конечно, я за тебя не отвечаю, мог и проглядеть, как ты сегодня работал. Мое дело документы оформить, а твое — квартиру осмотреть. Я тебе поручил. Так что ты смотри!
— Да что вы, Михаил Федорович, все в порядке, все как положено, — торопливо оправдывался Сокольников, не ожидавший от своего напарника такого всплеска сверхосторожности.
— Это другое дело, — успокоился Демченко. — И вообще языком поменьше чеши. Мой тебе совет.
Они снова зашагали рядом. Но Сокольников все-таки не угомонился и попытался еще поспорить:
— Михаил Федорович! Но если по-человечески посмотреть…
— По-человечески я буду жить на пенсии, а на службе — как положено, понял? И не дай тебе бог где-нибудь языком ляпнуть. Подведешь и себя и меня.
— Да я ж между нами.
— Вот я и говорю.
Демченко вздохнул:
— Ребят жалко. Детишек.
— Ну не посадят же ее, в конце концов!
— Всякое случиться может, — покрутил головой Демченко. — Черт его знает. Тут, видишь ты, вперед заглядывать не приходится.
Разговор этот, видно, пробудил в нем какие-то сокровенные мысли, потому что через пару минут он вдруг сказал:
— Раньше проще было. Люди порядок знали. Я-то с сорок шестого в органах. В то время такого себе не позволял.
— Что ж, тогда преступников не было? — усомнился Сокольников.
— Преступники были. Так то преступники. А сейчас каждый только и смотрит, где бы чего урвать. Ну кто ее, дуру, за руку тягал, скажи на милость? С голоду, что ли, помирала? Не помирала. Все оттого, что порядка нет. С пятьдесят третьего все и покатилось.
— Это когда Сталин умер, что ли?
— Ну! Я-то хорошо те времена помню, хотя и был почти пацаном. Не-е-ет, стране хозяин нужен.
Спорить на эту тему с Демченко было бесполезно.
— Жалко Надежду, — перевел Сокольников разговор в прежнее русло.
— Думаешь, надо было… — проворчал Демченко. — Гайдаленок вообще ее арестовывать хотел, чтобы следствию не мешала. А то откажется от показаний, потом побегаешь.
— Что он, с ума сошел! — возмутился Сокольников. — А дети на кого останутся? На алкаша этого? Бабка ведь совсем старая.
— С ума не с ума… А ты что думаешь? Алкаш, кстати, твой — сейчас первейший друг следствию. Главный свидетель. Дети — это верно, но их можно в крайнем случае и в спецприемник поместить, такое бывает, — по-деловому объяснил Демченко.
Теперь уже Сокольников остановился и уставился на него.
— Михаил Федорович, вы что, серьезно, что ли? Какой еще спецприемник? А если ваших детей в спецприемник?
— Моего не примут, мужик уже. Да ты не шуми. Не бойся, не арестуют твою Надежду. Он тоже, Гайдаленок твой, на рожон переть не станет. Я ему объяснил кое-что, вправил мозги. Он понятливый. Далеко пойдет. Вроде Трошина твоего.
— Чего это вы их всех моими называете? Какие они мои?
— Это у меня привычка такая. Пошли, что ли!
Управление было уже совсем близко. Только за угол свернуть.
— Можешь двигать домой, — объявил Демченко. — Костин велел передать, что завтра в половине шестого утра за тобой придет машина. Поедешь Зелинского отлавливать, — он сделал паузу. — Своего…
Трамвая Сокольников дожидаться не стал, дошел до метро пешком. Толкотни на станции по вечернему часу уже не было, но народа все же хватало — чувствовалась близость железнодорожного вокзала. Ступив на эскалатор, Сокольников увидел впереди женскую фигуру, вдруг показавшуюся поразительно знакомой. Надежда! Но спустился вниз на десяток ступеней и убедился в ошибке. Совершенно непохожа, разве что платье… Но еще раз за время недолгого пути ему чудились в окружающих черты Надежды Азаркиной, а потом он понял, что это уставший мозг тревожит память о происшедшем.
«Переработал, — объяснил он сам себе, — переутомился…»
Ему не хотелось сейчас ни о чем разговаривать, и он был рад, что дома все уже спали.
Принадлежавшие Зелинскому синие «Жигули» последней модели стояли на асфальтовой площадке метрах в пятидесяти от подъезда. Наверное, Зелинский часто смотрел на них из окна своей квартиры. Здесь и решили его дожидаться. Свою «Волгу» поставили неподалеку — прятаться пока нужды не было. Все втроем — Демченко, Витя Коротков и Сокольников — сидели в машине: выходить с недосыпа на утренний холодок не хотелось. Молчали. Смотрели на подъезд, откуда должен был выйти Зелинский, и на часы.
Минуло шесть. Мимо машины пару раз прошла дворничиха — молодая, крепко сбитая, с раскосыми темными глазами.
— Срисовала уже, — ухмыльнулся водитель Гена. — Ушлые пошли лимитчицы.
— Почему лимитчицы? — вяло возразил Коротков. — Может, студентка прирабатывает.
— Какая студентка! Лимитчица. Горьковская область, Краснооктябрьский район, село Мочалей, — безапелляционно заявил Гена, — все московские дворники оттуда. Спорим?
Спорить, однако, никто не пожелал. Тогда Гена скукожился на своем водительском месте и почти сразу засопел. Спать прошлой ночью ему пришлось меньше всех.
Двор постепенно просыпался, двери подъездов хлопали все чаще, выпуская на работу хмурых москвичей. Где-то высоко над землей из раскрытого окна внезапно, без всякого предупреждения, грянуло в сотню электронных децибелов:
— А-ах! А-арлекино! А-рлекино! — и тут же оборвалось, словно захлебнувшись собственной дерзостью.
Гена вздрогнул, пошевелился (почесал ухо) и засопел еще прилежнее.
Сокольников глядел на подъезд не отрываясь, как ему казалось, но появление Зелинского пропустил. А когда сморгнул набежавшую от напряжения слезу, оказалось, что Зелинский уже подходил к машине.
— Он!
— Пошли! — скомандовал Демченко, и они выскочили каждый со своей стороны, лихо хлопнув дверцами.
Зелинский повернулся на этот стук, и лицо его выразило тревогу.
— Прошу пройти, — Демченко взмахнул удостоверением.
— В чем дело? — сказал Зелинский без малейшего удивления и вдруг громко крикнул: — Что такое?! В чем дело!!
И Демченко, и Коротков, и Сокольников на секунду опешили, пораженные неспровоцированной силой звука этих вопросов.
— Не надо кричать, — сказал Витя Коротков.
— Оставьте меня в покое! — завопил Зелинский на весь двор. — Я никуда не пойду! В чем дело! Это самоуправство!
Даже не поднимая головы, Сокольников почувствовал, сколько сразу появилось в окнах дома любопытствующих лиц.
— Тэ-эк! — Крякнув, Демченко ухватил Зелинского под руку.
Но Зелинский не упирался, сразу начал послушно переставлять ноги в сторону оперативной машины, но вопить не переставал и делал это не столько с чувством, сколько очень громко.
— Хулиганство! — надсаживался он. — Оставьте меня в покое! Вы что, с ума сошли!
Его довели, как тяжелобольного, и усадили на заднее сиденье. В машине Зелинский успокоился и принялся шумно отдуваться — крик отнял у него немало сил. И тут Сокольников догадался:
— Михаил Федорович! Он же своих предупредить хотел!
По тому, как злобно дернулся Зелинский, стало ясно, что Сокольников попал в точку.
— Оставайтесь здесь, — распорядился Демченко. — Я его сам доставлю. Чтоб из квартиры никто ничего не унес!
Двигатель машины уже завывал на полных оборотах, едва закрылась дверца, она прыгнула вперед, как камень из рогатки, — Гена вступил в свои права.
Сокольников и Коротков с интересом поглядели ей вслед: машина домчалась до поворота, кренясь и скрипя, свернула и исчезла.
— Чтоб никто не унес, значит, — флегматично пробормотал Витя Коротков. — Легко сказать!
А в Сокольникове уже пробудился оперативный азарт, он тянул Витю, торопясь и переживая, что может опоздать.
Они взбежали на шестой этаж, не обращая внимания на ожидавший внизу лифт. Квартира Зелинского была закрыта. За дверью, обитой добротно и даже богато, с набором никелированных замков, стояла тишина. Наклонив голову, Сокольников прислушался и почувствовал, что с другой стороны двери кто-то тоже стоит и слушает затаив дыхание. Тогда оба тихонько спустились пролетом ниже и устроились на широком подоконнике.
— Что будем делать? — шепотом спросил Сокольников.
— Всех, кто выйдет из квартиры, будем задерживать и отводить в опорный пункт, — подумав, сказал Коротков. — Тут недалеко.
На площадке щелкнул замок, они сразу насторожились. Но отворилась дверь не Зелинского, а квартиры напротив. Оттуда, из образовавшейся темной щели на них сначала долго смотрели, а потом вышла старуха — грузная и седая, с растрепанными лохмами. Переваливаясь, стала спускаться к ним с помойным ведром в руках. Она что-то злобно бубнила на ходу, смотрела на них с сильнейшей неприязнью и вызывающе гремела ведром об откинутую крышку мусоропровода. Потом так же шумно поднялась наверх, а когда уже входила в свою квартиру, хрипло прокаркала:
— Пьянь! Сволочь! Собрались тут с самого утра! — и быстро захлопнула дверь.
— Ведьма, — тихонько сказал Сокольников.
Старуха приняла их за местных алкашей. А может, просто такая неприветливая по натуре была старуха.
Витя Коротков ничего не сказал. Покачал головой и достал пачку сигарет. Дверь старухи немедленно приоткрылась.
— Еще чего! Дымить тут удумали! Все табачищем провоняли! Сейчас я на вас милицию вызову, паразитов!
И тут же — бряк! — снова захлопнулась.
Теперь уже Коротков с досадой прошептал какое-то слово, но сигареты спрятал.
Словно огромный разбуженный улей, загудел лифт. Кабина миновала их площадку и еще долго ползла на самый верх. А из квартиры Зелинского вышел мальчишка лет девяти в школьной форме и ранцем за плечами. Дверь быстро закрыли изнутри, и мальчишка, робко взглянув на незнакомых хмурых дядей, развалившихся на подоконнике, поспешил укрыться за проволочным ограждением шахты, дожидаясь, пока лифт освободится. Он стоял там не шелохнувшись, затаившись, как мышонок, наверное, с пальцем на кнопке вызова, а Сокольников смотрел на его лопоухий силуэт и чувствовал, как в душе вновь поднимается тревожная волна, соединившая вдруг Надежду с ее детьми и этого мальчишку в единый источник томительного щемящего беспокойства. Но дело есть дело, сколь оно ни противно подчас. Подошел к мальчику: «Что в ранце?» Тот торопливо сорвал ранец со спины: «Учебники, бутерброд, вот…» И в самом деле, больше ничего в ранце не было. Мальчик спустился вниз.
Больше из квартиры никто не выходил, и, когда через несколько невероятно долгих часов наконец появилась смена, Сокольников вздохнул с облегчением оттого, что на этот раз оказался избавленным от участия в развязке…
Следующие два дня Сокольникова послали работать с оперативной группой возле комиссионного автомагазина. Вообще туда должен идти Трошин, но в связи с делом Азаркиной его оставили. Что происходило в отделе в течение этих двух суток, Сокольников не знал, потому что сам возвращался домой поздно. Работали удачно и поймали одного спекулянта частями и трех перепродавших только что купленные автомобили за две тысячи сверх цены.
Так что только на третий день Сокольников встретился с Трошиным. Это был день выдачи зарплаты. Сокольников уже привык к тому, что в милиции зарплату выдают раз в месяц. Это ему даже нравилось, поскольку делало этот день особенно приятным и ожидаемым — как же, «день чекиста», двадцатое число. Зарплату всегда выдавала Зина из канцелярии. Ей тоже это нравилось, потому что в этот день она была для всех самым уважаемым в управлении человеком, да к тому же еще получала какую-то прибавку к окладу за исполнение обязанностей кассира. Но вида она не подавала, напротив, считала нужным показать, что сильно этим тяготится.
Как и все, покорно и тихо Сокольников стоял в очереди к столу Зины, когда в канцелярию вбежал Трошин. Размахивая пачкой бумаг, приговаривая: «Мужики!.. извините, мужики!» — он протиснулся без очереди, схватил получку не пересчитывая, небрежно черканул в ведомости и убежал, успев на ходу бросить Сокольникову:
— Ты вечером меня обязательно дождись!
Он бегал где-то, но минут за пятнадцать до окончания рабочего дня действительно появился. Вместе с ним был и Витя Коротков, как всегда спокойный и немного сонный.
— Ты что же так себя ведешь, Олег? — с напускным возмущением заговорил Трошин. — Столько уже работаешь, а прописываться не собираешься! Пора уже, куда ж дальше затягивать.
— Что за вопрос! — солидно сказал Сокольников, стараясь не показать виду, что обрадован этим разговором.
До сих пор внеслужебная жизнь его коллег протекала от него как бы в стороне. На мероприятия сугубо мужского характера его пока не приглашал никто, хотя Сокольников уже знал, что в отделе имеются на этот счет кое-какие традиции. И ему всегда становилось неловко и обидно, когда такие мероприятия организовывались, а Сокольникову приходилось делать вид, что он в неведении и ни о чем не догадывается.
— Может, ко мне пойдем? — деловито предложил он.
— А что у тебя?
— Нормально. У меня своя комната, родители нам не помешают.
Взвесив это предложение, Трошин отрицательно покачал головой:
— К тебе как-нибудь в другой раз. Сегодня лучше в одно место сходим. — Он повернулся к Короткову: — К Панфилычу двинем?
— Давай, — флегматично согласился тот.
Это маленькое кафе стояло несколько в стороне от основных людских потоков и посещалось народом умеренно, чему способствовала в немалой степени сугубая скудость ассортимента. Выпивохи со своим продуктом сюда тоже не заглядывали: немногочисленный, но сплоченный персонал гонял их нещадно. Правда, тут продавалось в розлив марочное вино и коньяк, однако по причине высокой цены у алкашей они успехом не пользовались. По всем признакам, кафе было убыточным, и совершенно неясно, каким образом его до сих пор не ликвидировали.
Хозяин кафе, заведующий Панфилыч, сухой и крепкий еще человек, отчего-то прикидывался глубоким стариком. Он все время сутулился, семенил и подслеповато прищуривался, хотя в очках явно не нуждался. Гостей он встретил с большим радушием. Тряс им руки и сетовал, что редко заходят. Гостям был немедленно предоставлен скромный, но отдельный кабинет с обшарпанным потолком, окнами, тщательно укрытыми занавеской, и массивным сейфом в углу. Здесь было рабочее место Панфилыча, которое он уступал дорогим гостям. Сокольников заметил на стене грамоту за победу в социалистическом соревновании. Грамота здорово пожелтела, чернила выцвели, и Сокольников даже приблизительно не сумел установить, когда ее вручали.
На общепитовском столе тут же появились двойные порции сосисок с кислой капустой, тарелка хлеба, пара бутылок лимонада, одна — водки и чистая посуда. Лимонад был высокого качества — предварительно охлажденный в личном Панфилычевом холодильнике, что также являлось свидетельством особого уважения. Сокольников впервые в жизни смог почувствовать, что подобное внимание приятно.
— Давай-ка с нами, Панфилыч, — предложил Трошин, но тот мелко затряс головой.
— Ни-ни-ни, ребятки, мне никак нельзя. — Но, однако же, дал себя уговорить: — На полпальчика!
Выпил, не дожидаясь общей команды, крякнул, тут же поднялся и убежал, сославшись на неотложные дела в заведении. Ни Трошин, ни Коротков уходу хозяина значения не придали, из чего Сокольников заключил, что это в духе сложившихся тут традиций.
— Ну, Олежек, — ласково сказал Трошин, — за твое вхождение в наш дружный и сплоченный коллектив. За твои будущие успехи.
Сокольников быстро начал жевать, стараясь перебить противный водочный запах во рту. Сегодня он толком не пообедал, и спиртное сразу ударило в голову. На душе сделалось тепло и покойно. Трошин и Коротков, почувствовал Сокольников, это замечательные ребята. Он испытывал к ним любовь и благодарность.
— Ну и как вообще? — спросил Трошин. — В моей группе интереснее, чем у Викторова было?
— И сравнивать нечего! — с готовностью отвечал Сокольников. — Тут работа живая — куда интереснее. Мне эти счета и накладные, честно, не нравились. Георгий, а как дела с Зелинским?
— О делах ни слова, — вяло возразил Витя Коротков, налегавший на капусту с сосисками. — И на работе наговорились. Надоело.
Но сейчас Сокольникову больше всего хотелось поговорить о работе, об общем большом и очень важном деле, которое они — профессиональные оперы службы БХСС — вершили рука об руку.
— Нет, серьезно. Как там Зелинский? А то я ничего не знаю.
— Нормально, — усмехнулся Трошин. — Повозиться, правда, пришлось порядком. Непростой он фрукт, Зелинский. Оч-чень непростой. На обыске-то мы у него ничего не нашли.
— Как?
— Очень просто. Когда он начал орать под окнами, жена быстро сориентировалась и монеты вместе с ценностями и деньжатами знаешь куда дела? Попробуй догадайся!
Догадываться Сокольников сейчас не пытался.
— Все драгоценности она спустила в мусоропровод в банке из-под оливок и тут же позвонила бабке — мамаше своей. Та приехала и забрала… Пришлось, разумеется, как следует поработать с ними. Но все нормально. Убедил. Отдали монеты, все как одну.
— У бабки тоже обыск проводили? — заинтересовался Сокольников.
— Зачем, — махнул рукой Трошин. — Старого человека беспокоить ни к чему. Мы на джентльменском соглашении. Съездили вместе с женой Зелинского, зашли, она у мамаши сверток взяла и мне вручила. Оформили протоколом добровольной выдачи. А Зелинского все же арестовали, — закончил он с удовлетворением.
— Да. — Сокольников задумался. — А чего же у Надежды так нельзя было? Я имею в виду добровольную выдачу.
— У кого? У Азаркиной? Ну что ты! Она же основная обвиняемая по делу. Нас бы не поняли. В руководстве, в прокуратуре… Мы не в вакууме живем, парень, пора понять…
— Обвиняемая! — сказал Сокольников, постепенно впадая в мрачное настроение. — Какая же она обвиняемая! Веришь ли, Георгий, не лежит душа ко всему этому.
— И напрасно, — строго сказал Трошин. — Во-первых, закон одинаков для всех…
При этих словах Витя Коротков поднял голову от своих сосисок и насмешливо хмыкнул.
— В основном, — не смущаясь, уточнил Трошин. — Во всяком случае, нас бы не поняли, если бы мы поступили иначе. Я тебе все это уже объяснял. А во-вторых, это лишний пример того, как пустяковое начало имеет солидное продолжение. Ниточки-то потянулись. Разве ты недоволен тем, что Зелинского удалось прижать? Твой Викторов, кстати, этого грамотно сделать не сумел. А мы — сумели!
— А что тут странного! — подал голос Коротков. — Зелинский в районе теперь всем чужой. Один раз его вытащили, а теперь все.
— Не трепи, чего не знаешь! — обрезал Трошин. — Кто его вытаскивал? Не было на него ничего, вот в чем суть.
— Мы знаем, — упрямо сказал Коротков, — на кого было, на кого не было…
— Знаешь и помалкивай… — Трошин попытался увести разговор в сторону. Сокольников видел, что такой разворот для него чем-то неприятен. — Дело не в этом. В нашей работе надо быть чуть-чуть политиком. Немного смотреть вперед, уметь оценивать перспективу.
Трошин даже руками показал, как нужно ее оценивать, — будто водосточную трубу огладил.
— Я прав, Витя, или нет?
Коротков тщательно прожевал и проглотил сосиску, а потом медленно наклонил голову.
— Вообще-то не очень… — осторожно возразил Сокольников, опасаясь нарушить теплую атмосферу застолья. — Нарушил — отвечай.
— С этим никто не спорит. Однако теория — одно, а практика — совсем другое. — Трошин задумчиво повертел в руке вилку. — Не учитывая этого, работать очень сложно, ты это скоро поймешь. Но главное все же, что Зелинский сидит. Это и есть результат.
— И Азаркина тоже сядет, — неизвестно с какой целью добавил Витя Коротков.
— Давай разберемся, — согласился Трошин.
От алкоголя щеки его порозовели, румянец очень шел к его лицу. Он был похож сейчас на ударника производства с плаката.
— Разве кто-нибудь принуждал ее продавать монеты? Может, у нее не было иного выхода? С голоду помирала? Во-первых, своего супруга она могла возвратить туда, откуда он совсем недавно пришел. Всего только и нужно было — вызвать участкового. Да с его двумя судимостями!.. А если тяжелое материальное положение, почему она не обратилась в профком на своей работе? Неужели не помогли бы?
Он откинулся на спинку стула и удовлетворенно оглядел собеседников. А Сокольников подумал, что Трошин опять в чем-то прав. Но все равно ему было очень жалко Надежду Азаркину.
По синей пластиковой поверхности стола давно уже ползала назойливая осенняя муха, Сокольников уже не раз пытался ее прогнать, но она вновь и вновь упрямо садилась почти на одно и то же место.
— Я одного не пойму, — сказал Коротков, — какого черта этот алкаш пришел заявлять на свою жену? Чего он от этого выигрывает? Ведь его самого, дурака, посадить могут, если окажется, что он участвовал в продаже.
— Я тоже вначале не понимал, — засмеялся Трошин, — пока не раскусил его психологию. Она проста, как орех. Азаркин тянул с жены деньги, сколько мог, а когда она наотрез заартачилась — хоть убей, не дам — у баб это бывает, я знаю, — ему стало обидно.
— Неужто от обиды он к нам поперся? — усомнился Коротков.
— Точно! Но это не все. Дружки-алкаши ему посоветовали: если жену в тюрьму удастся упрятать, то квартиру можно будет разменять и сорвать приличную доплату.
— Что-то не верится мне, что он такой идиот, — сказал Коротков. — С его-то тюремной квалификацией!
— Во-первых, он алкоголик, — пояснил Трошин. — У него мозги набекрень. А потом выгода-то какая! Вдруг проскочит! Ведь и в самом деле может проскочить. Кто знает, как все развернется!
— Ну, ладно, — Коротков посмотрел на часы, — мне пора.
— Не спеши, — удержал его Трошин, — успеешь. Сейчас вот минералочки у Панфилыча попросим…
Муха наконец убралась со стола, перелетела на плечо Трошину и уютно устроилась, оглаживая ворсинки отличного трошинского костюма из заграничной шерсти.
— В любом случае все, что мы делаем, вполне соответствует духу и букве закона, ты со мной согласен, Олег?
Букве может быть, а духу как-то не очень, подумалось Сокольникову, но вслух он вяло промямлил:
— Кто его знает…
Он, конечно, мог бы поспорить, но мысли растекались, как желе на солнце. К тому же очень мешала та самая муха, необъяснимым образом стакнувшаяся с Трошиным и безгласно выступающая на его стороне. Она ползала и путала мысли.
Зашел Панфилыч, мягко смахнул пустую посуду со стола и поставил еще пару бутылок минеральной. Коротков налил немного в свой стакан и вдруг засмеялся:
— А как он орал, Зелинский! Жалко, ты, Георгий, не слышал.
— Да уж, — сказал Трошин. — Не повезло.
— Ну ладно, мне домой пора, — объявил Коротков без всякого перехода и паузы. — Вы пойдете?
Он был человек серьезный, давно женатый. Трошин, впрочем, тоже был женат, но Сокольников еще ни разу не слышал, чтобы он как-то упомянул о домашних делах. И не от скрытности, а оттого, что Трошина эти дела в самом деле мало интересовали.
Они распрощались у трамвайной остановки. Сокольников зашел в вагон, и вновь ему почудилось, что на переднем сиденье в своем старушечьем платье сидит Надежда Азаркина. Он даже сделал несколько шагов в ее сторону, чтобы убедиться в своей ошибке наверное…
Утром зарядил дождь. Неподвижные тучи обложили небо. Дождь был холодный, какой-то вязкий, и сразу стало понятно, что лето кончилось.
Ужасно тяжело было вставать сегодня именно из-за погоды. Сокольников даже опоздал на работу, хотя и пытался изо всех сил наверстать минуты, сверх положенного отданные подушке. К счастью, никто из начальства на пути не попался, даже Трошина в кабинете не было, хотя какой-то кремовый плащ аккуратно висел на вешалке.
Вялость, сонливость вновь овладели Сокольниковым, едва он перевел дух и опустился на свой стул. Достав для вида и раскрыв какую-то папку, он бессовестно задремал, да так крепко, что едва услышал шаги Трошина в коридоре.
— А! Ты здесь! Хорошо. — В отличие от Сокольникова, Трошин был свеж и полон сил. — Есть для тебя кое-какая работа. Сейчас придет одна дама. Ты ее допроси. Бланк у тебя есть? На вот, возьми. Кстати, ты ее знаешь. Ратникова — директор рыбного. Азаркина дала показания, что ей тоже продала монеты. Вот по этому факту и допроси, считай, это поручение следователя. Опознание только что провели. Особо не нажимай, спокойно и сдержанно. Ты меня понимаешь? Хорошо. А я сейчас к Гайдаленку…
Все эти слова Трошин произносил как бы мимоходом, давая понять, что задание пустяковое и чем скорее с ним справится Сокольников, тем больше времени у него останется для настоящих важных дел.
И все же сон мигом слетел с Сокольникова. Ну, дела! Ратникова, та самая, оказывается. Вот тебе и симпатичный директор.
Она постучала негромко, деликатно, наверное, едва касаясь филенки тонкими пальчиками.
— Можно?
Изящно неся аккуратно постриженную головку, простучала по полу каблучками — стук-стук. Села и гладкую, без единой морщинки юбку оправила тоже очень изящно, демонстрируя, наверное, как это полагается делать по высшему классу.
А потом без тени робости посмотрела на Сокольникова, уверенная и гордая в своей зрелой, испытанной красоте.
— Здравствуйте. Мне сказали, в ваш кабинет…
— Все правильно, — подтвердил Сокольников, усиленно хмурясь. — Я вас должен допросить. По поручению следователя.
— Пожалуйста.
Обретая уверенность, Сокольников без нужды ворохнул на столе бумаги.
— Вы знакомы с Надеждой Азаркиной?
— С этой женщиной? — Ратникова слегка надула губки. — Нет. Хотя она меня, возможно, видела в магазине.
— А с ее мужем?
Она сделала брезгливую гримаску.
— Как-то приходил проситься на работу. Но я таких типов и на порог не пускаю.
— Нам известно, что вы приобрели у Азаркиной четыре золотые монеты.
Ратникова вскинула руку, предварительно изогнув ее в кисти и расслабив пальцы. Получилось очень грациозно.
— Ну что вы! И в голову бы не пришло. С какой стати?
— Напрасно вы так, — мрачно сказал Сокольников. — В деле есть прямые показания. Если мы найдем монеты…
— Ищите, пожалуйста, — любезно разрешила Ольга Аркадьевна Ратникова. — Даже странно как-то. Мы же интеллигентные люди…
— Вы только хуже себе делаете, — без особой убежденности сказал Сокольников. — Стоит ли отрицать очевидное?
Он понимал, что говорит не то и не так, догадывался, что Ольга Аркадьевна отчего-то подготовлена к этому разговору гораздо лучше, но перестроиться не мог.
— Ну, знаете, — повела плечиком Ратникова, — не вижу тут ничего очевидного. Два алкоголика меня чернят. Мне даже неудобно напоминать старую пословицу: муж и жена — два сапога пара.
— Азаркина не алкоголик.
— Да? — удивилась Ольга Аркадьевна. — А вы на нее повнимательнее посмотрите. Поверьте, уж в этом я разбираюсь. Повидала, знаете.
— Вы же говорили, что ее не видели!
— Отчего же? Я сказала: возможно. И вообще ищите сколько вздумается. Мне просто жаль вашего времени.
Сокольников сделал попытку зайти с другой стороны.
— Зачем же им вас оговаривать?
— Как вам сказать?.. — Ольга Аркадьевна чуть подалась вперед, отчего тонкая ткань платья натянулась, выразительно подчеркнув все, что было необходимо. — У меня все в порядке, все хорошо. И на работе, и дома. А у них? Думаете, они этого не понимают? Вот от этого все и происходит. Зависть, Олег Алексеевич, самая обыкновенная зависть. Я не впервые, к сожалению, это на себе испытываю. Ну, и, конечно, мой отказ взять его на работу сыграл не последнюю роль.
Она была так естественна, что Сокольников против воли признался себе: если б не показания Азаркиной, он бы, пожалуй, поверил. И все же директриса рыбного лгала, потому что не лгала Азаркина.
— Смотрите, — произнес он равнодушно, — ведь вас арестуют.
Он пристально заглянул в ее лицо и застал врасплох, хотя лишь краткий миг понадобился ей, чтобы отгородиться и спрятать мелькнувшее в глазах. Он не понял, что это было, но мог поручиться: не беспокойство и не страх.
— Вам, конечно, виднее, — с достоинством отвечала Ольга Аркадьевна, — хотя я не понимаю, почему вы так разговариваете.
Стремительно вошел Трошин. На Ольгу Аркадьевну он даже не взглянул. И она ни единым жестом не отозвалась на его появление.
— Как дела? — Трошин мельком заглянул в протокол. — Заканчивайте, Сокольников, у нас еще много чего…
Но Сокольников отложил ручку и вежливо попросил Ольгу Аркадьевну посидеть несколько минут в коридоре. С приветливой и равнодушной улыбкой она вышла, оставив в кабинете тонкий аромат духов.
— Ну, чего ты хотел? — нетерпеливо спросил Трошин.
— С ней нужно работать, — с недоумением ответил Сокольников. — Она все отрицает. Такое впечатление, что заранее готовилась.
— Может, и заранее, — легко согласился Трошин. — Шестые сутки пошли. За это время многое можно было узнать.
— Но откуда? С Зелинским она не связана, Азаркины ее предупреждать не стали бы.
— Откуда тебе известно? Ты что, их за руку водил? В общем, не о том сейчас голову нужно ломать. Подводи черту и отпускай ее.
— Как отпускай? — не понял Сокольников. — А обыск?
— Обыск Гайдаленок решил пока не делать.
— Почему?
— Об этом ты лучше у него спроси. Это его право, он ни перед кем отчитываться не обязан.
Сокольников пребывал в растерянности. И по закону, и по ситуации обыск был совершенно необходим. Чего же тут решать? Он так и сказал Трошину.
Тот задумался ненадолго и с улыбкой объяснил:
— Ты же сам говорить, что она заранее готовилась. Какой же тогда смысл в обыске? Все равно ничего не найдем. Может, напротив, целесообразней не торопиться. Пусть успокоится.
— Я бы с ней все-таки еще поработал, — упрямо сказал Сокольников.
— Не нужно. — Тон Трошина был непререкаем. — Заканчивай.
Удивление Сокольникова росло. Он не понимал, почему Трошин так скоро потерял интерес к делу.
— Может, все-таки…
Но Трошину надоело полемизировать.
— Хватит, поговорили, — с досадой сказал он. — Делай, что велят. Расследование ведет Гайдаленок, а не ты.
Сокольников обиделся:
— Пожалуйста. Поступайте, как знаете.
Расписываясь в протоколе, Ольга Аркадьевна держала авторучку, словно ликерную рюмку, — кокетливо отставив мизинчик. Может, потому подпись у нее выходила кругленькая, как зефирина с завитушками.
— Я могу идти?
Последняя улыбка и перестук каблучков. Ушла.
Как ни в чем не бывало Трошин уселся на свое место и принялся разбирать бумаги. Но Сокольников долго молчать сейчас был не способен.
— Ну, чем теперь займемся?
Звучали в его тоне недовольство и открытый вызов. Однако Трошин пропустил этот вызов мимо ушей.
— Теперь? Занимайся своими делами. Что у тебя с заявлением по универмагу?
— Все в порядке. Осталось троих опросить… С Азаркиной-то как дальше?
— Да никак, — равнодушно пожал плечами Трошин. — Наша работа закончилась, дело у следователя.
— И четыре монеты, которые мы так и не нашли?
— Пускай Гайдаленок сам с этим разбирается.
— Ты Костину докладывал? — не отставал Сокольников.
Трошин со стуком положил на стол шариковый карандаш.
— Все, кому положено, обо всем знают, — раздраженно произнес он. — Есть очень ценное правило: не высовывайся, пока не спросят.
— Нет, — упрямо произнес Сокольников.
— Хорошо: есть мнение не перегибать палку.
— Чье мнение? Какую палку? Ты яснее…
— Мнение руководства. А палка… Ты вот что: отстань.
— Костина мнение?
— Считай повыше.
— Начальника РУВДа?
— Какая разница! Руководства, и этим сказано все!
— Даже если это «все» противоречит закону?
Трошин глубоко вздохнул, откинулся на стуле, а ноги вытянул так далеко под стол, что Сокольникову сделались видны светлые каучуковые подошвы его ботинок.
— Слушай, Сокольников, ты прикидываешься, что ли? Я тебе вот что скажу: если собираешься работать дальше, не суетись. Искренний совет. И на этом кончим.
— Мнение это тех, кого она отоваривала, так?
— В ее магазине, — спокойно объяснил Трошин, — заказы получаем не только мы. Исполком и райком тоже. А может, и кто еще повыше. Так что не заносись. Сверху позвонили… ну и так далее… Уймись, лучше будет.
— Хотел бы я знать, откуда большие люди обо всем узнали… Кто позвонил, ты можешь сказать?
— Ты больной, Сокольников? — Трошин раздражался все больше. — Тот, чьи просьбы следует учитывать и выполнять.
— А если нет?
— Тогда сливай воду и ищи работу. Знаешь, Сокольников, ты мне уже надоел. Что за детский сад?!
Он помолчал немного, потом заговорил тоном ниже.
— Думаешь, мне все это нравится? Но нужно быть дипломатом, время такое, не будь дураком. Вообще Ольга — баба неплохая. Я ее знаю давно. Конечно, свой приварок она имеет — а кто его не имеет? Она хоть не рвет, не наглеет. Это я тебе точно говорю. Только в пределах естественной убыли. Ну, случилось с ней. Даже если и взяла она эти монеты себе на зубы — в чем я лично сомневаюсь, они у нее с рекламы, — что же, сразу ее запихивать в тюрьму? Это по-человечески? Другой вопрос: оснований действительно маловато. Откажется Азаркина от своих показаний — и все. Нет проблем.
— С какой стати ей отказываться?
— Откажется, — уверенно сказал Трошин. — Не сомневайся.
Его уверенность неприятно поразила Сокольникова. Не хотелось ему думать о Надежде как о безвольной кукле, которую вертят, как вздумается, люди и обстоятельства.
— Конечно, нужно немного постараться, чтобы отказалась, — многозначительно добавил Трошин. — А что делать! Есть мнение…
— А как же Азаркин? — вспомнил Сокольников. — Есть ведь еще и его показания. И заявление.
— С ним все в порядке. Ольга с ним прекрасно поладила.
Трошин подмигнул и по-особому, со смыслом, усмехнулся.
Сокольников понял его ухмылку по-своему.
— Она! С этим-то алкашом!
— С ним договориться несложно! Пообещала ему сотню, две, а он сейчас сидит у Гайдаленка и вносит необходимые уточнения.
— Какие, например?
— Например, что никаких монет не было. Был только разговор. Да и то — абстрактный. А он-де несколько погорячился и решил, что разговор действительно закончился сделкой. Словом, вариантов много.
— Как все просто, — с горечью сказал Сокольников.
— Несложно, — согласился Трошин. В голосе его появились нотки мягкой снисходительности. — Этому Викторов тебя не учил? Напрасно. Многое в нашей работе состоит из таких вот неуловимых нюансов. Нужно их чувствовать…
Он принялся обстоятельно развивать свою мысль, а Сокольников молча слушал, совершенно подавленный этой странной логикой неписаных законов, которые теперь, стало быть, определяли его жизнь. Он слушал тихо, не возражал, и Трошин, все более входивший в роль мудрого и опытного наставника, воспринял это как знак обращения в новую веру. Истинную…
— Ничего, — ободряюще закончил он, — все это ты постепенно постигнешь. Ты парень неглупый. Будет из тебя оперативник.
— А что, бывают такие, кто не постигает?
— Сколько угодно. Гибкости хватает далеко не всем. Ну и итог соответственный. Взять хотя бы Демченко — уже на пенсию готовится, а все капитан.
— Действительно, — сказал Сокольников. — Все капитан…
Трошин сладко потянулся и встал из-за стола.
— Ладно, пора обедать. Пошли в столовую.
Но на полпути попался Костин и увел Трошина куда-то за собой. В столовую Сокольников пришел один. Коллеги уже давно гремели тут ложками и подносами. Сокольников занял очередь за Демченко.
— А, это ты! — Демченко обернулся и почесал то место на затылке, куда Сокольников только что смотрел. — Уже знаешь новость?
— Какую?
— Трошин твой большим человеком становится. Утверждают его в должности зама. Я же говорил: далеко пойдет.
К обычному в таких случаях сарказму у Демченко примешивалась некоторая доля удивления. Как видно, он не ожидал, что Трошин пойдет так далеко и так быстро.
— А Ольгу — директоршу рыбного — привлекать не будут… — сказал вдруг Сокольников.
— Да, — откликнулся Демченко без всякого интереса.
— Если Азаркина от своих показаний откажется?
— Значит, откажется, — заключил Демченко.
— Это же неправильно!
— Подай-ка мне тот салат, — показал пальцем Демченко. — Сколько он стоит? Двадцать три копейки? И за что только деньги дерут!
— Так что вы думаете насчет этого, Михаил Федорович?
— А что мне думать! У меня своих дел хватает, — брюзгливо сказал Демченко. — Если каждый думать будет… Ты, Сокольников, тоже своими бы делами лучше занимался. И дай мне компот. Вон тот, с ягодами. Сколько стоит? Восемь копеек? Подумать только!
Вот и Демченко давал те же советы. Может, и вправду так надо? Сокольников медленно водил ложкой по тарелке и уговаривал себя. В конце концов, совесть у него чиста. Лично от него ничего не зависит. Да и стоит ли вообще переживать? Буква закона будет соблюдена. По большому счету говорить-то не о чем…
Но доводы отчего-то не убеждали, мутный осадок в душе не рассеивался. Наверное, он просто не годится для такой работы, уныло подумал Сокольников. Не умеет воспринимать жизнь такой, какая она есть, без всякой романтики. Это просто реальная повседневность. Трошин, Демченко, Костин, да вообще все кругом, умеют, а он — нет.
— Привет, стажер, — сказал вдруг над ухом знакомый голос. — У тебя свободно?
Рядом стоял Викторов, сосредоточенно смотрел на свой поднос, стараясь не расплескать чай, налитый вровень с краем стакана. В форме, белой рубашке — едва узнать. Сокольников обрадовался.
— Саша! Здравствуй! Давно тебя не видел.
— Дела, — лаконично ответил Викторов. — Сам как?
— По-всякому, — махнул рукой Сокольников, а потом с ходу принялся рассказывать о событиях последних дней.
Сбивался, то и дело перескакивая на второстепенные детали, но Викторов не перебивал, слушал внимательно, а к концу рассказа даже есть перестал. Помрачнел.
— Трошин, — сказал он. — Дело по «Стройдетали» он тогда лихо раскатал. По бревнышку. Раз-два — и словно ничего не было.
— Формально все вроде в порядке…
— Формально-то? — переспросил Викторов. — Может быть… Только если это формально хоть раз как следует копнуть… Но копать никто не будет. Никому это не надо. Разве можно! Директор лучшего в районе магазина — преступник. А куда смотрели районные власти? Как допустили? Где работа с кадрами? И там, выше этого, тоже не нужно. Назначал ее на должность торг — а это уже городское звено. И тоже просмотрели. Поэтому самое лучшее для всех — спустить дело на тормозах. А Трошин с Гайдаленком с этим прекрасно справятся. Квалификация у них есть.
— Трошина заместителем начальника отдела назначают, — сообщил Сокольников.
— Я уже слышал, — кивнул Викторов. — Быстро темп набрал.
Он покачал головой и грустно усмехнулся.
— Ты же этого не знаешь, позже к нам пришел, — сказал он. — Как Трошин в передовики вышел. Не слыхал? Я сейчас расскажу.
Оказывается, на Доску почета Трошин попал после того, как вскрыл хищение в особо крупных размерах, которое совершила бухгалтер районной поликлиники. Хищение это было не из самых изощренных. Бухгалтер — сорокалетняя одинокая баба — начала потихоньку приписывать часы совместителям и, подделывая подписи, получать за них зарплату. Понемногу вошла во вкус, принялась красть совсем уж без оглядки — эх, одну жизнь живем!
Появились у нее «мертвые души» в штате, двойные выплаты отпускных и многое другое, что элементарно вскрывалось любой мало-мальски квалифицированной ревизией. Так оно и случилось. Едва пришедший с плановой проверкой ревизор копнул документацию, бухгалтерша страшно перепугалась и побежала в ОБХСС с повинной. Попала на Трошина — так уж случай распорядился, — он с ней и разбирался. Принял от нее, как положено, заявление о явке с повинной, оформил все и отпустил. А потом вместе с Чанышевым они сочинили целый роман. По нему выходило, что Трошин уже давно держал на примете бухгалтершу-расхитителя. Негласно документируя доказательства и через своих определенных лиц проводя огромную психологическую работу, чтобы уговорить преступницу покаяться добровольно. Отдел тогда срочно нуждался в громком деле, хорошей реализации — перед тем на городском совещании Чанышева поругивали за ослабление работы…
В таком виде дело и ушло наверх. Очень скоро Трошина, Чанышева, а заодно с ними и Костина премировали. Трошин к тому же сделался передовиком местного значения.
— Здорово, — с некоторым почтением сказал Сокольников.
— Учись. — Викторов прихлебывал остывший чай. — Не так важно сделать, как показать. Великое умение. Мы-то посмеивались вначале. И Трошин, кстати, вместе с нами хохотал.
— И тебе так приходилось «показывать»? — спросил вдруг Сокольников.
— Вообще это у меня получается неважно, — признался Викторов. — Так, если по мелочи.
— Черт знает на что тратим фантазию.
— Не так уж ее много и требуется, — возразил Викторов и поднялся. — Мне пора. Я ведь тут на совещании…
— Так что же делать, Саша, как ты считаешь?
— Особо ничего и не сделаешь, — Викторов пожал плечами. — Можно, конечно, попытаться шум поднять. Обратиться в министерство, городскую прокуратуру. Но если трезво все взвесить — шансов ноль. Крупного шума не получится. Успеют все спрятать. А может, и прятать не станут… А тебя отсюда выпрут, это точно. Шумливые не нужны. Одному я все же рад: Зелинский попался наконец. Его-то уж теперь вытаскивать не станут. Так что хватит на первый раз и Зелинского…
Разговор этот не то чтобы совершенно успокоил Сокольникова, но на душе стало немного легче. В самом деле, не все так и плохо. Время покажет. Черт с ней, с Ольгой, если нельзя по-другому. Может, и ее черед когда-нибудь придет. Может, жизнь несколько переменится, что всем жуликам и в самом деле тошно станет. Только вряд ли это будет скоро…
— Сокольников, привет, это Гайдаленок! А Трошин где? Уехал в главк? Ах ты черт!
Телефонная трубка замолчала, и Сокольников уже собрался ее положить, как вдруг Гайдаленок сказал:
— Слушай, ты поднимись ко мне. Тут с вашей подопечной проблемы. Ты в курсе, как я понимаю.
— Ладно, — вяло ответил Сокольников, не успев толком понять, что Гайдаленок имел в виду.
Он запер в сейф документы и поплелся на третий этаж.
В кабинете у Гайдаленка сидела Надежда Азаркина. Все в том же, слишком свободном для нее платье, которое она безостановочно теребила на коленях.
— Проходи, садись, — показал на стул Гайдаленок.
Они расположились напротив Азаркиной словно трибунал в неполном составе.
— Вы поймите, Надежда Витальевна, — ласково заговорил Гайдаленок, — все это в ваших же собственных интересах. Зачем нам осложнять и без того непростое положение? К чему вам брать на себя лишние эпизоды? Ну, с Зелинским все ясно. И монеты мы у него нашли. Тут, как говорится, — он сочувственно повел руками, — из песни слова не выкинешь. А второй эпизод совершенно неясен. Кроме ваших слов, у нас фактически ничего нет.
— Я всю правду сказала, — слабо откликнулась Надежда.
— Это я понимаю, — заверил Гайдаленок. — Только ничем не подтверждается. И супруг ваш, — тут Гайдаленок сделал удивленное лицо, — говорит теперь совсем по-другому. А значит, этого эпизода могло и не быть. Ведь так?
— Я сказала все, что было, — механически повторила Азаркина, совершенно не воспринимавшая, кажется, построений Гайдаленка.
Тот нетерпеливо поерзал на стуле.
— Поймите, самое главное вот в чем: если у вас только один эпизод — решение суда может быть в одном аспекте. А если два — совсем в другом. Это уже гораздо серьезнее.
— Пусть, — равнодушно сказала Надежда. — Что будет, то будет. Надоело.
— Вот вы какая странная, ей-богу, — начал нервничать Гайдаленок. — Сокольников, может, ты ей объяснишь, в чем тут разница?
— Действительно, — неуверенно начал Сокольников, — чем меньше эпизодов, тем для вас лучше…
— Лучше не станет, — в голосе Азаркиной появился вызов. — Да и не надо мне лучше.
— А дети? — Гайдаленок привстал для убедительности и потянулся к ней ближе. — Надежда Витальевна! Дети вас что же, не волнуют? Что станет с детьми в случае чего?
— Дети… — Надежда тускло взглянула на него и опустила голову. — Что вам мои дети…
В молчании прошла минута.
— Так что же я должна делать? — спросила она без всякого интереса.
— Да ничего же, объясняю я вам, — облегченно вздохнул Гайдаленок. — Просто исключим этот эпизод с Ратниковой. Напишем еще раз протокольчик. С моей стороны это нарушение. Но я сознательно на него иду, учитывая ваше положение. Люди ведь мы…
Внезапно Гайдаленок замер под пристальным и напряженным взглядом Азаркиной.
— Люди? — с удивлением повторила она, а голос уже звенел надрывными нотами. — Врешь ты все! Плевать тебе на людей! Еще детей вспомнил! Торгашка вас всех купила. И тебя, и Николая. Он вчера весь вечер передо мной червонцами тряс, уговаривал. Все вы…
— Азаркина! — грозно возвысил голос Гайдаленок. — Думайте, что говорите! За такие речи, знаете…
— Всех она вас купила. — У Надежды на скулах пробились нездоровые красные пятна, силы ее иссякли, теперь она говорила тихо, но не менее твердо. — Все вы одного поля ягоды. Не буду ничего переписывать. Делайте что хотите. Я к прокурору пойду!
— У меня нет слов! — Гайдаленок повернулся за поддержкой к Сокольникову, но тот, кусая губы, глядел куда-то в пол. — Я к вам по-хорошему хотел подойти, вы понимаете? По-человечески. Но если дело принимает такой оборот, я еще посмотрю, как поступить. Неоднократная перепродажа валютных ценностей! Учтите, вам могут изменить меру пресечения.
— Делай что хочешь, — с тихой ненавистью сказала Надежда.
Сокольников понял, что и он, и Гайдаленок, и все, кто работал здесь, в этом доме, стали для нее вдруг причиной всех ее бед, всей ее неудавшейся, поломанной жизни. Надежда выплескивала всю свою горечь, копившуюся долгие годы, все отчаяние и в них же черпала силы, и оттого не существовало сейчас никого и ничего, что могло бы переломить ее решимость. Сокольников почувствовал это, понял и сейчас лихорадочно подыскивал подходящие слова, чтобы хоть как-то успокоить Надежду, прервать тягостную сцену.
— Ну, как желаете, — угрожающе проговорил Гайдаленок и подвинул к себе бланк задержания. С демонстративной тщательностью он принялся его заполнять, приговаривая: — Придется вас задержать, Азаркина. На основании соответствующей статьи закона. А как же?
— Ты что, серьезно? — изумился вполголоса Сокольников.
— Вполне, вполне. — Гайдаленок заполнил очередную строчку и полюбовался, как получилось.
— Что ты делаешь?.. — попытался остановить его Сокольников, растерянно улыбаясь, стремясь свести все к шутке, но Гайдаленок ответил таким сухим и пренебрежительным смешком, что Сокольников мгновенно, без всякого перехода пришел в ярость.
— С ума сошел! Совсем свихнулся?! — гаркнул он, позабыв, что этого не следовало бы делать в присутствии Азаркиной.
Гайдаленок удивился, но тут же взял себя в руки.
— Прошу выйти… — холодно произнес он. — Вы мне мешаете. Мы еще поговорим о вашем поведении у руководства.
— У руководства?! Поговорим! И немедленно! — Взбешенный Сокольников выскочил из кабинета, вихрем пролетел коридоры лестницы, проскочил мимо секретарши, сделавшей слабую попытку заступить ему дорогу, и рванул на себя дверь начальника управления.
Среди руководителей районных управлений Тонков был самым молодым. Не только по времени работы в районе, но и по возрасту. Это составляло предмет его гордости. Тонков не считал свою нынешнюю должность вершиной карьеры и делал все, чтобы показать: он способен на большее. Некоторые считали его склонным к карьеризму, но это было не так. Тонков, скорее, принадлежал к той категории неглупых рассудочных людей, которые способны весьма точно оценивать собственные возможности и в соответствии с такой оценкой выбирать кратчайшие пути к намеченной цели, не то чтобы пренебрегая при этом соображениями морального порядка, но отдавая предпочтение сиюминутной целесообразности. В общем, Тонков был прагматик…
Работа отдела БХСС интересовала его лишь во вторую очередь. И райком, и городское начальство судили о деятельности милиции прежде всего по уровню уличной преступности и количеству преступлений, оставшихся нераскрытыми, — на это их ориентировали листки сложившейся статотчетности. За выправление дел в районе именно с этой точки зрения и взялся Тонков, когда получил назначение. Он был опытным, способным работником и умел организовать дело не жалея ни себя, ни подчиненных. Несколько месяцев подряд уголовный розыск работал практически без выходных. Все сотрудники управления день и ночь патрулировали горячие точки — и кривая преступности медленно поползла вниз. Статистику, правда, сильно портила близость вокзала, но тут уж ничего поделать было нельзя.
О работе отдела БХСС Тонков знал: по общегородским показателям отдел находится где-то в золотой середине, и этого — плюс ежедневная информация на оперативках — ему было достаточно.
Оттого Тонков в общем-то не очень нажимал по этой линии, прослыл среди коллег Сокольникова едва ли не либералом.
Обладая профессиональной памятью, Тонков сразу же вспомнил и дело, о котором рассказывал ему этот похожий на мальчишку опер, и все сопутствующие обстоятельства. Он слушал, с трудом сдерживая досаду: к завтрашнему дню предстояло подготовить выступление в депутатской комиссии, времени оставалось в обрез. Теперь же приходилось отвлекаться и переключать внимание без всякой необходимости.
— Подождите, — прервал он Сокольникова на полуслове. — Вам разве неизвестно, что следователь сам выбирает меру пресечения? С какой стати вы вмешиваетесь?
— Я не вмешиваюсь, — запротестовал Сокольников. — То есть вмешиваюсь, конечно. Вернее, прошу вмешаться вас. Гайдаленок собирается арестовать Азаркину только потому, что она не желает по его указке менять своих показаний.
— Зачем ему надо, чтобы она меняла показания?
— Чтобы вывести из дела Ольгу… то есть Ратникову — директора рыбного магазина.
— Ратникову? — переспросил Тонков и посмотрел на Сокольникова внимательнее. — А как вы об этом узнали?
— Да я же сидел в его кабинете. А еще раньше Трошин сказал мне примерно то же.
— Трошин? Что вам сказал Трошин? Вы яснее выражайтесь.
Не зря ли он все это затеял, на мгновение мелькнуло в голове у Сокольникова, но отступать было поздно, и он рассказал все. Особенно про телефонный звонок насчет Ратниковой от какого-то высокого начальства.
— И кто же звонил? — поинтересовался Тонков.
— Я понял так, что звонили Костину…
— Это он вам сообщил?
— Нет, но…
— Не надо городить чепухи, — раздраженно сказал Тонков. — Нужно отвечать за свои слова и не пользоваться слухами.
Сокольников слегка смешался.
— Я отвечаю за свои слова, — с обидой сказал он. — Я не знаю, кто звонил и кому…
Он тут же почувствовал, как двусмысленно это прозвучало, но не особенно огорчился.
— …Зато мне известно, что следователь Гайдаленок сам или по чьему-то указанию совершает явную несправедливость. Этого нельзя допустить.
— У вас все? — холодно поинтересовался Тонков.
— Все.
— Идите. — И, увидев, что Сокольников не трогается с места, добавил чуть мягче: — Я разберусь с этим вопросом. Идите.
Сейчас Тонков испытывал нечто вроде сочувствия к этому зеленому парню. И на несколько секунд даже пожалел, что самому ему до выслуги еще остается целых шесть лет и приходится постоянно об этом помнить. Однако такие мысли мешали сосредоточиться, и Тонков их прогнал. Впрочем, нет. Вначале он еще раз отложил ручку и вызвал по селектору начальника следственного отдела и Костина. Вопрос этот следовало решить не откладывая.
Давным-давно Трошин усвоил одну очень важную истину: быть искренним можно только наедине с самим собой. Искренность, обращенная вовне, не что иное, как слабость, ибо стремление излить душу и покаяться возникает, как правило, в состоянии неуверенности и в период неудач. А посему искренность — первейший признак того, что носитель ее — неудачник.
Трошин пришел в милицию после тщательного выбора профессии и никогда никому не признавался, что выбор оказался ошибочным. Воспоминания о детстве и отрочестве, проведенных в тесноте московской коммуналки, вызывали у него брезгливость. Он родился в семье неудачников. Отец — нервный неудачник инженер заштатного НИИ, ненавидевший свою работу, свой мизерный оклад и чужие успехи. Мать — болезненная, с коричневыми от никотина пальцами, и такая же нервная неудачница педагог, нашедшая последнее прибежище своему неудовлетворенному честолюбию в кресле инспектора роно. Оба они, сколько помнил Трошин, постоянно и сладострастно изливали друг на друга обвинения в несостоявшейся судьбе и загубленной жизни, неумении наладить быт, сэкономить семейные средства, починить неисправный утюг и разморозить холодильник без обязательной лужи на паркете.
К десятому классу Трошин окончательно понял, что самим фактом своего рождения обречен к продолжению скорбного рода неудачников: социальная ничтожность его родителей делала для Трошина недоступной массу жизненных ценностей — от престижного вуза до импортного костюма. Единственное, на что оказалась способна мама-инспектор, это определить его в английскую спецшколу. Еще он твердо уяснил, что на жизненном пути вправе рассчитывать только на свои собственные силы.
Трошин был весьма симпатичным юношей и знал это. Тем более его тяготила хроническая нехватка денег, модной одежды и всех прочих свидетельств принадлежности к избранному кругу, чьи отпрыски подъезжали к школе на отцовской персоналке, лето проводили в черноморских пансионатах, а уик-энды в веселой компании на обширных дачах с городским телефоном.
Одно время он всерьез прикидывал: не заняться ли фарцовкой, гарантировавшей легкий и быстрый финансовый успех. Пересилили опасения конфликта с милицией, а также привитого-таки родителями-неудачниками недоверия к сомнительным гешефтам.
Он решил не искушать судьбу и после неудачной попытки штурмовать МИМО отправился служить в армии, отложив все серьезные решения на будущее.
Служил хорошо. Одним из немногих сумел наладить паритетные отношения со «стариками» и удостоиться благосклонного внимания батальонного начальства. Его даже избрали секретарем комсомольской организации — сказалась тут в немалой степени и представительная, располагающая внешность. А к концу службы Трошин получил возможность выбирать, по какой стезе ему двигаться в дальнейшем. В качестве альтернативы военному училищу имелось еще милицейское.
После короткого колебания первое он отверг — в памяти накрепко сохранилось презрение к «солдафонам», культивируемое недостижимым кружком школьной элиты. Милиция — это то, что надо, решил Трошин. Это немалая власть, престижная профессия, уважение и даже страх окружающих. К сожалению, характер своей будущей работы он представлял себе в основном по детективам и уже на втором курсе Высшей милицейской школы должен был признать, что неведение его изрядно подвело. Истинная власть исходила совсем из других сфер. Насчет престижности вопрос тоже был весьма спорным. Работа же предстояла каторжная и неблагодарная. Но менять что-либо было уже поздно. Трошин закончил школу милиции и вернулся в отчий дом.
К тому времени родители все же получили двухкомнатную квартиру, и, хотя напряженность в отношениях супругов существенно упала, Трошин не стал долго обременять их своим присутствием. В тот же год он женился на бывшей однокласснице — дочери солидного торгового работника, отвалившего молодым в качестве свадебного подарка вполне приличную кооперативную квартиру, притом полностью обставленную. С женой Трошину повезло. Девчонка не в пример своему папаше попалась скромная и тихая, к тому же она была по-настоящему влюблена в своего рекламно-красивого мужа.
Кружок школьной элиты давно распался. Все его члены перекочевали в новые кружки, разбрелись по городам и весям, но в памяти и сознании Трошина кружок этот продолжал существовать как некий эталон, как витринный восковой фрукт, пробуждающий у покупателя вожделение и одновременно напоминающий о своей недостижимости.
И все же Трошин не терял надежды. Реальный путь был только один — неудержимый служебный рост. Любой ценой. И он работал не за страх, а за совесть. И одновременно приглядывался, прислушивался, вникал и подмечал, определяя мельчайшие тонкости служебных отношений и свое в них точное место.
Наибольшая опасность его планам исходила как раз от искренних. Искренний, не ощутивший взаимности, имеет полное основание тебе не доверять. Этого Трошин допустить не мог. Довольно скоро он научился стопроцентно имитировать надлежащую степень искренности. Почти. С некоторыми, вроде Викторова, это не проходило.
Движение наверх — это результат тончайшей и сложнейшей политики, сложившейся даже на таком примитивном уровне, как районное управление внутренних дел. Слишком много нитей — внешних и внутренних — определяют его существование. Одни нити тянутся наверх и вниз, другие следуют параллельно почве, но кто может догадываться об их истинных точках где-то там, за горизонтом… Нужно очень хорошо разбираться в этом кружеве, чтобы ненароком не потревожить то, что не положено по рангу. Трошин считал, что разбирается неплохо.
И вот теперь некто Сокольников, несмышленыш и романтик, перся, словно бегемот в посудную лавку, угрожая все перепутать и принести не столько неприятности, сколько утомительные и ненужные хлопоты. Сокольников тоже принадлежал к семейству искренних. Только был еще молод и глуп. Не то чтобы Трошина всерьез беспокоила буза, которую тот поднял, — все это элементарно гасилось своими силами. Но досаду Трошин испытывал. Сокольников портил первые впечатления от деятельности Трошина в качестве руководителя. Он мог вызвать неудовольствие и раздражение многих, от кого зависело продвижение Трошина по служебной лестнице. Поэтому Трошин решил принять кое-какие меры, надеясь, что решение это получит хотя и негласное, но высокое одобрение.
Лучше всего было бы убрать Сокольникова из отдела. Выгнать или вынудить уйти. Но как? То, что с иными проскакивало гладко, с Сокольниковым легко пройти не могло. На редкость и возмутительно наивен Сокольников и вызывающе чист. Не обзавелся знакомцами в торговых точках и на работу не является с запахом алкоголя. Посему нажимать без повода либо создавать повод искусственно — опасно. Не знающий удержу Сокольников может поднять шум. Наверняка поднимет. Толку от шума, разумеется, будет ноль, но шум есть шум. Лишнего шума следует избегать. Значит, нужно ждать случая.
Трошин не стал излагать свои соображения Костину — тот не политик. Даже отговорил его, разобиженного выволочкой от начальника управления, давать Сокольникову втык за инициативу.
А Сокольников, по правде говоря, чувствовал себя эти дни неуютно. Его не оставляло ощущение беспокойства, с ним он засыпал и просыпался. Даже мать приметила, уже дважды приходилось отговариваться усталостью и чем-то там еще. Сокольников понимал, что оказался нарушителем неписаного закона, согласно которому не полагалось ставить своих руководителей в неудобное положение перед вышестоящим начальством, даже если они этого заслужили. И хотя Тонкову он жаловался на следователя Гайдаленка, выходило так, что заодно подвел и Костина, и Трошина. А ведь если они и делали что-то не так, то ведь не по своей воле.
Арестовывать Азаркину никто не стал. Но Сокольников не считал это своей победой. Возможно, размышлял он, Гайдаленок и не собирался ее арестовывать. Только хотел припугнуть и переборщил. Тогда в действиях Сокольникова вообще не было никакого смысла.
Ни Трошин, ни Костин словом не обмолвились о происшедшем. Вообще внешне как бы ничего не случилось. Только в отношениях с Гайдаленком появилась некоторая натянутость, но на это было наплевать, встречались они разве что в столовой, да и то не каждый день. Единственно, что по-настоящему переменилось, — так это степень участия Сокольникова в деле Азаркиной. Сейчас он знать не знал, что там происходит. Никто с ним об этом не разговаривал и никаких поручений не давал. Честно говоря, Сокольников был даже рад. Ему вообще больше не хотелось ничего слышать об этом деле.
К тому же сейчас он был сильно занят. Костин передал ему для проверки анонимное заявление на спекулянтов с колхозного рынка. Таких заявлений в отдел уже поступило штук пять, предыдущим проверяющим поймать спекулянтов не удавалось, и заявления списывались как неподтвердившиеся. Однако факты в заявлениях, по всей видимости, излагались верно, — писал некто хорошо обо всем осведомленный — то ли недовольный конкурент, то ли работник рынка. Факты, правда, были безадресные и трудно проверяемые.
Вот и в этом заявлении вновь говорилось, что некие люди по кличкам Тофик, Али-баба и Рачик торгуют на рынке овощами и фруктами, которые сами не выращивают, а скупают на других рынках. Работают они со «своими таксистами», хорошо им приплачивают за это, а гуляют обычно в ресторане на Новом Арбате.
Тщательно изучив заявление, Сокольников ничего другого придумать не смог, как только пойти на рынок. Два дня кряду, с утра до вечера, он болтался там, но никаких преступников, естественно, не обнаружил. Тем не менее на третий день ему повезло. Познакомился со старушкой, что каждый день продавала семечки в крытом ряду у самых ворот. Познакомился потому, что сам у нее семечки не раз покупал. Собственно, это она с ним познакомилась. «Я смотрю, ты все ходишь, все ходишь, сынок, — сказала она как-то весьма сочувственно. — Из милиции, наверное?»
Оказалось, знает она многих на этом рынке, и Тофика, и Рачика, и Али-бабу тоже знает. По словам старушки, давно уже подмечавшей скуки ради многое вокруг себя, спекулянты предпочитали сравнительно небольшие партии товара подороже, вроде ранних помидоров, мандаринов или гранатов. По масштабам эти трое не являлись особо крупными дельцами, работали ежедневно не покладая рук.
Еще через пару дней Сокольников выяснил, что товар они завозят на рынок по утрам и главная трудность разоблачения заключается в том, что обязанности они между собой предусмотрительно делят. Если двое только скупали, то третий исключительно продавал. Доказать, таким образом, связь «скупки» и «перепродажи с целью наживы» становилось весьма затруднительно, на что спекулянты и рассчитывали.
Торговал Рачик. Часов в семь утра он занимал свое постоянное место на главной «площади» рынка. К этому времени за прилавком уже стоял десяток ящиков плодов и овощей, заботливо подготовленных его партнерами. Тофик и Али-баба к прилавку близко не подходили, весь день сидели в шашлычной напротив рынка и только изредка наведывались посмотреть издали, как идут дела. Часам к четырем товар расходился. Рачик присоединялся к своим компаньонам, и все вместе они отправлялись отдыхать.
По просьбе Сокольникова милиционер из местного отделения в два приема проверил у всей троицы документы. Тофик, Рачик и Али-баба как один предъявили военные билеты и справки, поясняющие, что они приехали с берегов Каспийского моря на лечение сложных желудочных болезней. По их упитанным загорелым лицам трудно было сделать вывод о слабости их здоровья, но справки были совсем свежие, — видимо, их регулярно обновляли спекулянтам какие-то верные друзья. Разумеется, они приехали в Москву «только вчера и ночевать будут в га-астынице или на вокзале».
На самом деле их штаб-квартира располагалась на Селигерской улице. Там они снимали комнату у одинокой старушки, которая обеспечивала прибавку к своей скромной пенсии за счет таких вот гостей столицы — не слишком приятных, но безусловно денежных. Однако выяснить это Сокольникову удалось лишь на четвертые сутки почти непрерывной работы. Вместе с приданным ему в помощь Коротковым Сокольников по всему городу таскался за друзьями-спекулянтами в отдельской машине, уточняя их излюбленные маршруты, терпеливо дожидался окончания гуляний у ресторанов, пока наконец не убедился, что дом на Селигерской улице и есть та исходная точка, с которой Тофик, Рачик и Али-баба начинают свои коммерческие походы. Туда Сокольников и приехал еще засветло утром пятого дня.
Поднимались трудолюбивые спекулянты рано. В пять утра вся троица появилась на пустынной улице в ожидании такси. Очень многое сейчас зависело от того, кто из них уедет первым. Если Тофик с Али-бабой, то есть опасность, что Рачик может заметить устремившийся в погоню за компаньонами «хвост», — на улице движения никакого, только дурак не поймет, что за «Волга» отчаливает вдруг из скверика напротив.
Тем не менее повезло. Сначала укатил все же Рачик. Оставшиеся двое ждали машину еще минут пять, а когда их такси «пикап» подъехало, направились в сторону Ленинградского шоссе. Стало ясно, что они нацелились сегодня на какой-то пригородный рынок — в Химках или Калининграде. Поэтому можно было не маячить у них за спиной и двигаться на максимальной дистанции.
На машине сегодня работал Гена — невыспавшийся и хмурый, но вполне собранный. Дорога была пуста, ругать Гене было некого, и он в основном молчал, так что Коротков на заднем сиденье даже задремал. Вместе с ними в машине ехали два паренька — члены комсомольского оперативного отряда, привлеченные загодя к завершающему этапу операции, — очень серьезные и взволнованные.
Сокольников вспомнил, как волновался точно так же каких-нибудь два-три года назад, участвуя в подобных операциях. Вспомнил и усмехнулся с ощущением превосходства и одновременно ностальгической грустью по утраченному прошлому.
Светало. Машина со спекулянтами действительно свернула к Химкинскому рынку. Пока все шло как и предполагалось. Гена остановился за квартал. Сокольников и Коротков в сопровождении своих помощников парами пошли к воротам. Такси «пикап» стояло здесь с включенным счетчиком. Водитель дремал в ожидании своих клиентов. Рынок был еще закрыт, но калитку в воротах никто не охранял, и попасть на территорию удалось без всякого шума.
Лучшие места за прилавками конечно же были заняты еще с вечера. Хозяева излишков личной сельхозпродукции готовились к встрече покупателей, распаковывали ящики, наполненные дарами солнечных краев и республик, вскрывали мешки с плодами Нечерноземья, устанавливали весы и наряжались в белые фартуки.
Тофика и Али-бабу Сокольников сразу приметил. Азартно жестикулируя, они вели торг с мрачным колхозником-грузином. Тот молча слушал, кивал, вроде бы соглашался, потом произносил короткую фразу, вызывавшую взрыв возмущения, новый поток слов и бурю жестов. Так продолжалось минут десять. Али-баба и Тофик поочередно порывались уйти в знак несогласия с позицией оппонента, но дело, как видно, шло к соглашению. В конце концов мрачный колхозник плюнул, махнул рукой и удалился с Тофиком в глубину прилавка для окончательного расчета. День у спекулянтов начался удачно.
Сокольников послал своего паренька-комсомольца с ответственным заданием накрепко запомнить в лицо того, с кем спекулянты торговались, а во-вторых, посмотреть, нет ли на его ящиках каких-нибудь специальных меток.
Паренек попался толковый. Возвратившись, доложил, что все в порядке, видел даже, как хозяин деньги пересчитывал, а ящики действительно помечены буквами «В. К.». Скорее всего, таковы были инициалы владельца.
Тофик и Али-баба тем временем уже резво таскали откупленный товар за ворота. Вначале они намеревались подать такси прямо к прилавку, однако сторож по утреннему часу не нашелся, и это тоже было Сокольникову на руку — проще ящики пересчитать. Четырнадцать ящиков с мандаринами миновали калитку — килограммов двести, не меньше, прикинул Сокольников. За счет разницы рыночных цен да непременной скидки за оптовую покупку сегодняшний навар спекулянтов может составить рублей триста.
Теперь можно было не спешить и не гоняться за такси по московским улицам — товар поедет на рынок к Рачику. Коротков и один из коодовцев остались побеседовать с продавцом, а Сокольников со вторым комсомольцем поехали за «пикапом». Впрочем, на магистрали Гена не выдержал. В два счета догнал и обставил такси так, что к месту они подкатили первыми.
Теперь уже Тофик и Али-баба вылезли из машины за квартал и независимо зашагали к рынку. Груз встречал у ворот Рачик. Показал водителю, к какому прилавку подъехать, бережно выгрузил товар. Весы и халат, разумеется, были у него уже наготове. Компаньоны наблюдали издали. Убедившись, что все прошло гладко, отправились, как обычно, в шашлычную.
Здесь Сокольников начал немного волноваться. Для завершения операции надо было спросить пару-тройку покупателей, чтобы зафиксировать новую цену товара, а потом задерживать всех троих спекулянтов одновременно, чтоб не убежали. Коротков же все не появлялся. Но вот наконец прибыл на какой-то попутке вместе с тем самым колхозником, мрачность которого достигла той границы, за которой уже вообще ничего существовать не могло.
— На кого же товар оставили? — шепотом спросил Сокольников, однако Коротков его успокоил.
Оказывается, торговать из Колхиды в Химки колхозник-грузин приехал вместе с женой, она осталась там всем распоряжаться, а хозяин мандаринов — Важа Маглакелидзе — хоть и мрачный, но нормальный дядька, грамотный, все правильно понимает, хотя и клянет себя не переставая, что из-за спекулянта потеряет напрасно столько времени, тогда как, наоборот, надеялся время сэкономить, сбыв оптом добрую треть привезенного товара.
В шашлычную Сокольников пошел вместе с двумя милиционерами из местного отделения. Шашлыки поджарить с утра еще не успели. Тофик и Али-баба лениво пили импортный рислинг, закусывая ломтиками вчерашней, подсохшей за ночь ветчины. Очередной проверке документов они не удивились и не напугались и, когда Сокольников объявил, что для выяснения придется ненадолго пройти в отделение, только плечами пожали и быстренько доели свою закуску. Сокольников боялся, как бы они не смылись по дороге, но спекулянты были убеждены, что у них все чисто, и бежать не собирались. Впрочем, милиционеры были ребята спортивные и крепкие и удрать бы им не дали.
Только в отделении, увидев составленные под лестницей ящики с мандаринами, они с тревогой переглянулись.
Конечно же они немедленно принялись все отрицать, иного ожидать было трудно. Ну и пусть их. Нужно было быстренько записать все, что они наплетут, провести опознание их личностей Маглакелидзе и комсомольцем-оперативником, затем сделать опознание ящиков и еще кучу всяких дел, сопровождая каждый шаг обильной перепиской. Словом, только успевай.
Тофик — его Сокольников начал опрашивать первым — сразу предложил взятку, а после того, как Сокольников с досадой отказался, подробно изложил легенду про внутренние болезни. Али-баба, наоборот, начал с болезней, но в конце все равно перешел на более близкий и понятный язык денежных знаков. В соседнем кабинете Коротков беседовал с Рачиком. Тот был не так эмоционален, как его коллеги, руками не размахивал и не горячился, на каждый вопрос томно поднимал к потолку глаза, вздыхал и лишь после этого грустным голосом начинал врать.
Но все это сейчас было несущественно. Гораздо важнее проделать кучу всяческих процессуальных мелочей — найти понятых и «фон» для опознания, составить протоколы, опросить общественников…
Важа Маглакелидзе показал, что Алекперов (Тофик), расплачиваясь с ним за мандарины, доставал деньги из бумажника ярко-желтой кожи. Обыскивать пока нельзя, надо попросить предъявить личные вещи, зафиксировать бумажник соответствующим протоколом и снова провести опознание, теперь уже бумажника.
— Ребята, вы бы побыстрей закруглялись, — уже второй раз сказал Сокольникову зам. начальника отделения. — Вы же нам работать не даете, все кабинеты позанимали!
Действительно. Надо перебираться в отдел. Вот только мандарины сдать в магазин. Стоп! Ящики-то не опознали еще!
Сокольников вновь побежал искать понятых, выскочил на улицу к остановке трамвая и вдруг застыл на месте, сразу обо всем позабыв. Сразу все вспомнив.
Мимо него трудной старческой походкой шла свекровь Надежды Азаркиной.
— Здравствуйте, — пробормотал Сокольников.
Старуха остановилась, взглянула на него прямо и строго, затем обошла, как если бы Сокольников был телеграфным столбом, и зашагала дальше. Сам не зная почему, Сокольников пошел с ней рядом. Шли так целый квартал. Наконец старуха снова остановилась.
— Что вам нужно, молодой человек?
— Я просто хотел узнать… Вы меня помните?
— Я все помню, — ясным голосом сказала старуха. — Что вы хотите?
— Как ваши дела? — брякнул Сокольников. Старуха пожевала губами:
— Вам лучше знать.
— Понимаете, я сейчас занимаюсь другим делом и…
— Надежда в больнице, — объявила старуха и опустила голову. — Третьего дня себя жизни решить хотела.
— Как! — ахнул Сокольников. — Почему?
Старость лишает лица подвижности, но все, что хотела высказать старуха, отразилось в ее взгляде. На Сокольникова излились скорбь, жалость, гнев, презрение — и он в смятении отшатнулся.
Медленно побрел в отделение. А там уже командовал Трошин. Он прибыл вместе со следователем, руководил уверенно, всем сразу стало понятно, кто тут самый главный и ответственный товарищ.
Надежда лежала на койке у стены. Под глазами синее с желтым, туго перебинтованные в запястьях руки поверх одеяла. Сокольников взял стул и тихонько сел у изножья. Надежда безразлично повела на него взглядом и снова уставилась в потолок.
— Как вы себя чувствуете? — спросил Сокольников, не надеясь особо на ответ.
— Нормально.
— Зачем же вы так, Надя!
— Вам-то не все равно!
— Нет.
Она искоса посмотрела на него и недоверчиво усмехнулась:
— Почему?
Сокольников не знал, что ответить. Вернее, не знал, как объяснить Надежде все, что происходило за эти дни, все, о чем пришлось передумать.
— Нельзя, нельзя так, — сбивчиво заговорил он. — У вас дети, вы не одна. Нельзя одной решать за всех.
— Вы зачем пришли? — перебила его Надежда. — Уговаривать? Не стоит. Я и так все скажу, как надо. Не беспокойтесь. На вашу торгашку показывать не буду.
— Я совсем не из-за этого! — Сокольников протестующе затряс головой, пугаясь, что Надежда ему не поверит. — Просто я хотел навестить… Мне не все равно, поверьте, если человек вдруг так… Всякое в жизни случается. Я вам помогу… Пойду к прокурору города, в конце концов… Вы не должны так ко всему относиться…
— Что вы от меня хотите, я не пойму? — со странным детским недоумением сказала Надежда. — Это, — она приподняла руки, показывая Сокольникову свои бинты, — это так, глупость. Не знаю даже, как получилось. По слабости. Навестить пришли? Да разве так навещают? Навещают с апельсинами. Или с цветами хотя бы.
Только сейчас Сокольников ошеломленно сообразил, что действительно пришел с пустыми руками.
— Ну а если без цветов, значит, по делу, — продолжала Азаркина. — Из-за торгашки. Но я уже сказала.
— Наоборот! — горячо возразил Сокольников. — Я убежден, что она должна получить по заслугам. И я вам обещаю, что добьюсь этого. Я не хочу, чтобы вы думали обо мне, будто…
Изумленный взгляд Азаркиной остановил его на полуслове.
— Да вы что! Зачем мне это? Мне ведь еще в тот день знающие люди все объяснили. Чем меньше я продала монет, тем для меня лучше. Что ж я, не понимаю?
Теперь пришел черед удивиться Сокольникову.
— Тогда… — растерянно сказал он, — зачем же вы это сделали?..
— Зачем? — Надежда растянула губы в усталой улыбке. — Надоело все. Одна грязь кругом, без просвета. Все одним миром мазаны. И те, и эти… По слабости характера, наверное…
— Не надо так думать, — быстро проговорил Сокольников. — Я действительно хочу вам помочь. Пока еще не знаю как…
— Передачки в тюрьму носить будете? — В глазах ее мелькнула на мгновение слабая тень кокетства. И тут же исчезла. — Да ладно вам. А вообще, если хотите знать, те монеты Николай торгашке продавал. Он у меня монеты отнял и сам продавал. Все при мне происходило. Он бы и без меня ей продал, да побоялся, что с ним она не станет дела иметь. И денег мне отдал всего двадцатку…
— Так что же вы молчали? — поразился Сокольников. — Это же все совершенно меняет!
— А, меняет — не меняет! — Она вяло шевельнула рукой. — Может, жалко его стало. Ему в следующий раз из тюрьмы не выйти. Он же насквозь больной. Язва у него, печень… В общем, так.
— А детей разве не жалко? — допытывался возмущенный Сокольников. — Себя не жалко?
— Всех жалко, — согласилась Надежда и внезапно с раздражением: — Да что вы ко мне привязались! Какое вам дело!
В палату заглянула медсестра.
— Товарищ, вам пора на выход. У нас обед.
Сокольников поспешно поднялся.
— Вы поправляйтесь, не падайте духом, — бормотал он незначащие фразы. — Я к вам еще зайду, если вы не против…
— Пожалуйста, — в присутствии медсестры Надежда мгновенно и неуловимо переменилась. — Мне не жалко, заходите…
Интонацией, взглядами, движениями она словно бы вела давний женский спор, пыталась доказать, что и у нее не все еще потеряно, что не кончилась жизнь, — вот и молодые люди даже приходят навестить. Она старательно играла эту простенькую, но очень важную для нее партию и не видела, что медсестра — красивая и рослая девчонка, ко многому еще равнодушная в своей безмятежной молодости, — просто не замечает игры Надежды, как не замечают пассажиры скорого поезда массы мелких и не очень важных деталей, из которых складывается пейзаж, поминутно меняющийся за окном…
Азаркину и Зелинского судили в конце октября. Погода стояла славная — теплая и без дождей, хотя по ночам понемногу примораживало.
Районный народный суд располагался в старом трехэтажном доме на тихой улице. Зданию требовался изрядный ремонт, да и вообще поговаривали, что нарсуд скоро должен перебраться в другое помещение. Но пока судебные заседания по уголовным и гражданским делам проходили в этих маленьких залах, похожих на игрушечные. Посетителей на процессах обычно было немного. Два-три любопытствующих пенсионера, немногочисленные родственники подсудимых. А для случаев посложнее был в здании зал и побольше.
Надежду и Зелинского судили в маленьком — на третьем этаже, со сплошь скрипящим паркетом. Сокольников пришел рано и занял место в самом уголке. Тут же к нему подсел пенсионер — из постоянных посетителей. Пенсионер был не прочь блеснуть своей юридической подкованностью, но Сокольников прервал начавшуюся было беседу довольно невежливо. Пенсионер обиделся и пересел на другой стул.
Робко открыв дверь, вошла Надежда в темном платке со старой хозяйственной сумкой. Не решаясь присесть, остановилась у стенки, только сумку поставила на краешек стула. Вслед за ней свекровь и адвокат — молодой человек в больших очках и с черными, гладко зачесанными волосами. Адвокат сильно припадал на одну ногу, испорченную детским параличом, но держался очень уверенно, на подзащитную свою едва смотрел, все время встряхивал высоко задранным подбородком и цедил короткие фразы. Сокольников сразу же испытал к нему неприязнь.
Высокий и осанистый прокурор в ладной темно-синей форме, напротив, вызывал к себе уважение и доверие. Он сразу сел за свой стол, углубившись в бумаги.
В зале появились еще какие-то люди, и последним — Азаркин. Сегодня он был непривычно чисто выбрит и, безусловно, трезв. Даже белую рубашку надел. Он тоже чувствовал себя в суде уверенно. Осмотрелся, небрежно кивнул Сокольникову и уселся у окошка.
Из неприметной боковой дверцы вышла секретарша. Тугие ее бедра были оправлены в узкую черную юбку. Белая блузка при каждом движении налитого тела угрожающе натягивалась и едва не звенела от напряжения. Секретарша проверила по списку наличие свидетелей и сказала Надежде:
— Подсудимая, займите место.
Надежда, не выпуская сумки, послушно зашла за барьерчик.
— Сумку оставьте, подсудимая!
Надежда, съежившись, вернулась и отдала сумку свекрови.
Два милиционера ввели Зелинского. С виду он ничуть не переменился. Разве что немного побледнел. К нему тут же подошел его адвокат, и они принялись о чем-то негромко переговариваться.
— Встать! — скомандовала секретарша. — Суд идет!
И Азаркина, и Зелинский, с одинаково настороженными лицами, смотрели, как в зеленые кресла под большим, выкрашенным бронзовой краской гербом Российской Федерации рассаживаются те, кто должен будет решить их судьбу.
Судью — маленькую женщину с профессионально строгими чертами — Сокольников уже знал. Она рассматривала как-то одно его дело по спекуляции автомашинами и обошлась с подсудимым весьма сурово. Сокольникову было известно, что судья пользовалась плохой репутацией у районных уголовников, хулиганов и тунеядцев.
Судебные процедуры тем временем протекали своим чередом.
Свидетелей отправили за дверь и приступили к чтению обвинительного заключения.
— …Азаркина продала принадлежащие ей пять золотых монет царской чеканки гражданину Зелинскому, совершив тем самым деяние, предусмотренное частью первой статьи восемьдесят восьмой Уголовного кодекса РСФСР…
— Зелинский купил у гражданки Азаркиной пять золотых монет царской чеканки, совершив тем самым деяние, предусмотренное частью первой статьи восемьдесят восьмой…
Слегка наклонив голову, Зелинский внимательно и мрачно вслушивался в каждое слово. Надежда смотрела прямо перед собой округлившимся взглядом пойманного зверька и нервно теребила складки платья.
— Подсудимая Азаркина! Расскажите суду, что произошло пятнадцатого июля этого года.
— Пятнадцатого? — Надежда поспешно поднялась.
— Когда вы продали монеты Зелинскому, — пояснила судья.
Надежда крепко ухватилась за барьерчик.
— Продала, — произнесла она и замолчала.
— Как это происходило?
— Николай сказал: едем к нему… К Зелинскому. Мы приехали к автобазе…
— К станции техобслуживания, — довольно благожелательно поправила Поливанова.
— Да, — мотнула головой Надежда. — Николай взял монеты и ушел. Потом вернулся и отдал деньги.
— Сколько?
— Двести пятьдесят.
— По пятьдесят рублей за каждую монету?
— Да… наверное.
— Подсудимый Зелинский! Сколько вы заплатили за монеты?
Тот не спеша поднялся, произнес, выговаривая каждое слово отчетливо и тщательно:
— Семьсот пятьдесят.
— Ого! — восхищенно сказал из зала пенсионер.
Поливанова строго посмотрела на него и постучала карандашом.
— Значит, по сто пятьдесят рублей за каждую монету?
— Точно так, — подтвердил Зелинский.
— Кому вы передали деньги?
— Мужу этой женщины. Из рук в руки.
Таких подробностей Сокольников не знал и слушал очень внимательно. Выходило, что Азаркин захапал на этой сделке пятьсот рублей чистоганом. Если, конечно, Зелинский не врал.
Прокурор спросил Надежду, продавала ли она кому-нибудь еще монеты, на что получил немедленный ответ:
— Никому.
А адвокат вообще не стал ничего спрашивать. Сидел, опустив голову, будто происходящее его не касалось.
За свидетельским барьерчиком появился Азаркин. Его фигура заранее приняла знакомые Сокольникову изгибы, с помощью которых тот демонстрировал всемерную готовность помочь следствию.
Первые же вопросы о сумме сделки вызвали у Азаркина чувство глубокого возмущения.
— Что вы, граждане судьи! — надрывался он. — Какие семьсот пятьдесят! Этот жулик врет без стыда и совести!
Зелинский фыркнул и презрительно отвернулся.
— Вот ведь люди, а! — обращался Азаркин за сочувствием к залу. Аудитория для него была явно маловата.
— Сам врет, подлец! — выкрикнул нестерпевший пенсионер.
— Я сейчас удалю вас из зала, — возвысила голос судья, и пенсионер испуганно зажал рот рукой.
Впервые с начала процесса пошевелился адвокат Надежды. Поднял карандаш, привлекая к себе внимание суда, потом встал, навалившись обеими руками на стол.
— Прошу вызвать свидетеля Кротова, — прозвучал его высокий, скрипучий голос.
Этого свидетеля тоже ввел милиционер и остался стоять у двери. Свидетель выглядел довольно уныло. Испитое, одутловатое лицо его выражало тоску и равнодушие. Впрочем, заметив секретаршу и немного приглядевшись к ней, свидетель явно приободрился.
— Назовите свою фамилию, место жительства и род занятий.
— Кротов Сергей Дмитриевич, — представился свидетель, с усилием отрывая взгляд от секретарши. — Насчет места жительства — так я сейчас в элтэпэ. В профилактории. Там же и работаю. На принудлечении от этого дела, — он совершил характерный жест рукой.
— Расскажите, что вы делали пятнадцатого июля этого года, — потребовал адвокат.
— Как что? — удивился свидетель. — Выпивал, наверное. Я сильно в последнее время злоупотреблял, — признался он. — За что меня супруга определила.
— Выпивали? С кем? — равнодушно спрашивал адвокат.
— А кто его знает. С кем только не приходилось. — Свидетель задумчиво потянул воздух и покосился на секретаршу.
— Вы знаете Азаркина?
— Николая-то? Ну!
— Пятнадцатого июля вы с ним встретились возле станции техобслуживания. Так?
— Было, — подтвердил Кротов.
— С какой целью?
— Так ведь… известно с какой. Я тогда пустой был. Без денег то есть. А Николай — он сказал, что достанет.
— Откуда?
Свидетель задумчиво потрогал мясистый, в синих прожилках нос.
— Да я как-то не спрашивал. Чего-то продал вроде. Они туда с женой пришли, а я в стороне, чтоб не у нее на глазах… У меня с ней отношения, сами понимаете, были натянутые.
— И много он достал?
— Ну-у! — с уважением сказал свидетель.
— Сколько конкретно, — требовал адвокат.
Кротов подумал, пару раз дернул себя за нос и объявил:
— Пятьсот.
— Что ж ты брешешь, паскуда! — крикнул Азаркин. — Ты видел?
— Видел! — обиженно отреагировал Кротов. — Кто передо мной червонцами тряс!
— Врет он, граждане судьи, я вам клянусь. Это же алкоголик!
— Я — алкоголик! — сокрушенно сказал Кротов. — А он — трезвенник. Дружок называется!
— Откуда вы знаете, что именно пятьсот? — спросил один из народных заседателей — крупный пожилой мужчина с обветренным лицом строителя.
— Да он сам сказал, — ответил Кротов. — Пачка такая солидная. Одни червонцы.
— У защиты еще есть вопросы к свидетелю? — спросила Поливанова.
— Вопросов нет. — Адвокат опустился на стул и задрал подбородок.
В общем, адвоката Сокольников недооценил. Тот вовсе не собирался давить на жалость и взывать к родительским чувствам членов суда. Методично и настойчиво адвокат доказывал, что Надежда Азаркина не преступница, а самая настоящая жертва мужа-алкоголика, потерявшего совесть и человеческий облик. Причем он не только вынудил Надежду пойти на преступление закона, но фактически сам стал исполнителем и главным лицом преступления. Адвокат доказывал это настолько успешно и убедительно, что судебное разбирательство завершилось еще до обеда и самым неожиданным для Азаркина образом.
После десятиминутного уединения в совещательной комнате судьи заняли свои места, и председательствующая зачитала определение, из которого следовало, что в свете вновь открывшихся обстоятельств суд возбуждает уголовное дело в отношении Николая Азаркина и направляет его для производства следствия. При этом суд, с учетом тех же обстоятельств, избирает для Азаркина в качестве меры пресечения содержание под стражей.
С этими словами в зал немедленно вошли два милиционера и встали по обе стороны от Азаркина.
Он как-то суетливо и растерянно задергался, принялся приговаривать вполголоса: «Вот, значит, как!», «Значит, так, да?» Возглас от возгласа в его тоне появлялись какие-то жалобно-угрожающие нотки, но слушать его было уже некому — суд удалился, прокурор тоже собирал свои бумажки.
Один из милиционеров слегка подтолкнул Азаркина в спину: пошли, мол. Азаркин поперхнулся и тут же замолчал. Заложив руки за спину и опустив голову, он съежился, сделался маленьким и беспомощным. Жалко, испуганно взглянул на мать и Надежду.
— Коля! — простонала вдруг старуха.
Слезы покатились по ее лицу. Она шагнула к Азаркину, видимо желая его обнять, но молодой румяный милиционер преградил дорогу.
— Не положено, мамаша, — произнес он твердо, но все же со смущением.
И у Азаркина тоже лицо задергалось и искривилось.
— Мама! — всхлипнул он, помотал головой и крикнул конвоирам: — Ведите! Хватит душу мотать!
Надежда все так же сидела за барьерчиком для подсудимых и смотрела на происходящее с тупым безразличием.
К ноябрьским праздникам ударили морозы. Лужи прочно схватило льдом, порывистый холодный ветер гнал по асфальту редкие снежинки. Холод застал горожан врасплох. На улицах меховые шапки соседствовали с кепочками, теплые сапоги с осенними туфлями.
В управлении шло предпраздничное собрание. Мероприятия этого ждали: по сложившейся традиции, в конце собрания отличившихся награждали премиями и ценными подарками.
Речь с трибуны держал начальник управления Тонков. Умеренно похвалив коллектив за достигнутые успехи, он перешел к недостаткам и задачам. Недостатки, как обычно, были серьезные, а задачи ответственные. Предстояло усилить и совершенствовать, осуществить и добиться. Тонков громко и размеренно читал странички доклада, немного копируя хорошо знакомые всем интонации и обороты речи… Мероприятие было традиционно ответственное, и хотя Тонков не сказал ничего нового, все сидели тихо и слушали очень внимательно.
Наконец, поздравив подчиненных с годовщиной Октября, Тонков завершил свое выступление. На трибуну один за другим двинулись представители отделов, которые говорили примерно то же, но покороче. Зал немного расслабился, пошел легкий шумок, и замполит в президиуме несколько раз постучал карандашом по графину с водой.
От отдела БХСС выступал Трошин. В ослепительно белой рубашке, отлично сшитом сером костюме он смотрелся на трибуне очень эффектно. Даже разговоры на минуту слегка приутихли. Изредка встряхивая аккуратной — волосок к волоску — прической, Трошин тоже говорил о необходимости решительного усиления, высокой принципиальности и ответственности, которые требуются от каждого из сидящих в зале. Он назвал передовиков отдела. Среди перечисленных фамилий Сокольников услышал свою и не мог не признать, что это приятно. Проявляя самокритичность и принципиальность, Трошин, естественно, сказал и об имеющихся недостатках, пожурил отстающих, в числе которых оказался старик Демченко. Тот сидел от Сокольникова за два стула и сразу же принялся возражать, правда вполголоса. Но вот и Трошин, заверив, что выполнит и оправдает, вновь уступил трибуну Тонкову.
Началась самая приятная часть собрания. Награжденные и поощренные выходили поочередно к столу президиума. Тонков вручал награды, зал благожелательно аплодировал. Сокольникову не дали ничего, зато Демченко, напротив, вручили какую-то грамоту. Это примирило Демченко с отзвучавшей критикой, он выглядел почти довольным. Наконец собрание объявили закрытым.
Сокольников был сегодня дежурным. Не повезло ему под праздник. Впрочем, на сегодняшний вечер у него специально была припасена интереснейшая книжка — современный английский детектив. Так что сидеть будет не скучно.
Однако долго читать не пришлось. В пустом и тихом коридоре внезапно раздались шаги, и вошел Демченко.
— Значит, дежуришь, — сказал он явно для завязки разговора. — Что читаешь?
Сокольников показал. Демченко с одобрением покивал головой и вдруг спросил:
— Ну как там дела с твоей Азаркиной?
— Никак, — пожал Сокольников плечами. — Дело на доследовании.
— Да-а, — подтвердил Демченко. — А знаешь, как оно дальше пошло?
— Мне не докладывают, — сказал Сокольников.
— В общем, ее муж — ну, алкоголик который, опять на директрису из рыбного дал показания.
— Вот как! — оживился Сокольников.
— Так.
В разговоре образовалась пауза. Сокольников ждал продолжения, а Демченко дальнейших расспросов. Нарушил ее все же Сокольников.
— В общем-то я чувствовал, — сказал он осторожно. — С судом такие штуки не проходят. Теперь она точно загремит.
— То, что дело на доследовании, ни о чем не говорит. Любой судья так бы поступил. Дело-то все гнилыми нитками шито.
— Этот твой алкоголик должен сидеть в первую голову. Вот ведь накрутил! Договориться с ним хотели. Чтоб и нашим, и вашим.
Демченко замолчал и некоторое время только качал головой.
— Ну и что же будет дальше? — спросил Сокольников.
— А ничего. Показания алкоголика — это мура, семечки. Никто твою Ольгу не тронет. Если надо — судье подскажут, что к чему.
— Не понимаю, зачем вы все это мне рассказываете, — сдержанно сказал Сокольников.
— Да так просто. — Демченко посмотрел на часы и вдруг заторопился: — Для образования. Будь здоров!
Он вышел в коридор, но тут же вернулся, словно вспомнив нечто важное. Дверь при этом он плотно прикрыл да еще придержал ручку для надежности.
— Вот что я тебе хотел сказать. У меня есть сведения, что Ольга сегодня будет распродавать кое-какой дефицит. Сам понимаешь, с наваром. Но не через магазин. И не сама. Через лоток на улице. Ну а товар хороший. Разойдется вмиг, сколько ни запроси. Понял?
Сокольников кивнул.
— И вот одна девчонка — из новеньких там — тоже будет торговать с лотка. Девчонка еще не обтертая, но знает уже немало. Если, к примеру, ее зацепить, можно будет с ней потолковать о многом.
— Где этот лоток? — спросил Сокольников.
— Ну, дорогой, — Демченко развел руками. — Откуда же я знаю? И ты, кстати, в случае чего на меня не ссылайся. В общем, сиди спокойно. Читай. Может, граждане позвонят. Пожалуются. Вообще я бы тебе советовал дежурить вместе с внештатными. Мало ли чего, все же перед праздником, время ответственное. Ты меня понял? Ну пока!
Позвонили Сокольникову ровно через час после ухода Демченко. Возмущенные покупатели. Мужским голосом. Незнакомым или намеренно измененным. Сообщили, что возле трамвайной остановки торгуют говяжьей тушенкой по сумасшедшей цене, немилосердно обманывая население.
Сокольников ждал звонка с нетерпением, потому что был к нему готов. Два паренька-дружинника ждали вместе с ним — их Сокольников вызвонил из районного штаба дружины.
Все правильно, все точно. Торговала тушенкой девица из магазина Ратниковой. Та самая, что когда-то отпускала Сокольникову для Костина дефицитнейший товар. Сокольников сразу признал ее кругленькую сытенькую мордашку с пуговичным носиком. А она его до сих пор не узнавала, и этому Сокольников был немало рад.
И вот сейчас перед Сокольниковым на столе стояли две сумки с контрольными закупками. В каждой — по десятку банок той самой говяжьей тушенки, которой так лихо торговала Бочкова.
— Ну и как нам быть, Валентина Игнатьевна? — сурово говорил Сокольников. — Нужно дело возбуждать.
Бочкова потянула воздух носом-пуговкой, хлопнула раз-другой зачерненными сверх всякой меры ресницами.
— Может, не стоит, — возразила она. — Может, договоримся?
В тоне ее, во взгляде, хотя и слегка опасливом, была разлита такая бесхитростная наглость, такая уверенность в том, что все проскочит как по маслу, — Сокольников даже изумился.
— Как же мы с тобой договоримся? — печально спросил он. — Уж не взятку ли ты мне предлагаешь, Валентина Бочкова?
Бочкова шевельнула круглыми коленками и на пару секунд смущенно потупилась.
— Нет, милая, — продолжал Сокольников, — не о том ты сейчас думаешь. Если честно, мне просто по-человечески интересно, почему тебя подвели?
— Уж и подвели, — кокетливо сказала Бочкова. — Чего подвели-то?
— Как это чего? — удивился Сокольников. — Это накануне всенародного праздника! Перед таким событием! Дерзко, без всякого смущения творить обман! Ты что же, не соображаешь, на что это тянет?
— На что? — В голосе Бочковой появилось легкое беспокойство.
— Как минимум, сто пятьдесят шестая, часть два. Обман покупателей в крупных размерах.
— Почему это в крупных? — возмутилась Бочкова. — Вы что, считать не умеете? Десять банок да десять банок. Откуда в крупных?!
— Давай вместе считать, — вздохнул Сокольников. — Госцена банки сколько? Восемьдесят семь коп. Ты продавала по рублю двадцати. Так? Тридцать три копейки навара с каждой банки.
— Предположим, я ошиблась, — безмятежно сказала Бочкова. — И все равно получается шесть шестьдесят. Откуда в крупных-то?
Сокольников вздохнул еще тяжелее. Потом не спеша открыл сейф и достал уголовный кодекс. Раскрывать его не стал, просто положил между собой и Бочковой.
— Хочешь расскажу, как тебя подставили? Когда послали тушенку продавать, наверное, сказали: не бойся, милиция сегодня гуляет, а если что случится, скажешь, что ошиблась. Все равно много не насчитают, а мелочевку всегда можно замять. Так или нет?
Бочкова молчала и разглядывала носки своих светло-коричневых — в тон дубленке — сапожек.
— Но мы тоже кое в чем понимаем, — доверительно говорил Сокольников. — Не случайно мы контрольные закупки брали не сразу. Сначала опросили нескольких покупателей. Вот их объяснения. Из них выходит, что не ошиблась ты, а с самого начала по этой цене тушенку и гнала. У тебя в накладной восемьсот банок. Общая сумма обмана получается под триста рублей. Чистая часть вторая. До пяти лет с конфискацией. Да ты смотри сама. В кодексе все написано.
Все еще недоверчиво, но с нарастающей тревогой слушала его Бочкова. И носом уже не швыркала.
— А ведь Ольга тебя предупреждала, наверное, — как бы между прочим сказал Сокольников. — Говорила небось, не зарывайся.
Бочкова хлопала ресницами и готовилась плакать. Носик ее капелюшечный покраснел, а глаза до краев налились влагой.
— Как же, предупреждала, — возразила она. — Сама же велела двести рублей отдать с выручки.
У Сокольникова от волнения немного перехватило дух. Чтобы себя не выдать, он поднялся и отошел к окну.
— Это несколько меняет дело, — сказал он не оборачиваясь. — Даже сильно меняет, я бы сказал. Получается, что тебя принудили к обману, ситуация иная. Но ведь это еще надо доказать.
— Как же я докажу? — всхлипывала Бочкова, размазывая по румяным щекам угольно-черную тушь. — Она же от всего отопрется!
— Когда ты ей деньги должна передать?
— Да сегодня же. Как кончу торговать. Она сказала, что будет ждать в магазине.
Сокольников вернулся к столу, достал и положил перед ней чистый лист бумаги.
— Пиши. Прокурору района. Заявление…
На остановке возле метро трамвай разом опустел. Вместе с Викторовым в вагоне осталось всего с десяток пассажиров. Да еще какой-то паренек запрыгнул в последний момент на переднюю площадку. Он прятал лицо в поднятый воротник зябкой синтетической куртки, и все же, приглядевшись, Викторов его признал.
— Олег! Сокольников! — окликнул он.
Тот обернулся, обрадовался:
— Саша! Здравствуй!
Он подошел и сел рядом. Выглядел уставшим. К тому же, кажется, похудел.
— Ты с работы? — спросил Сокольников. — Что так поздно?
Викторов неопределенно махнул рукой:
— Дела всякие… А ты сейчас где?
— Да, видишь, в КБ свое вернулся, — смущенно сказал Сокольников. — Из отдела-то я уволился.
— Я знаю. Слышал кое-что.
— А что именно? — Сокольников с острым интересом заглянул ему в лицо, и Викторов отчего-то смутился.
— Всякое говорят, — пробормотал он. — Язык-то без костей.
— Понятно.
Холодок неловкости и отчуждения повеял между ними, и оба прекрасно понимали причины его появления. Сокольников был уже чужой, бывший. Бывшими редко становились по своей воле, и потому их не стремились узнавать при встречах прежние сослуживцы.
Викторов поспешил исправить положение:
— Что же все-таки произошло?
Сокольников усмехнулся одними губами. А глаза оставались невеселыми.
— Я ведь, Саша, Ратникову с поличным поймал. Задержал с понятыми, как полагается, когда она от своей продавщицы получала взятку. И заявление в прокуратуру заранее имелось. А дальше все очень странно получилось…
Он замолчал и снова невесело усмехнулся.
— Привез ее в отдел и только после этого позвонил Костину. Он тут же примчался. Вместе с Трошиным, кстати. Поначалу даже похвалили меня за то, как грамотно я все проделал. Наверное, от растерянности. И домой отправили. Сказали, что сами разберутся. Это случилось как раз накануне Октябрьских. А когда после праздников я пришел на работу, оказалось, что все с ног на голову…
Девчонка эта, которую Ратникова заставляла народ обманывать, оказывается, заявила, что я ее запугал, обманул и все такое. Угрозами, дескать, заставил заявление на Ратникову написать и деньги ей сунуть. К тому же Ратникова написала на меня жалобу, будто я тогда был пьян. Вот эту жалобу почему-то и стали разбирать в первую очередь. Костин, назначил служебное расследование, а проводить его взялся Трошин. Доказать однозначно я ничего не мог, хоть все сплошная глупость и подлость. В общем, я сорвался, накричал и заявление на стол. Подписали мое заявление мгновенно. В неделю рассчитали — вот скорость-то!
— А что Ратникова? — спросил Викторов, хотя ответ ему был известен.
— С ней все в порядке. И девчонку ту передали на воспитание коллектива. Правда, Ратникова, я слышал, от нее все же скоро избавилась. Слышал я еще, что сама Ратникова собирается в другой район переходить. Вроде даже с повышением, чуть не директором торга…
Сокольников поежился и глубже сунул руки в карманы.
— Может, ты поторопился, Олег? — Викторов снова ощутил, что говорит не то.
— Может, и поторопился. А ты бы на моем месте как бы поступил?
Трамвай резко затормозил. Из кабины выскочила женщина-вагоновожатый, пробежала по салону, вытаскивая из касс билетные катушки.
Вагон идет в депо, — объявила она на ходу и повторила еще раз: — В депо идет вагон.
— Я не знаю, — запоздало ответил Викторов. — Так сразу и не скажешь.
— И я не знаю, — согласился Сокольников. — Иногда думаю — зря. Надо было бороться, шуметь… Правду говоря, вначале я собрался жалобу написать. Вплоть до самых верхов. Начал и остановился. Думаю: зачем? Поезд уже ушел, все упрятано. Даже если какой честный человек проверять мое письмо возьмется — все равно концов не найдет. Да и станет ли искать!.. Верно ведь?
За окном вагона проплыли огромные цифры, сложенные на глухой стене какого-то учреждения из разноцветных лампочек. Только что закончились новогодние каникулы, и оформление в городе убрали еще не везде.
— Ну, мне выходить, — Сокольников поднялся. — Счастливо тебе!
— Счастливо! Ты забегай, — скороговоркой произнес Викторов. — Знаешь ведь, где я сижу…
Он смотрел, как Сокольников трусцой семенил по тротуару, не вынимая рук из карманов. Пошел небольшой снежок, но мороз все равно держался крепкий, потому что задувал ветер, до весны еще было далеко…
Инна Булгакова
СОНЯ, БЕССОННИЦА, СОН
«…Ибо крепка, как смерть, любовь…»
Песнь Песней
ЧАСТЬ I
Черная лестница, зыбкая вонючая тьма, один пролет, другой, третий… тяжелая дубовая дверь, негромкий стук… тишина… неожиданно с протяжным скрипом дверь сама по себе открывается. Путь свободен!
Год назад Москва была возбуждена слухами о зверском убийстве.
Это случилось субботним утром 26 мая 1984 года в угловом доме номер семь по Мыльному переулку. Сияло солнце, дети играли в песочнице. Василий Дмитриевич Моргунков гонял голубей, еще трое соседей следили за стремительной стаей… вдруг этот безмятежный мир раскололся криком с третьего этажа, из квартиры Неручевых. Соня Неручева, восемнадцатилетняя студентка, кричала из раскрытого окна что-то бессвязное («как будто безумное», по позднейшим воспоминаниям свидетелей, запомнивших слово «убийца») и внезапно исчезла в глубине комнаты.
Соседи (среди них жених Сони — Георгий Елизаров) бросились на помощь.
Рассказ Моргункова: «Я крикнул: «Ребята! Бегите через парадное!» А сам рванул по черной лестнице. На площадке первого этажа столкнулся с соседом Антошей Ворожейкиным (тот возился с дверным замком своей квартиры), взбежал на третий этаж. Дверь к Неручевым приоткрыта, чуть-чуть покачивается, постанывает, как живая. Стало, знаете, не по себе. Вошел. Ну, картинка! За кухонным столом лежала Ада (Сонина мать), лицо в крови. На столе топор, к обуху пристали рыжие волосы, рядом полотенце, тоже в крови. Словом, кадр из фильма ужасов, мороз по коже, а в парадную дверь звонят, колотят — Егор с Ромой. Кинулся в прихожую, темно, споткнулся обо что-то на полу, упал. Человеческое тело, под руками что-то липкое — кровь. Поднялся весь в крови, отворил дверь, ворвались ребята, кто-то включил свет — мы увидели Соню. Только что она кричала из окна. И вот — изуродованный труп, вместо лица — кровавое месиво. Что творилось с Егором! Я крикнул, вдруг вспомнив: «Там, на лестнице, Антоша! Я только что видел! У него рубашка в крови!» На площадке темновато, но пятно на белой рубашке заметно, просто я не отдал себе отчета, не до того было. И вдруг вспомнил. Рома побежал к Ворожейкиным. Егор сидел неподвижно на полу возле убитой. Я стал звонить в милицию и Сониному отцу…»
Роман Сорин. «Убийство на улице Морг» Эдгара По дает некоторое представление. Везде кровь, все в крови, два обезображенных трупа. Кошмар. Как во сне я спустился на первый этаж, звоню, долго никто не открывает. Наконец дверь распахнулась. Антоша, по пояс голый, босиком. Я спросил почему-то шепотом: «Ты сейчас был у Неручевых?» Он смотрит как безумный. Вдруг побежал от меня прочь по коридору и заперся в ванной. «Открой! Открой! Открой!» Молчание. Только шум воды. Я разбежался, высадил плечом дверь, схватил его за ремень брюк и потащил наверх к Неручевым. Отвратительная сцена, я был на пределе. Увидев Соню, он закричал: «Нет! Нет! Нет!» — словно в истерике. Вскоре подъехала милиция, и мы сдали старого друга… Друг детства… Да, перед этим в квартиру поднялась Алена, Сонина подруга, соседка, — мы только что вчетвером у голубятни стояли. Ну, реакция ее понятна… Слегка опомнившись, она рассказала любопытную вещь. Картина начала проясняться. Однако до сих пор для меня непостижимо главное: как он мог пойти на это?..»
Алена Демина. «Я услышала крик из окна: Сонечка в своем любимом платье и алой ленте в волосах (у нее волосы рыжие, редчайшего медового оттенка), а лицо!.. искаженное от ужаса. Она кричала так дико, что… в общем, непонятно, страшно. Хотя я и не из пугливых, честно сказать. Мужчины побежали в дом, а я не могу. Бедная Соня. И Ада Алексеевна. Зачем я только пошла туда? Трупы, кровь… Василий Дмитрич с Ромой кричали на Антошу, а тот, полуголый, молчал. Зверь. Таких надо расстреливать безо всякого суда. И тут я вспомнила. Накануне, в пятницу, праздновали помолвку Сони с Егором, я помогала накрывать на стол и нечаянно услышала, как Антоша просил у Ады Алексеевны денег взаймы: очень срочно, жизнь зависит. «Приходи завтра утром», — ответила она. И вот он пришел…»
Соседка Серафима Ивановна Свечина. «Я вязала во дворе на лавочке. Детишки в песке возились, а Роман с Егором и Аленой возле Васиной голубятни стояли. Вдруг вижу: из тоннеля, что на улицу ведет, выглядывает Антоша (в белой рубашке и с черной «бабочкой», — стало быть, с работы отлучился, он официант в ресторане). Осмотрелся внимательно, шмыгнул за кусты, пробежал и скрылся в подъезде. Я удивилась… как вдруг крик: Сонечка Неручева с третьего этажа. В словах ее смысла не было, впрочем, не берусь судить, нет. Такое впечатление, будто она помешалась, видя, как смерть приближается…»
Герман Петрович Неручев. «Я появился в разгар следствия. И был вынужден опознавать трупы жены и дочери. Нетрудно представить мое состояние… нет, пожалуй, трудно — это надо пережить. Тем не менее я тогда же машинально отметил, что убийство (особенно Сонечки) было совершено с исключительной, граничащей с садизмом жестокостью — это просто бросалось в глаза. Мне предложили осмотреть квартиру: не пропало ли что-нибудь? Все оказалось на месте за исключением одной вещицы — любимого украшения жены: довольно большой серебряный крест на серебряной же цепочке, выложенный черным жемчугом. «Черный крест» — так называла его Ада…»
Старинная драгоценность почти сразу была найдена при обыске у Ворожейкиных: в кармане старого плаща в коридоре на вешалке. На месте преступления обнаружены отпечатки пальцев Антоши (как задушевно звучит, не правда ли?); по его же собственным словам, он пытался стереть их с орудия убийства полотенцем — и все же один-единственный отпечаток (кровавая мета!) на топорище остался.
Итак, преступник полностью изобличен, справедливость восстановлена, наши нравственные чувства, казалось бы, удовлетворены. Ну а вопрос, высказанный Романом Сориным: как он мог пойти на это?
Как он мог?.. «…Боже! — воскликнул он. — Да неужели ж, неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп… буду скользить в липкой, теплой крови, взламывать замок и дрожать; прятаться, весь залитый кровью… с топором?.. Господи, неужели?..» Санкт-Петербург, Родион Раскольников, старуха процентщица и Лизавета — аналогия напрашивается сама собой. Но — другие времена, другие нравы: наш «сверхчеловек» (нет, «тварь дрожащая»!) не раскаялся, он даже не сознался в убийстве беззащитных женщин. Последнее слово подсудимого перед вынесением приговора: «Я невиновен. Улики против меня неопровержимы, я не могу опровергнуть их. Я ничего не понимаю и прошу об одном: поверьте мне. Я хочу жить!» А из зала суда неслись крики: «Смерть! Смерть убийце!» В разговоре с ним я спросил: да разве ваши жертвы не хотели жить? Я видел перед собой слабого (не физически, нет!), жалкого человечка-садиста, бормочущего: «Я не убивал, нет, нет, я не убивал…» Любителю покера, проигравшему две тысячи и отдавшему в счет долга дневную ресторанную выручку, грозило разоблачение. Он просит взаймы у соседки и приходит в субботу утром за деньгами. Объективности ради приведу показания и самого преступника, которые убедительно опровергаются фактами. «Да, в субботу я должен был вернуть деньги в кассу. Ада сказала прийти утром. Я отпросился с работы — ресторан в десяти минутах ходьбы от дома. Боясь, что меня увидит жена — о карточном долге она не знала, — я постарался войти в дом незаметно…» Следователь — майор Пронин В. Н.: «Тогда логичнее было бы пройти через парадное, а не по двору, рискуя столкнуться с соседями и вашими собственными детьми». — «Совершенно верно. Но Катерина собиралась на рынок, я боялся встретиться с ней на парадной лестнице или в переулке». — «А не потому ли вы выбрали черный ход, что надеялись: авось кухонная дверь не заперта?» — «Мне это даже в голову не приходило». — «Но ведь она действительно оказалась незапертой?» — «Да. Я постучался, дверь внезапно распахнулась. Увидел кровь, мертвое тело — и застыл на пороге. Вдруг померещилось, будто труп шевельнулся. (Заметим в скобках: преступнику, по его словам, явилось и «натуральное привидение», но я не специалист в «черной магии», пусть останется эта очередная выдумка на его совести. — Е. Г.) Бросился к Аде, задел лежащий почему-то на столе топор, тот упал с грохотом, я подобрал его и тут сообразил, что оставляю следы. Схватил полотенце, начал вытирать… внезапно возникло жуткое ощущение чьего-то невидимого, неслышимого присутствия». — «Что конкретно вы увидели и услышали?» — «Не могу объяснить. Как будто неуловимое движение…» — «Вам же померещилось, будто труп шевельнулся?» — «Нет, это вначале, а потом… словно нечто сверхъестественное… невыносимое ощущение. Нервы сдали, я выскочил на черную лестницу, ощутил кровь на руках, побежал к себе. Замок заело, никак дверь не могу отпереть. Тут снизу сосед Моргунов кричит: «Соня Неручева! Что-то случилось!» А ведь Сони не было! Поверьте мне, ее не было…» — «Но вы слышали ее крик?» — «Нет. Не слышал и вообще не видел ее в квартире». — «Значит, вы признаете, что побывали не только на кухне, но и в других комнатах?» — «Нет, только на кухне, я неточно выразился». — «И ящик в настенном шкафчике не взламывали?» — «Я в комнату Ады не входил». — «Однако накануне, на помолвке, вы видели, откуда хозяйка достает украшение?» — «Все видели». — «Продолжайте». — «Бросился в ванную отмывать одежду. Звонок в дверь. Я боялся открывать…» — «Почему же? Ведь вы утверждаете, что ваша совесть чиста?» — «Я этого не утверждаю: я опустился… проигрался, проворовался…» — «То есть вы признаете себя виновным хотя бы в краже драгоценности?» — «Нет, нет и нет!» — «Так. Сейчас вы сочините сказку, будто подобрали мешочек на месте преступления». — «Не подбирал, не прикасался, вообще его там не видел». — «Каким же образом крест очутился в вашей квартире?» — «Не представляю!» — «Хватит. Опять сверхъестественная сила? Некая чертовщина убивает двух женщин, крадет крест и подкладывает в карман вашего плаща». — «Зачем вы так? Ведь настоящий убийца действительно существует». — «Существует. Это вы. По многочисленным свидетельствам очевидцев, с момента появления в окне Софьи Неручевой никто не выходил из дома; ни по парадному, ни по черному ходу. В доме всего три этажа, шесть квартир. И по роковому для вас совпадению в то субботнее утро никого из жильцов дома не было, алиби проверены. То есть никто не мог спрятаться, скажем, в своей квартире. Присутствие постороннего также исключено: побежав на крик девушки, соседи, так сказать, прочесали оба подъезда, никого не обнаружив, кроме вас». — «Но ведь это невероятно! Этого не может быть!» — «Это есть. Вы напрасно упорствуете. Советую сознаться». — «Не в чем! Неужели вы не понимаете?» — «Не понимаю». — «Тогда мне больше нечего сказать».
Убийце больше нечего сказать! Нет, аналогия с тем давним петербургским преступником беспочвенна, в нашем случае деградация личности необратима.
Остается добавить только, что суд под председательством судьи Гороховой А. М., согласно статье 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах), приговорил преступника к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение.
Наш спец. корр. Евгений Гросс».
Егор уронил газету (вчерашнюю «Вечерку») на пол, сам остался лежать на диване неподвижно, глядя в оконный проем, распахнутый в майское небо. Было невыносимо лежать, ходить, говорить — было невыносимо жить. В дверь позвонили, он не шелохнулся… еще звонок… еще… Наконец встал, прошел, шаркая разношенными тапками, в переднюю, открыл дверь. Катерина. Вся в черном. Какое-то время они молча смотрели друг на друга, она сказала шепотом:
— Это вы погубили Антона.
— Кто — мы?
— Ты, Ромка и Морг.
— Он убийца.
— Нет.
— Катюш, — заговорил он бессвязно и беспомощно, — голубушка, я для тебя на все готов, так жалко, но… разве я смогу простить ему Соню?
— Егор, — отвечала она тоже мягко, даже нежно, — ты знал Антошу с детства, он любил тебя. Скажи мне, ради бога, разве он мог?
— Если б ты видела их трупы!
— И он уже труп! — закричала Катерина и заплакала. — Даже страшнее — горсть пыли в жестянке!
— Он бил ее по голове, — отозвался Егор деревянно. Вот уже год он жил как во сне. — Бил по лицу и по голове до тех пор…
— Замолчи! — Она пошла к ступенькам, толстая тетка в черном, на секунду сердце дрогнуло чужой болью, вот обернулась и прошептала отчаянно: — Будьте вы все прокляты!
Егор вернулся на любимый свой диван, уставился в окно в ожидании блаженного безразличия. «Напрасно я все это читал. Надо забыть — но как?» Встал, прошел на кухню, выпил воды из-под крана, подошел к окну, выходящему во двор. Сирень цветет неистово и жадно, Серафима Ивановна вяжет на лавочке, ребята играют в мяч. Среди них беленькие, в голубых штанишках дети Антона: мальчик и девочка — смеются беззаботно. Отец — горсть пыли в жестянке… А ведь вправду мальчик был тихий и застенчивый… к черту! все к черту!
Егор заставил себя умыться, одеться для выхода (а ведь уже четвертый час, но жизнь остановилась, и житейские условности казались нелепыми, впрочем, он просто забывал о них). Но эту условность он исполнит. Спустился по парадной лестнице в милейший Мыльный переулок, зашел на рынок, купил за непотребную цену белые розы и поехал трамваем на кладбище. У Ады (урожденной Захарьиной) там спит вечным сном родня, и Герману Петровичу удалось (ему всегда все удается) пристроить в старые могилы новопреставленных — жену и дочь.
Сквозь зеленую прохладу дубов и кленов сияло равнодушное солнце; пустынная аллея, поворот, еще поворот, покрашенная охрой ограда, низкая лавочка. Он сел, встретился взглядом с Соней и застыл, всматриваясь в черные глаза — черные очи, отвечавшие ему веселым любопытством. Нет, фотография в овальном медальоне на высоком кресте из дорогого камня лабрадор (Герман Петрович размахнулся) — фотография не могла передать всей прелести любимого лица, заключавшейся в игре красок: темно-рыжие волосы, ослепительно белая кожа при черных глазах, бровях и ресницах. Под фотографией дата: 1966—1984 годы. У Ады соответственно: 1946—1984. Восемнадцать лет и тридцать восемь лет. Ада тоже хороша, очень, смотрит гордо и улыбается слегка загадочно. Обольстительная гадалка. Егор вспомнил про розы, которые так и продолжал держать в руках, склонился к могильной плите. Последний раз он был здесь поздней осенью: голое кладбище, не преображенное молодой зеленью, точнее соответствовало пустоте душевной. Он и тогда принес розы, ага, вот останки букета… Егор взял двумя пальцами засохшие стебли, чтобы выбросить за ограду, — внезапный «нездешний» холодок прошел по спине, жутковатая дрожь; тотчас, без перехода, к нему вернулась жизнь, утраченная год назад, с ее отчаянием, ужасом и тайной.
Рассыпающийся в прах, истлевший букет был перевязан алой лентой. Трясущимися руками он развязал узел, выбросил цветы, разгладил атласную ткань. Рассудок отказывался воспринимать происходящее, но память… — «о память сердца! ты верней рассудка памяти печальной…» — лихорадочно заработала. Это ее лента: вот, концы подшиты небрежно, более темными нитками… я помню, я целовал душистые волосы — горьковатый, девичий аромат лаванды, лента упала, я подобрал и спрятал в стол, на другой день Соня ее забрала. И еще: лента, которую я держу в руках, свежая и чистая, она не лежала здесь, на могиле, долгую зиму и бурную весну, нет, она принесена только что… да, на рассвете шел дождь… Господи, да что же это такое? Кто-то пришел сюда с Сониной лентой, перевязал мои засохшие цветы и сейчас, может быть, стоит и смотрит, как я…
— И вы здесь, сударь? — послышался за спиной глуховатый, чуть-чуть картавящий барственный голос.
Егор вздрогнул, оглянулся: Герман Петрович с тюльпанами и нарциссами подкрался бесшумно, стоит, смотрит на крест из лабрадора. Егор инстинктивно сунул ленточку за ремень джинсов.
— Да, сегодня год. Вы давно тут были, Герман Петрович?
— Давно. — Старик разделил цветы на две охапки, положил на плиты и присел рядом с Егором на лавочку — не старик, а статный пожилой джентльмен с благородной проседью и военными усами-щеточкой. — Осенью сжег венки, ограду красил, под Новый год приходил, потом в апреле.
— Герман Петрович, когда вы опознавали трупы, на Соне была алая лента?
— Я предпочел бы этот момент не вспоминать.
— Я вас прошу! Когда мы стояли возле голубятни и она закричала в окно, на ней было американское платье… сафари — так называется? Волосы распущены и повязаны лентой, низко у лба. Вы помните?
— Как я могу помнить, если меня там не было?
— Нет, потом, потом!
— Я вам признаюсь: я ничего не видел, я был в шоке.
— Я тоже.
— Да, сафари помню, все в крови.
— А лента?
— Да какая там лента!
— Но куда она делась?
— Кто?
— Лента.
— О господи! — Неручев пожал плечами. — Мне б ваши заботы.
— А потом вы ее не видели? В прихожей, когда убирались?
— Что с вами, Георгий?
— Меня страшно интересует эта лента.
— Прихожую вымыла Серафима Ивановна. — Старик внимательно вглядывался в лицо Егора. — А что касается ленты…
— Говорите тише, — перебил Егор, — нас могут услышать.
— Та-а-ак, — протянул Герман Петрович, поднял руку, приказал: — Посмотрите на мои пальцы, вот сюда… теперь взгляните вправо, влево…
— Да что вы…
— Реакции нормальны… положите ногу на ногу… так… — резкий удар по колену ребром ладони. — Нормально… Вы никогда не проверялись у психиатра?
— А, я в норме, не беспокойтесь. Можно к вам сегодня зайти?
— Сделайте милость. Уже уходите?
— Да.
На повороте аллеи Егор оглянулся: пожилой джентльмен сидел, закрыв лицо руками, очевидно, почувствовал взгляд, меж пальцами блеснули льдистым блеском совсем не стариковские, полные жизни и муки глаза.
Предвечерние, еще жгучие лучи, воскресные тишь и безлюдье старинных улиц и переулочков, Егор шел пешком, останавливался, озирался, ожидал — напрасно… «Вечерка» так и валялась на полу. Ага, Алена Демина. «Я услышала крик из окна: Сонечка в своем любимом платье и с а л о й л е н т о й в волосах…» «Мне не померещилось, лента была на ней в то мгновение. А потом?.. Не могу вспомнить, не надо! — защищался Егор. — Надо! Здесь — тайна».
Итак, в прихожей вспыхнул свет (я включил, а Рома закричал что-то, затрясся, вцепившись в меня пальцами). Мертвая Соня. Какие-то секунды душа отказывалась воспринимать видимое. Вокруг бесновались, орали Ромка с Моргом. Он подошел к ней и сел рядом, охватив колени руками, глядеть на нее он не мог, просто сидел, отчужденный ото всего, и от нее тоже. «Этого не может быть! — твердил он про себя страстно и убежденно. — Это не может быть она, такая живая и такая любимая…» Медовые волосы намокли в крови, это он помнит, а вот лента… Егор разжал ладонь — алый клубок вспыхнул, распрямляясь, — спрятал непостижимую находку в верхний ящик письменного стола, встал, прошел на кухню и выглянул в окно: ребятишки по-прежнему играли в мяч, и вязала на лавочке Серафима Ивановна. Не верится, что прошел всего час с небольшим, но этот час он жил, а не умирал, как целый год.
— Добрый вечер, Серафима Ивановна. — Егор сел на лавку, следя за сверканьем, звяканьем спиц — крошечных рапир.
— Здравствуй. Ты помнишь, что сегодня год? Я заказала панихиду по убиенным.
— По Аде с Соней?
— И по Антону.
— Я был на кладбище. Серафима Ивановна, вы ведь у Неручевых убирались после убийства?
— Всю квартиру вымыла.
— Вам не попадалась на полу или еще где Сонина лента — красная, она ею волосы повязывала?
— Нет.
— И милиция не находила, не знаете?
— Знаю только, что ключ и тетрадку возле Сони в луже крови нашли, на экспертизу взяли. А на убитой ленты не было, что ли?
— Кажется, не было.
— Егор, что случилось?
— Погодите, пока не соображу. Мрак.
— Мрак, — согласилась старуха. — Про Антошу читал?
— Читал.
— Если б я своими глазами не видела, как он в кустах крадется, — ни за что бы не поверила. Кроткий отрок.
— Кроткий отрок из ресторана. Не смешили б вы меня.
— Тебе, вижу, не до смеха. А ресторан — детей кормить надо?
— И в покер играть надо.
— Егор, не ожесточайся. Он заплатил. И все мы грешники.
— Однако топором черепов не разбиваем.
— Он был больной. Умопомрачение.
— Совершенно здоров был ваш кроткий отрок — со всех сторон проверяли.
— И все равно, — упрямо возразила старая дева, друг всех детей и его друг, — убийством на убийство отвечать нельзя. Не вы дали — не вам и отнимать.
— Ох, Серафима Ивановна, и без того тошно.
— Ладно хоть ожил. А то боялась за тебя.
До визита к Герману Петровичу Егор успел поговорить с действующими лицами прошлогодних событий, благо все соседи под рукой.
Алена Демина — девятнадцать лет, продавщица из универмага.
— Ален, во вчерашней «Вечерке»…
— Так ему и надо, гаденышу! — отрезала милая девочка. — Жалко, просто расстрел, еще бы пытки перед этим.
— Прекрати! В статье твои показания: ты запомнила Сонину алую ленту. А потом, в прихожей, на мертвой ее не было?
— А ты сам не видел?
— Не знаю. Я ощущал что-то странное, но… не знаю. Я был не в себе.
— Я тоже. Я вообще старалась не смотреть.
— Ну да, мы были оглушены внезапностью, ведь только что она кричала из окна, а лента…
— Вся голова размозжена, а ты о какой-то… — Алена вздрогнула. — Кончим об этом.
— Я хочу тебя спросить… — Егор замолчал. Порядочный человек о таких вещах не спрашивает, но словно какая-то сила извне уже властно распоряжалась им, и он покорно подчинялся этой власти. — Вы очень дружили. У нее был кто-нибудь?
— В каком смысле?
— Мужчина.
— То есть как! — Алена глядела изумленно. — Разве не ты был ее мужчиной?
— Нет.
— Но ведь ты…
— Я соврал.
— Но ведь вскрытие показало…
— Да, да.
— Ну и ну!.. Дай-ка закурить. Может, этот подонок ее тогда изнасиловал?
— Следов насилия не обнаружено.
— А чего ты, собственно, в этом копаешься? Бедная Сонька. Теперь-то не все равно?
— Не все равно…
— Эх, ты! — Сколько презрения, да ведь он заслужил. — Ревнуешь, что ли?
— Мне надо знать.
— Поздновато спохватился. Ну, был, ну, спала с кем-то, такая, как и все, понял? Такая, как и все.
— Не верю.
Василий Дмитриевич Моргунков — сорок два года, голубятник, клоун из Госцирка, выступающий под псевдонимом «Василий Морг».
— Егор, «Черный крест» в «Вечерке» читал?
— Читал.
— А ведь это я ему расстрел устроил.
— Все помогли.
— Э, нет. Мои, лично мои показания.
— Ну и что?
— А ничего. Забавное ощущение… щекочет нервы. Знаешь, я в ту минуту и не понял, что это кровь… ну, на его рубашке.
— Ты и сам был весь в крови. Почему ты так долго не открывал?
— Разве?
— Рома звонил, я стучал… какие-то крики противоестественные.
— Это я взревел, когда на труп упал. Ведь предупреждал! Доигралась.
— Кто доигрался?
— Ада — кто ж еще? Цыганка-дворянка. Деньги очень любила и драгоценности — соблазн для окружающих.
— А если кто из ее клиентов…
— Не было у нее никаких клиентов — проверено. Просто нравилась роль роковой женщины — вот и все.
— Чего ты злишься?
— А, очерк этот чертов, и тут ты еще. Думаешь, с Антошей промашка вышла? Нет, брат, я все до секунды рассчитал. Убийца просто не успел бы скрыться. Ведь мы после Сониного крика и парадный и черный ход перекрыли. Сразу! А ему еще надо было ее убить. Не поспел бы.
— Антон дал показания, будто чье-то присутствие ощущалось в квартире.
— Соврал покойничек. Я ведь, пока вам с Ромой открывать шел, во все комнаты заглянул: никого. Чердак заперт, вековая нетронутая пыль. А черный крест у него в плаще? Ничего умнее не придумал, как и такую очевидность отрицать. Наврал, запутался, с детства был дурачок.
— Зачем, не надо…
— Затем, что правильно расстреляли! — заорал Морг.
— Успокойся. Ты помнишь, как Соня появилась в окне — с алой лентой в волосах?
— Ну?
— Куда она потом делась?
— Кто?
— Лента.
— А она куда-нибудь делась?
— Но ведь на мертвой ее не было?
— Не помню. Я покойников боюсь. Я был…
— Ты был в шоке. Морг, тебе не кажется, что тут не все тайны раскрыты?
— Что там было на самом деле, — процедил клоун, — мы уже никогда не узнаем. Все умерли.
Роман Сорин — ровесник Егора, тридцать один год, журналист.
— Ром, во вчерашней «Вечерке»…
— Знаю я этого Гросса — дурак дураком.
— Да обычно, банально… впрочем, одно место меня как-то задело, надо бы у него уточнить.
— Что именно?
— «Натуральное привидение» — что это значит?
— Ничего. На эффект бьет. Обратил внимание, как цитата выделяется на фоне этой серости?
— Ну, понятно, не гений. Так и Ворожейкин наш — не Раскольников. — Егор болезненно поморщился: — Тот по царским законам десятку получил, наш — вышку.
— Антошу жалеешь? — В светло-карих, почти желтых глазах Романа промелькнуло страдание. Он сказал умоляюще, по-детски. — Но ведь Антоша убил? Или… не он? Что молчишь? — И тут же усмехнулся, пересиливая себя: — Нет, ты скажи, скажи, а то наши нравственные чувства, как пишет Гросс, никогда не будут удовлетворены.
— Не притворяйся, — отозвался наконец Егор. — Да, жалко… вопреки всему. И много непонятного.
— Например?
— Ада была щедра, при всей своей любви к деньгам. Она бы дала Антону две тыщи, она нас всех выручала. Ты ведь не будешь это отрицать?
— Но если не Антон — кто ж тогда?
— Больше некому… кажется. Но — мотив! Неужели только за крест?
— Убивали и по более мелким причинам, как это ни странно. Она его застала врасплох, на воровстве.
— Это первое, что приходит в голову. Но вот тебе и загадки. Всеми отмечено, что преступление совершено с патологической жестокостью. Мы ли с тобой не знали Антошу, а?
— Да! — воскликнул Роман. — Я думал, все время думал, все перебрал… Наверное, никто никого не знает до конца, даже себя. Испугался, озверел.
— Чего испугался? Ада не стала бы связываться с милицией. Отобрала бы крест и послала куда подальше.
— Егор, что произошло? Ты год молчал, уединился, ни с кем не общался, а сегодня…
— Сегодня все изменилось.
— Неужели Евгений Гросс так расстроил?
— Знаешь, Ром, я ведь считал себя противником смертной казни… теоретически, покуда меня самого не коснулось. Ну, тут взыграли языческие струны: око за око, зуб за зуб. Подлое удовлетворение. И сомнение.
— Сомнение?
— Представь себе склеп…
— Не надо.
— Нет, подходящий образ: гладкие серые стены, низкий потолок, нет пространства, внизу погребенные, все ясно и безнадежно. И вдруг!..
— Да что случилось?
— Даже боюсь тебе признаться, настолько все это абсурдно и противоестественно.
— Что такое?
— Был сегодня на кладбище. На Сониной могиле лежит мой прошлогодний букет, перевязанный ее лентой.
— Ты перевязал букет лентой?
— Не я — в том-то и дело! По некоторым признакам могу поручиться, что лента именно ее. И принесена она на могилу только что — свежая и чистая.
— Егор, ты серьезно? — прошептал Роман, потрясенный.
— Очень серьезно.
— Но… кто? Может, старик с ума сходит? Герман Петрович?
— Кто его знает… вообще-то на редкость здравый тип. Но тут и другая странность. Мы все видели Соню в окне с этой лентой, а в прихожей ленты на ней, кажется, не было. Ты не помнишь?
— Что ты! Я был…
— Все были в шоке.
— Ну, лента упала на пол.
— Следователь подобрал бы, ведь они прибыли до Неручева. А когда мертвых увезли, Серафима Ивановна полы вымыла. Я ее спрашивал: не находила.
— Кошмар! — Рома передернулся. — Убийца срывает ленту с убитой, уносит, через год подкладывает на могилу… так, что ли?
— Откуда я знаю! Я сообщил тебе факт. Кстати, только тебе, никому не рассказывай.
— За что такая честь?
— Ты вне подозрений. Ты был со мной.
— Что-о? Ты Морга, что ль, подозреваешь? Или Германа?
— Никого… правда, никого, но… Морг нам дверь долго не открывал, помнишь?.. А психиатр в это время совершал моцион по бульвару.
— У него есть свидетель.
— Знаю. Да, конечно, все это невероятно!
— Невероятно. Какой убийца принесет на могилу ленту? Зачем?
— Может, не убийца, а свидетель?
— Натуральный призрак, сверхъестественная сила, о которой Гросс пишет?.. Там никого не было, кроме нас.
— Не было. Но ведь кто-то принес!
— Сумасшедший.
— Не спорю. Но кто он? Кто украл ленту, с какой целью… кто убил?.. а вдруг судебная ошибка?
— Поздно, Егор. Смерть — процесс, необратимый.
— Истина не бывает ранней или поздней. Она абсолютна.
Он вышел от Романа и позвонил в соседнюю дверь с медной табличкой: «Неручев Г. П.». Нежная мелодия, серебряный перезвон колокольцев, сейчас дверь распахнется, и Соня скажет: «Это ты? Пойдем!» И они пойдут куда глаза глядят. Послышался шорох, потом щелканье японского замка новейшей системы. В разноцветных световых пятнах венецианского фонаря возник Герман Петрович. В домашнем костюме из черного бархата и вельветовых сапожках кофейного цвета в тон рубашке (в этих одеждах доктор обычно выносил мусорное ведро, ухитряясь не казаться смешным). Шестьдесят два года, но, как всегда, бодр, свеж, подтянут («Уж не померещилось мне, как на кладбище он закрыл лицо руками?»). Не опустился после ужасной смерти близких, держит себя «в струне».
— Прошу, — хозяин сделал учтивый жест, и Егор впервые после похорон вступил на место преступления.
Квартиру, бывшую коммуналку, уже много лет занимал целиком знаменитый психиатр. В обширную прихожую выходило, не считая кухонной, три двери: кабинет Германа Петровича, комнаты жены и дочери. В противоположном от входа конце — дверь в кухню, откуда по черной лестнице можно спуститься прямо во двор (парадная же ведет в Мыльный переулок). Трехэтажный особняк был построен в середине прошлого века и на протяжении нынешнего величественно ветшал — опустившийся аристократ в окружении домов тоже старых, но попроще. Предназначался он когда-то для одной семьи, и после классового уплотнения и возведения перегородок богатые лепные украшения высоких потолков не складывались в цельные картины, часть орнамента непременно оказывалась в другой комнате, а то и у соседей; навек разлученными существовали белокрылые младенцы-купидоны, Венера с Марсом, безобразный сатир со своею нимфой и тому подобное.
Егор окинул взглядом пушистый красный ковер, обои с шахматным рисунком: светло- и темно-красные квадраты под цвет ковра (во всем чувствовался вкус Ады, слегка экстравагантный, слегка капризный), трехстворчатое зеркало, телефон на подзеркальнике…
— Прошу! — повторил хозяин, указав на раскрытую дверь кабинета.
— Одну минутку!.. Я посижу тут в прихожей немного, ладно, Герман Петрович?
— Посижу?
— Ну да, на полу.
— Что за причуды!
— Хочу все вспомнить в деталях.
— Вам сколько лет, молодой человек?
— Тридцать один.
— Учтите, подобные эксперименты опасны для психики, — и Неручев удалился в кабинет.
Егор сел на ковер, охватив колени руками. Вот здесь в углу лежала Соня… точнее, полулежала, прислонясь к стене. Надо думать, от ударов топором она медленно сползала на пол, стена была в крови (Герман Петрович заменил кусок обоев), на полу лужа крови, в ней тетрадка и ключ. Ковра не было, накануне кончился ремонт. На ногах у нее были итальянские кроссовки, это я помню… и еще: сквозь острый душок крови — сильный запах лаванды, ее французских духов. Он не глядел тогда на убитую, а сидел бесцельно и бессильно, погрузившись в абсолютный ужас. Нет, не абсолютный… что-то мешало отдаться отчаянию целиком, что-то в ее облике настораживало, раздражало (о, проклятый, бесконечный, еженощный сон!)… кровь, ошметья мяса и мозга… нет, помимо что-то цепляло сознание, не давало полностью сосредоточиться. Может быть, тогда подспудно я отметил отсутствие алой ленты? Господи, до того ли было!
— Так и будем сидеть? — угрюмо вопросил хозяин, бесшумно возникнув в дверях кабинета.
Егор вошел в просторную комнату. Стены от пола до потолка уставлены книгами, аскетическая кожаная кушетка, немецкий письменный стол у окна, в углу низкий столик (на нем бутылка коньяка, две рюмки, ломтики лимона на тарелке, дымящаяся сигара в пепельнице), массивные кожаные черные кресла.
— Присаживайтесь. Что ж, за упокой души… вернее, двух душ.
Выпили, слегка расслабились, Герман Петрович взял сигару двумя пальцами, Егор закурил сигарету. В прозрачных, зеленовато-золотистых (от тополей в Мыльном переулке) сумерках тускло отсвечивали корешки книг, благородная французская жидкость в пузатой бутылке, хрустальные рюмочки; струйки дыма смешивались над столиком, поднимались к потолку, к лепному, тяжеловесному, словно погребальному венку, и медленно уплывали в приоткрытую балконную дверь. В комнату заглянул, потом зашел, брезгливо перебирая лапками, огромный черный кот — дюк Фердинанд, — мягко вспрыгнул на колени к хозяину и застыл в угрожающей позе, не сводя с Егора изумрудного взгляда.
— Не делайте резких движений — может броситься, — нарушил психиатр сумеречную тишину. — Итак, почему на кладбище вы спрашивали про Сонечкину ленту?
— Вдруг вспомнил, что на убитой ее не было.
— Не было, — подтвердил Герман Петрович. — Мне бы отдали после вскрытия вместе с остальной одеждой. Я сейчас осмотрел ее вещи: ленты нет. Удивительно. Если ленту — непонятно зачем — украл преступник, то при обыске у Ворожейкиных ее бы нашли. Руки официанта были в крови, соответственно запачкалась бы и лента. Страшная улика… — Он помолчал. — Еще одна загадка.
— Еще одна?
— Официальная версия стройна и убедительна, признаю. Так, микроскопические мелочи. Например, Ада ушла в прачечную, не заперев кухонную дверь. Подобная забывчивость совершенно не характерна для моей жены, одержимой порядком. Совершенно не характерна.
— А если Антон соврал, если она уже вернулась и сама ему открыла?
— Ему открыла бы. Незнакомому — никогда.
— Но к ней, должно быть, ходили гадать?
— Только свои, ее так называемое гаданье — блажь, чудачество, как теперь говорят, хобби. Безобразное словцо для русского уха.
— Как Аде пришло в голову этим заняться?
— При всем ее блеске в ней была некоторая ущербность, нервность, перепады настроения, в общем, она жаждала тайны. Так вот, она открыла бы соседу, да, но и дала бы ему денег — несомненно. Или ваш друг был одержим страстью к драгоценностям?
— Никогда не замечал.
— Да, кстати, вторая загадка. В шкафчике в шкатулке обитали и другие украшения, не менее ценные. Однако похищен только черный крест. — Герман Петрович встал, вышел из комнаты, почти сразу вернулся, держа в правой руке (в левой дымилась сигара) вышитый разноцветным шелком мешочек. — Вот он.
На полированной столешнице засверкало серебро, замерцали черные жемчуга.
— Я подарил его Аде пятнадцать лет назад…
— Позвольте, — перебил Егор, — она же получила его в наследство, это фамильная дворянская драгоценность.
— Это легенда. Так же как и фамильный склеп — слышали про склеп? Ее родня похоронена за той оградкой, где мы сегодня встретились. Каждый забавляется чем может: Ада обладала своеобразным «черным юмором». Таинственная гадалка — в глазах окружающих. Помните, на помолвке она сказала: «Пропадет крест — быть беде»? Дворянский талисман, приобретенный мною в антикварном на Арбате.
— Ее фразу я помню.
— Все это манерно, конечно, отдает мелодрамой… ну, как если в индийском фильме, к примеру, мелькнет сиротка — будьте уверены, она окажется дочерью раджи, на худой конец, миллионера. В отечественном варианте — князя. Бульварный роман — так выразился следователь, когда я доложил ему про талисман. И я с ним полностью согласен. Однако — так ведь оно и случилось.
— Вы действительно верите, что Ада обладала каким-то мистическим даром?
— Да ну! Человеческую природу она знала превосходно — вот ее дар.
— То есть в отношении жены у вас не было никаких иллюзий?
— Ну как же. И были, и есть. Все эти «чары» — женское очарование, сильное и опасное, особенно для мужчин. Но всерьез поверить в талисманы, склепы и индийские гробницы способен только неврастеник, с психикой обостренной, надломленной.
— Вы хотите сказать, — Егор пытался уловить самую суть, — что драгоценность украл человек, поверивший в ее фразу: «Пропадет крест — быть беде»? То есть желающий Аде зла?
— Мы знаем, кто его украл. Подходит ваш официант-картежник под такую категорию: восторженный, мстительный, экзальтированный, верящий в чудеса и проклятия?
— Нет, не подходит. Антон был прост, уравновешен, вполне земной. А покер — так, от скуки жизни.
— Так я и думал. Крест украден просто как вещица, первой попавшаяся под руку.
— А вы как будто нарисовали портрет женщины.
— Да, похоже.
— Но ведь женщине, наверное, не под силу нанести такие удары?
— Не сказал бы. Во-первых, смотря какая женщина, я имею в виду — физически. Во-вторых, при сильнейшем нервном возбуждении все жизненные силы собираются в единую силу.
— Герман Петрович, вы первый отметили, что преступление совершено с исключительной жестокостью.
— Да, да, да. Что это значит? Или убийца внезапно охвачен бешенством — безумием, или ненавидит свою жертву такой ненавистью, которая переходит также в своего рода безумие. Помните мысль Достоевского, что преступление — это болезнь? Впрочем, патология характеризует именно убийство Сонечки, он наносил удары уже по мертвой. Ада убита, если можно так выразиться, обычно, с одного удара, хотя ограблена именно она, а Соня — всего лишь свидетель. Послушайте, — психиатр проницательно посмотрел на Егора — серые, ледяные, лишенные чувства глаза, — почему именно сегодня вы заинтересовались алой лентой?
— Вдруг вспомнил Соню в окне, ее странный крик. Слишком много загадок, хотелось бы разобраться.
— Зачем?
— Не могу объяснить. Подсознательное стремление.
— Понятно: таким образом у вас постепенно пробуждается воля к жизни. Но я не советую. Решительно не советую, Георгий, вступать в этот круг. Переключитесь на что-то… жизнерадостное. Женитесь, например, и успокойтесь.
— Не могу.
— Что ж, вольному воля, а спасенному рай. Как правило, человек выбирает волю, не веря в рай.
— Герман Петрович, — начал Егор, поколебавшись, — за три дня до случившегося вы бросили жену, съехали с квартиры…
— Бросил — слишком сильно сказано, — перебил психиатр. — Таких женщин, как Ада, не бросают. Мы просто поссорились.
— Простите, я спрашиваю не из любопытства, я должен разобраться… Из-за чего?
— Не знаю. Не из-за чего. Я вернулся с работы, она разговаривала по телефону. «Я на все готова! — кричала она. — На все!»
— На все готова?
— Не удивляйтесь. Зная ее страстность… например, я на все готова ради «Шанель № 5» — вполне в ее духе. Увидела меня, бросила трубку, я поинтересовался чисто машинально, из простой любезности, ради кого она на все… Вдруг начался скандал. Она набросилась на меня и оскорбила… как только женщина может оскорбить мужчину, то есть смертельно. Я собрал кое-какую одежду и ушел. К старому приятелю, он как раз уезжал за границу, жилплощадь освобождалась.
— Это ведь неподалеку от Мыльного?
— Неподалеку.
— И не вернулись бы?
— Вернулся бы. Если б позвала. Вы не поверите: мы прожили с Адой девятнадцать лет, ни разу не поссорившись. Она женщина вспыльчивая, но всегда умела держать себя в руках. — Герман Петрович наполнил рюмки. — Ну, как говорится, мир праху, земля пухом, царствие небесное.
Егор готовился к следующему вопросу, он сегодня уже нарушил свой запрет — и все же тошно, невыносимо, мучительно в этом копаться.
— Герман Петрович, экспертиза установила, что Соня была женщиной. Вы знали об этом?
— А вы знали? — угрюмо откликнулся отец. — Этот вопрос я должен был бы задать вам.
— Я тут ни при чем.
— Следователю вы заявили обратное.
— Заявил. Но обстоятельства переменились: мне нужна правда.
— Вы уверены в том, что утверждаете?
— Господи, да чего бы мне скрывать это теперь!
— Вы меня поразили, — признался Герман Петрович с отвращением. — Чтобы впредь не возвращаться к этой теме, скажу, что Соня была чистой девочкой, как это ни старомодно нынче звучит, доверчивой и простодушной. Больше я ничего не знаю.
— Ада была против нашей женитьбы.
— Естественно. Я тоже. А вы бы мечтали о таком муже для своей дочери?
— Вы правы. Вас не устраивало мое социальное лицо.
— Ваша поза. Вы ведь не просто работаете сторожем, — психиатр усмехнулся, — нет, вы бросаете вызов нам, обывателям и конформистам, развращенному обществу, брезгливо отворачиваясь от его тяжких проблем. Старо, мой друг, старо. Ребячество, инфантильность в тридцать лет — какой вы муж?
— Да никакой. Вы напрасно подозреваете такие аристократические мотивы — вызов, поза, — так, скучно и неинтересно.
— Пролежите всю жизнь на диване?
— Может быть.
— Нет, серьезно, что вы вообще-то делаете?
— А ничего. Думаю. Спасибо, Герман Петрович, за вечер и за разговор. Что ж, вы так вот и живете — совсем один?
— Да. Серафима Ивановна приходит убираться. Ничего не поделаешь, — он улыбнулся угрюмо, — за все приходится платить. Ну да это теории. На самом деле, как и вам, — все скучно и неинтересно.
Егор поднялся, заждавшийся Фердинанд очнулся от дремы, пушистым комком обрушился вниз, вцепился в джинсы гостя и сладострастно зашипел.
— Милейший зверь, — заметил Егор, отдирая разъяренного кота от вожделенной добычи — своей собственной ноги, — вышел за дверь, начал спускаться вниз, остановился… всегдашний укол в сердце на лестнице перед площадкой, где она стояла, облокотясь о перила, и сверху, из слухового оконца, на ее рыжую голову падал одинокий луч с порхающими золотыми пылинками.
Это случилось год назад, двадцать второго мая, во вторник. Он сидел у Романа, только что вернувшегося из командировки в литературную провинцию. Ромка, Антоша и Егор — друзья старинные, чуть не с рождения, из одного двора, дома, класса. После школы каждый пошел своим путем, но близость осталась. Например, ребят не шокировало, что, окончив истфак, Егор валяется на казенном диване в качестве сторожа, — значит, так надо, чего приставать к человеку? Антоша из бедных, Рома из богатых (с точки зрения обывателей Мыльного переулка), Егор — ни то ни се, интеллигенция: отца нет (ранний развод), зато мама — профессор-искусствовед. В качестве покорного сына своей матери он пытался пройти унылый благовоспитанный круг детства и юности: музыкалка, худкружок («Жора, заниматься!» — «Сейчас доиграем!»), медаль, институт, аспирантура, в ближайшей перспективе — диссертация (церковный раскол). Смерть матери потрясла тоской и бессмыслицей, благопристойная жизнь окончилась, он сказал: «Хватит» — и зажил как хотел. Ромка делал журналистскую карьеру, Антоша зарабатывал чаевые для семьи и поигрывал в покер, Егор лежал на диване, почти притерпевшись к тоске, как вдруг из обломовского состояния его вырвала — всего на несколько дней — любовь.
Итак, они сидели у Сориных (обширная квартира находилась в полном распоряжении Ромы, чьи «старики» трудились за границей), болтали, конечно, о проблемах глобальных, о судьбах нации: братья-славянофилы, рассуждал Рома, всегда следящий за новейшими веяниями… памятники преступно разрушаются… вот напишу разгромную статью… Егор слушал вполуха, не выспался на дежурстве… Потом он пошел к себе. «Пойти к себе» — значит спуститься с третьего этажа на второй. Дубовая парадная лестница с отполированными за столетие поручнями и резными столбиками перил, истертыми пологими ступенями, нишами (вместительными углублениями для канувших в вечность статуй и фонарей) на каждой площадке была также и лестницей социальной, иерархической. На третьем этаже, «наверху», обитали граждане счастливцы, не считавшие каждую копейку: Сорины и Неручевы. На втором — пожиже, помельче: сторож с дипломом Георгий Елизаров и Моргунковы (муж, жена, ребенок — клоун, акробатка, мальчонка уже помогал папе) — Морги, вносившие в особнячок элементы карнавала. На первом — в одной квартире ютились Демины (токарь, уборщица, Аленушка, процветающая в парфюмерном отделе универмага) и Серафима Ивановна Свечина, бывшая машинистка, и сейчас иногда подрабатывающая на монументальном «Ундервуде». И наконец — семейство Ворожейкиных: родители-пенсионеры, Антон с Катериной, двое ребятишек. Из традиционной экономии, ведущей начало из «военного коммунизма», эта прекрасная старая лестница — парадный подъезд (как, впрочем, и черный кухонный) — была почти всегда темна; густую, застоявшуюся ночь чуть рассеивал зыбкий свет из восьмигранного маленького слухового оконца (единственного, еще два были заколочены фанерой).
На площадке между вторым и третьим этажами стояла Соня Неручева, привычно не замечаемый соседский ребенок. Егор вдруг остановился. Игра света, лучей, тьмы и теней, грозное сиянье черных глаз, милый отблеск волос, бирюзовая майка без рукавов, голые тонкие руки, поддерживающие лицо, — ослепительная картинка, бессмертные детали, вырванные из мрака. Это — Соня? Неужели? Юная, белая, рыжая, она задумчиво глядела на него снизу вверх. Егор спросил:
— Что ты тут стоишь?
— Дома скандал, — отвечала она небрежно. — Сумасшедшие все какие-то. Жду, когда кончат.
— Всегда считал брак добровольным несчастьем, — пробормотал он, и внезапно стало стыдно за эту жалкую пошлость неудачников. — Впрочем, ничего я не знаю.
— Совсем ничего? — спросила она серьезно, без улыбки.
— Совсем. — Он спустился по ступенькам, остановился рядом, уже отлично зная, что стоять вот так, ощущать едва уловимый чистый запах духов, глядеть на нее и слушать — счастье. — Соня, ты не хочешь стать моей женой?
Спросил словно против воли и сам удивился безмерно.
— Ты правду говоришь?
— Правду, — подтвердил он и действительно почувствовал, что говорит истинную правду; удивительно, но слова будто опережали чувство.
— Стало быть, ты меня любишь?
— Люблю, — опять с восторгом подтвердил он.
— И давно?
— Что давно?
— Давно любишь?
— Только что, сию минуту. Вот вышел на лестницу, увидел — и вдруг…
— Только что? — прошептала она в каком-то отчаянии. — Что же это за любовь?
— Не знаю. Я люблю тебя.
— И я. Только я по-настоящему, давно, с детства.
— Сонечка! Не придумывай.
— Я никогда не придумываю! — воскликнула она вспыльчиво. — Вот тебе доказательство: я пошла на твой истфак.
— Ну ладно, ладно, пусть так, допустим на минутку…
— Почему на минутку? Я принимаю твое предложение.
— Какое предложение?
— Уже забыл?
— Все на свете позабыл…
В черной нише на площадке метнулась тень, они вздрогнули, раздался сладострастный шип.
— Ах, это наш дючка-злючка, дюк Фердинанд.
Она взяла кота на руки, засмеялась, прижала мохнатую мордочку к лицу, потерлась щекой о лоснящуюся шерстку; а он любил ее все больше — хотя куда уж, кажется, — весь этот год с каждым невыносимым днем, с каждой бессонной ночью он любил ее все больше, как это ни безнадежно, как это ни безумно: любовь после смерти.
Он тоже погладил кота у нее на руках, еще не смея прикоснуться к ней, Фердинанд мгновенно зарычал, наверху хлопнула дверь, Герман Петрович быстро спускался по лестнице с большой дорожной сумкой, вот миновал их, гневно бросив на ходу:
— Иди домой!
— А ты куда? — спросила Соня рассеянно.
— Куда надо. Я тебе позвоню.
Два дня, среду и четверг, они почти не расставались (у нее наступила сессия, он сторожил через ночь), неутомимо ходили по Москве куда глаза глядят (глаза глядят в глаза) и говорили. В пятницу он дождался ее утром на лестнице (ни одна душа ни о чем не догадывалась, разве что дюк Фердинанд), они сходили в загс, заполнили анкеты и пошли бродить по звонким улицам, где бензиновый чад, весна, суета и сирень. Под вечер вернулись в Мыльный переулок. Предстояло объяснение.
Дверь открыла Ада, проговорив рассеянно:
— Ну где ты ходишь, Соня?.. Привет, Егор. Всё, ремонт окончен.
Переступая через какие-то тряпки и ящики, они прошли на кухню. Ада — впереди. Внезапно она обернулась, окинула взглядом их лица и спросила:
— Что случилось?
— Мама, я выхожу замуж за Егора.
— Глупости! — отмахнулась Ада. — Егор, ты-то, надеюсь, с ума не сошел?
— Сошел, Ада, прости ради бога.
— А, делайте что хотите, не до вас!.. Нет, это невозможно. Отец знает?
— Я звонила, пригласила отпраздновать. Он так рад.
— Не ври. Что он сказал?
— Рассвирепел. Но придет.
— Куда?
— Сюда. Ведь мы устраиваем помолвку?.. Представляешь, какое счастье: Егор наконец обратил на меня внимание.
— Я тебе этого, Егорушка, никогда не прощу.
— Чем он так плох?
— А чем он хорош?
— Всем! Всем, понимаешь? Егор, я не могу без тебя жить и не буду.
— Я тоже. Ну, убей меня, Ада, ничего не могу поделать. Ну нет во мне ничего хорошего, сам знаю, — он вдруг испугался. — Сонечка, а ведь это правда. Ты еще как ребенок…
— Ты от меня отказываешься? — перебила она и заплакала.
— Господи, никогда!
— Ну и все. Кончили. Все. Я так испугалась. — Она бросилась к матери, обняла: — Ты молчи! А то Егор передумает.
— Нет, я умру! — Ада засмеялась, гнев и растроганность боролись в ней, поцеловала дочь. — Он передумает! Дожидайся. Когда вы решили… сочетаться?
— Через два месяца — так положено.
— Два месяца… — протянула Ада задумчиво и стукнула кулаком по столу; звякнули, подпрыгнув, гвозди. — Безнадежно! Егор, смотри! Она ведь серьезно, покуда ты на диване лежал и крутился со своими… ведь сколько женщин у тебя было!
— Да какие женщины!
— Всякие.
— Да я не помню ничего, никого…
— Главное, как не вовремя. — Ада потерла ладонью лоб. — На редкость не вовремя… Ладно, что надо? Шампанское у нас есть, так?
— Я сбегаю. За вином и за цветами.
— Деньги есть, жених?
— Есть!
Кто попался под руку, про кого вспомнил, тех он пригласил по дороге — Морга, Антошу, Алену, Романа. Серафимы Ивановны поблизости не оказалось (теперь, вспоминая в подробностях, чувственных и ярких, тот последний вечер, он так жалел об этом: старуха на редкость проницательна и памятлива). У Неручевых клубился послеремонтный хаос, собрались в комнате Ады за овальным столом драгоценного красного дерева. На блестящей поверхности проступают древесные срезы, карты ложатся в мистической последовательности — неизменный эффект, начинаешь верить в судьбу. Сейчас на столе светились ландыши и гиацинты; влажные гроздья персидской сирени и легкий сквознячок в открытую балконную дверь напоминали, что жизнь прекрасна, небесный младенец умилялся с потолка, высокие бокалы ожидали шампанское. Ада в чем-то прозрачно-лимонном («Женщина моей мечты!» — высказался Морг) собирала на стол, профессионал Антоша и Алена помогали. Незаметно появился Герман Петрович (значит, открыл замок с японским кодом своим ключом), наконец сели, Ада воскликнула:
— Мой крест!
Вскочила, подошла к резному шкафчику в углу, поколдовала над замочком, выдвинула верхний ящик (крошечный ключ обычно хранился в тумбочке, как выяснилось впоследствии; преступник же воспользовался гвоздодером — фомкой из инструментов, сложенных на кухне в связи с окончанием ремонта; там же дожидался своего часа топор).
— Ненавижу беспорядок, — сообщила хозяйка, — не выношу. Ты завтра с утра заниматься?
Соня кивнула.
— Ну а на мне уборка, прачечная… — Черный крест замерцал на белоснежной коже, она пояснила с едва заметной усмешкой. — Фамильная драгоценность. Черный крест — чувствуете символику? Черный. Пропадет крест — быть беде.
— Оставим псевдонародный фольклор, — процедил Герман Петрович, он сидел прямой и сдержанный — «чопорный», безукоризненно одетый, на жену не глядел. — Кто мне объяснит, что тут происходит?
— Ну папа! — закричала Соня. — Я же тебе все сказала. Мы с Егором…
— Внимание! — объявил Антоша, виртуозно открывающий шампанское. — Залп!
Раздался тихий выстрел, бокалы наполнились, клоун — лысый, маленький, но с мошной мускулатурой, с хищным обаянием, душа компании, — провозгласил:
— За любовь! Жизнь есть любовь!
Нежно зазвенел хрусталь. Ада заметила с иронией:
— Это у них в цирке так условились. А в сумасшедшем доме, а, Гера? Что там думают про любовь?
— А ты что думаешь?
— Мы живем на кладбище. Хороним и сами ждем. Кажется, чем скорее, тем…
— Нет, нет! — перебила Соня испуганно. — Ты же так не думаешь, ты очень добрая и любишь людей.
— Каких людей? — поинтересовался Герман Петрович в пространство.
— Людей. Она отдала столько вещей бедным, мои платья и…
— Ты теперь бесприданница, что ль? — вставила Алена.
— Да нет, мне купили взамен, не в этом дело! Вы никто ее не знаете по-настоящему.
— Сонечка, что за чушь! — Ада засмеялась. — Не разрушай образ колдуньи, а то и вправду подумают, что я добрая.
— Терпеть не могу кладбищ, — заявила Алена и закурила. — Тоска.
— Нет, я люблю. — Ада тоже закурила. — В юности одно время я постоянно ходила на кладбище…
— В свой склеп, — пояснил Герман Петрович и отпил из бокала. — В свое дворянское гнездо.
— Не иронизируй. — Ада задумалась, пробормотав рассеянно. — Дворянское гнездо — это бывшая усадьба. — Вдруг оживилась; она то оживлялась, то сникала. — Господи, если б можно было все вернуть.
— Усадьбу вернуть?
— Молодость.
— Ада Алексеевна, расскажите про склеп, — попросила Алена.
— Этим скептикам рассказывать… Ну ладно. Представь, весна, деревья распускаются — и так тихо, так хорошо. От дворянского гнезда надо пройти по старой улице, свернуть налево — видны липы за оградой, — войти в узкую калитку, справа церковь, слева звонница, маленькие колокола к обедне звонят. А прямо возле церкви похоронен герой Отечественной войны… ну, этот…
— Василий Теркин? — подсказал психиатр.
— Нет, дорогой мой, — отвечала Ада с ледяным терпением. — Знакомый Пушкина, к нему Пушкин заезжал… в общем, неважно. Дальше липовые аллеи, темные, влажные. Однажды иду, вижу — склеп…
Муж вздохнул и выпил из бокала.
— …навес, весь заржавевший, из кованого железа с узорами, — продолжала Ада, не обратив внимания на вздох; говорила она с глубокой грустью, а лицо действительно помолодело. — Вошла. Под ногами на плите наша фамилия: Захаріины. Представляете? Я даже не знаю, почему это меня так поразило. Мой прадед женился на цыганке, оттого у нас у всех глаза и брови черные, а волосы рыжие, гадать умеем. — Она помолчала и заключила неожиданно: — Именно там мне хотелось бы лежать. А что, сигареты кончились?
— Я сбегаю, Ада Алексеевна, у меня дома есть, — вызвалась Алена и выскользнула из комнаты.
— Замок на предохранителе, — пояснила Ада вслед, а Морг проворчал:
— Косточкам все равно, где лежать.
— Твоим все равно, а моим…
В прихожей зазвонил телефон, она осеклась, Герман Петрович вышел, проговорил что-то невнятное, вернулся, сел на свое место.
— Кто звонил? — спросила Ада.
— Похоже, кто-то из моих пациенток… или из твоих клиенток. Нечто бредовое.
— Вообще в этом что-то есть, — заметил Рома. — В наше героическое время мечтать о склепе — оригинально.
— Я лично предпочитаю кремацию, — сообщил Морг. — Во-первых, никаких отходов, никакого гнилья…
— Нет, лучше в гробу, — перебила Ада, тут вошла Алена с сигаретами, Егор не выдержал:
— Товарищ Морг, господа! Все это увлекательно, конечно, но давайте о чем-нибудь попроще. Антоша, милый друг, открывай вторую.
— Наши ряды редеют, — констатировал Рома весело. — Мне, что ль, жениться? — Красавец Ромка и официально, и неофициально женат бывал.
— Есть кандидатура? — поинтересовалась Алена.
— А как же! Егор меня восхищает, настоящий мужчина, Георгий победоносный: пришел, увидел, победил. Ада, Герман Петрович, поздравляю с зятем!
— Да, нам чертовски повезло, — кратко подтвердил Неручев.
Соня улыбнулась жениху так нежно, смягчая сарказм отца, так пылко, что он тотчас забыл обо всем и на какое-то время из общего круга выпал. Хороша она была невыразимо в будущем своем смертном наряде, в американском платье чистейшего небесного цвета с кармашками, погончиками, нашивками; тяжелые длинные волосы распущены и повязаны низко у лба алой атласной лентой; тонкие пальцы с продолговатыми розовыми ногтями теребят ветку сирени; черные глаза сияют ярче материнского жемчуга. «Господи, за что?» — в который раз со счастливым страхом подумал Егор, к нему потянулись чокаться, он очнулся.
— …счастья и радости!
— А я и не сомневаюсь, — заговорил Морг. — Это Герман Петрович почему-то хмур и сер… О доктор, что это у вас торчит из кармашка?.. Вон, из пиджачного! Никак черный крест? Глядите, ха-ха!
— Ты эти штучки брось, — хмуро заметила Ада, застегивая на шее цепочку. — Фокусник несчастный.
— Это он сейчас к балкону подходил. Ада Алексеевна, а вы нагнулись.
— Продолжаю, — клоун поднял бокал, — и уверен, что молодые наши будут редкостно счастливы…
— Не надо, — перебил Егор, а Алена воскликнула:
— Ой, это легко узнать! Ада Алексеевна, разложите карты.
— Ну, ну, это не шутки, это дело серьезное, требует определенной атмосферы.
— Ада, цыганочка! — взмолился Антоша. — Загадай на меня карту, ну хоть одну, пожалуйста!
— Официант проворовался! — провозгласил Рома. — Курицу украл.
— Антош, намеков не понимаешь? — Клоун ядовито засмеялся. — Нужна определенная атмосфера — деньги на стол!
— Мама и без денег… ну, мам!
Ада обвела жестким взглядом разгоряченные лица.
— Вы же не верите.
— Неверующий человек, как правило, суеверен, — сказал Герман Петрович.
— Я верю, — заявила Алена. — Ведь сбывается?
— А, редко, совпадение, — проронил Морг.
— Нет, внушение, — возразил Роман. — Человек якобы узнает про свое будущее и поступает в соответствии с тем, что узнал.
— Тонко подмечено, — одобрил психиатр, — и очень верно.
— Ада Алексеевна, покажите им класс. Все сбудется!
— Да вынь каждому по карте, чтоб отвязались, — предложил Морг.
— Ладно, вы этого хотели. — Ада достала из тумбочки колоду карт — пестрые роковые фигурки, разноцветные пятна на черном фоне — перетасовала. — Антон. Крестовый туз.
— Крестовый туз, — повторил Антоша с тревожным недоумением в голубых глазах; голубоглазый, светло-русый добрый молодец. — Казенный дом.
— Тюрьма, что ли? — заинтересовался клоун.
— Любой казенный дом, — пояснила гадалка. — Например, Антош, у тебя хлопоты в твоем ресторане. Кто следующий?
— Я! — вызвалась Алена нетерпеливо.
— Предстоит нечаянный интерес.
— Как интересно!
— Гера…
Герман Петрович вздрогнул.
— У тебя пиковый валет — пустота.
— В каком плане?
— Во всех. Пусто. Роман… дама пик.
— Ведьма! — закричал Рома в упоении. — Ну, спасибо, Ада, женюсь!
— На этой не советую — злоба. Ну, Морг, не веришь — держись… Странно, семерка — к слезам. Не подозревала, что ты такой чувствительный.
— Говорю же, вранье. По роду профессии я — рыжий, лысый, добрый и веселый человек.
— Да ну? Однако гнусная карта идет — сплошь пики. Молодым не буду.
— Ну, мам! — воскликнула Соня в азарте.
— Сонечка, не надо, — быстро сказал Егор.
— Давай рискнем, а? — Она беспечно улыбнулась, готовая к счастью.
— Хорошо, рискнем.
— Напрасно потакаешь, — заметила Ада недовольно. — Вот видишь, я на нее загадала: девятка пик — больная постель. Будем надеяться: простуда… Ну, Егор, ты единственный из всех счастливец — червонная любовь. — Ада вытянула из колоды еще одну карту, взглянула, пробормотав: «Я сегодня в ударе», — и резким движением прекрасных белых рук сгребла разбросанные по столешнице картонки. — Все правильно.
— Мама, что у тебя?
— Что положено.
— А что?
— Счастье, — пояснил клоун. — Дочь пристроена удачно, ремонт окончен. Где только люди таких мастеров находят! Потолок, взгляните, идеальной райской белизны.
Все поглядели наверх.
— Правда, у вас лепнины немного. У меня, к примеру, нимфа смеется и маленькие такие дьяволята за нею, за нею…
Ада вдруг рассмеялась:
— Антон, налей шампанского. Все ужасно, мне все не нравится.
— Да что ты, в самом деле! — воскликнула Соня.
— Не нравится! — Ада залпом осушила бокал. — Не хочу пить за счастье, потому что его нет и не будет.
— Будет!
Соня тоже вспыхнула гневным румянцем; какие у обеих черные очи — глубокие, цыганские… «Она не ребенок!» — подумал Егор с восторгом и страхом; все молчали.
— Не смей так говорить!
— Счастье бывает только на минутку, ты не понимаешь, за все надо платить.
— Заплачу! Пусть минутка — но моя.
— Как вы мне все надоели. Не позволю.
— Ада, что с тобой? — холодно заговорил Герман Петрович. — Что ты не позволишь?
— Ничего не позволю, пока я жива.
Муж пожал плечами, все переглянулись, и тут, к своему собственному изумлению, Егор пошутил (идиотская шуточка эта потом вспоминалась и мучила):
— Что ж, Ада, тогда мне придется тебя убить.
А что касается гаданья, прав оказался Морг. Ничего толком не сбылось, так, незначительные мелочи, вполне согласующиеся с теорией вероятности: у Аленушки нечаянных интересов было более чем достаточно; психиатр заглушал семейную пустоту обширной практикой; однако ведьма не потревожила жизнь журналиста, и никто как будто не видел даже скаредной мужской слезы у клоуна; Антошу и Соню ожидала смерть, а любовь… любовь не ушла — но разве золотоносной, медовой, червонной оказалась она? Свою же карту цыганка никому не показала.
Ночью после помолвки (попросив накануне напарника подежурить за него до двенадцати) Егор сторожил маленький дворец в центре Москвы, в котором вальяжно располагался научно-исследовательский институт уголовного профиля (дворец правосудия, как называл его сам сторож). Ночь полубессонная, в полудреме мелькали красно-черные карточные пятна, стояло ее лицо, беспорядочные голоса звенели, мешались в ушах… Он вернулся домой утром, не лежалось, не сиделось, так не хватало Сони. «Что же это? — спрашивал он себя. — Наверное, я любил ее всегда, но не осознавал». Он знал, что она отправилась к сокурснице заниматься — в понедельник экзамен; Ада приводила в порядок квартиру после ремонта; несчастный муж продолжал пребывать в бегах, может быть, он и рассчитывал, что Ада предложит остаться, но она не предложила.
Егор послонялся по комнатам, сел на диван — и вдруг провалился в сон, как в яму. Так же внезапно проснулся — без двадцати одиннадцать, — бесцельно спустился во двор, он ждал. На лавке под сиренью вязала Серафима Ивановна. Вскоре появился Морг в оранжевой майке и широченных клоунских шароварах в голубую клетку, за ним — Алена в сарафане, собравшаяся позагорать. Они подошли к голубятне, Егор оглянулся, увидел входящего под арку гулкого тоннельчика Рому со всегдашней фирменной сумкой — ремешок через плечо, окликнул, и вчетвером, запрокидывая головы, они встретили стремительный взлет освобожденных из клетки бело-сизых, лазоревых, розоватых птиц.
— Жара, — Рома вытер ладонью мокрый лоб. — Сил нет.
— Ой, ребят, давайте в Серебряный бор махнем, я уже в купальнике. Соня когда придет?
— Жду.
— Ну, ты вчера выдал. — Морг гикнул, ухнул, свистнул по-разбойничьи. — «Придется убить!» С Адой такие штучки не пройдут. Эта баба, пардон, дама…
Пышное позлащенное облако (единственное в нежнейшем, прозрачнейшем эфире) вдруг покрыло солнце, потемнело, и страшный крик раздался откуда-то сверху, с неба, нет, словно сразу отовсюду, отражаясь от каменных стен. Соня в оконном проеме во вчерашнем платье, лента в волосах, лицо искажено нестерпимой мукой. Всплеснула руками. Кричит: «Надо мною ангел смеется…» Глаза их встречаются, пауза в доли секунды, она кричит: «Убийца!» — и исчезает.
Во всем этом есть нечто противоестественное: в тот миг ни отчаяния не почувствовал он, ни опасности, которая ей угрожала… один ужас, непостижимый — от ее взгляда, от ее последнего слова, звучавшего как обвинение… но почему она не назвала имя? Побоялась Антона, который находился где-то там, за ее спиной?.. Это сейчас можно вспоминать (да и то невозможно!), анализировать, а тогда… Какое-то время они, все четверо, стояли как камни.
Наконец Морг взревел:
— Ребята, бегите через парадное! — и понесся к черному ходу.
Они с Ромой пробежали затхлый тоннельчик на улицу (необходимо отметить, что улица в обозримом пространстве была абсолютно пуста, спрятаться негде, и главное — нет времени!), пять шагов — прыжков — за угол (и переулок пуст), мрак парадной лестницы, один пролет, второй, третий… вот ниша (почему-то я обратил на нее внимание, так, скользнул взглядом — та самая ниша, из которой зашипел на нас дюк Фердинанд, когда луч падал на рыжую голову)… истертые ступени, дверь с медной табличкой, стук, крик, рев, свет, кровь…
Официальная версия действительно стройна и логична (даже слишком, арифметически логична — кажется мне теперь, в свете новых фактов… факт? лента на могиле — факт? безумие! Неужели кто-то на Антоше затянул удавку?). Во двор, небольшой, тенистый и уединенный, выходит только один подъезд, черный ход из нашего особнячка; два других дома окружают двор глухими стенами. Маляры, накануне закончившие ремонт у Неручевых, обладают стопроцентным алиби. Соседи. Пошли снизу. Ворожейкины: старики на даче (в этом году уже не снимают — не на что), детей Катерина привезла искупать, они играли в песочнице, а сама отправилась на рынок. Серафима Ивановна сидела во дворе. Демины: Николай Михайлович на заводе — «черная» суббота, Настасья Никитична мыла полы в школе. Именно она по дороге на работу встретила Аду с бельем, та пожаловалась, что прачечная закрыта. Марина Моргункова была на репетиции в цирке, психиатр прогуливался по бульвару. И наконец, мы четверо — те, что стояли возле голубятни. Четверка с совершенным алиби.
Итак, рано утром Соня уходит заниматься; одержимая порядком и энергией, Ада моет, чистит, прибирает (остаются отпечатки пальцев самой хозяйки — повсюду; Сони — в ее комнате на личных вещах, гребень, склянка с духами и т. д.; Антоши и Морга — на кухне и в прихожей; в прихожей, кроме того, «наследили» и мы с Ромой; взломанный ящик резного шкафчика, шкатулка и брошенная тут же фомка тщательно протерты, или преступник действовал в перчатках; мешочек с драгоценностью запачкан в крови, но на ткани идентифицировать отпечатки пальцев невозможно; на самом кресте установлены отпечатки, так сказать, вчерашние: Ады, Германа Петровича и Морга, проделавшего фокус; наконец, главная улика — на топорище след большого пальца Антона; в общем, эти данные работают на ту же логичную, стройную версию).
Ада собирает белье и идет в прачечную. Последняя суббота месяца — санитарный день. Возвращается, поднимается по парадной лестнице, открывает дверь своим ключом и сталкивается с Антошей, проникшим через кухонную дверь, которую хозяйка вроде бы забыла запереть. Убийство. Неожиданное появление Сони. Бросается к окну, кричит в невменяемом состоянии; очевидно, Антон преграждает ей выход из кухни в дворовый подъезд, она бежит в прихожую, где он и настигает ее. Вытирает топор полотенцем, спускается к себе (встретив Морга), прячет в плащ мешочек с драгоценностью, замывает следы.
Единственная версия, единственный мотив, единственный преступник. После казни (крики из зала: «Смерть! Смерть убийце!»), после очерка с претенциозным названием «Черный крест» — в реальный, застывший мир врывается, нет, осторожно проникает нечто… «Ну да, нечто сверхъестественное! — Егор усмехнулся во тьме, выйдя от Германа Петровича. — Натуральный призрак, что чудился Антоше на месте преступления… и труп шевельнулся…» Егор начал спускаться к площадке, где давным-давно золотой луч… вдруг показалось, будто в нише метнулась тень. Тогда был дюк Фердинанд, и Соня взяла его на руки. Егор остановился как вкопанный. Воображение разыгралось или действительно вспомнилось: когда они бежали с Ромой навстречу убийству, какое-то движение, шевеление почувствовалось в нише, уловилось боковым зрением?.. Да ну, это сейчас, задним числом, нагнетаются страсти. Егор подошел к нише — удивительное ощущение, будто он входит в тайну. На крюке — последняя деталь, оставшаяся от старинного фонаря, — висело, покачиваясь, поблескивая, что-то… и слышались осторожные шаги… ниже, ниже… негромко хлопнула парадная дверь. Он протянул руку, прикоснулся — что это? Как будто сумка? — сдернул с крюка и помчался вниз по лестнице, выскочил в Мыльный переулок. Тихо, пустынно, полная луна. Никого. Померещилось? Но вот же в руке — лаковая дамская сумочка. Пустая.
Егор одним духом взлетел на третий этаж, позвонил, хозяин возник на пороге мгновенно, словно стоял за дверью.
— Герман Петрович, взгляните, это не ваших сумка — Ады или Сони?
Психиатр взял сумочку, отступил в разноцветный круг венецианского фонаря, вгляделся.
— Совершенно не в их стиле. Нет, нет, исключено. Что внутри?
— Ничего. Пустая.
— Откуда она у вас?
— Сейчас в подъезде нашел.
— В подъезде?.. А почему, собственно, вы решили, что она могла принадлежать моей жене или дочери?
— Не знаю. Так… одно к одному.
— Молодой человек, — заключил психиатр, возвращая сумочку, — вы можете плохо кончить.
— То, что ты рассказываешь, Егор, совершенно неправдоподобно.
Они сидели с Серафимой Ивановной на дворовой лавочке, отгороженной от остального мира сквозной шелестящей сиреневой массой, томительным горчайшим духом. Худые руки со спицами праздно лежали на коленях, рядом на лавке черная сумочка.
— Неправдоподобно, — подтвердил он. — И все-таки это правда.
— Выходит, во всем этом мы не понимаем главного.
— Может быть, нам трудно понять логику сумасшедшего?
— Может быть. Только учти: по твоим словам, лента на могиле очутилась через год, день в день, когда, по обычаю, навещают покойных.
— Но какое извращенное воображение, предельный цинизм — трогать покой мертвых.
— Кто-то хотел, чтоб ленту увидели, подал знак.
— Какой знак? О чем? — воскликнул Егор в тоске. — Все умерли. Все!
— Значит, не все.
— Но почему через год? Почему целый год молчания?
— Газета… — произнесла Серафима Ивановна, словно ловя ускользающую мысль. — Сразу после газеты, на другой день.
— Я уже думал об этом. Но в очерке нет ни одного нового факта. Все, о чем пишет Гросс, выяснилось на ранней стадии следствия.
— А «приговор приведен в исполнение»?
— Так ведь еще в марте приведен, всем известно. Нет, это безумие! Свидетеля не было, физически не могло быть.
— Кто-то украл ленту, — напомнила Серафима Ивановна. — И Антоша кого-то почуял в квартире.
— Натуральное привидение, — пробормотал Егор. — Ночью увидел в нише сумку — и по ассоциации вообразилось, что когда мы к Неручевым бежали, я подсознательно засек какое-то движение в нише. Сегодня попробовал там спрятаться — не помещаюсь, ниша глубокая, но узкая, и крюк мешает… Антоша почуял, я почуял… игра воображения, нервы.
— Ты высокий, — заметила старуха. — А я, должно быть, помещусь.
— Серафима Ивановна, какой сверхъестественный ловкач стоял и смотрел, как женщин убивают? Допустил казнь невинного? Не объявился на следствии, на суде? А сейчас старается запугать меня?
— Его надо найти, — твердо сказала Серафима Ивановна. — Это опасно. Все больше укрепляюсь в мысли, что Антоша не мог убить Сонечку и Аду.
— А черный крест в его плаще?
— Да не пролил бы он кровь из-за драгоценности. Возможно — вон и следователь ему подсказывал, в очерке напечатано, — преступник обронил мешочек на кухне, Антон нашел, а признаться побоялся.
— Он здравый человек, уравновешенный. Унести такую улику с места убийства, возле трупа подобрать… и спрятать почти на виду? Бред!
— Бред, — тихим эхом откликнулась старуха.
— Серафима Ивановна, кто мог ненавидеть Аду?
— Что ж, она была женщина необычная.
— Герман Петрович пришел вчера к оригинальному выводу: кто желал Аде зла — тот украл ее талисман.
— Да, помню, она говорила: пропадет крест — быть беде. Да это все слова, ведьму из себя разыгрывала.
— Вот именно. Она врала, сочинила фамильную дворянскую драгоценность, а крест ей просто муж подарил.
— Ох, в ней было всего понамешано.
— Какая же она была?
— Ты, Егор, живешь — и ничего вокруг себя не видишь.
— Правда.
— Девочка была как девочка, только очень хороша, редкостно. Представь Сонечку, но более отчаянную, жадную к жизни. Школу окончила, в институт не прошла, ну, там-сям поработала, тут мать — жива еще была, медсестра из психиатрической больницы — ее к себе устроила. Мужчин она с ума сводила, а встречалась с Васькой…
— С Моргом?
— С Моргом. Удивляешься? Он привык шута горохового корчить, но что-то в нем есть… мужское, хищное, понимаешь? Вот если б тогда убийство произошло — я бы не удивилась.
— То есть она его бросила?
— Бросила. Васька рвал и метал, Ада сбежала, у родственников пожила, покуда он не уехал в Сибирь по распределению, училище кончил.
— Это все из-за Германа Петровича?
— Ну да. Он у себя в лечебнице царь и бог. Влюбился в красотку — так она и стала дворянкой, цыганкой, колдуньей, упокой, господь, ее душу.
— А Морг?
— Там, в Сибири, женился на своей циркачке — на Марине. Так все и кончилось.
— А может, не кончилось?
— Морг занимался голубями у нас на глазах, — ответила на это Серафима Ивановна, как всегда поняв собеседника с полуслова. — Во двор он вышел сразу после тебя по черному ходу.
Залитый солнцем двор, разноцветно-серебристые птицы в небесной вышине, комичная фигура «рыжего», майка, обтягивающая могучие мускулы, необъятные шаровары, — свистит, беснуется, подпрыгивает с шестом в руках… небеса потемнели. «Ребята, бегите через парадное!» И исчезает в подъезде. «А ведь это я его под расстрел подвел».
— Удивительно, — сказал Егор, — убийство произошло у всех у нас почти на глазах — и сколько в нем тайны.
— Ты бы, Егор, поосторожнее, — Серафима Ивановна взяла в руки лаковую сумочку. — Не нравится мне все это. Ты ясно слышал шаги?
— Ясно. Очень осторожные и легкие, ступеньки чуть-чуть поскрипывали — вы ведь знаете, какая у нас лестница скрипучая. И стук двери — тоже негромкий. И лунный луч мелькнул. Тут я сглупил — когда в переулок выскочил. Все эти знаки, намеки, загадки настроили меня… ирреально. Я не осмотрелся толком, переулок был залит лунным светом — и ни души. А между тем за углом, в пяти шагах от парадного, — наш тоннель. Там он наверняка и стоял. А я к Герману кинулся с сумкой.
— Чья ж это сумка…
Никто не признался из наших. Ни Алена, ни Катерина, ни циркачка — я всем показывал, говорю: нашел в подъезде, хочу отдать.
Серафима Ивановна вертела в руках сумочку, поглаживая, пощелкивая замочком в виде позолоченной раковины.
— Дешевая, отечественная, кожзаменитель, не новая, но и не изношенная. Просто ею давно не пользовались. Видишь, чистенькая, но пыль… видишь, в складках внутреннего кармашка?.. Нет, Егор, у наших дам я такой сумки не видала — точно. И все же я их проверю. Во сколько ты вышел от Германа Петровича?
— Без четверти одиннадцать.
— Проверю. О, Морг к голубям отправился. Ну да, понедельник, в цирке выходной.
Морг, в шароварах и майке, шел по двору, посвистывая, поднялся по лесенке к клетке на невысоких столбах, раскрыл дверцу — птицы с ликующим гамом вылетели на волю — и сел на перекладину, глядя в небо.
— Пойду пообщаюсь.
Егор подошел к голубятне, клоун сразу поинтересовался:
— Слушай, про какую сумку ты у Марины спрашивал?
— Дамская сумочка, черная, лаковая. Сегодня ночью в нашем парадном нашел.
— С деньгами?
— Пустая.
— Черная, лаковая, без денег? Не наша. Хороши турманы, а?
— Я наш двор без твоей голубятни не представляю.
— Ну, я, еще когда в цирковом учился, увлекся.
— Когда с Адой встречался?
— Неужели ты помнишь? — удивился Морг.
— Смутно.
— Отчаянная девочка была, прелесть! «Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам бог любимой быть другим». Тут Герман встрял — я уступил.
— Поэтому она к родственникам до свадьбы сбежала?
— А, ты в курсе. Правильно она сбежала — я был готов на все. — Морг помолчал, потом добавил с пафосом: — Они убили моего ребенка.
— Какого… ты что!
— А я ведь собирался жениться, благородно. Я человек благородный, не замечал? Хотя и не дворянин, склепа не имею. — Клоун засмеялся тихонько. — Никогда не прощу.
— Так она аборт, что ли, сделала?
— Ну. Ради старика…
— Ты думаешь, она за Германа Петровича по расчету пошла?
— А то нет! Он же на двадцать три года старше, развалина.
— Ну, уж развалина…
— Мерзкий старик, за деньги купил, — клоун хохотнул. — Любит девочек-пионерочек.
— Положим, Ада совершеннолетней-то была.
— Девятнадцать стукнуло. Как раз в феврале они закрутили и убили моего ребенка (рожать в августе собиралась), так в июне они уже поженились, в природе не существовало ребенка, а меня сослали в Сибирь. Славно все получилось, правда? Помнишь, вечером перед смертью она сказала, что за все платить надо? Вот и заплатила.
— В каком смысле?
— Ну не в буквальном — в широком, философском. Что и справедливо в конце-то концов!
— Справедливо? Неужели тебе ее не жаль?
— Нет. Соню жалко… Но Антошка-то как озверел — бить по мертвой… Эх, жизнь-тоска!
— А как ты думаешь, Ада с Германом хорошо жили? — Сам Егор, Серафима Ивановна права, жил настолько отъединенно, что про ближайших-то своих соседей ничего не знал.
— Великолепно — потому он и ушел, а? — Клоун подмигнул. — Или его выгнали?
— Выгнали?
— Ну, не знаю, что там у них стряслось, только семейка распалась. Ку-ку!
Поднявшись к себе, Егор долго стоял у окна, рассеянно глядя на голубятника, старую даму, гроздья сирени… Может, прав психиатр и не стоит вступать в этот круг патологии и ненависти? Страшно. Прошел к стеллажам — мамино наследство, — взял словарь, нашел слово «инцест» — кровосмешение, половая связь между ближайшими родственниками… «Любит девочек-пионерочек». Герман и Соня? Я с ума сошел! Мерзость, грязь, ангел смеется… Как я целовал ее волосы, и она сказала, что ни разу к ней не прикоснулся мужчина…
Егор швырнул словарь на пол.
— Любимая моя! — сказал он вслух. — Какая б ты ни была, что б ты ни скрыла от меня — я все равно тебя люблю.
Ночь прошла в привычной бессоннице во дворце правосудия. Вот уже год его мучили бессонницы, но он боялся и засыпать: всегда один и тот же невыносимый сон. Впрочем, сейчас не до этого. Главная загадка (он отдавал себе отчет, что в ней ключ ко всему): почему преследуют именно его? Я не свидетель, не преступник — почему такое внимание? Что хотят внушить мне? Просто испугать? Зачем? Угрожают? Но ведь я не представляю ни малейшей опасности ни для кого — я ничего не знаю: только то, что напечатал Евгений Гросс. А между тем чувствую, как суживаются круги — в этой тьме, на многолюдной улице, в зеленом дворике, — идет незримая охота.
Как бы там ни было, я готов. Друг, враг, свидетель, убийца («Назову его друг, — думал Егор, — ведь он вернул мне жизнь») должен как-то проявить себя — столь многозначительное начало требует продолжения. Главное, не растеряться, увидеть, услышать, понять, разрешить с ума сводящую загадку. Он спешил ей навстречу — безоружный, с открытым забралом, гуляя в одиночестве, заходя на кладбище, не запирая даже на ночь дверь черного хода, ожидая осторожные ночные шаги.
Вернувшись с дежурства домой, Егор быстро осмотрел все комнаты: мамину, свою и кухню (в силу социальной справедливости после смерти мамы его полагалось уплотнить, но, по слухам, особнячок обрекался на снос). Кажется, никто не навещал его ночью, никаких знаков, намеков… оставалось только ждать, хотя нервная энергия, жизненная сила требовала выхода.
До вечера он провалялся с книжкой на диване, и Смутное время в «Истории государства Российского» не казалось таким уж смутным в нынешних «сумерках богов». В сумерках прибыл Роман — прямо из редакции, продуманно небрежно одетый (эта «небрежность» стоит недешево), столичный журналист-проныра. Так хотелось бы выглядеть Роману (американский идеал) — и так он выглядел, хотя за внешним лоском «настоящего мужчины» (занимаюсь восточной борьбой), «своего парня» (пью водку с мужиками на равных) скрываются, Егор знал, мягкость, нежность и безволие, что так пленяют женщин, уставших от мужского самоутверждения. Ромка совершенно по-детски обожал своих друзей, бился в истерике при известии о казни Антона и в целом определялся одним словом: «Счастливчик!»
— Егор, — заговорил он оживленно, опустившись в дряхлое кресло у письменного стола, — возникла сплетня, будто ты нашел какую-то таинственную сумочку в парадном.
— Открой верхний ящик стола… видишь?
— Тут и лента!.. А что в ней?
— Ничего. Знакома тебе эта сумка?
— Откуда?
— У какой-нибудь твоей дамы…
— Мои дамы фирменные, а тут ширпотреб, — Роман содрогнулся. — Ужас, Жорка!
— Да неизвестно пока ничего.
— Ужас, — повторил старый друг. — На тебя ведется охота. А ты… идиотская беспечность, даже дверь не запираешь.
— Специально. Я иду навстречу с нетерпением.
— Кому навстречу?
— Не знаю.
— А вдруг это маньяк? Хочешь стать трупом?
— Ну, это мне все равно.
— Все равно? Так любил ее?
— Да.
— И как внезапно все у вас началось.
— Да.
— Тебе не кажется это странным?
— Что именно?
— Это наваждение.
— Это не наваждение. Наверное, это было всегда, просто я не понимал.
— Егор, очнись, она же мертвая. Поезжай куда-нибудь, развейся, давай я тебе устрою…
— Не хочу.
В сумерках без лиц (голова Романа на фоне раскрытого окна — вечернего небесного огня) разговаривать хорошо и вольно.
— Что же это происходит? — воскликнул Рома с силой. — Заворожила, околдовала… ведьма.
— Ну, ты, помолчи!
— Ведьма… и продолжает. Все эти штучки — с того света. — Он нервно рассмеялся. — Шучу, конечно.
— Все реально, Рома. Сумка висела на крюке в нише.
— В нише? В какой нише?
— Между вторым и третьим. А внизу слышались шаги. Одновременно, понимаешь? Увидел сумку и услышал… Да, вспомни, Ромочка, когда мы бежали на Сонин крик, ты ничего в этой нише не заметил?
— В каком смысле?
— Как будто шевеление в глубине.
— Не заметил. — Рома явно затрепетал. — Ты считаешь, там убийца переждал, пока мы…
— Мужчина в нишу не поместится, ну, если очень маленький и тоненький.
— Ага, злобный карлик или нежная фея.
— Ром, ты близок к Неручевым…
— Боже упаси!
— Самый близкий сосед — через стенку. Вот на твой взгляд, что это была за семья?
— С большими странностями семейка. Все трое. Про цыганку сам знаешь, ее весь Мыльный боялся. И муж все это терпел — крупный ученый, международного класса — все терпел. Это не странно? Да и сам он… всегда появляется вдруг, бесшумно, замечал? Глаза ледяные, пустые. Ну, если всю жизнь общаться с пациентами… — Рома замолчал в раздумье.
— Ты сказал: «все трое», — напомнил Егор.
— Разве? Оговорился. Соня… впрочем, я на нее и внимания-то особого не обращал. Красавица, конечно, но не в моем вкусе, детсадом отдает, прости, слишком наивна, слишком ребенок.
Егор жадно вслушивался в его интонацию, равнодушную, даже добродушную. Друг детства. Счастливчик, теоретически больше всех годится на роль…
— Ребенок? — переспросил он. — У нее был мужчина.
— Не знаю, что у вас с ней было…
— Того, о чем ты думаешь, не было.
— Серьезно? Так какого ж ты… а, понятно, сохранил репутацию.
— Не сохранил, как видишь. Противно. Самому на себя. Но меня это очень волнует.
— Жорка, ты — «рыцарь бедный», честное слово! Кого теперь волнует потеря девственности.
— Меня волнует убийство.
— Ты считаешь, есть какая-то связь…
— Не исключено.
— Намек понял. — Рома улыбнулся милой своей мягкой улыбкой. — Я ведь слабак, Жорка, не спорь, только тебе признаюсь. Меня волнуют женщины эмансипированные, не школьницы. А Соня — как будто сама невинность… что ж, я ошибся, она была дочерью своей матери.
— Ты помнишь ее глаза?
— Еще бы. Очи черные. Говорю же — ведьма, дочь своей матери. В Аде чувствовался огонь и очень сильный.
— Герман Петрович утверждает, что за девятнадцать лет они ни разу не поссорились.
— Не знаю, не подслушивал.
— Ну, невольно мог что-нибудь засечь… стены у нас не капитальные.
— Скандалов не помню, мата не помню. А сейчас вообще тишина, как в склепе. Тебя интересуют отношения Германа с Адой?
— Да. А также его отношения с дочерью.
— Ну, старик и поздний ребенок… оберегал, дрожал над ней, ясно. А вот с Адой… рассуждая теоретически: где страсть, эротика, деньги — там может быть все что угодно, вплоть до преступления.
— Герман Петрович гулял по Петровскому бульвару, — сказал Егор задумчиво. — И у него ключи от квартиры.
— Он мог по-тихому войти, но никак не мог выйти, — возразил Рома. — Он отнюдь не карлик.
Стало совсем темно, лишь уличный фонарь распространял слабый рассеянный свет сквозь листву, и зеленовато мерцала первая звезда — одинокая Венера. Егор сказал глухо:
— Кто-то предупреждает меня. О чем? Если расстреляли невинного, то где-то существует убийца. Как он существует? Как он вообще может существовать? Руки в крови, ты понимаешь, кровь кричит…
— Егор! — закричал Рома. — Успокойся!
— Я спокоен. Я найду его. И не буду связываться с так называемым правосудием. Своими собственными руками…
Протяжно заскрипела дверь черного хода, шаги, силуэт на пороге, Рома грохнулся на пол. Послышался голос:
— Егор, ты дома? Что в потемках сидишь?
— Дома, — он протянул руку, включил ночник.
Серафима Ивановна стояла в дверях, журналист лежал навзничь, неподвижно возле стола.
— Что это с ним?
— Ожидал натурального призрака. Я и сам струхнул… Ром, вставай, перед дамой не позорься.
— Да он в обмороке!
— Как бы не так! — Рома сел, прислонясь к креслу. — Здорово разыграл?
— Разыграл! — проворчала старуха. — Мужчины называются. Верите, ни разу не пожалела, что замуж не пошла. Так вот, у наших подъездных дам алиби нет ни у кого.
— Чем обязан? — поинтересовался психиатр учтиво, придерживая, однако, сильной рукой входную дверь.
— Герман Петрович, можно с вами поговорить? — Хозяин поморщился, Егор добавил: — Только вам, знатоку человеческих душ, под силу разрешить загадку.
— На лесть вы меня не возьмете. Проходите.
Они сидели в холодных кожаных креслах, потягивали тот же коньяк (Егор отметил, что уровень французской жидкости в пузатой бутылке с прошлого раза не понизился, — видать, хозяин не спивается тут в одиночку).
— О какой загадке вы говорите?
— Убийство. Герман Петрович, вы знали, что в юности Ада была близка с Моргом?
— Разумеется. Как бы она могла скрыть что-то от меня. К сожалению, я узнал об этом после женитьбы.
— То есть вы не женились бы, если б знали…
— Что за пустяки! — отмахнулся Герман Петрович. — Что за хилая любовь, которая не одолеет такое препятствие? Я взял бы ее любую, но не позволил бы избавиться от ребенка. Это мерзость. Это они придумали с матерью.
— Вы усыновили бы чужого ребенка?
— Не чужого, а ее. Я замечал кое-какие странности, но не до того мне было.
— Какие странности?
Психиатр отхлебнул из рюмки, холодно улыбнулся.
— У меня никогда не было потребности излить душу, то есть вылить собственные задушевные помои на собеседника. Но вы так любознательны и несчастны… Итак, вас интересуют мотивы, по которым я мог бы убить жену и дочь? Ну, конечно, из ревности к клоуну.
— Герман Петрович, я ничего не знаю, но после расстрела Антона со мной и вокруг меня происходит нечто непонятное.
— И вы начинаете издалека. Что ж, по мере сил я удовлетворю вашу любознательность, потому что, — он опять улыбнулся ледяной улыбкой, — вы меня заражаете… или заряжаете нервной энергией. Что вами-то движет, не пойму.
— Я сам не пойму.
— Ладно. Когда я увидел Аду — такой, знаете, непорочный ангел в белых одеждах — некоторым женщинам удивительно идет больничный наряд милосердия, — я сразу понял, что жизнь моя переменится. Отказа я не получил и в тот же день уволил ее из сумасшедшего дома — так она называла мою клинику. Тут бы заняться ею вплотную, но на мне висел бракоразводный процесс…
— Вы были женаты?
— Да. Ведь мне было уже сорок два. И хотя я сразу отказался от всего — имею в виду материальные дрязги, — дело требовало нервов и времени. Варвара Дмитриевна, будущая теща, — женщина ловкая, умница, я был к ней искренне привязан, — настояла, из каких-то преувеличенных приличий, не видаться с невестой до развода — как выяснилось впоследствии, Ада дожидалась отъезда клоуна, боясь скандала. Разумеется, я пошел на все, а они скрыли концы в воду. Ну, непорочного ангела я не получил, но я не мелочен. Месяца через три после женитьбы — пришлось переехать в Мыльный — я стал невольным свидетелем разговора жены с циркачом — тот приезжал на несколько дней в Москву, — разговора, который подтвердил мои подозрения.
— То есть вы поняли, что она любит Морга и что…
— Ничего подобного. Вас тянет на житейские схемы: старик муж, молодой любовник, коварная красавица. Нет. По заданию тещи я вышел с мусорным ведром, начал спускаться по черной лестнице, слыша ее голос снизу, из тьмы, и переживая минуту удивительную. Это было объяснение в любви: я безумно люблю мужа, не могу без него жить, мне не нужен никто, никто и так далее. А клоун твердил как попка: ты убила моего ребенка, ты убила моего ребенка… «Да, я пошла на все, — отвечала она, — я боялась, он от меня откажется». То есть мы с ней пошли на все навстречу друг другу. Вот тут-то, по вашей логике, мне и следовало их убить, вслед за ребенком. Представьте, как хорош я был, проходя мимо с мусорным ведром и с достоинством. Все разрешилось банально: я простил, Морг женился, а Ада прожила еще почти девятнадцать лет.
— Герман Петрович, извините, я как будто выражаю сомнение, но… вы говорили, что никогда не ссорились, — и вдруг бросили все и ушли.
— Повторяю: она меня оскорбила — и я до сих пор не понимаю из-за чего. Может быть, ее расстроил тот телефонный звонок, не знаю.
— А помните, на помолвке, тоже кто-то позвонил, вы сказали так странно: ваша пациентка.
— Я пошутил. Нечто забавное… или зловещее. Вероятно, ошиблись номером.
— А что сказали?
— Сейчас вспомню буквально… «Надо мною ангел смеется, догадалась?»
— Ангел! — закричал Егор. — Не может быть!
— Отчего же? — возразил психиатр невозмутимо. — Так и было. Вам это о чем-нибудь говорит? Мне лично нет.
— Герман Петрович, разве следователь не говорил вам о последних словах Сони?
— Что такое? — Психиатр нахмурился. — Ну да, бессвязный набор слов, она находилась в шоковом состоянии.
— Может быть, и в шоковом, но она крикнула: «Надо мною ангел смеется… убийца!»
Хозяин и гость уставились друг на друга, было очень тихо (тут бы к месту вспомнить старинную примету — тихий ангел пролетел, — да как-то не вспоминалось… нет, скорее чертик прошмыгнул).
— Что все это значит, черт возьми, — пробормотал психиатр машинально.
— Аде звонил убийца, — зашептал Егор, — по поводу тайны, связанной с этим, который смеялся. О нем узнала Соня и тоже погибла. Они обе убиты, потому что…
— Но позвольте! — Герман Петрович вышел из оцепенения. — Какой убийца? Звонила женщина.
— Ах да, пациентка… Вы уверены?
— Знаете, я еще не совсем в маразме…
— Голос незнакомый?
— Как будто незнакомый. Вообще я был взвинчен тогда… и с Адой и с Соней — все вместе. Постараюсь сосредоточиться. — Психиатр полузакрыл глаза. — Довольно молодой, несколько пронзительный голос, никаких дефектов, характерных особенностей, а вот интонация… вопросительная, эмоционально насыщена. Если можно так выразиться, вкрадчивая ненависть: «Надо мною ангел смеется, — пауза, — догадалась?» Ненависть и насмешка. В сочетании с красивым тембром и бессмысленным текстом произвело впечатление болезненное. И еще: звонили откуда-то рядом, словно из соседней комнаты.
— То есть из нашего дома?
— Не буду этого утверждать, но — рядом. Было слышно даже дыхание, слегка прерывистое.
— Алена сидела с нами за столом, — сказал Егор. — Остаются Катерина и циркачка… Да ведь Алена выходила! Помните? За сигаретами?
— Да, помню.
— Герман Петрович, вы бы узнали голоса этих трех?
— Наверное. Впрочем, повторяю, я был взвинчен, да и с соседками почти не общаюсь.
— Давайте проверим! Пожалуйста.
Они прошли в прихожую, Герман Петрович кратко побеседовал с каждой из «подозреваемых» о подписях против сноса особняка.
— Кажется, не они. Но утверждать не могу. Не голос мне запомнился — интонация, необычный текст, а тут… приличный светский разговор, никаких таких страстей.
За входной дверью требовательно мяукнули, Герман Петрович отворил, дюк Фердинанд проскользнул в прихожую, запел и потерся о ноги хозяина, игнорируя на этот раз гостя.
— Вот он, наверное, знает многое, — заметил психиатр, — наверное, видел убийцу. Да ведь не скажет.
Вновь наступило воскресенье, всего неделя прошла, как жизнь настигла его, солнце, отцветающая сирень, дети, лавочка, белое кружево и праздные спицы на коленях; они говорили вполголоса («натуральный призрак» не давал о себе знать, но мир вокруг неуловимо изменился).
— Все началось с телефонного звонка, — говорил Егор, пытаясь восстановить связь событий. — Ада кричала: « Я на все готова! На все!» — бросила трубку, и ни с того ни с сего они поссорились — впервые за девятнадцать лет. Может быть, Герман Петрович врет…
— Они вроде хорошо жили, — вставила Серафима Ивановна.
— …но второй звонок, на помолвке. Кому предназначалась странная фраза — глагол «догадалась» женского рода — Аде или Соне? Мне кажется, Аде. Во-первых, фраза звучит как продолжение недавнего разговора, а Соня с утра была со мной. Во-вторых, Ада нервно спросила у мужа: «Кто звонил?» Вообще она страшно нервничала, особенно в конце вечера, после гаданья, и не сказала, какую карту вытянула для себя. Что ж, по привычке именно в гаданье она находила подтверждение своим предчувствиям. Обратите внимание, как символический, несколько дурного тона антураж, которым окружала себя Ада — черный крест, роковая карта, дворянский склеп, — проявляется в реальности: кража, убийство, кладбище. И ангел. Кто или что скрывается за ним?
— Думаешь, шантаж?
— Похоже на то. Она умела держать себя в руках, но после звонков была на грани истерики и сорвалась оба раза: оскорбив мужа и поссорившись при посторонних с дочерью. Ангела упоминает Соня перед смертью, и «нечто забавное», как выразился психиатр, получает неожиданно страшный, ускользающий смысл.
— Ангелы не смеются, — пробормотала Серафима Ивановна, — они над нами плачут.
— Значит, здесь какой-то особенный. Женский голос спросил: «Догадалась?» А Соня как бы отвечает на другой день: «Убийца».
— Но если она догадалась, кто этот ангел-убийца, то почему не назвала имя?
— Я все время думал об этом. Выходит, убийца был ей незнаком, то есть она не знала его имени, а предупредила нас как смогла — этой странной фразой.
— Незнаком, — повторила Серафима Ивановна. — В дворовый подъезд никто чужой не входил: я сидела на лавке с восьми утра до момента убийства. Остается парадное.
— У Неручевых японский замок с кодом, — отозвался Егор задумчиво. — Следов взлома не обнаружено, все три ключа нашлись сразу: Сонечкин в луже крови возле убитой, второй — в хозяйственной сумке Ады с бельем, третий — у Германа Петровича. Правда, были открыты балконные двери, проветривалась квартира после ремонта.
— Ну, Егор! Поздним субботним утром на глазах у прохожих вскарабкаться на третий этаж по совершенно гладкой стене…
— Да, исключено. Дверь могли открыть только хозяева, и, по словам Германа Петровича, Ада не открыла бы постороннему. Ей, во всяком случае, преступник был знаком.
— Знаком-то знаком, — проворчала Серафима Ивановна. — Куда он потом делся — вот загадка. Или он — женщина, которая спряталась в нише, когда вы с Ромой бежали по лестнице.
— Как-то трудно представить женщину, способную на такое зверство, хотя примеры в истории имеются… и женский голос по телефону чуть не из нашего дома — ненависть, насмешка… Но женщина, которая смогла бы поместиться в нише, то есть очень тонкая и маленькая, вряд ли способна нанести такие удары.
— Не скажи. Циркачка наша мала и тонка — а мускулы? Каждый день тренируется.
— Вообще цирковой парой стоит заняться, — согласился Егор. — Но ведь у Марины алиби?
— В цирке была на репетиции.
— С сыном?
— Нет, он тут во дворе с ребятами играл. Катерина ходила на рынок, да она в нишу не поместится, очень крупная. Алена с вами у голубятни стояла.
— Разберемся с нами — с нашей четверкой у голубятни. У нас примерно одинаковые ситуации: каждый был у себя, потом вышел во двор. У троих есть алиби.
— У троих?
— Судите сами. Соня кричит в окно. Алена остается на месте. Мы с Ромой бежим через парадное к запертой двери. То есть мы трое не имели возможности убить Соню.
— Ты намекаешь, что Морг совершил преступление в два приема?
— Малоправдоподобно — и все же реально. На нем были старые клоунские шаровары, наверняка с потайными карманами. На помолвке он видит, где Ада хранит черный крест, и на следующий день около одиннадцати поднимается к Неручевым. Или Ада действительно забыла запереть кухонную дверь, или, уже вернувшись из прачечной, открывает соседу — не столь уж важно. Он убивает ее, крадет мешочек с драгоценностью (подготовившись заранее, действует в перчатках), кладет крест и перчатки в шаровары, затем спускается во двор, может быть, рассчитывая в голубятне спрятать драгоценность. Но тут подходим мы, и его настигает Сонин крик. Он-то понимает значение ее слов. Морг направляет нас с Ромой в парадное, сам бежит по черному ходу, зная, что кухонная дверь у Неручевых открыта. Встречает перепуганного Антошу и незаметно — фокусник! — засовывает ему мешочек, скажем, в карман брюк. Антон замывая одежду, обнаруживает опасную находку и впопыхах прячет в старый плащ. Морг врывается на кухню к Неручевым. Допустим, Соня узнала про «ангела» накануне от матери, она выдает себя, бежит от него в прихожую. Мы с Ромой колотим в дверь, слышим какие-то крики, клоун довольно долго не открывает, затем появляется перед нами весь в крови.
— А перед этим во дворе ты на нем пятен не заметил?
— Вроде нет. Но ведь Ада убита одним ударом, и кровь из раны натекла на пол позже, когда она упала. Упала навзничь, удар был нанесен спереди — так же, как и Соне. Последнее, что они видели в жизни, — это лицо садиста.
— Чье лицо… — пробормотала старуха. — Чтоб Васька девятнадцать лет такой ненавистью пылал — просто не верится.
— Может, он не мог простить ей убитого, как он говорит, ребенка?
— То грех для верующего, а для него одна болтовня. У вас аборт убийством не считается.
— А Соня — точно дочка Германа?
— Ты намекаешь на Ваську? Нет, по-моему, точно. Они поженились после отъезда Морга в Сибирь… в июне, да. А родилась Сонечка…
— Двадцать восьмого февраля, — сказал Егор.
— Ну вот. Отец ее очень любил, не сомневайся, это чувствуется. И воспитал он ее… да что я тебе говорю, — старуха взглянула выразительно. — Сам знаешь, кого потерял.
— Знаю. То есть… не знаю… — Тонкий луч зеленого золота падал сквозь листву… тот луч, в котором тогда в полутьме плясали пылинки, — и какая жгучая, какая невероятная тайна была во всем этом! Вдруг его прорвало — впервые за весь год: — Зачем она мне врала?
— Тут что-то кроется — или я ничего в людях не смыслю! — заявила Серафима Ивановна решительно. — Чистая, славная девочка. У Германа распорядок строгий, никакого ослушания он не терпел.
— Да, он рассвирепел, когда вдруг узнал, что мы решили пожениться.
— Естественно. С женой всякие страсти, а тут еще удар с другой стороны.
— Но зачем она-то врала? — повторил Егор; только с этой старухой, нянчившей всех детей в особнячке (и его самого), он чувствовал себя легко и свободно. — Как сказал Герман Петрович про жену: я бы взял ее любую. Я сам хорош — и она это знала…
— Ну, на себя-то не наговаривай.
— Хорош, хорош, чего уж там… Но она-то!.. Зачем — можете вы объяснить?
— Егор, ее кто-то изнасиловал и запугал.
— Ничего подобного! Мне любезно сообщил судмедэксперт, что она жила регулярной половой жизнью. Регулярной! — заорал вдруг он. — И спала с кем-то в те дни… нет, ночи, когда была моей невестой. Нет, я с ума сойду! Для меня она будто не умерла, она меня будет мучить до конца, всю жизнь… если это можно назвать жизнью!
— В те ночи… быть не может!
— Это так. Не хочу вдаваться во все тонкости экспертизы… но это так.
— Господи, Егор, ведь именно она была убита с патологической жестокостью!
— Именно она. Кто? Морг? Ромка? Антон? К кому она ходила по ночам, когда мы с ней расставались?.. Или Герман?
— Ты и вправду с ума сошел!
— Патология, извращение — неужели вы не чувствуете, чем несет от всего от этого? И при всем этом, — признался он в отчаянии, — для меня она сущий ангел. Можете себе представить такое раздвоение?
— «Надо мною ангел смеется», — Серафима Ивановна перекрестилась. — Страшно, Егор, и непонятно. Все непонятно. Ты, значит, следователю сказал, что с тобой она жила регулярной…
— Со мной, со мной… Ну, смешно, нелепо, согласен. О какой тут чести… А я говорю: честь. Ее, моя — все равно, я нас не разделял.
Егор шел по Страстному бульвару, сквозь июньские светотени, вечерний звон и гам, миновал «Россию», фонтан, Пушкина, спустился в подземелье — вокруг отпускная остервенелая толкучка, он ничего не видел — поднялся на белый свет, перешел на Тверской, побрел по пестро-желтой дорожке, остановился, оглянулся. Странное ожидание, когда чувствуешь чей-то упорный взгляд и должен убедиться… Нет, все тот же мир в древесных сумерках, ничего примечательного. Но ожидание не проходило.
Он поднялся во дворец по чудесным каменным ступеням, перебросился словами с уходящим вахтером, прошел в свою каморку-сторожку, лег на диван, закинув руки за голову на жесткий круглый валик, рассеянно глядя в окно. Как дома: диван — только обитый черной прохладной кожей; окно — только забранное стальной решеткой… что должен чувствовать смертник в настоящей камере? Скорей бы!.. Нет, нет, остановись, мгновенье, какое б ты ни было!
«Опять меня заносит, а я должен разработать версию Германа». Герман! Забавно. «Три карты, три карты, три карты», — и дама пик, и сумасшедший дом. Психологически (психически) он более подходящий претендент, чем Морг. Более глубокие, потаенные страсти. Итак, Ада узнает об отношениях мужа и дочери. «Однако я вправду с ума сошел — ведь быть не может!» Итак, она узнает, бурное объяснение, смертельное оскорбление… А мы с Сонечкой в это время стоим на лестнице в золотом луче. Муж переезжает на другую квартиру. Через три дня — нечаянный удар: дочь сообщила, что выходит замуж. Психиатр (сексуальный маньяк?) задумывает убийство.
Утром в субботу по парадному ходу он поднимается на третий этаж, отпирает дверь своим ключом (Соня у сокурсницы, Ада в прачечной). Зная, разумеется, где хранится ключ от шкафчика, он имитирует кражу со взломом, чтобы отвести подозрения от себя (возможно, действует в перчатках). Приход Ады. Ужасная сцена. Он убивает жену, в это время появляется Соня, кричит в окно (ангел-убийца? дьявол! она не смогла выдать отца), он настигает ее в прихожей, наносит удары, озверев, опьянев от крови, срывает алую ленту… хочет уйти — вдруг с протяжным скрипом открывается дверь черного хода, на пороге кухни возникает Антоша. Он не видит Германа в темной прихожей, но подсознательно отмечает некое движение, шевеление в темноте — «возникло жуткое ощущение чьего-то невидимого, неслышимого присутствия».
Два момента в этой версии остаются загадкой. Как пришло в голову Антону забрать с места преступления оброненный, видимо, черный крест — страшную улику? И каким образом Герман Петрович скрылся из дома (в нишу он не поместится — высокий рост)? Если поведение Антоши еще можно объяснить полной растерянностью, невменяемостью, то исчезновение Германа сверхъестественно… а значит, от этой версии придется отказаться?.. Егор вздрогнул. Открытая балконная дверь! Все произошло с молниеносной быстротой. Соня закричала в окно, была убита, Антоша в ужасе побежал к себе, встретив по дороге Морга. Убийца чувствует приближение людей и выходит на балкон. Пока мечутся и кричат в прихожей, он перемещается к Сориным (что под силу даже инвалиду: перила не выше метра, балконы почти примыкают друг к другу и скрыты в густой тополиной листве от глаз прохожих). Затем из квартиры Сориных (замок английский, дверь изнутри можно открыть без ключа и захлопнуть за собой) проникает в парадный подъезд (вопрос: куда он дел окровавленную одежду? Например, прихватил из шкафа чистую и у Сориных надел прямо на запачканную, там же умылся). Далее: Мыльный переулок, трамвай, Петровский бульвар (где его действительно видел завсегдатай-пенсионер), квартира заграничного друга (обыск там не делали, вещички сожжены… нет, хлопотно… гниют, должно быть, где-то в сырой земле), звонок клоуна: убиты жена и дочь (Морг разыскал номер телефона, записанный Соней, в блокноте на подзеркальнике).
Таким образом, остается уточнить: была ли открыта у Романа балконная дверь? Если это обстоятельство подтвердится в пользу моей версии — поиск можно считать законченным.
Егор набрал номер телефона — длинные гудки, дома нет. Ну, конечно, «фирменные дамы»…
Могла ли им увлечься Соня?.. Как выяснилось, я очень мало знаю о ней, да, я поверил ей сразу и навсегда. «Не в моем вкусе, — сказал Рома, — слишком ребенок». А перед этим что он сказал? «Заворожила, околдовала — не его, меня — ведьма». Дама пик на помолвке. «Женюсь!» Как будто бы тончайшая, прерывистая связь слов и событий, но где тонко, там и рвется. (Егор, с цветами и шампанским в сумке, позвонил в дверь к Сорину: они стояли, разделенные порогом. Весть о предстоящей женитьбе Роман воспринял вполне жизнерадостно: «Ты и Соня? Забавно, старик, отлично! Прелесть девочка! Когда это ты успел? — Нервное возбуждение прорывалось в голосе, глазах, жесте, тонкие пальцы сжали руку друга. — Ну, я рад!» Радостное возбуждение, возможно, в пылу творчества. «Приходи сейчас к Неручевым, будет что-то вроде помолвки». — «Эх, черт, срочная работа — на завтра… обидно». — «О братьях-славянофилах?» — «В точку! Не обижайся, Егор, ладно?» — «Да ладно». — «Не обижаешься?» — «Да нет, нет»). Однако он пришел (дружба — дело святое), и, по-моему, они с Соней не обращали друг на друга особого внимания. И он не имел возможности убить ее — вот главное. Так с кем же она провела ночь перед смертью?..
Наконец в двенадцатом часу журналист отозвался:
— Слушаю.
— Привет. В то утро, когда убили Аду с Соней, у тебя была открыта балконная дверь?
— Дверь? Какая дверь?
— На балкон.
— На балкон?.. Не помню. А что?
— Мне пришло в голову, что убийца мог сбежать от Неручевых через твою квартиру… Алло! Что молчишь?
— Вспоминаю.
— Ты вспомни, как Алена предложила поехать в Серебряный бор.
— При чем тут бор?
— Было жарко.
— A-а… да, да, духота. Открывал, точно, в своем кабинете, когда работал.
— Кабинет граничит с комнатой Ады?
— Ну да. Егор, поздравляю. Потрясающе! И… кто, по-твоему?
— Наверное, не дальний, так сказать, а близкий: должен знать про смежные балконы, твою квартиру, замок… может быть, увидел из окна тебя с нами во дворе и сообразил, что путь свободен.
— Герман?
— Возможно. Спокойной ночи.
Стало быть, Герман? Стойко перенеся опознание, следствие, суд и расстрел невиновного, одинокий старик постепенно мешается в уме. А клиника, а обширная практика? Он помешался на одном пункте. Кровь убиенных не дает покоя — отсюда поступки, мягко выражаясь, эксцентрические: через год он приносит на могилу дочери ее ленту, вешает на крюк в нише сумку. Он говорит мне: «Решительно не советую вступать в этот круг», — но я вступаю в его безумный круг — и он врет, изворачивается, придумывает какой-то женский голос по телефону, а сам про «ангела» узнал от следователя, заметает следы… Лицо отца — вот что она видела перед смертью.
Мир за оконной решеткой темнел и сгущался — без просверка, без промелька — смертный мир, в который мы заброшены бог знает зачем. Зазвонил телефон, и знакомый женский голос сказал:
— Если б ты знал, как мне тяжело.
Такой безысходный, душераздирающий голос, что Егора буквально затрясло от страха.
— Кто это?
— Не узнаешь? Не можешь решиться?
— На что решиться?
— Умереть. Ведь Антон умер.
— Ради бога! — закричал он. — Не вешайте трубку! Кто убил Соню?
Где-то там, далеко, засмеялись, потом ударили тупые, короткие гудки.
ЧАСТЬ II
Надо пройти под каменной аркой ворот, прямая кленовая аллея ведет к церкви, справа и слева теснятся кресты и надгробья, свернуть, поворот, еще поворот… Егор вошел в оградку, сел на лавочку, встретился взглядом с Соней — невинное, почти детское лицо, — заставил себя посмотреть на плиту: увядшие цветы, розы, нарциссы, тюльпаны, больше ничего, никаких знаков и намеков. Он пришел сюда прямо с дежурства, после ночного звонка и бессонницы. Версии рушились, нет, усложнялись, Герман Петрович не выдумал женский голос: он был, он есть. Знакомый голос — пронзительный, искаженный полушепот, но что-то сопротивляется в душе, не дает признать… Во всяком случае, ясно одно: мне предлагают умереть. «Ведь Антон умер» — любопытная мотивировка. Что означает тогда лента на могиле — приглашение последовать за убитой? Какая-то загробная история, следы которой ведут на кладбище (или в сумасшедший дом, — может быть, меня преследует пациентка Германа Петровича… откуда она знает мой рабочий телефон… и я ее знаю, несомненно!) И здесь, где вечный покой, покоя нет. Бедная Ада мечтала лежать в дворянском склепе — грустная и нелепая выдумка, — и с каким чувством она рассказывала об этом. Все ложь. Егор вдруг заволновался. Все не соответствовало действительности, а между тем детали убедительны и реальны. Как она говорила?.. пройти в узкую калитку (калитки нет), справа церковь (церковь прямо против ворот), слева звонница (нет звонницы), липовые аллеи (клены и дубы)… Бесцельная ложь. Или она говорила о другом кладбище? Впрочем, легко проверить: возле церкви якобы похоронен герой Отечественной войны, знакомый Пушкина. Денис Давыдов?
Егор подошел к храму, доносилось тихое пение, какой-то служитель — юноша в черном облачении — спускался по ступеням.
— Простите, — обратился к нему Егор, — вы не знаете, возле этой церкви похоронен герой войны с Наполеоном?
— Знаю, — отвечал юноша учтиво. — Не похоронен.
— Благодарю.
— Не за что.
«Историк! — упрекнул себя Егор. — Не знаешь, где могила Дениса Давыдова… Всё — обман, выдумка…» Тем не менее он довольно долго ходил по прохладным аллеям, высматривая — глупейшее занятие — склеп Захарьиных с навесом из кованого железа. Такового не было.
Егор вышел за ворота как в другую действительность, с облегчением вдыхая автомобильный смрад, успел вскочить в трамвай, выскочил на своей остановке, впереди… да, Марина. Очевидно, ехала в соседнем вагоне. Откуда ехала?.. Егор пошел следом. Темноволосая женщина лет сорока, со стрижкой под мальчика, маленькая, гибкая, очень привлекательна. Она пересекла мостовую, завернула за угол. Мыльный переулок, парадный подъезд, рассеянный мрак, легкие осторожные шаги, на площадке она вдруг обернулась (Егор прижался к стенке), скользнула на третий этаж, коротко позвонила и скрылась за дверью психиатра.
Егор перевел дух. Скорбящий вдовец и прелестная циркачка. Бедный Морг — во второй раз. А может быть, отношения у них не любовные, а деловые? Что их связывает? И почему они эту связь скрывают? Да, скрывают: Герман Петрович говорил, что с соседками не общается. Егор прождал десять минут… двадцать… потом прошел к себе, привычно заглянул во все комнаты, на кухне пожевал кильки в томате, подошел к окну. Серафимы Ивановны на лавке нет, зато Алена в сиреневом купальнике дремлет на раскладушке в кустах. Видимо, почувствовав его взгляд, открыла глаза, потянулась изнеженно и крикнула:
— Привет! Какое солнце сегодня — блеск!
Егор напряженно вслушивался в голос. Вроде не похож… Во дворе показалась Катерина в трауре (мементо мори — помни о смерти — в сияющий полдень, в цветущей молодости, в горячке поиска) и исчезла под аркой тоннеля. Егор вышел на черную лестницу, постучался к Моргам (никого, — значит, Марина все еще у психиатра, суббота, в сумасшедшем доме выходной), спустился во двор, подошел, сел на край раскладушки, прошептал:
— Катерина устроилась на работу, не знаешь?
— Чего это ты шепчешь? — спросила Алена с удивлением, но тоже шепотом. — Ее Серафима Ивановна устраивает.
И шепот вроде не похож, хотя полной уверенности нет. «Вот так, постепенно у меня развивается мания преследования — помни о смерти, — и жгучий воздух тронут опасностью…» Егор усмехнулся… нет, соблазном. Юная обнаженная женщина, сильная, крепкая, с длинными, гладкими, загорелыми ногами, лежит перед ним и слегка улыбается уголками губ.
— Ален, ты хорошо помнишь нашу с Соней помолвку?
— Век бы ее не помнить. — Улыбка погасла, Алена села, поджав под себя ноги.
— Что так?
— Хочу забыть весь этот кошмар.
— Да как забыть?
— Все еще интересуешься, с кем Сонька крутила?
— Интересуюсь.
Нет, в роли сыщика, в этих выпытываниях и подвохах, есть нечто отвратительное.
— Она тебя любила: запомни и угомонись. Ни за что не призналась бы, но ведь заметно было. Вот сидим у нее, делаем уроки на кухне, чтоб двор видать, тут ты появляешься. И я уже знаю, что скоро она непременно скажет: ах, надоело, пойдем пройдемся… то есть во дворе на лавке будем сидеть и на тебя глядеть. Однажды идешь ты с женщиной…
— Ладно, Ален, не мучай.
— Какие мужчины чувствительные, прям на вас дивлюсь.
— Помнишь, на помолвке сигареты кончились и ты ходила за своими?
— Я все время бегала, на стол накрывала.
— Нет, мы уже сидели, и Ада как раз про склеп рассказывала.
— Конечно, помню. В этом-то весь и ужас.
— Что ты имеешь в виду?
— Она же сказала, что там хотела бы лежать, — и наутро умерла! Просто удивляюсь, как Герман Петрович ее последнюю волю не исполнил.
— Он не мог. Склеп выдумка.
— А ты, однако, циник. Такими вещами не шутят.
— Я все кладбище сегодня облазил — нету.
— Ты — все кладбище?.. Зачем?
— Нужно.
— Да, все кругом с ума посходили, честное слово…
— Кто — все?
— Вообще. Ну, снесли этот склеп, все сносят.
— И героя войны с Наполеоном снесли? Нет его могилы возле церкви. Она все придумала.
— Зачем?
— Ну, должно быть, ей нравилось воображать себя тургеневской женщиной из дворянского гнезда. Дворяне вновь входят в моду — сейчас их гораздо больше, чем было в Российской империи.
— Я читала, — сообщила Алена с усмешкой. — Красиво жили, красивые чувства, красивый интерьер. «Дворянское гнездо» шло по внеклассному чтению, но литераторша наша сочинение заставила писать.
— Пришлось одолеть?
— Знаешь, до сих пор помню: усадьба Калитиных в Орле — дворянское гнездо.
— Да все разрушено. Ада такая же дворянка, как мы с тобой.
— Ну и пусть. Зато гадала она здорово — все сбылось.
— Что сбылось-то?
— Все. У Антошеньки-садиста — казенный дом, тюрьма. Так? Герман Петрович в пустоте.
— Ты уверена?
«Интересно, рассталась уже циркачка с психиатром?»
— Но ведь один живет? У Сони страшная карта — больная постель, умерла в муках. У меня — нечаянный интерес. Все точно.
— Если не секрет — какой?
— Тебе скажу. Мы с Романом скоро поженимся.
— А, так ты и есть его ведьма? По картам?
— Ну, не знаю, похожа ли я на ведьму… — Алена улыбнулась польщенно и загадочно.
— Смотри, Ада сказала тогда: дама пик — злоба.
— Рома так не считает. Он называет меня сестрой милосердия.
— Странное прозвище для невесты.
— А мне нравится.
— Поздравляю, Алена, с первого этажа ты сразу махнешь на третий. Но учти: Ромку нетрудно завоевать, но трудно удержать, недаром он — Счастливчик.
— Никуда не денется, — Алена рассмеялась. — Дальше, Фома неверующий. Пиковая семерка — слезы Морга.
— Это нереально.
— Да? Когда я поднялась к Неручевым, ты сидел на полу рядом с Соней, Рома и Морг орали на Антошу, и лицо клоуна было в слезах.
— В крови.
— В крови и в слезах. Настолько необычно, что я даже в такой момент запомнила. Ну, — она улыбнулась, — Роману ведьма. И наконец, тебе выпала единственная червовая карта — любовь. — Алена близко заглянула ему в глаза. — В это ты веришь?
— Верю.
— Ну вот. А какая карта досталась Аде?
— Этого никто не знает.
— А я знаю. Она взглянула на нее и пробормотала: «Я сегодня в ударе». Что это значит, по-твоему?
— Подходящий настрой для гадания?
— Нет. Пиковый туз — нечаянный удар, что и подтвердилось на другой день. Убедился?
— Ален, — Егор глядел на нее в упор, — когда ты ушла за сигаретами, раздался телефонный звонок и женский голос сказал: «Надо мною ангел смеется, догадалась?»
— О чем я должна догадаться… — пробормотала она ошеломленно. — Я не понимаю… ведь Соня это крикнула в окно, ты слышал?
— Слышал. Так чьи слова она повторила?
— Ты думаешь… это я звонила? С ума сошел!
— Тебе известен мой рабочий телефон?
— Нет! Откуда?.. А что? — Алена придвинулась вплотную, схватила его за руки. — Что, Егор?
— Мне звонили ночью.
— Тот самый женский голос?
— Да.
— И что сказали?
— Предложили умереть.
— Кошмар!.. Чей голос? Ты узнал?
— Я боюсь, — вдруг сказал он.
— Умереть?
— Нет, сойти с ума.
Он высвободил руки, встал, побрел к дому, в подъезде обернулся — Алена глядит вслед расширенными от любопытства или от ужаса глазами, — на третьем этаже хлопнула дверь, он устремился вверх и на общей площадке рядом с помойным ведром столкнулся с циркачкой.
— Добрый день, Марина.
— Здравствуйте. — Она проскользнула к своей двери, держа наготове ключ.
— Простите, вы случайно не от Германа Петровича? Он дома?
— Почему вы решили, что я от психиатра?
— Наверху хлопнула дверь, и я просто подумал…
— Странное любопытство. У кого я была — это мое дело.
— Прошу прощения.
Она вдруг рассмеялась:
— Нет, это я прошу. На меня иногда находит. Он дома. Я поднималась на минутку по поводу сноса нашего особняка. Надо же собирать подписи.
— Это было бы ужасно, — подхватил Егор, но Марина уже скрылась за дверью.
Он лежал на диване и думал. Как ни странно, из нынешнего, пестрого впечатлениями, дня запомнилась и волновала картинка: две девочки делают уроки и поглядывают в окно. «Ах, надоело, — заявляет Соня, — пойдем погуляем». Они выходят во двор, и я здесь же — и не вижу. То есть сто раз видел этих школьниц на лавочке под сиренью, смеются беспечно, беспечально — и ведь ни разу не ударило мне в сердце, какая необычная судьба ожидает нас всех.
«Она любила меня, да, я чувствовал — и обманывала очень нагло, проводя со мною дни, а с другим ночи, очень глупо, ведь обман должен был раскрыться, когда мы стали бы мужем и женой. Эта наглость и глупость никак не вяжутся с моей Соней, какое-то раздвоение личности. Шизофрения — расщепление ума; я приближаюсь к этому состоянию. Или Герман Петрович, в качестве психиатра, обладает гипнозом и не стесняется пускать в ход свой дар в своих целях? Опасный, страшный дар обладания над чужой душою… и над телом.
Помолвка кончилась на истеричной ноте («Ничего не позволю, пока я жива». — «Что ж, Ада, тогда мне придется тебя убить», — чертовски остроумно пошутил я), гости начали расходиться. Первым ушел Роман кончать статью о братьях-славянофилах (об Аксаковых, что ли?). Затем Морг, Алена и Антоша — шумно переговариваясь. Герман Петрович докуривал сигару, медлил, чего-то ждал, пока мы втроем (Ада, Соня и я) убирали со стола. Нет, Ада не обижалась на мою кретинскую шуточку, она вообще ни на кого не обращала внимания — ни на нас, ни на мужа. «Егор, — сказала Соня на кухне, — пойдем бродить всю ночь?» — «Обязательно. Только не сегодня. Я напарника до двенадцати попросил за меня подежурить. Завтра, ладно?» — «А мне сегодня хочется. Я вообще не буду спать». — «Что ж ты будешь делать, девочка моя?» — «Думать». И она засмеялась, вероятно, над доверчивым дурачком, который действительно не будет спать, а ночь напролет думать о ней.
Мы вышли втроем, спустились по парадной лестнице, остановились на ступеньках подъезда. Соня привычным, детским каким-то, движением обняла отца, поцеловала в щеку со словами: «Папа, как хорошо!» Он погладил ее по голове, пробормотав: «Не задерживайся, мать беспокоится», — и ушел. Шаги его долго и гулко раздавались в ночи. А мы никак не могли расстаться. Она порывалась проводить меня, я не позволял, было невыносимо хорошо. Господи, как хорошо мне было с этой девочкой, в такие минуты ощущаешь, что смерти нет, не может быть. Наконец я оторвался от нее и побежал к метро на последнюю электричку. А куда пошла она? Непостижимое соединение (раздвоение) ребенка и шлюхи — вот соблазн, который я не разгадал в ней. Никто не разгадал. Даже подружка, ловко устраивающая свою судьбу (Алена — сестра милосердия! — видать, Роман такой же лопух, как и я). Так куда же она пошла той ночью — к отцу? Герман Петрович подозрителен во всех отношениях, но зачем он рассказал мне про женский голос по телефону? «Надо мною ангел смеется, догадалась?» Если звонила его сообщница (Марина?), он должен был это скрыть. Или они сообща хотят запутать меня и довести… «Не дай мне бог сойти с ума». Кажется, теперь я понимаю, что имел в виду Пушкин: безумие — это постоянный, неотвязный страх. И я приближаюсь к нему, вхожу в него, когда вспоминаю голос, это страстное шептание: «Ведь Антон умер». Антон. Кого же, кого он чувствовал на месте преступления?
Я боюсь, поэтому лучше отдохнуть душой, отдаться созерцанию простодушному, прелестному: две школьницы делают уроки, например, пишут сочинение по внеклассному «Дворянскому гнезду». Красивые чувства, красивый интерьер (этим словечком можно убить любого классика… впрочем, они-то бессмертны) — «интерьер», который, видимо, завораживал и Аду. «Дворянское гнездо — это бывшая усадьба, — сказала она. — Господи, если б можно было все вернуть». Дальше про склеп. Бедные фантазии. Погоди… она как-то интересно употребила этот поэтический оборот: от дворянского гнезда надо пройти по улице и свернуть к кладбищу, где похоронен… А почему, собственно, Денис Давыдов? Разве не было других знакомых у Пушкина, к которым поэт заезжал… Куда заезжал?» Егор включил ночник, бросился к книжной полке. Третий том. «Путешествие в Арзрум». Начало: «…Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел и сделал таким образом двести верст лишних; зато увидел Ермолова. Он живет в Орле, подле коего находится его деревня». Совершенно верно: Ермолов был сослан в Орел, кажется, там и умер. Егор снял с полки старинный фолиант — биографии полководцев войны 1812 года. Ермолов… да, Троицкое кладбище в Орле.
Ну и что? При чем тут Ада с ее фантазиями? Но зачем она вплела в них такие реальные детали? Как я запомнил: церковь, звонница… а прямо возле церкви похоронен герой Отечественной войны… тут Ада запнулась — забыла фамилию, муж съязвил, а она уточнила: к нему Пушкин заезжал. И… там склеп? Тьфу! Принимать светскую болтовню, разгоряченную шампанским, за что-то дельное! Но как она сказала — печально, но без горечи: «Именно там мне хотелось бы лежать».
На троллейбусной остановке в переулке возле привокзальной площади первый же орловец с позабытой в Москве готовностью, охотно и подробно объяснил, как проехать на «дворянку» — «дворянское гнездо» — место, оказывается, в городе знаменитое. Разумеется, никакого «гнезда», остатков, останков усадьбы в природе уже не существовало, но название осталось. Остался крутой обрыв, извилистая, узенькая речка Орлик в кустах и деревьях, частные домики на том берегу. На краю обрыва беседка — нет, не дворянская, хотя и с некоторой претензией (белые колонны), аляповатое советское сооружение. Егор постоял, покурил, облокотясь о перила, в самом сердце русской классики, потом пошел по улице Октябрьской мимо дома Лескова («от «дворянского гнезда» надо пройти по улице, свернуть налево — видны липы за оградой»), дошел до угла, огляделся (ничего похожего!), дошел до следующего (ничего! эх, Ада, Ада!), прошел еще квартал — и глазам своим не поверил. Улица, перпендикулярная Октябрьской, одним концом упиралась в каменную ограду, над которой зеленели вековые «бунинские» липы.
Егор ускорил шаг, почти побежал — пятиэтажки, кафе, какой-то сад, — пересек шоссе: узкая, старинной кладки калитка, ряд могил со старыми оградами, справа церковь, слева звонница… Ему казалось, будто он вспоминает давно прошедшее, будто он уже был здесь, настолько все сбывалось, сбывались слова Ады… Обошел кругом церковь — так и есть! В церковной стене ниша, сверху выбито «1812», под датой доска: лепные атрибуты воинской славы — лавровая ветвь, стволы орудий, знамя окружают барельеф — лицо в профиль. На каменной доске строки: «Герой Отечественной войны 1812 г. Генерал от артиллерии Ермолов 1777—1861». Чуть ниже цифр — черный чугунный венок. К нише примыкает ограда с могилой, отделанной белым камнем.
«В юности одно время я постоянно ходила на кладбище…» — «В свой склеп», — пояснил Герман Петрович с усмешкой. Егор огляделся: в тенистом влажном сумраке, в зеленоватой сквозной древесной глубине ощущается тайна, беспорядочно теснятся стародавние кресты и памятники, несколько уцелевших каменных и железных сводов… один — совсем недалеко от храма — покореженный навес на витых столбах из кованого железа. Егор пробрался меж могилами к склепу, дверцы нет, поднялся по трем ступенькам, ржавое кружево, пыль и паутина тления, высохшие листья, птичий помет… нагнулся, смахнул рукой сор забвения, Захаріины — явственно проступили выбитые на центральной плите буквы. А прямо посередине возвышается маленькая ребристая колонна с летящим грязно-белым ангелом из мрамора. Ангел не смеется, нет, детское лицо его кротко и печально, а два крыла за спиной устремлены ввысь — оттого и кажется, будто он летит.
Она говорила: весна, деревья распускаются, и так тихо, так хорошо. Уже лето, деревья входят в полную силу, тихо, но нехорошо. Тревожно, странно, словно сбывшийся сон. Он постоял на ступеньках, силясь обрести реальность. Неподалеку белоголовый старичок поливал цветы за аккуратной оградкой. Егор попросил у него веник — «голик», как выразился старичок, — тщательно вымел, выскреб плиты жесткими березовыми прутьями, погребальный текст проступил в полном объеме: здесь, в подполе, покоилось пятеро Захарьиных, последний — «отрок Савелий» — похоронен в 1918 году. «Приими, Господи, раба Твоего». Давно заброшенное место (таких тысячи тысяч на Руси); и какое все это — летящий ангел, отрок Савелий, старинный шрифт на плите — какое все это имеет отношение к зверскому убийству в Мыльном переулке?
Егор пошел отдавать голик, старичок спросил с интересом:
— Родственников нашли? Смотрю, прибираетесь.
— Не родственников, а… — Егор замялся. — Знакомых. То есть их предков. Не слыхали о таких — Захарьины?
— Нет, не слыхал. На Троицком давно не хоронят, только по особому разрешению. Жену я пристроил, а мне уж на новом лежать, некому похлопотать будет.
— Тут, я вижу, генерал Ермолов.
— Тут, тут. Это его уже в советское время к церкви перенесли. Кампания патриотизма. Вы не находите, — старичок смотрел на Егора выцветшими от старости, но очень живыми глазами, — что никак покойникам не дают покоя? Только и слышишь: прах такого-то перенесли туда-то. Правда, домик его уцелел.
— Чей домик?
— Ермолова. А вообще, сносят и сносят. Да я бы вам мог назвать… например, братьев Киреевских — за что?
— Снесли братьев?
— Особнячок ихний. А Грановский уцелел. Он какой-то прогрессивный был, да?
— Западник. Скажите, пожалуйста, а с какого времени на Троицком не хоронят?
— Хоронят — по знакомству. А официально… в начале семидесятых уже не разрешали, точно. А насчет склепа… затрудняюсь сказать. По логике вещей, при социализме дворянские усыпальницы должны были быть упразднены.
— Значит, Захарьины не могли уже пользоваться своим склепом?
— Мне кажется, нет. Потому как и для покойников требовалось равенство. Вот вы говорите: предок ваших знакомых похоронен в восемнадцатом, так? Что ж, с восемнадцатого никто из них не умирал?
— Но может быть, они просто уехали из Орла?
— Может быть? — удивился старичок. — Так вы спросите у своих знакомых, что сталось с их родственниками.
— Не у кого спросить: мои знакомые убиты, — ляпнул Егор в задумчивости.
— Убиты? — повторил старичок как-то обреченно. — Властями?
— Частным лицом. Но убийца неизвестен.
— Господи боже мой! — старичок близко придвинулся к Егору, их разделяла оградка. — И вы полагаете, что он спрятал убиенных в этом склепе?
— А вы полагаете, там что-то спрятано? — пробормотал Егор.
— Я ничего не полагаю! — Старичок огляделся с некоторой опаской. — Вы, простите, кто такой?
— Сторож.
— Кладбищенский сторож?
— Нет, караулю институт. Да я не сумасшедший, не бойтесь.
— А я и не боюсь.
— Убиты моя невеста и ее мать — не здесь, в Москве. И я из Москвы.
— А следы ведут на Троицкое кладбище?
— Видите ли, накануне, перед смертью. Ада — Сонина мать, то есть невесты, — описывала эту церковь, склеп, липы.
— То есть она встречала тут убийцу?
— Не знаю. Она в юности любила тут гулять.
— Гулять? Впрочем, вкусы бывают разные, — заметил старичок рассудительно, но чувствовалось, он захвачен. — Так что же случилось во время ее прогулок?
— Она нашла склеп Захарьиных.
— И все? Стало быть, вы собираетесь вскрыть захоронение?
— Да нет же. Убитые похоронены честь по чести, в Москве.
— Но какое отношение имеет этот склеп к убийству?
— Наверное, никакого. Наверное, я зря приехал, — признался Егор устало.
— Вы ищете убийцу своей невесты — это благородно. Органы не управились?
— Управились. Расстреляли моего друга.
— Вы рассказываете кошмарные вещи… Кажется, в мои годы меня трудно удивить, и все равно каждый раз удивляюсь. Как же попался ваш друг?
— Он был на месте преступления и ощущал чье-то присутствие. А теперь, через год, кто-то преследует меня… Я понимаю, — добавил Егор поспешно, — что все это звучит неправдоподобно. Но это правда.
— Давайте-ка я осмотрю склеп. — Старичок отворил дверцу в ограде, вышел. — Позвольте вам заметить, что юная девица вряд ли будет прогуливаться в столь скорбном месте просто так, без причины. Значит, юность ее прошла в Орле?
— Нет! В том-то и дело. — Егор пропустил старичка под ржавый навес, сам остался на ступеньках. — В сущности, ей и гулять тут было некогда. Мы из одного дома, вся ее жизнь на глазах, она рано вышла замуж, муж об Орле не подозревает, над склепом посмеивался…
— Это он зря. Кто он такой?
— Психиатр.
— Вообще-то в вашей истории есть что-то такое… простите… болезненное. Не в вас — нет!.. а вообще. Посмотрите… если кто и трогал плиты, то давно, видите, никаких следов. Когда была юность Ады?
— Ну, лет двадцать назад.
— Тоже давно. Но если она скрыла Орел, то как вы нашли склеп?
— По ее косвенным намекам. Ей не верили, а она сказала: «Именно там мне хотелось бы лежать». Наутро — убита. Я приезжаю сюда — все правда, все детали совпадают.
— И про ангела она говорила? — Старичок вынул из кармана тряпочку и осторожно протер фигурку — мраморное лицо словно засветилось. — Надо же, уцелел.
— Нет. Про ангела крикнула моя невеста — за секунды до смерти. Я сам слышал.
— Так ее убили в вашем присутствии?
— Почти. Она крикнула в окно: «Надо мною ангел смеется… убийца!» Мы с соседями вбежали к ним в квартиру: они обе зарублены топором.
— Невероятная история. Ангел-убийца — здесь подмена понятий, образ древний, потаенный. Но этот ангел не смеется, он печалится. Взгляните вон на ту плиту с выщербленными краями — выщерблины очень старые. Если ее поддеть ломом, например, откроется люк в усыпальницу. — Старичок внимательно смотрел на Егора. — Будете тревожить прах?
— Не буду.
— Правильно. Все это было так давно. И если она и виновата в чем-то, то сполна расплатилась.
— Она — да. А убийца?
— Смотрите-ка! — Старичок указал на что-то за склепом. — Кажется, написано: Захарьина… ну-ка, у вас глаза молодые.
Егор быстро обогнул ржавое сооружение, осевший, заброшенный (да нет, анютины глазки высажены чьей-то заботливой рукой) холмик в розовых кустах, простой железный крест, на поперечной планке надпись посеревшей «серебрянкой»: «Екатерина Николаевна Захарьина. 1882—1965 гг.».
— 65-й! — воскликнул Егор. — Двадцать лет назад!
— Вот видите, как все просто объяснилось, — проговорил старичок, впрочем, с сомнением. — В юности Ада приезжала на похороны своей родственницы, может быть, бабушки. И наше кладбище, а уж тем более фамильный склеп, навсегда поразило ее воображение.
— Похоже, что так, — сказал Егор медленно. — Одно непонятно: почему она все это скрывала?
— Знаете что, — ответил на это старичок решительно, — дайте мне свой адрес. Попытаюсь что-нибудь раскопать про Захарьиных. Судя по всему, род богатый, именитый — не мог же он исчезнуть бесследно. Меня зовут Петр Васильевич.
Возвращаясь в Москву, ночью в поезде Егор вдруг проснулся, как от толчка, и не сразу сообразил, где он и что с ним. Интересный материал для психиатра — как работает подсознание. Разговор со старичком. Какой-то факт насторожил меня и сейчас всплыл во сне… надо немедленно уловить, покуда не заспалось, не перебилось сном еженощным. Домик Ермолова уцелел… нет, не то. Дальше, дословно: «…например, братьев Киреевских — за что?» — «Снесли братьев?» — «Особнячок ихний. А Грановский уцелел. Он какой-то прогрессивный был, да?» — «Западник».
В восьмом часу утра Егор появился в родном Мыльном переулке, вошел в парадный подъезд, поднялся на третий этаж, позвонил.
— Здравствуй, Рома.
Этим утром Егор имел три многозначительных, чреватых последствиями разговора: с Романом, психиатром и циркачом.
— Здравствуй, Рома.
— А, проходи. Кофе будешь?
— Ничего не надо. Тебе же на работу.
— Есть еще время.
— У меня нет. Рома, вспомни: в прошлом году перед гибелью Ады и Сони ты писал статью о братьях-славянофилах — о Киреевских?
— И о них тоже. Вообще о разрушенных мемориальных памятниках. Тебе интересно?
— Очень.
— Так у меня сохранился экземпляр журнала. Проходи, я сейчас…
— Некогда. Перед этим ты ездил в Орел?
— Конечно. Я ж тебе рассказывал, когда вернулся. Забыл?
— Забыл. Тут меня закрутило. Ада знала о твоей поездке?
— С какой стати!
— Может, в разговоре упомянул?
— По-моему, нет. А что?
— На Троицком кладбище был?
— Где Ермолов похоронен? Да. А откуда тебе про Троицкое…
— Я сейчас оттуда.
— Ты? Что происходит?
— И на «дворянское гнездо» ходил?
— Ходил… А при чем тут Ада? Егор!
— Я нашел ее склеп.
— Какой склеп?.. А! — Роман, как всегда в минуту волнения (привычка балованного ребенка), схватил друга за руку. — Так она не врала?
— Нет.
— И ты его вскрыл?
— Это склеп, Ромочка, а не сейф, не путай.
— Доброе утро, Герман Петрович. Вы на работу?
— Меня машина ждет. А вы неважно выглядите, типичное нервное истощение. Бессонница мучает?
— Да. Но еще больше один и тот же сон.
— Сейчас мне некогда, советую…
— Герман Петрович, скажите, пожалуйста, у каких родственников скрывалась Ада перед вашей свадьбой?
— Понятия не имею. Ни с какими родственниками, кроме ее матери, я не общался.
— А вы не помните, они не ездили на похороны в Орел?
— Куда?
— Вы когда-нибудь слышали от жены про этот город?
— Никогда.
— Там находится склеп Захарьиных. Вы, кажется, не удивлены?
— Нет. В ходе нашей последней беседы, Георгий, я убедился, что у моей жены была тайна.
— Она не врала, я проверил. В какое время она жила у родственников?
— Апрель — май.
— Все сходится. Помните, она говорила: весна, деревья распускаются…
— Да, да, я не верил. Про какие похороны вы упомянули?
— Какая-то Екатерина Николаевна Захарьина, скончалась в 65-м году. Я видел могилу на кладбище.
— В том самом году. Надеюсь, вы не подозреваете Аду в убийстве ее родственницы?
— Екатерина Николаевна умерла в восемьдесят три года.
— Так. Что ж, по-вашему, делала моя жена в этом самом Орле? Догадываюсь, в каком направлении работают ваши мысли. Так вот: аборт делать было уже поздно, рожать рано.
— Она гуляла возле склепа.
— Оригинально. Но самое оригинальное, что она все это скрыла от меня.
— Со стороны мне трудно судить о ваших взаимоотношениях, Герман Петрович.
— Вы как будто на что-то намекаете.
— В какое время вас видел пенсионер на Петровском бульваре?
— Георгий, вы идете по ложному пути. Моя, так сказать, версия тщательно проработана следователем.
— У меня есть другая версия, Герман Петрович.
— В которой мне отводится главная роль?
— Да.
— Морг, привет. У меня к тебе несколько вопросов.
— На репетицию опаздываю.
— Я тебя до метро провожу. Когда именно Ада убила твоего ребенка?
— Но, но… шуточки!
— Прости. Я только повторил тебя. Так когда же?
— Ты мне действуешь на нервы.
— Пожалуйста!
— В феврале. Сразу как с Германом познакомилась.
— А не позже — в апреле или мае?
— Мне ль не знать!
— Чем ты ее так напугал, что она скрывалась в Орле?
— В каком Орле? — Клоун резко остановился. — Ты что-то раскопал?
— Не стал копать. Но склеп Захарьиных нашел.
— Тебе по ночам кошмары не снятся, Егорушка?
— А тебе, Васенька? Так чем ты ее запугал?
— Натурально, смертоубийством, — Морг засмеялся. — Молодой был, горячий.
— А про Орел знал?
— Кабы знал — убил бы! — Морг захохотал. — Ты считаешь меня графом Монте-Кристо? Даже лестно, отомстить через девятнадцать лет. И рад бы тебе услужить — так ведь у меня алиби. Стопроцентное! Ты же и подтвердишь.
— Не подтвержу. Потому что алиби у тебя. Морг, нету.
— И ты не решился трогать захоронение, — заключила Серафима Ивановна, выслушав целый рассказ о событиях последних двух суток.
— Зачем? Жертву замуровывают в склеп только в романах ужасов. А Ада любила там гулять, ей было там хорошо. Тут что-то другое.
— Другое? Я этих романов не читала, — заметила старуха, — но что касается ужасов, то у нас…
— Да, да, все запуталось, перепуталось безнадежно. Меня поразило, что накануне убийства Рома ездил в Орел. Что за совпадение!
— А как он туда попал?
— Самым естественным образом: командировка от редакции. Пробыл три дня. Он мне рассказывал тогда же, как вернулся. Я запомнил что-то о братьях-славянофилах.
— Он был на Троицком?
— Был.
— Видел склеп с ангелом?
— Нет. Очень удивился, когда узнал от меня, что это не выдумка.
— А вдруг он упомянул при Аде об Орле и тем самым вызвал ее на воспоминания?
— Утверждает, что не говорил. Они с Аленой собираются пожениться.
— Я знаю, — Серафима Ивановна помолчала. — Странная пара.
— А циркачка с Германом — не странная? У меня голова кругом идет.
— У меня тоже. Надо идти от голоса, Егор. Женский голос — вот главная загадка. Если б ты мог вспомнить!
— Не могу, боюсь. Не угрозы, не опасности, а… сам не знаю чего. Бессознательный, инстинктивный какой-то страх. И Герман Петрович не смог вспомнить.
— Может, не захотел? Если звонила его сообщница… нет, — перебила сама себя старуха. — Тогда б он тебе вообще об этом не рассказал. Ну, давай рассуждать логически. Он говорит, что звонили из нашего дома — раз. Голос молодой — два. Только три женщины у нас…
— Их голоса не вызывают во мне ни малейшего волнения. Зато стоит вспомнить этот ночной полушепот…
— Ты был соответственно настроен, Егор.
— Наверное. Этот голос вызывает ассоциации ужасные… нет, не то слово… чудесные, сверхъестественные. А вот факты. Эта женщина звонила Аде, потом во время помолвки, продолжая прерванный разговор про ангела. «Догадалась?» Вы представляете? Она преследовала Аду, Антон чувствовал чье-то присутствие на месте преступления. Я — какое-то движение в нише. И теперь она занялась мною: лента, сумка… иду на работу — мерещится чей-то упорный взгляд. И наконец — мне предлагают умереть.
— Повтори дословно.
— «Если б ты знал, как мне тяжело», — сказала она. Я спросил: «Кто это?» — «Не узнаешь? Не можешь решиться?» — «На что решиться?» — «Умереть. Ведь Антон умер».
— Боже мой, — прошептала Серафима Ивановна, — Сонечку и Аду убила сумасшедшая.
— Не знаю я никаких сумасшедших! — закричал Егор. — А голос мне знаком, знаком!
— Но ведь она засмеялась, когда ты спросил, кто убил Соню. Засмеялась!
— Серафима Ивановна, — взмолился Егор, — давайте о чем-нибудь другом, что-то мне нехорошо. — И добавил после паузы. — Сегодня я объявил Герману Петровичу и Моргу, что у меня есть основания подозревать их в убийстве.
— И как они это восприняли?
— Клоун посмеялся, психиатр заявил, что готов принять меня без очереди, на дому.
— Все это не так забавно, как кажется, Егор. Ты раскрылся — и теперь должен ожидать всего.
На другой день, после дежурства во дворце правосудия, Егор с часок погулял по утреннему центру, наблюдая, как целеустремленные граждане спешат к своим местам под солнцем. Кишела будничная жизнь, в которой дворянский склеп, черный крест, летящий ангел и раздробленный череп кажутся немыслимыми. Потом он спустился в метро, уже полупустой электрический вагон помчал его сквозь подземную тьму (худое, сумрачное… «сумеречное» лицо — его собственное отражение в окне, черном зеркале, напротив). Обширная площадь со скульптурной группой борцов против царизма, стеклянный вестибюль, оживленный коридор. Егор потолкался среди газетчиков и жалобщиков, наконец ему указали на упитанного человечка неопределенного возраста, задумчиво стоявшего с дымящейся сигаретой возле урны.
— Здравствуйте. Вы — Евгений Гросс?
— Здравствуйте. Он самый.
— Вы не могли бы уделить мне немного времени?
— По какому вопросу?
— Убийство в Мыльном переулке.
Гросс вздрогнул и уронил сигарету в урну.
— Ага! — и тотчас закурил новую. — Узнаю, видел на суде. Вы — жених.
— Да.
— Сочувствую.
— Благодарю. Вас удивило мое появление?
— Не очень. Не вы первый — не вы, может быть, и последний.
— А что, к вам уже обращались по поводу прошлогодних событий?
— Обращались.
— Простите, кто?
— Некто.
— То есть вас попросили соблюдать тайну?
— Приятно беседовать с умным человеком.
— Взаимно. И все же вы позволите задать несколько наводящих вопросов?
— Валяйте.
— К вам приходила женщина? Или мужчина?
— Мужчина.
— Из тех, кто, как я, выступал свидетелем на суде?
— Из тех.
— Этот мужчина приходил недавно?
— На днях.
— И интересовался вашим последним разговором с Антоном Ворожейкиным?
— Интересовался.
— Краткость — сестра таланта, Евгений…
— Ильич. Я стараюсь.
— Евгений Ильич, если вы сейчас постараетесь и назовете имя этого человека, разговор наш станет образцом содержательности и законченности.
Гросс улыбнулся снисходительно.
— Потому что, — настойчиво продолжал Егор, — это имя, возможно, наведет нас на след убийцы.
Гросс перестал улыбаться, заметив меланхолично:
— Убийца уже в мирах иных.
— У меня другое мнение. А этот таинственный человек объяснил вам, почему через год интересуется подробностями преступления?
— Объяснил — и вполне удовлетворительно.
— Что ж, тогда поговорим о вашем творчестве? После опубликования очерка «Черный крест» в этом мире стали происходить интересные события.
— О моем творчестве — с удовольствием. Всегда. Но не сейчас. На выходе в шесть.
Евгений Гросс имел вкус к жизни, и уже около семи они сидели в полутемном, мрачно-уютном подвальчике, о существовании которого Егор до сих пор не подозревал.
— Итак. С кем пью пиво?
— Георгий Николаевич Елизаров. Сторож.
— Фигуральный оборот? — уточнил Гросс. — То есть вы стоите на страже закона?
— Я работаю сторожем.
— Понятно. Вы — диссидент.
— О Господи!.. Просто работаю сторожем. Евгений Ильич, ваша аналогия с «Преступлением и наказанием»…
— Чисто внешняя, — перебил Гросс. — Я подчеркнул. Некоторые детали совпадают. Процентщица — гадалка. Лизавета — Соня: убиты как свидетельницы. Топором. Украденная драгоценность в мешочке. Даже фигурировали невинные маляры, делавшие ремонт. Как у Достоевского.
— И камень, под которым, может быть, окровавленная одежда лежит, — процедил Егор.
— Ваш Антоша одежду замыл. Я не ошибся, сказав «ваш»? Он был вашим другом?
— Да.
— Но ваш Антоша не годится в Раскольниковы. Сама по себе кража — мотив вульгарный, в нем отсутствует тот психологический элемент, загадка, феномен, которые делают преступление произведением искусства… в своем роде, конечно. Словом, данный случай на роман не тянет. Так, на очерк. Хотите пари на ящик пива?
— Да я не собираюсь ничего писать!
— Тогда зачем вы собираете материал? Сторожа-интеллигенты все пишут.
— Егор с любопытством вгляделся в поблескивающие в полутьме глазки.
— Вы считаете нормальным заработать на гибели близких?
— Ах да, вы жених. Забыл. И что вы хотите?
— В показаниях Антона, приведенных в очерке, есть неясный момент. Как я понял, вы с ним разговаривали лично?
— И до, и после вынесения приговора. Знали б вы, чего мне стоило этого добиться! Использовал все связи, надеялся расколоть убийцу, выслушать исповедь.
— Исповеди не было?
— Не было.
— И какое он на вас произвел впечатление?
— Какое может произвести впечатление садист?
— Вы заметили в нем патологические черты?
— А вы видели труп своей невесты?
— Евгений Ильич, отвлекитесь от официальной версии. Вот перед вами человек. Вы знаете, что его ожидает скорая смерть. Как он вел себя? Что говорил?
— Знаете, — после некоторого раздумья сказал Гросс, — если отвлечься от пошлого мотива преступления — карточный должок… пожалуй, я готов признать, что ваш Антоша — личность незаурядная.
— В чем это выражалось?
— В упрямстве. До самого конца не сломался, не признал себя виновным, что при таких уликах нелепо, безрассудно… но нельзя отказать в своеобразном мужестве.
— Вы же писали: слабый, жалкий человечек.
— Я создавал тип. Привлекательные черты исключаются. Пресса должна воспитывать.
— На лжи? Вам не приходила мысль о судебной ошибке?
— У вас есть новые данные? — быстро спросил Гросс.
— Есть кое-что.
— За кордоном, — сообщил журналист, — я б вас накачивал пивом, выкачивая сенсацию. А у нас наоборот.
— Евгений Ильич, вы не могли бы повторить то, что вам рассказывал Антон?
— Я все могу, я профессионал. Но — все изложено в очерке. — Он помолчал. — Разве что одна деталь… слишком сюрреалистическая для газетного жанра.
— Натуральное привидение?
— Оно самое. У вашего друга это был какой-то пункт.
— Вы можете описать подробно его ощущение?
— Сказано же: я профессионал. Дословно: где-то в глубине мелькнуло, пролетело что-то голубое. Ну, как вам нравится?
— Тихий ангел пролетел, — шепотом сказал Егор, а Гросс подхватил жизнерадостно:
— Там чертик прошмыгнул. С топориком.
— Где в глубине — вы спрашивали?
— Спрашивал. Он не знает — был занят: стирал свои отпечатки с топора. Что-то якобы зацепилось боковым зрением.
— Евгений Ильич, вы помните, что крикнула в окно Соня Неручева?
— Только давайте без мистики. У девочки случился психический срыв, а мы здравые люди и пьем пиво. Я предупреждал — еще до приговора: придумайте правдоподобную версию. Еще лучше — покаяние. Со слезой, с надрывом. Отказался. — Гросс осушил полкружки. — Впрочем, не спасло бы. Зверское убийство. Вышка обеспечена.
— Обеспечена, — повторил Егор. — А убийца на свободе.
— Голубой ангел, — проворчал Гросс. — Что, у вас тоже пунктик?
— Мания преследования, думаете? Так глядите же: кто-то к вам ведь приходил и расспрашивал. История никак не кончится.
— Жуткая история. Жут-ка-я.
— Так кто же, Евгений Ильич? Отец или клоун?
— Он вне подозрений.
— Ошибаетесь. Я могу разбить их алиби вдребезги.
— Так разбейте.
— Этого мало. Я ищу… точнее, жду твердых доказательств.
— Кто ж вам их даст?
— Тот, кто меня преследует.
— Кто?
— Маленькая женщина с пронзительным голосом, мне знакомая.
— Тяжелый случай, — пробормотал Гросс. — Давайте лучше выпьем.
— Евгений Ильич, что вам сказал Антон на прощанье?
— «Передайте Катерине, что я умираю за кого-то другого».
— Вы передали?
— Передал.
— И после этого написали свой очерк?
— А почему я должен был ему верить?
В глубоких сумерках Егор был уже дома на своем диване. События развиваются с катастрофической быстротой, кто-то отчаянно, судорожно (ритм судорог: пауза — вспышка) спешит к цели. К какой цели? Убийца, надо думать, достиг ее, подставив под расстрел невиновного. Так кому же нужна эта круговерть? Кто затеял игру? Свидетельница, молчавшая год? Вряд ли. Сообщница, не вынесшая тяжести преступления? «Эта женщина безумна, — с грустью думал Егор. — Она засмеялась, когда я ее спросил о Соне, — ужасный смех! Она меня как будто ненавидит — и все-таки ведет игру. Если Герман держит ее в своей лечебнице, то как она сбегает оттуда… Ну позвони! — умолял он незнамо кого. — Позвони, ведьма ты или ангел, назови имя!» Он уже приходил к Евгению Гроссу и расспрашивал, и просил молчать о своем визите. Журналист не принадлежит к разряду людей, неспособных нарушить слово. Гросс — способен. Хотя бы в обмен на мою информацию (он был заинтригован — и очень). Так что же его сдержало? Почему он не «заложил» человека, в сущности, ему постороннего? Очевидно, ему дали или пообещали дать нечто большее, чем могу предложить ему я. Ну и, разумеется, Гросс уверен, что к нему приходил не преступник: с уголовщиной такой тертый орешек связываться не станет. «Он вне подозрений», — сказал Гросс. Как бы не так! Своими намеками и прямым обвинением («У меня другая версия, Герман Петрович», «Потому что алиби у тебя. Морг, нету») я встревожил убийцу. Значит, он существует — до сих пор я сомневался? все-таки сомневался в Антоне? ни разу не взглянул ему в лицо на суде! — он существует, мы встречаемся во дворе, на лестнице, в Мыльном переулке, здороваемся, беседуем — и я ничего не чувствую. То есть чувствую, конечно, — помни о смерти, но не догадываюсь, от кого исходит опасность.
Я пытаюсь удержаться, так сказать, на реальной почве. Но что, если к Гроссу действительно приходил человек «вне подозрений»? Ну просто кому-то из «наших» («из свидетелей, выступавших на суде») неймется, любопытство, сомнение: вдруг судебная ошибка? Остается мистика, сюрреализм. Ангел-убийца. Голубой, смеющийся, летящий… натуральный призрак (пунктик) Антона. Это женщина. Она не побоялась снять с трупа влажную от теплой, еще живой крови алую ленту и принести ее на кладбище. Стоп! Сумасшедший дом, камера, склеп — и я безнадежно бьюсь головой о серые гладкие стены.
Серафима Ивановна права: в этой истории мы не понимаем главного. Хладнокровно, осмотрительно, не торопясь, пойдем сначала. Непорочный ангел (этот жуткий образ меня преследует) в белых одеждах, некоторым женщинам удивительно идет больничный наряд милосердия (Алена — сестра милосердия, все-таки странное прозвище для невесты). Она убила моего ребенка. Это мерзость, это они придумали с матерью. Зачем Ада ездила в Орел? Скрыться от Морга или избавиться от ребенка? И что значит в наше время «избавиться от ребенка»? Не в склеп же его замуровывать — сдать в энергичные руки государства (о чем мечтали еще классики марксизма). Допустим, насчет сроков она Моргу соврала или сама ошиблась и родила в Орле. И вот через девятнадцать лет звонит ребенок-мститель… Тьфу, какая ерунда! Во-первых, звонили из нашего дома, во-вторых, голос мне знаком. Стало быть. Орел отпадает? Но почему она его скрывала? Заколдованный, про́клятый круг (Катерина: «Будьте вы все прокляты!»).
Известно одно: на следующий день после звонков той женщины Ада и Соня убиты.
Весь этот год мне снится один и тот же сон: я сижу возле мертвого тела в прихожей, вокруг кровь и пахнет лавандой. Но не это ужасает меня во сне (и наяву), а чувство отчужденности к моей любимой. И в этом чувстве — будто бы самая последняя, самая страшная тайна. Умом я понимаю, что все это, должно быть, наложилось позднее, когда я услышал, что в ней действительно была тайна греха, и, узнав ее, я узнаю все. Мне представляется слипшийся от крови клубок, из которого я вытягиваю отдельные нити, а клубок еще больше запутывается. Нити — версии Морга и психиатра, загадка женского голоса, Троицкого кладбища, посещение его Ромой перед убийством…»
Кто-то негромко постучался с черного хода. Он вскочил, бросился на кухню, включил на ходу свет, толкнул рукой дверь, едва не сбив с ног… из тьмы выступила циркачка, сказав с досадой:
— Как вы меня напугали. Можно войти?
— Да, конечно.
Они прошли в его комнату, Марина села в кресло у стола, он на диван. В красновато-тусклом свете ночника она вдруг показалась девочкой — маленькой, изящной, в голубых джинсах и мужской рубашке в голубую клетку (ее обычная одежда). Егор с жадностью вглядывался в некрасивое, но прелестное лицо.
— Жизнь артиста, — сказала она, — просто убийственна. Вы меня понимаете?
— Не… совсем. Морга что-то убивает?
— Почему Морга? — Она удивилась. Я говорю о себе. Я постоянно должна быть в форме. Вот мне хочется кофе…
— Кофе нет, — вставил Егор. — Если чаю?
— Я к примеру. Все равно не смогу себе позволить на ночь, у меня кошмарный сон.
— И давно у вас кошмары?
— Сколько себя помню. Впрочем, — испуг мелькнул в темных глазах, — я, конечно, преувеличиваю, по женской привычке. Просто заурядная бессонница.
— У меня тоже.
— Я знаю. Всегда ваше окно светится. Вы у нас бывали в цирке?
— В детстве.
— Осенью повезем в Швецию новую программу. Любимчики уже отобраны.
— А вы?
— Мы под вопросом.
Пауза; он напряженно ждал (не о бессоннице пришла она поговорить в одиннадцать ночи!); Марина продолжала светским тоном:
— А вы так и не нашли владелицу той лаковой сумочки, помните, вы меня спрашивали?
— Не нашел. — Егор говорил медленно, стараясь уловить неуловимый взгляд. — Сумка висела на крюке в нише между вторым и третьим этажами. Там может поместиться разве что дюк Фердинанд или маленькая женщина вроде вас.
— Где? — прошептала Марина; темный испуг уже вовсю полыхал в ее глазах.
— В нише.
— Как странно вы говорите.
— Со мной случались и более странные вещи. Хотите я вам доверю тайну? Морг не знает.
— Что? — выдохнула она.
— В тот день, как найти сумочку, я был на кладбище. Представьте себе, на могиле Сони оказалась ее алая лента. Хотите взглянуть?
— Я, пожалуй, пойду, — заявила Марина вдруг.
— Нет, давайте поговорим, пожалуйста, надоело одиночество. Расскажите о своей работе. Вы выступаете в группе?
— Нас трое.
— И репетируете всегда втроем?
— Как правило.
— А могли бы вы, например, отлучиться с репетиции незаметно?
— Куда отлучиться?
— В дом номер семь по Мыльному переулку.
— Хотите, я вам дам совет? — холодно отозвалась Марина. — Бросьте вы это дело.
— Какое дело? Убийство?
— Убийство? — переспросила она. — Я совсем не имела в виду… да, вы одержимы. Это опасно, поверьте мне.
— Вам? Или Герману Петровичу?
— Великолепный человек. Сильный и умный.
— Имеет власть над душами, правда? — подхватил Егор. — Во всяком случае, Ада предпочла его вашему мужу.
— Жуткая история. — Марина передернула плечами, словно вздрогнула.
— Юношескую любовь вы называете жуткой?
— Я говорю про убийство.
— Ну, у вас ведь алиби.
— К счастью. Мне не пришлось давать показания и видеть этого несчастного вурдалака.
— Вурдалак, — повторил Егор задумчиво. — Оборотень. Выходит из могилы попить кровушки… — Он потер рукой лоб. — Однако вы своеобразно выражаетесь.
— Антон и есть оборотень. Никогда бы на него не подумала.
— А на кого бы вы подумали?
— Из вас троих на эту роль больше всего подходите вы.
— А вы действительно своеобразная женщина. («Она выбрала нападение — лучший способ защиты»). Во мне чувствуется садист?
— Нет. Но страсть, безрассудство от вас просто волнами исходят, заражают.
— Опять повторяете слова психиатра?
— Ничего подобного! Вспоминаю. Вы были, как теперь говорят, лидером. Придумывали игры и играли в них главные роли.
— Я давно уже не способен ничего придумать.
— Ребята подчинялись вам безоговорочно, — продолжала Марина, — и по приказу пошли бы на все… особенно Рома — нежный, как девочка.
— Неужели вы помните?
Она ответила милой улыбкой воспоминания.
— Помню трех мальчиков во дворе… нет, подростков, вам уже по двенадцать-тринадцать было.
— Невинных отроков. — Егор усмехнулся, вспомнив Серафиму Ивановну: «Антон — кроткий отрок».
— Отрок — это красиво, — согласилась циркачка. — Насчет невинности вам виднее. Вы всё околачивались возле голубятни.
Вдруг вспомнилось: бессрочные каникулы, бездонное небо, птицы — серебряные стрелы в лазури, — и вся жизнь впереди. Один расстрелян, другой в очередной раз женится, третий разыскивает убийцу.
— Морг задушил голубя, — внезапно сказал он; иллюзия детского рая разрушилась.
— Приблудный вожак мог увести стаю, — пояснила Марина.
— Как же я забыл! Ваш муж…
— Это не он. Он нашел его уже задушенным, голова была оторвана.
— Не врите! Я вспомнил. Морг повторял: «Этого голубчика надобно придушить!»
— Мне он говорил…
— Еще б он сознался! В Морге есть жестокость.
— Не более, чем в каждом.
— Ада сбежала от него в Орел, она его боялась. И сейчас он признался, что не может простить, что ему не жалко…
— Мало ли что он буровит, он большой болтун. Но вы-то чего нервничаете?
— Вечером перед убийством клоун продемонстрировал нам свои таланты. Фокусник.
— Вы его в чем-то обвиняете?
— Он один из претендентов. Вас не интересует, кто второй?
— Кто? — выпалила циркачка.
— Ваш тайный друг психиатр. Претенденту — назовем его так — в преступлении помогала женщина. Вы следите за ходом моей версии?
— Егор, не надо. Это может плохо кончиться.
— Вы мне угрожаете? Так вот. Какая-то почти сверхъестественная женщина, она не оставила абсолютно никаких следов. Тем не менее она существует…
— У вас было слишком большое потрясение, я понимаю.
— Только не надо делать из меня сумасшедшего. У меня есть доказательства ее существования — вполне материальные. — Егор поднялся, она вскочила, метнулась к двери, но остановилась; он подошел к письменному столу, рванул на себя верхний ящик. — Смотрите!
Ящик был пуст. То есть лежали там старые тетрадки, письма, однако лента и сумочка…
— Она их взяла, — пробормотал он оторопело, роясь в ящике; ворох бумаг с тихим шелестом просыпался на пол. — Вы их взяли?
— Егор! Опомнитесь!
— Зачем вы приходили?
— Я хотела попросить вас…
— Ну, ну?
— Ни о чем никому не рассказывать.
— О вас с Германом не рассказывать?
— Да.
— Чего вы боитесь? Что вас с ним связывает, черт возьми!
— Я его пациентка.
— Так я и думал! «Надо мною ангел смеется, догадалась?» Это вы положили Сонину ленту на могилу!
— Господи, какой кошмар! — закричала циркачка и исчезла.
Егор кинулся следом, голубой силуэт впереди проскользнул бесшумно и скрылся во тьме черного хода.
«Многоуважаемый Георгий Николаевич!
На другой день после нашего разговора в склепе я отправился к заутрене в Троицкую церковь с целью порасспрашивать прихожан по интересующему нас вопросу. И представьте себе, довольно скоро мне удалось (с помощью женщины, торгующей в храме свечками) познакомиться с некоей Марфой Михайловной — старушкой древней, но обладающей, как ни странно, памятью. Марфа Михайловна некогда была соседкой Екатерины Николаевны Захарьиной, умершей летом (точная дата не установлена) 1965 года.
Сообщаю сведения. Захарьины — род старинный, богатый, владевший под Орлом поместьем, в силу чего некоторые члены были расстреляны в эпоху «красного террора», некоторые рассеялись по Руси-матушке, остался же в Орле один юноша, почему-то нетронутый, кажется, Иван (говорит Марфа Михайловна). Иван и женился впоследствии на Екатерине Николаевне, дочери сапожника, имевшей полдома по улице Октябрьской, возле «дворянского гнезда» (во второй половине и сейчас проживает Марфа Михайловна). У Захарьиных родился сынок Алексей, который, окончивши школу, уехал учиться на рабфак в Москву, где, в свою очередь, завел семью. Иван погиб на полях Отечественной, и Алексей умер от ран в сорок шестом, успев, однако, родить дочку Аду. Как я понимаю, она и есть героиня нашего расследования.
Московские Захарьины (мать с дочерью) отношений с Екатериной Николаевной почти не поддерживали, ограничиваясь поздравлениями по праздникам. Как вдруг в шестьдесят пятом (Марфа Михайловна помнит точно, поскольку именно в тот год похоронила соседку), весной, кажется, в апреле, они обе явились в Орел. Причем мать (насчет имени тут у старушки провал — вроде бы Варвара) сразу уехала обратно. А Ада, молоденькая красавица, беременная (хотя с виду и незаметно; бабушка ее говорила Марфе Михайловне: в захарьинскую породу — рыжая, белокожая, глаза черные), Ада осталась рожать. Почему именно в Орел? Тут целый роман с любовными тонкостями и переживаниями. Изложу как смогу. Оказывается, Ада принимала ухаживания (и даже более того) соседа-студента Васьки, не задумываясь о последствиях, поскольку молодые люди собирались пожениться. Однако, на беду или на счастье, мать устроила ее санитаркой в психиатрическую больницу, где она, как говорится, встретила свой идеал. Нет, не больного, а самого главного врача, знаменитого доктора (надо думать, того психиатра, что не верил в дворянский склеп? — ученые часто неверующие в своей гордыне). Как бы там ни было, красавица рассказывала старушкам, что жить без него не может, что он называет ее «ангел мой», но, узнав про беременность, наверняка от «ангела» откажется. Такой, стало быть, высоконравственный господин. А спохватилась Ада избавиться от ребенка, когда аборт делать было уже поздно. Словом, простая история, обычная, и если б она не вспомнила наш город перед ужасной своей кончиной незачем было эти семейные тайны ворошить. Но я продолжаю с уверенностью, что все в мире имеет связи, причины и следствия.
Меж обитателями домика на Октябрьской все дебатировался вопрос: куда девать будущую малютку? Естественно, Ада в Орел приехала, чтобы подбросить дитя государству, но старорежимные старухи восставали против этого со страшной силой. Ко всему прочему, боялись покинутого Ваську, способного, по слухам, на все. Ото всей этой нервотрепки красавица наша с утра уходила как будто в одиночестве — куда? Вы, конечно, уже догадались, Георгий Николаевич: на Троицкое кладбище. Марфа Михайловна вспоминает, что Ада, барышня с волей и характером, была в непрерывном трепете и волнении, что в ее положении, впрочем, понятно. И в результате произошло событие печальное, которое, однако, развязало все и всех (а может быть, наоборот — связало и отозвалось через много лет): в начале июня Ада родила семимесячную девочку, тут же и скончавшуюся.
Похоронили ее вроде бы (говорю «вроде бы»: старушки на погребении не присутствовали, выносили гроб прямо из морга при роддоме, всё уладила срочно приехавшая мать), так вот, лежит она вроде бы на том же Троицком, но точное место неизвестно. Сегодня утром я туда наведался, могилку, разумеется, не нашел. Сколько их, безымянных, заброшенных, затоптанных видимо-невидимо. Неужто так атрофировалась наша «любовь к отеческим гробам»? Или уповать на диалектику: когда дела доходят до худшего они невольно поворачиваются к лучшему? Вам не кажется. Георгий Николаевич, что до худшего мы уже дошли? Где поворот?
Но — я отвлекся. Вот что запомнила Марфа Михайловна. Ада почувствовала сильное недомогание, и бабушка дала в Москву телеграмму (зашифрованную, так было условлено из-за изверга Васьки). Мать приехала в тот же день под вечер, наняла такси и увезла дочь в роддом. Вернулись они обе наутро с известием о смерти. Ада была в очень тяжелом состоянии, слегла и бредила, молоко у нее пропало. Оставлять ее одну было нельзя, поэтому старушки дежурили у постели (интересно, что визитов доктора Марфа Михайловна не запомнила). Мать быстро управилась с похоронами, Екатерина Николаевна просила показать могилку, и та обещалась, но, поскольку бабушка едва таскала ноги, договорились, что пойдут на кладбище, когда невестка приедет в Орел устанавливать младенцу памятник. Но этому не суждено было сбыться.
Через несколько дней после отъезда московских Захарьиных (на прощанье Ада заявила, что ноги ее больше в Орле не будет) Екатерина Николаевна скончалась от астмы и, по хлопотам соседки, нашла успокоение возле старинного склепа. Невестка приезжала ее хоронить и еще раз — продать наследственную половину дома. Больше никого из них Марфа Михайловна не видела и никогда о них не слышала.
Вот все, уважаемый Георгий Николаевич, что мне удалось узнать. Думается, памятник умершему ребенку так и не был установлен, иначе я бы его сегодня нашел (впрочем, неизвестно, под чьей фамилией похоронена девочка, похоронена ли она вообще и если да — то не в семейной ли усыпальнице?). Грустью и тленом веет от этой истории, но пока что ничего криминального я в ней не вижу. Однако что-то нехорошее чувствую, недосказанность, странную поспешность, горячечность и ложь.
Если жизнь сложится так, что придется потревожить прах мертвых (ведь мертвые продолжают тревожить живых), так и быть, я Вам помогу. И все-таки лучше сначала исчерпать все пути и средства на земной поверхности. Вы не находите? Итак, жду от Вас ответного письма. Дай Вам бог успеха.
Петр Васильевич Пушечников».
«Уважаемый Петр Васильевич!
Ваши изыскания удачливы и ценны, умозаключения проницательны. Особенно вот это высказывание: о печальном событии, которое развязало все и всех, а может быть, наоборот, — связало и отозвалось через много лет. Прекрасно понимаю, что у нас легче вскрыть склеп, чем навести нужные справки, — и все же большая просьба. Постарайтесь, пожалуйста, узнать в роддоме (или в месте, где располагается его архив) следующие сведения. Находилась ли там в начале июня 1965 года Ада Алексеевна Захарьина? Действительно родила она ребенка и ребенок этот умер? А если остался жив — то какова его дальнейшая судьба, то есть отражение ее в документах?
Если моя просьба окажется слишком затруднительной, приеду по первому Вашему зову. Пока же привязан к Мыльному переулку, где, вероятно, проживает убийца и происходят события странные.
Заранее благодарен. Всего Вам доброго.
Егор Елизаров».
Он вышел из дома опустить письмо в почтовый ящик на углу, наискосок от дома номер семь. В гаснущем свете июньской зари провизжал пустой багряно-красный трамвай. Электрический визг полоснул по сердцу. Поздно. Егор постоял на углу — все мерещился троицкий склеп в зелени — и медленно двинулся к подъезду.
Выходя с письмом, он включил электричество — выключатель внизу, в тесном тамбуре между уличной и внутренней дверьми, — сейчас на лестнице было темно. Значит, кто-то из соседей успел навести экономию. В глубокой тьме Егор начал подниматься — и вдруг остановился. Возникло ощущение чьего-то невидимого, неслышимого присутствия (как у Антона там, среди мертвых, мелькнула мысль), что-то мягкое, летучее коснулось ноги, он спросил хрипло: «Кто тут?» Молчание. «Кто тут?» В ответ — крик, исступленный, нечленораздельный, гибельным гулом пронзивший парадные покои, старый особняк, испуганную душу.
Он так и остался стоять столбом посреди лестницы. Здешний, земной шум — скрип двери, смутные голоса, шаги — заполнил пространство. Вспыхнул свет. Действующие лица застыли на ступеньках, на истертых плитах, словно застигнутые врасплох. В тамбуре возле выключателя — Серафима Ивановна, Алена в розовой пижаме у начала лестницы, Катерина (и ночью в трауре — помни о смерти) на своем пороге. Эксцентрическая пара: циркачка в джинсах — ближе всех к Егору, за ней замер клоун, сощурив острые глазки, руки в складках шаровар. Повыше: невозмутимый Герман Петрович в черном домашнем бархате и небрежно-элегантный Рома. А в нише между вторым и третьим этажами кружился на месте и нежно пел дюк Фердинанд.
— Кто кричал? — угрюмо спросил психиатр.
После паузы все заговорили бессвязно и разом — разноголосый звук, ничем не напоминающий давешний потусторонний крик.
— Кто? — повторил Егор, наконец встряхнувшись. — Кто выключил свет?.. Что же вы молчите? Я только что выходил, включил… потом темно. И кто-то пролетел, коснулся… — Взгляд упал на свирепого кота психиатра, продолжающего уютно урчать. — Может, дюк Фердинанд…
— Стало быть, это мой кот кричал?
— Герман Петрович, — сказала Серафима Ивановна, — творится что-то странное.
— Не могу не согласиться. С тех пор как этот молодой человек вообразил себя сыщиком, жизнь стала невыносима.
— И чертовски разнообразна, — подхватил Морг. — Разве вы не слыхали последней новости? Убийца-то не Антон, а я.
Катерина мгновенно исчезла, громко хлопнув дверью.
— Слушайте, вы, оба! — Егор перевел взгляд с клоуна на Германа Петровича. — Против моей воли я был втянут в тайну.
— Кем втянуты? — холодно поинтересовался Герман Петрович.
— Двадцать шестого мая кто-то принес на могилу Сони ее алую ленту и перевязал мой прошлогодний букет.
— Не может быть! — крикнула Алена, клоун ухватился за перила, словно боясь упасть, его жена озиралась с жадным любопытством.
— Покажите ленту, — сказал смертельно побледневший Неручев.
— Ее у меня украли.
— Да ну? Я предупреждал, что вы плохо кончите.
— Рома, скажи!
— Я видел ленту у него в столе.
— Кто сейчас кричал в парадном? — прошептал психиатр.
— Вы тоже улавливаете связь между… начал Егор напряженно, как вдруг Марина заявила:
— Мне страшно, — определив тем самым всеобщий настрой: страх иррациональный, бессознательный, который иногда всплывает во сне. В жидком свете просматривался тамбур, лестница, ниши без фонарей и статуй. Никого — кроме семерых свидетелей.
Психиатр заговорил властно:
— Вы скрыли от меня ленту на кладбище.
— Я боялся, нас там кто-то слышит или видит, а потом…
— Вы смеете подозревать меня?
— Герман Петрович. — вмешалась Серафима Ивановна, — успокойтесь.
— Я абсолютна спокоен.
— Давайте отложим на завтра.
— Нет! Карты на стол.
— Так кто убийца-то? — пробормотал Морг. — Я или Герман?
— Замолчи! — воскликнула его жена, а Неручев заключил, барственно растягивая слова:
— Кого происходящее интересует и касается, прошу подняться ко мне.
И все без исключения медленно пошли наверх, причем очнувшийся от непривычного умиления дюк Фердинанд сопровождал это шествие поистине змеиным шипением.
В прихожей под венецианским фонарем — радужные блики играют на створках трельяжа — Герман Петрович сказал:
— У меня в кабинете уже постель разобрана. Прошу сюда.
Приглашенные прошли в комнату Ады и расселись за овальным столом драгоценного красного дерева, на котором не благоухали ландыши, персидская сирень и гиацинты, не сверкал хрусталь и не притягивали глаз роковые карточные фигурки и пятна.
Герман Петрович открыл балконную дверь (она была открыта в день убийства, и кто-то, может быть, воспользовался… «Не суетись!» — приказал себе Егор, едва сдерживая лихорадку следствия), в комнату вошла ночная, утомленная гигантским городом свежесть.
— Можете курить, — хозяин положил на полированную столешницу, отражавшую искаженные лица, пачку «Золотого руна» и спички, поставил пепельницу, закурил, сел напротив Егора и произнес: — Вечером накануне убийства мы сидели за этим столом. Зазвонил телефон, женский голос сказал злорадно: «Надо мною ангел смеется, догадалась?»
— Ангел! — Морг вскочил и опять сел. — Про него Соня крикнула перед смертью в окно, я отлично помню! Егор, ты же был во дворе!
— Мы все помним. Герман Петрович, после звонка вы сказали, что это ваша пациентка.
— Я неудачно пошутил.
— Вы набросали в разговоре со мной ее психологический портрет: мстительная, экзальтированная, надломленная, верящая в чудеса и проклятия.
— Принести на кладбище ленту мертвой… — произнес Неручев ледяным тоном. — Психоз, навязчивая идея… или предельный цинизм, вандализм — тоже, знаете, отклонение не из легких.
— Может быть третье объяснение: мне подан знак. Именно через год, когда навещают умерших.
— Кем подан? — тихонько вопросил Морг. — Умершей?
— Или вы ведете себя пристойно — или я вас удаляю, — заявил хозяин с неожиданно прорвавшейся холодной яростью.
Клоун ответствовал добродушно, но глазки блеснули ответным чувством:
— Я рыжий и нужный, я подозреваемый, черт возьми!
— Вась, угомонись, — вставила Серафима Ивановна. — Егор, ты догадался, что означает этот знак?
— Кажется, догадался. Она хочет призвать убийцу к покаянию и смерти.
— Убийцу? — переспросил психиатр. — Кого именно?
— Меня.
Присутствующие остолбенели, клоун пробормотал, упорно поддерживая репутацию весельчака:
— Ага, третий проклюнулся. «Что ж, Ада, тогда мне придется тебя убить», — хороша шуточка! Надеюсь, ты этому призраку веришь и оставляешь нас с доктором в покое?
— Я ручаюсь за каждый свой шаг, но… Тогда на дежурстве я почти не спал и, когда вернулся домой, провалился в сон, как в яму… почти до одиннадцати. Вот этот двухчасовой провал…
— Егор! — воззвал Рома. — Мы ж вместе бежали на Сонин крик, у нас взаимное алиби!
— Да, мы бежали, а кто-то стоял в той нише.
Циркачка вздрогнула, заявив:
— Опять начинается этот бред. Я сегодня не засну.
— Да поймите же! — закричал Егор. — Меня преследует женщина, которая звонила на помолвке по телефону и недавно ночью… дала понять, что я убийца. Она была на месте преступления. В нише кто-то прятался… не кот. Я уловил движение на уровне человеческих рук, плеч, я вспомнил… Дальше: как к ней попала лента с головы убитой? И наконец — показания Антона: невидимое, неслышимое присутствие. И уточнение: где-то в глубине мелькнуло, пролетело что-то голубое. Сейчас в прихожей…
— Этого нет в очерке, — испуганно перебил Рома (настоящая «трепетная лань», самозабвенно поддающаяся чужим эмоциям). — Где ты разговаривал с Антоном?
— Эта деталь не попала в публикацию из-за своей мистической окраски. Мне о ней сообщил сам автор Евгений Гросс. Кстати, не мне первому: кто-то из вас («…из свидетелей, выступавших на суде», — подтвердил Гросс) приходил к нему и расспрашивал.
— Кто? — выпалил Рома.
— Он не выдал. — Егор оглядел взбудораженные лица; их отражения в столешнице кривлялись и дергались. — Предлагаю признаться и объясниться, чтоб, по крайней мере, покончить с этим обстоятельством.
Внезапная, все углубляющаяся пауза.
— Молчите?.. Вы понимаете, что означает это молчание?.. Среди нас — убийца.
Напряжение взорвалось междометиями, он спросил:
— Герман Петрович, можно мне пройти на кухню?
— А, идите куда хотите.
Егор прошел через прихожую в кухню, включил свет, отворил дверь на черный ход. Антон вошел, увидел убитую Аду, бросился к ней, по дороге задел лежавший на столе топор… К сожалению, в чистом виде эксперимент провести не удастся из-за другого освещения. А дело именно в освещении. Допустим, утренний луч падает из комнаты Ады в прихожую, отражается, играет в зеркале, еще более оттеняя, подчеркивая черноту пространства за ним. Егор встал у стола, слегка нагнулся (вот он будто вытирает окровавленный, с прилипшими к обуху волосами топор) и крикнул: «Марина!» Легкий шум, в прихожей мелькнуло что-то голубое, циркачка появилась на пороге.
— В чем дело?
Вы помогли мне проверить одно умозаключение. Пойдемте. — Их встретили нетерпеливые взгляды. Он сел и сказал: — В основе преступления лежит не бред, а реальность, голубой ангел — тоже реальность. Отражение отражений. Кто-то, стоявший во тьме возле двери, отразился на миг в створке трельяжа. Она, в свою очередь, отражается в створке напротив, видной из кухни. Антоша почувствовал кого-то. В голубой одежде.
— Я была в цирке. — Отмахнулась Марина.
Алена заявила:
— А я, слава Богу, во дворе. — Помолчала и добавила: — Катерина теперь всегда в черном, а ведь прошлым летом она носила голубое платье в белый горошек. Серафима Ивановна, вы не помните, кажется, в том платье она пришла с рынка?
— Не трогайте вы ее.
— Од-на-ко! — протянул Морг. — Она могла найти ленточку у себя в квартире, куда муж принес черный крест.
Егор перебил:
— Вот последние слова Антона журналисту: «Передайте Катерине, что я умираю за кого-то другого».
Должно быть, каждый из сидящих за столом ощутил вдруг близость бездны (расхожий оборот: все т а м будем) — ощущение невыносимое, от которого каждый защитился как мог: задвигались, заговорили, Серафима Ивановна перекрестилась, психиатр встал и подошел к балконному проему. Морг крикнул агрессивно:
— Он украл крест! На топоре его кровавый отпечаток! Рубашка в крови!
А Рома вцепился сильными пальцами в руки Егора (они сидели рядом) и застонал, задыхаясь:
— Друг мой! Антоша! Мой друг! Везде кровь, все в крови!
Алена подлетела к жениху, прижала его голову к груди, поглаживая густые каштановые волосы, приговаривая, как ребенку: «Ну, Ромочка, ну, успокойся, ты же не виноват… вспомни Серебряный бор…» Егор пытался освободиться от цепких пальцев, психиатр резко обернулся, уставившись на журналиста с профессиональным интересом.
— Спо-кой-но! — Ледяные глаза расширились, негромкий голос, но какая в нем сила! — Всем расслабиться! Всем хорошо… очень хорошо… хорошо… У вас, Роман, на редкость сильная внушаемость.
Цепкие пальцы разжались, Рома сказал слабеющим голосом:
— Когда он замывал одежду, а я тащил его наверх…
— Спокойно, Роман. Вы испытываете комплекс вины…
— Вины? Я не виноват!
— Разумеется. Комплекс — в данном случае иллюзию. Мы, здесь собравшиеся, невольно способствовали его гибели. И потому испытываем это чувство…
— А я нет! — вставил клоун.
— …в большей или меньшей степени, конечно. Вы — в большей. Вам такие стрессы не под силу.
— А вам под силу, Герман Петрович? — Егор внимательно наблюдал за статной фигурой в бархате в ночном проеме.
— Опять, Георгий?
— Не обижайтесь, ради Бога. Мне нужна истина. Вы могли скрыться с места преступления через соседский открытый балкон и квартиру Ромы.
— Это — истина? — Психиатр едко улыбнулся. — Что еще?
— Что вас связывает с Мариной?
— Это профессиональная тайна.
— Что-что? — С клоуна вмиг спала дурацкая маска. — Какая тайна?
— Однако, Егор, вы не джентльмен, — бросила Марина безразлично, а муж пообещал:
— С тобой мы дома разберемся. — И обратился к Егору: — Ты хочешь связать ее с убийцей?
— То есть со мной, — уточнил Герман Петрович задумчиво. — Георгий, назовите мотив преступления.
Егор молчал: он не мог выговорить слово «инцест».
— Этот мотив начался двадцать лет назад, — заявил Морг, — с убийства моего ребенка.
Алена ахнула, Серафима Ивановна заметила укоризненно:
— Вась, ты хоть выбирай выражения.
— Не желаю! Как же я не сообразил? Балконы были открыты, помню, я в комнаты заглядывал. Он смылся, пока мы обличали несчастного Антошу. Все ясно!
— Не все, — перебил Егор. — Как попал в плащ Антона черный крест?
— Ну, с пола подобрал. Какое это имеет значение!
— Очень большое. Или мы верим Антону до конца — или не верим вовсе. Почему именно в этом, безобидном в сравнении с убийством, пункте он солгал? Так вот: если он не лгал, крест ему подсунули.
— Кто?
— Подумай.
— Ты на что намекаешь?
— На фокус с крестом вот в этой комнате, помнишь? А наутро ты столкнулся с Антошей на лестнице.
— Ты… ты… ты… — забормотал Морг, но Егор продолжал, не слушая:
— Марина вроде была в цирке. А ты что делал до того, как спуститься к своим голубям?
— Чай пил.
— Миру провалиться, а мне чай пить, — Егор усмехнулся, — так, кажется, классик выразился? Раскольникова среди нас нет — согласен с Гроссом. Антон умер за кого-то другого. За кого, а? — Егор вгляделся в застывшие лица и спросил с трудом, шепотом: — С кем из вас моя невеста провела свою последнюю ночь? Ну?.. Она лежала в углу у стенки… — Он говорил, как во сне, чувствуя, что где-то рядом истина, что невыносимые, жгучие детали и подробности вот-вот сложатся в картину потрясающую… — Запах лаванды, — сказал он. — Вы не чувствовали тогда в прихожей сильного запаха…
— Помню! — перебила Алена испуганно. — Ее духи. Французские.
— Да при чем тут… — начал психиатр с откровенным ужасом.
— Сейчас. Не могу сосредоточиться, — пожаловался Егор. — Сейчас… — реальность вернулась к нему, но пропало чувство озарения. — Нет, не могу. Словно подошел к какому-то пределу и испугался. Попробуем разобраться, ладно? Соня душилась чуть-чуть, слегка — так, скорее намек на аромат. А когда я сидел возле мертвой, она прямо благоухала лавандой.
После жутковатой паузы циркачка заметила глухо:
— Значит, перед этим надушилась.
— Перед чем? Она появилась в разгар такой сцены.
— Почему вы так уверены? — заговорил Герман Петрович медленно. — Она могла прийти чуть раньше. Или когда Ада была с этим «другим» на кухне. Соня могла пройти сразу к себе и надушиться.
— Герман Петрович, тетрадка по истории лежала в крови возле убитой. И ключ. Когда Соня кричала в окно, то всплеснула руками, я помню ее руки… — он вдруг сбился, — ее руки…
— Ну, руки! — Психиатр потерял обычную невозмутимость. — Дальше что?
— Все произошло внезапно. Мне представляется: она вошла, увидела или услышала что-то, выронила тетрадь с ключом, побежала на кухню, крикнула в окно, назад в прихожую, где он настиг ее. Тетрадь пропиталась кровью. Нет, ей было не до лаванды.
— Но ведь это нонсенс! — крикнул Неручев. — Кто-то вылил на мертвую духи, снял ленту… кто собрал нас сегодня в парадном?
— Не знаю. Ничего не знаю. Кстати, флакон с духами никто, кроме Сони, не трогал: на стекле ее отпечатки пальцев — и больше никаких следов.
Егор взял сигарету из пачки, закурил, отметив, как дрожат руки. Откинул голову на спинку стула, стараясь успокоиться. На белоснежном после прошлогоднего ремонта потолке в сплетении лепных гирлянд недвижно летел младенец с устремленными ввысь крыльями.
— Глядите, над нами ангел. Только он не смеется.
ЧАСТЬ III
«Впервые за этот год она приснилась мне живая. Она что-то говорила вспыльчиво, блестя черными глазами, вдруг рассмеялась — и как только сердце не разорвалось от восторга, от нежности и жалости? Проснулся в слезах, однако надо было зачем-то жить.
После сна и связанного с ним потрясения размышлять, с кем Соня спала перед смертью, казалось противоестественным. И все же: она могла уйти с отцом (если он ждал ее в полночном переплетении переулочков), подняться к Роману (да, он любит искушенных женщин, но может быть, он ее сделал искушенной?), встретиться в подъезде или во дворе с Моргом… нет, с Моргом, человеком семейным, не так-то просто… вот, кстати, мотив: циркачка застает мужа с соседской девочкой… Господи, как все это пошло и убого, как не соответствует бессонному свету в душе».
Он встал, натянул джинсы и футболку, бесцельно прошелся по комнатам, вышел в парадное. Свет не уходил, он сконцентрировался в золотом луче, падающем из восьмигранного оконца на площадку между вторым и третьим этажами, где она стояла (в момент убийства единственное в небе позлащенное облако затмило солнце, тьма залила парадное и поглотила кого-то в нише). Итак, давным-давно она стояла, облокотясь о перила, и бессмертные детали в золотом луче ослепили его. Удивительно, но он помнил их диалог наизусть, каждое слово, движение лица и рук. Но не вспоминал, отгонял, спасаясь от боли. Как вдруг это пришло — своевольно и неотвратимо. «Я люблю тебя». — «И я. Только я по-настоящему, давно, с детства». — «Сонечка! Не придумывай». — «Я никогда не придумываю! Вот тебе доказательство: я пошла на твой истфак». — «Ну ладно, ладно, пусть так, допустим на минутку…» — «Почему на минутку? Я принимаю твое предложение». — «Какое предложение?» — «Уже забыл?» — «Все на свете позабыл…» В нише зашипел дюк Фердинанд, она взяла его на руки и засмеялась.
Господи, почему же так страшно? Но он уже знал почему, однако сопротивлялся этому знанию как мог и даже себе не посмел бы признаться. Внезапно обессилев в неравной борьбе, сел на ступеньку, прислонился к перилам.
Он не помнил, сколько просидел во тьме, пронзенной одиноким лучом. Человек разумный не может долго находиться в таком состоянии (это удел душевнобольных). Разум ищет лазейки, трещинки, щели в стене страха — и обычно находит. Вот вспомнилось, как они ребятишками играли здесь в шпионы и сыщики (существование в доме двух лестниц, парадной и кухонной, создавало неоценимые удобства для игры). «Должно быть, и для убийцы, — всплыла трезвая, отчетливая мысль. — Пока я тут впадаю в детство, близко, рядом бродит зло, и можно догадаться, кого выберут в этот раз!»
Егор вскочил, помчался по лестнице вверх, всматриваясь в потаенные уголки детства… вниз, в тамбур, в переулок, в тоннель, во двор, опять на улицу… наконец взял себя в руки; в душе, вопреки всему, восстановился давешний утренний свет. Не торопясь, оглядываясь, вглядываясь в лица, обошел близлежащие улицы и переулки — никогда никого он так страстно не искал! — прошелся по Тверскому, где в зеленых сумерках однажды ему померещилась слежка, миновал свой маленький дворец правосудия, вернулся в Мыльный и отправился на кладбище.
Каменная кладка сразу отрезала звон, гам, суету и жар живых. В зыбкой лиственной полупрохладе аллея, поворот, еще поворот, оградка, лавочка, никаких безумных знаков и намеков, черные глаза глядят с веселым любопытством. «Неужели я вправду отгадал твою тайну? Не отгадал, нет, всего лишь прикоснулся, вошел в твой минувший мир и вспомнил». Послышалась далекая, душераздирающая музыка, ближе, громче, музыканты фальшивили кто во что горазд, раздирая души, уши: красный гроб плыл над фигурами в черном. («Я ведь совсем не помню похороны; мамины — свежо и отчетливо; Сонины — клочки и обрывки»). Морг сейчас сказал бы с якобы шутливой улыбочкой: встреча с покойником — к счастью. А безутешный вдовец: спокойно, всем хорошо, очень хорошо…). Чтобы узнать тайны мертвых, надо заниматься живыми. Егор легко поднялся и ушел не оглянувшись.
Он соскочил с трамвайной подножки возле метро, выстоял очередь в Мосгорсправку, получил бумажку с адресом, нырнул под землю, вынырнул на другом конце Москвы, сориентировался… Каменная ограда, раза в два выше кладбищенской, ворота, турникет, проходная, вывеска «Психоневрологическая больница». Самого дома почти не видать из-за безнадежно-желтой ограды: от сумасшедших мы отгораживаемся еще плотнее, чем от мертвых. В стеклянной будке пожилой вахтер читал газету, за турникетом покуривали два амбала, санитара, по двору медленно прошла женщина в белом. Уилки Коллинз. «Женщина в белом». Некоторым женщинам удивительно идет больничный наряд милосердия. Где-то в этих желтых недрах беременная Ада — непорочный ангел в белых одеждах — встретилась со своим Германом. Банальная история, окончившаяся совсем не банально (да ведь конца нет — вот в чем дело!). Вахтер оторвался от газеты, амбалы от беседы, все трое уставились на Егора, тот медленно двинулся вдоль стены: прочная, надежная крепость, в которой, по выражению Серафимы Ивановны, наш доктор царь и бог.
Она вязала свое бесконечное белое кружево в уютном, устоявшемся мирке игр и забав, куда хотелось бы вернуться навсегда, но он уже повидал и ощутил миры иные. Сел рядом на лавку и сказал:
— Здравствуйте, Серафима Ивановна.
— Что с тобой?
— А что?
— Какой-то ты… не такой.
— Серафима Ивановна, у меня такое ощущение, что надо спешить.
— Куда?
Он неожиданно рассмеялся:
— Снимать покровы с тайн.
— Ты знаешь, кто убил Соню?
— Понятия не имею. Разве что похитить Гросса? Перед пытками он не устоит.
— Да что с тобой?
— Молчу. — И тут же заговорил: — Вы мне не поверите, я сам себе не верю. У меня ничего нет — ни мотива, ни следов, ни улик. На чем ловить? На новом убийстве? — он наконец выговорил вслух мучившую его мысль. — Вот пока мы тут с вами сидим… Где Морг?
— Успокойся, вернулся с репетиции, сейчас к голубям выйдет. Циркачка в цирке пока. Герман Петрович в клинике, с утра отбыл, Рома сидит у себя, статью печатает. Катерина тоже печатает, на моей машинке учится. Алена в своем универмаге. Доволен?
— Ну, Серафима Ивановна, вы прямо «красный следопыт»!
— Приходится… на старости лет. — По лицу ее прошла тень. — Не могу забыть ночной крик. А ты еще все козыри перед ними выложил.
— Карты на стол! — подтвердил Егор и словно наяву увидел на полированной столешнице разноцветные картонки… точнее, одну из них. Ада нагадала!
— Всех сумел напугать, и меня в том числе, — продолжала Серафима Ивановна. — А улик действительно нет. Как Рома-то кричал: везде кровь, все в крови. Убийца был залит кровью.
— Морг и был залит, когда нам открыл.
— А до этого, как к голубям спустился? Сам говорил: ни единого пятнышка. А Герман Петрович на бульвар отправился с пенсионером общаться. Что-то тут не то.
— И тот и другой успели бы переодеться. — Егор помолчал, вдруг сказал машинально: — И камень, под которым окровавленная одежда лежит… кому это я говорил?.. Ах да, Гроссу. Вот великолепная улика, а?
— Возможно, где-то и лежит, — согласилась Серафима Ивановна. — Сжигать в наших условиях слишком хлопотно.
С черного хода появился Морг и направился к голубятне.
— На ловца и зверь бежит.
— Бестолковый я ловец… и, как назло, сегодня дежурю! Ладно, попытаюсь отвести опасность. Особняк оставляю на вас, Серафима Ивановна.
Дверца клетки распахнулась, нетерпеливая воркотня и хлопанье крыльев вырвались на свободу. Морг гикнул, свистнул, уселся на перекладину лестницы и запрокинул круглую лысую голову в небесные сферы с редкими, безобидными еще тучками. Самое время для задушевного разговора: в голубином гоне нрав клоуна несколько размягчается и можно вообразить — при наличии воображения, — что перед тобой добродушнейший шут.
— Здравствуй, Морг.
— Вот ты врешь, — начал Морг сварливо вместо приветствия, — будто я засунул Антоше мешочек с крестом. Ты ведь на это ночью намекал?
— На это.
— Я — профессионал высокого класса, будьте уверены! Но ты врешь.
— Докажи.
— Логика, батенька ты мой недоразвитый. Ло-ги-ка. Рассмотрим проблему с нравственной точки зрения. Если, по твоим словам, верить Антоше до конца — почему же он не признался, что нашел крест в кармане собственных брюк и перепрятал в плащ, а?
— Почему? — Вопрос Морга ударил в самую точку, как в солнечное сплетение.
— Егор опустился на нижнюю перекладину лесенки; клоун нависал над ним, затмив полнеба с птицами.
— Ну, побоялся, что в такую фантастику никто не поверит, — пробормотал Егор, сам себе не веря.
— Ага, ты сам нашел точное словцо: фантастика. И вообще: как можно верить до конца игроку?
— Страсть к игре, случалось, мучила и людей великих.
— И они крали казенные деньги.
— Он сказал: я опустился. Гросс пишет, помнишь? Перед смертью он…
— Ладно, нравственную проблему пока опустим. Далее. Ты забыл, что обнаруженный в плаще мешочек был запачкан кровью. Когда я спустился к голубям, кто-нибудь видел на мне хоть пятнышко? На руках или на одежде?
Да, клоуна голыми руками не возьмешь, он как будто подслушал их разговор с Серафимой Ивановной: и камень, под которым окровавленная одежда лежит.
— Морг, а ведь ты теперь ходишь в других шароварах.
— Нет, ты не увиливай: видел кровь?
— Не видел. Я как-то не обращал внимания… у тебя были шаровары в голубую клетку, да? А эти зеленые.
— Я те выбросил. Старье.
— И майку выбросил?
— И майку, — ответил клоун с усмешечкой. — И парусиновые туфли. Все пропиталось кровью, я ведь в лужу крови упал, забыл?
— Куда выбросил?
— В землю закопал и камнем придавил, чтоб скрыть следы, которые вы все видели! — огрызнулся Морг. — В мусорку — куда ж еще? Вон, полюбуйся!
По двору неторопливым шагом шел психиатр в бархатном пиджаке с пластмассовым ведром (что-то он сегодня рано покинул свой сумасшедший дом… катастрофа надвигается, дальновидные действующие лица концентрируются в Мыльном переулке, соблюдая античный принцип единства места, времени и действия, а я должен идти на дежурство), поклонился, сказал: «Георгий, зайдите ко мне, пожалуйста, когда освободитесь», — скрылся в тоннеле, где стоит бак для мусора, вновь возник и удалился в подъезд.
— Зачем он тебя зовет?
— Не знаю.
Морг размышлял, наморщив сократовский лоб.
— Будь с ним поосторожнее, жутковатый тип. Я б скорее скончался, чем доверился такому врачу. Ладно, черт с ним. Так я тебя убедил?
— В чем?
— В своей непричастности.
— То есть в причастности Антона? — уточнил Егор.
— А ты вдумайся в его прощальную фразу: «Передайте Катерине, что я умираю за кого-то другого». За кого, а?
— Ну?
— За нее.
— Морг, ты ведь не в цирке.
— Да погоди ты! Мы загипнотизированы образом вдовы в черном — мементо мори, так сказать, — а в тот день она была в голубом. Алиби у нее, в сущности, нет: какое может быть алиби на базаре? Все несообразности в поведении и показаниях Антоши объясняются тем, что он покрывал жену. Именно она отражалась в зеркале в прихожей, пряталась на лестнице, а теперь…
— Ерунда! Как она могла поместиться в нишу, она крупная, высокая…
— Женщина все может, женишься — узнаешь. Съежилась, скукожилась… не в этом суть. Главное, она до сих пор не в себе, спроси у Серафимы Ивановны, спроси! Помешалась она еще тогда, на месте преступления… лента, духи (кстати, мертвая, благоухающая лавандой, — сильный образ) — так вот, женский антураж, женский почерк — разве не ясно? Ты ее видел в тот день, как на могиле ленту нашел?
— Да, она ко мне приходила.
— До или после кладбища?
— До.
— Ну, одно к одному! И что сказала?
— «Будьте вы все прокляты!»
Клоун засипел Егору прямо в ухо:
— После этого пассажа в нервном порыве она едет на кладбище, перевязывает твой букет лентой… Ты согласен, что на такие штучки способна только ненормальная?
— Не смей называть ее ненормальной! — сорвался Егор.
— Тихо, тихо, голубь, видишь, окно у Ворожейкиных открыто? После могилы она звонит тебе и намекает, что ты убийца. Может, даже искренне, поскольку — клоун покрутил пальцем у виска — все смешалось в доме Облонских. Все, Егор, прикрывай лавочку: не в милицию ж ее сдавать? Действовали супруги в сговоре или так уж совпало — не столь важно. Они между собой разберутся на том свете, адскими угольками поделятся. — Морг засмеялся злорадно.
Егор внимательно вглядывался в бегающие глазки. Спросил тихо:
— Так кто приходил к Евгению Гроссу?
— Это я могу сказать тебе точно. — Клоун выдержал эффектную паузу: — Герман.
— И зачем бы его туда понесло?
— Егор, у тебя неверный подход к этому моменту. Я сам сегодня ночью, когда мы под ангелом Ады сидели, тоже на него подумал. Он и приходил к журналисту, но не в качестве убийцы, а как психиатр. Если можно так выразиться, с научной точки зрения приходил. Знаешь, что его интересует? Изменение психики в экстремальных условиях. Так-то вот.
— Почему ж он не признался?
— Неудобно. Он — холодное чудовище, однако понимает: неудобно наживаться на смерти близких. Даже во имя научного прогресса. Негуманно.
— Морг, ты до сих пор его ненавидишь.
— Да, я в своих чувствах постоянен, — подтвердил клоун без гримас и кривлянья.
И Егор ему поверил, и холодок — озноб — охватил душу, как в приближении к тому пределу, к которому лучше не приближаться, за которым — зло.
— Господи, неужели все эти годы…
— А почему я должен был прощать? — Он вдруг рассмеялся хрипло. — Да не боись, это не я. Я не способен.
— Ты убил голубя.
— Неправда! — воскликнул Морг, нимало не удивившись странному повороту в беседе под сияющим сквозь тучки небом, у старой голубятни.
— Ты повторял: надобно придушить голубчика. Я слышал, мы с ребятами тебе клетку помогали чистить.
— Мало ли что я повторяю. Я вообще зануда. Мне он мешал, не спорю. Я не пустил его в клетку, он тут прикорнул на перекладине. Наутро смотрю: мертвый.
— Хочешь на чью-нибудь кошку свалить?
— Не хочу. Целехонький, необглоданный, невзъерошенный, просто голова оторвана. Да ты же помнишь, ты же подошел, в школу бежал, а?
— Да, я запомнил.
— Он, дурак, доверчивый был, — пояснил Морг, — на руки шел. А ты в каком мире живешь, Егорушка? Про естественный отбор слыхал?
— Убийство — отбор противоестественный. — Егор встал. — Кто посмеет ее тронуть — конец, крышка!
— Кого? Катерину?
— Я предупреждаю.
— Да у меня и в мыслях нет, ты что!
— Я все знаю. Морг. Новое убийство не поможет, понял?
— Не понял!
— Ладно, пока. Пошел к психиатру.
— Ты вот что, — сказал Морг быстро, — никому не рассказывай про Марину с Германом, хорошо?
— А что я не должен про них рассказывать? Просвети.
— А, ты прекрасно понимаешь. Все это так не вовремя.
— Что «это»?
— Да лечение это. В общем, я на тебя надеюсь.
— За границу собрались, да? Швеция — идеал свободы… — Егор пошел к дому, обернулся, спросил: — Как ты споткнулся о мертвую, если она лежала в самом углу прихожей, не на дороге?
— Сам не знаю. После Ады и топора меня так шатало и крутило… И все равно я сразу про Антошу догадался!
— Хочешь разговор перевести? Догадливый ты парень. Морг. Может, ты догадался, и кто ночью в парадном кричал?
— Отстань от меня, — прошептал клоун. — Сам же слышал… так перед смертью кричат.
Узкая черная лестница с крутыми поворотами на каждой крошечной площадке, где стоят ведра с отбросами для каких-то мифических свиней (призыв жэка: пищевые отходы — на подъем сельского хозяйства!), едва освещалась слабым рассеянным светом. Как там Гросс писал? Черная лестница, зыбкая вонючая тьма… негромкий стук, протяжный скрип… приговор приведен в исполнение!
Егор поднялся по разноголосым ступенькам, прошел к себе на кухню, постоял, вспоминая… кажется, на второй полке шкафчика… отворил дверцу, достал старый охотничий нож в потертом кожаном футляре, вынул — блеснуло хладнокровным блеском лезвие, — провел пальцем по кромке. Годится. «Неужели я решусь? («Не можешь решиться?» — «На что решиться?» — «Умереть. Ведь Антон умер». — «Ради бога! Не вешайте трубку! Кто убил Соню?») Решусь!» Вложил нож в футляр, засунул потенциально опасную безделушку за ремень джинсов, в прихожей надел солдатскую куртку — память о студенческом стройотряде, — вышел в парадное, поднялся на третий этаж, остановился на площадке. За дверью слева, с медной дощечкой, ждет психиатр. Справа от Сорина доносится еле слышный стук пишущей машинки. Сведения Серафимы Ивановны необычайно точны. Он поколебался и позвонил.
В кабинете журналиста (а ведь я год у него не был, с того дня, как он рассказывал о братьях-славянофилах) обстановка, атмосфера на должном «закордонном» уровне. Егор сел в вертящееся кресло у секретера с раскрытым бюро: телефон на кнопках, машинка с вставленным листом бумаги, кофейник, кофе в фарфоровой чашечке, пачка «Пел-Мел», стеклянная зажигалка. Одним словом, наш специальный корреспондент творит.
— Не помешал?
— Жора! Совсем меня забросил, вот уже год… — Рома исчез за дверью, вернулся с чашкой, налил Егору кофе, придвинул сигареты, сам расположился на широкой тахте, на зеленом ковре, как на лужайке. — Год не был!
— Ром, ты ведь говорил, что знаешь Евгения Гросса?
— Почти нет. Как-то в домжуре в одной компании пиво пили.
— Ах, пиво. Ну, конечно. Как ты думаешь, если на него поднажать, он выдаст ужасную тайну?
— Какую? — Рома с удивлением посмотрел на приятеля. — Ты сегодня странный. Что-то случилось?
— Да.
— Что?
— Давай не будем… пока.
— Ну хоть намекни!
— Все равно мне никто не поверит.
— Но с чем это связано?
— Червонная любовь. Помнишь, на помолвке мне выпала эта карта?
— Ничего не понимаю!
— Так как насчет Гросса?
— Черт его знает! Давай я с ним поговорю? Точно! Возьму за жабры. В общем, располагай мною во всем.
— Созрел, значит?
— Все время думаю об Антоше, — признался журналист с сильным чувством. — Смертная казнь — подлость.
— Особенно когда умираешь за кого-то другого, — заметил Егор.
— Но ведь какие улики были!
— Улики, алиби — вещь относительная, пуля абсолютная. — Егор помолчал. — Горсть пыли в жестянке.
— Но ведь мы найдем убийцу, Егор? — спросил Рома доверчиво, как ребенок у взрослого; темно-карие глаза глядели умоляюще.
— Найдем, если он забудет про осторожность и нападет на нее.
— На кого?
— Помнишь крик в парадном?
Рома кивнул горестно, в наступившей паузе Москва отозвалась трамвайным скрежетом, детский солнечный зайчик влетел в полуоткрытую балконную дверь, заскользил по косяку, по обоям в золоченый цветочек, Егор рассеянно следил за веселым круженьем… выше, выше… грустный голос Ромы словно оборвал полет зайчика:
— А помнишь, как мы в парадном играли в сыщика?.. Кстати, Егор, ты всегда был сыщиком.
— Ну нет, мы чередовались.
— Ты был сыщиком, — упорствовал Рома, — Антоша преступником, а я жертвой. «Сдавайтесь, сэр, ваша игра проиграна!» Антошка удивлялся, на чем ты его поймал.
— И с его простодушием идти в ресторан! — Егор стукнул ладонью, так что пальцы обожгло, по откидной крышке бюро, подпрыгнули «Пел-Мел», зажигалка, расплескался кофе в чашечках. — Он должен был плохо кончить, но не так, не так!
— Если б можно было туда вернуться, — заявил журналист.
— Куда?
— В детство.
— Не выйдет. Все пойдет на снос. Ведь ты у нас спец по охране памятников?
— Да ну! В прошлом году статью заказали, а так я все больше по моральным проблемам. Обличаю.
— Все на снос, — повторил Егор. — И кружевные балкончики, и лестница с нишами, и ангелы… Ангел Ада. Звучит. А у Морга нимфа… смеется. Одинокая — сатир ее у меня. Наш особнячок переполнен потусторонними силами.
— Неужели после всего тебе хочется здесь жить? — спросил Рома с тоской. — Здесь мертвые и убийца. Условная кличка — Другой. — Он проницательно посмотрел на друга. Каждый из нас должен сыграть свою роль в твоей версии.
— Нет у меня никакой версии.
— Но роли ты уже распределил. И затрудняешься насчет меня. Я знаю, о чем ты думаешь: «С кем из вас моя невеста провела свою последнюю ночь?» Тут я чист, могу поклясться своей бессмертной душой, если она есть и если она, не приведи господь, бессмертна.
— Боишься бессмертия?
— А, пустяки, мне оно не грозит. Каждый получает по своей вере.
Рома говорил беззаботно и искренне — вечный Счастливчик. Егор заметил:
— Все-таки интересно: своей ли поездкой в Орел ты навел Аду на воспоминания?
— Кажется, нет. Хоть убей, не помню.
— Но с чего бы на помолвке дочери она стала вспоминать про склеп?
— Может, вспомнила себя невестой… на кладбище… — Рома задумался. — Задание я получил внезапно: коллега заболел. Заехал в Мыльный за зубной щеткой. Аду не видел — точно. Кстати, а как ты дошел до склепа?
— Классики помогли — Тургенев и Пушкин. Ада упомянула — зашифрованно.
— Я был там. И на «дворянском гнезде», и на Троицком, но никогда бы не связал… Знаешь, милый городок, но теперь из-за этого склепа вызывает ассоциации ужасные, как будто мимо загробной тайны прошел. Ну, вернулся, Аду, конечно, видел… вот мы курили, каждый на своем балконе… — Рома старательно вспоминал. — Говорил я или нет про командировку? Может, вскользь… А впрочем, какое это имеет значение?
— Меня интересует, вызваны ли воспоминания Ады внешним толчком — твоим путешествием, например, — или на то были более глубокие причины.
— Какие причины?
— Пока не знаю. Необходимы достоверные сведения о смерти одного ребенка.
— Смерть ребенка? — изумился Рома. — Какого ребенка?
— Не расспрашивай.
— Да что же это такое, Егор? В каком мире мы живем?
— В смертном. Здесь зло.
— Да, зло. — Рома вздрогнул, провел рукой по лицу, пожаловался: — После трупов у Неручевых, а особенно как я Антошу наверх, на смерть, тащил… у меня прям какие-то припадки, честное слово! Видал сегодня ночью? Дикое головокружение, будто в пропасть падаю.
— Ну, тебя спасает твоя сестра милосердия. «Вспомни Серебряный бор…»
— Она помогла мне пережить тот день. Мы встретились случайно… а может быть, нет? Может, не случайно именно в тот день… судьба!
— В день убийства?
— Ну да. Ты помнишь, как все было? Я работал, сигареты кончились, иду в киоск, смотрю, вы у голубятни. Алена говорит: поехали в Серебряный бор. Ты как-то сказал о Соне: это было всегда, но ты не осознавал. Похоже, у меня так же. Я не осознавал, но Серебряный бор где-то застрял в подсознании.
— И вы с ней поехали загорать?
— Какой там, к черту, загар! Что ты делал после того, как мертвых увезли на вскрытие?
— Смутно помню, как во сне. По улицам ходил, на бульваре сидел, какая-то дама вскрикнула: «Вы в крови!» Встал, пошел куда-то. Невозможно было домой вернуться.
— Именно невозможно. Необъяснимо, непостижимо. Может быть. Егор, ты и раскроешь загадку, ты сильная личность, не спорь, но я все равно не пойму никогда: как можно убить? То есть как это происходит: только что ты был одним — и вдруг становишься другим. Ты смог бы?
— Не знаю. — Он все время ощущал чужеродный предмет у левого бедра за ремнем брюк.
— Покуда не подопрет, никто, наверное, не знает, — согласился Рома. — И наш Серебряный бор — наш, Егор, вспомни! — зафиксировался в душе как последняя реальность, как надежда. Вот почему я говорю — судьба.
— Ада нагадала тебе ведьму.
Рома рассмеялся:
— Я ее прошу уйти из магазина, там есть шанс стать… Ну ладно. Я находился под впечатлением: неужели наш Антоша?.. И вообще я крови боюсь. Не замечал, куда еду. Вышел из троллейбуса на конечной, пошел бродить, кругом толпы, суббота… И тут со мной случилось странное происшествие. Я оказался вдруг на совершенно безлюдной тропке, и чей-то голос позвал: «Рома!» Ну, конец света! Я чуть не упал, голова закружилась, уселся на траву, смотрю: Алена идет в своем сарафане. «Боюсь», — говорит.
— Как она туда попала?
— Именно об этом я ее и спросил. За тобой, говорит, слежу. Ну, шутит.
— Шутит?
— Егор, ты ведь понимаешь, мы все были в шоке. Напряжение разряжалось потихоньку — у каждого по-разному. Они с Мариной…
— С Мариной? — перебил Егор. — Может, там и Морг с психиатром в кустах сидели?
— Я видел только Аленушку. Они, оказывается, за мной ехали, в следующем троллейбусе, ну, она меня разыскала. Девочка, нуждается в утешении. — Он улыбнулся мягко, нежно. — Мы друг друга утешили.
— Положим, Алена не такое уж чувствительное дитя… — Егор осекся: поосторожнее, речь идет о невесте друга, нельзя чрезмерно увлекаться ролью сыщика. — Ладно, поздравляю, будьте счастливы, а я пошел на дежурство.
— Еще рано, Егор.
— Мне надо к психиатру заглянуть.
— А потом ко мне, я провожу тебя, — Рома легко вскочил с зеленой лужайки. — По-моему, ты ночью бросил вызов нашим потусторонним силам.
— Ни в коем случае. — Егор пошел в прихожую, хозяин следом, они остановились на пороге. — Я должен быть один, иначе она может не подойти.
— Та, что звонила по телефону?
— Да.
— Может подойти другой.
— Пусть попробует.
— Но я боюсь за тебя. Мы ведь имеем дело с силой сверхъестественной. Сам же говорил о показаниях Антоши.
— На меня гипноз Германа Петровича не действует.
— А на меня действует.
— Ну, ты же отличаешься особой совестливостью. Все мучаешься, как Антошу наверх, на смерть, тащил?
— Мучаюсь.
— «Дворянское гнездо» и «Путешествие в Арзрум», — повторил психиатр задумчиво. — Надо перечитать. Узкая специализация — считается, чем уже, тем глубже, — приводит, в сущности, к невежеству. В чем с горечью сознаюсь. Знай я получше русскую классику, может, и сам бы докопался до Орла.
Они сидели в тех же кожаных креслах в зеленовато-золотистом сумраке тополей милейшего Мыльного переулка и пили (допивали наконец) французский коньяк. Дюк Фердинанд на кушетке то ли спал, то ли подслушивал.
— А когда-нибудь раньше Ада вспоминала свою родословную?
— Всего лишь раз, давно. После смерти Варвары Дмитриевны дочери остались деньги. «От нашего дворянского гнезда», — сказала Ада с иронией. Я поинтересовался, почем нынче гнезда. Семь тыщ? Экая дешевка! Тут и всплыло какое-то поместье, дворянский склеп… словом, прелестный женский вздор. Дворянка-цыганка. Так склеп и остался семейной шуткой. Как и фамильный черный крест.
— То есть она не захотела привести какие-то факты и доказательства?
— Не захотела. Наоборот: сама же все обратила в шутку. И как я теперь понимаю, у нее для этого были основания.
— А именно?
— Она там избавилась от ребенка. Когда вы мне сказали, что Ада скрывалась в Орле, я сразу понял: не из-за клоуна. История с клоуном вскоре стала известна, но про Орел мне не проговорились. И не аборт она поехала делать в такую даль. С этим и в Москве нет проблем, тем более если мать медик. Однако здесь они не смогли бы скрыть от меня беременность. Нашу свадьбу Варвара Дмитриевна планировала на сентябрь, а поженились мы двадцать пятого июня — очевидно, ребенок родился недоношенным. Господи, что за проклятье!
— Она с ума сходила, что вы от нее откажетесь, она сама говорила.
— Вам, что ли?
— Своей бабушке — Екатерине Николаевне Захарьиной.
— Георгий! Вы меня поражаете.
— Я ведь ездил в Орел, кое-что удалось выяснить. Ребенок вроде бы сразу умер.
— Вроде бы?
— Могилу не нашли.
— Младенца замуровали в склеп, — Герман Петрович пожал плечами. — Индийский фильм.
— Удивительно, Герман Петрович, — заметил Егор после паузы, — в первом нашем разговоре вы упомянули про индийский фильм, про сиротку, которая непременно окажется дочерью раджи или миллионера.
— Или клоуна… — Психиатр отпил коньяку. — В нашей действительности сироток миллионы, на всех миллионеров не хватит. В общем, я не вижу связи между склепом и убийством Ады.
— Да, непонятно. Орловская история как будто обычная, житейская, отражающая наш нравственный уровень. Точнее, всеобщую безнравственность.
— Всеобщую? — переспросил психиатр с отвращением. — Вы намекаете, что ложь повторяется?
— Я не имел в виду Соню! — воскликнул Егор, и даже только звук имени — Соня, бессонница, сон — обжег душу.
— Имеете. Аналогия напрашивается сама собой.
— Не аналогия, а… тончайшая связь событий и лиц. Надо спешить, а я могу только ждать, потому что не уверен в главном, потому что…
— В главном? — перебил Неручев. — В чем?
— Серафима Ивановна как-то сказала, что во всем этом мы не понимаем главного. И если я правильно понял его, оно настолько страшно и невероятно, что… Готовится еще одно убийство. Я не позволю — предупреждаю всех.
Ледяные глаза напротив блеснули острейшим прозрачнейшим блеском.
— Вы знаете, кто убийца?
— Знаю. Но это не столь уж важно.
— Это не столь… — Психиатр задохнулся, произнес раздельно и с сарказмом: — Что же тогда важно, позвольте узнать.
— Разве вы не знаете?
— Я?
— Вы, вы! — Егор с жадностью вглядывался в суховатое, отчужденное лицо. — Вспомните в мельчайших подробностях, как вам позвонил Морг, как вы шли в Мыльный, вспомните прихожую в крови, мертвое тело…
— Я уже говорил вам, — отчеканил Неручев, — что предпочел бы этот момент не вспоминать.
— Почему, Герман Петрович? То есть я понимаю — тяжело. Но не примешивается ли к боли другое ощущение? Ну скажите правду! Ощущение иррациональное…
— Я не боюсь мертвых, — перебил психиатр, — по роду ли профессии или по черствости сердца… выбирайте сами. Но своих, особенно Соню, боюсь — вот вам подсознательное ощущение. Предпочитаю его не анализировать.
— Давайте попробуем?
— Что вам нужно от меня? Я до сих пор не представляю даже, из-за чего их могли убить!
— «Пропадет крест — быть беде». Кто-то услышал и исполнил.
— Да говорю же вам: крест, склеп — все это обыгрывалось давным-давно в качестве семейной шутки.
— Шутка, Герман Петрович, обернулась трагической реальностью. Все шиворот-навыворот, как в метафоре: «ангел смеется». Вас не поражает двуликость Ады? Ее образ двоится. Ведьма — ангел.
— Ну, она стремилась так выглядеть.
— Она была такой. В ее сумасшедшей любви к вам в основе — обман, может быть, преступление. Страсть к деньгам уживается с щедростью. Вот она отдала какие-то вещи бедным…
— Вот уж это действительно легенда! — отрезал Неручев.
— Герман Петрович, ее легенды слишком часто подтверждаются. Помните, на помолвке Соня похвалилась, что мама…
— Я готов поверить даже в склеп, но только не в бедных!
— Господи боже мой! — пробормотал Егор. — Вы не верите в бедных?
— Не верю! Никакой сентиментальностью моя жена не страдала.
— Но ведь это значит… вы понимаете, что это может значить?.. — Головокружительная истина приближалась, голова кружилась, детали и события складывались в картину потрясающую…
— Что это значит?
— Нет, не скажу, — прошептал Егор суеверно. — Мне надо подумать… Герман Петрович, ведь Ада была необыкновенно аккуратна?
— Да, в ней как-то любопытно сочеталась широта натуры с женским вниманием к мелочам. Знаете, все на своих местах, ни пылинки, ни соринки. Ремонт ее угнетал.
— Ремонт ее угнетал, — повторил Егор машинально. — Она встала спозаранок и принялась наводить идеальный порядок. А вдруг она отдала вещи малярам? — спросил он с отчаянием, на что психиатр ответил наставительно:
— Эти бедняки зарабатывают больше меня и уж гораздо, гораздо больше, чем вы, Георгий.
— Но ведь у вас и частная практика, Герман Петрович. Надеюсь, это кое-что дает?
— Кое-что давало. Я потерял вкус к жизни, я старик. — Неручев усмехнулся едко. — Ада объявила мне об этом прямее и грубее.
— После того телефонного звонка? Когда вы поссорились?
— Да. Тогда она была несправедлива. Я любил ее… как юноша, как в первый день. Теперь — да, теперь мне все безразлично.
— Она вам нагадала пустоту.
— Работа спасает.
— Герман Петрович, вы излечиваете психические болезни?
— Психоз? Нет.
— Никогда? Ни одного случая?
— Ну, помогаем более или менее адаптироваться, снять напряжение, смягчить страх. Психозы, в отличие от невротических состояний, захватывают самые глубинные слои психики.
— А у нашей циркачки что?
— Ничего страшного. Тривиальное переутомление, муж отнюдь не подарок, работа нервная. Там идет борьба за поездку в Швецию. Понимаете, что это значит для советского гражданина? Клоун совсем извелся.
— А вы можете загипнотизировать человека, чтоб он оказался в полной вашей власти?
— Я ж все-таки не в цирке выступаю, молодой человек. Я вообще не занимаюсь гипнозом, а провожу обычный психоанализ. Проще говоря, путем наводящих вопросов помогаю выловить, восстановить забытый факт, подавленный инстинкт, которые мешают жить.
— Вы когда-нибудь проделывали такое с Адой?
— Никогда.
— Вы бы выловили Орел.
— Тут другой случай, тут не болезнь, вытесненная в подсознание, а сознательная ложь. Могу сказать только: если за девятнадцать лет она не проговорилась про Орел, значит, это ее действительно мучило. — Психиатр помолчал. — Расскажите, как найти склеп.
— Зачем вам?
— Хочу разобраться наконец, с кем я прожил лучшую свою жизнь.
— От вокзала надо проехать на Троицкое кладбище троллейбусом номер три. Я же шел от «дворянского гнезда», по ее маршруту. Калитка, звонница, церковь. Метрах в тридцати от могилы Ермолова ржавый навес на витых столбах, три ступеньки, плиты над усыпальницей, мраморный столбик с летящим ангелом.
— Он не смеется?
— Нет, троицкий ангел не смеется. Кругом вековые липы, тишина и прохлада… и очень странно, что именно это место выбрала Ада для прогулок.
— Как раз ничего странного, — возразил Неручев. — Кладбище соответствовало ее настроению: она мечтала о смерти своего ребенка.
— Что-то есть ненормальное в нашем мире, где женщин одолевают такие мечты, — сказал Егор.
В уголке кожаной кушетки зашевелился дюк Фердинанд — черный комок на черном фоне, — потянулся, сверкнув изумрудным взором, поднапрягся и, описав изящную дугу, опустился на колени к хозяину.
— Герман Петрович, в жестокости к животным есть что-то патологическое?
— Безусловно, если пациент получает от этого наслаждение. Это показательный фактор.
В прихожей раздался серебряный перезвон колокольцев, хозяин и гость поднялись с кресел, дюк Фердинанд шипанул, Егор спросил:
— В вашей клинике режим тюремный или можно время от времени сбегать?
— Исключено.
Японский замок солидно щелкнул; в кабинет Неручева, отразившись в створках трельяжа, проскользнула циркачка, не взглянув на Егора: он шагнул на площадку, начал спускаться по лестнице, затылком чувствуя упорный взгляд. Не поддамся! Резко обернулся: психиатр стоял на пороге, отбрасывая гигантскую, до самого тамбура, гротескную тень.
Он шел в сиреневом сумраке от сгущающихся туч — охотник с охотничьим ножом в каменном фантастическом лесу, где знакомы каждая тропка, проулок, тупичок и перекресток, каждый фонарь и подземный лабиринт, — напрасная тревога прожгла на Тверском, и чей-то смех заставил вздрогнуть возле «Художественного», прохожие тени обгоняли, отставали в шуме и шелесте шин, истертые ступени, проходная, каморка, прохладный диван, оконная стальная решетка. Он лег, закинув руки за голову, и принялся ждать.
Все ли я сделал, что мог? Отвел удар или нет? Как я могу рассуждать хладнокровно (хладнокровия не было и в помине, каждый нерв обнажен в напряженье), как я могу рассуждать, когда в Мыльном переулке наступает ночь, в отдаленье гремит последний трамвай, между дверями в тамбуре гаснет свет, и ниши для канувших в вечность статуй и фонарей темнее самой тьмы, и старые ступени слегка скрипят под осторожными шагами… наш особнячок переполнен потусторонними силами?
Егор не выдержал, схватил телефонную трубку, набрал номер.
— Серафима Ивановна, что там у нас новенького?
— Пока все тихо, — отвечала старуха почти шепотом («Ах да, коммуналка, может услышать Алена!»). — Морги в цирке, Рома отправился в свой Дом журналистов («На поиски Гросса, что ли?»), Герман Петрович уже в халате, читает «Дворянское гнездо».
— Спасибо, Серафима Ивановна.
Неручев в кабинете на кушетке, в халате и с сигарой, читает «Дворянское гнездо» — картинка из давнопрошедших времен. В ногах дюк Фердинанд (Егор опять заволновался), черный кот, принадлежность ведьмы, свирепый сторож разгромленного очага. «Вот он, наверное, знает многое, — сказал психиатр, — наверное, видел убийцу. Да ведь не скажет»… Однако дюк Фердинанд сказал — по-своему, как сумел, заменив слова шипеньем и мурлыканьем, — помог мне вспомнить. А если я ошибаюсь? Ведь ни разу я не признался в своей догадке даже самому себе. Не уверен? Или догадка эта слишком фантастична и безумна, отдает мистикой?..
Июньская ночь — бедная, городская, искаженная электричеством и визгом моторов — прильнула к стеклам, к решетке; дохнула грозовым сквозняком в форточку, грохнула натуральным небесным грохотом, на мгновение покрывшим убогие шумы цивилизации… Хорошо! Нет, я не ошибаюсь, мгновенное озарение (золотой луч во тьме) подтверждается фактами — бесценными свидетельствами истины. Алая лента, запах лаванды (на склянке с духами только отпечатки пальцев Сони), «мы все были в шоке» — и страх… черный крест в плаще Антона (если верить ему до конца — почему же он не признался, что нашел крест в кармане собственных брюк и перепрятал в плащ?), невидимое, неслышимое присутствие — в глубине мелькнуло, пролетело что-то голубое (не оставив, заметим, абсолютно никаких следов), одежда для бедных (психиатр не верит в бедных, это очень важно, это позволяет взглянуть на убийство под другим углом), открытый для проветривания квартиры после ремонта балкон в шелестящей тополиной листве… Кажется, в руках у меня все доказательства… нет, не доказательства, не настоящие, полноценные улики, а всего лишь мои догадки — вот почему я не могу его изобличить. Моя версия состоит из отдельных клочков (ниточек в слипшемся клубке), не связанных единой сквозной идеей — мотивом преступления. Двуликость Ады, раздвоение, двойник, подмена, ангел-ведьма. Неручев: «Я до сих пор не представляю даже, из-за чего их могли убить!» Из-за черного креста. Не из-за серебра и жемчуга, имеющих определенную денежную стоимость, то есть не из-за денег. Гросс прав: кража — мотив вульгарный, в нем отсутствует тот психологический элемент, загадка, феномен, которые делают преступление произведением искусства… в своем, конечно, дьявольском роде. «Пропадет крест — быть беде», — небрежно повторяла Ада, входя в роль обольстительной гадалки; кто-то услышал и исполнил. Отомстил? За что? Орел. Тут у меня слишком мало данных, разве что фраза Морга: «Да, я постоянен в своих чувствах» — и незабываемое ощущение, что я приближаюсь к пределу, за которым — зло.
Было сказано слово о прощении врагам своим, но мы живем по куда более древнему инстинкту: «Око за око, зуб за зуб». Разве сам я не почувствовал мстительное торжество, правда сразу перешедшее в тоску и ужас — и все-таки торжество: «несчастный вурдалак», убивший топором мою Соню, наш запутавшийся, загнанный игрок, старый друг — расстрелян! И разве не я прихватил с собой охотничий нож — на всякий случай?.. Невыносимо смертный древний грозовой мир бушевал за решеткой, окружая сторожевую каморку (сторож — на страже закона!) молниеносными просверками, грохотом и погружением в ночь: молния — удар — ночь. Я соврал им, что все знаю, направил на себя потусторонние силы, текут ночные минуты, возможно, кто-то (условная кличка «Другой») тут, неподалеку от дворца правосудия, и стоит ему постучаться в окно, как я рвану навстречу — но он не решится. Меня охраняет мой ангел, я охраняю ангела, мы охраняем друг друга — вот почему, несмотря на то страшное (нечаянный удар), что меня ждет впереди, я ощутил вдруг блеск жизни.
Итак, продолжим продвижение к истине. Герман Петрович набросал психологический портрет своей, как он удачно пошутил, пациентки: верящая в чудеса и проклятия. Морг, в свою очередь, тоже пошутил: женский почерк, женский антураж — духи, лента… Однако мне был подброшен еще один, как говорят в судебной практике, вещдок, что я постоянно упускаю из виду, не представляя, куда, в какой разряд элементов его поместить: дамская лаковая сумочка — отечественный ширпотреб, которую никто в особнячке не признал за свою. А между тем эта сумка висела на крюке в нише, где в момент убийства (или сразу после него) кто-то прятался.
Сумка пустая. В такой обычно держат зеркальце, духи (нет, лавандой не пахло!), косметику, документы. Документы. Надо сосредоточиться, сделать усилие… без толку! Я не знаю даже имени того ребенка. Если сумка была украдена с места преступления… неправдоподобно, совершенно неправдоподобно. Какое ж хладнокровие надо иметь, чтоб в такую минуту, возле мертвых, остывающих тел рассчитывать на какие-то документы. Однако сумочка демонстративно пустая! Не обольщайся надеждами. Зачем красть, зачем сбегать и прятаться, допустить казнь Антона, обвинить в убийстве меня — зачем! Есть единственное объяснение — видение безнадежно-желтых стен и женщины в белом, медленно бредущей по двору.
И все-таки мне была подброшена пустая дамская сумочка, — упорствовал Егор, цепляясь за материальную реальность — вещдок. — Как же мне дожить до письма Петра Васильевича? Или рвануть в Орел? Нет, Другой живет в Мыльном переулке и, вероятно, готовится к новому убийству.
Кстати, о вещественных доказательствах. Они были украдены. Еще один непонятный ход. А почему, собственно, непонятный? Я обвинил циркачку, но куда логичнее проделать это Другому — убрать чудом доставшиеся мне улики. Хотя для настоящего следствия (если б начался пересмотр дела) эти «знаки» мало что значат — для меня, только для меня…
Да разве я веду следствие? Какое же это следствие (майор Пронин надо мной посмеялся бы)? Ожидание, движение жизни, история любви. Год назад там, в прихожей, я умер вместе с тобой — ну, я ходил на службу, лежал на диванах, казенном и домашнем, пробовал запить (не берет!) и так далее… душа умерла. Оказалось — нет: на кладбище (вот ведь парадокс!) жизнь вернулась, подарила мне вещественные доказательства, я ожил.
Известная истина: основа любви — духовное единение… да, да, любовь не кончается со смертью, с биологическим распадом плоти. И все же это не вся истина. Убеждая себя, что любовь моя чиста и духовна, я корчился от одной мысли, я носился с этой мыслью, покуда не посмел высказать ее вслух: с кем из вас моя невеста провела свою последнюю ночь? Вот она — главная тайна, в которой, однако, я боюсь признаться даже себе.
Три часа ночи. Гроза отбушевала и успокоилась в ровном гуле, прозрачном падении струй за окном. Скоро рассвет, молюсь и надеюсь, что в Мыльном переулке все по-прежнему, граждане спят… нет, одному, конечно, не до сна. И пора повернуться лицом к проклятой реальности и прямо ответить на прямо поставленный вопрос: что мне с ним делать?
«Я найду его, — похвастался я однажды. — И не буду связываться с так называемым правосудием. Своими собственными руками…» Я не сумел тогда окончить, не умею и теперь. Ответить на удар — да! Поддаться инстинкту «око за око, зуб за зуб» — нет. И все же: не честнее ли, не мужественнее совершить мгновенный суд самому, чем отдавать несчастного оборотня в руки правосудия на куда более медленную казнь? Господи, что за смертный мир, в котором кроткий зов Серафимы Ивановны: «Убийством на убийство отвечать нельзя. Не вы дали — не вам и отнимать» — заглушается криками из зала: «Смерть! Смерть убийце!»
Вечная тоска человека: вернуться назад (детство, отрочество, юность), туда, в бессрочные каникулы, где серебряные стрелы в небесной лазури… и где убитый голубь — падаль с оторванной головой.
Сегодня я прощаюсь с детством навсегда, поздновато, конечно, но лучше поздно, чем… Никогда не пройти мне по парадной лестнице и по черной, по зеленому дворику и милейшему Мыльному переулку, с легким сердцем вспоминая шпионов и сыщиков, голубиный гон, купанье в Серебряном бору… Особнячок, очень кстати, идет на слом вместе с потусторонними силами, ну, Серебряный бор, возможно, пока и не вырубят (оно и надо бы для грядущих пятилеток — да куда девать иностранцев? — там по дачам они плотно сгруппированы и легко поддаются наблюдению: взрослая игра в шпионов и сыщиков).
Однако! — Егор задумался. — Какое-то подсознательное ощущение возникло у меня, когда я вспомнил… да, украденные из стола лента и сумочка… я обвинил циркачку… они с Аленой ездили в Серебряный бор в день убийства. Я хожу вокруг да около, боюсь — да, боюсь! — назвать вещи, события и лица своими именами.
Итак, я пройду вокруг да около. Вокруг прудов с утиными стайками и разноцветными лодками, заблужусь в трех соснах, выйду на безлюдную тропку, найду поляну. Я бы нашел поляну меж соснами, поросшую кустарником (дурацкий Гросс с его дурацкими аналогиями!). И все же: что бы я сделал, живя в центре столицы, в каменном лесу, где из-за многолюдья нельзя приткнуться для совершения дела необычного (кровь, все в крови!) и где по пятам, возможно, идет охота? Я бы нашел настоящий лес.
Утро встало прохладное и пасмурное, вверху столпотворение разодранных в клочья туч, на земле — невыспавшихся чиновников и секретарш. Егор шел по площади, где борцы с царизмом взмывали мощные кулаки к взметенным небесам, вошел в стеклянный вестибюль, потолкался, оттягивая неизбежное, по коридорам. Евгений Гросс, как в прошлый раз, стоял задумчиво с дымящимся окурком.
— Доброе утро, Евгений Ильич. Вы меня узнаете?
— Георгий Николаевич Елизаров. Сторож-диссидент. Ну как, нашли убийцу?
— Нашел.
Гросс заволновался и прикурил от окурка новую сигарету.
— Сдали в органы?
— Нет. У меня улик нет, только подозрения.
— Детский лепет, — отрезал специальный корреспондент. — Дело закрыто, понятно? И заводить новую волынку возьмутся только в случае чистосердечнейшего признания преступника. И то если чистосердечие будет подкреплено железными уликами и вещественными доказательствами. Кто убил-то?
— Тот, кто приходил к вам за сведениями. Так тянет материал на роман, Евгений Ильич?
— Ну-у… — разочарованно протянул Гросс. — А я было вправду поверил, что вы Георгий победоносный, так сказать, «рыцарь бедный», мстящий за свою невесту.
— Она была не моей невестой.
Гросс отличался сообразительностью и с готовностью подхватил:
— Понимаю. Понимаю: показания экспертизы. Но я думал, она с вами…
— Не со мной.
— Ага, вы полагаете: с тем, кто приходил ко мне… Стало быть, по-вашему, мотив убийства — любовь?
— Наверное. Адская любовь.
— Сильно сказано. — Журналист помолчал. — Почему же вы не называете имя того, кто приходил за сведениями? Или хотите взять меня на понт?
— У меня есть сомнение, — признался Егор. — Ну, сотые, тысячные какие-то доли… а все-таки есть. Мне кажется, я назову, произнесу вслух — и эти доли улетучатся.
— Произносите хоть сто раз — ничего не изменится. Потому что вы ошибаетесь. Элементарно, так сказать, арифметически… психоз на почве ревности. Ну, валяйте! Я подтвержу. Ведь вы за этим пришли?
— За этим. Вы уже подтвердили.
Они поглядели друг другу в глаза сквозь голубой летучий дымок, сомнения улетучивались.
— Нет! — воскликнул Гросс.
— Да, — сказал Егор угрюмо и пошел прочь по коридору между дверями, за которыми в словах, словах, словах формировался сегодняшний газетный миф.
Надо было спешить — куда? Он сошел с трамвая — наискосок через мостовую дворовый тоннель с мусоркой, — перешел на противоположный тротуар, миновал два квартала. Приторный парфюмерный аромат проник в ноздри (даже свежий душок крови не смог заглушить то предсмертное благоухание). Подошел к прилавку, сказал рассеянно:
— А французская лаванда продается?
— Ты что, пьяный? — зашипела Алена — пышная фея в розовом, бесчисленные Алены отражались в зеркалах. — Напугал до смерти, черт бы тебя взял!
— Прости.
— Что надо?
— Расскажи, чем вы с циркачкой занимались в день убийства?
— Тише ты!
За соседним прилавком оживились, переглянулись еще две феи.
— Чем мы занимались… ничем!
— А Серебряный бор?
— Откуда тебе… Ромка, что ль, донес?
— Рома.
— Вот трепло!
— Чего ты злишься?
— А то, что из него веревки можно вить. Как ребенок, честное слово!
— Тебе это должно нравиться.
— Это почему?
— Прибрала молодца к рукам — и еще спрашиваешь?
Алена слегка улыбнулась, смягчаясь.
— Все равно он не должен был рассказывать про Серебряный бор. И вообще: чего ты ко мне пристал, если тебе все известно?
— Может, выйдем покурим?
— Зой, постоишь за меня? Я сейчас.
Одна из фей кивнула, подмигнув шаловливо. Они вышли через подсобку во дворик с нагромождением коробок и ящиков, закурили, Алена заявила вполголоса, но вызывающе:
— Любовью занимались — вот чем. Подробности интересуют?
— А Марина?
— Не знаю, она сбежала.
— Как вы вообще туда попали?
— На троллейбусе.
— Почему вы поехали в Серебряный бор? — спросил Егор раздельно.
— Неужели это так срочно, что ты прибежал как угорелый?..
— Срочно. Вспомни крик в парадном.
Она умерила агрессивность и принялась рассказывать:
— Мертвых увезли. Дома было страшно одной…
— Я всегда считал тебя смелой девочкой.
— Сама удивляюсь. Я покойников ведь не боюсь, но… страшно. В общем, я сидела на лавке во дворе. Тут Марина появляется… — Она помолчала многозначительно. — В голубых джинсах и рубашке, между прочим.
— Откуда появляется?
— С черного хода. Только что из цирка вернулась, говорит: Морг невыносим, орет, трясется над каким-то узелком…
— Должно быть, с окровавленной одеждой, — вставил Егор.
— Ну, я ее просветила, она перепугалась — нервы. И мы решили смыться. Сходили переоделись… я еще, кстати, Германа Петровича встретила, сумку с вещами волок — ну, думаю, вдовец занимает свою жилплощадь, торопится. А как кот выл, слышал?
— Нет, я по улицам ходил.
— Этот ведьмин кот все понимает! Под кровать Ады Алексеевны забился — еле достали. Ладно. Почему-то мы двинулись в Серебряный бор, — Алена пожала плечами. — С утра как-то в голове застрял. Знаешь, Соня любила, мы с ней…
— Любила? — переспросил Егор.
— Там одна полянка есть, поросшая кустами, и сосны на глиняном бугорке. Если по тропинке к лодочной станции идти, стоит избушка на курьих ножках, детская… свернуть на тропинку — вот там. Но мы туда не пошли, конечно. Да! Выходим из троллейбуса — Рома впереди идет, я окликнула — не слышит. Ну, мы у лодочной станции расположились. Тоска, неуютно, солнце палит, а Сони уже нет. Я говорю: пойти, что ль, Ромку поискать?
— Я еще на помолвке заметил твои маневры.
— Не твое дело. Почти сразу нашла, прям неподалеку от нашей избушки сидит, бедный, и решает проблему. Как ты думаешь — какую? Убийца Антоша или нет, то есть правильно он у него дверь в ванной вышиб и к Неручевым притащил. Из-за каждой ерунды готов на стенку лезть! Что тут думать? — Алена осеклась и все же добавила упрямо: Я ни в какого Другого не верю.
— Напрасно. А Марина на лодочной станции осталась?
— Представляешь, домой уехала. Я когда назад пришла — лежат мои вещички, полотенце с сумкой, никто не польстился. Я ей потом высказала, она говорит: ко второму отделению в цирк надо было ехать. — Алена вдруг замолчала, потом спросила жарким шепотом: — Ты думаешь, это она в парадном кричала?
— А ты как думаешь?
— Не знаю. Крик донесся сверху, не от входа. Я как раз по телефону в коридоре разговаривала, Серафима Ивановна может подтвердить. Прям мурашки по коже, забыть не могу.
— Ты сразу выскочила в парадное?
— Ну нет. Серафиму Ивановну дождалась, пока та халат надела. Мои уже спали. Мы с ней вышли: все тихо, только…
— Ну, ну?
— Словно бы лязг… или стук, тихий-тихий. И еще как будто свет мелькнул.
— Свет?
— Не свет, а… — Алена задумалась в поисках слова. — Луч. Лунный луч… нет, не могу назвать. Тут соседи зашуршали, на лестницу повалили, Серафима Ивановна включила электричество.
— Ты узнала голос? — спросил Егор напряженно.
— Какой голос! Жуткий вопль, так человек не кричит. Егор, что-то должно случиться.
— Не каркай!
— Я побежала.
— Пока.
Он пошел по улице куда глаза глядят. Лунный луч. Красиво. Лунный луч. Лязг или стук. Что-то мягкое, летучее касается ноги… так человек не кричит. Она права. Господи боже мой, за что? Почему я был так слеп? Раньше, гораздо раньше, когда две школьницы сидели на лавке под сиренью, а я в упор не видел, проходя с кем-то… с кем? Неважно. Не было, Соня, у меня никаких женщин, никого не было, кроме тебя, потому что я никого не помню, кроме тебя. И никогда не смогу тебе об этом сказать. Никогда. Разве так может быть: никогда?..
Он опомнился уже в троллейбусе, далеко от Мыльного переулка. Куда меня несет? Безрадостный, бессолнечный день летел в окне, вяло висели листы лип, круглая клумба кровавых настурций влачила борьбу за существование в бензиновом чаду на маленькой площади, на которой троллейбусы делают круг. Однако и у меня застрял в памяти Серебряный бор, где я не бывал с детства… точнее, с отрочества, далекого, короткого (как бы не так!) отрочества. Все не то, все переменилось, асфальт, только сосны хороши по-прежнему, но меньше их стало, и весь-то бор, необозримый, казалось, таинственный, можно обойти за… Нет, таинственный — по-другому… — Егор углубился в переплетенье тропок, клочья тумана висели меж кустами. — Здесь избушка на курьих ножках (в их детстве ее не было), Сонина полянка, здесь где-то и «камень, под которым окровавленная одежда лежит». Конечно, камень Раскольникова неповторим, таких совпадений не бывает, но кровь есть кровь, ее нужно спрятать. Вместе с одеждой, чтобы из вещдока она в конце концов превратилась в землю, влагу, траву.
Он сел в траву, влажную от ночной грозы, пахнувшую сырой землей. Достал из-за ремня джинсов охотничий нож (чужеродный предмет, который вот уже почти сутки ощущал физически и, если можно так выразиться, метафизически, который мешал жить). «Зачем жить, если впереди нет ничего, кроме нечаянного — отчаянного! — удара и тоски? Как пишет Петр Васильевич: грустью и тленом веет от этой истории, но пока ничего криминального я в ней не вижу (а я вижу!), однако что-то нехорошее чувствую, недосказанность, странную поспешность, горячечность и ложь. Чудовищная ложь, в существование которой невозможно поверить, как не верим мы в вурдалаков-оборотней. Хватит дожидаться улик и доказательств, сейчас я приду к нему и подарю охотничий нож».
Однако Серафима Ивановна, на своем посту во дворе, сообщила, что действующие лица в этот вечер (неужели уже вечер?) перестали блюсти единство места, времени и действия. Старая дева на своем старом «Ундервуде» составила трогательную петицию в защиту старого особняка (коронная фраза: «Можете «сослать» нас на далекие окраины, мы согласны, но пощадите красоту, ведь ее так мало осталось!»), но выяснилось, что подписать челобитную некому: особняк был пуст, словно вымер.
— Я час всего и провозилась-то, — оправдывалась Серафима Ивановна.
— Ничего, будем надеяться. — утешал Егор рассеянно. — Я до утра глаз не сомкну.
— Кстати, Герман Петрович до утра читал «Дворянское гнездо». Не знаю, что он там вычитал, но только утром, когда я убираться пришла, с ним творилось что-то страшное.
— Что-что? — Егор встрепенулся в предчувствии нечаянного удара.
— Я даже подумала, что он в уме тронулся. Увидел меня и говорит: «Могила вскрывается!» Вот ужас-то! Небритый, в халате, совсем, совсем старик… Правда, взял себя в руки, поздоровался, но когда я сказала, что сегодня пятница, полы буду мыть, он заявил твердо и как будто нормально: «Благодарю вас, Серафима Ивановна, я в ваших услугах не нуждаюсь».
— Он так сказал? — пробормотал Егор ошеломленно.
— Именно так, в этих самых выражениях. Я поклонилась и ушла. В качестве «следопыта» я стала самой назойливой и несносной старухой в мире. Так вот, сведения. Алена говорила, что с женихом сегодня в театр идут. У Моргов с утра пораньше скандал разразился, так что, кажется, дубовая дверь трепетала. Они ведь за границу собираются, слыхал?
— Слыхал. Значит, Герман Петрович из лечебницы так и не возвращался?
— Не возвращался. Или не хочет открывать. Это очень серьезно, Егор?
— Наверное. Да.
Проворные пальцы, сверканье спиц-рапир, бесконечное белое кружево — прощай, детство, навсегда.
— Серафима Ивановна, можно ли предположить, что я — убийца?
— Господь с тобой, Егор!
— На помолвке я так неудачно пошутил, так нелепо, по-идиотски!
— Шутка неудачная, правда. Но какому же здравому человеку придет в голову…
— Здравому, нездравому — где граница… Вон циркачка сказала, что из нас троих, отроков кротких, на эту роль больше всего гожусь я.
— Не понимаю, Егор, почему ты так волнуешься. Ведь совесть у тебя чиста?
— Серафима Ивановна! — взмолился он. — Ну, может, что-то в моем поведении, в словах или… не знаю в чем, со стороны виднее… есть что-то такое…
— Перестань! Я тебя знаю с детства. И если кто подумает такое, он просто ненормальный или тебя перед ним оговорили. Она болтает бог знает что, а ты с ума сходишь. — После паузы старуха спросила тихо. — Ты уверен, что это она тогда была в прихожей?
— Кто?
— Марина. Ангел в голубом.
— Ох, Серафима Ивановна, не спрашивайте ни о чем, ради Бога. Я просто проверил показания Антоши и убедился, что они реальны.
— Может быть, и реальны, только… Ты вот говорил, что Антону надо верить до конца либо не верить вовсе. Человеку в таком состоянии что не померещится! Вспомни: труп шевельнулся.
— Я забыл, — медленно сказал Егор. — Совсем забыл про эту деталь, настолько фантастичной она кажется. Если Ада была еще жива…
— Морг застал ее уже мертвой.
— Он плакал, представляете? Слезы на лице смешались с кровью.
— Ах, Егор, ты еще молод, ты еще не можешь судить…
— Уже не молод. И мне придется судить.
— Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким и вам отмерится.
— По-вашему, проявить великодушие и забыть?
— Величие души не в забвении. Сказано: не убий. Тяжкий грех. Только не становись судьею. Ты понял меня?
— Понял. Я знаю, что сделаю. Если у меня будет время.
А время шло к ночи, беззакатной, безлунной, бесшумной, ни одно окно не зажглось в особняке. Красные следопыты разделились, Серафима Ивановна, закутавшись в шаль, мужественно осталась на лавке во дворе; Егор сел на ступеньку в парадном возле знаменитой ниши в твердой решимости дождаться психиатра. Ни скрипа, ни шороха, ни просвета, не чувствуется потустороннего присутствия, плотную тьму не прорезает лунный луч, нечеловеческий крик. Даже обаятельный дюк Фердинанд, с давних пор облюбовавший нишу с крюком в качестве засады, откуда так удобно бросаться и пугать двуногих, — даже дюк Фердинанд находился в бегах или за дверью с хитроумным японским замком. Егор тихо поднялся на третий этаж, подошел к двери, прислушался: безмолвие, как в могиле. Уместное сравнение. Спускаясь вниз, заскочил на минутку к себе, вдруг сердце прихватило. В темноте, чиркнув спичкой, нашел в маминой аптечке столетний валидол, положил под язык, прилег — на одну минуточку! — на любимый свой диван и мгновенно, как после сильнейшего снотворного, провалился в глубокую, не проницаемую для сознания кромешную яму.
Боже мой! Жаркие лучи за окном сквозь легкий тополиный шелест. «Без двадцати одиннадцать! Да что же это такое? Да как же я мог? Мама предсказывала, что кончу Обломовым».
Егор вскочил с дивана, побежал на кухню, бросился к окну. Безмятежное субботнее утро, играют в песочнице дети Ворожейкиных и сынишка Моргов, Серафима Ивановна («красный следопыт», последний солдат в позабытом окопе — таким образом можно выразить ее преданность и чувство долга) вяжет на лавке под сиренью. Вот подняла голову.
— Никудышный я сторож, Серафима Ивановна.
— Да вроде все спокойно.
Егор посмотрел на охотничий нож в руке (ведь так и спал с ножом — как дико все это выглядит в свете дня), сунул за ремень джинсов под куртку и спустился по черной лестнице в уютный, зеленый, дышащий покоем (и выхлопными газами с улицы) двор.
Тут из подъезда показался клоун в ярко-зеленых клетчатых шароварах; наследственная лысина его сверкала, сверкали глазки; буркнув нечто нечленораздельное, он направился к голубятне. За ним, как по команде режиссера-демона, вышла Алена в розовом сарафане. Егор застыл, завороженный зрелищем. Все это уже было! Сейчас появится Рома. Нет! Сначала мы втроем подойдем к голубятне. Так, подошли; причем его партнеры явно не чувствовали горестной иронии, абсурдности происходящего. Егор оглянулся; не удивившись, увидел Романа с фирменной сумкой, подходящего к тоннелю, окликнул; тот подошел, сказал:
— Сигареты кончились. Вот жарища, а?
— Ален, что ж ты молчишь? — подал реплику Егор. — Ты должна сказать: поехали в Серебряный бор.
— Иди-ка ты со своим бором…
Зато совершенно необычно повел себя вдруг клоун: зажмурился, подпрыгнул, как мячик, и простонал:
— Покойница! Он ее выкопал…
Стоявшие у голубятни подняли головы и увидели картину, от которой воистину кровь застыла в жилах. За двойными стеклами кухонного окна Неручевых кто-то стоял недвижно, глаза закрыты на бледном, восковой, неестественной бледности, лице, однако драгоценные пряди распущенных темно-рыжих волос горели огнем и сияло чистым голубым цветом американское платье-сафари. Сейчас она закричит: «Надо мною ангел смеется… убийца!» Закричала Алена, страшный рыдающий вопль, Серафима Ивановна медленно поднялась, сверкнули падающие оземь спицы-рапиры и белое кружево, Роман вцепился в клетку, а Морг взревел бессмысленно:
— Окружаем! Ребята, бегите через парадное! — и рванул на черный ход, за ним Серафима Ивановна, мрачно-страдальчески оглянувшись на Егора, а тот никак не мог оторвать от железных прутьев железные пальцы (голуби сбились в кучу, отчаянно воркуя), наконец оторвал последним усилием — и так, рука в руке, они пробежали затхлый тоннельчик, тротуар, пять прыжков, прохладный мрак парадной лестницы, ступени, ниша между вторым и третьим этажами. Остановились на секунду перевести дух, а сквозь все стены и запоры несся дубовый стук, звериный крик Морга: «Открывай! Вурдалак! Дверь разнесу!»
— Я хочу подарить тебе охотничий нож, — шепотом сказал Егор и протянул, вынув из футляра, старому другу старую безделушку; блеснуло лезвие в золотом луче, падающем из восьмигранного оконца. Помнишь, играли в детстве?
— Ты что? — прошептал Рома, отталкивая дар друга, и всхлипнул, как ребенок. — Что ты?
— Можешь использовать его по своей воле, я перед тобой безоружный. Можешь убрать себя или меня. Мне все равно.
— Жорка, друг!..
— Помнишь плащ в прихожей? Старый, поношенный?
— Только в этом! — вскрикнул Рома страстно и искренне. — Только в этом! Перед Антошей! Перед ними — нет!
— Нет? А куда ты собрался? На поляну, где избушка на курьих ножках стоит?
— Я тебе говорил… это все она — ведьма!
Егор положил нож на ступеньку и медленно пошел наверх, ожидая удара в спину, — все равно! — ведь там, за дверью с медной табличкой, его ожидал удар сильнейший. Отчаянно зазвенели серебряные колокольцы, рев Морга нарастал, подкрепленный и другими голосами, — действующие лица концентрировались в едином месте, на грязной черной лестнице с отходами, где невинный, невидимый игрок — кроткий отрок в запачканной кровью рубашке — будет вечно открывать, не попадая ключом, свой замок.
Через долгое время совсем близко за дверью раздался негромкий голос:
— Это вы, Георгий?
— Я.
— Боюсь вас впускать.
— Смотрите сами, Герман Петрович.
И опять через долгое время нежно защелкал японский замок, засияли разноцветные пятна венецианского фонаря, он шагнул через порог, уже ничего не видя, не слыша. — Господи, как можно это пережить во второй раз? вторую смерть, еще более страшную? — и как-то вдруг сразу увидел ее на кухне в углу за столом, где год назад лежала Ада. Дубовая дверь сотрясалась, стук, крик, ропот только подчеркивали неестественную, запредельную тишину места преступления.
Он подошел к ней и сказал:
— Соня, я люблю тебя.
Она молчала, глядя в сторону, а в глубине глаз вспыхнул и тотчас погас блеск жизни.
— Бесполезно, Георгий, она все время молчит.
— Нет, нет! — прошептал он, вбирая душой бессмертные детали золота и лазури, вырванные из мрака (Орфей и Эвридика в маленьком кухонном аду, где замытая кровь). «Нет! — молился он про себя. — Это моя Соня, она не безумна, нет! Я знаю, почему она молчит!»
— Народ собирается вызвать милицию, — пробормотал психиатр и резким движением вздернул крючок — старинный кованый крюк.
Морг с багровым лицом ввалился первым и замер, за ним столпились остальные, созерцая и не веря в чудо. Меж чужеродных ног проскользнул дюк Фердинанд, запел, закружился, принялся тереться спинкой о ножки в стоптанных синих кроссовках. Тогда она нагнулась и взяла его на руки.
— Я знаю, почему ты молчишь, — заговорил Егор легко и свободно, никого, кроме нее, не видя и не чувствуя. — Ты считаешь меня убийцей.
Она наконец прямо взглянула ему в лицо, обожгла взглядом, в черных очах, вопреки всему, разгорался, разгорался блеск жизни.
— Если я просто скажу тебе, — продолжал он пылко, уже входя в ее жизнь, включаясь в любовный поединок, уже невольно испытывая ее, — скажу без доказательств, что я не виноват, ты мне поверишь?
Тут наконец пришел в себя, нет, напротив, — вышел за пределы здравого смысла Морг, заявив:
— Но ведь она знает, кто ее убил, черт возьми!
Легкое безумие взметнулось в кухонном аду, а ведь еще необходимо вывести ее отсюда.
— Морг, замолчи!
Клоун смотрел бессмысленно перед собой.
— Или Герман инсценировал похороны?..
Из глубины черной лестницы возникла Катерина в черном, как тень, прошла по кухне, взяла Соню за руку и спросила:
— Соня, Антон не виноват?
Губы ее дрогнули, она будто проглотила пересохший комок безмолвия и сказала первое слово:
— Нет.
— Ну слава Богу! — прошептал неверующий психиатр. — Я боялся, рецидив затянется. Теперь спать, спать… господа, прошу всех вон.
— Нет, — повторила Соня, не сводя глаз с жениха. — Я не могу тебе ответить, потому что я дала слово.
— Кому? — быстро начал Егор.
— Маме.
— Серафима Ивановна! — воскликнул он. — Труп шевельнулся, вы понимаете?
— Бедная ты моя девочка!
В выцветших глазах старухи стояли слезы, циркачка тоже заплакала, а Алена закричала истошно:
— Сонька! Ты жива?
— Герман Петрович! — заговорил Морг официально. — Вы обязаны объяснить этот казус, или я за себя не ручаюсь, то есть я на грани оказаться в вашем заведении.
Дальше Егор уже ничего не помнил, кроме любимого лица, юного, страстного, измученного. Из преображенного мира его грубо вырвал один вопрос, и он увидел себя и всех остальных сидящими за овальным столом в комнате Ады, где приоткрыта дверь на балкон, колышется прозрачная занавесь, отец крепко держит дочь за руку (какие у нее красные, огрубевшие руки), и светлый ангел умиляется с потолка.
Вопрос задала Алена:
— Егор, куда ты дел Рому?
— Я выпустил его на волю.
— В каком смысле?
— Он пошел за сигаретами.
— Нашел тоже время!
Банальный бытовой диалог, но потаенным холодком повеяло вдруг, все переглянулись, со страхом обходя взглядом Соню, помня, видя ее мертвое тело в прихожей, в луже крови, в итальянских кроссовках, в американском платье, ее волосы редчайшего медового оттенка, благоухающие лавандой. И она заговорила.
— Меня мама рано разбудила и отправила заниматься.
— Ты не взяла с собой никакой сумки? — спросил Егор, с удивлением ощущая в себе охотника, идущего по следу любимой, тогда как еще вчера считал, что не посмеет и взглянуть на нее.
— Мама собиралась абсолютно все мыть и чистить. Я пошла в этом сафари, тетрадку в карман засунула и ключ, тут ведь рядом. Но ничего не лезло в голову…
Она мельком взглянула на Егора, он возликовал, душа разрывалась: вот она — любовь, и смерть — там, на парадной лестнице; от последнего испытания ее надо уберечь во что бы то ни стало — он все взял на себя.
— Около одиннадцати я вернулась, позвонила, никто не открывает, думаю: мама в прачечной. Отворила дверь, захлопнула и остановилась. В прихожей было тихо и темно, только узкий луч падал из маминой комнаты и отражался в зеркале. Я остановилась, потому что вдруг услышала скрип и увидела, как медленно открывается в кухне дверь на черный ход. Стало как-то не по себе. И тут появился Антоша. Я хотела его окликнуть, подойти, но его лицо… Господи, что это было за лицо!
— Сонечка, — отец быстро погладил и поцеловал ей руку, — не останавливайся на подробностях, не вороши…
— Нет, я хочу, мне же надо все сказать! — Она опять мельком взглянула на Егора. Или не надо?.. Катерина, голубушка, не надо?
— Говори все.
— Искаженное ужасом-вот какое было у него лицо. Он бросился вперед в сторону, что-то грохнуло, нагнулся, поднял топор в крови, положил на стол, схватился руками за лицо, застонал, огляделся, как сумасшедший, взглянул на руки, взял полотенце и принялся вытирать топор. А лицо-то все в крови!
Она говорила, будто их не видела, будто стояла там, у зеркала, не в силах шевельнуться, осмыслить происходящее.
— Я хотела подойти, даже сделала шаг…
— Да, да, все так, — пробормотал Егор, — ты отразилась в зеркале, в створке трельяжа, и Антоша почувствовал голубого ангела.
Он говорил, но она не глядела на него, давно не глядела, она была вся там.
— Я сделала шаг, как вдруг Антоша исчез за дверью. Я побежала на кухню и увидела маму. Она лежала, на лице кровь — вдруг губы шевельнулись. Я наклонилась над ней и сказала: «Боже мой! Потерпи, я сейчас врача…» — «Не надо, я умираю, прости, и я прощаю тебя». Она говорила почти неслышно, с трудом, а глаза как будто подернуты пленкой. И она сказала… — Соня словно задумалась, опершись подбородком о ладонь, подняла голову, глядя прямо в глаза Егору. — Я не стану говорить.
— Я прошу тебя!
— Нет.
— Соня, я не виноват.
— Ах, не виноват! Так слушай. Она сказала: «Твой жених — убийца. Но никто не должен об этом знать. Поклянись!» Я поклялась, я ничего не соображала.
Егор чувствовал на себе тяжесть чужих глаз, чужих душ — соединенных отрицательных энергий, окружающих плотным охотничьим кольцом: «Ату его!» И Морг процедил злорадно: «Алиби-то, выходит, липовое!» Но она сказала, опередив Серафиму Ивановну:
— Я всегда знала, что ты убийца, но не верила.
— Знала и не верила?
«Да, да, это так, — думал он, — и я знал, арифметически знал, что ты жила регулярной половой жизнью, — и не верил».
— Да, — ответила она пылко и смело. — Мама сказала: «Ты беги… далеко, чтоб никто тебя не видел». И еще — последнее: «Надо мною ангел смеется». Она умерла, я подбежала к окну, ты стоял и смотрел на меня, веселый. Я сразу нарушила клятву и крикнула: «Убийца!» Потому что, — глаза ее утратили блеск, она все время колебалась между верой и неверием, — потому что ты, убийца, стоял спокойно…
— Сонечка, ангел мой, — заговорил психиатр властно, — все будет хорошо, вот увидишь.
— Сонь, ты ведь крикнула про ангела, мы все слышали, — вставила Алена боязливо, — мы стояли рядом с Егором возле голубятни.
— Он был один… то есть я его видела одного… и еще голуби. Они так страшно летали, кругами, так низко.
— А когда ты успела надушиться лавандой? — спросила Алена шепотом, все замерли, прахом и тленом потянуло вдруг, кровь, везде кровь. — Но ведь ее отпечатки на флаконе — что вы так на меня смотрите!
— Нет, я с ума сойду! — вскрикнула циркачка истерично. — Объясните же кто-нибудь… Егор!
— Соня, ты позволишь, я буду задавать вопросы?
— Задавай.
Черные очи глядели на него с надеждой, а за спиной — смерть на парадной лестнице… Долго ли я выдержу это раздвоение?
— У тебя были тетрадка и ключ. Куда ты их дела?
— Кажется, бросила на пол.
— Ты не заметила в прихожей ничего необычного?
— Нет.
— Ты крикнула в окно: «Надо мною ангел смеется. — Пауза. — Убийца!»
— Разве? Я не помню.
— Очевидно, ты просто повторила слова Ады. А что они означают, не знаешь?
— Нет. Я вообще почти ничего дальше не помню. Помню себя в парадном, снизу, из тьмы, голоса, и мне надо прятаться, мама велела.
— Ты спряталась в нише между вторым и третьим этажами?
— Да. Там был дюк Фердинанд, мимо меня кто-то пробежал.
— Мы с Ромой.
— Несколько человек. Я вышла из ниши и споткнулась обо что-то, подобрала.
— Черную лаковую сумочку?
— Да, сумку. Только я ничего не осознавала. Пошла по улице, шла, шла, вечер наступил, села на лавку.
— Нервный шок, — пробормотал психиатр, — сильнейший нервный шок.
— Ко мне пристал какой-то мужчина, я вырвалась и побежала. Оказалось, я на Садовом кольце, спустилась по Каланчевке к Казанскому вокзалу, там место нашла под землей и просидела долго — почти три дня. Как вспомню скрип двери и Антошу с топором, а во дворе стоит веселый жених. Только что он ударил маму, так что кровь…
— Сонечка, — перебил психиатр, — не надо, вернемся на вокзал.
— На третий день захотелось есть. Я вспомнила про сумочку, она так и лежала у меня на коленях. Открыла: косметика, духи…
— Лаванда? — не удержалась от вопроса Алена.
— Розовое масло. Еще документы и кошелек. Я решила занять немного денег, потом отдам вместе с документами. И тут меня как ударило, я очнулась и поняла, что не будет у меня никакого «потом». Я не смогу вернуться. Никогда. И не потому, что мама велела бежать. Просто я не смогу жить в одном доме, в одном мире с убийцей, молчать и при этом… — она вдруг расхохоталась, Егор похолодел, — при этом его любить! Вы когда-нибудь слыхали про такое раздвоение? Папа, ты рассказывал про раздвоение личности, про двойника — это шизофрения, да?
— Нет, радость моя, никакой шизофрении у тебя нет. У тебя реакция нормального человека, столкнувшегося с тайной невероятной, потрясающей.
— Так ты меня поймешь? — спросила она жадно; голос — пронзительный полушепот, как тогда, по телефону. — Ты поймешь, почему я не пришла к тебе, не дала о себе знать?
— Ты хотела умереть, исчезнуть.
— Я умирала. Но это не просто, нужно усилие… в общем, я оказалась трусом, не смогла. Вернулась с путей, села прямо на пол (мест не было) и услышала случайный разговор двух женщин, пожилых. Они ждали пригородную электричку и говорили, что вот на ферме работать некому, лимит дают, прописку дают, а молодые не хотят надрываться. «Вот погляди на них, — говорит одна и на меня указывает, — во всем заграничном, ручки нежные — разве она пойдет?» А вторая что-то почувствовала и спрашивает: «Что с вами?» Я говорю: «Мне плохо». Они меня спасли, электричку пропустили. Спрашивают: как тебя звать? Тут я поняла, что можно исчезнуть по-другому. Пошла в туалет, достала из сумочки паспорт, на фотографии незнакомое лицо, никогда не видела. И подумала, что эта девушка меня простила бы, кабы знала, что мне некуда пойти. Ну просто некуда!.. В общем, я поехала с ними, сказала, что скрываюсь от мужа: пьет и бьет. И если бы не очерк какого-то Гросса «Черный крест», я бы никогда…
— Как зовут ту девушку? — спросил Егор.
— Варвара Васильевна Захарьина.
— Герман Петрович, я бы не догадался про имя. Фамилия и отчество понятны.
— Я сам догадался только позавчера ночью. Догадался про подмену. Когда у нас родилась дочка, я хотел назвать ее в честь бабушки, в благодарность за все… имя теперь редкое. Однако обе они — и Ада и Варвара Дмитриевна — отказались так резко, с таким испугом, что… я удивился, не понял, но запомнил. Софьей была моя покойная матушка.
— А кто она такая вообще — эта Варвара Васильевна Захарьина? — поинтересовался Морг с напором.
Психиатр ответил сдержанно:
— Ваша дочь.
И клоун впервые в жизни не нашелся что ответить.
— Пресвятая Богородица, — пробормотала Серафима Ивановна, осенив себя крестом, — помилуй грехи наши тяжкие.
— Егор! — сказала Алена жестко. — Что ты сделал с Ромой?
— Подарил ему охотничий нож.
— Ты?..
— Я сейчас вернусь. — Егор встал. — За мной ни шагу, я этого требую.
На ступеньке возле ниши сидел Рома в какой-то немыслимой позе, голова между коленями, руки распластаны по дубовой половице. Конец! Егор замер. Да что же я, палач? Или надо было умыть руки и сдать друга куда подальше? Спустившись по ступенькам, встал напротив, коснулся руками плеч, безвольное туловище откинулось назад, ударившись об угол ниши. В золотом луче из оконца блеснуло красное пятно. Кровь. Тут только заметил он кровь на ступеньке, на руках, на лице. Рома открыл глаза и сказал:
— Не смог. Крови испугался. Видишь? — Поднял левую руку: запястье перевязано носовым платком, пропитанным кровью.
— Ты… вены вскрыл?
— Ты же велел.
Егор заплакал, как не плакал с детских позабытых лет.
— Ромка, беги! Беги, скройся, черт с тобой!
— Некуда, — он улыбнулся ужасной улыбкой. — Я больше не могу, надо сдаваться.
— Тебя расстреляют.
— Говорю же, я не виноват.
— Ну, в психушке будешь сидеть.
Господи, что за тоска! Егор поднял голову: конечно, они были здесь, стояли на верхней площадке и слушали. Раздался возглас:
— Вы убили мою жену?
И дальше с равномерной последовательностью упали беспощадные реплики:
— Мама! За что?
— Ты? Моего ребенка!
— Даже не отдали урну с прахом!
Рома поднялся перед обвинителями, твердя как заведенный: «не виноват… не виноват… не виноват…» Звенящий голос его «сестры милосердия» покрыл бормотанье:
— Да поглядите же на него! Он муху обидеть не способен! Он слабак. Что ж ты молчишь, Егор? Друг сердечный! А вы, Серафима Ивановна, куда подевалась ваша святость?
— Аленушка! Сестра… — И недоговорив, подсудимый грохнулся на дубовые половицы.
Она сбежала по ступенькам, положила его голову на колени, заявив буднично:
— Обморок. Это у него бывает. Ничего, пройдет.
Поколебавшись, психиатр спустился, взял руку Романа, подержал, слушая пульс, приподнял двумя пальцами веки, обнажив закатившийся, будто мертвый, зрачок.
— Давно это у него?
— Последний год.
— Как часто?
— Примерно раз в неделю. Теперь чаще. Теперь он будет спать несколько часов.
— Понятно, защитная реакция. И все же вынужден огорчить вас, Алена: он вполне вменяем, то есть отвечает за свои действия перед законом.
— Так что, органы вызывать? — спросил присмиревший клоун.
— Если у кого-то из вас есть улики и доказательства, если кто-то знает мотив преступления и как произошла подмена — возможно, потребуется эксгумация. — вызывайте. В противном случае майор Пронин поднимет вас на смех.
Все смотрели на Егора. Плюнуть бы на всю эту свистопляску, взять ее за руку и уйти куда глаза глядят. Но у ног валяется полумертвое тело… друг сердечный!
— Улик нет, доказательств нет. Точнее, есть одно, вещдок, но о его местонахождении знает только Роман.
— Давайте-ка, люди добрые, — заговорила Серафима Ивановна, — отнесем человека отдохнуть, пусть поспит.
— Отнесем на место преступления, — процедил Неручев. — Нам еще из него показания выбивать… Да он в крови!
— Хотел вскрыть вены, — пояснил Егор.
Минут через десять Рома спал как убитый на кушетке психиатра, запертый на ключ. Действующие лица, стражи закона, расположились за стенкой, за столом красного дерева, где вместо сирени, ландышей и гиацинтов лежал охотничий нож с пятнами крови.
— Соня, ты можешь продолжать? — робко спросил Егор: в глазах ее сиял черный свет, обращенный к нему.
— Ну что? Научилась доить коров, получила койку в общежитии.
— А где была прописана Варвара — твой двойник?
— Нигде. В паспорте стоял штамп выписки из города Орла. Она почти на девять месяцев старше меня, внешне мы не очень похожи, судя по фотографии, но и различий резких нет. В общем, паспортистка ничего не заметила. — Соня задумалась, и опять он почувствовал, что она уходит от него — в другую жизнь, в другую боль. — Я думала так и прожить в чужой жизни… как во сне. Но однажды, накануне маминой смерти, двадцать пятого мая. Наташа — доярка, мы в одной комнате четверо живем — привезла из Москвы «Вечерку»: вы, говорит, только послушайте, прямо детектив. Она читала вслух о том, как убили маму и меня… — Соня вдруг усмехнулась «взрослой», незнакомой ему усмешкой. — Странное ощущение. На мгновение подумалось: может, так и надо — меня нет. Но последняя фраза вернула и жизнь и ужас. Я ее помню наизусть: «Остается добавить только, что суд под председательством судьи Гороховой А. М., согласно статье 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах), приговорил преступника к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение. Ваш спец. корр. Евгений Гросс».
Я почувствовала, что другая жизнь не удастся, история никогда не кончится, кровь за кровь, убийство за убийство. Ужас заключался даже не в том, что меня каким-то образом убили… Антоша! Не знаю, Катерина, сможешь ли ты меня когда-нибудь простить. Ведь требовалось всего лишь объявиться вовремя и дать показания. Но мне ни разу даже в голову не пришло, что на него подумают. Не пришло — потому что я не вспоминала и не думала. Только сны, один и тот же сон: кровь, топор, мама, мой жених — любовь моя! Так пусть же ответит! Сам, добровольно. Пусть знает, что я жива и буду преследовать его до конца. Ведь ты все понял там, на кладбище, когда нашел мою ленту?
— Нет, Соня. Я видел тебя убитой в прихожей, тебя каждый опознал, а потом мы тебя похоронили.
— Ты видел меня…
— Да, да! Видел, знал, как дважды два четыре… только душа моя тебя не признала. Подсознательно я ощущал странное отчуждение, раздвоение, не мог сосредоточиться на прощании с тобой.
— Сонечка, — заговорил психиатр, — лицо убитой опознать было невозможно: размозжено, раздроблено ударами топора — не меньше восьми — десяти ударов. Но твои рыжие волосы, намокшие в крови, белая кожа, твое платье, в котором тебя только что видели в окне… Пойми, мы все были в шоке. Могу сказать только, что я боялся вспоминать, меня что-то раздражало, пугало в тебе, то есть не в тебе…
— И меня, — пробормотала Алена. — А я ведь покойников не боюсь.
— А ты, Морг? — спросил Егор.
— Я плакал.
— Как странно. Ты плакал над своей дочерью.
В наступившей тишине тихий ангел пролетел… нет, чертик прошмыгнул с топориком.
— Если б там была Серафима Ивановна! С вашей необыкновенной наблюдательностью… Произошла подмена.
— Это она подстроила, — сказал Морг таинственно.
— Кто?
— Ада. Ведьма. Вспомните, что она нам нагадала накануне.
— Все точно, — зашептала Алена, — и казенный дом, и нечаянный интерес, и даму пик, пустоту, слезы, любовь… себе — удар! А Соне — пиковую девятку, больную постель… Рома не врет, он не виноват, тут силы потусторонние и ангел смеется…
— И чужая фотография на могиле, — начал клоун и умолк.
В тяжелой паузе Егор спросил:
— Соня, ты была на кладбище двадцать шестого мая?
— Да. Поехала маму навестить и посмотреть на свою могилу.
— Сонечка, ты с нами, — опять заговорил психиатр ласково и властно. — Все будет хорошо.
— Я хотела сорвать фотографию и вдруг увидела тебя за поворотом аллеи, — она взглянула на Егора, — ты шел, опустив голову. И решила подать тебе более существенный знак.
— Ты хотела довести меня до самоубийства?
— Я слишком любила тебя, чтоб терпеть в тебе убийцу. Я видела в руках у тебя белые розы и чуть с ума не сошла от твоего… извращения.
— Ночью ты повесила пустую сумочку Варвары на крюк в нише?
— А зачем тебе документы? Ты-то должен был знать, кого убил.
— Сонечка, — сказал отец терпеливо, — не забывай, что Георгий ничего не знал.
— Но в конце-то концов! — закричала Соня. — Неужели ты не узнал мой голос по телефону?
— Узнал. Но, конечно, не поверил. Я все время думал, что схожу с ума.
— Так когда же ты опомнился?
— Позавчера ночью ты была в парадном, так?
— Да, я стояла в нашем дворовом тоннеле, ты опустил на углу письмо. Вошла в парадное, погасила электричество… не в силах говорить с тобой при свете, видеть, а мне нужно было сказать все напоследок: я сдалась, кончила борьбу. Но когда ты приблизился ко мне, убийца, нервы сдали…
— Как ты закричала, Боже мой!
— Я убежала, чтоб никогда сюда не возвращаться.
— Лунный луч во тьме, — пробормотал Егор, — лязг или стук двери. Вспыхнул свет. В нише пел и кружился дюк Фердинанд. Почуял хозяйку. Но еще гораздо раньше я догадывался, что не кто-то из «наших дам», как выразилась Серафима Ивановна, меня преследует, все гораздо страшнее и чудеснее. Сообщница убийцы? Свидетельница? Но почему она так странно себя ведет?
— Ты пришел к выводу, что я сумасшедшая.
— Да! Я боялся, что предстоит еще одно прощание с тобой — а ты меня даже не узнаешь. Нет, это невыносимо! Детали и явления выстраивались в неизъяснимый абсурдный ряд. Алая лента, лаковая сумочка, чей-то упорный взгляд на Тверском, чей-то голос — зов к смерти, дюк Фердинанд, запах лаванды. И вдруг сон: ты живая, упрекаешь меня в чем-то и смеешься — впервые за этот год (обычный кошмар: я сижу в прихожей возле мертвой и силюсь понять, кто она). Проснулся, вышел в парадное, и началось словно продолжение сна — благословенная бессонница, — так явственно я услышал тебя и увидел в золотом луче, в бирюзовой майке, ты как будто снова взяла на руки черного кота и засмеялась. Мгновенное озарение: этот смех, этот голос по телефону — только отчаянный, далекий. Я сказал себе: этого не может быть, потому что не может быть никогда! С того света звонят пациентам Германа Петровича. В панике, в страхе бросился искать тебя. Ничего еще толком не осознав, я решил, что тебе грозит опасность. Наши улочки и переулки, кладбище: ты т а м? или здесь?.. Ваше заведение, Герман Петрович: безнадежно-желтые стены и женщина в белом, проходящая по двору. Вот так моя Соня?.. Картина преступления начала постепенно проясняться, меняться, обрастать новыми подробностями. Если убитая — не Соня, а вдруг меня преследует ее сестра, ведь кто-то по телефону из нашего дома сказал Герману Петровичу про смеющегося ангела, когда моя невеста сидела за столом рядом? Но если убитая не Соня, то рушатся алиби. В первую очередь — мое. И Ромы. Фраза Морга: если верить Антоше до конца почему же он не признался, что нашел крест в кармане собственных брюк и перепрятал в плащ, — действительно, почему? Да потому, что он его не находил и не перепрятывал. Так кто это сделал? Кто побежал за Антошей, когда Морг сообщил об их встрече на лестнице?
Я пошел к Роману. Я думал раскрыть перед ним карты, застать врасплох или услышать разумное объяснение. Этот пунктик, маниакальную идею, комплекс вины перед Антоном я заметил в нем давно, но относил за счет известной чувствительности, культа дружбы и тому подобного. Я повторил ужасные слова Катерины: Антон — горсть пыли в жестянке. Сейчас убийца — если он вправду убийца! — забьется в припадке и выложит… Ничуть не бывало! Он говорил со мной искренне и доверчиво, он действительно не считает себя виноватым. Герман Петрович, попрошу вас объяснить этот феномен.
Психиатр пожал плечами.
— Могу повторить только, что он вменяем, никаких отклонений от нормы я не нахожу. Впрочем, говорю интуитивно — требуется более тщательное обследование. Никаких — кроме некоторой инфантильности и чрезвычайно редкостной внушаемости.
— Неужели можно внушить идею убийства?
— Все можно, как вам известно из мировой истории. И мы уже вспоминали гениальную догадку Достоевского, что преступление — в своем роде болезнь.
— Тогда как вы объясните… вот я думал, что Соне грозит опасность, недаром она скрывается. Чтобы отвести, переключить эту опасность на себя, я соврал вам всем, каждому по очереди, что знаю, кто убийца. Он, конечно, все понял, но не сделал даже попытки расправиться со мной — притом, что одержим восточной борьбой с детства. Почему?
— Вы же сами сказали: чувствительность, культ дружбы. И инстинкт самосохранения. Дома соседи, окна раскрыты. Наконец — и вы мужчина, прямо скажем, не хилый. Слишком рискованно. Но вот он мог пойти за вами на службу. Там, ночью…
— Нет, нет, исключено. Он знал, что меня преследует Соня и может увидеть… — Егор улыбнулся устало. — Меня охранял мой ангел…
И она с трудом и так же устало улыбнулась в ответ, лицо вспыхнуло той, бессмертной красотою в золотом луче — и он позабыл обо всем на свете.
Нет, не забыть! Запачканный нож на блестящей поверхности стола. Не надеясь на ангела, я прихватил его с собой и таскал двое суток. Но ведь я же боялся за Соню… Все забыть — вот она, передо мной. Но сварливый голос клоуна вернул из блаженных краев:
— Я не понимаю, как тут оказался мой ребенок.
— Не торопись. Морг. Орловская линия, в которой, очевидно, скрыт мотив преступления, почти не разработана. Герман Петрович, как вы разыскали Соню?
— Именно вы, Георгий, навели меня на ряд мыслей. Теория сновидений у нас исследована слабо, но известно, что во сне растормаживаются сдерживающие центры мозга, всплывают забытые, подавленные рассудком ощущения. Вы видели во сне убитую Соню и не верили. Что-то подобное творилось и со мной. Я ни на минуту не мог забыть жену. О Соне — не смел и подумать, боялся. На опознании я был почти в невменяемом состоянии, лицо неузнаваемо, но, видимо, что-то не то, какая-то деталь, особенность в ее облике застряла, как заноза, в мозгу. Вы просили меня вспомнить, возвращали к этому ужасному моменту. После нашей беседы, ночью, я вспомнил. Руки дочери — ухоженные, длинные ногти, маникюр… только что, на помолвке… ветка сирени в пальцах. И пальцы мертвой: ногти очень коротко, как говорится, почти до мяса, острижены. Как когда-то у добросовестных, настоящих сестер милосердия.
— И у машинисток, — вставила Серафима Ивановна, а Соня пробормотала:
— Теперь у меня такие же.
— Видите, Георгий, — продолжал Неручев, — и у меня был миг озарения. Страшный, очень. Но остановиться я уже не мог. Мертвая благоухала лавандой. Надушилась перед смертью? Абсурд. Дальше — важный момент: одежда для бедных. Я восстановил тот диалог за столом. Сонечка говорила о доброте Ады преувеличенно, с пафосом, которым обычно заглушают собственные сомнения о том, что та отдала вещи бедным, «мои платья» — ты сказала. Твоя подруга поинтересовалась: «Ты теперь бесприданница?» — «Нет, — ответила ты, — мне купили взамен». Что тебе мама купила взамен?
— Это сафари, летнее платье, джинсы и кроссовки.
— Все сходится, вещи фирменные, стандартные, легко подменяемые. А если действительно подмена? Фантастика!.. Но я не мог взять себя в руки, шел все дальше и дальше. Мы говорили с Георгием о необычайной аккуратности моей жены — ни пылинки, ни соринки, то есть ни следов, ни отпечатков… Чьи отпечатки на флаконе? Убитой. Но Соня не успела бы надушиться… Кто сказал мне по телефону: «ангел смеется»? Я сошел с ума или весь мир вокруг? Я держал в руках роман Тургенева «Дворянское гнездо» — страсти и события, разыгравшиеся в провинциальном городе, откуда Захарьины ведут свою родословную, и прадед моей Ады женился на цыганке, и женщины в этом роду имеют рыжие, редчайшего медового оттенка волосы, ослепительно белую кожу и черные очи, сводящие с ума не меня одного… Георгия, например. Может быть, Романа. А если мечты Ады возле фамильного склепа не сбылись и ребенок не умер? Допустим такую гипотезу: сиротка из индийского фильма, явившаяся мстить, как пишут в слезоточивых очерках, за поруганное детство. Мелодрама. И все же: каковы могут быть ее паспортные данные (не на диком Западе, слава Богу, мы процветаем, все при документах)? Фамилию я предположил дворянскую, родовую. Про отчество также нетрудно догадаться: вот он, отец, перед нами…
— Я и не отрекаюсь, — заявил Морг.
— Про имя я уже говорил. Итак, в нашем мире, возможно, существует Варвара Васильевна Захарьина. Вероятнее всего, в Орле, если жива (дворянские, а заодно и гражданские привилегии упразднены, каждый, как правило, сидит на том шестке, где прописан). Но — вдруг? Место и год рождения известны. В обычном справочном бюро мне дали адрес: подмосковный совхоз «Заветы Ильича». Там я нашел Соню. Ваша невеста, Георгий, ночь перед убийством, как и все свои ночи, провела одна.
— А кто-нибудь в этом сомневался? — бросила Соня надменно, гордо, до боли напомнив вдруг свою мать, обольстительную гадалку.
— Соня, я же говорю: произошла подмена. Под той плитой на кладбище, рядом с матерью, лежит другая.
— Что за проклятье! — крикнул Морг. — Кто приходил к Гроссу?
— Роман, — ответил Егор. — После алой ленты на кладбище в разговоре с ним я упомянул, что надо бы уточнить у Гросса показания Антона. Он меня опередил.
— И советский журналист покрыл убийцу?
— Гросс ни в чем Романа не подозревал. Они коллеги. Очевидно, тот предложил специальному корреспонденту написать совместно книгу, имея в руках такой сенсационный материал. Гросс прощупывал мои намерения на этот счет.
— Если вы все такие умные, — заговорила Алена с горечью, — объясните же доступно и по-человечески: кто убил, за что убил и кого?
— Говорю же, все подстроила ведьма… — начал Морг таинственно, как вдруг Егор крикнул:
— Рома!
В густеющих тополиных сумерках к стеклу балконной двери прижимался полумертвый сердечный друг. Страшное зрелище: расплющенное бесформенное лицо в крови. Вурдалак! Вдруг исчез.
— Сбежал через свой балкон, — констатировал психиатр. — Как же мы забыли про балконы?
— Далеко не убежит, — отмахнулся клоун. — Его песенка спета: столько свидетелей.
— Он ни в чем не признался, — сказал Егор медленно, уговаривая себя: «Я не палач!» И все-таки добавил: — Отправился уничтожать или перепрятывать единственное вещественное доказательство. Хочет жить.
— Он хочет жить? — Катерина встала. — Ты позволишь ему жить?
— Ладно. — Егор тоже поднялся. Все согласны с Катериной? Серафима Ивановна!
— Лучше пусть ответит здесь, — сказала старуха твердо. — На земле.
— Ален, ты передала своему жениху наш вчерашний разговор в магазине?
— Ну и что?
— А то! Поехали.
— Куда?
— В Серебряный бор.
— Я, Сорин Роман Викторович, прошу занести в протокол мое добровольное чистосердечное признание и раскаяние в содеянном.
— То есть вы признаете себя виновным в предумышленном убийстве Ады Алексеевны Неручевой и Варвары Васильевны Захарьиной? — спросил майор Пронин В. Н.
— Я раскаиваюсь, но виновным себя не признаю.
— Давайте не будем. Вас уже обследовали и признали вполне дееспособным.
— Я хочу все рассказать, а там уж решайте сами. Восемнадцатого мая 1984 года я получил срочное задание редакции, — кто-то «наверху» вдруг озаботился охраной памятников, требовалась оперативность. Перед поездкой заскочил к себе домой, вышел на балкон, там сушились носки — будь они прокляты! — и все началось, закрутилось и никак не кончится… На соседнем балконе стояла Ада и попросила у меня сигарету. Ну, такой женщине ни в чем отказать нельзя…
— Какой «такой»?
— Красавица и к тому же колдунья.
— Вы состояли с ней в интимных отношениях?
— Я на нее взглянуть-то лишний раз боялся. Итак, мы закурили, я сказал, что спешу, командировка в Орел. Куда? В Орел? Вдруг Ада схватила меня за руку и принялась умолять раз-искать в этом городишке одного человека, она не может уехать, ремонт и так далее. Нет проблем! Записал под диктовку данные в записную книжку…
— Вы можете представить запись?
— Я ее впоследствии уничтожил. Узнав, что сейчас поезд, Ада быстро собрала пакет с вещами, так, что под руку попалось.
— А именно?
— Американское платье-сафари голубого цвета, белое платье из шифона, джинсы фирмы «Лэвис» и итальянские кроссовки. Сонины вещи, почти новые. И еще триста рублей. Приказала никому об этом не рассказывать.
В Орле я устроился в гостинице «Россия» в отдельном номере. И на другой день в субботу, покончив с делами, очень легко разыскал Варвару Васильевну Захарьину, 1965 года рождения. Она жила в заводском общежитии и работала секретарем-машинисткой.
— Что вы молчите?
— Она была одна в комнате, и я понял, что погиб, — с порога, с первого взгляда, я себя полностью потерял, когда в ответ на мои действия — я выложил подарки, деньги — она расхохоталась, как Настасья Филипповна у Достоевского, и вышвырнула все — не в камин — в окно. Потом я подобрал вещи там, в садике. Она велела. Чего это я разбросалась, говорит, благородные порывы оставим классическим героям, пригодятся и обноски, и купюры. Да, это не тургеневская девушка, это новый тип, я таких еще не встречал.
— Она была похожа на Софью Неручеву?
— Чертами лица не очень, но захарьинская порода ярко выражена: волосы, кожа, глаза, прекрасное тело, гибкое, удивительно изящное. В ней было столько прелести, в старинном библейском смысле — соблазна. Азарт, безрассудство, цинизм… и что-то детское, как ни странно. Вот этим, пожалуй, она напоминала сестру, а вообще… свет и тьма, день и ночь, а я люблю ночь, тайну. Про мать она сказала так: испугалась, я ее слегка шантажирую по телефону. Просто так, мне от нее ничего не нужно. Оказывается, она сумела обольстить новую заведующую детдомом (она там росла), новую — потому что старая ее адскую натуру слишком знала. И сирота выведала мамочкин адрес — только что, на днях, — ведь как все совпало, и я, дурак дураком, бросился в эти женские страсти — да еще с каким наслаждением!
— Продолжайте.
— Разбросав фирменные тряпки, она ходила взад-вперед по комнате (а какая бедность, четыре железные койки, одежда под простыней на стене, потолок в потеках). Я сказал: «Поехали со мной в Москву?» По-моему, только тут она меня заметила по-настоящему. Вдруг села ко мне на колени… не развязно, нет, в ней вообще при всей раскованности не было ничего вульгарного, — а как благовоспитанный ребенок, маленькая, легкая. Говорит: «Может, ты и пригодишься. Иди в гостиницу, мне подумать надо, я приду». Она пришла — и два дня пролетели мгновенно. Мне кажется, именно тогда она задумала преступление.
— Поконкретнее.
— Она расспрашивала про мать, Соню, Германа Петровича — так, мельком, небрежно. Задаст вопрос и как будто сразу забудет, но на самом деле помнила все до мельчайшей мелочи. Например, я рассказал про крест Ады с черным жемчугом: «Пропадет крест — быть беде». Она вроде бы не обратила внимания, но на другой день спрашивает: а где Ада держит крест? Не знаю. Надо знать.
— Вы хотите сказать, что она разрабатывала план ограбления?
— Не хочу. Она не была корыстной: Ада ей предлагала и Москву, и официальное удочерение, и драгоценности, и деньги.
Стало быть. Ада Алексеевна не боялась разоблачения… перед мужем, например?
— Ада ничего не боялась… ну, в молодости — да. А теперь… ведь она пошла на разрыв с Германом. Ее, видимо, мучили какие-то запоздалые комплексы. Вообще с дочкой они друг друга стоили, как я теперь понимаю.
— Так что же хотела Варвара Васильевна?
— Странствовать.
— За границу, что ли?
— Просто ходить пешком и ничего не делать. Быть абсолютно свободной. И прежде всего освободиться от матери.
— Разве она не была от нее свободна?
— Нет, одержима. Это связано с каким-то детским кошмаром. Варя не рассказывала.
— Что значит «освободиться от матери»?
— Убийство.
— Она говорила вам, что готовит убийство?
— Что вы! Я и не догадывался. Но минутами, когда она задумывалась, уходила в себя, мне становилось с ней страшно.
— И вы не пытались бежать?
— Я без нее жить не мог.
— Продолжайте.
— Я просил ее уехать со мной в ночь вторника, но она отвечала, что еще не решила. Она колебалась, понимаете?
— Но ведь ей надо было уволиться, выписаться и так далее?
— Плевать она на все на это хотела… но и уволилась, и выписалась — то есть приготовилась к исчезновению, понимаете? Приехала в пятницу. Позвонила мне в редакцию, я сразу ушел, мы встретились у метро. И мне как-то тревожно стало, когда она предупредила, что ее никто не должен видеть у нас в Мыльном. Почему? Сегодня узнаешь. Аде я сказал по приезде, что вещи передал, видел Варю одну минуту.
— А у Варвары Васильевны были с собой какие-то вещи?
— Она их оставила на Курском, в автоматической камере хранения. С собой у нее была только черная лаковая сумочка, она была в том сафари и дареных кроссовках. Мы прошли через парадный ход ко мне. Тут я совсем голову потерял, она спрашивала: ты на все ради меня готов? На все! Действительно на все? Да, да, да! Я не то что странствовать — я б в преисподнюю с ней пошел. И ведь пошел! Господи, что ж это за сила такая, за мука такая! Она ходила по комнатам — шикарно живешь, — звонила матери: привет, мамуля! А на кухне — я за ней всюду ходил — сказала, глядя в окно: а вон идет моя сестра (да, шли Соня с Егором) и одета как я, забавно! Жаль, я не догадалась носить алую ленту, оригинально, блеск… скажи, напоминает рану, череп раздроблен, кровавые подтеки… Я любил ее все больше, и все страшнее мне с ней было. Вдруг звонок в дверь. Егор. Приглашает на помолвку. Я, естественно, отказываюсь: работы много. А он вдруг говорит: о братьях-славянофилах пишешь? Значит, я ему проболтался, куда ездил, город не называл, но… Он философ, интеллектуал, сам в своем роде славянофил.
— Вы имеете в виду сторожа Елизарова?
— Историка. Словом, он догадался, потом. Обо всем догадался. Ну, Варя подслушивала, тут же приказала мне идти на разведку. Зачем? Хочу немного растрясти мамулю, не на милостыню же мы будем существовать в странствиях. Я говорю: все продам, японское стерео и видик, сберкнижку опустошу, все тебе куплю. А она: мне нужен черный крест, обрати внимание, где хранит, и присмотри инструмент, ведь у них ремонт? Радость моя, да она тебе отдаст, только попроси по-хорошему. А я сама все возьму! Или ты боишься? Нет, нет, все сделаю. Когда она посмотрит на меня черными своими глазами, без блеска, я буквально терял волю. А подспудно чувствовал, что сам на пределе, какой-то протест в душе нарастал, и во что все это выльется… На помолвке Ада нагадала мне ведьму, даму пик, я все разведал, но Варя чуть не испортила дело, позвонив. Психиатр решил, что это его пациентка, — ну разве нормальный человек такое скажет: надо мною ангел смеется. После звонка Аду словно подменили, она и до этого взвинчена была… склеп, кладбище… а тут как с цепи сорвалась, на Соню наорала. Когда я ушел, кто-то в дверь, потом по телефону долго звонил — наверняка Ада. Варя сказала не отпирать, не отвечать. Ладно, думаю, возьму я этот чертов крест: не в суд же она будет на дочь подавать? Постранствуем во время отпуска — и с повинной вернемся. Зато она — на всю жизнь моя. Мы всю ночь не спали — что это была за ночь; опасность, неизвестность, переменчивость моей невесты только обостряли наслаждение. Я надеялся, но ведь знал, что впереди — бездна. Даже если все обойдется, жизнь с нею бездна! Какой-то психический надлом в ней был.
Утром я подслушивал в прихожей, когда у Неручевых хлопнет входная дверь. Ада собиралась в прачечную, она была одна в квартире. Наконец — стук. Я уже был готов, то есть в перчатках. Вышел на балкон, перелез на соседний — он у Ады всегда летом открыт, она много курит, — взял на кухне фомку, подошел к шкафчику, вижу, сзади надвигается тень — и Варя сюда перебралась. Я говорю: «Уходи, я сам справлюсь!» Она не послушалась и, напевая тихонько, прошла, кажется, в комнату Сони: судя по дальнейшему, она там перебрала флаконы, гребень, надушилась. Я взломал ящик, вынул мешочек с крестом, положил в карман трико. Пошли, говорю, дело сделано. Она отозвалась с насмешкой: «Пропадет крест — быть беде. Забыл?» — «Варя, пошли!» Вышел в прихожую, чтоб вытащить ее из комнаты Сони, — тут щелкнул замок, вошла Ада.
— Ну, ну, продолжайте, я вас слушаю.
— То, что произошло в дальнейшем, я могу объяснить только наваждением, колдовством. Не смейтесь! Какие-то потусторонние силы существуют — и вне нас и в нас. Я ведь не хотел, не собирался… какое-то мгновение мы с ней глядели друг на друга молча. «Ну-ка, убирайся отсюда!» — процедила Ада (она ведь видела меня в перчатках, догадалась) и прошла на кухню, где поставила сумку с бельем. Я бросился за ней, пробормотав: «Ада, это несерьезно, это розыгрыш!» — «Говорю, убирайся!» И она сняла крючок на двери черного хода. Тут на пороге кухни возникла Варя. «Это моя невеста», — сказал я поспешно. «Убирайтесь оба!» — «И не подумаем, мамуля!» Они уже были поглощены друг другом, на меня — никакого внимания, я был третий лишний, нет, орудие, игрушка в нежных женских руках. «Ладно, — сказала Ада с презрением, — грабьте что хотите, но чтоб я больше вас обоих никогда не видела». — «Мы не грабители». — «Так что тебе нужно?» — «Тебя, мамуля». — «Не посмеешь!» — «Мой жених посмеет». Она поглядела на меня пронзительно, а Ада произнесла роковые слова (она меня спровоцировала): «Этот жалкий трусишка? Этот слабак?» Я подошел к кучке инструментов в углу, взял топор, оглянулся на Варю, она смотрела выжидающе. Когда я шел к Аде, а она пятилась от меня, побледнев, но молча, я еще не верил, что смогу. Поднял топор и вдруг услышал крик шепотом (можно так сказать?): «Нет! Не смей! Мама!» Но было уже поздно — протест перешел предел, и бес вырвался наружу… их бес, не мой! Я действовал как под наркозом. Опустил топор с размаху, Ада упала. Варя закричала (все шепотом): «Я ее убила!» — и бросилась к окну, чувствовалось, что сейчас раздастся крик настоящий, на весь мир: «Я ее убила!» Оттащил ее от окна, она — в прихожую, я за ней: «Ты! Ты убила! Моими руками! Ведьма!» Она прижалась к стенке в углу, я ее ударил обухом по голове, а она не падает, стоит и смотрит, чувствую в темноте, не умирает, а ведь должна умереть. Я начал бить уже как попало, а она стоит, ведьма, кровь ручьями течет… наконец начала медленно оседать на пол.
— Как вы думаете, почему Софья Неручева не увидела, по ее утверждению, тело убитой сестры в прихожей?
— Так ведь прихожая метров двадцать, не меньше, это ж не современные клетушки. Она лежала в дальнем, темном углу, а Соня была невменяема… Мать, Антон…
— Продолжайте.
— Я кинулся на кухню, топор почему-то на стол положил — и к себе. Весь в крови, быстро переоделся, умылся, одежду с черным крестом в сумку сунул, пошел в прихожую, по дороге прихватил ее сумочку (на подзеркальнике лежала) — и в парадный подъезд. Вдруг на площадке между вторым и третьим этажами на меня что-то бросилось, из тьмы, из ниши. Я совсем с ума сошел, метнулся назад к себе в квартиру… дюк Фердинанд, конечно, черный кот, нет дороги! Пришлось идти по черной лестнице. Вышел во двор, ничего не вижу, подхожу к тоннелю, слышу голос Егора: «Рома!» А у меня такой финт в голове, будто все всем уже известно. И вот я иду к голубятне с повинной. Ничего подобного, разговор о жаре, что надо ехать в Серебряный бор. Я понимаю, что скрываться надо со своим жутким тряпьем, и внезапно вспоминаю: сумочку Варину не успел в свою сумку спрятать, тут кот напал — и я ее выронил. Что делать?
Как вдруг — крик, тот самый запоздавший крик на весь мир. Я их перепутал на мгновение, честное слово, решил, что не добил, что мертвая восстала… но лента на Соне! Алая — как кровь из раны. Егор хватает меня за руку и тащит в тоннель, в парадное, я думаю: на казнь, пусть, чем скорее, тем лучше. Я никого в нише не заметил, даже про сумочку забыл. Стучим, стучим, тут Морг открывает — весь в крови. Зажегся свет. Господи боже мой! Я в потемках-то не ведал, что творил! Месиво, крошево вместо лица, лужа крови. Тут начинается мистика: мой друг опускается на пол возле трупа и говорит одно слово: Соня. Этого я уже вынести не мог, забился в припадке — вот тут в первый раз на меня напало, что-то вроде падучей, головокружение, однако на ногах удержался, — да на меня никто внимания не обратил. Морг — фантастика! — плакал и вдруг как взревет: «Там, на лестнице, Антоша! Я только что видел! У него рубашка в крови!» Какой еще Антоша? Какая рубашка? У меня даже припадок кончился. Я сказал: «Иду за ним!» Я не собирался за ним идти, просто невмоготу тут было и сумочку ведь надо подобрать. Однако ее нигде не оказалось — ни в нишах, ни на лестнице — разве что кот унес?
И тут из человека порядочного, хоть и поддавшегося демонскому внушению, я превратился в подонка и преступника. Как-то незаметно вкралась в голову мысль: а не навестить ли и вправду Антона? Тот сначала не открывал, потом появился полуголый и босой — неужели действительно замывает кровь? откуда она на нем? — увидел меня, бросился в ванную, заперся. Как-то само собой я расстегнул «молнию» на сумке, достал мешочек — тоже запачканный в крови, трико пропиталось, — положил его в карман старого плаща, прямо передо мной висел, руки вытер о край своей майки, ну, в сумке лежала, застегнул «молнию» и начал вышибать дверь ванной, нервная энергия требовала выхода.
Потом приехала милиция, явился Герман Петрович. Все, все без исключения опознали Соню! Я с ума сошел или весь мир? И где она? Когда явится разоблачать меня — убийцу с безукоризненным алиби? Увезли мертвых, увезли Антона. Я все время чувствовал у бедра сумку с одеждой. Как избавиться? Серебряный бор! Милый детский бор с утра застрял в голове, туда, скорее, там мне будет легче, я найду поляну, поросшую кустами, лягу в траву, прижмусь к земле… нет, сначала припрячу где-нибудь окровавленную одежду. Конечно, я не рассчитал, что суббота, толпы, но в конце концов все так и вышло: поляна, кустарник, огромный трухлявый пень, под него я и засунул вещественные доказательства. И вдруг почувствовал, что никогда уже не приду, не лягу, не прижмусь: Серебряный бор для меня загажен кровью. Как в детстве, когда я задушил голубя (клоун подговаривал), я никогда уже не смог гонять голубей, а ведь любил. И Варя — после всего этого месива и крошева ничего у меня к ней не осталось, кроме ужаса и отвращения.
И тут судьба подарила мне шанс, сначала до смерти напугав. Я свернул с поляны на тропку, там еще избушка на курьих ножках стоит. Сумрачно от сосен и уединенно. Слышу тихий голос: «Рома!» Думаю, она зовет.
— Кто зовет?
— Варя. И пошел навстречу, жить-то, в общем, незачем, да и разве я все это один вынесу? Господи, Алена! Тут у меня начался второй припадок, она не испугалась, успокаивала, уговаривала, целовала. Я так к ней привык, что потом уж и обходиться не мог. Сделал предложение — приняла. А жизнь обесцветилась, обеднела: о том не подумай, о том не вспомни, Антона я вообще из памяти вычеркнул, спал со снотворным, даже как-то притерпелся ко всему. Вдруг — расстрел. Удар первый. Устоял. Егор приносит с могилы алую ленту. Второй удар. Значит, Соня объявилась. Алиби — тю-тю! Значит, снова убивать? Какая, извините, скука, какой я запрограммированный болванчик: по кругу, по кругу, по кругу. Самоубийство? Так ведь это ладно — ничто, пустота, небытие — я согласен. А если что-то? И т а м мучиться? Я пошел к Гроссу, Егор сказал, какая-то тайна есть в показаниях. А вдруг человек перед смертью, законной, уже внесенной в списки, прозревает? Вдруг Антон что передал? Нет, все то же, земное: «Передайте Катерине, что я умираю за кого-то другого». И — голубое видение в глубине, никуда от этого дешевого символизма не деться. Это Соня там стояла, конечно, и неизвестно еще, что она видела. Так я рассуждал.
То есть вы задумали убийство Софьи Неручевой в качестве свидетельницы?
— Да нет. Так, мелькала иногда мыслишка насчет нее… или Егора. Да ведь они счастливцы, избранные, они охраняли друг друга. Она — преследуя его как убийцу; он — в поисках мертвой. В сущности, его расследование — не настоящее, он все время ждал и искал свою любовь.
— С какой целью Георгий Елизаров передал вам свой охотничий нож?
— Он хотел предоставить мне выбор между убийством и самоубийством.
— Не слишком ли много этот человек на себя берет?
— Нет, он сам рисковал — значит, имел право. «Можешь использовать его по своей воле. Я перед тобой безоружный». И был моментик: я глядел ему вслед, как он поднимается по лестнице, медленно, ступенька за ступенькой… Он — человек. Нас трое было — Жора, Антоша и я. Мы там играли в прятки, в шпионов и сыщиков… У нас ведь две лестницы, знаете…
— Знаю, насмотрелся я на ваши лестницы, на ангелов этих, купидонов. Мне уже строгача из-за ваших штучек вынесли. Вы вот что скажите: почему, догадавшись, что вы преступник, Елизаров не сдал вас куда следует?
— «Сдал»… я все-таки не вещь, гражданин следователь.
— Не придирайтесь к словам. Почему он не сообщил в органы?
— Во-первых, он меня любит. Да, любит! Во-вторых, он сомневался. В-третьих, с чем бы он меня сдал? Улик не было.
— Зачем вы поехали в Серебряный бор?
— Сдуру. Испугался. Алена слишком много знала, она ведь меня почти у пня видела. Перепрятать захотел, на этом они меня и застукали.
— Вот опись вещей: майка, трико, кеды, перчатки — всё в пятнах застарелой крови. А также красная атласная лента и пустая дамская сумочка. Два последних предмета как туда попали?
— Мне их Егор показывал в ящике своего письменного стола. Я как-то зашел к нему под вечер. А он, с тех пор как на могиле ленту нашел, кухонную дверь не запирал — ее ждал, Соню.
— Кого?
— Подсознательно ждал. Его не было, я зашел к нему в комнату, открыл ящик и взял.
— Таким образом, вы украли вещественные доказательства?
— Можно и так сказать. Я б все воспоминания уничтожил, кабы мог.
— Однако вы ничего не уничтожили.
— Негде. Костер разжигать — морока. И опасно. Вообще я вам скажу: воспоминания неистребимы. Никак! Я все надеялся: вот-вот наш проклятый особняк снесут. Новая жизнь, знаете, на новой земле, под новыми небесами.
— Это я вам обещаю.
— Жизнь?
— Насчет жизни весьма проблематично, но в особнячок свой вы не вернетесь — это факт. Давайте-ка сформулируем мотив преступления, вы журналист, человек образованный.
— Кража — нет, отпадает. Не в драгоценности дело, там у Ады полная шкатулка… Месть. Но ведь она пожалела мать, в последнюю секунду пожалела. Колдовство, черная магия, ведьма.
— Давайте без этих штучек.
— Остается любовь. Я любил ее и возненавидел просто физически, когда пролил кровь. Кровь не соединяет, нет, нет, наоборот! И все равно я не понимаю главного: как он мог пойти на это?
— Кто?
— Я.
«Многоуважаемый Георгий Николаевич!
Согласно Вашему письму (и собственному желанию), я предпринял некоторые шаги по интересующему нас делу. Опуская все подробности моих похождений (в родильный дом, детский, в заводское общежитие), сделаю резюме. 7 июня 1965 года Ада родила девочку, названную, очевидно, в честь бабушки Варварой. Варвара Васильевна Захарьина — так она значится в документах. Ребенок родился столь слабым, что мать предупредили: если она оставит его в казенных руках, он почти непременно погибнет. Ада пошла на такой противоестественный для женской природы шаг (и как она потом жила девятнадцать лет?). А девочка, к несчастью, выжила. К несчастью: ребенок умненький, здоровый, красивый, в восьмилетием возрасте подвергся ужасному насилию (усугубленному еще тем, что извергов было четверо). Она долго болела, но в конце концов жизнь взяла свое. Страдания, как считал наш величайший гений, укрепляют, смягчают, даже возвышают человека — но только не в восьмилетием возрасте, нет, нет! Она не потеряла разум (надеюсь, и душу), но психический надлом произошел: во всем случившемся она стала винить свою мать, бросившую беспомощное дитя в нашу юдоль земную. Тут не мне судить, тут я отхожу со смирением. Предупреждаю только: она опасна — хотя и сознаю, что предупреждение мое наверняка запоздало. В прошлом году Варвара Васильевна уволилась с работы, выписалась из общежития. В домовой книге в графе «Куда и когда выбыл» зафиксировано: двадцать четвертое мая, г. Москва.
Что тут еще добавить? Молюсь и надеюсь, что у нее не хватило твердости следовать изуверскому принципу «око за око, зуб за зуб», что она не посмела, не захотела отплатить. И хотя наследственные черты (вспомним студента Ваську, которого боялись старорежимные старушки; Вы не замечали, что дети всегда отвечают за грехи отцов?), тяжелая наследственность могла способствовать, подтолкнуть на шаг непоправимый — она, может быть, опомнилась. Может быть, может быть… будет ли когда-нибудь разорван круг зла, где один грех влечет за собой другой — и так до бесконечности?
Остаюсь с уважением и с ожиданием ответа
Петр Васильевич Пушечников».
«…И она опомнилась, Петр Васильевич, в самую последнюю секунду, когда было уже поздно, и погибла. И все-таки эта секунда много значит! Во всяком случае, я так чувствую.
Итак, произошла подмена моей невесты. Происходит всеобщая подмена. Детей, ангелов, материнских чувств. Разброд, шатание, предательство. С равным усилием, в равном внушении мой друг сердечный пойдет на подвиг и на преступление.
А ведь эта история, Петр Васильевич, началась с любви — с непорочного ангела в белых одеждах милосердия. Любовь — любой ценой. Конечно, Ада думала, что девочка умерла. Тем бо́льшим нечаянным ударом — или счастьем и облегчением? кто знает! — явилось для нее воскрешение. А знаете, может быть, счастьем. Как она кричала по телефону: «Я готова на все! На все!» Действительно на все, раз без колебаний рассталась с любимым мужем (а вот в Орел ехать побоялась, вы писали: на прощанье Ада заявила, что ноги ее больше там не будет. Побоялась, только вспоминала «дворянское гнездо», церковь, звонницу, ангела на плите усыпальницы: «Именно там мне хотелось бы лежать»… Именно там, где мечтала о смерти ребенка). Она готова на все ради дочери — а та является воровать драгоценности. И все же у Ады была своя «секунда», когда кто-то в голубом склонился над ней и сказал: «Боже мой!» Она простила и попросила прощения.
Так как же разомкнуть, разорвать тот круг зла, о котором вы пишете? Легко, конечно, говорить, но прежде всего это должен сделать каждый в самом себе, и уж совершенно необходимо остановить беспощадный ход государственной машины. «Смерть! Смерть убийце!» — кричат из зала. Да разве пожизненное одиночное заключение — этот земной ад — не страшнее будет? И все-таки не горсть пыли в жестянке, воровски, тайно от близких (именно так совершаются неправедные дела), в землю закопанной.
Со страхом и надеждой жду предстоящего суда. И как хотелось бы верить, что не в какие-то там мечтания о светлом будущем, а сюда, сейчас — в мерзость запустения, в тоску и отчаяние, вернется заповедь «не убий».
Нежно и печально прозвенели колокольцы, легкие, бесшумные (душой услыхал) шаги, вспыхнули червонным золотом волосы в разноцветных венецианских бликах.
— Это ты? Проходи.
Быстро прошли в ее комнату, она села с ногами в кресло, он — на пол, на ковер, глядя снизу вверх в черные очи.
— Где ты был?
— Виделся с адвокатом.
— Зачем? — спросила она враждебно.
— Он просит кое-что передать.
— Кто? Убийца? — Она вскочила и заходила взад-вперед по комнате — от окна к двери, от двери к окну. — Если ты помогаешь е м у — ты мне не нужен.
Но ничто — ни ее враждебность, ни непривычная «взрослость», ни горячка, в которой он жил сейчас, — ничто уже не могло поколебать бессонного света в душе.
— А ты мне нужна, — сказал он с робкой улыбкой, — прямо сейчас. Ты должна помочь мне совершить преступление.
Она остановилась против него.
— Что за юмор?
— Квартира Сориных опечатана. Родители его еще не приехали. Я хочу попытаться проникнуть туда через балкон. Можно?
Она опустилась на колени рядом с ним, слегка, едва касаясь, потерлась щекой о его плечо, словно вымаливая забвение и ласку. Он боялся шелохнуться, спугнуть. Господи, вот так бы и сидеть всю оставшуюся жизнь. Не выйдет! Захочется больше, больше, больше, начнется страсть, уже началась, уже невыносимое желание, бессонница и сбывшийся сон!
— Однажды вечером я шла за тобой по Тверскому.
— Да, я чувствовал.
— Солнце садилось, ты шел под липами в своих старых джинсах и вот в этой футболке. Вдруг остановился, оглянулся и посмотрел мне прямо в глаза.
— Сонечка, я не видел тебя.
— Ты посмотрел мне в глаза, и мне показалось, что ты прежний, ну, не виноват. Почему мама так сказала?
— Она сказала истинную правду, но в предсмертном страдании она вас с сестрой перепутала: твой жених — убийца. Она запомнила, что тут, на кухне, Варя, как она кричит: «Нет! Не смей! Мама!» Она же не знала, что Варя убита.
— Вместо меня, — Соня помолчала. — Слышу, не верю, еду на кладбище. Моя фотография, еще школьная — кто ж там, под плитой? Ты идешь по аллее, папа, пришли ко мне…
— Девочка моя, ангел мой… — Егор осекся.
— Что надо делать? — спросила Соня после паузы.
— Тебе — ничего. Позволь мне пройти в комнату Ады.
Он открыл балкон, перелез через перильца, поддел охотничьим ножом нижний шпингалет (все ветхое, едва держится в распаде, в сломе, в наступлении бетонных башен), поддел дверь, верхний шпингалет услужливо опал сам по себе. Шагнул через порог, горячий ветер ворвался в духоту и затхлость. Подошел к секретеру, сзади надвинулась тень, надвинулся голос:
— Она была здесь, у него, да?
— Да.
— Она сидела вот в этом вертящемся кресле, — продолжала Соня неспокойным, вздрагивающим голосом, — и звонила маме. — Соня села в кресло, он взял ее за плечи, пытаясь удержать. — Не надо, я хочу понять, она тогда уже задумала убийство?
— Соня, — сказал он строго, — она была несчастный ребенок, замученный садистами.
— Я знаю, — она откинула голову на спинку кресла. — Вот он — ангел!
У самой стены в гирлянде из роз на потолке парил небесный младенец с крыльями и с какой-то кривой, похотливой ухмылочкой.
— Он смеется, посмотри! Я так и знала.
Егор молчал потрясенный, потом спросил с трудом:
— Знала? Ты бывала у Романа?
— Я все время думала над мамиными словами, последними. В ее комнате ангел тоже летит как-то нелепо, у самой стенки, может быть, есть парный?..
— Ну конечно! — воскликнул Егор. Небесные силы разделились после социального уплотнения. Она звонила за этим секретером, вот телефон, она сказала: «Надо мною ангел смеется, догадалась?» То есть она хотела предупредить: я здесь, совсем близко, рядом.
— И мама догадалась. — Соня глядела вверх, говорила задумчиво: — Морг стал восторгаться ремонтом, помнишь? Все посмотрели на потолок, и она сорвалась, закричала: «Ничего не позволю, пока я жива!» Но почему он смеется?
— Мистический эффект объясняется, по-моему, причинами реальными: потолок протекает, видишь трещину?.. многочисленные побелки, лучшие в мире советские белила, подвыпившие маляры и так далее… Этого ангела создали минувшие десятилетия.
— А как ты думаешь, убийца понял эту фразу?
— Думаю, понял. Во время нашего разговора здесь, у него, в окно влетел солнечный зайчик, трамвай загромыхал… Зайчик поднимался вверх, вверх, я следил — и тут Рома заговорил, отвлек внимание.
— А что он просил передать?
— Книгу. — Егор снял с верхней полки секретера старинный «Новый Завет» в потертом кожаном переплете.
Наше время, бурное, насыщенное событиями воистину эпохальными, стремительно уносит в прошлое день вчерашний. И все же внимательный читатель, человек чувствующий и думающий, помнит мою публикацию о таинственной трагедии, разыгравшейся почти два года назад в доме номер семь по Мыльному переулку (помнит — чему свидетельство: многочисленные письма, поступающие в редакцию в связи со слухами о состоявшемся прошлой осенью судебном процессе). Журналистская добросовестность, стремление к истине и мне не позволяют забыть об этом. Да и как забыть, если обвиненный в грабеже и убийстве Антон Ворожейкин оказался невиновен, что выяснилось в ходе нового расследования. Разумеется, и следователь, занимавшийся тем давним уже делом, и судья, вынесшая приговор, строго наказаны, что, однако, не избавляет нас от неизбежного вопроса: как это могло случиться, при каких обстоятельствах произошла судебная ошибка?
Тут не может быть двух мнений: и следствие, и суд, и общественность, наконец, были введены в заблуждение — и кем, вы думаете? Самым близким другом покойного (увы, покойного!) Ворожейкина, отца двух маленьких детей. Роман Сорин (с сожалением вынужден признаться — мой, так сказать, собрат по перу), человек с явно садистскими наклонностями (хотя и признанный психически полноценным), совершил бесцельное, немотивированное двойное убийство, а чтобы отвести от себя подозрения, подбросил в квартиру Ворожейкиных старинную драгоценность, принадлежавшую убитой. По несчастному стечению обстоятельств Антон Ворожейкин (с самыми мирными целями) оказывается на месте преступления и оставляет свои отпечатки пальцев. Нет, я не в силах вдаваться во все кровавые подробности вторично (интересующихся отсылаю к моей публикации в газете за 25 мая 1985 года). Конечно, материал в очерке «Черный крест» подан в несколько ином свете — что ж, все мы люди, все мы имеем право на ошибку. Тем более что обстоятельства происшедшего складывались таким роковым путем, оборотень в образе человеческом (оборотень — другого слова я не могу подобрать) вел свою игру столь хладнокровно и предусмотрительно, что не только майор Пронин В. Н., но и сам комиссар Мегрэ, вероятно, не смог бы подобрать ключ к этой тайне.
Антон Иванович Ворожейкин посмертно реабилитирован, его доброе имя восстановлено. Восстановлена, наконец, и справедливость: суд под председательством судьи Морковкиной А. А., согласно статье 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах), приговорил преступника к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение.
Наш. спец. корр. Евгений Гросс».
Гелий Рябов
ALTER EGO[2]
Рожденные в года глухие…
А. Блок
Ах, какой запах на кладбище весной, какой странный, волнующий запах! Это и не тлен вовсе, ничего общего с тленом, но все же нечто печальное и даже гнетущее: коротка жизнь… И дело тут не в крестах и засохших венках с оплывающими надписями на красных лентах и не в облупившихся куполах часовен со сбитыми набок крестами, нет… Только кольнет вдруг печальная мысль — и сразу другая: да ведь этот пряный и терпкий, с химическим привкусом, всего лишь запах черного лака, которым красят ограды по весне…
Печальный обычай: вдруг заполнится пустынное дотоле кладбище черными фигурами, и возникнут аккуратно закрытые баночки из-под варенья или майонеза и новенькие кисти, третьего дня купленные в «Хозяйственном», и вот уже усохшая ручка в синих прожилках (сколь реже — молодая!) трудится у решетки — «вжик-вжик», и исчезает ржавчина до следующей весны…
А надписи? Сколько их тут — от эпитафий в державинском вкусе до новейших: «Спи, родной. Твоя Тутти грустит без тебя». Или социально: «Врач-общественник и член…» — ну и так далее.
О, эти надписи, афористичные, тонкие, сколь много скрыто в них! Всего несколько слов, но каких! Целая жизнь и даже судьба. Вот был человек и оставил по себе память, то ли добрыми делами, то ли злодейством или прекрасными помыслами, и есть чему позавидовать или о чем вздохнуть горько — время-то какое многослойное…
На это кладбище Хожанов приходил по родственной необходимости, здесь были похоронены родители, покоились в стене две маленькие урны из обожженной глины, с прахом, похожим на мелкую, раздробленную гальку (он впервые увидел это очень давно, лет двадцать назад, — разбитое стекло, расколотая надвое урна, с треснувшей фотографии улыбалась совсем еще молодая женщина, и трещина — по смеющимся губам, по улыбке… А выше, ниже, справа и слева — еще и еще, много ликов и лиц, и детские среди них, — исчезая и вновь возникая, и еще — с другими глазами и другими мыслями, но всегда с непреложной сутью: суета сует и всяческая суета…).
Нет, он был не против похорон, не против предания праха земле или даже стене, просто научился понимать: в смерти есть нечто похожее на вечность только для мертвых. Для живых ее нет и не может быть никогда…
…Он неторопливо вышагивал по знакомой тропинке, отмечая новые холмики и кучи засохших венков, новые памятники на примелькавшихся аллеях, — доски из стали или латуни, мраморные плиты, ангелов, позаимствованных с исчезнувших могил, покосившиеся, а то и ушедшие в землю литые ограды XIX века и рядом — современные, сваренные автогеном из толстого железного прута — унылый соцреализм: все линии вертикальны, одна — горизонтальна, калитка — без замка, на проволочке, а площадка — максимально возможная — два на два, уж никак не меньше; запасливые родственники, бросив горсть земли на дорогую утрату, может быть, впервые в жизни начинали вымерять печальное пространство и для себя тоже…
Внезапно запах лака стал сильнее и вдруг сделался невыносимым; Хожанов увидел женщину средних лет в подчеркнуто траурном облачении: прозрачный кружевной платок черного цвета, скорее даже шаль («…гляжу, как безумный, на черную шаль…» — совсем некстати подумал он), элегантное, черное же, пальто подчеркивало тонкую талию и все, что отходило от нее вверх и вниз; рука — белая, с длинными пальцами и рекламно ухоженными ногтями — на секунду замедлила ровное и сильное движение, глаза равнодушно скользнули по Хожанову, и вдруг несколько капель упало на белый кружевной манжет, кокетливо высунувшийся из-под обшлага; незнакомка слегка вскрикнула и взглянула раздраженно: «Что же вы стоите? Вы разве не видите?» — «Конечно, конечно, — опомнился Хожанов, доставая носовой платок. — Позвольте…» Он тщательно вытер кружево, отчего оно мгновенно приобрело землистый, а местами даже антрацитовый оттенок, и растерянно произнес: «Извините, не сообразил». — «Что уж теперь… — махнула рукой. — Спасибо».
Он поклонился, бросив невольный взгляд на талию — уж слишком тонка она была, — и отметил про себя, что незнакомка красива: большие синие глаза, из-под платка — черные волосы с отблеском вороненой стали (в его оценке проскользнул некий оружейный оттенок, — видимо, потому, что его всего как год уволили из alma mater «за неразборчивые связи», и этот пресловутый «отблеск» преследовал его, хотя личного оружия у него никогда не было, не полагалось, — так, нечто детское или, скорее, мальчишеское), благородно-розовато-бледная кожа лица, которую во все времена принято было называть «бархатной» (пошлость, конечно, но других слов Хожанов не нашел — по растерянности, наверное), и в довершение всего невольное внимание привлекли огромные бриллиантовые серьги. Он даже спросил, не сдержавшись: «Фианиты?» И она, мгновенно поняв, так же коротко бросила: «Нет». Бриллианты, конечно, мог бы сразу догадаться… Эта глупая мысль вертелась у него в мозгу до тех пор, пока не мелькнула за разросшимся кустом доска с портретом родителей…
Здесь ничего не переменилось: слева хмурился академик Лапченко с орденом на лацкане, так носили до войны, справа — председатель Укоопинсоюза Сивоконев — брыластый, значительный, со значком «За отличную работу в комсомоле», а между ними — папа в военной форме и мама в легком, воздушном платье, которого никогда он на ней не видел или не помнил, может быть… На полочке лежали засохшие цветы, он положил их полгода назад; тогда — в тот хмурый, пасмурный день — вдруг стало невыносимо гадко, тяжело, безысходно даже, в такие минуты его всегда тянуло к ним, на это старинное городское кладбище, полузаброшенное почти… Вот и сегодня потянуло, хотя день был на удивление солнечный, яркий. Цветы… Белые и темно-красные розы, совсем уже потерявшие цвет и рассыпавшиеся, но это было все равно и даже хорошо, потому что по этим останкам определял он, приходила ли сюда она. Жена. Если цветы валялись на земле и были старательно и умело растоптаны, значит, была… Ведь приходила всегда с одной-единственной целью: показать, доказать, продемонстрировать, — но все было на месте, добрый знак…
Господи, какая скучная и беспросветная мука… На другой день после увольнения из alma mater она произнесла непримиримо-высоким голосом: «Даю три дня. Если не устроишься — пойду в милицию».
Глупость какая… При чем тут «менты»? Ведь человек рожден свободным. (Он тут же мысленно продолжил расхожий трюизм: а между тем он всюду в оковах.) «И чего ты добьешься?» — «Чего надо, того и добьюсь». Прелестно…
Что произошло, откуда пришла отчужденность, где и когда началось крушение?..
Вспомнил: однажды приехала теща — из далекого провинциального города с патриархальным кержацким укладом, беспробудным пьянством по престольным и советским праздникам, скандалами посреди улицы и сонмом родственников, разбросанных по полям и весям этой горнорудной столицы. А он только что внедрил некое изобретение, за что непосредственный начальник получил простой орден, начальник же вышестоящий — по иерархической лестнице — орден с красивыми накладками, а он — мозг, золотые руки — всего пятьсот рублей. С них даже не удержали подоходного налога. «Награда»… — значительно и сурово проговорила начфин. И тогда он решил — впервые в жизни — подарить странной своей супруге некое украшение (в alma mater украшения не то чтобы преследовались — нет, они просто не поощрялись. В конце концов, те, кто служит великому делу, не должны уходить в бытовизмы и мелкобуржуазное благополучие. Вовремя отдыхать, правильно питаться, иметь качественную, но незаметную в море житейском одежду и — никаких лишних вещей в квартире. Усреднение снаружи и гениальность внутри — вот эталон бытия, быта и прочих атрибутов существования) и практически впервые в жизни зашел в ювелирный магазин на некогда значительной городской улице.
Ах, какое пламя, какой огонь ударил ему в глаза! Россыпи рубинов, изумрудов, бриллиантов переливались всеми цветами радуги, будоражили воображение и нервы; только здесь по-настоящему и как-то вдруг ощутил он, что страна и в самом деле движется к вершинам благополучия и некогда обещанные нужники из благородного металла, ей-богу, очень скоро украсят и облагородят (а это — главное!) квартиры строителей и созидателей… Он представил себе — всего лишь на мгновение — этот сверкающий неброско и величественно нужник в уютном окраинном домике тещи, и ему стало сказочно хорошо и даже благостно. («Мысли, достойные функционера, — споткнулся он вдруг. — Ну и что? Функционеры тоже люди…»)
Между тем нужно было выбрать образчик овеществленных чувств к любимой (хотя и странной, странной, черт возьми, женщины, но ведь это выделяло ее среди других, выделяло ведь, не правда ли?), и он решил посоветоваться с продавцом. Милая девушка молча положила перед ним странное сплетение проволоки разного цвета с серым булыгообразным осколком посредине, и тогда, поняв, что его не принимают всерьез, он наугад ткнул в сверкающее стекло, за которым едва различимо выступали на маленькой этикетке три цифры: «500», — ровно столько, сколько вручили ему накануне. Девушка усмешливо глянула, терновый венец исчез, и появилось кольцо из желтого, редкостного оттенка металла с плоским прозрачным камнем, оправленным в тонкий каст. «Проба 750, бриллиант 0,5, огранен изумрудно, — скучным голосом проговорила девушка. — Берете?» — «Выписывайте». Он направился к кассе, она проводила его слегка растерянным взглядом…
Вечером он торжественно поднес предмет любимой, та доброжелательно улыбнулась, и глаза ее сузились: «А ты говоришь, не любит…» — «Посмотрим…» — отозвалась теща, зачем-то пожимая плечами.
Утром, за завтраком, выяснилось, что, пробегав накануне по ювелирным, он забыл внести квартирную плату и даже истратил из взноса какие-то рубли. Самое страшное заключалось в том, что объяснить достоверно и членораздельно, куда он их истратил, было совершенно невозможно. Ведь эта трата была связана, увы, с тем, что уже через три дня определили в alma mater сакраментальными словами: «неразборчивая связь»… И тогда любимая, усмехнувшись, как Мона Лиза, ударила его по лицу, и чашка кофе, которую он, ничего не подозревая, только что поднес ко рту, дабы сделать вкусный глоток, выпрыгнула из рук и разлетелась на мелкие осколки, залив красивый пол метлахской плитки отвратительной бурой лужей…
А «неразборчивая связь» — о, это была давняя история… Когда-то, в незапамятные времена, заканчивал он десятый класс одной из полных и вполне средних городских школ, и весенним теплым вечером пригласил его приятель к своей знакомой девочке в гости. «Там приятное общество, — объяснил с загадочной улыбкой. — Впрочем, увидишь сам…» Он и увидел: пять парней-десятиклассников и столько же девиц — и конечно же хозяйка — голубоглазая блондинка в розовом прозрачном платье, — затаив дыхание, слушали властителя дум с буйной шевелюрой, тот, ритмично взмахивая руками, читал Брюсова: «Фиолетовые руки на эмалевой стене…» Удивительно это было… У него в десятом преподавал литературу филолог из университета, и здорово, как ему казалось, преподавал — когда читал «На смерть поэта», у всех в глазах слезы стояли, — но чтобы «фиолетовые руки» — нет, не случилось, времени не хватало, очень уж обширна была программа (только что ее дополнили описанием бессмертного подвига молодогвардейцев с уточнениями, внесенными автором по указанию Первого лица, и, судя по всему, с большим плезиром), а собственного желания прочесть Брюсова, увы, не возникло… Почему? А бог его знает. Филолог филологом, а все равно скука.
…И вот патлатый закончил, и Хожанов с тоской поймал влюбленный взгляд блондинки, брошенный, увы, совсем в другую сторону…
Потом часто встречались — на вечеринках, и в театр ходили, и в кино, однажды мама красотки дала десять рублей от щедрот своих, и поехали в ботанический сад, отдыхать денег едва хватило на два пирожка с мясом и две порции мороженого, но все равно, поездка произвела впечатление неуловимо прекрасное, трогательное даже…
И «Осень, прозрачное утро…» часто певали хором, и слезы выступали — так, право, хорошо было… Но, посадив ее однажды к себе на колени и ощутив некую странную в ней дрожь, догадался, что не десятиклассница это, а женщина, и, мгновенно подавив вдруг остро вспыхнувшее с неведомой дотоле реальностью чувство, осторожно отстранился и сел на стул, рядом. И сразу понял, что она удивлена и разочарована, но — невозможно было нарушить нечто, пронизавшее душу и сердце странным и непостижимым запретом: в одну из встреч застал у нее мужчину лет тридцати на вид, «старика», как определил для себя, и успел услышать быстрые, путающиеся слова: «Прошу, я прошу тебя…», и красное потное лицо, и костыль в углу комнаты, и орденские планки на мятом пиджаке. Время было такое, война еще не была памятна, награды вызывали уважение.
А потом расстались — на долгие годы, как выяснилось позже. Правда, случилась одна встреча — лет через пять, он учился на последнем курсе, и она появилась на вечере и, жарко дыша ему в щеку, проговорила прерывающимся голосом: «Я ведь из-за тебя пришла… А это — мой муж, познакомься». Он увидел невзрачного молодого человека, мелькнувшего когда-то на одной из ее вечеринок.
И снова расстались, и встретились спустя лет десять, а то и все пятнадцать в гастрономе: он покупал селедку (ее обожала любимая — с лучком и вареной картошкой), а бывшая, мимолетная, ссыпала в старушечью сумку грязный картофель и корявую морковь. Узнала, вспыхнула, после взволнованных «что» и «как» взяла за руку железной хваткой, улыбнулась: «Я надеюсь, ты поможешь даме?» Что от нее осталось, от той девочки в розовом платье, тоненькой, с высоким и сильным бюстом и игривыми голубыми глазками. Увы… Но помочь не отказался, подумав, что ничего такого нет и не может быть. Но как заметил великий поэт: «Ты знала. Я тебя не знал»; он ошибся жестоко и непредсказуемо… После кофе Лена появилась в длинном халате и села, подняв полу значительно выше, чем следовало; улыбнулась: «Расскажи, как живешь? Женился? Кто она?» Долго и нудно излагал что-то, не замечая, как загораются подвыцветшие глаза странным мерцающим огнем, и вдруг почувствовал, как она властно и неудержимо тянет его к себе, и мелькнуло где-то далеко-далеко: ну и что? Разве дома рай Божий и очень ждут? Плевать… И, еще более вяло уклоняясь от ищущих губ, спросил: «А… он?» — «Он не придет…»
Так это началось и продолжалось довольно долго — до тех пор, пока однажды не попросила она помочь вынести клетку с волнистыми попугайчиками: собиралась отвезти их к маме, у мужа началась аллергия. До первого этажа все шло вполне благополучно, а в дверях он нос к носу столкнулся со своим участковым уполномоченным, или инспектором, как их стали теперь называть, и тот скользнул профессионально-удивленным взглядом сначала по его лицу, потом по клетке с немилосердно верещавшими попугаями и совсем потом, как бы на закуску, по ее лицу. Но вида не подал, прошел мимо. А Хожанов обмер, и сердце оборвалось, и мгновенно ощутил он его низко-низко — в земле, наверное. Сухо попрощавшись (она удивленно и обиженно пожала плечами — за что?), помчался домой. Весь вечер пытался быть добрым, покладистым и преуспел, так продолжалось дня три, той он не звонил и даже о ней не думал, но беда все же пришла, и катастрофа разразилась — впрочем, совсем с другой стороны…
Утром вызвал старший и, сдвинув брови, приказал идти к руководству. Там секретарь, горестно качнув красивой седой головой, пропустил вне очереди, и суровый № 1, подняв глаза от бумаг, жестом предложил сесть. «Как дела, как настроение?» — «Нормально». Он лихорадочно соображал, зачем вызвал «сам», и ничего не мог придумать. Между тем тот поджал губы, слегка дернул головой и развел руками — у него это означало крайнюю степень возмущения и недоумения. «Хожанов, где мы имеем место быть?» Риторический вопрос… «Вы понимаете, что знакомства наших работников («сам» был доктором наук и поэтому на профессиональном сленге никогда не изъяснялся) нам совсем не безразличны?» — «Но позвольте…» — начал было Хожанов уверенно и раздраженно и тут же оборвался, вспомнил: Лена — пассия — принадлежала к немногочисленной в мировом исчислении и славной национальности, некогда доставившей родине немало хлопот и забот разного рода войнами, восстаниями и противостояниями, что не искупалось даже двумя великими писателями и одним невероятно великим композитором, подаренным этими гордыми людьми миру. Конфронтации были обычным состоянием в далеком прошлом, недавнем (гражданская война, например), да и теперь в этом государстве длилось до невозможности долго нечто подобное. Как он мог об этом позабыть… И сразу вывернулся откуда-то из темноты совсем уже бесполезный вопрос: а как № 1 узнал?
Ах, как наивно и пошло… Проще простого: чертов участковый донес жене (сам курощуп первостатейный и оттого — невероятной силы моралист!), а та, по бессмысленной своей злобе и прямому наущению мамочки, сообщила на службу, дабы круто ему насолить. Да разве это «круто»? Вот сейчас он произнесет…
«Увы, мой друг… Мы вас ценим, вы внесли предложение, которое позволило завершить наиважнейший для всех нас, советских людей, труд, но… — И тут он снова развел руками, переходя на «ты»: — Ты подумай, милиция сообщает о твоих проделках! Сколько же можно предупреждать, наставлять, предостерегать? А если что?.. Ты ведь знаешь: мы обязаны думать не столько о реальном, сколько о гипотетическом ущербе. Именно он реален, мне ли тебе объяснять?»
«Но… Кто, когда предупреждал меня? Зачем этот ликбез?»
А-а… Будь что будет! Лучше умереть стоя…
«Мне доложили, что ты уже дважды предупрежден, но не внемлешь… И потом: ты гарантируешь, что ее знакомства чисты, как алмаз зимой?»
Шеф, вполне очевидно, разволновался и поэтому перепутал алмаз со снегом.
Нет, этого он гарантировать не мог — даже в том, впрочем, случае, если бы речь шла о самом близком друге. Не бытовая все же ситуация…
Через два дня ему вручили «бегунок», на медкомиссию не направили, «неразборчивые связи» исключали выходное пособие.
…Ну и что было делать ему, безработному? От тоски и скуки он начал путешествовать по кладбищам, постигая сущность жизни и смерти методом, так сказать, интуитивным. В крематории, например, его поразила торжественная процедура исчезновения гроба в провале, вдруг возникающем посередине зала; на старообрядческом (бывшем, конечно) кладбище — приверженность традициям: четверо почтенных пенсионеров провожали в последний путь подругу возраста вполне неопределенного и дребезжащим хором — когда опускался гроб в яму — выводили давно позабытое: «Вы жертвою пали…»
Много он перевидел и передумал, и даже жизнь вдруг вошла в какую-то непривычно накатанную колею — с философскими обобщениями и горькими постижениями и прочим хламом, который обыкновенно сопровождает смерть.
…И вот он проснулся посреди ночи, слева похрапывала и подсвистывала любимая, вдруг странное чувство, а вернее — воспоминание пришло к нему: тонкая, в черной сетчатой перчатке рука, синие глаза из-под кружевного платка (да-да, как безумный, глядел он тогда на этот платок!) и грудной, призывающий в неведомые дали голос…
Осторожно, чтобы не разбудить «сокровище», сполз с постели, достал из платяного шкафа одежду и вышел на цыпочках. Денег на такси не было (откуда?), до кладбища — невероятно (даже по широким городским масштабам) далеко, да ведь что ж… Пойдет пешком и, Бог даст, когда-нибудь придет…
Удивителен и таинствен был город на переломе ночи: мертвые дома без единого огонька, троллейбусы, беззащитно прижавшиеся к тротуарам, редкие фонари — так, не свет, а нечто призрачное. И — никого. А может быть, это ему повезло, потому что по ночам (ему зачастую приходилось в прошлой жизни возвращаться за полночь) всегда попадались прохожие, и немало, а здесь…
От дома и до самого кладбища не встретилось ни души, и это было как во сне или в сказке — в детстве он видел «Синюю птицу», и там, сквозь туман театральной кисеи, возникали вдруг фигуры дедушки и бабушки Тильтиль и Митиль, и тихое царство смерти звучало вокруг, а нынешний ночной город так напоминал ту грустную страну за призрачной дымкой, так напоминал…
А потом обозначились в зыбкой темноте кирпичная стена с прорезным орнаментом в виде креста и чугунные ворота, закрытые накрепко, но это не помешало: он знал лазейку (случайно заметил во время давних кладбищенских странствий) и, легко миновав ее, очутился среди крестов и надгробий.
Впервые в жизни случилось с ним такое; едва слышно шелестели вековые деревья, асфальтовая дорожка мутно струилась сквозь черные памятники, исчезая, едва начавшись, но странно, вместо такого естественного здесь тревожного чувства охватило его игривое настроение, как в детстве во время пряток или сражений казаков-разбойников: было совсем не страшно, даже любопытно: а вдруг и в самом деле качнется крест и появится некто или нечто — и что тогда? Экая чушь… И все потому, что не тверд в мировоззрении, ох, не тверд… А вот раньше все были тверды (только зачем — экая странная мысль…).
Он вспомнил печальную историю отца, погибшего в заводском цеху от случайного взрыва, завод был рядом с кладбищем, похоронили на нем, а мама присоединилась к отцу двадцать три года спустя. Странно, конечно… Лютеранское кладбище, на нем немцев всегда хоронили. Перепуталось все… Хотя какая, в сущности, разница — православное, лютеранское, даже еврейское, ей-богу… Несть еллин, ни иудей, но всё и во всем Христос — так, кажется, определил это некогда всё встреченный на волжском пароходе священник… И, честное слово, был прав — в отличие от бывших начальников, обнаруживших в его никчемной жизни «неразборчивую связь».
Христос… Любопытно, а он, Хожанов, верит в Бога? И есть ли Бог?
От этих странных мыслей его отвлек негромкий скрип калитки, среди оград мелькнула темная фигура и мгновенно растаяла в глубине кладбища. «Не один схожу с ума… — равнодушно пробормотал он. — В многомиллионном городе всегда отыщется несколько сумасшедших…» (Ах, если бы только несколько, но это позже, позже.)
Он вдруг увидел, что стоит около склепа пастора Грубера, погребенного в самом начале двадцатого века. Знакомое место… В былые годы простирал здесь руки Христос благословляющий. Но разве могли перенести это борцы с дурманом? И вот городские власти убрали бронзовую фигуру…
— Любуетесь? — тихо спросили сзади.
— Печалюсь, пожалуй… — не оборачиваясь, отозвался Хожанов.
Что же… Городской сумасшедший нумер два обрел-таки плоть и кровь.
— А что вы хотите… — Незнакомец вышел из сумрака и встал рядом. На вид ему было не более сорока, он ежился, сжимал ладонями предплечья и слегка пританцовывал. — Хамы. Разве нет? Сносят памятники, разравнивают кладбища — а ведь это часть культуры нашей, истории, и какая, согласитесь, часть… До живых-то им мало дела. В магазины, поди, регулярно ходите? Жрать-то нечего. Разве нет? А до мертвых дело всем. Здесь «инициатива» цветет махровым цветом. А вот, знаете ли, некий библиотекарь искренне полагал: чтя предков, человечество обретет бессмертие… Ну, наши-то истинно обретут — пустыми прилавками и уличными лозунгами. Да еще портретами, нет?
— Вы, я смотрю, окоченели совсем… Может, на вокзал и кофейку?
— Благодарствуйте, кофия организм не принимает по причине отравления алкоголем. Помните? Мой организм, говорит, совершенно отравлен алкоголем… А знаете, оголтелый-то филолог-революционер пьески-то не понял… Пьеска-то — про встречу смертного человека с апостолом Христовым… Не согласны?
С трудом догадавшись, о какой «пьеске»[3] идет речь (школьная программа, пройденная много лет назад, никогда не отзывалась в душе даже похоронным звоном. Так, пробубнили что-то да и забыли за ненадобностью… «Сигнал к восстанию?» — так, кажется, определил «оголтелый революционер»? А черт его знает…).
— Не помню… А у вас и основания для подобной версии есть? Выстраданные, поди?
— Напрасно насмешничаете… Лука — он, по-вашему, кто?
— Вредный старикашка, — вдруг вспомнил Хожанов.
— Ошиблись… Он — Лука — Христов апостол и евангелист святой, если вдуматься, конечно… А помните, как Васька Пепел смотрит на него и… догадывается, помните? «Так, значит… ты…» — так говорит и ставит точку. Только открывшееся Ваське никому больше не открылось. Вот и вышел «сигнал к восстанию». А вы задумайтесь — двадцатый век скоро кончится, а по сути, по сути-то? То-то и оно… — Он приподнял вязаный колпак неопределенного (от темноты) цвета и растаял в ночи.
А Хожанов побрел к выходу, полный недоумения и сомнений, сомнений… Экий невозможный призрак — не то алкоголик вокзальный, не то бродячий философ на почве простого алкогольного опьянения…
Но была в его неясных, сбивчивых, нервных фразах отдаленная правда, намек странный, догадка…
У ворот хмурый сторож студенческого обличья бормотнул равнодушно: «Ходят тут всякие, а через день сопромат… Милицию вызову, понял?» Но выпустил без дальнейших осложнений. Уже занимался рассвет, перспектива длинного пешего путешествия в обратную сторону была до невозможности огорчительной. Хожанов вошел в садик напротив кладбища, сел на скамейку и, запахнув полы пиджака, задремал… Но тут же кольнуло: как же, ушел с кладбища, а та могила? Где красила ограду в кольцах узкая рука?
…Студент глянул со спокойным сочувствием: «Мама, значит? И папа? Цветы забыл положить? А времени сейчас сколько? Вот что, дяденька, я ведь и психушку вызвать могу!» И тогда Хожанова прорвало. Он рассказал про встречу с незнакомкой, про ограду, про краску, капнувшую на запястье. «Ты уж не влюбился ли?» — «Не знаю…» — «Ну и ну… Достоевского «Дневники» читал? «Бобок» — есть там такой рассказ… Я думаю, ты один из тех». — «Все может быть…» Что ж, действительно все может случиться, самое невероятное даже, но спросить у студента, в чем смысл пресловутого «Бобка», не решился, стало почему-то стыдно, подумал горестно: вот, образование вполне высшее, а толку что? Прав алкоголик, ох, прав…
Могилу, еще припахивавшую свежим лаком, отыскал мгновенно, ноги сами несли, за старинной оградой (у мадам здесь, наверное, родовое место, подумал о незнакомке с неожиданной завистью. Вот ведь как умирали когда-то… Как и жили, впрочем) сухо чернел на фоне рассветного неба высокий обелиск (надо же, не заметил в прошлый раз…), и таинственно проступал благородный профиль белого мрамора, и золотая надпись под ним будто отрицала земную суету… И бог с ним, с профилем, но вот надпись, надпись! Он яростно начал тереть глаза — не привиделось ли, но нет, буквы извещали, что под сим камнем погребен Строев Константин Захарович, член КПСС…
Он сталкивался с этим человеком в прошлой жизни. Константин Захарович возглавлял одну профессиональную организацию и как-то раз обратился за консультацией. Его интересовало: можно ли с помощью новейших достижений кибернетики и системного анализа бороться с преступностью? «На Западе уже долгие и долгие годы ребусы уголовников разгадывают компьютеры», — объяснил тогда Хожанов. Но взял ли хоть что-нибудь на вооружение Строев — не знал: помешало увольнение и все последующее…
Так вот с кем привел случай встретиться… Интересно-то как… Кто она ему? Жена? Дочь? Взглянул на дату рождения: 1930-й. Нет, на дочь не похожа, жена, наверное, а точнее — вдова. И найти ее будет очень и очень легко, между прочим…
Стоп. Как это «найти»? Зачем? Цель-то совершенно безнравственная… Он представил, а точнее — вспомнил глаза с поволокой, и овал лица, и кожу, и длинные стройные ноги, и модную одежду — выдающегося, между прочим, качества, стиль, столь украшающий женщину и столь возвышающий ее, если она и без того красива…
И здесь кольнуло — болезненно, уныло, безысходно. Не получилась жизнь, не сложилась… И любимая спит, разметавшись во сне, и нет ей дела, где ее Хожанов, плевать… А уж на мысли его и осмысления всякие и страдания… Чего там, все равно.
Он распалялся несчастностью и неустроенностью, возбуждая в себе сожаление и даже отчаяние, и вдруг снова кольнуло: ну а право-то, право на счастье это чертово у него есть? Ну несомненно же есть, оно у всех есть, у каждого, хотя это теоретически, практически же — только у тех, кого «сигнал к восстанию» и само восстание вывело ко «всему», прямо-таки по гимну… А что делать остальным? Наверное, ждать и надеяться. Или трудиться в поте лица, авось когда-нибудь и оценят… Уже уходя, заметил он в углу ограды аккуратно сложенные венки с засохшими цветами и зачем-то пересчитал их и даже надписи, те самые, полустертые, тоже прочитал, не поленился, благо рассвет уже начинался и кладбищенские птички заливались вовсю…
…Дома увидел на кухонном столе записку:
«Как тебе не стыдно, Алексей! Если по ночам ты желаешь общаться с непотребными женщинами — знай: моя любовь и чистое чувство подорваны безвозвратно! На работу ты не устроился, участковому все известно, поэтому я решила: мы чужие с этих пор!»
Ах, как все это было изначально бесперспективно. Ну — год еще, ну — два… Конец-то один… И что делать? Что?
Размышления прервал резкий телефонный звонок. С трудом отвлекаясь от горестных мыслей, снял трубку: «Да?» О Боже, это была она, невозможно было поверить, но и не узнать грудной голос, переливающиеся, словно старое благородное вино (из бурдюка — в бокал!), модуляции тоже было невозможно! С полминуты не мог прийти в себя и только бурчал что-то неразборчивое, и тогда последовал веселый (так ему показалось) вопрос: «Алексей Николаевич, вы меня слышите?» Вот это номер! Имя-отчество? Откуда? Как узнала? Зачем? Он рухнул под тяжестью этих пустых вопросов и, с трудом нащупывая смысл происходящего, забубнил в трубку: «Да… Я… А… Вы? То есть как вас называть?» — «Изабелла Юрьевна». — «Певица?» — «Какая певица, вы о чем?» — «Ну, была такая… До войны… А что?» — «Мне нужно вас видеть. Немедленно. Адрес…» И она стальным голосом проговорила улицу, номер дома, код парадного и квартиру. Это было не слишком далеко, но она вдруг добавила: «Возьмите такси, я встречу и заплачу». — «То есть… как? — обомлел он. — Как это «заплачу»? Вы за кого меня принимаете?» Голос у него сразу же сорвался на мерзкий фальцет, но это не произвело впечатления. «Я жду», — в трубке послышались короткие гудки.
Ошеломленный и растерянный, бормоча под нос нечто невразумительное, начал он выкидывать из платяного шкафа рубашки, интуитивно догадываясь, что нужно отыскать лучшую. Увы, лучших не было, каждая с дефектом: или пуговица оторвалась, или воротничок-вытерся и выглядел неприлично. Выбрав наиболее пристойную, начал завязывать галстук (у него был всего один) и обнаружил на нем жирное пятно. Но времени не было, и пятно пришлось презреть.
Натягивая изрядно помявшиеся за ночь брюки, он вдруг в ужасе увидал на себе трусы из разноцветного сатина и вспомнил фразу сослуживца, произнесенную некогда в сауне, куда он попал однажды совершенно случайно: «Ты с ума сошел, что ли? — искривил рот этот кандидат технических наук. — У тебя что, кроме жены — никого? — Ответ он прочел в глазах Хожанова и сочувственно покачал головой: — В черном теле держит? Они такие… Знают, стервозы: имея такие подштанники, мужик ничего с себя не снимет, кроме пиджака, да и то если рубашка позволяет…»
А у него сейчас ни рубашки, ни все остальное, увы, «не позволяли»…
И тут же устыдился: трусы, рубашка… Да пропади все пропадом, кто его приглашал раздеваться? И кто пригласит? Эта Венера, то есть Изабелла? Обхохотаться… С чего он взял?
Ох, ох, ох… Да ни с чего не взял. Просто слабым и весьма далеким отблеском промелькнула надежда. Ведь так интересно. Такая женщина. А вдруг? А если? Ведь никаких у него не было. Никогда. Лена-то — не в счет. Она «неразборчивая связь», всего лишь…
На такси не поехал «из принсипа» (черт его знает, еще одно словечко выпорхнуло неизвестно откуда. С чего бы это?), дотрясся на троллейбусе и дом нашел без малейшей заминки, и она стояла у кромки тротуара, жадно обыскивая взглядом проносящиеся мимо такси; заметив его, укоризненно покачала головой: «Я же попросила…» — «Это неудобно», — сухо отозвался он, давая понять, что скользкую тему развивать не намерен. «Как вам будет угодно. Пойдемте». Она пошла первой, показывая дорогу. Подъезд был с домофоном и кодом, она набрала несколько цифр, вошли. Как он ни волновался, но успел рассмотреть ее всю — от экстрамодных туфель до заколки в волосах — не очень модной, зато очень яркой — высверкнули разноцветные камни и матово — оправа из платины или серебра, но он тут же успокоил себя: бижутерия, наверное, даже наверняка. И где-то когда-то промелькнувшее всплыло в памяти: эгрет…
В лифте ехали молча, по отблеску света, ритмично врывавшемуся в зеркальные стекла, он насчитал семь этажей, потом лифт дернулся и заскрежетал. Вышли в холл, здесь стояли уютные кресла и столик на небольшом ковре; перехватив его взгляд, она слегка повела плечами: «У нас и консьержка внизу, разве не заметили?» — «Нет. А что?» — «Ничего. Просто я думала, что вы человек профессионально наблюдательный». — «Профессионально? Это как?» — «Это так, — она явно не принимала его излишне простодушного тона, — что я знаю о вас достаточно». — «Потому и пригласили?» — «А вы думали — почему?» — «Не знаю… Скажем, я действительно не заметил консьержки, потому что был целиком и полностью поглощен созерцанием… Еще с той встречи, на кладбище, помните?» — «Помню. — Она как-то слишком сухо усмехнулась и, достав всего лишь один ключ, легко повернула его в замке. — Прошу… — Провела через прихожую, зажгла свет. — Алексей Николаевич, договоримся сразу: если ваши сдержанно-пылкие слова — признание в любви, — этого не нужно, потому что цель и смысл нашего свидания совсем в другом». — «Жаль… А я так надеялся…» — не то пошутил, не то признался он, но она снова не приняла ни тона, ни слов: «Оставьте, это скучно. Скажите, вам совсем неинтересно, каким образом я вас нашла? И зачем?» — «Изабелла Юрьевна, интересно только то, что загадочно, а это… — В нем вспыхнула обида: за кого она его принимает, в самом деле?.. — В моей прошлой жизни, скажем так, я встречался с вашим мужем… По служебной надобности. Так что разыскать меня было не так уж и сложно. Остались ваши друзья, продолжающие служить в системе, и дальнейшее просто. Ну, а цель… Это еще проще: ваш муж не так давно умер и похоронен не слишком пышно — я пересчитал венки и прочитал надписи, свидетельство неоспоримое… Полагаю — встреча наша так или иначе связана с вашим покойным супругом?»
— Ну, что ж… Чай или кофе?
— Кофе, если нетрудно.
— Хорошо. Посидите, посмотрите, здесь есть на что… А я — сейчас… — Она вышла, тщательно прикрыв дверь.
Только теперь он спокойно огляделся и увидел, что комната была метров тридцати пяти — сорока, а может быть больше, стол, у которого он сидел, неказистый на первый взгляд, на самом деле являл собою образец усадебно-крепостного мебельного искусства начала XIX века — эдакий увесистый провинциальный ампир, кресла и стулья были под стать, под потолком плавно покачивалась люстра из хрусталя — несколько более ранняя — так, что-нибудь годы восьмидесятые, но уже восемнадцатого благородного века, на стенах в элегантном наклоне повисли два городских пейзажа, портрет вельможи в напудренном парике и несколько гравюр. В углу возвышался поставец с простой фарфоровой посудой: веночки, цветочки, не более… Но он догадался: посуда высокого качества, коллекционная.
Что ж, здесь действительно было на что посмотреть, но по мере того, как вглядывался он в очередное произведение, все более и более тревожные мысли одолевали его: как, думал он, у ее мужа, у ТАКОГО мужа ТАКИЕ вещи? Это же совершенно невозможно! Вспомнил: однажды его бывший начальник рассказал с негодованием о том, что жена другого начальника коллекционирует («Вы только подумайте!») старинный фарфор, стекло и даже — серебро! («Мы вырождаемся, еще пятнадцать — двадцать лет назад невозможно было и представить, чтобы НАШ работник надел обручальное кольцо! А сегодня?») Он еще о чем-то говорил — кажется, о том, что революционеру чуждо барство и все, что с ним связано… Но это — в сторону, в сторону, не в этом дело… А в чем?
Откуда-то из глубин памяти слабой струйкой вытекла не то формула, не то заклинание (второе лицо системы, он видел его тогда первый и последний раз): аппарат государства подвержен коррупции, она принимает подчас самые немыслимые, невозможные формы и оттенки, и не за горами день, когда именно нам (избранным) придется заняться этим… О, системный анализ коррупции — это было что-то очень новенькое и очень свеженькое и столь же, впрочем, немыслимое и невозможное…
И все же, и все же… Чем черт не шутит? А если? Вот он стоит в этой странной квартире (сел, чтобы удобнее было думать, — в прежней жизни он всегда думал сидя, так было и легче, и надежнее), и не просто стоит (уже сидит), а находится на пороге некоего ужасающего открытия!
Щелкнула дверь, Изабелла Юрьевна появилась с серебряным подносом (Хожанову показалось, что на красивой полированной ручке явственно обозначились клейма и проба), на котором исходил паром кофейник старинного фарфора и такой же молочник в окружении чашек с цветами…
— Ну, как? — Она повела взглядом по стене, очевидно гордясь и картинами, и всем остальным.
— Превосходное собрание, — сказал он сдержанно.
— Собрание? — Она улыбнулась. — Увы, это только интерьер. Собрания… Они другие, молодой человек. И у других… — В ее голосе прозвучала досада.
— Лучше — Алексей Николаевич, — привстал он со стула, не замечая ее раздражения.
— Ради бога. Что понравилось больше всего?
— Вот этот пейзаж. Петербург, кажется?
— Да, вид биржи. Это Патерсен, слышали это имя? Нет? Ну, неважно. А еще что?
— Да все, у вас прекрасный вкус. Вообще-то теперь эти вещи редки…
— Это в том смысле, как они ко мне попали?
— Да нет, просто мысль вслух.
— От родителей попали. Мой отец был режиссером театра и кино, — здесь она назвала весьма известный в прошлом исторический фильм, и Хожанов даже руками развел: «Так… это ваш отец?» — «Да. Эти вещи будут иметь отношение к нашему разговору, только весьма опосредованное».
И она начала рассказывать.
До революции все было просто: в принципе предметами искусства владели наследственно; многие собирали эти предметы, составляя роскошные коллекции; некоторые вполне серьезно вкладывали в антиквариат деньги. Например, великий князь Георгий Михайлович обладал редчайшими монетами царствования Николая I и был уверен, наверное, что две его дочери — Нина и Ксения — наследуют ему, собрание живописи Шереметевых и Юсуповых было известно всему миру; купцы и промышленники Третьяковы подарили Москве первоклассную живопись русских художников XVIII—XIX веков; Цветков, Ханенко, Щукин владели несметными сокровищами — после 25 Октября все это присвоило государство (Хожанов отметил, как непримиримо, ненавистно даже прозвучал глагол).
Но и позже (продолжала Строева) достояние более или менее серьезных коллекционеров отходило власти (та же интонация). Здесь и Смирнов-Сокольский, с его уникальной библиотекой, и врач Российский, имевший сумбурное, но от этого не менее ценное собрание живописи старых мастеров; Зильберштейн, презентовавший (по доброй воле, исключительно по доброй воле!) акварели, картины и прочее родному и близкому министерству (культуры, кажется? Есть у нас такое?), и многие другие, помельче, собиравшие вроде бы и для собственного удовольствия, но в конечном счете — исключительно для государственных музеев, для их запасников, точнее, а уж и совсем точно — то для получения свободноконвертируемой валюты (то были первые, пробные шаги).
— Помните, у Маяковского? «Пусть не вериг заграница, ошибется, дура…» Все наоборот, увы.
— Это… в каком смысле? — искренне не понял Хожанов.
— Это в том, что дура-дура-дура я, дура я проклятая… — не то пропела, не то продекламировала она.
И Хожанов запутался еще больше, но спросить не решился (черт знает что такое… Она полагает, что он обязан читать мысли. Дела…).
Потом, в конце пятидесятых, страсть к старинному искусству ослабела и даже вовсе испарилась, и следствием этого печального зигзага социальной психологии стало то, что уникальную миниатюру с портретом работы Боровиковского можно было купить в комиссионном за бесценок. Эти миниатюры и приобретались сонмом опытных или случайных людей, одни из которых радовались покупке и украшали ею свое жилище, другие накапливали — на будущее, догадываясь или даже зная, что благие времена вернутся и искусство вновь обретет свою цену на новом витке антикварной спирали, и немалую. Здесь еще можно было контролировать коллекционирование без специальных мер, но серьезные собиратели знали, что все они, без исключения, — под неослабным и неусыпным надзором.
Этот надзор проявлялся подчас достаточно жестоко — собирателя сажали. Давали срок — за спекуляцию или мошенничество, что греха таить, некоторые, пользуясь огромными практическими знаниями, — куда музейным теоретикам, им и не снилась такая палитра наблюдательности, тончайших нюансов в глазу и кончиках пальцев да и формальных знаний — тоже! — скупали у бабушек и дедушек бесценные сокровища, и принцип здесь сплошь и рядом бытовал такой: «Вот это у вас — шедевр! А все остальное — помойка, простите… Вы уж не портите свою коллекцию бездарными именами и холстами. Вот за это я вам заплачу, сколько скажете, а вот это, это и это — позор! — и чтобы вас не утруждать, возраст все же, — я отнесу просто эту гадость на помойку…»
…И проходило, в девяти случаях из десяти проходило, и возникали и росли, как грибы после дождя, ошеломляющие, уникальные коллекции… Но, отсидев или даже просто побывав на допросе, наученные горьким опытом, владельцы начали исхитряться: из вершины своего коллекционного айсберга они организовывали либо новый государственный музей — пусть совсем небольшой, это не имеет значения, — либо пополняли запасники старых музеев, остальное исчезало бесследно, проваливалось в небытие, а чиновники — по неизбывной своей некомпетентности — радовались, потому что иностранные эксперты оценивали пресловутую легальную макушку в миллионы инвалютных рублей…
Но времена менялись (Строева вздохнула), инфляция все жестче и жестче брала свое, и вот на рубеже 70-х годов начался бум: тысячи, десятки тысяч самых обыкновенных граждан обнаружили вдруг, что заграничная радиотехника стареет и дешевеет, и личные автомобили превращаются в ржавый порошок, и даже дачи ненадежны, потому что абсолютно и непреложно зависят от воли очередного правителя, который мгновенно может превратить любую из них в детский сад, пансионат или профилакторий…
И только живопись старых мастеров и старинное прикладное искусство нетленно (Строева улыбнулась) и всегда сохраняет некий минимальный номинал, абсолютный по отношению к зыбким деньгам, подверженным инфляции, и товарам, которые, как и люди, то и дело из престижных и дорогостоящих превращаются в грошовые и никому не нужные… (Да и тех совсем уже нет.)
И тогда антикварный бум — поначалу тихий, невнятный, но настойчивый и целеустремленный — превратился в неуправляемую и неконтролируемую лавину. В былые годы российских запасов антиквариата хватило бы на века — неисчерпаема Россия, как Клондайк, а здесь мгновенно начал исчезать с рынка даже самый незначительный мусор, предметы, которые незадолго до того и антикварными-то трудно было назвать…
Теперь и чиновники поняли: старинные вещи — могучий источник поступления инвалюты, и, для того чтобы поставить это дело на твердопромышленную ногу, государство учредило специальное внешнеторговое объединение… («Я забыла его название», — развела руками Изабелла.)
И вот — крах. То есть не совсем еще крах, но его предчувствие, что ли… Сначала исчезли иконы. То их без конца и края несли в специализированный скупочный пункт на одной из старинных улиц, а то вдруг — стоп, ни одной, и магазин, столь успешно работавший еще вчера, сегодня пришлось закрыть…
— А ведь это только начало, — говорили «умные люди». Что же дальше? — Изабелла Юрьевна закурила и жадно затянулась.
Из рассказа вытекало, что Строев думал над этим «дальше» очень долго. Ведь ясно было: в частных руках осели громадные богатства, несметные сокровища, и приобретены они путем недобросовестным (в этом Строев был, видимо, убежден!). А какая спекуляция антиквариатом развернулась на пустом дотоле месте (правда, не коллекционеры ею занимались, но что до того «компетентным органам»?).
И какая крылатая фраза появилась: «Коллекции не собираются на зарплату». И другая: «С определенного уровня коллекция сама себя воспроизводит и кормит своего владельца». (Эти перлы тоже родились в кабинетах холодного ума и горячих сердец.)
Но как выявить этих владельцев? И главное: как доказать, что их собрания нажиты нечестным путем? («Основа для экспроприации», — усмехнулась она горько.) Основа для подобной работы уже существовала. Государственный закон об использовании и охране памятников старины… Но здесь не годилась обыкновенная розыскная метода. Она ведь еще при рождении своем предназначалась для ситуации обыкновенной, знакомой, наработанной… Здесь же всплывали обстоятельства непредсказуемые, и методов они требовали нетрадиционных…
Тогда и пошел Константин Захарович к вам…
— Да, помню… Он хотел понять, возможно ли применить системный анализ и программирование для раскрытия «антикварной ситуации». Я сказал ему, что это возможно. Но потребуются колоссальные силы и средства, а главное — трезвый расчет: будет ли полученный результат — та же инвалюта — оправдан расходами? Были другие подробности, но это уже нюансы, так сказать…
— Они и не нужны, Алексей Николаевич, я пригласила вас вот зачем: имя моего покойного мужа втоптано в грязь.
— Хотите восстановить справедливость… Это я понял сразу.
— Это — во-вторых. Во-первых — виновные должны быть наказаны.
— Что ж… Задача понятная и даже благородная в некотором роде, но я-то при чем?
— То есть? — Брови у нее прыгнули вверх и застыли, обозначив крайнюю степень недоумения.
— Да что, в самом деле… Обратитесь, куда положено, там проверят. Другого пути не вижу.
— Странно, — она посмотрела, не отводя глаз. — Очень странно… А я думала, что это вас заинтересует…
— Что, простите, «это»?
— А то, что мой муж умер… Пока мы других слов употреблять не станем… Вы что же думаете… — она пожала плечами, — я не обращалась? Мне даже ответ пришел…
— Какой, если не секрет?
— Да уж какой секрет… — Не вставая, она протянула руку к секретеру и, прошелестев бумагами, положила перед Хожановым слегка смятый листок со знакомым штампом…
— «Ваши доводы самым внимательным образом изучены, — прочитал Хожанов вслух. — К сожалению, мы вынуждены констатировать, что никаких криминальных обстоятельств в смерти Строева К. З. не обнаружено. Еще раз выражаем Вам свое искреннее сочувствие».
Далее стояла весьма солидная подпись.
— Ну и что? — Хожанов вернул бумагу. — Напишите еще раз. И еще…
— Писала. И не раз. Ответы однозначны. Хотите взглянуть?
— А что, собственно, заставило вас думать о какой-то тайне, криминальных обстоятельствах?
— А что вас, профессионала, заставило не поверить в обоснованность вашего увольнения?
О господи, словно молния сверкнула… Только теперь в секунду вспомнил он тусклый взгляд своего начальника и острый — номера один, и бегающие глазки работника кадров, и неясные слова, и неприличные формулировки…
Ну, в самом деле, ну что такое его бывшая десятиклассница Лена со своей звучной фамилией, — ведь не подумали же они, что он способен сболтнуть лишнее? И, устраняя ее из его бытия, разве не понимали, что это навсегда, что никогда больше не вернется он к ней, не станет искать встречи… «А ведь — мерзавец я…» — подумал вдруг. Но тогда зачем же увольнять? Что ж, тут есть, как выражается доктор, вопрос…
И, словно угадывая его мысли, она хмыкнула:
— Вы влезли в ситуацию, мой друг… Как и Строев, впрочем…
— Я вас так понять должен, что… — Он замолчал, оглядывая углы и потолок, плинтуса и мебель, — там могло находиться «нечто»…
Она поняла:
— Ничего нет, я проверяла.
— Да? — Он насмешливо улыбнулся. — Тогда это надежно. Короче: что вам угодно?
— Мне нужна ваша помощь. Мне много хорошего рассказали о… вас.
— Кто же?
А в самом деле, кто мог сказать о нем хорошее? В конторе это не принято, да и не рискнет никто. Знакомые? Но сколько ни напрягался — общих знакомых с гражданкой Строевой Изабеллой Юрьевной не обнаружил…
— Неважно… Да и зачем? Суть в том, что я готова вам поверить. Справедливость нужна не только покойному мужу, но и мне… Она нужна и вам.
— Желаете, чтобы я занялся частным расследованием… Но ведь мы не в Америке, у нас это не принято… И все же почему не хотите обратиться к государственным органам? Не вышло пять раз, выйдет на десятый, сотый?
— Я им не верю. Или вы газет не читаете? Впрочем, что газеты. Бледный отзвук умирающей действительности…
Она была симпатична ему, очень симпатична (чего уж скрывать). И симпатия эта возрастала с каждой минутой. Красива до одури, а уж как элегантна, воспитанна, о Господи, помоги не заблудиться. И насчет «доверия» права сто раз…
— Спасибо, кофе был отменный, сервиз — превосходен, интерьер — выше всяких похвал. Я должен подумать. И взвесить. Видели старый фильм «Подвиг разведчика»? Это оттуда… Теперь по делу: у вас замечательная коллекция мебели, я впервые такую вижу…
Он продолжал идиотский монолог, изредка ловя ее недоумевающий взгляд, сам же в это время аккуратно выводил на листке из записной книжки угловатым, плохо выработанным почерком:
«Больше ни о чем говорить не нужно. Завтра позвоните мне из автомата и скажите, что тринадцатого или любого другого числа (это будет означать время) ждете меня у себя. На самом деле мы встретимся на кладбище, у могилы вашего мужа».
Когда она прочитала записку, придвинул пепельницу и поджег листок. Через несколько секунд бумага рассыпалась в прах, но Хожанов, не удовлетворившись, растер пепел в мельчайшую пыль. Потом запомнил номер, обозначенный на белой табличке телефона.
…Дома его ждала разъяренная супруга — кот Грациоз, которого оставила погостить соседка по случаю отъезда в трехдневный профилакторий, наделал в кухонную раковину, на немытую посуду. «Ты почему не убрал? И почему не заменил Грациозу песок? Плачет по тебе участковый, и ты не надейся на его благоволение, я это благоволение, если что, мигом пресеку!»
Ах, как это все надоело, какая усталость сразу разлилась по всему телу, какое отчаяние охватило, и, куда денешься, сразу начали глаза отыскивать крюк под потолком — пусть его и не было, но ведь роль крюка вполне могло сыграть и снотворное, и просто десятый этаж… Скучно жить на этом свете, господа… Великая фраза.
…Ночью он спал плохо, все думал о том, что сказать завтра Изабелле… А что, собственно, мог он ей сказать, кроме однозначного «да»? Правда, в этом случае сразу же наступала ситуация с непредсказуемыми последствиями, ну, да уж что поделаешь… Красивая женщина просит помощи, как отказать? Но, сказав «да», следовало предложить алгоритм и вслед за ним — программу; увы, ни того, ни другого у него пока не было…
Проснувшись окончательно (после увольнения он часто просыпался по ночам, томимый неясными предчувствиями и тревогой; полуоткрытый рот супруги, из которого вырывалось сильное, преисполненное свистов разного оттенка и тембра дыхание, сразу приводил в состояние умопомрачения, ненависть вспыхивала с такой пугающей силой, что он торопливо нащупывал тапочки, стремясь как можно скорее удалиться на кухню, здесь всегда следовал традиционный ритуал ночного чаепития…), побежал на кухню, включил плиту и выполоскал заварной чайник. Что он скажет Изабелле завтра, что предложит? Скорее всего, у нее обида за служебную несостоятельность супруга — ведь ясно же, как все это было… Тот выдвинул предложение — наверное, толковое и перспективное, это предложение сразу же начали утрясать и согласовывать, — известное было время, чего уж, потом Строев добился задуманного, и дело пошло — со скрипом, провалами, сбоями, глупостями и неизбывной перестраховкой, от которой сводит челюсти и возникает ощущение выпадающих волос и тупого отчаяния, — это он знал по себе… Пока хватало сил у Константина Захаровича — он тянул, то и дело поднимая телефонную трубку и прислушиваясь к полифонично звучащим голосам своих руководителей всех рангов, потом, когда вместо очевидных результатов косяком пошла мелкая, мало чего стоящая рыбешка, с него начали спрашивать строже, не принимая во внимание вечные «объективные причины», ну и не выдержал человек… Да еще на прощанье, в госпитале, шепнул, поди, супруге прерывающимся голосом, как некогда Петр Первый своим приближенным: «Отдайте все…» Или что-то в этом роде… А что «все»? А он, Хожанов, подпав под невозможное обаяние чаровницы, свалял дурака, повел себя некритично и необъективно, не совладал с эмоциями, и вот позор на пороге. Что он ей скажет?
…Чай закипел, он долго и старательно заваривал его, потом еще дольше пил привычно маленькими глотками, не ощущая ни вкуса, ни запаха, пил просто так, чтобы убить время. Надо отказаться. От всего. Бессмыслица. Глупость. Он просто обязан прийти и, честно и преданно… (Стоп. Что значит «преданно»? Зарапортовался)… глядя ей в глаза, сказать правду: «Изабелла Юрьевна, вы ошиблись, заблудились, вас ест обида. И это легко доказывается…» А чем же это, кстати, так уж легко доказывается? Что, в обществе не существует организованной преступности? Коррупции? Убийств, связанных с устранением опасных свидетелей? Да об этом центральные газеты пишут! Так… Ну, и что? Он-то при чем? Нет, следует быть честным: эти его размышления замешены на страхе, нежелании ввязываться в опасную историю… В том, конечно, случае, если Изабелла права. А вот это надо еще выяснить… Первое арифметическое действие лежало на поверхности: знакомства мужа. Она должна указать нескольких (один плюс один плюс один), которые согласятся поговорить на интересующую тему. Интересующую… Нет. Ничего не выйдет. На эту тему никто с ним говорить не станет. Не рискнут. Тогда — с нею? Но кто из приятелей мужа воспримет всерьез ее попытку? Любой спросит: зачем это вам? И что она объяснит?
Нет, здесь нужно другое… Она женщина. Очень красивая. Среди приятелей из прошлого наверняка отыщется один-другой, кто не прочь завести с нею легкий, ни к чему не обязывающий роман (если покопаться, наверняка отыщется и некто, уже пытавшийся!). И тогда, в ходе «романа», она сможет выяснить и главное, и детали. А уж он сумеет эти детали объяснить… И использовать.
Однако гадость получается. Несомненная гадость. Толкать женщину, которая тебе нравится, в объятия другого? Несусветная чушь…
Но ведь для ее же пользы. Иного-то пути нет?
И все равно…
…Под утро, когда допивал пятый чайник, появилось «сокровище», в папильотках и длинной, до пят, розовой ночной рубашке. «Как тебе не стыдно? Что за босячество? Что за манеру ты взял — глушить по ночам чай?»
— «Глушат» водку… — попытался он возразить, но она взбеленилась: «Ничтожество, ты загубил мою жизнь! Сколько было возможностей, и вот, надо же, какой мерзкий финал!» Он понял, что сейчас она полезет в драку, и поспешно ретировался, успев захватить с вешалки плащ. Уже на лестнице обнаружил, что двадцать пять рублей, старательно припрятанные в потайном кармане (он получил их за недоиспользованный отпуск и хранил на черный день), исчезли, и догадался не без горечи, что есть весьма изощренные жены, для которых и самые изощренные тайники не преграда. Предстояло идти на кладбище пешком, во второй раз, у него заломило в голове и сразу заболели ноги, но, вспомнив ошеломляюще-красивое лицо Изабеллы, взбодрился и легко, словно школьник, сбежал на первый этаж. Начиналось утро, Изабелла могла позвонить в любую минуту, надобно было ее опередить (ибо нарвись она на любимую — бр-р…), и, войдя в автомат, он набрал номер. Она сняла трубку и молча выслушала сообщение о том, что заказанный ею сантехник явится, как и было условлено, к двенадцати часам. «Вы поняли?» — на всякий случай поинтересовался он и, услышав в ответ, что к двенадцати ванную зальет и, если что, она напишет в жэк, удовлетворенно повесил трубку.
…Он был мечтатель по натуре, и это мешало ему всю жизнь. В школьном сочинении на сверхпатриотическую тему «Мой любимый литературный герой» он написал, что его наилюбимейшим является Никита Романович Серебряный, современник Иоанна Грозного и плод фантазии Алексея Толстого. На фоне соучеников, зафиксировавших свои чувства к Павке Корчагину, Алексею Маресьеву и Павлику Морозову, его выбор показался директору школы (он вел уроки литературы в их классе) весьма сомнительным, но интеллигентный Андрей Федорович предпочел не раздувать историю, а только спросил: «Что же тебя, Хожанов, привлекло в этом почти опричнике?» — «Он порядочный человек», — скорбно отозвался Хожанов под негодующие выкрики секретаря комитета комсомола и его ближайшего окружения. «Андрей Федорович, да что его слушать, надо немедленно сообщить куда следует! — орал секретарь. — Тут Родина в опасности, Венгрия продалась, а этот отщепенец, поганый пастернак, позволяет себе!» Но директор не внял, и Хожанов отделался легким испугом.
Через год позвонил бывший сослуживец отца, он теперь работал как бы на заводе, но на самом деле совсем в другой организации, и сказал, что в память друга хочет без промедления определить Алексея в хорошее учебное заведение без названия. «Окончит — человеком станет», — пообещал сослуживец.
…Вот он и окончил, и даже трудиться начал, но что-то подвело… Не то Лена, не то история со Строевым. Не угодил…
Все, долой отговорки, нужно начинать…
…И все же он не знал, что скажет Строевой, что посоветует. Мысль работала плохо, кроме накатанных, столетиями существующих методов и способов, в голову ничего не приходило. Но это было ничего, эту особенность он знал за собой, это как на экзамене: вроде бы знания на нуле, а вытащил билет — и как из пулемета.
Вошел к консьержке и скорбным голосом попросил три рубля, до понедельника. О его домашних делах знали, любимая не считала нужным скрывать от общественности свое горе, и поэтому Анна Филимоновна молча вытащила из сумки пять рублей и так же молча сунула мятую бумажку ему в ладонь. «Спасибо, вы не думайте…» Господи, какой все-таки удивительной роскошью были и автобусы, и троллейбусы, и даже трамваи! Как он этого не понимал раньше?
…В воротах кладбища шваркал метлой знакомый сторож-студент; узнав Хожанова, он широко улыбнулся: «Родственные чувства взыграли? Это хорошо, только почему без цветов?» В самом деле, надо цветов. В магазине напротив Хожанов купил три букетика: два — на могилу родителей, один — Строевой или ее покойному мужу, уж как получится. И ноги несли, словно не к могиле шел, а на свидание, и эта мысль — о свидании — была такой яркой, настоящей, что вдруг захотелось запеть или засвистать соловьем, слава богу, что не умел ни того, ни другого…
За поворотом возник памятник городскому коменданту времен наполеоновских войн, потом — известному поэту, убитому, по одним сведениям, бандитами, а по другим… Совсем другими людьми. Предшественниками. Он, конечно, этой версии никогда не верил — ну что такое поэт, даже известный? Что он, резидент или боевик, покушающийся на светлую жизнь главы государства? Нет, конечно… Чепуха.
…А Изабелла уже пришла и сидела в ограде своего боярского пристанища (не мог он отказаться от этой иллюзии, никак не мог!), слегка наклонившись к обелиску. Наверное, сажала или поправляла цветы. Скрипнув калиткой, он неприлично весело крикнул: «Изабелла Юрьевна, к вашим услугам!» — но она почему-то не ответила, и, недоумевая, он тронул ее за плечо.
И вдруг она поползла — медленно, как на рапиде[4], и тихо — нет, не упала, а легла на цветник. Еще не понимая, потянул ее за руку — и едва сдержал крик, глаз у нее был стеклянный, не живой совсем, щеки белее мела и словно обсыпаны мукой…
Вот это номер… Так он сказал или подумал, не в силах поверить в случившееся. Судя по всему, ее настиг инфаркт, он видел такие лица в прежней своей жизни: умерли два сотрудника отдела, один за другим, с интервалом в два месяца, и оба от инфаркта, он стоял в почетном карауле и лица покойников рассмотрел хорошо. Сейчас было очень похоже… Он подумал: цветы. Идиот. Купил ей четное число роз. Дурак. Нельзя, нельзя было…
Нужно было что-то делать, сообщить милиции, например, или вызвать «скорую». Рванулся к калитке и остановился как вкопанный: инфаркт? У нее? Еще вчера вечером, еще сегодня утром, при разговоре по телефону, ничего, совсем ничего не обещало печального конца…
Но что тогда? Наклонился, обвел напряженным взглядом одежду, руки, аккуратно повернул отяжелевшее тело и положил на спину — никаких повреждений… Все, надо идти, иначе, если здесь, в такую минуту, застанет даже просто прохожий, долго придется объясняться… Любят у нас долгие объяснения, ох любят…
Выбравшись из ограды, помчался к воротам, студент еще подметал и, сразу поняв, что случилось нечто из ряда вон, вытащил из сторожки телефон, Хожанов набрал два коротких номера: «02» и «03»…
Сначала приехала милиция, два сержанта на газике, первый взглянул, не входя в ограду, второй привычно-лениво осведомился: «Вы обнаружили?» — «Я». — «И что?» — «Да ничего. Шел мимо, смотрю — прислонилась к обелиску, да странно так, неподвижно… Вошел, тронул — она и рухнула…» — «Понятно. Ваш адрес? Возможно, понадобитесь…» Записав его данные, они отошли к ограде напротив и закурили.
«Скорая» подкатила еще через минуту, врач — нервная худая женщина в очках с толстыми линзами — пощупала пульс у покойной, вздернула веко, махнула рукой: «От огорчения, наверное… Бывает. Муж похоронен?» — «Не знаю, — на всякий случай ответил Хожанов. — Я случайно…» — «Тогда отправляю. — Она властным жестом приказала санитарам грузить и повернулась к сержантам: — Документы у нее есть?» — «Вот разденете, обыщете и нам сообщите, если что…» Сержант назвал номер отделения милиции.
Потом Изабеллу запихнули в кузов, и «рафик» уехал, стрельнув голубым глазом. Всё…
Всё. Эта горькая мысль ввинчивалась ржавым шурупом, не давала покоя. Нелепо, глупо, неправдоподобно… Мечтал, планы строил (а ведь строил, чего уж теперь…), и вот, финал. Нарочно не придумаешь…
Вышел за ограду и только здесь вспомнил о цветах, оставленных у обелиска. Подумал: бог с ними, пусть остаются у Строева. Но тут же решил, что трех букетов одному Строеву много, два надо отнести родителям. Возвращался торопливо, волнение еще не прошло, и сердце колотилось прерывисто, замирая на вздохе, это пугало чуть-чуть, но ничего, взял себя в руки, убедил: случай-то какой, тут не только сердце прыгать начнет…
Цветы лежали на том же месте; уложив один букет к подножию обелиска и бросив прощальный взгляд на едва заметную вмятину на холмике, поднял два других и двинулся к стене с прахом родителей. Розы лежали в неприкосновенности, это сразу улучшило настроение, и все случившееся перестало смотреться в трагическом, сумеречном свете. Ну, была Изабелла, красивая женщина, ну, не стало ее в одночасье, так ведь счастливица, мгновенно распорядился Высший судия ее жизнью, безболезненно прибрал, позавидовать можно, да и только…
Положив букетики на полочку, он вновь направился к воротам и вдруг столкнулся взглядом с кем-то очень знакомым, таким знакомым, что невольно сдержал шаг и даже окликнул: «Простите, вы не меня ждете?» — «Нет, не тебя. — Из кустов вышел недавний ночной философ, столь яростно осудивший хамскую жизнь и все ее производные, на этот раз он был вполне трезв и даже побрит. Только одежда была прежней. — Я стою здесь просто так, а вы?» — «Да вот, к родителям приходил, а тут женщина на могиле мужа умерла, не видели случайно?» — «Нет. Случайно не видел. Случайность и могила — понятия несовместные… Вы подумайте над этим», — слегка поклонившись, он растаял в кустах. Нетопырь, нежить кладбищенская…
…И вот — узенькая при кладбищенская улочка, и такси, шмыгнувшее мимо с веселым громыханием (резонатор отвалился и скреб по асфальту), и сразу ушат холодной воды — ни копейки денег, даже на троллейбус или метро, — все отдал за цветы, все — сколь уныло это, сколь уныло… Он бессильно прислонился к дверному косяку цветочного магазина: пешком не дойти… Нет больше горения, энтузиазма, и вообще — никаких причин, чтобы бить ноги в кровь (накануне обнаружил на ступне кровоточащую вытертость). Плевать… Остановку — на автобусе, другую — на трамвае, это уже четвертая часть пути, а там посмотрим. Зайцем? Плевать, исполком богатый, в конце концов, сколько раз прежде бросал в кассу пятачок, а билетов не было? Вот и пришло время произвести взаимный расчет, не более…
Тут он почувствовал, как наливаются краской уши. Зайцем… Фи… Не дворянское это дело. (Он происходил из крестьян Саратовской губернии — по деду, а «недворянским делом» привык называть любой мелкий поступок.) Что ж, придется опять идти пешком. В память новопреставленной Изабеллы Юрьевны. В память… Грустно-то как… И какой глубокий смысл в словосочетании «новопреставленная»… Ожидание какое-то, даже надежда.
…Через час, подойдя к стене старинного монастыря (то была известная всему миру городская достопримечательность), он нашел обшарпанную скамейку и решил отдохнуть. В голове было пусто, и есть хотелось до одури, и все же, когда первая странная мысль выползла из небытия и обрела реальные очертания, он не прогнал ее, а, напротив, с удовольствием ощутил, что она всего лишь первая капелька приближающегося потока…
Итак, есть социальная группа, поставившая целью сочетание эстетического созерцания и материального обогащения, как бы вытекающего из этого созерцания, а то и порождаемого им. Весьма занятно…
Есть и другая социальная группа, цель которой — ликвидация первой как некоего отрицательного социума.
Первая — избранные, объединенные общей страстью. Впрочем, и разъединенные тоже. Социальная принадлежность каждого во многом случайна, палитра этой принадлежности (как определение животного мира в учебнике географии) — богата и разнообразна: интеллигенция, рабочие, военнослужащие. Внутри этих подразделений — десятки других.
Во второй группе проще: государственные служащие, в недрах служебных установлений которых вызрела идея борьбы с первой группой. И вот итог: те, кто ловит, и те, кого ловят. Как все просто: «мы» и «другие».
Однако вопрос: только ли страстью, только ли красотой, только ли эстетическими категориями плюс алчностью руководствуются участники первой группы? И только ли долгом и служебно-преобразованной личной нравственностью — участники второй? Или сюда примешивается и жажда наград и должностей, например? И какие связи и переплетения внутри каждой из этих групп? И их — друг с другом? Особенно друг с другом?
Что ж… Пока все это не более чем общетеоретическая постановка проблемы. Но без ответа на эти вопросы в истории Строевых не разобраться и ничего не понять.
Стоп… Так он все же собирается и разобраться и понять? Забавно…
…Следующий привал он сделал на небольшой площади, перед старинным дворцом еще петровских времен. Теперь здесь размещался какой-то архив и доживала перед полированной дверью хилая клумба с умирающими цветами и две облезлые скамейки перед ней.
Он сел: надо построить модель реальной ситуации. Выявить внутренние и иные взаимосвязи. Только тогда возникнет первый шаг к решению…
Пожилая женщина в черном платке остановилась перед ним, у нее было опухшее от слез лицо и черный платок на голове, в руке она держала букет гвоздик. «Где-то здесь морг… — робко начала она. — Вы не знаете?» Он встал: «Морг? Да-да, вон въезжает труповозка… Простите». У нее сразу помертвело лицо, и, проклиная себя за несдержанный язык, он предложил ей руку и повел через дорогу, к черным воротам. Здесь никого не было, они прошли свободно и оказались в маленьком, вымощенном булыгой дворе; стоял санитарный автомобиль, двое в грязных белых халатах небрежно вытаскивали из его недр носилки, на которых таинственно угадывалось под белой простыней нечто…
Женщина тихо ахнула и тяжело оперлась на его руку: «Мне плохо». — «Кто у вас?» — «Дочь, ужас, совершенно простой аппендицит, умерла на столе, у них не было нужной крови… Что делается, Господи…» — «Главное — участвовать, но не соучаствовать… — изрек он и вдруг налился яростной злобой. — А кровь… Плевать на кровь!» Вырвав руку, он шагнул в темный коридор, еще не зная, что сделает в следующую минуту, как поступит, но неясное предчувствие поступка уже охватило его. Толкнув дверь (здесь пила кефир миловидная сестра в косынке, она удивленно взглянула) и не давая ей опомниться, он брякнул: «Вам только что привезли Строеву Изабеллу Юрьевну (о Господи, сумасшествие…), где она?»
Сестра не удивилась: «Красавицу с лютеранского? Ее смотрят в третьем секционном. Вы из милиции?» Хожанов промолчал, но она не повторила вопроса. Удивительный случай и еще более непостижимое совпадение. Правда, пока неясно, зачем это может понадобиться, но ведь случай — знак закономерности, свидетельство верно выбранного пути…
В третьем зале было холодно и сумрачно, на мраморных столах застыли покойники, над одним из них под ярким светом бестеневой лампы манипулировал патологоанатом, и Хожанов догадался, что противный треск, разносящийся по залу, идет от скальпеля, секущего то, что еще четыре часа назад было Изабеллой Строевой…
— Милиция? — Врач выпрямился, отбрасывая прядь со лба (какой нелепый здесь жест…). — Значит, так: смерть наступила…
— Вы ничего особенного… не обнаружили? — Голос Хожанова прервался.
Патологоанатом удивленно взметнул брови:
— А что, собственно, я должен был обнаружить? Послушайте, вы из милиции? Нет? Ну и не морочьте голову!
— Но она умерла у меня на руках!
— Каким же это образом?
— Вскрикнула, я подбежал (ох, не надо бы врать…), а она похолодела уже…
— Скажите пожалуйста… — Врач иронически прищурился. — Ну, если учесть, что бежали вы несколько секунд, а температура тела у покойника уменьшается на один градус в час, и теперь, если не ошибаюсь, лето, то либо вы слишком долго бежали, либо просто врете, уж не взыщите. А зачем? Сейчас приедет следователь, ему будет небезынтересно…
Влип… И еще как… И что делать?
Ему показалось, что время остановилось. Он увидел, как солнечный луч медленно двинулся через пол и мраморные столы, на которых стыло белели лики, неярко высветил небрежно брошенную одежду. Он узнал черную шаль, платье, перчатки, добавилась еще кофта тонкой вязки, — он ее не помнил, что-то необычное было в ней, пригляделся: матово блеснул металл… Да, вот еще и чулки висят — через спинку стула.
На мгновение отвлекся, с отвратительной ясностью представилось, как ее раздевают — нетерпеливо, грубо (чего деликатничать?) — туфли, платье, белье…
А металл? Откуда здесь металл… Вон булавка видна, что это такое? И вдруг ровно толкнуло что-то… Да ведь это ключ. Ну да, ключ, вне всяких сомнений. Ключ от квартиры, где деньги лежат (Господи, пошлость какая…). Что делать, что… Они ведь наверняка не заметили этих ключей и в опись не внесли… А это значит…
В нем проснулись звериная хитрость, невероятная прежде самоуверенность и даже наглость. «Следователь, говорите? — Он сделал шаг и загородил стул спиной. — Плевать мне на следователя! Я ровным счетом ничего не сделал. Такого…» А вот сейчас делаю, молнией пронеслось в голове. Рука нащупала мелкую шерстяную вязку, потом добралась до изнанки — черт… не с той стороны… А врач? Стоит вполоборота, увлечен своим мясницким делом, что-то бубнит. Ну, бубни, бубни, это очень даже хорошо. «Что вы сказали?» — «Не храбритесь, говорю… Вы просто не имели дела с милицией. Это вам не роман «Петровка, 38». Это совсем другие люди, верьте на слово. Не советую связываться…» — «В самом деле?» Он нащупал связку из двух ключей (да, это были ключи, какая удача!.. Удача? Надо же так трёхнуться, это же полный и несомненный абзац, как говаривал кто-то на прежней работе…), осторожно раскрыл английскую булавку, проткнул себе палец до кости (так ему показалось) и положил ключи в карман. Что ж, первая в жизни кража совершена и первое преступление закона тоже. Вряд ли сейчас он смог бы объяснить свое состояние. Его томили неясные мысли и еще более неясные предчувствия. Войти в квартиру? Возможно. Но ведь это уже второе преступление, и весьма серьезное… Что ж, так… Сейчас ему было все равно. О последствиях он не думал.
— Ну? — Анатом сдернул перчатки и швырнул их в раковину. — Что будем делать?
— Давайте так: я вам все расскажу, а вы решите: нужен следователь или мы обойдемся собственными силами.
Он тщательно прикрыл дверь и в мельчайших подробностях изложил все, что случилось в последние три дня. Кроме некоторых нюансов. Видимо, доктор поверил. Он снял фартук и, окинув Хожанова долгим взглядом, по звал за собой. В кабинете открыл блокнот: «Ваш адрес и телефон… Спасибо. Заметьте, я не спрашиваю паспорт, а это значит, что я вам доверяю… Странный случай… Но, сколь ни прискорбно для ваших предположительных построений, она умерла от обыкновенного инфаркта миокарда… И ничего особенного я на ее теле не зафиксировал. Так-то вот…» — «Я прошу осмотреть еще раз и самым тщательным образом. И послать на анализ содержимое желудка и кровь». — «Хм… — Врач с интересом взглянул на Хожанова. О температуре ничего не знаете, а об этом… Странно… Увы, Алексей Николаевич… Чтобы провести эти исследования, потребуется постановление следователя, а они, милицейские, в таких случаях быстры и ленивы. Подумаешь, свалилась от пошлого инфаркта… Что тут исследовать?» — «И все же вы попробуйте». — «Попробую. А вы всегда такой романтик?» — «Нет. Просто она была очень красива, понимаете? Будто свет погас…»
Когда выходил, увидел милицейский газик, из которого неторопливо выбрался пухленький молодой человек в хорошо подогнанном и очень дорогом штатском костюме. Окинув Хожанова равнодушным взглядом, молодой человек скрылся в дверях морга.
Теперь предстояло решить главное: войдет он в ее квартиру или нет? Он вдруг понял, что шел к этому криминальному решению с первой секунды, с той самой, как увидел ее остекленевшие глаза и белую руку, перепачканную землей. Он все решил именно тогда, — ясно с этим, и не реминисценции теперь нужны, а действие. Войти в квартиру, и немедленно. Через час или два дознаватель милиции разыщет родственников и сообщит о случившемся. Но даже если родственников нет, все равно, квартиру опечатают, и тогда попасть в нее будет не то чтобы сложнее, но значительно опаснее — по последствиям. Их ведь тоже надо учитывать, что бы там ни было…
Итак, сейчас он сядет в такси и поедет. Он тут же вспомнил, что у него нет и пятачка, а нужно по меньшей мере рублей пять. Ничего, выход, кажется, есть…
Он вернулся в морг и уверенно постучал в дверь третьего зала, послышался голос анатома, потом недовольный возглас пухленького дознавателя, двери открылись, анатом с трудом сдержал возглас удивления, а когда услышал просьбу — одолжить десять рублей до завтра, — даже растерялся: «Вы, собственно, в уме? Я вас не знаю, мы первый раз видимся!» — «Не велика сумма, даже если и потеряете… — пробурчал Хожанов. — Вы же записали мои данные?» — «Но я не видел вашего паспорта! — парировал доктор. — Вы вообще похожи на авантюриста!» — «Здесь вы правы, — согласился Хожанов. — Я и есть самый настоящий авантюрист. Так дадите?» Оглядев Хожанова с ног до головы, врач вытащил из часового кармашка аккуратно сложенную вчетверо красненькую и вздохнул: «Плод трехмесячных накоплений, чтоб вы знали. Точно отдадите?» Хожанов кивнул и ушел — из зала уже доносился раздраженный зов пухленького.
Такси он поймал сразу и попросил шофера ехать самым коротким путем: «У меня всего червонец, а мне еще неделю жить, понял?» — «Ходи пешком, если такой бедный, — довольно дружелюбно улыбнулся шофер и тут же сообщил маршрут, которым собирался везти. — Рубля в два, ничего?» Это было вполне ничего, потому что отныне предстояло ездить много и часто, и каждый рубль был на счету.
Добрался быстро, дверь подъезда оказалась открытой. «Консьержка!» — догадался он. Это была неожиданность, и неприятная, он по опыту знал, что пожилые эти дамы, как правило, дотошны, въедливы и сварливы. Войти будет трудно, если удастся вообще.
И верно, женщина лет шестидесяти, усохшая, маленькая, в шелковом платье старинного покроя, стрельнула глубоко запавшими глазками:
— Ну-у? Расскажите, молодой человек, в какую квартиру и к кому именно? (С этим своим «Ну-у, расскажите» она была вылитая, хотя и постаревшая сильно, Чурикова — так показалось Хожанову.)
Дело выходило проигранным. Врать бессмысленно, ибо Строевой, увы, дома нет навсегда, и если последнее обстоятельство эта мумия еще не знает, то сам факт отсутствия непреложен… Н-да. Он уже собирался смущенно проговорить «Извините» и ретироваться, как вдруг вспомнил: «Никогда не предъявляю удостоверения. Взгляну вот так (доктор свел глаза в кучку, высматривая кончик собственного носа), и проход свободен! Сколько раз проверял…»
— Мне нужно осмотреть окна и чердак, — сухо произнес Хожанов. Стандартная фраза… В былые годы каждый праздник сидел он у окна гостиницы в центре города (имелись в виду возможные боевики, чьи действия обязан он был незамедлительно пресечь. Но разве нужна была хоть кому-нибудь бессмысленная жизнь смешных и нелепых рамоликов… Гумор, право…)
— Но… — она посмотрела недоуменно, — ваш товарищ уже был третьего дня?
Подозрение еще не материализовалось, но уже повисло в воздухе. Все зависело от его ответа. Он свел глаза в кучку, пытаясь увидеть кончик собственного носа.
— При чем тут это, товарищ?.. — Протянул руку, вспомнив, что ему должны дать ключ от чердака.
Консьержка закивала: «Да, да, конечно, сейчас», — и, получив увесистый ключ, Хожанов начальственно закрыл за собою дверь. Спасибо ALMA MATER…
Поднимался на том же самом лифте, и свет врывался и исчезал, обозначая пройденные этажи, как в тот день. Что ж… Он приближался к частице, отзвуку того, что единственный раз вспыхнуло в его жизни ослепительно радостным чувством, незнакомым дотоле, и по мере этого приближения исчезала тревога и пропадали сомнения…
Но он понял, что затеял опасную и, кто знает, совершенно бесполезную игру, даже бессмысленную, потому что нельзя осмысленно играть с призраками, фантомом, воображением, и все же что-то подсказывало: он идет по верному следу. И то, что сейчас предстояло ему совершить, он оценивал трезво. Вспомнилась вычитанная где-то фраза: нельзя достичь целей нравственных путями и средствами безнравственными, но он подавил возникшие было сомнения и успокоил себя тем, что иного выхода просто нет.
Что он собирался выяснить, что найти? Бог весть… Доказательства, наверное… Но хотя слова и складывались в понятные четкие фразы, формулы не возникало… Формулы, которая есть искомое.
Он остановился перед дверьми, прислушался. Было тихо, ни звука, ни шороха, в квартире напротив — тоже. «Звонко-звучная тишина», — вспомнил он. Ну да, это читал, подвывая, тогда, у Лены, тот эрудированный мальчик. Сколько лет, сколько зим…
Достал ключ и, вставив в замочную скважину, повернул. И вдруг обожгло: а если сигнализация? Через пять минут здесь будет милиция, и тогда… Пресловутый «абзац»? Ну да ладно, чего уж… Толкнул дверь, она легко сдвинулась, пропуская, словно Аладина в пещеру, и так же плавно закрылась. Мгновение понадобилось, чтобы увидеть и понять: сигнализации в квартире нет. И тогда он сразу вспомнил чей-то рассказ о том, что милиция, охраняющая квартиры, иногда ненадежна и даже преступна, — кому, как не Строеву, это было известно, наверное, лучше других, поэтому и не было в его квартире оповещающего прибора.
Запер дверь на защелку и включил свет. Что ж, первое, тогдашнее еще впечатление не обмануло: здесь жили состоятельные люди… Колонка из темного дерева в углу, на ней — ваза зеленоватого камня с золочеными ручками-змеями; напротив — зеркало в тускло мерцающей раме, и картины, картины — как много их здесь… Генералы в густых эполетах, кавалеры и дамы в напудренных париках, разноцветные ленты через плечо, орденские звезды…
Он подумал, что такие портреты вряд ли стоило держать в прихожей, но, видимо, этому существовало какое-то объяснение. Какое?
Дверь направо вела в кабинет — скромный, деловой, с книжными стеллажами и фотографией Дзержинского на письменном столе — около лампы с зеленым стеклянным абажуром. Здесь же стояла еще одна — в старинной рамке: Строев — он выглядел лет на десять моложе, чем там, на барельефе, — беззаботно смеялся, повернувшись к Изабелле Юрьевне. Она и вообще была похожа на десятиклассницу, и только очень взрослые и очень дорогие серьги — те самые (это фотография запечатлела точно) — несколько нарушали умилительное впечатление. Хожанов долго смотрел, забыв, зачем пришел, и об опасности, которая возрастала с каждой минутой…
Непостижимая метаморфоза… Еще воздух не остыл от ее присутствия. Жила, любила, страдала… Как это обыденно, но все равно — странно. Всегда странно: мгновение — и, как это сказано когда-то и кем-то, житейское лукавое разрушается торжество суеты…
Внезапно его мысли приняли иное направление (краешком сознания он контролировал себя и очень удивился: как? Снова реминисценция?): ну, в самом деле, а почему не пошел он со своими сомнениями в милицию или в прокуратуру? Почему не обратился к общественности — ее так много — разнообразной, жаждущей растолковать, разъяснить, помочь? В конце концов, газетные факты, обличающие власть в равнодушии, безразличии, безжалостности и нетерпимости, — что они такое, если вдуматься? Где-то, что-то, с кем-то…
Дело не в этом.
Отрезок времени, некое «от» и «до», пунктир, дискретная прямая, именуемая в обыденности весьма простодушно «жизнь», — пуста, увы (что бы там ни доказывали), завистлива, преисполнена ненавистью и злобой, лжива и лицемерна…
Годы и десятилетия прицельно и трудолюбиво выстраивалась монументальная пустота, нечто странное, напыщенное и безрезультатное, беспомощное, но очень воинственное. В этой структуре — все друзья, товарищи и братья, но всяк за себя.
Вот он, генезис недоверия.
Омут.
…Ну, и что он жаждет здесь отыскать? Улики, доказательства, которые удастся связать воедино и тем самым разоблачить (кого?), изгнать (зачем и куда?) и… начать новую жизнь? Ах, как хорошо… И как нелепо.
И все же: откуда такая уверенность, что совершено преступление?
Но ведь умер от чего-то Строев, молодым умер, во цвете лет.
Ну и что?
В еще большем «цвете» скончалась Изабелла.
Ну и что?
Безнравственно вспыхнувшую вдруг (и не угасшую еще, увы…) влюбленность превращать в некую базу криминального расследования и врываться на этом основании (воровски!) в чужую квартиру, искать чего-то…
Кстати: а чего он ищет (если отбросить общие слова — об уликах и доказательствах)? Письма, адреса, пароли, явки, связи (ч-черт… угораздило-таки… Ведь поклялся же: сленг — вон! Ну, да чего уж теперь… И вообще: долой игрища, к чертям собачьим мишуру эту, дурь…)?
Долой. Конечно же долой… Здесь на глаза ему попался томик с обтрепанными страницами и сломанной обложкой, он лежал на прикроватной тумбочке (вот незаметно и в спальне оказался), нетерпеливо (а почему, собственно? Предчувствие?) взял — это было Евангелие синодального издания 1911 года, раскрыл, и на ковер — он был сер от пыли, от его шагов она взлетела к потолку серыми облаками-хлопьями (или это показалось ему?) — плавно опустился листок, исписанный бисерным почерком.
Включил лампу (абажур желто-коричневый «Галле», он ничего в этом не понимал, но красота вещи поразила его), мелкие буковки сложились в слова:
«Костя, милый, родной, я понимаю, ничего теперь не изменить, не поправить — ты ушел далеко, и я пока не могу прийти к тебе, потому что человек не волен в своей грешной жизни, а только Бог един… И ты прости меня за это. Но я знаю, что настанет день, и мы снова встретимся, и ты скажешь мне: здравствуй, Белла. А я отвечу: здравствуй. Я буду молиться за тебя, безбожника и материалиста, но ведь ты был честным и добрым, и даже твоя служба не смогла изменить тебя. И поэтому я знаю, что Господь примет мои молитвы и даст тебе не черноту небытия, а новое небо и новую землю. Помнишь, я читала тебе об этом: при звуке последней трубы мы не все умрем, но все изменимся… Сейчас я опять поеду туда, где почивает твое разрушающееся бренное тело, — это ничего, потому что только через разрушение мы обретем новое, нетленное. Вернусь вечером, и мы продолжим разговор…»
Страниц было пять, на каждой Изабелла (ведь это она писала?) излагала наивные (так подумал Хожанов) религиозные догмы и притчи, никакой информации (кроме той, что она была верующей, а он нормален — то есть ни во что и ни в кого не верил) в этих листках не обнаружилось…
И вдруг Хожанов понял, догадался, он ничего и не найдет, потому что ничего нет. На всякий случай открыл ящик письменного стола, заглянул в корзинку с газетами, наудачу перелистал несколько книг, сняв их с полки, — в самом деле, ничего… Только в ее тумбочке, под ворохом старых газет, нашел маленькую иконку Спасителя и, поколебавшись, сунул в карман.
Наивный, дилетантский путь… Серьезные документы не держат дома! Только теперь начала доходить до него суровая правда: он подставил себя под удар невероятной силы (ведь каждую минуту могла появиться милиция) и даром потерял время.
Нужен другой ход (если он вообще нужен!), иной поворот в размышлениях, парадоксальный, может быть, и совершенно невероятный! Но пока ничего такого в голову ему не приходило.
Итак, хватит, он исчезает; последний, так сказать, ретроспективный взгляд на письменный стол (чем-то он все же задел): лампа (ах, какая лампа), прибор из старинного родонита, фотографии и… Календарь. Обыкновенный, без картинки, только числа и дни недели. Лежит под стеклом (мода давних лет, но ведь противно держать руки на холодном, как лоб покойника, стекле!), ничем не примечательный, скромный, но вот «отметки резкие ногтей» заметны, хотя и не очень явственны… Он понял, что привлекло его внимание: с определенной позиции отметки становились видны, и он их заметил, просто поначалу не среагировал.
Приподняв стекло (пальцы обмотал носовым платком, порвав его надвое), извлек календарь и, аккуратно сложив вчетверо, сунул в карман, к иконке…
У дверей долго прислушивался, все было тихо, и тогда, неслышно отведя ригель замка, выскользнул на лестничную площадку, спустился на два этажа и вызвал лифт. Зажглась красная лампочка, лифт бодро двинулся, и через мгновение ошеломленный, разом взмокший Хожанов (слабы, слабы нервишки-то…) увидел за стеклами кабины нескольких в милицейской форме, и среди них за их спинами явно обозначился некто в штатском. Это было внове и весьма угрожающе: alma mater? Возможно… Там, наверху, лязгнуло, он снова нажал кнопку вызова, влетел в кабину, не помня себя, внизу протянул ключ консьержке, выскочил на улицу и в три прыжка пересек, вызывая своим диким видом недоумение прохожих. Горько-то как… За такое дело взялся, а нервы — ни к черту, умение — на нуле. А если этого пресловутого дела не существует совсем и оно — так, мираж, воображение, истерика, — тогда и вовсе дурак: был без пяти минут в каталажке, положенные по закону трое суток (он ведь стал бы «подозреваемым») они бы его продержали не охнув!
Значит, дела не существует? А календарь с отметками? (Глупо. Тогда надобно и настольную лампу приплюсовать, — в ней тоже было нечто завораживающее, тайна какая-то, а это уже шизофрения.) Но разобраться с этими отметками все же надо будет. Ведь делал их зачем-то Строев? Ведь не дни же рождения друзей и знакомых отмечал он ногтями?
Так, так, так… Неразборчивые связи… (почему-то стукнуло ему в голову). И alma mater. Даже какая-то мысль по этому поводу только что мелькнула… Да! Вот: уволили мгновенно, не предупредив, не побеседовав профилактически, а ведь времена-то теперь настают другие…
Может быть, он им изначально «поперек»? И они просто искали и нашли предлог? А суть вопроса — в другом? (А предлог — известно, охотно предоставила мадам.)
Может быть, это «другое» каким-то образом связано с его консультациями Строеву? Но ведь они даны с разрешения руководства. Все…
Нет, не все. Была одна, совершенно случайная, они встретились в универмаге, он покупал себе брюки, а Строев мерил новый костюм и, увидев его, отвел за руку к окну, заговорил о своем предмете. Возможно ли проанализировать сопутствующие преступлению обстоятельства, мельчайшие нюансы и составить специальную программу, которая смогла бы безотказно срабатывать, достаточно четко выводя на фигуранта? Скажем, коллекционеры антиквариата не ординарные уголовники, их собирательская деятельность весьма нюансирована, и уж если бы удалось получить сведения об этих нюансах — то, скорее всего, на них и следовало все строить…
Да, поговорили со Строевым, ну и что? Разве в этом был служебный криминал?
Потемки…
Вспомнил, как рассказал Строеву сюжет американского фильма о стратегическом компьютере. Это был обыкновенный прокатный фильм, в Америке его показывали всем желающим, но то в Америке… А в ALMA MATER собрался избранный круг, после просмотра долго удивлялись: как это американцы рискуют высвечивать основополагающие принципы? Суть же заключалась в том, что обыкновенный школьник, в совершенстве умеющий обращаться со своим домашним компьютером (там у них все школьники это умеют, с некоторой горечью и завистью сказал доктор), случайно узнал кодовое слово, открывающее доступ к контакту со стратегическим компьютером Пентагона. Простое слово, имя погибшего сына конструктора, который собрал этот шедевр электроники. Если учесть, что в Штатах каждый может соединить свой ПК[5] с любым другим (в некоторых случаях требуется все же пароль), — в этом не было бы никакой трагедии, но мальчик, включившись, стал посылать вводные, причем делал это как бы играя в войну, а компьютер решил, что советские подводные лодки, оснащенные атомным оружием, и стратегические ракеты на самом деле в пяти минутах от старта…
Смысл этой притчи был очевиден: получая со спутников информацию о мельчайших наземных нюансах (шум двигателей передвижной РУ[6], например) и перерабатывая эти нюансы по специальной программе, компьютер легко сделал вывод о готовящемся нападении и еще легче указал противника.
Но война, к счастью, не началась.
…Утром Хожанов проснулся в дурном настроении. На столе лежала записка, клочок газеты с красным карандашным текстом (карандашом этим любимая подводила губы):
«Напоминаю: сегодня последний день. Если не пойдешь устраиваться — все твои нынешние неприятности покажутся тебе новогодним праздником. Ты знаешь, я не шучу».
Подписи не было, и это означало (по давно изученным признакам), что накал у любимой достиг апогея. Рядом с запиской, под сахарницей лежала купюра десятирублевого достоинства, и это было настолько невероятно, что поначалу Хожанов даже протер глаза. И тут же увидел еще одну записку — теперь уже на обыкновенном листке из блокнота:
«Муки — один пакет, сахару — 3 кило, сыру и колбасы граммов по двести, масло тоже кончилось, и не забудь про хлеб».
Подписи не было и здесь, но дело было уже не в этом: Хожанов ненавидел магазины и в пору еще верной и нежной любви (как ему казалось) выговорил себе право не ходить за продуктами, взамен же подрядился мыть полы, пылесосить, выбивать дорожки и выполнять всякую иную физическую работу. И то, что сегодня она приказала ему идти в магазин, означало только одно: в ее глазах он больше не существовал как личность. Им можно было помыкать, и она нисколько не сомневалась, что он не посмеет отказаться…
Ах, любимая, любимая… Ну разве не было объяснено тебе еще на заре туманной юности, что отказ от продуктового — это не каприз… Когда-то, давным-давно, был светлый праздник в родительском доме (он заканчивал десятый класс) и множество гостей, и мама послала за шампанским. Почему-то он всегда очень неохотно выполнял такие поручения, увиливая по мере сил. Теперь же все давно уже ждали, и следовало поторопиться, и он, купив двенадцать бутылок, сгибаясь от тяжести, побежал к автобусной остановке.
И здесь случился удивительный казус: дверь щелкнула перед носом, он подпрыгнул (как гиревик в цирке, который во время кульбита выпускает гири из рук и вдруг оказывается высоко-высоко, и публика восторженно ахает), сетка с тяжеленными бутылками вырвалась, и ему показалось, что он взлетает выше крыши уходящего автобуса, а бутылки… Как в кегельбане: вроде бы и мимо идет шар, а все кегли разлетаются и валятся со стуком… Вот и здесь — ни одной целой не осталось, лопнули с грохотом, пеной, кто-то сказал: «Так им и надо, алкоголикам проклятым!» С тех пор никогда не ходил в продуктовые. Глупо, но факт.
…Он долго смотрел на красную десятку, и чем дольше, тем меньше колебался: долги надо платить, а он должен анатому, и хотя в запасе 8 рублей и еще два дня, но такого невероятного случая не будет и через 222! О последствиях он не думал.
Уже стоя на пороге, вспомнил о календаре Строева и иконке Изабеллы — их следовало спрятать, завернул то и другое в обрывок газеты и сунул под вешалку. Потом спустился вниз, зашел к консьержке и с поклоном вернул пять рублей. «Несчастный вы человек, — вздохнула Анна Филимоновна. — Я ведь и подождать могу». — «Ценю, но не нужно».
…Когда трамвай остановился и он снова очутился на дворцовой площади, был уже полдень — летний, истекающий зноем и асфальтовым дурманом, исчезающим запахом скошенной газонной травы и еще чем-то, неведомым и грустным… Здесь все было как и вчера — спокойно, неподвижно: редкие трамваи, еще более редкие машины, — один из тех спокойных городских уголков, которые так редко встречаются теперь…
И вдруг он увидел за левым крылом, дворца краснокирпичный, сильно потемневший дом — такие строили в 30-е для общежитий и коммуналок, и смутное воспоминание коснулось его души, разбудило дремавшее дотоле чувство. Он вспомнил свой поход сюда с матерью, совсем еще молодой тогда, она тащила его за руку, заливаясь слезами и не пряча их перед прохожими, а те изумленно оглядывались…
Здесь жила подруга матери, тетя Зоя, она только что позвонила по телефону и проговорила, давясь рыданиями: «Ва-си-лий… за-стре-лил-ся…» Хожанов помнил эти слова и интонацию помнил — мать без конца повторяла их, зачем-то копируя манеру и голос Зои; поднялись на третий этаж, уже здесь, на лестнице, слышен был отчаянный вопль, потом открылась дверь, Зоя кинулась на шею матери: «Нина, Ниночка, да что же это такое, за что…»
Вошли в комнату, покойник лежал на диване, в бессильно свесившейся руке был намертво зажат маленький восьмизарядный «вальтер», дядя Вася называл его «горбатенький» — из-за ручки, наверное, косо отведенной от ствола…
Пока мать и тетя Зоя разговаривали, Хожанов тихо сидел в углу и совсем не прислушивался (так ему казалось), слишком уж подавила смерть человека, который дружил с родителями и которого хорошо знал. Игрушки на день рождения, книги, однажды даже фотоаппарат. Он не то чтобы любил дядю Васю, нет, но, принимая подарки, привык к нему и числил в своих друзьях. И вот — нет дяди Васи…
А женщины все говорили, говорили, взмахивая руками и резко пожимая плечами, иногда голоса поднимались до визга, и тогда в комнату просовывалась старушечья голова и укоризненно кивала на мертвое тело, и они сразу умолкали.
Что он тогда услышал?
Дядя Вася служил в одном из учреждений с какой-то бессмысленной для его детского слуха аббревиатурой — он ее не запомнил, — служил еще до войны, а когда она началась и немцы стали быстро продвигаться в глубь советской территории, был командирован в один из городов на западе, там он приказал собрать несколько тысяч заключенных — из двух тюрем и двух лагерей, потом прибыл взвод красноармейцев внутренних войск с ручными пулеметами, заключенных построили и по команде дяди Васи расстреляли всех до одного. «Он же подвиг, подвиг совершил! — рыдала тетя Зоя. — Понимаешь, Нина? Вот, посмотри!» Она рванулась к шкафу и начала лихорадочно рыться в бумагах и выбрасывать их на пол; листы порхали над столом, стульями, диваном, один опустился покойнику на лицо, прикрыв словно на пляже в жару, тетя Зоя схватила его, он-то и оказался искомым:
«Примите искреннюю благодарность руководства и всех сотрудников центрального аппарата за Ваш мужественный, героический поступок. Пусть он послужит примером всем нам в той суровой борьбе, которую сейчас ведет наш народ один на один с озверевшим фашистским гадом! Рады сообщить, что нами возбуждено ходатайство перед ГКО о награждении Вас орденом Красного Знамени».
«Вот он, орден…»
Тетя Зоя вынула из шкатулки потемневший, довоенного еще образца орден и осторожно положила на грудь дяде Васе…
…Он в последний раз посмотрел на знакомую дверь и на синюю табличку с белыми цифрами «25» и начал спускаться по лестнице. Интересно, что стало с тетей Зоей? С того памятного дня дружба матери с нею как-то привяла, а потом и вовсе прекратилась. Но на похороны мать все же пошла. Вечером она рассказывала: «Без оркестра, без военной формы, без знамени… Зарыли, как пса. А ведь он полковник, заслуженный ветеран!» — «Ему грозил суд, Нина… — как-то уж слишком спокойно произнес отец. — Наступили другие времена… Третьего дня застрелился бывший замминистра. Сейчас таких случаев много. Что вчера было геройством, сегодня…» Он безнадежно махнул рукой.
…Хожанов пересек площадь и вошел на территорию морга, безразличные санитары (ему показалось, что в этом дворе он был уже несчетное число раз, и поэтому все происходящее здесь — обычно) вытаскивали из труповозки носилки с чем-то прикрытым изрядно перепачканной простыней, из-за дверей кабинетов доносился смех (всюду жизнь, как заметил еще в XIX веке некий славный передвижник), симпатичная сестра из третьего секционного окинула его любопытным взглядом и подозвала к окну: «Георгия Ивановича нет, он на занятиях». — «Он еще плохо знает внутреннее наше устройство?» — попытался пошутить Хожанов, но она даже не улыбнулась: «Георгий Иванович человек особенный… Он изучает… — Она подняла к потолку очаровательные голубые глазки и произнесла по складам, словно вспоминая: — Фе-но-ме-но-ло-гию духа. Знаете, что это такое?» — «Наука, исследующая формы сознания». — «Это интенциональность нашего сознания, — посмотрела она с нескрываемым превосходством. — А интенциональность — в основе экзистенциального мира. Поняли? Ну, да все равно. Короче: Георгия Ивановича сегодня не будет. А он вам зачем? Из-за той красавицы?» — «Да» (а что тут скрывать, она, судя по всей этой зауми, совсем не идиотка). И, словно угадав его мысли, она улыбнулась: «Я подрабатываю здесь. Родители — бедные, в дореволюционном понимании, — представляете, что это значит? Ниже порога официальной бедности. Мать — инвалид второй группы, пенсия 70 рублей, отец умер. Канцер. А у меня почему-то проснулась жажда знания — интересует, как устроен мир и кто мы такие. Это, надеюсь, понятно? Я учусь на философском, третий курс. Анастасия Романова, к вашим услугам. Фамилия в сочетании с именем — не смущает? Вот и славно… — Она вполне очевидно посмеивалась над ним, впрочем, совсем беззлобно. — У вас какая была зарплата?» — «Почему «была»?» — «А мне кажется, вы теперь не у дел. Так сколько?» — «450 плюс… разное другое». — «Хорошая зарплата. Была. А у меня здесь на круг — рублей триста. И стипендия еще. Ну, ладно, оставим общее и перейдем к частному. Георгий Иванович ждал, и дело тут не в десятке, которую вы ему должны…» — «Он и вас посвятил? В качестве свидетеля, что ли?» — «У вас обманчивое лицо. Интеллектуальное. Ну, да ладно… Если вам срочно — то он ждет прямо сейчас…» И она назвала адрес, странный довольно. Это был нежилой дом в трех остановках от морга, нужно было отыскать какой-то подвал, потом пройти по нему сквозь хлам и только тогда постучать в железные двери условным стуком: «та-та-та-та…» Тема судьбы… Ну, что ж… У него — очень срочно. И даже очень-очень…
— Только не ошибитесь, а то будут неприятности, — она мило улыбнулась.
— Да? И что же?
— Побьют. — Лицо ее мгновенно закаменело, она приняла боевую стойку: ноги слегка расставлены, тело четко удерживает равновесие, расслабленные ладони готовы мгновенно сжаться и… — Ясно? Ну и ладно… — Она снова улыбнулась, принимая прежнюю позу.
Хожанов удивленно поймал себя на странной мысли: уходить не хочется. То есть это была еще и не сама мысль, не формула, а только ее предчувствие: разговор, общение следует продолжить. «Вот что значит длительно-мерзкие отношения с женой… — горестно подумал он. — Любая и каждая юбка — липучая бумажка. А я — муха». Но он уже понимал, что перед ним не «любая» и уж тем более — не «каждая»…
— А родственники приходили?
— У нее никого нет.
— Как… это? — обомлел он. — А со стороны мужа?
— Никого не было. Я думаю, что ее муж тоже был сиротой. Два очень подходящих друг другу человека… — Она чуть искривила нижнюю губу и ушла, взметнув полами халата, и Хожанову показалось, что она совсем не шутила.
Или шутила? Кто их поймет, современных девушек с философского факультета…
…Потом он долго искал подпольный клуб, спрашивать было нельзя, не хотел подвести доктора, наконец нужный подъезд нашелся, и Хожанов увидел лестницу, ведущую в подвал. Спустился, на двери висел огромный амбарный замок, запертый вглухую, и от этой очередной неудачи захотелось смачно выругаться. Но давняя семейная жизнь научила преодолевать себя…
Он уже собрался уходить, когда заметил, что замок поблескивает если и не первозданной металлической чистотой, то уж недавно возобновленной смазкой — несомненно. Дернул дужку, она, не размыкаясь, мягко отъехала в сторону вместе с запорным кольцом, и двери легко поползли. Однако ловко… Он вошел, в нос ударил запах нечистот, всюду валялись какие-то разломанные электроагрегаты, трубы, разбитые унитазы и шкафы без дверок. Чертыхаясь и проклиная ту минуту, когда взбрело ему в голову искать этот подпольный клуб, двинулся, спотыкаясь, через хлам и внезапно увидел еще одну дверь; она тоже открылась совсем легко. Здесь уже было вполне чисто, впереди маячила новая, обитая железом, из-за нее доносились характерные, много раз слышанные выкрики и взвизги. Хожанов понял, что искомое найдено. Подойдя к дверям, он осторожно постучал: та-та-та-та…
Крики сразу смолкли, будто выключили радио, из-за дверей послышалось осторожное покашливание: «Кто там?» Почтальон Печкин, захотелось ему ответить, но он удержал свой вредный язык и вежливо попросил патологоанатома из морга. «Он мне нужен». — «Как его зовут?» — «Георгий Иванович. Я должен ему 10 рублей и хочу возвратить». За дверьми воцарилось молчание. Хожанову было не до раздумий и осмыслений, иначе он бы сообразил, что возникла предельно идиотская, а потому и очень опасная для него ситуация: кто-то пришел, обнаружил запрещенное сборище, за это грозят серьезные неприятности, и бог его знает, как поступят эти кулачно-ножные бойцы. А если Георгий Иванович уже ушел? Но вот створка отлетела, и на пороге застыл молодой человек в белом кимоно с черным поясом, он, не мигая, смотрел мимо уха Хожанова и, казалось, готов был в любую секунду нанести неотразимый удар… «Следует не отводить взгляд», — вспомнил Хожанов уроки собственного преподавателя специальных видов борьбы. «Мне нужен доктор», — повторил он спокойно. «Георгий Иванович, это вас». Вспыхнул свет, Хожанов увидел человек десять — двенадцать мужчин и двух девушек, одетых в кимоно, по углам и стенам стояли тренировочные снаряды, посередине висела толстая груша, напоминавшая грузное тело. «Ребята, это надежный человек, не напрягайтесь, я сейчас переоденусь». Георгий Иванович ушел, все молча рассредоточились, не отрывая от Хожанова подозрительных глаз. И вдруг ему захотелось рассеять их сомнения (хотя — зачем? Детей не крестить…), подружиться (глупость, соплячество и фарс, но удержаться не мог, вспыхнуло непреодолимое желание, и отвага появилась, уверенность), мгновенно скинул рубашку и брюки, на него смотрели с изумлением… «Держите». Он ни к кому персонально не обращался, но тот, что открыл, и второй, помоложе, с обычным поясом, подняли, пожимая плечами, доску и встали в позицию, откровенно усмехаясь ему в лицо… «Ботинки…» — напомнил кто-то. «Они принимают меня за умалишенного, ну — да ничего…» Сбросил ботинки и приготовился. Поклонился, поднял руки и соединил пальцы, сделал несколько движений. Краем глаза он следил за ними, улыбки исчезли, они поняли: перед ними если и не профессионал, то уж крепкий дилетант несомненно…
А он легко и свободно повернулся через правое плечо (сколько лет прошло, а ведь помнил…), после отлично выполненного фуэте нанес удар пяткой — доска развалилась под восторженные аплодисменты. Бил-то левой, для начинающих это почти непреодолимый рубеж, да и позиция достаточно трудная…
— Однако… — Георгий Иванович покачал головой. — Где учились?
— В ALMA MATER… — Он улыбнулся. Все равно никто и ничего не поймет, а разъяснять он, естественно, не станет… — Вот десять рублей, спасибо. А откуда вы знаете, что я человек надежный?
— А вы не надежный? Идемте…
Во дворе доктор посерьезнел и взял Хожанова за локоть: «Я вас не спрашиваю — кто вы и откуда (бедный, если бы он знал…), — но факт состоит в том, что Изабелле Юрьевне нанесли удар в «точку», знаете, что это такое?»
Он знал. Легкая, безболезненная, мгновенная смерть. Вспыхивает в мозгу короткое пламя и — чернота… Легенда каратэ.
— Вы сообщили следователю милиции?
Георгий Иванович несколько секунд молчал, потом сказал, не опуская глаз, словно стоял в боевой позиции:
— Нет.
— Почему?
— Потому что этого не доказать. Не описано в учебниках, нет данных для сравнительного анализа. Меня бы посчитали душевнобольным.
— Тогда откуда вы знаете? Об этой «точке»?
— В былые времена я жил с родителями в коммунальной квартире, а одну из комнат занимал старый китаец, ему было лет девяносто, не меньше. Когда-то он был хозяином прачечной. Это он увлек меня древней борьбой. Он знал стиль кунгфу и считал его лучшим среди всех стилей каратэ… Он и рассказал мне о таинственном ударе в «точку», который и на месте убивает, а может уничтожить и через заданное время. Он же объяснил, какая картина обнаруживается на сердце при вскрытии, — я уже учился в медицинском и часто рассказывал ему об иных вскрытиях, уже тогда я выбрал именно этот путь…
— Почему?
— Потому что открывается бездна…
Он тоже был не вполне нормален, этот Георгий Иванович… но если он говорил правду (а Хожанову почему-то хотелось услышать именно такую правду, вот ведь странность…), тогда сразу возникало множество вопросов. ЗА ЧТО убили Изабеллу? И КТО ее убил? И ЧТО она хотела поведать ему, Хожанову? И что ему делать дальше?
Словно повинуясь какому-то наитию, он подошел к доктору вплотную и сжал ему предплечья: «Хотите помочь?»
Георгий Иванович долго молчал, потом хмыкнул:
— Не слышали такой романс — кажется, его пел Вертинский: «Я не знаю, кому и зачем это нужно…» Не слышали? — Он слегка нервничал, и Хожанов это заметил.
— Вы не отвечаете.
— Вы тоже. Зачем вам моя помощь?
— Чтобы найти и наказать виновных.
— Сами найдете и сами накажете? — очень быстро, торопясь, почти давясь словами, спросил Георгий Иванович, и Хожанов понял, догадался, что доктору эта тема не нова.
— Найду сам, а накажут… Найдется… кому… — неопределенно произнес Хожанов.
— Э-э, нет! — вцепился Георгий Иванович. — Давайте точно: милиция, прокуратура, госбезопасность?
— Ну, уж если быть абсолютно точным — все эти организации ищут и расследуют. Наказывает суд.
— И вы боитесь, что он не накажет. Я угадал?
— Это нетрудно… Наше с вами расследование и розыск суд не примет, а организации официальные этим розыском и расследованием заниматься не станут. Вы же сами сказали: об убийстве разговаривать бесполезно, не доросла еще судебно-медицинская экспертиза…
— И чего же вы хотите?
— Георгий Иванович, что мы хотим, давайте так, ладно? Системной работы, анализа и выводов. Нужно, чтобы вы по своим каналам посмотрели или лучше — изучили историю болезни Строева и, главное, заключение о его смерти. О причинах. И картину на вскрытии. А вдруг патологоанатом зафиксировал нечто очень понятное нам и неведомое ему?
— Забавно… — Георгий Иванович даже улыбнулся. — И как же, по-вашему, я это сделаю? Приду ночью в уважаемую организацию, подберу ключи к замкам, вскрою, украду и вам преподнесу? (Похоже было, что он такой вариант уже обдумывал!) И зачем? Для удовлетворения вашего псевдопредставления о справедливости? Вы что же, не знаете, что не может быть следователя, судьи и палача в одном лице?
— Когда найдем виновных — разделим обязанности. Палачом буду я.
— Вы сумасшедший.
— А вы? Не торопитесь. Задача имеет решение, и вы это знаете.
— Любопытно — какое?
— Георгий Иванович, вы думали над этим решением. Хватит меня проверять. Ваши однокашники наверняка работают именно там, где давалось заключение о смерти Строева, где лежит весь материал. Ну, а если и не непосредственно там, где-то рядом, на подступах… Стоит только захотеть, и мы будем располагать и информацией, и ксерокопией заключения о смерти…
— И сопоставим с Изабеллой… Не глупо. Ну, а если это ничего не даст?
— Даст. — Хожанов произнес это с таким зловещим спокойствием, с такой непоколебимой уверенностью, что Георгий Иванович ошеломленно покачал головой, и даже некоторый испуг вдруг мелькнул в его глазах.
— Однако… — он удивленно развел руками, — характер у вас… Но чего же вы добиваетесь? Если без полемических преувеличений?
— Я вас напугал… Ну, хорошо. Не будем предрешать, давайте проверим. Все, что сможем. Согласны?
— Но тогда, наверное, вы предполагаете, кто убил Строева и его жену?
— Предполагаю. Но об этом — позже. Знаете, есть вещи, о которых до поры до времени лучше не знать. Вы согласны?
— Допустим. Это все?
— Нет. У ваших товарищей по клубу, у всех причастных к этому духовному костоломству, — Георгий Иванович улыбнулся и согласно кивнул, — вы постараетесь очень осторожно, чтоб комар носу не подточил, выяснить: кто — хотя бы очень приблизительно — мог нанести такой удар — в «точку». И помните: защиты у нас с вами нет. Нарветесь — наше знание азов каратэ не защитит нас. Чаще вспоминайте, как погиб первоклассный мастер, Брюс Ли, пусть это тоже легенда…
…Из морга Хожанов поехал на кладбище — на трамвае, зайцем. У него оставался трояк, но он забыл его разменять, голова была не тем занята, а когда спохватился, было уже поздно, трамвай набрал скорость, да и двери уже закрылись.
Можно было, конечно, разменять у пассажиров, но вдруг возник совершенно непреодолимый комплекс неполноценности, и, скрипя зубами от бессильной злобы на себя самого, он отвернулся к окну и стал смотреть на улицу. Трамвай обгоняли машины — одна, вторая, вдруг показалось, что светло-серую «Волгу» с частным номером он уже видел. Проклиная себя за невнимательность, попытался запомнить номер, но автомобиль наддал и исчез за поворотом. Что же, урок… Глаза должны быть и сбоку, и на затылке, иначе и браться не стоит за такое дело. Итак — безденежье… Увы, оно, видимо, надолго и всерьез. И чтобы его прекратить (а главное — впредь не отчуждать незаконно от зарплаты любимой десятки и даже рубли), надобно продать какую-нибудь сугубо личную собственность — например, обручальное кольцо — в скупку, за полцены, это даст возможность достаточно долго пользоваться городским транспортом и кофе в булочной выпить — чтобы не упасть в голодный обморок.
Потом он стал думать о том, что вот, сорок уже миновало, и ни одного друга так и не появилось, — все больше знакомые, иногда — добрые, чаще — не очень. Связь со школьными приятелями оборвалась после поступления в заведение, со слушателями дружба не сложилась потому, что не принимал сухости одних и разнузданности других, к тому же никто из них не любил искусства и не интересовался им, и классической русской литературой тоже (правда, здесь больше была виновата безликая школа, формальное, построенное на постулатах образование, ну да ему-то разве легче от этого?), а он обожал проблемы и постоянно мучил себя, сравнивал, анализировал и… мрачнел.
Вот и остался один. А в заведении его считали крайним, ярко выраженным индивидуалистом.
А любимая… Чего не сделаешь в восемнадцать лет, когда бываешь дома два раза в неделю? Горячность, а не разум на первом месте тогда…
…Нет, решительно нельзя было ехать бесплатно. Вышел, поймал такси и велел везти к скупке, ее знали все таксисты, и уже через полчаса он, расписавшись в квитанции, получил свои двести рублей (кольца ему и любимой были подарены матерью, на них стояла высшая проба), наменял мелочи и снова сел в трамвай, вздохнув с облегчением: хоть здесь удалось…
Еще через час он уже входил в знакомые ворота, отделявшие жизнь вечную от жизни временной. Студента на месте не было, и просто так, походя, спросил он у старика с метлой: «А где ваш сменщик?» — «Петька-то? — повернул голову сторож. — Так отсыпается, поди… Вчерась набрался лосьону, дурак несдержанный, как бы не умер…» — «Так он пьет? Вот уж не подумал бы… Студент все же…» Глаза у сторожа вылезли на лоб: «Это кто «студент»? — почти завопил он. — Это Петька — студент? Ухохотал ты меня, парень… Да Петька с трудом в ведомости крестик ставит, ты понял? Хотя до сопития занимал изрядную должность. Помощником в исполкоме трудился. Ты ошибся, мил человек».
Ошибся… Хожанов медленно шел к бывшей кладбищенской часовне, здесь помещалась контора кладбища. Кем же был симпатичный студент-технарь на самом деле? Он тут же одернул себя: глупости… Нельзя так вот, сразу бросаться в подозрение, проверить надо. Старик мог всего не знать, мог наконец выпить лишнего, подобно своему сменщику Петьке.
На ступеньках грелись два кладбищенских пса — рыжий и черный, в коридоре царил полумрак и пахло мышами и чем-то еще, неуловимым и столь же неприятным. Постучав в массивную дверь, Хожанов вошел и оказался лицом к лицу с симпатичной девушкой лет двадцати — ему везло на хорошеньких девушек в последнее время. Быстро и кратко начал он объяснять, зачем пришел, но по мере того, как слова складывались в нужные фразы, на лице очаровательной кладбищенской служительницы проступали все явственнее отчуждение и скука. «У нас три сторожа, гражданин. Все они старше пятидесяти, поэтому я не понимаю, о каком студенте идет речь». — «О том, который одолжил мне 5 рублей. Что же, я теперь и вернуть не смогу?» — в интересах дела соврал Хожанов. «Вам повезло, ваши пять рублей вам пригодятся, — непримиримо ответила она. — У вас все? Мне нужно работать». Ошеломленный, он стоял перед нею, не зная, что сказать, наконец произнес неуверенно: «Но ведь вы ходите на службу каждый день. Неужели не заметили, что в воротах стоит другой человек?» — «Не заметила». Она покраснела, глаза источали ненависть. Вот это номер… И с чего бы?
Вышел в коридор, спустился по лестнице и сел на ступеньку. Рыжий пес мгновенно положил голову ему на колени и опрокинулся на спину, приглашая погладить по светло-розовому животу. Какая-то старушка в черном остановилась и, как молитву, произнесла: «А вы, молодой человек, душевный. Дерибас ни к кому и никогда не подходит. А к вам… Храни вас Господь…» И ушла, а Хожанов, почесывая Дерибаса, думал о том, что задача усложняется с каждой минутой. Сторож… Да никакой это не сторож, и теперь дай бог не наследить, потому что девица изначально все прекрасно знала и понимала (сейчас это ЯСНЕЕ ЯСНОГО) и могла сообщить о его визите заинтересованным лицам. Впрочем, подумал он, эти «заинтересованные» вряд ли ожидали какого-то (а тем более — подобного) интереса к своим делам. По их убеждению, все должно было пройти незамеченно, как бы обыденно-скучно, в лучших кладбищенских традициях. Но реакция девицы подтверждала: «студент» (или кто он там) — реальность, и весьма объективная притом… Ну, что ж: возьмем девицу на заметку, авось и пригодится когда-нибудь.
По знакомой дорожке неторопливо-равнодушно прошел он мимо обелиска, даже издали еще была видна вмятина на цветнике… И вдруг остановился: так, «студент»… Но ведь был еще, помнится, городской сумасшедший, симпатичный ниспровергатель авторитетов и постулатов. Он дважды мелькнул среди надгробий, а потом подошел, заговорил… Что он делал на кладбище ночью? Кто он?
Бегом помчался к воротам, старик с веселой усмешкой вздернул небритый подбородок: «Ну, как? Был студент или нет?» Хожанов отрицательно покачал головой и, изобразив некоторое смущение (как же, один раз вляпался, теперь надо быть осторожнее), спросил, стесняясь: «Мне сказали, что у вас тут обитает весьма интересный человек. Много знает, охотно рассказывает, но вот беда — все это только по ночам. Не поможете отыскать?» Старик поставил метлу и, приблизившись к Хожанову вплотную, приложил шероховатую ладонь к его лбу: «У тебя, парень, часом, не жар? Ты не болен? Да я век здесь обретаюсь, а не слыхал подобного. Отдохни или поешь. Ты, может, с голоду распух?» Махнув рукой, Хожанов отправился на улицу, потом, обернувшись, спросил с отчаянием: «Ну, а как секретаршу конторы зовут — можно узнать?» — «Это можно. Многие интересуются. Особенно в твоих летах. Мужчины. Сразу после похорон своих жен, между прочим. Неотразимая девка Капитолина…»
…Уже в трамвае, под плавное постукивание колес, пришел он к выводу, что необдуманными поступками поставил себя на грань катастрофы. Стоит «им» проверить, кто интересовался подробностями (все больше и больше убеждался он, что «слепая, жестокая сила» — он обозначал ее именно этими словами из старинного романса — существует совершенно реально), и с ним покончат так же просто, как покончили со Строевым и его женой: в «точку». Одна надежда: ОНИ пока спокойны. Волноваться им пока не из-за чего. И поэтому пока они ничего не станут проверять.
Они… Какое это пока тихое и безобидное местоимение…
…Когда открыл двери квартиры (ключ любимая почему-то не отбирала и даже не пыталась), наткнулся на такой яростно-непримиримый взгляд, что даже попятился. «Где продукты?» — «Не нервничай, я верну тебе десять рублей. — Достал из кармана скомканные десятки и двадцатипятирублевки и, наугад вытащив одну (даже не посмотрел, что отдает), протянул со вздохом: — Вот возьми и прости меня, дела, понимаешь? Совсем неотложные дела». — «Устраивался?» — сразу помягчела она. «Да. Устраивался». Ему показалось, что он сказал правду. В конце концов, в ее понимании работа всегда была результатом какого-то устройства, беготни, связей и «отношений». Но ведь он не баклуши бил. И тем не менее объяснить ей внятно, на доходчивом и понятном для нее языке, что сегодня, сейчас, это и есть искомая, желанная работа, — все равно не смог бы. Пусть будет: «устраивался». Не нужно идейных сложностей в собственном зыбком доме. Но как плохо, оказывается, знал он любимую после двадцати совместно прожитых лет! Окинув его настороженным взглядом, она по-собачьи потянула воздух и подозрительно усмехнулась: «По-моему, на тебе чего-то нет… Только чего? — Снова по миллиметру осмотрела его с ног до головы. — Так-так-так… Где обручальное кольцо?» — «Это подарок мамы, и я счел возможным…» — «Твоей мамы? Ска-ажите… Забыл, что имущество, нажитое в браке, совместная собственность?» — «Но это неверно… Кольцо купила мама…» — «А то, что ты в это время уже спал со мною в одной постели, не довод?» — «А регистрация?» — «Я тебе покажу регистрацию! Ты у меня сразу все вспомнишь. Короче: кольцо вернуть, иначе будет плохо. У меня все». Неприметно вильнув платьем (лет пятнадцать тому она призналась ему с глухим отчаянием: «Когда иду по улице — всем женщинам смотрю в спины. И радуюсь. Не я одна… А когда колыхнется — могуче, притягательно, основополагающе и незыблемо — горькая зависть»), она удалилась на кухню, и долго еще доносился оттуда смягченный дверьми и расстоянием визгливый ее голос. Как это у Толстого? Все счастливые семьи похожи, каждая несчастлива по-своему? На всякий случай он открыл седьмой том и на первой странице нашел подтверждение. Нда… Сколь сиюминутны подчас озарения даже гениев… Кончилась, ушла в небытие Россия Толстого, и все изменилось, перевернулось… Разве сегодня одинаково счастье? Оно ведь такая редкость, такая удача, такое произволение, Промысел высший, — как оно может быть одинаковым… А несчастье? Оно овладело умами и делами и естеством — разве оно может быть разным, если причины уныло-однообразны: безденежье, выматывающее душу, сердце и ум; плохая квартира, перенаселенная, холодная, с падающим на голову потолком; бессмысленная работа, по сравнению с которой потогонный конвейер Форда — невозможная мечта; дебильные дети, вырастающие в материал для уголовного розыска; отсутствие друзей; доносы и зависть, зависть… Одинаково и безысходно несчастье…
А может, это минутная слабость? И не все так мертво и черно? И на самом деле совсем не больше несчастья сегодня и счастья столько же, сколько всегда?
Кто знает?
Какое-то навязчивое воспоминание пришло и властно потребовало исхода: Строев, кажется? Ну да, именно он. Была одна шершавочка, заусеница одна, которая тревожила, заставляя вспоминать последовательно, детально, до запятой, до интонации. Тогда он не обратил на этот нюанс ни малейшего внимания, но теперь он всплывал и всплывал из глубин памяти темным, неразгаданным пятнышком и вот, кажется, всплыл совсем и приобрел реальные очертания — показалось, даже тембр голоса Строева обозначился явственно и четко — чуть глуховатый, с хрипотцой, такими голосами необыкновенно получаются старинные романсы типа: «Эх, друг гитара…» И лицо возникло как в стереоскопическом кино — сначала сдвоенно и смутно, будто без специальных очков, а потом — четко и объемно. И фраза, фраза — тогда совсем проходная, как бы между делом, а вот теперь…
«Понимаете, нам нужно получить такую программу к проанализированным фактам и такую модель построить — я правильно употребляю вашу терминологию?..» Здесь Хожанов увидел себя как бы в зеркале и сразу же некоторым мускульным напряжением снял с лица снисходительную усмешку профессионала, который вынужден слушать лепет непричастного интеллигента, а Строев в это время продолжал, ничего не замечая: «…которая позволит нам выявить не только всех существующих фигурантов, но и всех возможных, понимаете? Ну, даже тех, которые должны, так сказать, возникнуть в ближайшем будущем?»
Еще бы, конечно, он понимал. Им нужно построить модель «они» — «другие», вписать в нее реальные взаимосвязи и ситуации, спроецировать сюда связи и ситуации дополнительные и определить направление (их службы имели совершенно необъятный материал: связи, их характер, имена, адреса и многое, многое другое), потом системно отобрать факты, соединить их с реальными предположениями и составить программу, которая позволила бы компьютеру выдать на-гора́ всех: и фигурантов, и причастных, и просто собирающих старину, и вообще — всех возможных, имеющих возникнуть в будущем. И вот эта глобальность, не вызвавшая тогда ни малейших сомнений, сегодня не просто озадачивала — зачем? — а будила тяжелые подозрения… Ну, в самом деле: зачем демократизирующемуся государству держать на учете не только преступников (что понятно), не только потенциальных преступников (что допустимо), но и вообще всех, кто собирает антиквариат для собственного удовольствия и даже вкладывает в купленные вещи «капитал», но не нарушает при этом законов и даже инструкций и правил торговли, например. Что это за предположение такое: «отдаленно-потенциальный» фигурант? Зачем это? Профилактика должна направляться на лиц, обладающих реальной преступной потенцией, а острие репрессии — только на совершивших преступление…
Вспомнил: о своих размышлениях доложил доктору. «Ну и что? — не удивился тот. — Они должны смотреть далеко и копать глубоко. Или вы не знаете, как расплодились в последние годы эти рвачи, эти грязные людишки, эта ржа, разъедающая души подрастающего поколения… Оставьте, любезный мой, я не разделяю ваших опасений. И кроме того: все делается там, у них, под неусыпным и бдительным надзором. Чего же вам еще?»
Нет, доктор или не хотел видеть, или сознательно закрывал глаза на эту глобальность. А ведь он далеко не дурак…
Вошла любимая, остановилась на пороге, взглянула грустными глазами: «Зачем мы ссоримся? Жизнь коротка…» Он изумленно развел руками: «С чего бы это? Тебе так дорого кольцо? Я выкуплю его или достану такое же. Не переживай». — «Бог с ним, с кольцом. Ты меня любишь?» — «Я? Тебя?» О господи, что ответить, у нее такие искренние, глубокие, бездонные сейчас глаза… Темно-серые, редкий цвет, вот только через двадцать лет увидел он это…
— Не знаю… Много было всего… Но почему ты спрашиваешь?
— Потому что ты дорог мне, и я не могу видеть, как ты гибнешь. На моих глазах.
— Я? Но… почему, с чего ты взяла?
— Я знаю. И ты… Ты тоже знаешь, Алексей, Алеша…
Неподдельная нежность прозвучала в ее голосе, он хотел было ответить (что, что ей сказать, когда пусто в душе и не дрогнуло сердце…), но резко и длинно зазвонил телефон, он снял трубку: «Алексей Николаевич?» — «Да, это я, с кем имею честь?» — «Кто это?» — посуровела любимая. «Не знаю, — он зажал мембрану. — Какая-то женщина…» — «Ах, женщина…» Любимая сузила зрачки, Хожанову показалось, что глаза у нее превратились в два револьверных ствола, из которых одновременно, по старинному македонскому способу, вот-вот должны были грянуть смертельные выстрелы… «Говорите, говорите!» — закричал он, услыхав, как в соседней комнате сняли с рычага трубку параллельного аппарата, и тут же что-то щелкнуло, потом пискнуло, и все смолкло навеки. Когда он вошел в ее комнату, она стояла белая, прямая, в одной руке была оборванная трубка (разбитый вдребезги аппарат валялся на полу), в другой баночка из-под майонеза, которой пользовалась, когда поливала цветы. «С ума сошла? — спросил он с холодным бешенством. — До каких же пор, доколе…» Стиснув разрывающуюся голову ладонями, сел на ее кровать и начал раскачиваться, словно дервиш на молитве. «До каких пор? — повторила она каким-то стертым, мертвым голосом. — До этих самых. Ты — на пороге, Алексей. Уж извини…» Подойдя вплотную, аккуратно сняла с баночки пластмассовую крышку и сильным движением (словно копье метнула) плеснула ему в лицо белую жидкость. По резко ударившему в ноздри запаху понял, что это уксусная эссенция, в глазах полыхнуло светло-голубое пламя — он видел однажды такое, когда приятель проверял с помощью специального прибора уровень сгорания газов в цилиндре своего «Москвича», от резкой боли замычал и застонал утробно (орать было почему-то стыдно) и бросился на ощупь, наугад в кухню, к раковине. С трудом нащупав кран, пустил холодную воду, ощущение было такое, будто расплавленный свинец плещется в глазных впадинах… И вот, когда стало чуть легче (поток холодной воды смыл часть кислоты), почувствовал удар в бок, потом в спину, рубашка сразу стала набухать — липко, противно, он понял, что это кровь. Обернулся и, с огромным трудом приоткрыв один глаз (да я никак Вий, со смешком пробормотал, удивляясь, откуда берутся силы еще и на юмор), поймал ее руку с кухонным ножом — он в веселые годы, счастливые дни резал этим специально заточенным лезвием вырезку с рынка, — вывернул (она слабо ойкнула и заверещала тоненько, словно заяц), нож звякнул об пол, она закрутилась волчком и отлетела к стене. «На тебе ни одного повреждения, — срывающимся голосом произнес он, — а я изжарен эссенцией, как свадебный гусак. Договариваемся так: я вызываю «скорую» и милицию, они фиксируют «менее тяжкие», и ты благополучно получаешь ниже низшего предела — два года лагеря. Или я не звоню, но ты убираешься отсюда к мамочке в Талду, а я пока разменяю квартиру». Она отряхнула юбку и рассмеялась: «Ты безнадежный дурак… Давай я сама позвоню, хочешь? Я найду, что им сказать, а вот ты, изгнанный за недоверие и откуда? Безработный сверх допустимых сроков? Или забыл, что в нашем отечестве всегда правы дети и женщины? Раскинь мозгами, увечный…» Она, кажется, была права… Да, милиция зафиксирует драку (что еще?), а судмедэксперт — ожог от эссенции. Ну и что? Что и кому это докажет? А он привлечет к себе внимание, это в его ситуации крайне опасно. И потому — не нужно. «Черт с тобой… Уйду я». Он сбросил с антресолей чемодан, швырнул в него пасту и щетку, белье и несколько рубашек. Предметы различал с трудом, в глазах вспыхивало короткое пламя, и сразу начиналась невероятная резь, рукав взбух и источал отвратительный запах эссенции, кожа начинала саднить и ныть. «Мне нужно хотя бы одну простыню и подушку. И старое одеяло. Немного, не правда ли?» — попытался он пошутить, но она даже не улыбнулась: «Зачем… Да еще старое… Она тебе предоставит все». — «Она?» — «Не придуривайся. В наше время ни одна баба не станет тратить две копейки просто так. Всегда с прицелом. И дальним. Катись, миленький. И не забудь: возмездие впереди. Ключ!» — протянула руку. Он безропотно вложил в ее ладонь тихонько звякнувшее кольцо. «Была без радости любовь, разлука будет без печали», — высоким, звенящим голосом пропела она, и Хожанов, накинув плащ, натянув кепку, хлопнул дверью. Оревуар…
Куда идти? К кому? Все расхищено, предано… Ни друзей, ни знакомых, которые пустят переночевать, никого… «Я осужден быть сиротой…» Элегантный Дубровский, о ком сочинил столь проникновенные вирши либреттист, жил в умилительной семье своих пейзан и пейзанок, грабил, роскошествовал и между делом даже влюбился в дочь недруга…
Куда идти? Он увидел у ворот будку телефона-автомата, вошел, набрал номер: «Морг? Будьте добры Настю, из третьего… Завтра дежурит? Вы погодите, выслушайте… Я забыл шарф отца… — Его несло, там, в морге, могли мгновенно уличить, но он даже не думал об этом. — Да-да, третьего дня, синий с красным, мохеровый… Лето? А у него горло всегда болело… Так вот, я хотел условиться с сестрой, спросить, где искать… Вы не дадите домашний? Нет? А адрес? Говорите, я запомню…» Хриплый голос дежурного равнодушно продиктовал, и он положил трубку. Удивительно, она жила недалеко, через улицу всего, даже денег на такси не понадобится. Какое счастье…
Дорога заняла всего несколько минут, у подъезда на всякий случай оглянулся (вспомнил про серую «Волгу») и, не заметив ничего подозрительного, поднялся на второй этаж по невероятно узкой лестнице. Любопытно, как здесь спускают гробы… На повороте лестничного марша покойник просто обязан застрять навсегда… Но с другой стороны — люди переселились из подвалов и коммуналок и конечно же были счастливы… Проблема громоздких столов, шкафов и кресел из прежней жизни, которые не желали пролезать в жизнь новую, — это мало кого волновало…
…Она открыла сразу и совсем не удивилась. «Проходите, — слегка отступила. — Осторожно, не сорвите вешалку». Выцветший ситцевый халатик, мокрые волосы в беспорядке, девочка, совсем еще девочка, пятиклашка прямо. Но — прехорошенькая, черт побери… «Вы одна?» — «Одна, снимайте плащ, я повешу сама, а то вешалка все время обрывается. Есть хотите?» — «Это вежливость или на самом деле?» — «На самом деле, я слышала голос вашей жены. Яичницу будете? У меня все равно ничего больше нет». — «А… Где родители… Простите, мама?» — «Живет в своей квартире. Она не выносит моего… друга». — «Почему?» Она насмешливо улыбнулась: «Маме пятьдесят, моему приятелю двадцать два, мама любит Изабеллу Юрьеву и Козина, а Вася — рок. Еще автобиографические сведения? Нет? Тогда я сейчас…» С кухни послышался стук и лязг, характерно треснула скорлупа, ударившись о ребро сковородки. Да, есть на свете женщины без сложностей и извивов, и это при том, что они свободно читают классику, например «Науку логики» Гегеля… Забавно.
Через несколько минут она принесла шкварчащую сковородку с яичницей, и Хожанов проглотил тугую слюну: не ел почти сутки… Но надо было держать фасон, и он принялся элегантно ковырять вилкой. Она рассмеялась: «Миленький, вы же умираете, я вижу. Ешьте по-человечески!» И содержимое сковородки исчезло в долю секунды. «Извините, я в самом деле… того. Зачем вы звонили?» — «Дело в том, что сегодня утром Георгий Иванович разыскивал вас…» — «Зачем?» — «Ему удалось…» — «Найти пластинку, которую я просил? — почти взвизгнул Хожанов, перебивая ее. — Чубчик. Аникуша. Дымок от папиросы. Да? Вы прелесть, Настенька, это такая удача, вы даже не представляете!» Он покачал головой и постучал себе по лбу, давая понять, что нельзя быть столь легкомысленной, а она смотрела на него испуганной сочувственно одновременно, наверное, ей показалось, что он сошел с ума… Между тем, поискав глазами по столу и полке, обнаружил он блокнот и планшет с фломастерами и, выбрав темно-синий, написал на чистом листе: «Что выяснил Г. И.?» Видимо, она догадалась, чем вызваны его странные действия.
«Боитесь, что нас подслушают? У вас мания величия». — «Нет, — написал он в ответ. — Мы имеем дело с организованными людьми, и эти люди многое могут… Ставка велика: понимаете? Итак?..» — «В Теевке — это шестьдесят километров от города, есть школа, их школа, это ясно?» — «Вполне». — «Там есть инструктор Володя, он владеет «точкой», поняли?»
Он отодвинул листок, — ведь следует и разговаривать тоже, иначе затянувшаяся пауза может вызвать подозрение. Вряд ли, конечно, они установили наблюдение, а уж тем более — за Настей, но — береженого бог бережет, а не береженого — конвой стережет… Дурацкая поговорка… «Настя, вы когда-нибудь слышали Петра Лещенко?» — «Лещенко? Конечно! «За тебя и за того парня!» Румяный певец комсомола?» — «Я не про него. «Встретились мы в баре ресторана, как мне знакомы твои черты…» — запел он приятным баритоном, а когда прозвучали слова о любви и ушедших мечтах, вдруг заметил, как Настя ошеломленно покачивает головой: «Странно… Такие песни всегда называли пошлыми. Он белогвардеец?» — «Он русский, и он любил и понимал Россию». — «Где он теперь?» — «Погиб в пятидесятых, в Бухаресте. В концлагере…»
Она написала:
«Сегодня после обеда Георгий Иванович отпросился в горздрав по делам, а на самом деле уехал в Теевку. Вы должны ждать его звонка здесь, у меня, я поэтому и разыскивала вас».
Только этого не хватало… Втянул человека бог знает во что, а сам, получается, устранился.
— Настя, мне можно пожить у вас? Несколько дней хотя бы… Я потом найду квартиру.
— Выгнала? У нее ужасно неприятный голос. Хорошо, живите…
Вот ведь как просто…
— А… ваш друг?
— А это пусть вас не беспокоит.
— Хорошо, коли так… — Его мысли приняли другое направление. Мальчишество, глупость, тоже мне аналитик, элементарный алгоритм и тот провалился в трясину неразберихи и какой-то немыслимой суеты…
Ну, неужели нельзя было договориться, действовать последовательно и четко, и уж если по дурости своей (а почему, собственно, по своей? По всеобщей нашей дурости, по отсутствию учета и контроля, расхлябанности вселенской — вот они, истинные причины, в коих он — только частица ничтожная, не более…) он дал мерзавцам самое современное, мощное, самое перспективное оружие, а они обратили его в свою корыстную и алчную пользу (догадывается, догадывается он об этом, и весьма скоро исчезнут догадки и наступит великое прозрение), то сколь же серьезным и собранным надо быть теперь, вот с этой самой минуты…
Строев, Изабелла, а вот еще и Георгий Иванович прибавится к ним, не дай Бог… Впрочем, откуда и почему, на какой почве вызрел сей неприличный здравомыслящему человеку фатализм, слабость, неверие в собственные силы? И зачем было браться за дело, которое надобно оплачивать столь дорогой ценой? Зачем фанфаронить, бравировать, строить из себя рыцаря?.. Зачем, зачем, зачем?.. Глупые вопросы. Ведь есть у каждого некий странный долг на этой земле, вексель, который вроде бы и не существует и по которому тем не менее надобно платить. В одном-единственном, конечно, случае. Если ты полагаешь себя порядочным человеком. Порядочным… Слово-то какое странное… Из ушедшего прошлого слово. Не в моде и не в почете оно сегодня. «Передовик», «ударник», «советский человек», «интернационалист», «общественник», «преданный» и бог весть что еще в этом современном лексиконе имиджей и пустоты, но этого звонкого и мощного слова — нет… Везде и во всем одна только видимость, поверхность, скольжение…
Он вспомнил, какое ошеломляющее впечатление произвела на него первая и давняя серьезная публикация о преступлениях, совершенных группой офицеров милиции. Позже такие публикации участились, к ним прибавились преступники судьи и прокуроры, потом и министры пошли, в один из своих выходных он засел в библиотеке и просмотрел центральные и местные газеты за год. Удивительная возникла картина: по нарастающей представители закона нарушали основные заповеди, отправляли в тюрьмы, на скамью подсудимых, а то и к стенке ни в чем не повинных, били: пытали, издевались и… посмеивались. Максимальным наказанием за все был только выговор или увольнение — но это уже в самом крайнем случае.
И словно в насмешку одновременно выносились правильные постановления, и в обличительных речах и самоуничижительных признаниях не было недостатка, а воз не только не двигался к закономерному и справедливому финалу, но оставался на месте и сладострастно разбухал, раздувался, становясь все более и более неподвластным, неподсудным, неуправляемым…
Потом отвлекли дела, стало не до газет, и он постепенно забыл о своем ужасном впечатлении, стерлось оно.
…Словно из ваты пробился к нему ее голос: «Бытие, лишенное сущности, — видимость, Алексей Николаевич… Это романтическая классика, Гегель. А как вы считаете — лишено наше бытие сущности?» — «Не знаю… Философские категории и реальность — разные вещи…» — «Да? Странно… А вот Гегель утверждает, что бытие, или реальность, как называете вы, есть ничто, но истина — не в бытии и не в ничто, а в том, что бытие перешло в ничто, а ничто стало бытием. Понятно?» — «Я все же предпочитаю исчезнуть в своей противоположности как можно позже… И меня беспокоит, почему он так долго не звонит».
Скрытая закономерность есть случайность или совпадение, как любили называть это пропагандисты атеизма в недавнем еще прошлом. Совпадение… Вот, подумал о Георгии Ивановиче, а тот в это мгновение взял да и вошел в телефонную будку и позвонил. Но ведь совсем не потому, что его по беспроволочной или еще какой-нибудь связи попросили об этом? Совпадение…
Раздался звонок, Настя схватила трубку, по ее лицу и первым же невнятным междометиям Хожанов понял, что на другом конце Георгий Иванович. Прислонил ухо к трубке, слышно было отчетливо:
— Я в будке автомата, напротив дом 22, улица Энгельса, я сфотографировал… Все!
Короткие гудки ударили похоронным звоном, Настя — белая, вымазанная сметаной, лица нет, одни глаза и одними губами: «Не может быть… Нет. Алексей Николаевич?» Он взял ее за руку: «Я все понимаю, и вы поймите: слезы, истерика ничему не помогут». — «Чему — «ничему»?» Он пожал плечами: «Нам нужно немедленно ехать в Теевку». — «Надеетесь изловить… убийц? Да-да, убийц, я не оговорилась, ведь Георгий Иванович… — Она заплакала. — Господи, ведь почти на глазах, средь бела дня…» — «Теперь уже вечер, Настя…» — «Оставьте ваши дурацкие уточнения, кого мы там поймаем, кого? Ждут вас там…» Он соскреб со сковородки остатки яичницы и неторопливо начал жевать, она смотрела на него в ужасе. «Убийцы — потом. Нужен его фотоаппарат». — «Фото… — она сжала голову ладонями. — А вы действительно компьютер… Впрочем, я понимаю. Что вам наш доктор… Мавр сделал свое дело». — «Поехали». Этот бессмысленный разговор можно было продолжать до бесконечности, ведь Настя еще надеялась на чудо, не примирилась с тем, что с первой же секунды стало ясно ему…
Вышли, моросил дождь, такси по проспекту двигались уверенным пунктиром (тоже совпадение, обыкновенно днем с огнем не найти!), один подрулил, узнав, что в Теевку, обрадовался, но тут же подозрительно нахмурился: «А обратно?» — «Порожняк — оплачу». — «Вот это друг, товарищ и брат, и я соответственно!» — «За две цены». — «А ты бы хотел бесплатно?» — «Я бы хотел побыстрее». — «Родственник помирает, что ли? — всмотрелся таксист. — Ладно…»
Гнал он от души, по городу — под сто, а за городом, когда пошло двухрядное в одну сторону шоссе, стрелка спидометра прыгнула к отметке «140». «Не расшибемся? Нам надо живыми». «Не боись, — подмигнул шофер, — это тебе с непривычки страшно». И в самом деле, уже через несколько минут Хожанов перестал обращать внимание на спидометр, да и впечатление от скорости притупилось. Удивляла Настя: вдавившись в спинку сиденья, она превратилась в каменное изваяние. Ни слова, ни жеста, ни звука…
Доехали без приключений, за поворотом высыпала вереница огней, а потом еще и еще, это была уже Теевка. «Куда вам?» — «Знаете город? Энгельса, 22». — «Сделаем». Через минуту автомобиль подвернул к тротуару, а вернее, к обочине шоссе и притормозил. И сразу увидел Хожанов небольшую группу в белых халатах, суетившуюся около телефонной будки. Повернулся к Насте, она смотрела расширившимися от ужаса глазами, ему показалось, что сейчас она начнет дико, на одной волчьей ноте кричать или выть. Наклонился, взял за руку: «Сейчас шофер отвезет тебя в местную больницу. Мне… Нам надо, чтобы ты рассмотрела всех, кто там появится…»
Посмотрел на таксиста, у того выражение лица было такое, словно он увидел привидение. «Вот за простой и обратную дорогу, — протянул 25 рублей. — И не делай из моих речей глупых выводов. Ее отец, а мой дядя помер, его вот-вот должны отвезти в морг, потому мы и приехали. Понимаешь, я с родичами в ссоре, пойти с нею, — повел головой в сторону Насти, — не могу, а знать должен. Ясно?» — «Ясно… — облегченно вздохнул шофер. — А то как в американском фильме…» — «Вот-вот, у нас так и бывает — тебе показалось, ты и побежал с доносом, и я побежал, а человека потом таскают… Нравственность называется…» — «Это ты прав».
Круто развернувшись, таксист уехал, сквозь темноту и выгнутое заднее стекло увидел Хожанов расплюснутое Настино лицо и проваленные глаза. Теперь требовалось соблюдать максимум осторожности, ОН мог быть здесь, рядом, сбоку, спереди, за спиной…
Хожанов уже не сомневался в своих построениях. Предыдущий опыт — теоретический, формульный, вычисленный, свидетельствовал: реалии, цепляющиеся друг за друга в определенном порядке, превращаются в алгоритм, здесь ошибки нет, вон санитары «скорой» вытаскивают из телефонной будки бесчувственное тело и укладывают на носилки. И докторская скороговорка слышна: «Инсульт… Нет… Не похоже… Ну, видно же, что цвет лица не изменен и белки… Вот я и говорю: типичный инфаркт, сейчас приедем, и все станет ясно». — «Молодой-то какой…» — «А что, молодой? Нынче дети от этого умирают, все, поехали». Хлопнула дверца, взвыв сиреной, «скорая» исчезла за поворотом…
Теперь — десять шагов, как бы мимо будки, ведь ОН здесь, в воздухе висит нечто свидетельствующее о НЕМ… Темно, наверняка притаился вон у того сарая или за домом стоит… Стоп. Так ничего не выйдет. Если ОН о фотоаппарате знает — он его нашел и подобрал сразу после… этого. Если же просто убрал «интересующегося» и о фотоаппарате ничего не знал, не приметил его (будем надеяться) — тогда нечего праздновать труса. Надо искать. И найти. Ибо в этом аппарате — все. Пленка, на пленке — лицо. То есть улика и даже доказательство…
Миновал будку, жильцы дома 22 уже разошлись — ну, подумаешь, выволокли чье-то тело и увезли, видено многажды, нынче пьянь валяется бесстыдно, ну, а если скончавшийся от инфаркта — тем более чего торчать?
Свернул к будке и (совпадение, опять совпадение!) со второго шага под правую ногу попалось нечто вроде кирпича, предмет отлетел, но он легко нашел его в мокрой вечерней траве и поднял. Это был старинный «ФЭД» в кожаном футляре, у его отца был когда-то такой же…
Теперь следовало быстро и незаметно, не привлекая внимания, исчезнуть. Сунул аппарат под брючный ремень за спину (так носили в гангстерских фильмах оружие, этот способ всегда вызывал романтические грезы) и решил идти на вокзал. И тут же спохватился: вокзал — это так просто… С точки зрения противника, который полагает, что в данном случае действует робкий и никчемный дилетант (вообще-то правда, кто он еще?), вокзал — самое оно… Запечатленный на пленке или связанные с ним наверняка пойдут на вокзал — просто так, на всякий случай, и тогда, обнаружив незнакомого человека, могут принять меры. Тоже на всякий случай…
Нет, домой следует добираться только попутной машиной. Это безопаснее.
Он вернулся на шоссе и неторопливо зашагал к городу. Кто-нибудь рано или поздно подберет и довезет… Километра через два его нагнал «Москвич», но водитель не остановился. Не притормозила и «Волга» — видимо, не рисковали на ночном шоссе, мало ли что… И только медицинский «рафик» смилостивился; Хожанов сел рядом с шофером, тот оказался общительным, сразу протянул раскрытую пачку отечественною «Честерфилда» и, дав прикурить, начал долгий, с мельчайшими подробностями рассказ. Кого-то ни за что уволили, кому-то вне очереди дали новую машину и так далее и тому подобное — не прислушивался, вспомнилась фраза, произнесенная некогда доктором на одном из партсобраний (тот был еще и философии не чужд и блистал иногда понятиями или целыми фразами): «Нет в мире ничего такого, что не было бы мною самим». Кажется, проговорил он это в связи с очередным завуалированным отлыниванием от сложной темы одного из сотрудников (тот не по лености отлынивал, а из-за некомпетентности, но доктор полагал необходимым воспитывать личный состав по любому поводу), тогда Хожанов воспринял сказанное как некую скучную и бессмысленную догму, теперь же, отталкивая бубнящий голос шофера, вдруг сообразил — болезненно и остро, что не догма то была от доктора, а кровоточащий призыв к совести от Господа… Как мог он отпустить Настю одну, зная, что это опасно, что уже третий человек погиб и на очереди четвертый и пятый, — этот ряд бесконечен, они уничтожат любого, кто осмелится встать на их пути, и что для них Настино кунгфу это детская игра, пригодная разве что для запугивания алкоголиков у пивного ларька, — отогнать, не более… А если они уже вычислили ее или вычисляют в это самое мгновение, и через минуту, удивленно вздохнув и не успев понять, что произошло, мягко опустится она на больничный пол, и сбегутся врачи и начнут ахать и охать и руками разводить и даже попытаются отправить в реанимацию, а главврач, наверняка ученик какого-нибудь ничтожества, начнет яростно дуть ей в рот, полагая таким способом восстановить сердечную деятельность, и никто из них, ни один человек не догадается, что случилось на самом деле…
— Назад… — бросил он шоферу непререкаемо, и тот мгновенно притормозил и развернулся.
— Что случилось?
— Я забыл, извини, мне надо в больницу.
Пожав плечами, парень прибавил газу, судя по всему, он воспринял выходку своего пассажира как проявление душевной болезни.
— Кто у тебя там?
— Родная сестра.
— А что?
— Сердечный приступ, я испугался чего-то…
— И чем ты ей поможешь?
— Своим присутствием.
— Ладно… — Пассажир явно был не в себе, ну да чего не встретишь на ночной дороге…
…Настю он нашел на первом этаже в коридоре, она сидела на стуле и читала заключение о смерти Георгия Ивановича. «Вот… — протянула листок с фиолетовым текстом. — Такие дела…» — «Как тебе удалось?» — «Да никак… Здесь девочка одна, сестра из прозекторской, вместе были на курсах в прошлом году… Вы не беспокойтесь. Я сидела тихо, как мышка, пока они уехали… Алексей Николаевич, не ошиблись вы… Милиция появилась сразу, как только Георгия Ивановича положили на стол. Двое: капитан лет тридцати небольшого роста, кареглазый… И сержант. Тот пожилой». — «Что значит «пожилой»?» — «Ваших лет…» — «Премного вами благодарен. Что ты объяснила своей знакомой?» — «Наврала. Здесь, говорю, у меня тетка, а с матерью, мол, поссорилась, так вот, хочу переехать и пришла узнать насчет работы. А это… — она тронула листок. — Это я попросила как бы из любопытства… На моих ведь глазах привезли…»
В акте вскрытия значилось:
«…множественные точечные кровоизлияния в стенку левого предсердия, омертвение ткани, разлитой инфаркт…»
— Отнеси, и поехали.
— Сейчас… Алексей Николаевич, вам не страшно?
— Страшно. Что ты предлагаешь? Плюнуть? Спастись? Не связываться? Иди, поговорим дома…
Возвращались электричкой. Хожанов рассудил: если они уже были в больнице — на вокзал не пойдут. Незачем…
…Вагон был пуст, всего два пассажира: мужчина лет пятидесяти и совсем пожилая женщина. Издав протяжный звук (вурдалаки так, наверное, завывают или нетопыри — ночные призраки), электричка тронулась и пошла, набирая скорость.
— Я слышала такую историю… — вдруг сказала Настя. — Бандиты увели человека в тамбур и выбросили… Правда, в том поезде двери были не автоматические. Здесь их, наверное, не открыть?
— Не знаю… — Хожанов увидел, как в салон вошли трое, — молодые, лет по двадцать, в югославских плащах, на одном фирменная ветровка…
Они двигались неторопливо, один задержался около пожилой четы и что-то сказал. Оглянувшись испуганно, мужчина согласно кивнул, оба поднялись и удалились — излишне быстрыми, впрочем, шагами. Между тем троица приближалась, ее намерения не оставляли сомнений… Что ж, он сильно недооценил противника…
— Настенька… — улыбнулся беззаботно. — Внимание… Если пригласят пройти в тамбур — соглашаемся с недоумением. В тамбуре — мгновенная атака. Все, на что способна, поняла? Слушай, — продолжал он уже громко (они были в двух шагах), — не перейти ли нам в следующий вагон? Терпеть не могу одиночества…
Встал и, взяв Настю за руку, повел к противоположному тамбуру. Скосил глаз: они ускорили шаг… Что ж, настал «момент истины», и теперь что Бог даст, а также и остатки знаний из семинара рукопашного боя. На Настю надежды нет. Хрупкая девочка, смешно даже…
Раздвинул дверь, пропуская вперед Настю, слегка придержал створки и замер: в следующем вагоне никого не было. Ни единой души…
Обернулся: тот, что шел первым, остановился и улыбнулся: «А я, наоборот, люблю одиночество…» Он нанес молниеносный, отработанный удар правой, выворачивая кулак в традиционном стиле. Уже по тому, как молниеносно-плавно начал он финт (Хожанов видел все как бы на рапиде), стало ясно, что бандит — боец хотя и традиционный, но сильный и опытный. Он просто не знал, что его противник тоже умеет кое-что…
А Хожанов уверенно шагнул влево, и нападающий промазал, пролетев по инерции к следующей паре дверей, и тогда Хожанов точным ударом настиг его затылок. Бандит вмазался лбом в стекло и рухнул. Хожанов оглянулся: второй бандит лежал в углу, не шевелясь, а третий наступал, выкручивая серию подготовительных и устрашающих движений, потом последовал удар ногой — в почку, Настя ушла («тай собаки» — вдруг вспомнил он название маневра) и нанесла ответный удар — в пах («фумикоми гири» — и это вспомнил, надо же…), бандит попытался сбросить ступню и ответить «кьяку дзуки» — прямым в голову, но не сумел и рухнул.
— Ничего… — ошеломленно произнес Хожанов. — Ничего…
— Что будем делать? На станции — в милицию?
— А завтра они нас найдут и прикончат из-за угла? Девочка, милая, мы ввязались в серьезное дело, и работать придется не по нашим, а по их законам…
Он вошел в салон и сразу же увидел кран экстренного открывания дверей. Повернул, двери разъехались, он знал, что в запасе не более десяти секунд, но их хватило: один за другим все трое исчезли в темноте…
— Но ведь это убийство… — произнесла она одними губами.
— Это необходимая оборона, — отрезал он. — Они убили бы нас не задумываясь… Слишком большая ставка в этой игре, и слишком много благополучных и уважаемых людей задействовано в ней… У нас не было другого выхода…
— Может быть… Только безнадежно это. Не они, так другие отыщут нас…
— Самый опасный — «точка» — на пленке… Я ничего не собираюсь доказывать аморфной нашей юстиции, насквозь мне ненавистной и бесчеловечной… Будем считать, что возникла ситуация Alter ego[7]. — Он посмотрел ей в глаза: — Мы справимся, Настя… Ну, а если после нас останутся крохи — пусть их подбирает кто хочет… А ты молодец! Вот уж не ожидал… Кто учил? Где?
— В подвале, конечно… Я способная, Алексей Николаевич.
— У Георгия Ивановича была записная книжка?
— Да.
— Плохо. Они наверняка обыскали его и нашли твой телефон. Одна надежда: справочник у них обыкновенный, по нему невозможно определить адрес. И будем верить, что до «обратного» справочника они не доберутся. Но все равно: завтра мы найдем другую квартиру. На работу сообщишь, что заболела. Утром я съезжу туда сам. — И вдруг замолчал. Собственно, почему утром? Ехать нужно немедленно…
На следующей станции (до города оставалось всего две или три остановки, уже мелькали пригороды, ближайшие предместья) вышли, Хожанов мгновенно договорился с таксистом, дремавшим у вокзала, парень обрадовался: «Порожняк-то какой… Я сегодня без зарплаты остался, два часа кисну, и хоть бы кто… Жлобы…»
Отведя душу, он выехал на шоссе, и через мгновение стрелка спидометра свалилась далеко направо…
На Петровскую площадь въехали, когда неподвижные черно-серые дома, словно приподнятые утренним розовеющим воздухом, двинулись в неведомый путь, тая, растворяясь, исчезая… Это было красиво, тревожно и странно, потому что иное, грядущее, неизбежное ощущалось где-то совсем рядом, всего в двух шагах…
Хожанов щедро заплатил за два прогона, счастливо улыбнувшийся шофер уехал, напевая: «Я люблю тебя, жизнь!» Как мало, увы, надо человеку, чтобы почувствовать себя птицей…
На площади не было ни души, тревога постепенно исчезла, напряжение и ужас двух предыдущих часов показались чем-то нереальным, вычитанным…
Бандиты, драка в тамбуре пустого вагона, смертное «кто кого» и черные тела, мгновенно исчезнувшие в провале раскрывшихся на мгновение дверей… Будто и не было ничего.
Перешли площадь, Настя нажала кнопку звонка, старушечий голос глухо отозвался издалека: «Чего надо? Здесь водку не дают, здесь покойники». Настя позвонила еще раз, послышались шаркающие шаги. «Это я, тетя Фрося, я, Настя, Георгий Иванович умер, мне его сестра только что позвонила…» — «Какая «сестра»? — зашипел в ухо Хожанов. — У него никого, вы о чем?» — «Она ничего не соображает, и вообще — молчите!» Бабка стихла на мгновение и вдруг взвыла: «Гора? Умер? Ах ты, Господи, да как же…» Двери открылись, Настя погладила старушку по голове: «Такие вот дела… А мне Галя велела деньги взять из стола, там зарплата, девяносто рублей, а ей хоронить, поминки, то-се, сама понимаешь…» — «Да уж чего не понять, чай, не умалишенная, иди бери, какой разговор… Ах ты, Господи, горе-то какое…»
Вошла в кабинет, в ящике письменного стола не оказалось ни денег, ни искомого, Хожанов отсчитал от своей микропачки сто рублей, сунул под бумагу, Настя обрадованно вскрикнула: «Вот видишь, не дай бог, пропали бы…» — «Да уж так», — согласилась Фрося, никаких вопросов она не задавала, видно было, что смерть Георгия Ивановича ее потрясла и ни о чем другом думать она уже не могла…
Между тем Хожанов и Настя осмотрели остальные ящики, этажерку, книги — в них тоже ничего не оказалось, похоже было, что до акта смерти Строева Георгию Ивановичу добраться-таки не удалось. «Где искать? — Настя обвела кабинет глазами. — Думайте, Алексей Николаевич, думайте…» — «Может, я знаю?» — вмешалась Фрося. «Да откуда… — отмахнулась Настя. — Нет…» — «А ты не говори, не говори, — зачастила бабка, — я намедни терла пыль в коридоре, а в двери — щель. Хотела закрыть, а Георгий Иванович мечется по кабинету, ровно танец исполняет, я так изумилась, ну, думаю, такой выдержанный, спокойный, сошел с ума, вдруг — смотрю, он липучку оторвал, оглянулся воровато (Бог меня прости!) и что-то под подоконником приделал… Ты, милая, не сердись, но, когда Гора ушел, я грешным делом не сдержалась… Но не тронула, оно все там, как он и оставил!» Хожанов бросился к подоконнику, под ним, приклеенный двумя полосками пластыря, топорщился листок бумаги ксерокопия описательной части акта патологоанатомического вскрытия:
«…множественные кровоизлияния в стенку левого предсердия, омертвение ткани, объективно сердце и сосуды в норме».
Рукой Георгия Ивановича было приписано:
«Строев».
— Что-нибудь денежное? — напряглась Фрося.
— Нет… — Настя протянула листок. — Это он для диссертации собирал.
— А чего же прятал? — спросила она подозрительно.
— А это у него называлось «в долгий ящик», бабушка… Отлежится, успокоится, а тогда и оценить легче. Научный акт, — не моргнув глазом, объяснила Настя.
Что ж… Лет пятьдесят тому известный писатель опубликовал рассказ, в котором бдительный красноармеец сорвал заговор контрреволюции и сделал это очень просто: подобрал бумажку, оброненную буржуазной дамочкой… Глазасты наши люди… Но как бы там ни было, инфаркт Строева теперь стал фактом, оспорить его не сможет отныне никто…
Следовало окончательно успокоить Фросю, и Хожанов соврал еще раз: «Мы это отдадим Гале вместе с деньгами, она наследница, ей и распоряжаться». — «Да уж как иначе…» — согласилась Фрося. Похоже было, что деньги, обнаруженные в столе, ее сильно расстроили, а бумажка с бессмысленным текстом, наоборот, привела в полное душевное равновесие… Неожиданный пассаж Насти был, конечно, рискован, но Хожанов уже понял: Настя знала, что делала: по всей вероятности, санитарка помнила только то, что ее интересовало, и, по логике развития событий, должна была все забыть сразу же и навсегда.
Между тем утро совсем уже наступило, веселый писк «Маяка» донесся из кабинета заведующего, и приподнятый, удивительно бодрый голос диктора объявил, что сейчас начнется концерт по заявкам молодоженов.
Теперь следовало — и как можно скорее — проявить пленку. Хожанов остановил такси, бросил коротко: «В центр», там, он знал, в тихом переулке, была фотография самообслуживания. Таксист — пожилой, положительный, со значком ударника коммунистического труда (или пятилетки? — Хожанов так и не научился разбираться в многочисленных знаках трудовой доблести), неторопливо, даже как-то медлительно, переключая скорости и как бы придерживая нетерпение пассажира, — усмехнулся снисходительно-бывало: «Пятьдесят лет за рулем — и ни одного прокола! Меня вся милиция знает!» — «А опаздывать не случалось?» — «Опоздание — не жизнь, его наверстать можно». — «А не скучно было?» — «Какая же скука? Мой положительный опыт переняли двадцать городов, восемьдесят таксопарков! Главное в жизни — положительный опыт, парень… На нем держится земля». Настя сидела молча, пригорюнившись, похоже было, что в ее отношении к Хожанову наступил тот молчаливый пик доверия и взаимопонимания, когда молчание понятней всяких слов, как некогда спела об этом Клавдия Шульженко…
Проявление пленки и сушка заняли полчаса, еще полчаса Хожанов печатал фотографии. На них выплывали, будто из небытия, какие-то здания, длинная кирпичная стена с колючей проволокой, нечто вроде футбольного поля, вокруг которого были установлены бетонные столбы Г-образной формы, причем верх буквы был обращен внутрь, а проволока была уже не колючей, а самой обыкновенной. Здесь находился какой-то специальный объект, впрочем, предпоследняя фотография объяснила все: черная вывеска с гербом и аббревиатурой свидетельствовала о том, что и поле, и стена, и здания принадлежали ведомственному учебному центру — вполне легальному, без малейших признаков какой бы то ни было секретности. На последней фотографии были запечатлены у подъезда шестеро мужчин и две женщины, но сколько ни вглядывался Хожанов в их лица — ничего существенного или необычного не увидел. Люди как люди. Как тысячи других.
— Надо увеличить… — посоветовала Настя. — Когда-то давно я видела фильм Антониони, там кто-то — не помню кто — без конца все увеличивал и увеличивал одну и ту же фотографию — до тех пор, пока все превратилось в точки. И вот из этих точек сложилась рука, выглядывающая из кустов, а в руке револьвер…
— Забавно… — Хожанов поднял увеличитель до максимальной высоты и начал печатать.
Сначала вызрели женские лица — крупные, с грубыми чертами (объектив — он и есть объектив), потом начали появляться мужские. Когда проявилось пятое изображение, Настя тихо вскрикнула. «Он, — произнесла одними губами, — он… Пришел с двумя другими, их здесь нет, спросил, где секционный зал, я ему показала…» Хожанов вынул фотографию из бачка, промыл и налепил на стену, потом включил настольную лампу и направил луч незнакомцу в лицо. Что ж, трудно было узнать этого человека сразу, очень трудно, ведь на нем была униформа, и выбрит он был тщательно, но совершенно несомненно, смотрели на Хожанова с поблескивающего влагой фото пристальные, ввинчивающиеся глаза «городского сумасшедшего» с кладбища. Это был он, без малейшего сомнения он…
Выслушав рассказ, Настя долго молчала. «Что вы намерены делать?» — «Я уже объяснил: возникла ситуация alter ego. Я так и буду действовать». — «Алексей Николаевич, ситуации нет, вас ведь никто не уполномочивал, никто…» — «Совесть». — «Нет. Совесть создает «другое я» не в юридическом, увы, смысле, вы просто не знаете этого… В высшем, нравственном… Понимаете? Помните, как Сонечка Раскольникову сказала? «Разве я Бог, чтобы жизнь и смерть решать?» И нам с вами никто не дал права!» Он с интересом оглядел ее с головы до ног: «Философия только объясняет, Настя. Но разве может она хоть что-нибудь изменить? С чем я приду и к кому? К причастному или сочувствующему убийцам? А даже если и попаду случайно к человеку честному — что он сможет? Его или убьют, или вышвырнут, или перекроют клапана… Нет, я доведу дело до конца, чего бы это ни стоило. Ты поможешь мне?» — «Да».
Это «да» произнесла она не колеблясь, но он понял: убежденности его она не разделяет. И более того — придерживается точки зрения противоположной. «Зачем же ты хочешь мне помогать?» — «Затем, что больше некому. Мои понятия о нравственности вам чужды и не нужны, так к чему вопросы? Станем делать дело, вот и все». — «Но, делая мое дело, ты тем самым нарушаешь заповеди, разве нет?» — «Возможно. Оставим, я не смогу объяснить».
Он смотрел на нее, и странные, непривычные мысли одолевали его. Что же делать, как поступить? Ну, хорошо, он придет в милицию и покажет фотографию «городского сумасшедшего». Допустим, милиция проведет экспертизу, хотя велико сомнение, ведь для проведения ТАКОЙ экспертизы нужно возбудить уголовное дело — а по каким основаниям? По факту смерти Строева, его жены и Георгия Ивановича? Потому только, что причиной смерти всех троих стал инфаркт? Он ежедневно уносит сотни жизней. Тогда «точка», которая повлекла гибель всех троих? Но это один из мифов каратэ, все десять стилей преисполнены этими мифами сверх всякой меры. Где и кем в мире зафиксированы патологоанатомические результаты удара в «точку»? И даже если они есть — по каким каналам получит их милиция? Она не член «Интерпола». Да и кто заставит ее сделать запрос в «Интерпол»?
Он представил себе, как присылают ему равнодушный отказ, и он идет в прокуратуру, а там улыбчивая и доброжелательная дама средних лет в красиво сшитой униформе читает его заявление и улыбается: «И вы хотите, чтобы по этим основаниям мы отменили постановление милиции и возбудили уголовное дело? Вы начитались дурных книжек о каратэ». — «У нас они все в специальном, недоступном обыкновенному человеку хранении». — «А кассетное кино? Видео? Да я сама насладилась по меньшей мере двадцатью фильмами с Брюсом Ли! Великолепный актер!» — «Он и погиб от удара в «точку»!» — «Легенда». Ну и так далее… Ничего им не объяснить и не доказать.
— А что, у Георгия Ивановича было абсолютно здоровое сердце?
— Нет. Он для того и занялся этой экзотикой, чтобы преодолеть себя. Он был волевым, искренним и честным человеком. Зря вы втянули его…
— Наверное. Но я так думаю, что идея заниматься стилем кунгфу исходила от вас?
— Теперь я жалею об этом… Да, конечно, его больное сердце окончательно подрывает нам легальный путь борьбы… И все равно: мы совершаем ошибку. В высшем смысле, вы поймете…
У нее были чистые глаза, и убеждающий голос, и пустота в лице, безнадежность… Еще не поздно остановиться. В конце концов, мертвых вернуть невозможно. Но ведь и памятники, которые ставят мертвым, нужны только живым… Как просто, и как странно, и что делать…
— Мы подстережем его. Я допускаю, что сумеем захватить и допросить. Но ведь он ничего не скажет, потому что если вы правы — ему смерть со всех сторон! Чем вы побудите его к откровенности? Пыткой?
А ведь она права. Пытать он не станет. Не потому, что это трудно. А потому, что в пресловутом «высшем смысле» (ах, как она смотрит ему в глаза, как смотрит…) этого сделать нельзя. Господи, да как просто все: сверши он ЭТО — и зачем истина? И куда ее? Ведь победить может не равный им, а более высокий, что ли… Тот, кому Alter ego дано по воле Высшей нравственной силы, кто неподвластен подлому суду «круговой поруки», непричастен крысиной возне, из которой рождаются грязные деньги, чины, ордена, должности…
Но тогда надобно отказаться вообще от всего, потому что не властен смертный человек вершить суд и расправу…
Давнее воспоминание пришло к нему, неуловимый, исчезающий свет и блики, вспыхивающие на золотых ризах, и чей-то негромкий голос, и только одна фраза: «Сберегающий душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее…» Господи, прости минутную слабость, он готов потерять свою душу, он готов ко всему…
…Вернувшись домой, пока Настя готовила что-то и наливала воду в чайник и ставила его на плиту (краешком сознания он не то чтобы контролировал ее действия — зачем? просто замечал, слышал), думал: ситуация еще не проясняется, нет, она, пожалуй, только выстраивается. Итак, Строев задумал провести в жизнь архисовременную методу в борьбе с неким видом преступности. Еще кто-то решил извлечь из этой методы максимум личных благ и выгод, используя статус-кво: бедность антикварного рынка и постоянно возрастающую цену курсирующих на нем предметов. Этот не кто — икс пока. И этот икс обеспечил себя надежнейшей системой добычи антиквариата и защитой от коварных и иных посягательств. Предположение (тире факт): когда Строев обнаружил, что в официальной системе, борющейся с преступностью, активно действует другая, глубоко законспирированная, эксплуатирующая самые низменные страсти и побуждения, давний и привычный у определенных слоев модус вивенди (узкий национализм, страх перед неведомыми силами зла, нежелание терять продовольственные и материальные блага и т. д. и т. п.) и впрямую подкармливающая и продвигающая многих и многих с помощью преступно добытых дивидендов, — он, как человек несомненно честный и профессиональный, не захотел с этим мириться и попытался гнойник вскрыть. И мгновенно погиб. Правда, здесь еще следовало найти достоверное и нравственное объяснение тем несметным (в понимании Хожанова!) богатствам, которые были обнаружены в квартире самого Строева, — бриллианты Изабеллы, например.
Ну и конечно же — установить (не обойтись без сленга, увы…) мастера «точки». Какая, в сущности, гадость… В былые времена и до сих пор бытует у искусствоведов неразгаданный «мастер зимних пейзажей» и «флемальский мастер», а здесь — «мастер точки», никоим образом не связанный с супрематизмом или пуантилизмом — удивительными направлениями живописи не такого уж далекого прошлого. (Почему эти сугубо искусствоведческие термины пришли Хожанову в голову — Бог весть. В конце концов, точка никогда не была элементом супрематизма. Впрочем, дело тут было в том, что на самом деле доктор обожал альбомы авангардистской живописи и иногда, в свободную минуту, перелистывал их с удовольствием. Это у него была, пожалуй, единственная «идеологическая» слабость, ибо официально, так сказать, для всех он любил литературу социалистического реализма, классическую музыку и передвижников.)
…Ярко, словно наяву, увидел он черный провал дверей и исчезающие в ночи тела, и грохот и свист ворвался вдруг и ударил плотной и материальной до ужаса болезненной и замутняющей сознание волной. Убийство… Он, Алексей Хожанов, совершил убийство, взял на себя не дарованное человеку право и, значит, проклял себя навсегда…
Но ведь он защищал не только свою жизнь. Он искал справедливости и правды, а ему мешали, даже захотели уничтожить.
Как это говорили? Писали, утверждали… 25 Октября раз и навсегда установило незыблемую законность, охраняющую права и интересы трудящихся (да ведь это — ложь…). Что там кодекс Наполеона, претерпевший всего несколько поправок и действующий в угоду буржуазии до сего дня… Что прочие — римские и всякие другие кодексы, позволяющие наживаться и эксплуатировать… (и это — неправда). Разве не потом и кровью, страданием (вы ведь любите Достоевского, Хожанов? И признаете страдание и крест единственной дорогой к идеалу?), бесконечными ошибками выработали мы то единственное и неповторимое, что защищает нас от произвола и беззакония и не позволяет вытаптывать честь, совесть, достоинство? (Вопросительный знак? А при чем он тут? Нет, восклицательный, только восклицательный, жизнеутверждающий, гуманный и справедливый. Только он выражает сущностную сторону нашего бытия, — высокий, красивый, изящный.) О Господи… ложь, ложь и ложь…
Кажется, это Настя-Анастасия расставляет чашки и тарелки? И спрашивает что-то? Ну, конечно же с сахаром, милая девочка, как без рафинада, когда вокруг такая горечь? Подсластим пилюлю — всего лишь на мгновение, для перебивки всего лишь — и снова опустимся в генезис, в бездну, ведь надо же, несомненно надо понять, почему вырождается уважаемая организация и обращается в свою противоположность, и почему гражданин достойный (еще совсем недавно, во времена Некрасова) нисколько не был холоден душой к отчизне, и почему чуть позже, по нарастающей, стал обустраивать жилище, баловаться икоркой, а когда она исчезла — добывать ее всеми доступными и недоступными способами (икра — эквивалент гражданского мужества и счастья, благополучия и места в пространстве-времени!), и где же убеждения и любовь и желание погибнуть безупречно и умереть не даром?
Господи, страшно-то как, там ведь и приговор есть, и недвусмысленно сказано, что дело прочно, когда под ним струится кровь.
Значит, правомерно исчезли те трое в черной дыре?
Нет, ведь время было другое…
Ложь! Не было оно другим! Ибо во все времена «верую» выявляется не в газетных дискуссиях, и на насилие нельзя отвечать молчанием.
Как это звучит: «Иванов, вы убили ни в чем не повинных людей, как вам не стыдно?» Глупость, пошлость, никто таких вопросов в суде не задает. Тюрьма, решетка, стенка — вот ответ государства, если оно может и хочет.
А если не хочет больше? А чаще — не может?
Alter ego?
Нет, нет, не так, не сразу… Что выявляется, опредмечивается что? Казни, пытки, тюрьмы, смерть? Т е з и с: все достижения на крови, на костях (Санкт-Питер-бурх, Николаевская железная дорога…). Объяснения, слова, жалкий лепет оправданья — со всех сторон; конформисты и трусы, завещание Ленина, и резюме: палач и убийца на троне… А н т и т е з и с: «Нет, не в этом дело (это уже некий изгнанный за амбиции и претензии на первенство): старые — лучшие и преданные — сгорели в огне гражданской, и революцию сменила контрреволюция, потому что новые были и слабее и недальновиднее. Вот и выбрали себе достойного…»
С и н т е з: законы — призрак, беззаконие — страшная и осязаемая реальность. И так — долгие и долгие годы… Все ложь и фантом.
— Твое философское «я», изнеженное и тонкое, доброе и прекрасное, — оно ведь для чаепития и застольных разговоров, — отхлебнул из чашки. — У нас конкретное дело, Настя…
— Нет… — она покачала головой. — Под любое желание человек подводит удобную базу. Но есть Бог, который видит все. И он не с нами.
— С ними…
— Нет. И не с ними тоже. Он с теми, кто принимает общую весть и для кого любовь — не только «чудо великое, дети…». Может, споем, чтобы развлечься и утешиться?
— А ты зла.
— Нет. Я пытаюсь быть справедливой… Что будем делать дальше, Алексей Николаевич?
Он вдруг почувствовал, что у него поубавилось энтузиазма. В ее простых, почти примитивных (а может, это он примитивно воспринимал?) словах была странная сила, непостижимое воздействие… Бросить все?
Но тогда зачем грохот, и лязг, и черная дыра?
Нет… Нужно остановиться и понять, что света в конце тоннеля нет…
И продолжать, если понять это невозможно…
…Позже, когда Настя мыла на кухне посуду (он было хотел предложить свои услуги, но почему-то постеснялся, нелепая мысль остановила его: а что, если она воспримет это как опосредованное предложение руки и сердца? При живой-то, неразведенной жене? А с другой стороны: может, это он сам материализовал где-то в недрах, а точнее — вывел из глубин сию странную мысль? Понравилась, что ли? Было вообще-то в ней нечто неуловимое, да и вполне уловимое тоже, осязаемое и прекрасное)… он расположился на диване и взял в руки какой-то тонкий журнал (на обложке кто-то улыбался саркастически), и так выходило из этого журнала, что все, несомненно, подгнило, но надежда и даже уверенность все равно несомненны, поскольку равнодушных теперь нет… Как же, как же, — это он не то мысленно, не то вслух, — отсутствие равнодушных и присутствие (вечно и неизменно) горячо заинтересованных и есть козьмапрутковский корень побед и достижений, которые на поверку нечто вроде льда весной или даже поцелуя любви без ее вершины, как поется в прекрасной все же песне…
Вот, к примеру, доктор… Полнеющий, с заметным брюшком, в безукоризненной белой рубашке французского производства (Пьер Карден, кажется), и галстуке из Гонконга, и костюме работы ассоциации портных Португальской республики, и ботинках, опять же — аглицких, и носках немыслимых для обыкновенного смертного — одним словом, «весь из себя», и голова набита идеями чрезвычайными (у предыдущего руководства был, с научной точки зрения, человеком № 1), а сколь же домашен, гостеприимен, радушен и застольно-духовен: тут тебя и о любимом Сёра — без всякого высокомерия к собеседнику, который о таком и не слыхал никогда, и об «Иллариоше» Принишникове — обличителе порока («Шутники», «Гостиный двор» — это же предчувствие октябрьских ветров!), и роман «Мать» — белый карлик соцреализма (вспомнил: кто-то из именитых гостей поморщился: «Белый карлик»? Это «Мать»-то? Да это же глыба!» На что с улыбкой всепрощения заметил вскользь: «Белый карлик» — мириад — так и произнес! — вселенных!), а главное — скромен, скромен-то как — при икре, и «Белой лошади», и сосисках баночных фирмы «Брудер унд брудер» — голые стены, простая посуда и мебель самая что ни на есть обыкновеннейшая, молдавской фабрики, и «кредо» — шедевр социальности: «Скромность украшает человека»!
Ах, доктор, доктор, сколько было надежд и даже свершений, и вот — черная дыра…
…Звон посуды стих, и вода перестала журчать, вошла Настя, остановилась на пороге — в черном строгом платье, в ушах сверкающие серьги, и ползет, ползет по белым губам усмешка: «Что же вы, Алексей Николаевич? А я-то ждала…» — «Да чего же ты, прости, ждала? Что за тон, Настя?» Это не без некоторого раздражения, а серьги (в них свет падал из-под абажура, да-да, из-под него, но только почему-то пылала огромная двухсотсвечовая лампочка, и непонятно было, откуда у Насти этот пошлый розовый шелковый мастодонт) переливаются, и искры сыплются, и сполохи бегут. «Настя, откуда у тебя эти серьги?» — «Оттуда, миленький, оттуда, и ты уже догадываешься, правда? А письмо надо бы получить, ведь договорились мы: чего не смогу сказать — о том напишу в жэк». О господи, Настя, Настя…
— Что, Алексей Николаевич? Вам плохо?
— Нет, с чего ты взяла… Послушай, ты мне хочешь сказать правду?
— Какую?
— Откуда у тебя эти серьги?
— Серьги? — Она удивленно тронула мочки ушей и улыбнулась: — Мама подарила, на день рождения, в незапамятном году.
Он поморщился:
— Я просил правду. Бриллиантовые серьги — мама?
— Бриллиантовые? Эти? — вынула из ушей дешевенькие фарфоровые клипсы, сделанные, впрочем, не без художественного вкуса: букет васильков и колокольчиков…
Он с недоумением вглядывался в миниатюрные зажимы, один слегка погнулся (сон, что ли? Нет, и впрямь…), от небольшого усилия лапка сразу встала на место. Устал. Конечно же устал. На всякий случай — глаза к потолку: лампочка Ильича, сто двадцать свечей, согласно терминологии бабушек и дедушек… Чепуха какая-то… А где розовый абажур?
Настя надела клипсы:
— Алексей Николаевич, мне в голову странная мысль пришла…
— Главпочтамт, до востребования. Но ведь это глупо.
— Отчего же… Вы ведь о том же подумали, да?
— Не знаю. Впрочем — да. Поедем прямо сейчас?
…Когда такси остановилось около тяжелых дубовых дверей с черно-золотой вывеской, Хожанов схватил Настю за руку: «Мы же взрослые, нормальные люди… Ей-богу, вернемся, мне даже стыдно». Она протянула шоферу два рубля, тронула за руку: «Фауст нашел Матерей и понял все, а вы — трус. Да?» Он вырвал руку и решительно шагнул к дверям…
Когда замордованная девушка буркнула, не поднимая глаз: «Фамилия?» — и он твердым командирским голосом назвался, и она, все так же не поднимая головы, повела глазами по первой странице паспорта и протянула тонкий конверт, показалось, что потолок сдвинулся и неумолимо пополз вниз, стало душно. Схватил конверт и побежал к выходу. Настя едва поспевала, на улице трясущимися руками вскрыл, и сразу вспорхнул под налетевшим вдруг ветерком листок из записной книжки, и, прыгнув не хуже Яшина, он поймал его и, все еще не веря, поднес к глазам:
«Я знаю, что рано или поздно это придет вам в голову. Я никогда не решилась бы сказать вам сама — тяжело предавать любимых и единственных, но меня больше нет, мы оба свободны; я знаю, что они (местоимение жирно подчеркнуто, верхняя линия дважды сорвалась и оттого угловата) собираются в кафе «Лира», Музее изобразительных искусств, консерватории, — эти встречи регулярны. Но вычислить периодичность и время я не смогла — число, место и час ни разу не повторились, кроме того, я бы и не смогла к ним подойти, меня знают. Теперь вам известно почти все, а о догадках и предположениях с того света писать не принято. Помните: Вы мне обещали, и еще помните, что два человека сорвались в пропасть и погибли и многих ждет та же участь. Прощайте, я в любом случае благодарю Вас, потому что мимолетная наша встреча была такой многообещающей и такой обнадеживающей…»
Без подписи, только в конце стоял маленький крестик. У верующих это означало: «Храни Вас Господь…»
Настя долго молчала, потом красивые ее губы поползли и сложились в тревожную и грустную усмешку: «Эта женщина вас любила…» Хожанов вспыхнул, как восьмиклассник, впервые обнявший талию — притягательную, загадочную и неведомую (это ощущение осталось в нем на всю жизнь, и он даже помнил, как ее звали: Лиза, Елизавета Урусова, как это было красиво и звучно…) юной своей подруги на первом в жизни школьном балу: «С чего вы берете…» — «С того», — ответила она, как обычно отвечают в таких случаях заинтересованные девочки, и он покраснел еще больше…
Через пять минут выкристаллизовался план, и они приступили к его выполнению. В ближайшем писчебумажном купили нечто вроде разносной книги и несколько шариковых и перьевых ручек, а также черные, синие и красные чернила. Потом, на бульваре, за огромной Доской почета с фамилиями городских и областных передовиков, сели на продавленную скамейку и долго заполняли листы разными фамилиями и номерами квартир и поочередно расписывались. Подпись, по замыслу Хожанова, должна была означать, что в квартире «щелевых протечек» нет. Поставив последнюю, он еще раз проинструктировал Настю: когда «счастье» откроет — нагло оттереть плечом и произнести возможно более суровым голосом: «Из ДЭЗа-2, проверка протечек, распишитесь». Если мадам скажет, что не знает — течет у нее или нет, — послать проверить и, пользуясь ее отсутствием, вынуть из-под вешалки иконку и календарь Строева. Если потянется расписываться сразу — еще более строгим голосом послать, а когда уйдет — забрать «материалы». Если же недоверчивая женушка потребует совместного осмотра — категорично и безапелляционно заявить: «Я вам не техник-смотритель, у каждого должно быть свое дело, и каждый на своем месте обязан его выполнять. Газеты небось читаете?» И все будет тип-топ…
И все же Хожанов волновался. Черт ее знает, эту суровую женщину, ведь она неуправляема и, значит, выкинув любое непредусмотренное антраша, не дай Бог, погубит все дело. Да и Настя может пострадать.
Но ведь другого выхода нет? Сам он идти не может, посвятить постороннего тоже нельзя…
— Не боишься?
— Едем.
Она права, лирика неуместна и даже вредна. «Я буду стоять на площадке». — «Конечно. А она увидит, вцепится и начнет кричать». — «Но с чего ты взяла?» — «Вы совсем меня ни в грош не ставите?» Она кокетливо улыбнулась. Да-да, конечно, он упустил из виду, совсем упустил: хорошенькая девочка, и, значит, это не скандал, это смертоубийство… Улыбнулся: а ведь и в самом деле — даже очень хорошенькая, — когда стояли в очереди на почтамте, мужики млели и сочились сгущенкой, у самых сдержанных блуждали странные улыбки. Ему завидовали, ах, как ему завидовали!
— Хорошо, я подожду в такси.
— А сколько денег у вас осталось?
Он вытащил тощую пачку: ровно сто восемьдесят.
— Поедем городским транспортом.
Ладно, можно и городским, хотя в таком деле постоянно длящаяся быстрота — одна из составляющих успеха… Хозяйственная Настенька, не оказалась бы жадной.
От этих невесть откуда взявшихся мыслей он густо покраснел: а тебе-то, собственно, какое дело? Ишь, раскатал губищи, многоженец… Псякость. Бесстыдник. И вообще: «Кто посмотрит на женщину с вожделением…» Очень хорошо. Имеет место проверка нравственности. И ее следует выдержать с честью. А вообще-то какой трухой набита его голова, Боже ты мой… Вот еще и совершенно изумительно: кладбище, красивая женщина, и так вот, невесть откуда, вдруг — вспышка неведомого доселе чувства. Конечно, если по формуле — то оттого и вспыхнуло, что доселе было неведомым. Но вот женщины нет, она исчезла, и служить, получается, больше некому? Или нечему? Первое или второе? И отчего возникает такой вопрос… Путаница в голове.
— Настя, ты иди.
— Я иду. А вы поразмыслите на досуге — делу или лицам? Алексей Николаевич, вы ведь теперь из-за меня продолжаете, разве нет? Как говорят в седьмом классе девочки про мальчиков: фасон давите. Нет?
Ну хорошо, «да», из-за тебя, из-за твоего доброго, красивого, прекрасного лица. Что тут плохого или недопустимого? Если идея воплощена в красоту — она истина, разве не так? Эх, Настя, Настя, ты явно недопонимаешь…
…И вот вернулась. Ни разу еще не видел Хожанов таких ошеломленных глаз: «Ты знаешь, что она ответила?» — «Ты…» Прелестно, шарман. «Вы мне случайно сказали «ты»?» — «Господи, ну, нашел время… Она не открыла! Я, говорит, никого к себе не пускаю в отсутствие мужа. Это, значит, вас, Алексей Николаевич, тебя то есть… Каков номер? Приходите, говорит, с участковым, я его знаю в лицо и по голосу. Что будем делать?» — «Действительно, номер. Кто бы мог подумать… Впрочем, Настенька, ладно: нам следует сменить квартиру, озаботимся этим».
…Что за торжище здесь царило, что за смесь лиц, фигур, ушей и носов, платьев, пиджаков, ботинок и туфель… Взвизги, раскаты, робкий шепот и безнадежное молчание, уныние, но более всего запомнились глаза — радостные, веселые, насмешливые, хитрые и подлые — последние царили почти безраздельно.
Через двадцать минут (вот ведь повезло!) сторговались с бабушкой старорежимного обличья — в бесцветном платьице и шляпке с вуалеткой, лицо терялось и таяло под этим прикрытием, придуманным некогда хитроумным французом для умножения женской загадочности, и Хожанов вручил Евпраксии Стратониковне (умели выбирать имена при царе!) восемь десяток. Произнеся высоким вибрирующим голосом: «Сегодня же можете и переезжать», — Евпраксия выдала открытку с адресом и чертежом маршрута от автобусной остановки и, церемонно откланявшись, удалилась. А Хожанов с Анастасией поехали домой.
Здесь их ждал сюрприз: молодой человек гвардейского роста в новомодном джинсовом костюме типа «перестиранный-перетертый» мерил маленькими, не по росту, шажками — будто семенил на тренировке кунгфу — площадку перед входом в парадное; заметив Настю, отчужденно уставился Хожанову в лицо. «Знакомьтесь, — буднично произнесла Настя. — Мой старый друг, мой новый друг; как заметил один старичок, нельзя вступить в одну реку дважды». — «Река — это, конечно, ты…» — заметил тоном, не предвещавшим ничего хорошего, «гвардеец». «Это как раз ты, — весело отозвалась Настя. — И вот что я тебе скажу: ты мне надоел и можешь удалиться. Я разрешаю тебе это». Она определенно ни в грош его не ставила, но Хожанову показалось, что напрасно, ибо семенящие шажки и манера держать кулаки то у бедер, то под мышками выдавали любимое хобби «старого друга», и сомнений в этом просто не могло быть. Сейчас мальчику надоест компрометарный разговор, и никакое умение не спасет. Сила солому ломит.
Глаза у Насти сузились: «Не вздумай… — голос у нее странно сел, появились прежде неведомые Хожанову обертоны. — Ты ведь знаешь: я академик, а ты — школьник». — «А… любовь? — спросил он как-то беспомощно и обреченно. — С любовью как?» — «Прошла любовь… — невесело усмехнулась Настя. — По ней звонят колокола. — Перехватила осуждающий взгляд Хожанова и добавила, равнодушно пожимая плечами: — Алексей Николаевич, умственные способности мужеского пола невелики и определяются просто: что в глазах прочитала — тут ценится первый взгляд. — то и есть печальная или веселая правда. Иди, — повернулась она к нему. — И не приходи больше никогда». Понурив голову, парень удалился, Настя окинула Хожанова ироническим взглядом: «Много званых, но мало избранных, Алексей Николаевич… Званые — они все норовят за корсет заглянуть. А избранные…» — «А я какой?» — перебил он, старательно подчеркивая голосом равнодушную незаинтересованность, но она разгадала нехитрый маневр. «Вы? — переспросила, поведя плечом. — Вы всегда смотрите… так?» — «Это от каратэ». — «Это оттого, что вы — избранный…» — закончила она тихо.
Что это было — скрытое признание или просто приязнь, прорвавшаяся сквозь обыденность и скуку, — Бог весть… Спросить он не решился. Неведение было обещающим, томительным, как туман перед волшебным замком, которого еще не видно, но предчувствие уже обозначило его и нарисовало портрет.
…Когда вещи были собраны в небольшой чемодан и вынесены на лестничную площадку, зазвонил телефон и суховатый голос сообщил, что вынос тела Георгия Ивановича состоится ровно через час…
…В былые, хотя и не столь давние, годы Хожанов неожиданно для себя сделал важное открытие: в определенной своей ипостаси все люди похожи друг на друга, как братья-близнецы. Если можно, конечно, говорить о похожести мышления, мировоззрения и прочих внутренних человеческих атрибутов, именуемых в журнальной литературе о любви и дружбе «родством душ». Он вдруг увидел, что пресловутое родство гораздо шире, объемней, по существу своему оно вообще не имеет границ. Трусость, подлость, зависть, стремление оболгать, пришить ярлык, донести, утешая себя тем, что сей непрезентабельный поступок направлен все же на всеобщее благо, или даже не задумываясь — для чего он, без конечной, так сказать, цели, а просто ради «всякого случая», — это и многое еще, очень многое не просто въелось в плоть и кровь и стало второй натурой, нет: давно уже оное вытеснило предыдущее, и образовалась новая генерация или популяция гомо сапиенс. С той только разницей, что когда-то в основе были честь, и достоинство, и любовь, а грязь и мерзость как бы играли роль обстоятельств наносных, привходящих, позднее же «этическое» и «другое» медленно и верно перемешалось, образовав нечто вполне однородное и трудноразличимое, а потом разделилось, внезапно сменив знак. И привходящими стали вечные истины, но зато декларации по их поводу усилились многократно и достигли индустриального уровня…
Не так ли и кладбища — эти бледно-исчезающие отражения человека? Ведь суть их — окончательное и бесповоротное разделение в жизни сей на чистых и нечистых, это их грубая и нетленная реальность, возвышающие же эпитафии, осыпающийся известняк надгробий и даже гранит обелисков, подверженный выветриванию (термин из школьного учебника естествознания, приуготовляющего с младых ногтей к жизни вечной), всего лишь некое странное свечение кладбищенской сущности давно исчезнувшими идеалами…
«Он был любим своим семейством, и, се, оно скорбит о нем…» Или: «Татусик! Ты обещал стать гением, но трамваи ходят не только по рельсам…» А вот еще: «Любящий муж и отец, врач-общественник Сивозон был обожаем подчиненными и уважаем руководством». И так далее…
Вот и это кладбище — с длинным и малопонятным современному человеку названием — оказалось таким похожим на то, с которого началась сия печальная история, таким похожим… Те же надгробия из портландского цемента, те же почерневшие ангелы с отбитыми носами, та же полуразрушенная церковка за вековыми кронами и тот же — из-за невысоких стен — раздражающий шум моторов, мчащихся с блоками и раствором в прекрасный мир перенаселенной фаланстерии и великого будущего…
Заиграл оркестр. И Хожанов отвлекся от своих мыслей. Гроб поставили на каталку и медленно повезли по широкой центральной аллее, мимо обломков некондиционного гранита с фарфоровыми ликами и молоденьких деревьев, не успевших еще набрать могучей кладбищенской свежести…
А Георгий Иванович лежал со сложенными на животе руками, спокойный, умиротворенный, лицо его стало молодым и красивым, и показалось Хожанову, что недавний его знакомец даже улыбается, потому что обрел наконец вечное и неизменное счастье, которое все выступавшие с прощальным словом почему-то упорно именовали «покоем». Живым, конечно, виднее, но Хожанову стало скучно, он углубился в аллею, снова погрузившись в размышления; о Насте он забыл, может быть, потому, что ее не оказалось рядом. Долго он шел по дорожке и вдруг уткнулся в чью-то спину; пожилой апоплексичный мужчина укоризненно покачал головой и приложил палец к губам, и Хожанов увидел белый гроб с оборками, под днище уже подводили веревки, два дюжих молодца с налитыми лицами хватко обматывали концы вокруг локтей, священник крестился и, посыпая крестовидно умершего, произносил заученно-печально: «Господня земля, и исполнения ея, вселенная и вси живущий на ней». «Кого хоронят?» — Хожанов спросил просто так, чтобы разрядить обстановку, апоплексичный перекрестился, глядя на гроб, уже, впрочем, исчезающий в темном прямоугольнике могилы, потом вздохнул и снова покачал головой: «Выдающийся был человек, коллекционер! Всю жизнь, знаете ли, собирал искусство, всегда в конфликтах с властями, у нас ведь непросто искусство собирать… Вот пить, драться, матершинничать — это пожалуйста, хотя это все и ругают, но ведь привычно… Или там хобби всякие… Литография, портреты знатных людей на газетной бумаге, замки, подковы, гвозди — восторг Гостелерадио. А тут человек первоклассных западных мастеров всю жизнь отыскивал, даже солонка работы Бенвенуто Челлини у него была, ну — раз попросили «подарить», два предупредили — сдай, мол, в доход, в музей, а он больной был, псих, жить без этого не мог, без сокровищ своих, ну и дождался. Однажды раздается звонок, он безбоязненно открывает — якобы (тут же слух, сплетня, сами понимаете) приятель снизу, из автомата позвонил, что зайдет, а на самом деле входят два молодчика, без лишних слов привязывают ему пятки к затылку, в рот — носовой платок, и относят, извините, в уборную. И слышит он, как волокут его сокровища, ссыпая металл (а это, учтите, старинное серебро!) в мешки, а картины веревками перевязывают, постукивают подрамниками, и вытекает из него, бедного, душа вместе с каждым вынесенным мешком и каждой пачкой живописи… Вечером жена вернулась с дачи — пусто, зашла в уборную — а он уже едва говорит. Через месяц скончался, такие дела…» — «А вот сказано, — заметил Хожанов напряженно, — не собирайте себе сокровищ на земли, где воры подкапывают… Презрел ваш друг заповедь и претерпел… Он верующий был?» — «Верующий. Только зря. Бога-то — нет, наукой доказано, нынче про это во всех журналах философы пишут. А по поводу вашего пассажа… Я вам, молодой человек, так скажу: вы все раздражены, и праведно, потому — мяса нет, парных языков тоже, и в большинстве магазинов ни отдельной колбасы, ни торта хорошего — так, суррогат… Но разве Павел Петрович, покойный, собирая свои цацки, помешал государству Магнитку построить? Или Гагарина в небо запустить, чтобы лишний раз отсутствие Бога удостоверить? Нет? Откуда такая ненависть, вот что желал бы я знать. У милиции особенно?» — «Почему у милиции?» — «Потому что потому… Уж извините. А сколько раз они его привлечь хотели? Сколько дергали? Совсем уж издергали, уж он, бедный, жене так начал говорить: я, говорит, Маша, лучше все это добровольно сожгу, чем они силой возьмут…»
Натянув шляпу, он удалился, кивнув напоследок. Хожанов подошел к могиле, все уже разошлись, только на холмике застыла тучная женщина в черном, а вторая, намазанная, средних лет, поправляла ленты на венках. И здесь разрозненные впечатления слились вдруг в некое странное предчувствие, он наклонился к тучной даме и произнес — тихо и уверенно: «Ваш супруг замкнутым человеком был и никому свою коллекцию не показывал. И вам запрещал рассказывать о ней даже знакомым. И в главную комнату, где стояли и висели лучшие вещи, никого не пускал. Как же узнала милиция?»
Женщина подняла голову и взглянула испуганно, будто гадалка назвала день чьей-то уже случившейся смерти… «Кто вы?» — одними губами, и тогда намазанная (дочь, наверное) грубо толкнула его в грудь: «А ну, пошел отсюда! Хулиган! Алкаш кладбищенский!» — «Вы не поняли… — разволновался Хожанов. — Я не из праздного любопытства, поверьте…» — «А вот из праздного, — негромко сказал кто-то сзади. — Алексей Николаевич, позвольте на два слова…» Оглянувшись, Хожанов увидел молодого человека в серой «тройке», сером же галстуке, на лацкане пиджака светился маленький значок из белого полированного металла: кто-то бесконечно знакомый, многажды виденный, но вот кто, кто… Сосредоточиться Хожанов не успел, незнакомец взял его под руку и отвел в сторону. «Алексей Николаевич… — Глаза у него были округлы, широко расставлены и абсолютно пусты. — Мне поручено сказать вам… Ступайте домой, устраивайтесь на работу, время-то идет… В самом деле, ну чем вы, помилуйте, заняты? — Он вынул из кармана бумажку и заглянул в нее. — Жизнь прекрасна и удивительна, каждый должен заниматься своим делом, на своем месте, сегодня человеческий фактор — во главе угла, а вы… — он снова заглянул в бумажку, — бежите своего счастья, транжирите дорогие мгновения… Желаю здравствовать!» Он приподнял широкополую фетровую шляпу и улыбнулся, исчезая в зелени кустарника…
…Очнувшись, Хожанов оглянулся и увидел тяжелый восьмиконечный крест, памятники и заросшие холмики, недавнего же, желтой глины и со скошенными краями, не было, он словно растаял.
Пробежал по дорожке в одну сторону, в другую, с легким вначале недоумением — вот сейчас, сбоку или впереди, появится — с крестом, венками, но нет, не было холмика, и вдруг стало ясно, что и не будет…
Приснилось ему, или ловкий посланец еще более ловко сумел за коротким разговором надежно увести в сторону? Бог весть… Ни могилы, ни надписи на кресте, — как теперь отыскать родственников, задать вопросы?.. Трудно, почти невозможно… А ведь найти и спросить надобно, потому что отчетливо начинают вырисовываться звенья одной и той же цепи…
Но отчего тогда вялость, неповоротливость, тугодумие и нулевая реакция: спросить бы обо всем сразу, найти точные слова, единственно возможные — глядишь, и проклюнулась бы истина. Теперь же бегать по кладбищу бесполезно — вон оно какое, целый районный центр…
Уже на выходе увидел он слева от символических ворот (ограда с обеих сторон была варварски повалена) длинный одноэтажный дом, похожий на вагон железной дороги, и вывеску: «Контора кладбища»; господи, да ведь просто все: зайти, рассказать приметы родственников — много ли сегодня прошло похорон? А вдруг кто-нибудь из персонала вспомнит и покажет могилу коллекционера? Или того лучше — назовет адрес родных?
В приподнятом настроении вошел в длинный коридор и постучал в хлипкую на вид дверь с табличкой «Оформление документов». «Войдите!» — послышался высокий женский голос, толкнул створку, она неожиданно оказалась тяжелой — обманчива внешность у людей, вещей и предметов, — и вдруг уперся взглядом в молодого человека, сидевшего за столом с папками и рассыпанными бумагами. Молодой человек был знаком — смутно, как из сна приходило нечто тревожное и даже страшное, связанное с этим длинноносым лицом, оттопыренными ушами. «Послушайте, я вас знаю! — крикнул Хожанов. — Мы виделись, только не помню где…» Молодой человек поднял голову и дружелюбно улыбнулся: «Время, знаете ли, такое… Вот газеты пишут, что мы все такие разные и счастливые, а мне все кажется, что одинаковые и несчастные. Разве нет?»
Это был «студент» с кладбища, тот самый, привратник, бесследно исчезнувший через несколько дней после встречи с Изабеллой Юрьевной и другой, ночной встречи — с «городским сумасшедшим», Володей… Что ж… Игра предложена, ее следует играть. Какой еще выход? Они ведь недаром послали к могиле того, с глазами параноика, и, убедившись, что Хожанов все равно будет искать, посадили сюда этого… Для сведения, так сказать.
Что ж… принимается.
Подчеркнуто спокойно цедя сквозь зубы, рассказал он о недавних похоронах, но вот ведь странность: на лицах служащих не выразилось ровным счетом ничего. «Две женщины? — переспросила конторщица устало-равнодушно. — Виктор Сергеевич, вы случайно не помните?» — «Нет, Агния Львовна, случайно не помню, — оторвался тот от бумаг. — Не было такого. Товарищ… Да вы здоровы ли?» В его голосе прозвучало неподдельное участие. «Спасибо, я вполне здоров. Что ж, жаль… Мне придется мысленно разделить кладбище на квадраты и осмотреть каждую могилу. Та, что нужна мне, существует. Я не сумасшедший». — «Но, может быть, вы имеете в виду похороны врача-судмедэксперта? — вдруг спросил Виктор Сергеевич. — Я охотно укажу вам, идемте». Он встал.
Было мгновение, когда Хожанов заколебался, и сомнение в крушении умственных способностей пришло неотвратимо, как сверкнувший в руках палача топор, но он тут же прогнал сомнение. Нет, с головой все в порядке, и фраза Виктора Сергеевича — или как его там — подтверждала это… Просто его пытались вернуть к реалиям и делали это пока в рамках приличий, снова и снова стремясь убедить в том, что затея опасна, вредна и в то же время — есть еще пути отхода, стоит только захотеть…
И все же — почему они не попытались покончить с ним? Ведь понимают: намерения его серьезны и опасны.
Здесь была странная, неразрешимая загадка.
— Нет… — протянул Хожанов. — Зачем ножки бить… Могила доктора мне известна… и потому не нужна. А то, что мне нужно, я найду…
Он направился к дверям и толкнул, они не поддались, он нажал сильнее и вдруг понял, что двери заперты.
— В чем дело?
Оглянулся и замер в ужасе: по лицу Виктора Сергеевича текли, переливаясь с шеи на пиджак, фиолетовые чернила, бутылку он держал над головой. Не веря глазам своим, Хожанов посмотрел на регистраторшу: она как ни в чем не бывало продолжала водить шариковой ручкой…
Закончив поливать себя чернилами, Виктор Сергеевич ловко швырнул пустую бутылку в закрытое окно, с грохотом полетели стекла, и только теперь, не отрываясь, впрочем, от листка, заорала диким голосом конторщица: «Убивают, помогите!» И Виктор Сергеевич, дружелюбно улыбаясь, подтянул тоненько: «По-о-о-омо-ги-те-е-е-е…» И уже не от размалеванной его физиономии и улыбающегося рта стало неуютно и даже страшно Хожанову, а от этого нарочито тоненького, почти детского голоска…
Налег на дверь, пытаясь высадить ее, неожиданно она поддалась, и, вылетев в коридор, Хожанов оказался в объятиях двух могучих милиционеров. Он еще успел встретиться с ними взглядом по очереди, медленно, и их профессионально-спокойные глаза убедили его лучше всяких слов: ни звука отныне, что бы там ни было. Ибо крышка западни захлопнулась…
А милиционеры что-то записывали, потом на этом листке по очереди расписались Виктор Сергеевич, весь фиолетовый, похожий на вурдалака, и Агния Львовна; Хожанов успел даже сообразить, что это имя-отчество знакомо ему почему-то с самого детства. «Идемте, гражданин», — сурово предложил милиционер с лычками старшины, а второй аккуратно, почти нежно взял под руки. «Куда вы меня?» — «Заговорил… — удивился старшина. — В отделение милиции пока. Связать или обещаете идти хорошо?» Хожанов кивнул. «Ну и славненько! — Старшина даже обрадовался. — А то машины у нас нет, на задании машина, но здесь рядом, вы не утомитесь…»
Они встали справа и слева. «Вперед», — негромко скомандовал старшина, и двери закрылись.
Нелепость… Нелепость-нелепость-нелепость, билось в нем словно быстрый «тик-так». Ясно же: приведут в милицию, вызовут «психиатричку» и отправят надолго, если не навсегда. Все самые мрачные случаи пришли на ум, он понял, что выхода нет: вляпался, и, кажется, безвозвратно…
Между тем вышли за символические ворота и свернули в узкий проход между стеной кладбища и соседствующего с ним заводика, не было ни души вокруг, ни одного прохожего, и вдруг совсем простая мысль пришла в голову: эти славные ребята умеют «брать» хулиганов и алкоголиков, но вряд ли их мастерство идет дальше «комплекса внутренних дел» из шести позиций… Есть шанс уйти, по «психу» они стрелять не станут. Еще раз осмотрелся, воровски, краем глаза, будто кот, замысливший задавить сразу двух мышей (эти ассоциации из новейших телесказок мелькали уже не в сознании, а где-то там — неизвестно где…), — никого, совсем безлюдно, видимо, этот проход граждане старались без крайней нужды не использовать…
Теперь следовало мгновенно решить, как от них отделаться, — без травм, но надежно. Изготовился, всего лишь доля секунды отделяла от первого удара, и вдруг поймал краем глаза быстрый, как бросок змеи, взгляд младшего милиционера. Господи, да они ожидали нападения, они о нем знали, они хотели его! Но зачем, зачем?..
Да просто все: он нападет, а они, владеющие этим видом борьбы наверняка на самом высоком уровне, пришибут его, а потом доложат: пытался отнять оружие, возникла реальная угроза жизни, сотрудник в этом случае законно применяет всю силу, на какую способен, и не отвечает за последствия!
Или того лучше: оставят с переломанным позвоночником и уйдут. Так даже проще. Проще… Конечно же… Вон впереди поворот, вероятно, там еще более тихое место, и там они придушат его. Что же делать, что…
И Насти нет рядом. Как лихо она тогда нанесла неотразимый удар… Эх, Настя, Настя, не вовремя ты потерялась. Или сам потерялся, какая разница…
Поворот приближался, и вдруг Хожанов почувствовал, как в нем снова просыпается память мышц, позиций, ощущение противника. Неуловимые, незримые нюансы подсказали: нападение последует через секунду…
Была не была, терять больше нечего. Придержал шаг, они оказались чуть впереди, этого хватило, он нанес два молниеносных удара, оба рухнули без крика и стона. И лица у них стали умиротворенными, равнодушными даже. Наклонился, у младшего в кобуре черновато высвечивал табельный ПМ с запасной обоймой, у старшины кобура оказалась пустой. Поколебавшись, сунул пистолет и обойму в карман: теперь вырисовывался «чирик», не меньше, и поэтому плевать на все и всех, дело сделано (откуда только жаргон выплеснулся? Из темных глубин подсознания, не иначе…).
Еще раз наклонился, прислушался. Сердце старшины билось неровно, замирая, у второго пульса почти не было. О господи, не умерли бы… Не десять лет тогда. Вышка. И вообще: зачем он сделал это? Зачем? Что показалось, что заставило? А если ничего и не было? Воображение одно? И вели его не по поручению, а просто так, по недоразумению?
…Как наяву увидел он фиолетовое лицо Виктора Сергеевича и улыбнулся: нет, ребята… Нет. От духоты и голода чернилами себя не поливают. И милиция на подобные «происшествия» мгновенно не является — если, конечно, по случаю не оказалась рядом. Нет. Все правильно, хотя и вне закона, полностью вне…
Но ведь не помог бы закон, он ведь только в многосерийных фильмах действует сурово и неотвратимо. А здесь жизнь, увы, пошлая и подлая.
Он побежал, конец кривоколенного переулка обозначился двумя гаражами, около них возился с автомобилем старик профессорского вида. «Мне нужна милиция! — крикнул Хожанов. — Где здесь милиция?» — «Милиция? — переспросил недоуменно профессор. — Друг мой, она как раз в той стороне, из которой вы идете. А что случилось?»
Хожанов не ответил. «В той стороне…» Все стало на свои места — сурово и бесповоротно.
Следовало найти Настю; ведь глупо бегать в поисках могилы коллекционера одному, он двинулся вдоль кладбищенского забора, должна же здесь быть дыра? Шагов через двадцать увидел поваленные столбы и следы гусениц, здесь развернулся бульдозер и выворотил целую секцию.
На краю кладбища памятники были скромнее — кресты, сваренные из водопроводных труб, прессованные из бетона бордюры с осевшей внутри землей, деревянные обелиски. Определив направление, двинулся через могилы, напролом, ноги и руки жгла крапива, модные австрийские туфли (последний подарок любимой на день рождения) покрылись липкой глиной, наконец выбрался на узенькую дорожку и еще через несколько шагов уткнулся в свеженасыпанный холмик с крестом и надписью. С большой фотографии смотрел печальными глазами коллекционер Павел Петрович — тот самый, вот ведь незадача… Ах, Хожанов, Хожанов, так добивался, так стремился, во все тяжкие пустился, срок себе навесил, а он — вот, пожалуйста, Шорин Павел Петрович, родился в 1925 и умер три дня назад, теперь его установить по ЦАБу — раз плюнуть….
Ну что ж, сразу и начнем.
Могила никуда не денется, а и денется — облик и фамилия с именем-отчеством врезалась в память навсегда, начинать же без Насти — жизнь показывает — глупо и опасно. Значит — найти Настю, она, бедняжка, ждет, поди, у ворот кладбища…
Но до ворот он не добрался. Усталость навалилась, пригнула, сразу захотелось сесть, все равно куда, лишь бы расслабились сведенные судорогой мышцы и отпустили тиски, сжавшие голову широким обручем, железной маской — зло, резко, больно…
Он почувствовал, что засыпает, потом усталость прошла и сонливость исчезла — что за странности, что за перепады настроения и состояния? Он вдруг увидел прямо перед глазами ржавую табличку с текстом, какая-то женская фамилия и имя-отчество, — редкие, трудно произносимые, прямо наваждение какое-то, везет же… Да ведь это теща — сухонькая, маленькая женщина с вечно суетящимися руками, перемазанными в тесте, и вот замелькала тяпка в корыте с мясом и трудно узнаваемый голос тестя произнес: «Солёно уже, хватит, я думаю». Да они никак пельмени стряпают?
Стоп, стоп, стоп… Как же так? Два часа ходили у подножия Голого камня, искали могилу тестя, любимая заплакала, нет могилы, как сквозь землю провалилась…
А теперь еще и теща?
А вот и любимая собственной персоной — в зеленом сатиновом платье (материал с бесконечными профилями Нефертити привезен из Египта), на безымянном пальце правой руки тускло высвечивает желтенькое колечко с камнем необыкновенной красоты — не то аметист, не то александрит, и улыбается незлобно: «Леша, мама-то умерла, третьего дня пришла телеграмма. Вася на похороны зовет (Вася был как бы племянник, а точнее — крестник), а тебя дома нет, и я не знаю, что делать…»
Чего не случится на кладбище в зной и сырость, когда висят тяжелые испарения и птицы умолкают, потому что нет у них больше сил…
Он увидел все явственно: имя, имя — да, такое же, а все остальное… Дурман, опиум для народа эти кресты и вообще…
Правильно утверждают лекторы общества «Знание»: на что настроится человек — то и будет.
И все же…
Ведь Бог знает сколько не был уже дома… (Да ведь не дом там, дом теперь у Насти, ее, ее надобно искать!)
Нет. Городским транспортом, спокойно: вот он я, для окончательного, так сказать, решения. (Глупо, конечно, да уж ничего не поделаешь.)
Но ведь Насти у ворот нет? Значит, не подождала? А может быть, даже и не искала?
Что ей? У нее этот длинный, умный, перспективный. Может быть, она тоже раскаивается и мечется, не знает, как отделаться от непрошеного Алексея Николаевича?
Ну и ладно.
И вот родимая улица, и милый высотный дом с лестницами под ветром и дождем, рой автомобилей у подъезда (дурацкое сравнение, что они — пчелы, что ли?), и консьержка с улыбкой от уха до уха: «А ваша-то с собачкой пошла». С какой собачкой? Не было собачки. А-ааа, ясно: долго отсутствовал, вот и появилась. «А они здесь, возле дома». — «Спасибо».
Да, вот они: болонка прямоугольной формы, любимая в египетском платье. «Здорово». — «Здорово. Как назвала?» — «Кук. Ну? Надоело шляться? Вот, слушай вперед умных людей». — «Мне звонили?» — «Кто?» — «Откуда я знаю?» — «Тогда чего спрашиваешь?» — «Просто так».
Поднялись на этаж, Кук бежал впереди с деловитым хрюканьем (опять глупости, он же собака, что за черт…), любимая долго проворачивала ключ в замке («Я сменила, мало ли что…» — «Что? — «То!»), потом пригласила широким жестом: «Входи!» — осторожно вытер ноги (тряпки больше не было, кусок симпатичного коврика), она шмыгнула в ванную: «Я сейчас помою ему лапы и накормлю тебя. Голодный?» — «Голодный». Еще не отдавая себе отчета — зачем он это делает, нагнулся и сунул руку под вешалку: пусто. Провел вправо до конца, потом влево: ничего. «У меня под вешалкой лежала икона и календарь. Ты не брала?» — «Ты спятил?» Она выскочила из ванной с Куком на руках, пес повизгивал и пытался спрыгнуть на пол. «Заткнись! — шлепнула по пробору на спине. — Какая икона? Какой календарь? Ты зачем их сюда положил?» — «Не знаю… — обрадовался: Настя взяла! — Слушай, к тебе третьего дня из жэка приходили?» — «Из ДЭЗа?» — «Ну, из ДЭЗа, какая разница?» — «Нет. Ты же знаешь, я никого не пускаю, когда тебя нет дома». Искренний, почти проникновенный голос, и глаза сияют, как на портрете купчихи Чихачевой в Казанском соборе, но почему-то мелькнуло что-то — в голосе ли, в глазах… Нет, показалось.
— Ладно, я пойду… (Глупости, если бы Настя взяла — какой ей резон обманывать? Чепуха…)
— Пойдешь? Хорошо! Но только помни: у тебя сейчас был шанс и ты его упустил.
— Ладно. Не разговаривай, как в американских вестернах.
Не оборачиваясь, вышел в коридор и вызвал лифт. Когда двери начали съезжаться, откуда-то издалека донеслось: «Возмездие впереди…»
Через полчаса он уже звонил в знакомую дверь, Настя открыла сразу, словно все время стояла у порога, бросилась на шею, повисла: «Где же ты был? Что случилось?» — «Ничего». Рассказывать почему-то не хотелось, зачем? Ведь ничего теперь не изменится…
— Алексей, ты не любишь меня больше?
— Разве мы говорили об этом?
— Вот, говорим.
— Я нашел могилу Шорина, нужно позвонить в ЦАБ, пароль я сейчас узнаю…
— Ты мне не ответил. Не хочешь? Или нечего сказать?
— Надо мною звездное небо, в груди моей нравственный закон. Если это правда, значит, есть Бог, и мы сейчас найдем родственников Шорина и узнаем, зачем они убивают людей.
— Известно зачем… — вдруг усмехнулась она тяжело, незнакомо. Взглянула исподлобья: — Гораздо важнее — кто… Ты все взвесил? Все решил? И о последствиях подумал?
— А ты?
— Праздный вопрос… Едем?
Он кивнул. Едем… Куда и зачем… Но ведь она знает и спрашивать незачем.
— Это далеко?
И снова та же усмешка:
— Километров двадцать, но ты не беспокойся, нас довезут.
Вышли, у подъезда протирал стекла изрядно побитого «жигуля» недавний знакомец, друг № 1.
Оскорбительно, конечно, но ведь не ответил на прямой вопрос, и, значит, претензии не принимаются.
— Садись рядом с ним, я поеду сзади.
— Хорошо… — теперь все автоматически, как робот, потому что исчезла душа. Все равно…
Ехали молча, № 1 включил приемник, незнакомая певица выводила глубоким и сильным голосом: «Стаканчики граненые упали со стола, упали и разбилися…» — потом она запела про чубчик кучерявый и еще про что-то, Хожанов уже не слушал. Ему представилось широкое, наверное, даже бескрайнее поле (впереди таяла синеватая дымка, за ней не видно было), тяжелые комья черной, влажной земли источали дурманящий запах, ноги сразу же начали вязнуть, каждый шаг давался с трудом. Но где-то рядом стояла Изабелла, он чувствовал ее присутствие и поэтому напрягался, отдавая последние силы последнему шагу… Но вот и край, пальцы нащупали стену, все… «Спасибо, Алексей Николаевич, вы сделали более, нежели я просила, теперь мы оба знаем, что Строев честный человек». Протянула руку, край перчатки загнут, тончайший аромат незнакомых духов едва ощутим, и улыбка, улыбка… «Но что же вы? Входите, мы давно ждем…» — «Да-да, извините». И снова запах, более резкий, тяжелый — да ведь это розы, сколько их здесь…
И дом — двухэтажный, с затейливой ломаной крышей и флюгером над башней, как все знакомо, ведь бывал здесь, и, кажется, не раз… И грузный человек в белом фланелевом костюме, и рядом с ним другой — пустые глаза, и еще что-то, не понять что…
Доктор, это он, смотрит вопросительно, плечами пожимает, руку протянул: «Ты не хочешь поздороваться?» — «Зачем я вам нужен?» — «Ах, Алексей, Алексей… Я ведь говорил, я ведь предупреждал… А ты?» — «А что я?» — «Не внял, и вот — финал». Он рассмеялся, весело, с удовольствием, видимо, понравилась рифма.
Оглянулся: друг № 1 тер стекло, Насти не было.
— Что вам угодно?
— Это уже разговор, — пожевал губами. — Но, может быть, сначала — закусим? Превосходная Хванчкара и Твиши. Ты что предпочитаешь?
— Ясность.
— Алеша, мы долго работали вместе, ты должен был научиться понимать: ясность мешает, она ржа, разъединяющая душу и сердце… Ты влез не в свое дело, мальчик мой, и, боюсь, шанса у тебя уже нет…
— Убьете…
— Глупо. Мы не нарушаем закон. Просто я хотел в последний раз взглянуть на тебя, и кто знает…
— Нет. Мы не договоримся. Категорический императив — не помните?
— Но ведь это придумал буржуазный философ. Почему ты не хочешь жить как все, как мы… Без пустых, текучих, как слякоть, слов и обещаний, которые похожи на зубную боль, без труб и фанфар, без ненависти к прошлому… У меня был старинный товарищ, учитель, в былые годы он погиб потому, что честно выполнил свой долг. Мы не умеем ценить людей, выполняющих свой долг несмотря ни на что…
Что ответить? Пустота… У него жена — исследователь-хирург. Однажды он рассказал, что она успешно пересадила собаке сердце другой собаки. И та жила с этим сердцем около месяца. Вот и сейчас — он пойдет по тихой лесной дороге на станцию, его догонит грузовик, увернуться не удастся, и уже через сорок минут его сильную, здоровую мышцу пересадят умирающему от восьмого инфаркта государственно-полезному и денежному человеку, мастеру спорта по биатлону…
— Я хочу знать правду.
— Хорошо… — Доктор щелкнул пальцами, так обыкновенно непрофессиональный дирижер начинает отсчет ритма, и вот вступает — громче, но неслаженно — оркестр…
В дверях появилась Настя, следом Володя остановился на ступеньках крыльца. «Вот», — Настя протянула календарь. «Смотри, — доктор повел пальцем по цифрам. — В месяц — семь встреч, этого вполне достаточно, поэтому ни один день недели не повторяется. А цифры означают время и место. Это, так сказать, самый общий абрис, а подробности тебе не надобны, я, знаешь ли, иногда ощущаю себя почти верующим, и тогда мне кажется, что игру можно расстроить и из четвертого измерения, понимаешь? Ну и хорошо…»
Бессмысленно было спрашивать дальше, но профессия, профессия требовала…
— Но встречи опасны, зачем они?
— Это только кажется, мой милый… Гораздо опаснее говорить по телефону или писать письма. По-моему, ты уже все понял…
— Подпитка компьютера?
— Ну конечно, молодец! Без новых данных мы мертвы, мертвы…
— Строев честен?
— Это знает только Бог…
Ну что ж… Если пшеничное зерно падает в землю и не умрет, то останется одно…
— Прощай, Настя… мне все же кажется, что я любил тебя…
Миновав тяжелые ворота с решеткой узорчатого литья, он ступил под сомкнувшиеся кроны вековых деревьев, их зелень была тяжелой и темной, свет сквозь листву пробивался едва-едва, падая мелкими, неподвижными блестками на черные кресты старинных надгробий. Сколько раз он приходил сюда — в тоске, в отчаянии — и вдруг обретал себя, без видимой причины, непостижимо и странно…
Что же, в конце концов без работы можно прожить, и даже без любимой работы, ибо что есть любимая? Некая нервная привычка, возбуждающее начало, — но ведь меняют пластинку и опускают иглу, и начинает звучать иная песня…
И без семейных неурядиц можно прожить — зачем они? И зачем удлинять плохое, если ждет за поворотом новая встреча и другая судьба?
Шаг, еще шаг, и еще, и вот обелиск и женщина в длинном светлом платье легкими-легкими движениями покрывает ржавый чугун чем-то серебристым, красивым… Ах, как узка ее рука и какие перья на широкополой шляпе, и вот она поднимает глаза…
Но это уже ALTER EGO.
В путь…
ИЗ ПРОШЛОГО
Всеволод Крестовский
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТРУЩОБЫ
Главы из романа[8]
На следующий день, в назначенное время, Бероева приехала к генеральше.
Петька, предуведомленный молодым Шадурским, нарочно в это самое время прохаживался там мимо дома, чтобы быть свидетелем ее прибытия, и видел, как она, расспросив предварительно дворника, где живет генеральша, по его указанию вошла в подъезд занимаемой ею квартиры. Петька все это слышал собственными ушами и видел собственными глазами. Теперь в его голове не осталось ни малейшего сомнения в существовании связи между Бероевой и Шадурским. Он сознал себя побежденным.
Лакей проводил Бероеву до приемной, где ее встретила горничная и от имени Амалии Потаповны попросила пройти в будуар: генеральша, чувствуя себя нынче не совсем здоровой, принимает там своих посетителей.
«В будуар так в будуар; отчего ж не пройти?» — подумала Бероева и отправилась вслед за нею.
— Ах! я отчинь рада! — поднялась генеральша. — Жду ювелир и племянник… Племянник в полчаса будет — les affaires l’ont retenu[9], — говорила она, усаживая Бероеву на софу, рядом с собою. — Et en attendant, nous causerons, nous prendrons du café, s’il vous plait, madame![10] Снимайте шля-апа! — с милой, добродушно-бесцеремонной простотой предложила генеральша, делая движение к шляпным завязкам Бероевой.
Юлия Николаевна уступила ее добродушным просьбам и обнажила свою голову.
— Я эти час всегда пью ко-офе. Vous ne refuserez pas?[11] — спросила любезная хозяйка.
Бероева ответила молчаливым наклонением головы, и генеральша, дернув сонетку, отдала приказание лакею.
Будуар госпожи фон-Шпильце[12], в котором она так интимно на сей раз принимала свою гостью, явно говорил о ее роскоши и богатстве. Это была довольно большая комната, разделенная лепным альковом на две половины. Мягкий персидский ковер расстилался во всю длину будуара, стены которого, словно диванные спинки, выпукло были обиты дорогою голубою материею. Голубой полусвет, пробиваясь сквозь опущенные кружевные занавесы, сообщал необыкновенно нежный, воздушный оттенок лицам и какую-то эфирную туманность всем окружающим предметам: этому роскошному туалету под кружевным пологом, заставленному всевозможными безделушками, этому огромному трюмо и всей этой покойной, мягкой, низенькой мебели, очевидно, перенесенной сюда непосредственно из мастерской Гамбса. В другом конце комнаты, из-за полуприподнятой занавеси алькова, приветно мигал огонек в изящном мраморном камине и выставлялась часть роскошной, пышно убранной постели. Вообще весь этот богато-уютный уголок, казалось, естественным образом предназначался для неги и наслаждений, так что Юлия Николаевна невольно как-то пришла в некоторое минутное недоумение: зачем это у такой пожилой особы, как генеральша фон-Шпильце, будуар вдруг отделан с восточнофранцузскою роскошью балетной корифейки.
Человек внес кофе, который был сервирован несколько странно сравнительно с обстановкой генеральши: для Амалии Потаповны предназначалась ее обыденная чашка, отличавшаяся видом и вместимостью; для Бероевой же — чашка обыкновенная. Когда кофе был выпит, явившийся снова лакей тотчас же унес со стола чашки.
Прошло около получаса времени, и в будуаре неожиданно появился новый посетитель, которому немало удивилась Бероева.
Это был князь Владимир Дмитриевич Шадурский.
— Меня прислал ваш племянник, — обратился он к генеральше, успев между тем и Бероевой поклониться, как знакомый. — Он просил меня заехать и передать вам, что непременно приедет через полчаса, никак не позже…
— Il ne sait rien, soyer tranquille[13], — успела шепнуть генеральша Бероевой.
— Вы мне позволите немного отдохнуть? — продолжал Шадурский, опускаясь в кресло и вынимая из золотого портсигара тоненькую, миниатюрную папироску.
Генеральша подвинула ему японского болванчика со спичками.
Князь Владимир курил и болтал что-то о новом балете Сен-Леона и новой собаке князя Черносельского, но во всей этой болтовне приметно было только желание наполнить какими-нибудь звуками пустоту тяжелого молчания, которую, естественно, рождало натянутое положение Бероевой. Амалия Потаповна старалась по возможности оживленно поддакивать князю Владимиру, который с каждой минутой, очевидно, усиливался выискивать новые мотивы для своей беседы. Генеральша не переставала улыбаться и кивать головою, только при этом поминутно кидала украдкой взоры на лицо Бероевой.
— Что это, как у меня щеки разгорелись, однако? — заметила Юлия Николаевна, прикладывая руку к своему лицу.
— От воздуху, — успокоительно пояснила генеральша и бросила на нее новый наблюдательный взгляд.
— Ваше превосходительство, вас просят… на минутку! — почтительно выставилась из-за двери физиономия генеральской горничной.
— Что там еще? — с неудовольствием обернулась Амалия Потаповна.
— Н… надо… там дело, — с улыбкой затруднилась горничная.
— Pardon! — пожала плечами генеральша, подымаясь с места. — Je vous quitte pour un moment… Pardon, madame![14] — повторила она снова, обращаясь к Бероевой, и удалилась из комнаты, мимоходом, почти машинально, притворив за собою двери.
Князь продолжал болтать, но Бероева не слышала и не понимала, что говорит он. С нею делалось что-то странное. Щеки горели необыкновенно ярким румянцем; ноздри расширились и нервно вздрагивали, как у молодой дикой лошади под арканом; всегда светло-спокойные голубые глаза вдруг засверкали каким-то фосфорическим блеском, и орбиты их то увеличивались, то смыкались, на мгновение заволакивая взоры истомной, туманной влагой, чтобы тотчас же взорам этим вспыхнуть еще с большею силой. В этих чудных глазах светилось теперь что-то вакхическое. Из полураскрытых, воспаленно-пересохших губ с трудом вылетало порывистое, жаркое дыхание: его как будто захватывало в груди, где так сильно стучало и с таким щекотным ощущением замирало сердце. С каждым мгновением эта экзальтация становилась сильнее, сильнее — и в несколько минут перед Шадурским очутилась как будто совсем другая женщина. От порывистых, безотчетных метаний головой и руками волосы ее пришли в беспорядок и тем еще более придали красоте ее сладострастный оттенок. Она хотела подняться, встать — но какая-то обаятельная истома приковывала ее к одному месту; хотела говорить — язык и губы не повиновались ей более. В последний раз смутно мелькнувшее сознание заставило ее обвести глазами всю комнату: она как будто искала генеральшу, искала ее помощи, и в то же самое время ей почему-то безотчетно хотелось, чтобы ее не было, чтоб она не приходила. И точно: генеральша не показывалась больше. Один только Шадурский, переставший уже болтать, глядел на нее во все глаза и, казалось, дилетантски любовался на эту опьяняющую, чувственную красоту.
Но вот он поднялся со своего кресла и пересел на диван рядом с Бероевой. По жилам ее пробегало какое-то адское пламя, перед глазами ходили зелено-огневые круги, в ушах звенело, височные голубоватые жилки наливались кровью, и нервическая дрожь колотила все члены.
Он взял ее за руку, и в этот самый миг — от одного этого магнетического прикосновения — жгучая бешеная страсть заклокотала во всем ее теле. Минута — и она, забыв стыд, забыв свою женскую гордость, вне себя, конвульсивно сцепив свои жемчужные зубы, с каким-то истомно-замирающим воплем, сама потянулась в его объятия.
Долго длился у нее этот экстаз, и долго смутно ощущала и смутно видела она, словно в чаду, черты Шадурского, пока наконец глубокий, обморочный сон не оковал ее члены.
В этот же самый вечер проигравший пари свое Петька угощал Шадурского ужином у Дюссо и, с циническим ослаблением слушая столь же цинический рассказ молодого князя, провозглашал тост за успех его победы.
Было семь часов вечера, когда Бероева очнулась. Она раскрыла глаза и с удивлением обвела ими всю комнату: комната знакомая — ее собственная спальня. У кровати стоял какой-то низенького роста пожилой господин в черном фраке и золотых очках, сквозь стекла которых внимательно глядели впалые, умные глаза, устремленные на минутную стрелку карманных часов, что держал он в левой руке, тогда как правая щупала пульс пациентки. Ночной столик был заставлен несколькими пузырьками с разными медицинскими средствами, которые доктор, очевидно, привез с собою, на что указывала стоявшая тут же домашняя аптечка.
— Что же это, сон? — с трудом проговорила больная.
Доктор вздрогнул.
— А… наконец-то подействовало!.. очнулась! — прошептал он.
— Кто здесь? — спросила Бероева.
— Доктор, — отвечал господин в золотых очках, — только успокойтесь, бога ради, не говорите пока еще… Вот я вам дам сейчас успокоительного, тогда мы поболтаем.
И с этими словами он налил в рюмку воды несколько капель из пузырька и с одобрительной улыбкой подал их пациентке. Прошло минут десять после приема. Нормальное спокойствие понемногу возвращалось к больной.
— Как же это я здесь? — спросила она, припоминая и соображая что-то. — Ведь, кажется, я была…
— Да, вы были у генеральши фон-Шпильце, — перебил ее доктор, — я и привез вас оттуда в карете, вместе с двумя людьми ее. Бедная старушка, она ужасно перетрусила, — заметил он со спокойною улыбкой.
— Скажите, что же было со мною? Я ничего не помню, — проговорила она, приходя в нервную напряженность при смутном воспоминании случившегося.
— Во-первых, успокойтесь, или вы повредите себе, — отвечал доктор, — а во-вторых — с вами был обморок, и довольно сильный, довольно продолжительный. Мне говорила генеральша, — продолжал он рассказывать, — что она едва на пять минут вышла из комнаты, как уже нашла вас без чувств. Ну, конечно, сейчас за мною — я ее домашний доктор, — долго ничего не могли сделать с вами, наконец заложили карету и перевезли вас домой — вот и все пока.
— Вы говорите, что она только на пять минут уходила? — переспросила больная.
— Да, не более, а воротясь, нашла вас уже в обмороке, — подтвердил доктор.
— Стало быть, это сон был, — прошептала она. — Какой сон? не знаю, не помню… только страшный, ужасный сон.
— Гм… Странно… Какой же сон? — глубокомысленно раздумывал доктор. — Вы хорошо ли его помните?
— Не помню; но знаю, что было что-то, наяву ли, во сне ли — только было…
— Гм… Вы не подвержены ли галлюцинациям или эпилепсии? — медицински допрашивал он.
Больная пожала плечами:
— Не знаю; до сих пор, кажется, не была подвержена.
— Ну, может быть, теперь, вследствие каких-нибудь предрасполагающих причин… Все это возможно. Но только если вы помните, что был какой-то сон, то это, наверное, галлюцинация, — с видом непогрешимого авторитета заключил доктор.
«Сон… Галлюцинация — слава богу!» — успокоенно подумала Юлия Николаевна и попросила доктора кликнуть девушку, чтобы осведомиться про детей.
Вошла Груша и вынула из кармана почтамтскую повестку.
— Почтальон приносил, надо быть, с почты, — пояснила она, хотя это и без пояснения было совершенно ясно.
Юлия Николаевна слабою рукою развернула бумагу и прочитала извещение о присылке на ее имя тысячи рублей серебром.
— От мужа… Слава тебе, господи! — радостно проговорила она. — Теперь я совершенно спокойна.
— Однако дней пять-шесть вы должны полежать в постели, — методически заметил доктор, убрав свою аптечку и берясь за шляпу. — Тут вот оставлены вам капли, которые вы попьете, а мы вас полечим, и вы встанете совсем здоровой, — продолжал он, — а пока — до завтра, прощайте…
И низенький человек откланялся с докторски-солидною любезностью, как подобает истинному сыну Эскулапа.
— В Морскую! — крикнул он извозчику, выйдя за ворота, и покатил к генеральше фон-Шпильце.
— Nun was sagen sie doch, Herr Katzel?[15] — совершенно спокойно спросила его Амалия Потаповна.
— О, вполне удачно! могу поздравить с счастливым исходом, — сообщил самодовольный сын Эскулапа.
— Она помнит?
— Гм… немножко… Впрочем, благодаря мне, убеждена, что все это сон, галлюцинация.
— S’gu-ut, s’gu-ut![16] — протянула генеральша с поощрительной улыбкой, словно кот, прищуривая глазки.
— Ну-с?! — решительно и настойчиво приступил меж тем герр Катцель, отдав короткий поклон за ее поощрение.
Амалия Потаповна как нельзя лучше поняла значение этого выразительного «ну-с» и опустила руку в карман своего платья.
— Auf Wiedersehen![17] — поклонилась она, подавая доктору кулак для потрясения, после которого тот ощутил в пальцах своих шелест государственной депозитки.
Амалия Потаповна поклонилась снова и торопливой походкой стала удаляться из залы. Сын Эскулапа еще торопливее развернул врученную ему бумажку: оказалась радужная.
— Эй, ваше превосходительство! пожалуйте-ка сюда! — закричал он вдогонку.
Генеральша вернулась, вытянув шею и лицо с любопытно-серьезным выражением.
— Это что такое? — вопросил герр Катцель, приближая депозитку к ее физиономии.
— Это? Сто! — отвечала она с таким наивно-невинным видом, который ясно говорил: что это, батюшка, как будто сам ты не видишь?
— А мне, полагаете вы, следует сто?
— Ja, ich glaube[18], сто.
— А я полагаю — триста.
— Зачем так? — встрепенулась Амалия Потаповна.
— А вот зачем, — принялся он отсчитывать по пальцам, — сто за составление тинктуры, сто за подание медицинской помощи да сто за знакомство с вами, то есть мою всегдашнюю долю, по старому условию.
Генеральша поморщилась, вздохнула от глубины души и молча достала свое портмоне, из которого еще две радужные безвозвратно перешли в жилетный карман Эскулапа.
— Вот теперь так! и я могу сказать: auf Wiedersehen![19] — с улыбкой проговорил герр Катцель и, поправляя золотые очки, удалился из залы.
Доктор Катцель, несколько дней кряду навещавший Бероеву, нашел наконец, что она поправилась и может встать с постели. Хотя Юлия Николаевна чувствовала некоторую слабость в ногах и по временам небольшую дрожь в коленях, но доктор Катцель уверил ее, что это ничего не значит, ибо есть прямое, нормальное следствие бывшего с нею припадка, которое пройдет своевременно, после чего, ощутив в руке приятное шуршание десятирублевой бумажки, он откланялся с обычной докторски-солидной любезностью.
Позволение встать с постели пришлось как нельзя более кстати для Юлии Николаевны: это был день рождения ее дочки. Прежде всего она оделась и поехала в почтамт — получить присланные деньги. Муж писал ей, что оборот, который он предполагал сделать, удался совершенно, и вследствие этого высылаются деньги; что вскоре и еще будет выслана некоторая сумма, ибо промысловые дела идут отлично, а с весной на самых приисках есть надежда пойти им еще лучше. Все это могло задержать Бероева на неопределенное время, и поэтому он полагал, что вернется едва ли ранее семи-восьми месяцев.
— Лиза, что тебе подарить сегодня? — приласкала Бероева дочку, возвратясь из Гостиного двора с целым ворохом разных покупок.
— Что хочешь, мама, — отвечала девочка, кидая взгляд на магазинные свертки, откуда, между прочим, торчали ножки разодетой лайковой куклы.
— Я тебе с братишкой привезла гостинец, по игрушке купила, — с тихой любовью продолжала болтать она, лаская обоих ребятишек. — Отец целует вас и пишет, чтобы я тебе, Лиза, для рождения подарила что-нибудь! Чего ты хочешь?
— Не знаю, — застенчиво сказала девочка, кидая новый взгляд на соблазнительные свертки.
— Видишь ли что, — говорила Юлия Николаевна, — ты теперь девочка большая, умница, тебе уже пять лет сегодня минуло. Я для тебя хочу сделать особенный подарок.
— Какой же, мама? — любопытно подняла на нее Лиза свои большие светлые глазенки.
— А вот постой, увидишь. Когда я сама была маленькой девочкой и когда мне, точно так, как тебе, минуло пять лет, так папа с мамой подарили мне старый-престарый серебряный рубль. Он и до сих пор еще цел у меня. Подай мне вон ту шкатулочку с туалета…
Дети бросились за маленькой палисандровой шкатулкой.
— Вот, видишь ли, какой он старый, — продолжала Бероева, показывая большую серебряную монету еще петровского чекана, — старее тебя и меня, старее бабушки с дедушкой, да и прадедушки вашего старее: этому рублю сто пятьдесят два года, — видишь ли, какой он старик! Так вот, я теперь дарю его тебе.
Лиза обвила пухлыми ручонками ее шею и принялась крепко целовать все лицо: нос, рот, глаза, подбородок и щеки, как обыкновенно любят выцеловывать дети.
Она была в восторге от подарка, целый день не выпускала его из рук; ночью положила с собою спать под подушку рядом с новою куклою и только на другой день к вечеру спрятала в свою собственную шкатулку — на память.
Прошло около двух месяцев со дня внезапной болезни Бероевой. Семейная жизнь ее текла мирно и тихо, в своем укромном углу, среди занятий с детьми, кой-какого рукоделия да книг с нотами. Почти нигде не бывая и почти никого не принимая к себе, она жила какою-то вольною затворницею, переписывалась с мужем да московскими родными и была совершенно счастлива в этом ничем не смущаемом светлом покое, словно улитка в своей раковине. Одно только, что изредка тревожило ее, это — воспоминание о внезапном припадке у генеральши фон-Шпильце, воспоминание, которое всегда ставило ее в тупик и поселяло страх: что, если начало этой болезни, этих галлюцинаций есть еще у нее в организме и разовьется впоследствии до серьезных размеров. Бероева была убеждена, что это — галлюцинация. Мужу она ничего не писала пока о случившемся, зная, что это его будет постоянно грызть и тревожить.
Между тем к концу второго месяца ее подстерегал страшный, неожиданный удар: она явно почувствовала и явно убедилась, что припадок не был галлюцинацией, что все, испытанное ею и казавшееся сном, было голой действительностью, делом гнусного обмана, коварной ловушкой, западней, в которую, когда потребуется, ловила честных женщин генеральша фон-Шпильце. В ней поселилось теперь твердое убеждение, что это так, хотя существенных доказательств она никаких не имела и не могла разгадать всех нитей и пружин этой дьявольской интриги. Бероева почувствовала себя беременною. Горе, стыд, оскорбление женского достоинства и ненависть за поругание ее лучших, святых отношений одновременно закипели в ее сердце.
«А если она не виновата, если я сама причиной всему, если во мне самой загорелось тогда это гнусное желание», — думала иногда Бероева, и эта мысль только усиливала ее безысходное горе. Были минуты, когда она ненавидела и презирала самое себя, обвиняя только себя во всем случившемся. И это естественно — потому что, не имея никакого понятия о трущобах подобного рода и агентствах добродетельной генеральши, ей и в голову не мог прийти заранее обдуманный план: назначение господина Зеленькова, счастливая мысль мнимой тетушки Александры Пахомовны и все прочее, что послужило к осуществлению прихоти молодого князя. Она слишком хороший и честный человек для того, чтобы допустить явную, неопровержимую возможность такого черного дела. И вот эта-то двойственность в предположениях — то обвинение себя самой, то подозрение на генеральшу и князя — мучила ее нестерпимо. И между тем она должна была терпеть, молчать и таиться. Образ мужа и эти веселые дети стали для нее каким-то укором: чем нежнее были письма Бероева, чем веселее и счастливее ласки ребятишек, тем больше и больше давил ее этот укор, хотя и сама себе она не могла дать верного отчета: что именно это за укор и почему он ее донимает?
«Как быть? открыться ли мужу? — приходило ей в голову. — Открыться, когда сама не знаешь и не помнишь и не понимаешь, как было дело, — какой дать ему ответ на это? Себя ли винить или других? Поселить в нем сомнение, быть может, убить веру в нее, в жену свою, отравить любовь, подорвать семейные отношения, и наконец, этот будущий ребенок, если он останется жив, — чем он будет в семье? Какими глазами станет глядеть на него муж, который не будет любить его? И как взглянут на нее самое законные дети, когда вырастут настолько, что станут понимать вещи?» Вот вопросы, которые неотступно грызли и сосали несчастную женщину. Наконец — худо ли, хорошо ли — она решилась скрывать от всех, и прежде всего от мужа. «Пусть будет что будет, — решила Бероева, — а будет так, как захочет случай. Если откроется все и он узнает — пусть узнает и поступает как ему угодно, но я сама не сделаю первого шага, не напишу и не скажу ни слова».
Таково было ее решение, которое не покажется странным, если вспомнить сильную, страстную любовь этой женщины к мужу и боязнь поколебать ее каким бы то ни было сомнением, — если вспомнить, что у нее были дети, для счастия которых она считала необходимою эту полную, взаимно верующую и взаимно уважающую любовь. Она предпочла лучше мучиться одна, но не отравлять, быть может, мучениями его жизни. Она решилась лучше скрыть, то есть обмануть, лишь бы не поколебать свое семейное счастье. Из-за одной уже этой боязни у нее не хватало духу и энергии открыть мужу то, что для нее самой было темной и сбивчивой загадкой. В этом случае Бероева поступила как эгоистка, но эгоизм такой сильно любящей женщины и понятен и простителен.
«А если и откроется — божья воля, — все же не через меня!» — порешила она и все-таки продолжала втайне ждать, страдать и сомневаться.
К князю Шадурскому подошла маска[20], в черном домино, с белой камелией о волосах, и с молчаливой робостью взяла его под руку.
Князь пристально оглядывал ее фигуру, очерк лица, губ и подбородка, ее глаза и кисть руки, стараясь по этим признакам догадаться, кто бы могла быть подошедшая к нему особа.
По руке ее заметно пробегала дрожь внутреннего волнения, большие голубые глаза глядели из-под маски грустно и томно, а губы как-то нервически были сжаты. Она нисколько не походила на привычных маскарадных посетительниц, бойких искательниц приключений и, казалось, была необыкновенно хороша собою.
Шадурский никак не мог догадаться, кто она такая.
— Мне надо говорить с тобою, — начала маска нервным голосом и почти шепотом от сильного волнения.
— Ну, говори, — апатично ответил Шадурский.
— Дело слишком серьезно… Я попрошу полного внимания. Это довольно мудрено в маскараде.
— Мне больше негде говорить с тобою.
«Начало весьма недурное и, кажется, обещает», — подумал князь с самодовольной улыбкой, любуясь изящною рукою и стройной фигурой своей маек».
— Ты одна здесь? — спросил он.
— Одна совершенно… Но не в том дело… Пойдем куда-нибудь, где народу меньше.
— В таком случае уедем отсюда, — предложил Шадурский.
— Как уедем?.. куда?.. Ты забываешь, я должна говорить с тобою, — тревожно изумилась маска.
— Ну, вот и прекрасно! Поедем к Донону, к Борелю, к Дюссо, куда хочешь; там поговорим. Я, кстати же, есть хочу.
— Ты шутишь, а мое намерение видеть тебя — вовсе не шуточное.
— Тем лучше. Я о серьезных делах иначе не толкую, как за бутылкой шампанского.
— Князь!.. Бога ради… — сказала маска умоляющим голосом, в котором прорвалось затаенное страдание.
— Я уже сказал. Не хочешь — как хочешь! — категорически порешил он, высвобождая свою руку, с явным намерением удалиться.
Это был не более как ловкий маневр: он заметил по всему, что маска от него не отстанет, что во всем этом обстоятельстве кроется нечто большее, чем обыденная маскарадная интрижка, и, как человек самодовольно-самолюбивый, заключил, что поступками несмелой маски явно руководит страсть к его особе, и только одно неуменье, одна непривычка к делу и новость положения заставляют ее относиться к нему таким странным, необычным образом. А удобной минутой страсти и увлечения какой бы то ми было хорошенькой женщины почему же ему не воспользоваться? Он только по голосу старался догадаться, кто она: голос этот смутно казался ему как будто знакомым. Князь уж совсем было высвободился от нее, намереваясь подойти к случайно попавшейся навстречу знакомой маске, как вдруг первая стремительно схватила его за руку.
— Я умоляю… останься!… Ты не уйдешь от меня, — встревоженно заговорила она.
— Ты капризна, — зевая, заметил князь, — это скучно. Если хочешь говорить со мною, так поедем, а иначе — прощай.
Женщина остановилась в раздумье. Это была для нее минута мучительной нравственной борьбы и тревоги.
Князь, отвернувшись, рассеянно глядел по сторонам.
— Я согласна… едем, — едва слышно выговорила она через силу, словно бы давил ее нестерпимый гнет, и, обессиленная этой минутной борьбой, подала ему свою руку.
Шадурский торжествовал, хотя и сам бы себе не мог дать отчета — почему именно он торжествует.
В карете она молча сидела, завернувшись в салоп, и не снимала маски. Князь насвистывал какой-то куплетец.
— В чем же дело? — спросил он с улыбкой, стараясь отыскать ее руки.
— После, — коротко ответила маска и завернулась еще крепче, стараясь этим движением положить предел его исканию.
— Ну, теперь мы можем говорить спокойно: сюда больше никто не войдет, — сказал он, запирая на задвижку дверь за ушедшим татарином, который принес им в отдельный кабинет ресторана ужин с замороженной бутылкой вина в серебряной вазе и затопил камин.
Женщина сняла свою маску — и князь Шадурский, при первом взгляде на ее лицо, невольно отшатнулся несколько в сторону от неожиданного изумления.
Перед ним стояла Бероева.
— Я не стану корить вас тем, что вы со мною сделали, — бог вам судья за это, — говорила Бероева с полными слез глазами, объяснив уже князю все обстоятельства, — но ребенок… он ведь ваш… о нем заботиться надо.
— Пожалуй, я не прочь, — равнодушно прожевал князь Владимир, запивая шампанским котлету, — только с условием, — прибавил он с двусмысленной усмешкой.
— С каким условием? — выпрямилась Бероева.
— Весьма легким для женщины.
— Князь, говорите яснее, — с строгим достоинством заметила она, сдерживая в себе то чувство мрачной ненависти, которое почти неудержимо заклокотало в ней с первой минуты маскарадной встречи.
— Я говорю довольно ясно, — ответил он, наливая новый стакан.
— В таком случае мы не понимаем друг друга.
— Ну, объяснимся еще яснее. Я обеспечу этого… ребенка, — говорил он с прежним невозмутимым равнодушием «элегантно-порядочного» человека, которое все более и более возмущало Бероеву. — Что касается до вас — вы ведь женщина небогатая, можете располагать мною, как вам угодно… А условие — ваша благосклонность.
Глаза Бероевой как-то зловеще засверкали. Раненая волчиха поднялась со своего места.
— Ваше сиятельство, — произнесла она тем нервно-звучным голосом, которым особенно ярко высказывается у человека чувство глубочайшего презрения, — все, сказанное вами, до такой степени низко и грязно, что мне гадко даже дышать с вами одним воздухом.
Она сделала движение к двери. Шадурский остановил ее.
— Ne vous échauffez pas, madame[21], — сказал он, став между нею и дверью. — Я, право, не понимаю, что же тут оскорбительного?..
Он действительно не постигал, чем может оскорбляться женщина, не принадлежащая к его избранному сословию, жена какого-то господина, служащего в конторе у какого-нибудь Шиншеева.
— Впрочем, — прибавил Шадурский, повинно наклоняя свою голову, — если я сказал что-либо неприятное, беру назад свои слова и приношу тысячу извинений!.. Но послушайте же, — продолжал он, делая поворот на прежнюю тему, потому что чудная красота стоявшей перед ним женщины распалила его голову, и без того уже сильно разгоряченную вином: он не мог теперь уже давать себе ясного отчета ни в словах, ни в поступках. Винные пары сняли ту гладенькую и чистенькую оболочку порядочности и сдержанности, которая так присуща людям этой категории в трезвом их состоянии и по большей части покидает их в состоянии, противоположном трезвости, обнажая всю грубую, животную сторону их натуры, отменно полированной, но совсем не развитой человечески.
— Послушайте, — говорил он, — вы не совсем правы… Если я соглашаюсь обеспечить ребенка, то ведь только для вас. Почему же я знаю: мой ли это ребенок? И кто меня убедит в этом?
— Подлец! — задыхающимся от бешенства шепотом сказала ему Бероева и сделала новое решительное движение к двери.
Шадурский опять загородил дорогу.
— Подлец? — повторил он с улыбкой. — А знаете ли, чем каждый порядочный человек обязан ответить хорошенькой женщине, если она даст ему пощечину или скажет — подлец? Он должен обнять и поцеловать ее тут же… Pardon, madame: noblesse oblige![22] — говорил князь, внезапно схватив ее в свои объятия и целуя в лицо.
Бероева вырвалась и закричала.
Шадурский, вконец уже опьяненный этим близким прикосновением к женщине, позабыл все и с помутившимися от хмельной страсти глазами бросился на нее снова.
Вся старая ненависть и все те чувства, которые возбудили в ней его слова, вместе с самосохранением и оскорбленным достоинством женщины, с новой и стремительной силой поднялись в ней в это мгновение. Вне себя схватила она со стола серебряную вилку, и в то время, как Шадурский снова успел уже поймать ее в свои объятия, Бероева с неимоверной для женской руки силой вонзила ему вилку в горло и потом в грудь.
Князь Владимир с отчаянным криком повалился на пол. Кровь ручьями брызнула из ран.
В ту же минуту сильным натиском с наружной стороны задвижка отскочила, и дверь отворилась; при виде раненого ужас охватил вбежавших на крик людей.
Бероеву застали стоящею посреди комнаты с окровавленной вилкой в руке. Она вся дрожала и бессознательно водила кругом мутными, но грозными глазами. Кисть руки так конвульсивно крепко держала свое оружие, что, казалось, будто закоченела в этом положении.
Тотчас же явилась полиция.
Когда Шадурского подняли с пола и Бероева увидела кровь, мгновенный отблеск сознания и какой-то гнетущей мысли тоскливо мелькнул в ее взорах. Она выронила вилку, зашаталась и упала без чувств.
В то время как раненого Шадурского положили в карету, чтоб отвезти домой, Бероева была уже арестована.
Бероева не скоро пришла в сознание. Она решительно не помнила, как ее увозили из ресторана, как доставили в одну из частей, как наутро, за неимением там места, перевели в другую часть, куда, по сделанному в тот же день экстренному распоряжению, было отдано для следствия ее дело. Все это время мысль ее не действовала, нервы словно окоченели, потеряв способность впечатлительности; ее не пронимали ни уличный холод, ни спертая, удушливая духота женской сибирки, где она очутилась на наре, в обществе уличных воровок, нищенок, самых жалких распутниц и пьяных баб, подобранных на панели. Она глядела, дышала и двигалась как автомат, вполне машинально, вполне бессознательно, ни в одном взгляде ее, ни в одном вздохе, ни в одном движении не промелькнуло у нее ничего такого, что бы напомнило хоть легкую тень какой-либо мысли, хотя бы малейший признак отчетливого сознания и чувства. Душа и мысль ее были мертвы, скованы какой-то летаргией, — одно только тело не утратило способности жить и двигаться.
Очнулась она уже в секретной, после долгого, мертвецкого сна, который одолел ее всею своей тяжестью, победив наконец это более чем суточное напряженно-закоченелое состояние.
Секретные по частям отличаются видом далеко не презентабельным. Это обыкновенно — узкая комната, сажени полторы длиною да около сажени в ширину, с решетчатым, тусклым окном и кислым, нежилым запахом. Мало свету и мало воздуху, а еще меньше простору — пройтись, расправить кости, размять члены свои уж решительно негде: на полуторасаженном расстоянии не больно-то разгуляешься.
Бероева смутно очнулась и огляделась вокруг. Сероватый и словно сумеречный полусвет западал в ее окошко. Перед нею стоял убогий столик, грязный, пыльный, бог весть с которых пор не мытый и не скобленный; тут же кружка с водою, на поверхности которой тоже плавали пыль да утонувшая муха; в углу стояло ведро под стенным умывальником — и эти предметы, за исключением постели, составляли все убранство секретной.
Бероева чувствовала какую-то усталость, и лом в костях, и жгучий зуд по всему телу. Она оглядела себя и свое ложе — убогую деревянную кровать с грязной подстилкой, с соломенным мешком вместо тюфяка и такою же подушкой. Брезгливое содрогание невольно передернуло ее члены, когда увидела она то, что служило ей изголовьем… Мириады насекомых, клопов и даже червей каких-то повысыпали сюда из своих темных щелей, почуяв с голоду новую и свежую добычу. Она стала прислушиваться — все тихо, глухо, не слыхать ни говора, ни отголосков уличной жизни; только крысы пищат да возятся за печкой. Одна из этих подпольных обитательниц торопливо пробежала по полу и вильнула чешуйчатым хвостом, мгновенно улизнув под половицу, в свою маленькую норку.
С нервическим трепетом поднялась она с кровати и толкнулась в дверь, но плотно запертая крепкая дверь даже и не шелохнулась от ее толчка — словно бы толчок этот пришелся в каменную стену. Она постучалась еще, и на этот раз посильнее, — ответа нет как нет, и все по-прежнему тихо да глухо. Бероева тоскливо прошлась по своей тюрьме — под ее ступней слегка скрипнула половица, — и пискливая возня за печкой, казалось, будто усилилась от этого скрипу да от ее шагов, нарушивших тишину карцера. Из подполья снова выглянула большая серая крыса и, словно котенок, нетрусливо проползла до середины комнаты, понюхала воздух, поводила усиками и, спугнутая новым движением арестантки, шмыгнула в темноту, под ее кровать, где и скрылась уже безвозвратно.
Бероева смутно сообразила теперь свое положение, собрала свои мысли, насколько это было возможно в ее положении, вспоминала все, что случилось с нею, — и тут-то, при этом страшном воспоминании, которое, в сущности, и было для нее прямым, настоящим пробуждением, возвратом к действительной жизни, при виде всей этой мрачной, отвратительной обстановки, которая, словно могила, оковала ее своей безжизненностью в настоящую минуту, на нее напал какой-то ужас, почти инстинктивно разразившийся невольным, отчаянным криком. Она судорожно и что есть мочи стала колотиться в дверь, не переставая кричать ни на минуту, — и через несколько времени надзирательская форточка отворилась. В ней показалось апатичное лицо полицейского солдата.
— Чего орешь-то? что надо? кажись, все ведь есть по порядку! — просипел он крайне недовольным тоном.
— Пусти меня, пусти, бога ради! — кричала она, совсем почти обезумев в этот миг от отчаяния.
— Куды пусти?!. Что ты, чего бьешься-то?
— Дети… где дети мои?.. Пусти!.. Я в суд пойду… я к царю пойду… я скажу ему! все скажу, всю правду!.. Отпирай же двери!..
— Ладно!.. никак с ума спятила… Пусти да пусти, а куды я пущу?.. Начальство не велит, с нас тоже взыскивать будут… Сиди лучше добром, коли посадили.
— Да отворишь ли ты, бездушный!
— Какой я бездушный? я не бездушный, а только что нам не приказано — ну, значит, и нельзя. Вот погоди, скоро обед из тюрьмы привезут; я те обедать принесу, поешь себе с богом: а чего уж нельзя, так и нельзя!.. Не моя воля, а будешь бунтовать, дежурному скажу — ей-богу, скажу! — пущай его сам как знает, так и ведается с тобой!
Бероева с воплем грохнулась без чувств подле двери.
Солдат поглядел: видит — лежит, не кричит и не дышит.
— Экая барыня какая несообразная, — проворчал он, покачав головою, затем крикнул подчаска, отомкнул дверь — вдвоем перетащили ее на кровать.
— Вспрысни водой малость — може, и прочухается, а не то дежурному да дохтору доложить придется, — сказал он подчаску, который исполнил все сполна по данному приказанию.
Бероева очнулась — и солдаты снова заперли дверь ее камеры.
Она увидела, что уж тут ничего не поделаешь, что это — сила, которая неизмеримо превышает ее собственные силы и возможность, которая бог весть что еще будет впереди, — а пока, в настоящую минуту, давит, уничтожает собою ее волю, — и она смирилась в каком-то тупом, деревянном отчаянии.
Привезли из тюрьмы обед; а развозят его по всем петербургским частям для содержащихся там арестантов, обыкновенно в продолговатых черных ящиках, куда вставляются сосуды вроде деревянных коробок; в эти коробки опускаются плотно закрытые баки с похлебкой, кладется хлеб в нужном количестве порций, и затем ящики отправляются в ежедневное свое путешествие.
Бероева почти и не взглянула на эту холодную, мутно-серую похлебку, которую солдат так и вынес нетронутой из ее нумера. Голод побудил ее только прожевать несколько комков арестантского хлеба да запить их стоялою водою из своей кружки. Да и эта-то пища, при ее тяжелом нравственном состоянии, показалась горькой и противной.
В этот день ее никто не тревожил, кроме добровольных и неофициальных обитателей ее камеры. Начинало темнеть — и под светом петербургских сумерек стены секретной становились еще мрачнее, холодней и неприветливей. Один только солдат полицейский время от времени отмыкал свою форточку и наблюдал, чем занимается арестантка. Часов около семи вечера, когда совсем уже стемнело, он принес ночник, распространивший новую вонь от своей копоти и дрянного деревянного масла, и затем на всю уже ночь, до утра, замкнул на ключ секретную камеру.
Бероева кое-как застлала своим салопом грязную подстилку с изголовьем и, не раздеваясь, легла на свое скрипучее арестантское ложе, тщетно стараясь как-нибудь забыться.
Воцарились опять мертвая тишина и глухое молчание. Только изредка потрескивал нагорелый ночник, а в окно мелкий зимний дождь барабанил; петербургский ветер иногда с каким-то стоном завывал в трубе, да крысы бегали по полу и отчетливо грызли зубами половицу… В камере сделалось холодно и сыро.
Среди ночи тревожно раздались вдруг частые удары колокола, и поднялся шум на съезжем дворе. В тишине камеры ясно донесся до нее торопливый говор людей, понуканья, возгласы и конский топот; затем, через какие-нибудь пять минут, тяжелый грохот многочисленных колес, затихавший мало-помалу в отдалении, — и все опять смолкло.
Бероева заглянула с постели в свое окошко, подняла вверх глаза и увидела в непроницаемой черноте ненастной ночи, как на высокой каланче зловещие фонари подымались.
«Пожар где-то в городе, — подумала она, — может быть, в нашем доме… может, мои дети горят…»
И душа ее сжалась мучительной, смертельной тоской, а фантазия неотвязно и ясно стала рисовать ужасный кроваво-огненный образ пожара и двух ее малюток, задыхавшихся в едком дыму и жарком пламени.
Наутро дверь ее тюрьмы отворилась.
— Где был пожар? — стремительно бросилась она к вошедшему солдату.
— На Охте… амбары, слышно, какие-то горели, — с обычной апатией ответствовал сторож.
— Слава тебе, господи! — отлегло у нее от сердца.
«Эка баба какая, нашла чему радоваться!» — заметил про себя полицейский, покачав головою.
Бероева взглянула за дверь: там, в коридоре, стоял солдат с ружьем и в каске. Ее повели к следственному допросу.
— Вы — Юлия Николаевна Бероева? — начал следователь обычным официальным порядком с предварительных формальных вопросов.
Арестантка подтвердила.
— Ваше звание? — продолжал он.
— Жена бывшего студента.
— Это не составляет звания. Кто ваш муж — дворянин, купец или из мещан.
— Из почетных граждан.
— Хорошо-с; так и запишем. На исповеди и у святого причастия, конечно, бываете… Под следствием и судом состояли?
— Нет.
— Прекрасно-с. Теперь я, как следователь, должен вас предупредить, что чистосердечное раскаяние преступника и полное его сознание смягчает вину, а потому смягчается и степень самого наказания. Факт вашего покушения на убийство князя Шадурского засвидетельствован под присягою достаточным количеством разных лиц. Я отобрал уже показания от прислуги ресторана — и показания их все до одного совершенно сходятся. Потрудитесь, пожалуйста, объяснить, что именно побудило вас решиться на это убийство?
Краска — быть может, стыда, быть может, оскорбленной гордости — выступила на лице Бероевой.
В это время кошачьей, мягкой походочкой, приглаживая височки рыженького паричка и уснащая физиономию улыбочкой самого благодушно-богобоязненного и сладостного свойства, вступил в камеру Полиевкт Харлампиевич Хлебонасущенский. Сияющий Станислав украшал его шею, а медалька «да не постыдимся» с двадцатилетним беспорочном — борт его синего фрака; спина его изображала согбение самого приятного свойства — согбение, в котором, однако, кроме несколько почтительной приятности, сказывались еще подобающая его летам солидность вместе с соответственным званию и рангу чувством собственного достоинства. Он очень любезно, как знакомому, протянул руку следователю и обратился к нему с любезным же осклаблением:
— Вы, кажется, уж начали допрос подсудимой? Извините, что имел неосторожность прервать… Продолжайте — я вам не мешаю.
Следователь довольно сухо кивнул ему головою из-за кипы бумаг, а Полиевкт Харлампиевич уселся на стуле и приготовился слушать. Он еще вчерашний день явился в следственное отделение с поклонами о позволении присутствовать при производстве дела.
— Потому его сиятельство князь Шадурский, по тяжкой болезни своей, очень желают знать ход причин и обстоятельств.
Следователь поморщился, но ответил:
— Как вам угодно.
Бероева собралась с мыслями, призвала на помощь весь запас своих сил и воли и начала обстоятельный рассказ о происшествии. Она не забыла ни визита генеральши фон-Шпильце, явившейся в образе эксцентрической любительницы брильянтов, ни своего посещения к ней на другой день, ни угощения кофеем, ни внезапного появления молодого князя, ни своего странного припадка, следствием которого была беременность.
— Это все очень заманчиво и занимательно, — ввернул свое словцо Полиевкт Харлампиевич с обычно-приятным осклаблением, — но юридические дела требуют точности. Вы можете подтвердить чем-нибудь справедливость своих показаний? У вас есть факты, на основании коих вы живописуете нам?
— У меня есть ребенок от князя, — застенчиво, но твердо ответила арестантка.
— Хе-хе… ребенок. Но где же доказательства, что это ребенок их сиятельства? И где же он у вас находится?
— Это уже, извините, до вас не касается, — сухо обратился к нему следователь. — Вы можете, пожалуй, наблюдать, сколько вам угодно, за правильным ходом дела; но предлагать вопросы предоставьте мне. Показание это слишком важно, и потому извините, если я вас попрошу на время удалиться из этой комнаты.
Полиевкт Харлампиевич закусил губу и окислил физиономию, однако — делать нечего — постарался скорчить улыбочку и несолоно хлебавши с сокрушенным вздохом вышел в смежную горницу.
Бероева сообщила адрес акушерки, который тотчас же и был записан в показание.
— Кроме повивальной бабки, знал еще кто-нибудь о вашей беременности? — спросил ее следователь.
Подсудимая подумала и ответила:
— Никто. Я от всех скрывала это.
— Какие причины побудили вас скрывать даже от мужа, если вы — как видно из вашего показания — были убеждены, что обстоятельство это есть следствие обмана и насилия?
Бероева смутилась. Как, в самом деле, какими словами, каким языком передать в сухом и кратком официальном акте вполне верно и отчетливо все те тонкие, неуловимые побуждения душевные, тот женский стыд, ту невольную боязнь за подрыв своего семейного счастия и спокойствия, — одним словом, все то, что побудило ее скрыть от всех обстоятельства беременности и родов? Она и сама-то себе едва ли бы могла с точностью определить словами все эти побуждения, потому что она их только чувствовала, а не называла. Однако, несмотря на это, Бероева все-таки по возможности постаралась высказать эти причины. Обстоятельство с нашей формальной, юридической стороны являлось темным, бездоказательным и едва ли могло служить в ее пользу.
— Вы хорошо были знакомы с князем? — продолжал следственный пристав.
— Нет, я его видела всего только три раза, — ответила арестантка, — в первый раз на вечере, где мне его представили, потом у генеральши и, наконец, в маскараде.
— Вы говорите, что написали ему анонимное письмо по совету акушерки?
— Да, по ее совету.
— Хорошо, так мы и запишем. Если показание подтвердится, то обстоятельство это может отчасти послужить потом в вашу пользу.
Затем следователь перевернул несколько листков из дела, прочел какую-то серую четвертушку и снова обратился к подсудимой.
— Медицинское свидетельство говорит, — начал он, держа перед собою бумагу, — что нанесены две довольно глубокие раны: одна в горло с левой стороны, на полдюйма левее от сонной артерии; другая — в грудь, непосредственно под левой ключицею, глубиною около трех четвертей дюйма. Точно ли вы нанесли эти раны, как показывают свидетели, нашедшие вас с вилкою в руке?
Бероева слегка побледнела и выпрямилась. В ее глазах на мгновение мелькнул отблеск гордого достоинства женщины.
— Да, это правда! — с необыкновенной твердостью проговорила она. — Я не отрекаюсь, я действительно хотела его убить — я защищалась от нового насилия.
Следственное дознание было все сполна прочтено Бероевой, которая каждый ответ по предложенным вопросным пунктам скрепила своей подписью, и затем ее снова увели в секретную, под военным конвоем.
После очной ставки с Шадурским Бероева снова очутилась в своем затхлом и тесном карцере. Пока впереди для нее еще мелькала кой-какая смутная надежда на добрый исход, она старалась поддерживать в себе слабеющую бодрость. Теперь же надежда исчезла окончательно, а с нею вместе исчез и остаток этой бодрости. Едва лишь миновала первая, деревянно-ошеломляющая минута последнего удара, нанесенного последним свиданием с Шадурским, едва лишь снова охватили ее четыре голые стены секретного нумера, — перед ее глазами со всей осязательной отчетливостью раскрылся весь ужас ее положения, вся грозная сторона будущей развязки: приговор суда, признающий в ней убийцу, публичный позор, эшафот, Сибирь и вечная разлука со всем, что так заветно и дорого ее сердцу…
Ничто не действует столь пагубно на мозг и душу человеческую, как одиночное заключение: притупляя рассудочные и нравственные силы, оно до чрезвычайности развивает воображение за счет всех других способностей, и притом развивает в самую мрачную, болезненную сторону. Все и вся начинает казаться ужасным, темным, гиперболическим — и человек безотчетно поддается самой последней степени безысходного отчаяния. Это такое положение, с которым никакая пытка не сравнится.
Бероева долго лежала на своей убогой кровати, а в голове ее, среди какого-то звона, шума и бесконечного хаоса, всплывали, тонули и снова выныряли, развертываясь во всей беспощадной наготе, самые тяжелые картины и образы. Она ни о чем не думала, ничего больше не соображала, потому что совсем лишилась даже возможности мыслить; а эти картины и образы как-то сами собою, без всякой воли с ее стороны, как нечто внешнее, постороннее, вставали пред ее нравственным взором и проносились бесконечной, хаотической вереницей.
И это длилось целые сутки. Если бы у нее было зеркало, то, поглядевшись в него, она, наверное, не узнала бы себя и с ужасом отскочила, словно бы вместо своего лица ей показалось чье-нибудь другое. От бровей поперек лба прорезалась у нее суровая складка; широко раскрывшиеся, безжизненно-тусклые глаза ушли глубоко в глазные впадины, скулы осунулись, а в длинной, роскошной косе сильно засеребрились седые нити, и волосы стали падать с каждым днем все больше и больше. Тюрьма разрушала здоровье и красоту женщины, разрушала и душу живую.
Она не плакала, только веки ее были сухо воспалены и ощущалась в них резь, если сомкнуть их или внезапно посмотреть на свет. Да тут и не могло быть места слезам, которые как бы то ни было, но все-таки облегчают и даже освежают душу, а это глухое отчаяние сушит и давит все в человеческом организме.
Полицейский приставник два раза входил, по обязанности, в ее нумер, приносил обедать и потом поставил и зажег ночник, каждый раз, по обыкновению, кидая ей мимоходом два-три слова. Но Бероева не понимала, что и о чем говорит он ей, даже почти не расслышала ни слов, ни шагов его, потому что все звуки сливались теперь в ее ушах в какой-то смутный, безразличный шум. Погруженная в омут обуявших ее образов, она почти и не различала даже присутствия постороннего человека в своей комнате. Можно бы было подумать, что это не женщина, а какое-то существо из другого мира, либо покончившее все расчеты с землею, либо никогда и не имевшее с нею ничего общего.
Среди ночи нагорелая светильня в истощившемся шкалике начала трещать, помигала с минуту умирающими вспышками, затем отделился от нее кверху последний синий огонек — и в карцере мгновенно разлилась непроницаемая, густая темнота вместе с горьковатым смрадом дымящейся копоти.
В эту самую ночь, еще в блаженном неведении, муж Бероевой на всех парах мчался к Петербургу.
Арестантка не спала. Целый день и всю ночь затем, до этой минуты, она почти неподвижно лежала в одном и том же положении. Но теперь, вместе с могильною темнотою, когда фантазия еще ярче стала рисовать образы сирот детей и мужа, разлуку с ними и палача на эшафоте среди Конной площади, меж густой толпы равнодушно любопытных зрителей, ею овладела мутящая тоска, а вместе с тоскою мелькнул и слабый проблеск какого-то сознания.
«Нет, могила лучше… не будешь мучиться, позора не увидишь… лучше, лучше, лучше…»
И вместе с этою мыслью Бероева торопливо опустила руку в карман, достала носовой платок и села на постели.
В мрачном и сосредоточенном спокойствии свертела она из платка жгут, накинула его себе на шею и, завязав под горло узел, медленно, но сильно стала затягивать его обеими руками.
Однако операция эта не удалась: она была мучительна, но не привела к счастливой цели, так как в ослабевшей руке Бероевой не оказалось теперь настолько силы, чтобы можно было удобно задушиться.
Но раз напавши на мысль о самоубийстве, Бероева уже не покидала ее. В этой мысли для нее являлся единственный выход из своего положения, и она твердо решилась покончить с собою.
Надо было только придумать легчайший способ. Но за этим дело не стало. Бероева нашла, что повеситься будет, кажись, всего удобнее; надобно только дождаться свету, чтобы высмотреть, нет ли где в окне или у печной заслонки подходящего зацепа, который бы выдержал тяжесть ее тела. А пока, чтобы не терять даром времени, она в темноте принялась за работу: прогрызая зубами подол своего шелкового платья, отрывала кайму за каймою и из этого материала старательно сплела себе веревку, то и дело пробуя, крепко ли связаны узелки на ней.
Часа через два работа была кончена, поэтому, тщательно запихав себе за лиф импровизированную веревку, Бероева стала несколько спокойнее, как человек, определивший себе окончательную цель, и только ждала желанного рассвета.
Но с рассветом по коридору заходили полицейские солдаты, — того и гляди, приставник или подчасок в форточку заглянет и дверь отомкнет, — время, стало быть, неудобное, придется обождать, пока угомонятся, пока арестантский день войдет в свою обычную колею.
И точно, приставник не заставил долго ждать своего обычного утреннего визита в форточке. Заметив сквозь нее на арестантке изорванное платье, он отпер ее дверь и подозрительным оком окинул всю комнату. В подобных случаях у бывалых полицейских, по опыту, иногда развито чутье удивительное.
Бероева притворилась спящей. Солдат постоял над нею, поглядел на ободранные полы платья, заглянул под кровать, под тюфяком и под подушкой без церемонии пошарил рукой и решил про себя, что дело, мол, неспроста. «Надо приглядывать почаще, чтоб чего еще не скуролесила над собою, а то ведь своей спиной отдуваться придется, коли эдак, за нее да взбучку зададут». И, приняв таковое решение, солдат удалился из нумера.
Час спустя коридорная деятельность полицейских угомонилась. Все затихло, не слыхать ни говору, ни шагов — удобная минута наступила.
Арестантка внимательно стала оглядывать комнату — нигде нет подходящего крючка или гвоздя; в окне только выдается головка железной задвижки; окно высоко — в рост человеческий — не достанешь; но та беда, что как раз против дверной форточки приходится. Не смущаясь этим, она затянула петлю, вскочила на стол уже закреплять у оконной задвижки свободный конец своей веревки, как вдруг дверь быстро распахнулась и полицейский приставник ухватил ее за руку.
— Еге-ге, барынька!.. Дело-то не тово… Зачем на стол влезла?.. Что это в руках?.. Петля?.. Э-э, вон оно что!.. Гусенок! А Гусенок! Подь-ка, позови их благородие, дежурного, скажи, мол: приключение!
Подчасок побежал за дежурным, но в конце коридора остановился и вытянулся в струнку: дежурный самолично входил сюда вместе с другим, «партикулярным» человеком.
— Приключение, ваше благородие!
— Какое?
— Не могу знать, ваше благородие!
— Куда ж ты бежал?
— Доложить вашему благородию, что, мол, так и так — приключение.
Поравнявшись с полурастворенной дверью Бероевой, дежурный указал на нее своему спутнику:
— Здесь.
— Ваше благородие! Пожалуйте сюда поскорее! Отойти никак не могу: приключение! — в свою очередь кричал дежурному приставник изнутри нумера.
Бероева уже стояла на полу, когда в дверях остановились два посетителя. Солдат, не отпуская, держал ее за руку, на том основании, что «не ровен час, затылком, а либо лбом об стену с неудачи хватится, потому примеры-то бывали». Арестантка же, словно бы не понимая, что около нее творится, стояла, глубоко потупив глаза и опустив голову: две неудачи еще упорнее разожгли теперь ее мономаническое искание смерти.
— Что здесь? — лаконически спросил, войдя в нумер, дежурный.
Приставник еще лаконичнее, молча, указал ему пальцем на окно, с которого спускалась приготовленная петля.
— Вас желает видеть… супруг ваш… сегодня приехал только, — наклонился к Бероевой дежурный.
Та подняла глаза и отступила в величайшем изумлении. Она не чувствовала в себе смелости ни броситься к нему на шею, как бы сделала это прежде, ни даже сказать ему что-либо и потому, как будто подсудимая в ожидании решения своей судьбы, снова стала перед ним, потупив взор и опустив голову.
Дежурный вышел из комнаты и мигнул за собою приставнику.
— Притвори-ка дверь да стань у форточки, пусть их одни поговорят там, — распорядился он в коридоре.
Бероев, оставшись с глазу на глаз с женою, подошел к ней, кротко взял за руку, поднял ее голову и тихо поцеловал беззвучным, долгим и любящим поцелуем.
Это движение сделало в ней переворот и мгновенно вызвало к жизни все существо ее: она не одна теперь, она не потеряла еще любви человека, которому раз навсегда отдала свою душу, и, зарыдав, с невыразимым, но тихим стоном опустила на грудь к нему свою горемычную голову.
Прошла минута какого-то жгуче-радостного и жгуче-тоскливого забытья.
Наконец она нервно и словно бы испуганно отшатнулась и спешно отвела от себя его руки.
— Нет, стой… отойди, не прикасайся ко мне! — заговорила она через силу, глухим, рыдающим голосом: ей было больно, тяжело отталкивать от себя любимого человека, тяжело расстаться с этим тоскливо-радостным забытьем на его груди, однако она пересилила себя: — Не прикасайся… Скажи мне прежде, ты веришь в меня? — говорила она, ожидая и боясь его ответа. Этим ответом порешалось ее нравственное быть или не быть — судьба ее нравственного и даже физического существования: коль верит, так не страшна дальнейшая судьба, какова б она ни была, не верит — смерть, и смерть как можно скорее.
— К чему этот вопрос? Ведь я с тобою, ведь я люблю тебя! — сказал Бероев, снова простирая к ней свои руки.
— Нет! Это не то. Мне не того от тебя надо! — снова отшатнулась она. — Мало ли что любят на свете!.. Любят, так и прощают, а меня прощать не в чем. Ты мне скажи одно: веруешь ли ты в меня, как прежде веровал, или нет?
— Да! — открыто и честно подтвердил Бероев.
— Спасибо… спасибо тебе! — тихо вымолвила она, сжимая его руку, и снова бросилась на шею, как за минуту перед тем, и долго и сильно рыдала. Но это уже было благодатное, спасительное рыдание, в котором разрешалась вся черствая засуха безнадежного отчаяния, накопившегося в груди этой женщины. — Ну, теперь слушай! — проговорила она с тяжело вырвавшимся судорожным вздохом, после того как успела вволю наплакаться.
— Я знаю, я уже все знаю! — прервал ее Бероев. — Мне все уже рассказал следователь и показал все дело.
— Это еще не все. Ты знаешь дело, да души-то моей не знаешь пока, перестрадала да передумала-то я сколько — вот чего ты не знаешь!.. Да, боже мой, как и рассказать-то все это! — говорила она, хватаясь за голову, словно бы для того, чтобы собрать и удержать свои мысли. — Я и сама хорошенько не понимаю, как оно случилось, и не знаю, как и что это они сделали тогда со мною!.. Но… вот видишь ли, — продолжала она, кротко и ласково, с бесконечной любовью смотря в его глаза, — теперь вот, после того, как ты сказал, что веруешь в меня по-прежнему, — я виновата перед тобою… Прости меня!.. Я виновата тем, что скрыла от тебя, что раньше не сказала, тогда бы ничего этого не было… Я усомнилась в твоей вере… Прости меня!
И она, с новыми слезами, покрыла его руки долгими, любящими поцелуями.
— Зачем ты скрыла от меня? — тихо, но без укора и любовно прошептал Бероев, склоняя к ее щеке свою голову.
Арестантка горько усмехнулась; но эта горечь относилась у нее не к вопросу мужа, а единственно лишь к самой себе: это был укор, который внутренне она делала себе за свои прежние сомнения и недоверие.
— Боялась, — ответила она вслед за своей горькой улыбкой, — и за себя, и за ребенка, и за счастье наше, за веру твою боялась. Прости, но… что ж с этим делать теперь? Выслушай меня!
И Бероева слезами и любовью вылила перед ним всю свою душу, все те сомнения и страхи, которые со времени беременности и до последних дней неотступно терзали ее; рассказала все дело, насколько она помнила и понимала его, — и перед Бероевым со всею осязательностью внутреннего, глубокого убеждения встала теперь ее безусловная чистота, неповинность и то эгоистическое, но высокое чувство любви, которое побудило ее скрыть от него всю эту историю и ее последствия.
— И вот — видишь ли, до чего было довело меня все это! — закончила она, указав на висевшую на стене и не сорванную еще петлю.
Бероев при виде этой петли ясно почувствовал, как от внутреннего ужаса холодом мураши у него по спине побежали.
— Пять минут позже — и всему бы конец! — смутно прошептал он, под тем же впечатлением и даже со страхом каким-то покосясь на стену.
— Но теперь уже этого не будет! — с верой и увлечением глубокой любви прервала его арестантка. — Оправдают ли они меня или не оправдают — мне все-таки легче будет, чем до этой минуты. В Сибирь… Что ж, и в Сибирь пойду, лишь бы ты да дети со мною! Там уж, даст бог, одни мы будем, там, может, губить некому будет! Хуже, чем тут, ведь уж едва ли где можно, а мне и здесь теперь ничего, я и с этим вот помирилась… Ты, мой милый, добрый, ты теперь со мною — больше мне нечего бояться!
Когда в обыкновенной тюремной «мышеловке» арестантку привезли с Конной площади обратно в тюрьму, она была уже очень слаба и едва-едва лишь на ногах держалась.
Минуты, пережитые ею в последнее утро, казалось, совокупили в себе все те страдания, которые перенесла она со времени первой катастрофы до того мгновения, пока дверца фургона не скрыла ее наконец от тысячи глаз любопытной толпы. Но ко всему, что в течение долгого времени накопилось в груди этой женщины, путешествие на Конную площадь надбавило теперь последнюю гирю, которую уже не в состоянии был выдержать организм ее. Нервическое потрясение оказалось столь велико, что из тюремной конторы Бероеву прямо отправили в лазарет, который для женщин помещается в верхнем этаже их «дядиной дачи».
Вскоре у нее начался значительный упадок сил и с каждым часом все шел прогрессивнее. Сознание, впрочем, ни на минуту не покидало больную — рассудок ее был совершенно ясен.
Пришел доктор, пощупал пульс и весьма сомнительно покачал головою.
— Ну, что?.. Как? — спросила его тут же у постели лазаретная надзирательница.
— Да что… Очень плохо.
Бероева открыла глаза и жадно старалась ловить полушепот этих людей.
— Но все-таки есть надежда? — спросила надзирательница.
— Мм… нда, пожалуй… однако очень мало.
— Вы полагаете, стало быть, что умрет?
— Нда… мне кажется, не вынесет… Упадок сил чересчур уж велик.
— Да и как быстро наступил-то он!.. И все сильнее, все сильнее ведь!
— Это-то и скверно.
— Что ж тут делать теперь!
— Ну, пропишем что-нибудь… посмотрим… может быть… только едва ли…
Бероева слышала кое-что из этого разговора — об остальном она догадалась, и сердце ее сжалось тоской и холодом. Смерть… она не думала, чтобы смерть была так близка… она не чувствовала и не ждала ее. Смерть! — и эта мысль испугала больную.
Мысли ее стали мешаться, путаться, в ушах зазвенел какой-то смутный шум, глаза смыкаются невольно, как бы под обаянием неодолимой дремоты, и наконец наступает какое-то сладкое, дурманящее забытье.
Сын Эскулапа, для успокоения совести, прописал какое-то снадобье, с которым часа полтора спустя сиделка подошла к постели Бероевой и растолкала спящую.
Та с усилием открыла глаза. Пробуждение от этого сна показалось ей тяжким и сопровождалось тем нудящим ощущением тошноты, которое подымается в груди перед обмороком, а иногда в первые мгновения после него.
— Лекарство прими, — предложила сиделка-арестантка.
— Не надо… — слабо проговорила больная, которую от этого чувства дурноты еще более клонило ко сну: организм просил полного успокоения.
— Да все-таки прими, моя милая, ведь дохтур приказал, — убеждала сиделка, продолжая тревожить ее расталкиванием.
— После… — чуть слышно ответила Бероева.
— Да как же так?.. Я, право, не знаю… я надзирательнице кликну — пущай она сама, как знает.
— Оставь, Христа ради… дайте мне покой.
— Да ведь приказано!
Встретя столь настойчивое сопротивление, Бероева нервно, хотя весьма слабо, заметалась на своей койке. Это требование только сильнее раздражало ее, произведя конвульсивно-лихорадочные содрогания во всем теле.
— Бога в тебе нет, что ли! — укоризненно накинулись на сиделку несколько больных арестанток. — Не видишь разве! Все равно помрет… Оставь ты ее, не мучь напоследок — уж и без того ей вдосталь пришлось сегодня… совсем помирает ведь.
Общая укоризна подействовала: сиделка, поставив склянку на стол, отошла от постели.
Но зловеще в ушах Бероевой раздались слова арестанток:
— Все равно помрет… совсем помирает.
Ужасная мысль о близости смерти снова мелькнула в ее уме пугающим призраком, и на этот раз больная решилась собрать все скудные силы, какими владела в эту минуту.
— Мавру Кузьминишну… голубушка, Мавру Кузьминишну, — слабо пролепетала она, обратив молящий взор к своей лазаретной соседке, лежавшей на рядом стоящей койке. — Бога ради, Мавру Кузьминишну! — умоляющим стоном повторила она.
И через несколько минут надзирательница уже держала ее холодеющие руки.
— Мавра Кузьминишна… тут у меня в ладонке, на шее… вы знаете… вместе с крестом старинный рубль зашит… старинный рубль… от дочери… Снимите с меня…
Старушка исполнила ее желание, и Бероева слабою рукою поднесла к губам свою заветную память. На глазах ее появились слезы.
— Бедные мои дети! — горько прошептала она, продолжительно прильнув к этой ладонке. — Не увижу больше…
Мавра Кузьминишна и больная соседка поддерживали слегка ее голову. Остальные внимательно и в каком-то благоговейном молчании следили со своих кроватей за этою грустною сценою.
— Я умру, говорят они… Нет… Боже мой, нет!.. Неужели… Смерть… Но… если я умру, — продолжала больная, в борьбе с этой мыслью тихо взяв руку надзирательницы, — напишите к родным — вы знаете куда… Жив ли он и что с ним?.. Если он жив — муж мой, — пускай ему скажут, что я и в последнюю минуту о нем да о детях несчастных поминала… Он любит нас… А тем, врагам нашим… бог с ними! Я прощаю им… Пусть и он простит…
И новые слезы полились из глаз умирающей.
— Теперь — моя последняя просьба… последнее желание… бога ради, сделайте это… Для умирающего человека можно, — продолжала она, подняв на старушку молящие взоры. — Это каприз, но… в нем теперь все, что осталось мне дорого от прошлого… Этот рубль — подарок дочери моей, я не хочу с ним расстаться… Умоляю вас! Не откажите моей последней воле!.. Положите его со мною в гроб… Вы сделаете это. Дайте мне слово!..
Мавра Кузьминишна пообещалась, и на лице умирающей, словно тихая тень весеннего облака, легла светлая, довольная улыбка.
— Благодарю вас… — прошептала она, — благодарю… Теперь я умру спокойнее… Не отходите от меня… Будьте хоть вы со мною — все же легче как-то: не одна хоть буду в последнюю минуту… Сядьте здесь… поближе…
Старушка села подлее нее и все держала ее руки так нежно и любовно, как могла бы разве одна только мать держать своего умирающего ребенка.
Но зато после стольких усилий, после минутного напряжения стольких нравственных и физических способностей, которыми сопровождалась эта сцена, организм Бероевой совсем уже истощился, и начался окончательный упадок сил…
Она слабо дышала, лежа навзничь на своей постели. Глаза были закрыты, пульс едва уже бился, и рука, сжимавшая у груди заветную ладонку, холодела все более. Через полчаса это состояние почти незаметно перешло в какой-то окоченелый сон, так что ни пульса, ни дыхания уже не было слышно.
Слабее, слабее становится тело — с каждой секундой силы угасают все больше. За минуту Бероева могла еще двинуть по своей воле рукой или пальцем, теперь ей уже трудно сделать это: она не может даже шелохнуть ни единым суставом, да ей и не хочется, она чувствует, что ей было бы болезненно-трудно шевельнуть чем-нибудь. Как хорошо лежать ей теперь неподвижно в этом расслабляющем оцепенении! Словно бы великая лень разлилась по всему телу, по всем суставам и жилам и держит ее под своим обаянием. «Ах, кабы не будили! Ах, кабы они оставили меня!» — смутно промелькнуло в голове Бероевой, так смутно, как иногда в ярко-солнечный день мелькнет на прибрежном чистом песке тень от крыла пролетевшей птицы. Но ее не будят, она как будто чувствует, что руку ее держит чья-то другая, дружелюбная рука — это была рука Мавры Кузьминишны, — ее не будят, и она довольна, она рада этому: ей так хорошо лежать в этом забытьи, сковывающем тело.
Глаза смыкаются все больше и больше, и, пока они совсем еще не сомкнулись, Бероева, будто сквозь голубоватый туман, почти бессознательно и бледно различает около себя какие-то фигуры — не то это люди, не то деревья. Фигуры эти мелькают и рябят перед ее глазами, как рябят иногда печатные строчки у человека, засыпающего над книгой.
Но вот голубоватый свет тумана перешел в какой-то мглисто-серый, и фигуры исчезли…
Вместо них появляются новые ощущения.
Тяжко-сладкая дремота долит и долит все сильнее, и уже нет того сознания, которое за минуту еще мелькало в ее уме, выражаясь желанием, чтобы ее оставили в этом покое и не будили больше. Теперь уже нет никакого сознания окружающей действительности, потому что на месте его появилось сознание каких-то призрачных грез и ощущений.
В ушах раздается неопределенный шум. Какой это шум? Не то тысячи колоколов гудят во тьме… Кремль и московские соборы в полночь, во время христовой заутрени… гудят и звонят все сильнее, все ближе — гул и звон со всех сторон охватывают Бероеву. Боже мой, какой это ужасный, какой нестерпимый звон!.. А в глазах, в глазах-то что за дивный свет ударяет в них сверху! Это яркое солнце ослепительно, нестерпимо режет глаза своим колючим блеском. Целые снопы золотых, бриллиантовых лучей отовсюду, мириадами кидаются в глаза, и жгут, и слепят их собою.
Не то звуки плохого, расстроенного фортепиано раздаются в ушах — словно по клавишам без толку и смыслу ударяет чья-то неверная, детская рука, не то грохот барабанов раздается, шум и крики толпы; а в глазах колесами ходят и сплетаются между собою, будто в дивной фантасмагории, какие-то огненные круги, играющие всеми цветами радуги, и эти круги являются в разных размерах — большие и малые, а между ними, на темном фоне, дождем падают, сыплются, и скачут, и прыгают, и вьются, и кружатся мириады светлых точек, бриллиантовых искорок, снежинок. Радуги налетают на нее со всех сторон, с непостижимой быстротою сливаются вокруг ее тела, опоясывают ее сверкающим обручем — и она лежит вся в огне, вся в блеске и треске, под нескончаемым дождем светлых искорок, в нескончаемом шуме и звоне каких-то странных голосов, каких-то диких инструментов.
Но вот стихают этот блеск и шум, становясь все глуше и глуше… Теперь уже будто не барабаны, не колокола и не голоса толпы, а словно бы шум и кипение бесконечного моря. И это не море, а целый океан шипит, волнуется и клубится. Холодно. Плеск волн все тише и слабее — будто она, заснувшая, медленно и плавно опускается на дно морское. Тусклый свет едва-едва проникает своими слабыми, преломляющимися лучами сквозь холодные массы воды, — и это именно подводный свет, с зеленоватым отливом… Большие, безобразные рыбы медленно двигаются в безднах океана, тихо раскрывая и смыкая свои страшные пасти, машут плавательными перьями и смотрят на утонувшую своими холодно-стеклянными, неподвижными глазами. Она опускается все глубже и глубже, и чем глубже, тем все холоднее становится ей. И вот этот водяной холод равномерно разливается по всем членам ее тела. Наконец она совсем уже опустилась на дно морское — навзничь, лежит недвижимо и не чувствует больше холода; здесь уже нет ей ни холода, ни теплоты, а есть только одно оцепенение. Рыбы тоже исчезли, и тусклый зеленовато-подводный свет улетучился кверху.
Наступили мрак и тишина — полнейшая тишина и мертвенное спокойствие. Прошло несколько долгих минут среди такого ничем не возмущенного состояния.
— Кажись, умерла, — вдруг послышался оцепеневшей Бероевой шепотливый голос Мавры Кузьминишны, и показалось ей, будто в этом голосе был легкий оттенок испуга.
— Надо быть, умерла, — шепотом же ответил голос больной соседки.
Несколько арестанток тихо, осторожною походкою, в своих серых халатах подошли к Бероевой и долго, с чувством немого благоговения, которое всегда бывает инстинктивно присуще человеку перед одром только что отошедшего брата, глядели в строго спокойное синевато-бледное лицо умершей.
— Умерла… — невольно промолвили некоторые из них, и это слово, точно так же как и полушепот Мавры Кузьминишны, достигло до слуха Бероевой.
«Умерла?.. Как — умерла?! Что это они говорят?» — мелькнуло в ее слабом сознании, которое вместе с наступившей тишиной и мраком мало-помалу начало снова возвращаться к ней. Но с возвратом внутреннего сознания к ней не воротилась способность проявить его внешними признаками: звуком, взглядом, движением. Физические силы совсем оставили это мертвенно-неподвижное тело.
«Что это вы говорите?! Я жива! Жива! Поглядите — вот!»
Бероевой в ее исключительном положении показалось, будто она не только произнесла, но даже громко выкрикнула эти слова, и ей хотелось, всеми силами своего слабого сознания хотелось выкрикнуть их громче, чтобы разуверить окружающих в своей мнимой смерти. Но странно: окружающие как будто и не слыхали ее слов: они продолжали относиться к ней как к мертвой.
— Надо бы позвать надзирательницу да доктора — пущай поглядят, — вполголоса предложила сиделка и на цыпочках вышла из комнаты.
«Ну, вот! Слава богу! Доктор придет… Он увидит, он разуверит их», — прокрался у Бероевой луч надежды.
Пришел доктор, взглянул на застывшую женщину, приподнял ей большим пальцем зрачок и в тусклый глаз заглянул, затем пощупал пульс и кивнул головой: готово, мол!
— Умерла? — спросила его Мавра Кузьминишна.
— Конечно. Разве вы не видите?
«Да нет же! нет!.. Я жива!.. Я слышу!..» — силилась закричать Бероева, и снова показалось ей, будто она действительно крикнула. Но нет, не слышат… Хочет она хоть чем-нибудь подать знак им о присутствии в ней жизни, хочет приподнять опущенные веки — и не может поднять их; силится шевельнуть пальцем — безжизненные мускулы не поддаются невероятно-упорным усилиям ее воли, а между тем она все ясней начинает слышать движение окружающей ее жизни, даже отдельные людские голоса различает, сознавая, когда и что говорит доктор и когда Мавра Кузьминишна.
При этом в ней поднялось то смутное невыносимо-тяжкое чувство, которое наплывает на грудь и голову человека во время сонного кошмара.
«Да это сон, это кошмар, — думает Бероева, — он сейчас кончится, только сразу никак не могу проснуться… этого ничего нет, это все только снится мне».
Но кошмар не проходит, и, несмотря на все усилия воли, проснуться она не может.
— Накройте ее и уберите койку да в контору дайте знать о смерти, — распорядился доктор, удаляясь из комнаты, ибо засим ему уже нечего было делать в лазарете.
— Как быть-то? Ведь по закону, кажись, нельзя класть к покойнику в гроб драгоценные вещи? — с озабоченной сомнительностью обратилась старушка к бывшей соседке Бероевой.
Мнимоумершая расслышала и эти последние слова. «Неужели она не положит? Неужели не исполнит моей просьбы?»
— Так что ж, это ведь не бральянт какой, а просто-напросто старая деньга — чай, сами слышали! — подумавши, возразила арестантка. — Опять же последняя воля — просила-то ведь как!.. Слезно просила!.. Ведь грех не сделать-то!
— То-то что грех, — со вздохом согласилась Мавра Кузьминишна. — Это на совести будет… Боюсь только, от начальства чего бы не вышло, если узнают… Ну да уж что об этом думать, коли по христианству должно исполнить! — махнула она рукою. — Последняя воля — великое дело.
Бероева во внутреннем сознании своем просветлела от последних слов старушки.
Если бы воля ее повиновалась ей, то на лице ее отразилась бы улыбка самой искренней, самой теплой благодарности, но теперь лицо осталось мертво и безвыразительно.
И вскоре после этого Бероева хотя и чересчур слабо, однако ощутила-таки, как ее всю — от головы до ног — покрыли чистою простынею и как два солдата подняли ее вместе с койкой и понесли из больничной палаты.
Арестантка Катя Балыкова, та самая, которой Бероева иногда писала письма к ее Осипу Гречке, проведав теперь о смерти Юлии Николаевны, слезно обратился к Мавре Кузьминишне допустить ее обмыть покойницу. «Хоть этим-то отблагодарить за душевность ее!» — прибавила она в пояснение своего желания. Надзирательница согласилась и вместе с Катей сама обмыла, сама одела Бероеву и, разжав ее пальцы, вынула из руки ладонку и надела ей на шею, под смертную арестантскую рубаху[23].
После того тело, до следующего дня, вынесли в мертвецкую.
Близится ночь. Покойница лежит на столе в тюремной мертвецкой, покрытая все тою же чистою простынею. Перед образом мерцает лампада, в головах у нее восковая свечка теплится и кидает на стену поперечную тень от лежащей женщины. Эта тень рисует неправильный профиль головы, бугорок в том месте, где на груди сложены руки, и острый, выдающийся угол пальцев ног под простынею.
Тихо. Только сверчок уныло и робко цвирикает под половицей да изредка треснет нагорелая светильня восковой свечки — и монотонно-глухо раздается внятный голос читальщика Китаренко, который «ради спасения души» выпросился почитать псалтырь над покойницей.
«Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас», — смутно звучит в ушах Бероевой, и в мозгу ее копошится новая тень мысли: «Над кем это читают?.. Надо мной читают?.. Да, надо мной читают!»
«Со святыми упокой, Христе, душу новопреставившейся рабы твоея Юли, — продолжает меж тем монотонно тягучий голос псаломщика, — иде же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная».
«…Но жизнь бесконечная… Я умерла, — шевельнулась новая мысль в сознании Бероевой. — Смерть… А, так вот она — смерть!.. Я не вижу, не двигаюсь, но я слышу… Умерло тело, душа жива… «Но жизнь бесконечная…» Сознание, значит, останется: оно — жизнь бесконечная. Страшно. Но это теперь, пока я на земле, пока меня люди окружают, а дальше-то что же?»
«Земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси создавый мя и рекий ми: яко земля еси и в землю отыдеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще: песнь аллилуйя».
«Но дальше, что же дальше-то будет? — неотвязно замелькала перед мнимоумершей все та же пытливая, ужасающая мысль. — Теперь я слышу жизнь, а когда закопают в могилу — там уже нечего будет слышать… Какие звуки там, под землею?.. Сознание осталось… А когда тело сгниет и кости истлеют? Тогда же что?»
«Чудны дела твоя, и душа моя знает зело. Не утаися кость моя от тебе, юже сотворил еси в тайне», — звучит голос читальщика; а ночь меж тем растет и расстилается над неугомонным городом.
Порою будто туман непроницаемо заложит голову Бероевой, и одолевает ее какое-то обморочное, мертвенное состояние, слух притупится, и мысль застынет; но потом опять начинают раздаваться в ушах какие-то неясные звуки, которых нельзя еще различить; однако из этих самых звуков через несколько времени начинают выделяться слова, из слов целые фразы читаемой псалтыри, и смутное сознание снова пробуждается, и ясно вырастает в нем роковой вопрос: «Что же дальше будет?» — пока и мысль и слух опять не погаснут в новом наплыве каких-то призрачных грез, тающих под конец в этом обморочном, всепоглощающем тумане.
Было время, когда Петербург боялся холеры. То были дни всеобщего уныния и скорби. По всем улицам города то и дело тянулись черные, погребальные дроги, дымились факелы, мелькали траурные ризы духовенства при «богатых» похоронах, при бедных же ничего не мелькало и не дымилось, потому что из всех городских больниц два раза в день, рано утром и перед вечером, отправлялись ломовые телеги, нагруженные, словно перевозной мебелью, простыми тесовыми гробами. Народ в ужасе метался по улицам, подозревал измену, громко говорил об отравах, останавливал экипажи докторов, в которых, без исключения, подозревал «жидов» и немцев, с яростью кидался на злосчастных сынов Эскулапа, так что «блюстительница общественного спокойствия» ровно ничего не могла поделать, и все это разразилось наконец волнением, известным под именем «бунта на Сенной», где перед церковью Спаса раздалось тогда знаменитое «На колени!» императора Николая. Холера была новой гостьей, которую народ считал почти что чумою, если не хуже. Боялись хоронить холерных на общих городских кладбищах, и потому за городской чертой, в уединенной и пустынной местности, между двух триумфальных арок — Московской и Нарвской — назвали новое кладбище «холерным».
Это было в 1830 году.
Ровная низменная местность, с петербургски-болотистой почвой, и без того представляла вид, наводящий скуку и уныние, а с тех пор, как по ней замелькали низенькие белые кресты, стала еще угрюмее. «Нива смерти» приумножалась с каждым днем; и с тех пор все растет непрестанно, утучняемая петербургскими тифами, чахотками, возвратной горячкой и тысячью иных эпидемий, которые составляют существенное свойство климата.
В 1830 году на месте холерного кладбища не было ни церкви, ни даже часовни, а просто стоял высокий деревянный крест. Перед этим крестом ставили на землю длинные ряды гробов, священник наскоро отпевал заупокойную литию, и вслед за тем носильщики торопливо разносили своих вечных гостей по глубоким мокрым ямам, зарывая их чаще всего в одну общую пространную могилу.
Жила в то время в Петербурге одна женщина, по имени Хаврония, крепостная шереметевская крестьянка села Павлова. Этой женщине пустынная местность обязана существованием самого кладбища и постройкой при нем бедной деревянной церкви. С неутомимой деятельностию и энергиею ходила она по разным присутственным местам, кланялась, просила, подавала бумаги и наконец выхлопотала дозволение причислить отверженное «холерное» к числу прочих городских кладбищ и право построить там церковь, которая сооружалась на счет доброхотных подаяний, собранных ею по городу. Хаврония похоронена на этом же кладбище, но где? — с точностью неизвестно: кладбищенские старожилы говорят, не то около церкви где-то, а не то и в самой церкви, кажися; но нигде не видать надписи с именем основательницы, которая говорила бы о ее посильной услуге кладбищу, да и самая-то память о ней с каждым годом утрачивается все больше.
Теперь уже кладбище называется не холерным, а Митрофаниевским; недалеко от убогой желтой деревянной церкви возвышается новая — каменная, златоверхая, где обыкновенно отпевают «парадных» покойников, а вокруг нее возвышаются мавзолеи, которые гласят мимоходящим любителям эпитафий о рангах, доблестях и заслугах отечеству разных здесь лежащих богатых мертвецов. О тех же, кои не отличались ни рангами, ни достатком, мавзолей ничего не говорит по той простой причине, что мавзолеев над ними не полагается: даже не всегда и желтый либо белый крест указывает убогую могилу, большая часть которых тесно стелется по земле, друг подле друга, чуть приметными бугорочками. И все ж таки Митрофаниевское кладбище представляет довольно оригинальный вид, особенно в ясный солнечный день. Если вам случалось проноситься мимо него с той или с другой стороны в вагоне Варшавской либо Петергофской железной дороги, вы не могли не заметить, что это плоское обширное поле кажется каким-то пестрым, необыкновенным лугом: белый, желтый, красный, синий, зеленый цвета во всевозможных сочетаниях так и мелькают вам в глаза своей рябящей пестротой — до такой степени усеяно поле это надгробными крестами. Вдали виднеется роща, над рощей — золоченые купола; но здесь, на этой пестрой плоскости, хоть бы одно свежее тенистое деревцо́ приютилось! Зато самое кладбище тем более выигрывает во внешнем сходстве своем с весенним клеверным лугом. Каждый год почти к весне отрезывают новое пространство земли под могилы, и каждый год почти, к следующей весне, оно уже является обильно засеянным буграми и крестиками.
Митрофаниевское кладбище — по преимуществу кладбище демократическое: тут хоронится петербургский пролетарий, тут же указано место и преступнику, и тюремному арестанту.
На другой день после побега двух арестантов, часу в первом дня, по дороге, ведущей к Митрофаниевскому кладбищу, плелась ленивым шагом ломовая кляча в телеге с тремя седоками. Первый седок, конечно, был ломовой извозчик, который лениво потягивал махорку из носогрейки и еще ленивее постегивал изредка свою лошаденку; второй седок не составлял собственно седока, а только поклажу: это был простой сосновый гроб, слегка мазнутый водяной охрой и привязанный веревкою к телеге; в гробу лежало тело Бероевой, а на крышке его помещался третий седок — тюремный инвалид с казенной книгой под мышкой.
— Они! — шепнул Гречка[24], осторожно толкнув под бок Фомушку, когда ломовик поравнялся с первым питейным заведением, что стоит на кладбищенской дороге.
Неторопливо расплатись у стойки, приятели направились к кладбищу, издали следя за этим нехитрым погребальным поездом.
— Ты, брат Фома, как привезут ее — пойди в притвор да гляди, куда поставят, — распорядился Гречка, — а мне оно не тово… — неровно признает селитра[25], так уж для меня посуще будет меж могилками побродить пока.
— Что поздно приволокли? — отнесся к приехавшим могильщик, который калякал со сторожем, закусывая печенкой, у съестной лавочки, обвешанной мховыми венками и крестиками.
— Чего — «поздно»? Как, значитца, отпустили, так и приволокли. Не рысью же скакать к вам! — огрызнулся инвалид, слезая с гроба.
— Все же ко времени надо, чтобы покойник за обедню поспевал.
— И опосля вечерень похороните, ништо!
— Знаем сами, что опосля, да все же это непорядок: теперь надо для его отдельную яму копать, денег-то нам за таких покойников не платят.
— Врешь, пес! От казны тридцать копеек полагается.
— Тридцать копеек… Велики деньги! Да еще лается!.. Тащи его, что ли, в притвор-то — пущай погреется.
— И здесь не холодно.
— А не холодно, так там в тени постоит, у нас чего хочешь, того и просишь, — ихнему брату всяко удоблетворение есть. А кто покойник-то: мужик аль баба?
— Арестантка.
— Это, впрочем, что мужик, что баба — все одно покойник… А когда померла-то?
— Вчерася днем.
— Ну, вот опять-таки не по времени! Больно уж рано привезли! Трех суток еще нет ей.
— Пущай у вас постоит, а нам не держать же у себя-то.
— А нам нечто держать-стать?! Их тут и без того иной раз не знаешь, куда и поставить, — как куличей об христовой заутрене…
— Ну, да что ж толковать! Мертвый — все равно не живой ведь! — порешил инвалид. — Коли помер, значит, не встанет, днем ли раньше аль позже — все едино, в ту же землю закопать придется.
И гроб внесли в притвор деревянной церкви, который примыкает к ней стеклянной галереей. Поставили на скамейку и заперли до вечерней. Инвалид получил из кладбищенской конторы расписку в приеме тела арестантки Юлии Николаевой Бероевой и поскакал с ломовиком в попутное «заведение».
В шестом часу, после вечерен, священник отчитал литию, и двое могильщиков понесли на плечах гроб Бероевой на самый конец кладбища, в последний «разряд», где обыкновенно хоронится в общих могилах тот люд, за который не полагается особенной платы. В этом последнем разряде реже, чем в прочих, торчат намогильные кресты, зато ряды бугорков несравненно чаще. Тут лежат бобыли, умершие в больницах, нищие, арестанты и люди неизвестного имени и звания, подобранные полицией на улице, после скоропостижной смерти. «Больше все потрошеный народ, — говорят про них могильщики, намекая этим на медицинское вскрытие. — Дружный народ: вместе их заодно отпевают, вместе в одну яму и кладут — помяни, мол, господи, рабов твоих, имя же их там веси!»
Недалеко от кладбищенского забора была вырыта свежая и весьма неглубокая яма, на дно которой успела уже просочиться болотная вода. Когда гроб опустили и на крышку глухо и грузно бухнулась первая глыба сырой земли, за которой враздробь посыпались и застучали об дерево комья, мозг Бероевой пронизался подобием того ощущения, которое у живого человека называется страхом. Ей снова захотелось крикнуть, чтобы не зарывали ее, чтобы вечно оставили ее на земле, а не под нею, чтобы открыли крышку гроба; но глинистые глыбы и комья быстро валят одни за другими, удары их слышатся все глуше, потому что земля рухает уже на землю, а не на дерево гробовой крышки; но пока был слышен хоть кое-какой звук ее падения, Бероева все еще напрягала свой слух, жадно силясь доловить эти последние намеки надземной, живой жизни, сознавая, что каждая новая глыба могильной насыпи все больше и больше отделяет ее от этого покинутого мира. И когда земля перестала наконец падать в яму, зарытую женщину обуял наплыв новых грез и ощущений, вызванных, быть может, все тем же роковым вопросом: ну, что же, мол, теперь-то будет, когда все уже кончено?
И грезится ей, будто она давно уже лежит в этой могиле, будто несколько дней, несколько недель, несколько месяцев прошло с тех пор, как ее зарыли, и лежит она себе, и слышит, как могильный червь непрестанно точит гробовые доски; как земляная мышь прогрызла в крышке маленькую норку и побежала по ее телу да в кожаный башмак засела и грызет подошву, желая полакомиться гнилою юфтою, как пауки по ее лицу — от бровей к губам и от губ к волосам — густые нити паутины заткали; как, наконец, корни каких-то трав и растений поросли сквозь щели гроба и мало-помалу опутывают ее своими усцами, впиваются в тело, заползают в уши, в ноздри, в рот… наконец, врастают во все это тело и втягивают в себя его питательные соки.
Но снова миновался кошмар, и снова наступает проблеск самого ужасного сознания. В щели гроба стала просачиваться понемногу болотная вода, которою было покрыто дно могилы, и охватила уже своею холодною сыростью спину мнимоумершей. Это уже были не грезы, а действительность. Когда же наконец сознание погребенной получило большую степень ясности, какую только может допустить это исключительное физическое состояние, Бероевой явилась самая ужасная мысль: «А что, если это не смерть, если я заживо похоронена?» На земле она считала себя мертвою, но под землею, когда слух ее не возмущали уже никакие звуки жизни, а сознание меж тем все-таки проявлялось, ей пришла в голову почти полная уверенность, что она жива, что это не более как летаргия. Бероева почувствовала весь ужас трагической мысли, что, быть может, ее скоро ждет пробуждение здесь, под землею, что она проснется, станет кричать о помощи, колотиться головой, руками и ногами в тесную крышку гроба — и на земле никто, никто не услышит и никогда не узнает про это. А быть может, ей суждено будет прожить таким образом не несколько мгновений, но несколько минут, прежде чем задохнуться от недостатка воздуха. О, если б можно было не просыпаться более, если б летаргия прямо перешла в настоящую смерть! А если уже суждено проснуться, то — господи! — пусть это пробуждение придет как можно позднее, пусть дольше и дольше длится летаргический сон! Инстинкт жизни под землею преобладал более даже, чем на земле. И от этой нечеловечески-ужасной мысли для погребенной снова наступил переход в обморочную бессознательность.
Могильщики опускали и закапывали гроб, а в это самое время издали следили за ними два человека, которые, будто прогуливаясь, разбирали намогильные надписи.
Когда же, окончив свою работу, могильщики удалились, два человека, не изменяя своего фланерского вида, подошли к только что засыпанной могиле и в головах воткнули высохший сук, на одной ветви которого моталась привязанная тряпочка.
— Место хорошее, удобное… — тихо проговорил Гречка, вглядываясь в соседние кресты, чтобы получше заметить, где именно находится свежая могила, и внимательно озирая всю окружающую местность.
— Хорошо-то оно хорошо: тихо, далеко, сторожа, поди, чай, и не заглядывают сюда, — отозвался блаженный, — да одно только неладно: забор этот больно высок… Откуда перебираться станем? Подумай-ко!
— Погоди, погляжу получше — может, и отыщем подходяще…
Невдалеке от этого места перерезывала кладбище неглубокая канавка, вдоль по которой, в направлении к забору, тихо направились теперь двое товарищей.
— Эге-ге! Вот оно самое и есть! — самодовольно воскликнул Гречка, дойдя до самого забора, под которым канавка уходила за черту кладбища, в соседние огороды. В этом месте, между нижней линией забора и дном канавки, пространство, аршина в два ширины и около полутора высотою, было весьма слабо загорожено кое-как прилаженными досками.
— Тебя-то нам и надо! — ухмыльнулся Гречка. — Давнуть легонько плечом — оно и подастся. И в канаве-то сухо — лужицы совсем, брат, нету, — продолжал он, делая дальнейшую рекогносцировку.
— Это значит, что из воды сух выйдешь, знамение так показует, ты это так и понимай! — шутливо сообразил блаженный.
— По крайности не запачкаешься, — заметил Гречка.
— А мне это все единственно, что чисто, что нет, была бы душа моя чиста, а в теле чистоты не люблю.
— Стой-ка ты, чистота! — перебил его сотоварищ. — Гляди сюда, ведь по ту сторону забора Сладкоедушкины огороды выходят!
— Ой ли?.. Да и в самом деле так! Вот любо-то! — ударил Фомушка об полу своей хламиды. — Вот удача-то!.. И возрадовался дух мой — значит, сила вышнего споспешествует!
— Ну, уж ты от божества-то оставь — тут дело от луканьки пойдет, а ты с божеством некстати! — заметил ему Гречка.
— Главная причина в том, — продолжал Фомушка, — что ходить далеко не надо: прямо от Сладкоедушки и перелезем — чужие зеньки не заухлят[26].
— Да к ней теперича и пошагаем, — порешил Гречка, выходя на дорожку, ведущую извилинами через все кладбище до самой церкви. — Баба знакомая, и в приюте отказу не будет, а там у нее, значит, и схоронимся до урочной поры.
И Гречка с Фомушкой удалились с кладбища.
С дальней колокольни медленно потянулся в ночном воздухе тихий гул, по временам глухо относимый ветром в сторону, и эти удары колокола возвестили полночь.
Между грядками, украдучись, пробирались две человеческие тени, перерезывая огород в направлении к кладбищенскому забору.
— Забирай к канавке!.. к канавке норови!.. — шепотом говорил задний, указывая из-за плеча передовому, в какую сторону держать ему путь.
Перешагнув через несколько грядок, два спутника спустились на дно неглубокого рва и пошли вдоль него, стараясь как можно менее шлепать подошвами по вязковатой почве и не шурстеть в густой и высокой сорной траве. Этот путь привел их к забору, который пересекал канавку, уходившую из-под него на кладбище. Оба остановились. Фомушка хотел было уже сразу принапереть плечом, чтобы выдавить слабо прилаженную подзаборную загородку, но Гречка поспешно остановил его.
— Те… куды-то лешего? — с шепотом сдвинул он брови. — Погоди… сперва послушать надо, не чуть ли там человека…
И, выйдя из канавы, он лег ничком на землю и, в глубоком молчании приложив ухо к почве, стал слушать. Прошло минуты три.
— Ничего не чуть, кажися… шагов ничьих нету, — промолвил он, поднявшись на ноги, и снова, спустясь в ров, приставил ухо к одной из широких щелей дощатой загородки.
— Дай-кось эдак прислушаюсь… по земле не отдает, авось по ветру потянет.
— Да коего дьявола слушать еще?! — с неудовольствием шепнул нетерпеливый Фомушка.
— Голосу да шагов, значит… Ведь тут тоже могильщики чередуются — караулят: обход бывает, — пояснил Гречка, который в эту решительную минуту, в совершенную противоположность Фомушке, сделался вдруг необыкновенно сдержан, осмотрителен и осторожен, как будто вопреки своей старой и страстной мечте; но именно не что иное, как только страстная жажда осуществить вполне счастливо и без посторонней опасной помехи эту самую мечту заставила его теперь вести себя подобным образом: так игрок, ставя на последнюю карту последний рубль азартно проигранного состояния, осторожно ждет и выслеживает удачную талию.
— И по ветру не тянет… никого нет! — удостоверился наконец Гречка и осторожно, почти без звука стал медленно разбирать одна за другою дощечки канавочной загородки.
Вскоре проход, во всю ширину канавки и в полтора аршина вышины, был готов совершенно. Тихо, с лопатами в руках, переползли на кладбище двое сотоварищей и еще тише, еще осторожнее, почти ползком, пошли по дну, круто согнувшись корпусом вперед, из предосторожности, чтобы на поверхности земли сторожевой глаз не мог случайно подметить движение двух человеческих фигур.
Но это была почти излишняя предосторожность: сторожам нечего караулить последнего разряда — их бдительность сосредоточивается далеко от этих мест, направляясь к ближайшим окрестностям кладбищенской церкви, где действительно может найтись существенная нажива для мошенников, которые имеют иногда обыкновение сбивать и спиливать с монументов бронзовые кресты и доски — товар, принимаемый от них на фунты в иных железных и меднокотельных лавках.
В воздухе стояла одна из тех сыровато-теплых и совершенно черных ночей, которыми иногда отличается петербургский август, когда луна почти совсем не показывается на горизонте. Небо было заволокнуто сплошными облаками, и эти облака еще усиливали ту мглистую темноту, которая разливалась над землею. Понемногу теплый дождик начинал накрапывать медленными и редкими каплями. Все, по-видимому, благоприятствовало делу, задуманному Гречкой.
— Здесь… около энтого места, надо искать, — промолвил он, вылезая из канавы. — Тут вот, налево… девять шагов в эту сторону… Кажись, кругом точно те самые кресты видать… ну, так: вот этот высокенький — он, почитай, около самой могилы должон стоять, — шептал Гречка, стараясь острым и зорким взглядом различить замеченные ранее признаки местности, окружающей могилу Бероевой.
— Оно самое и есть, — подтвердил Фомушка, наткнувшись на предмет, служивший для них уже ближайшей приметой.
Это была старая могила, на которой вместо земляной насыпи стоял вместе с крестом покрашенный когда-то желтой краской деревянный ящик аршина в два с половиной длины и в полтора шириною. Подобного рода убогие мавзолеи, долженствующие, по-видимому, изображать собою высокие каменные гробницы с барельефами (кои суть принадлежность более богатых разрядов), встречаются довольно часто на петербургских кладбищах, и особенно в последних разрядах Митрофаниевского. Время сбросило погнившие доски, служившие крышкой тому скромному мавзолею, на который наткнулся теперь Фомушка, так что он и в самом деле представлялся открытым ящиком в аршин глубины, что, между прочим, при давешнем осмотре тоже не было упущено из виду обоими товарищами.
— Оно самое и есть! — повторил блаженный. — Теперича, значит, четыре шага влево и готово!
— Нашел!.. — откликнулся Гречка. — Вот она здесь!.. И хворостинка наша в головах не тронута… Постой-ка, брат, приметинку пощупаю… Ну, так!.. и приметинка вона мотается.
— Значит, верно! — заключил Фомушка. — Слава те, господи!
— Молчи, анафема! Ведь сказано: в эком деле не поминать его! — давнул его за руку суеверный Гречка. — Черти́ скорей лопатой круг около могилы: зачураться надо.
В шепоте, которым произносил он эти слова, было необыкновенно много той всепреклоняющей, повелительной энергии, которая вызывает безусловную покорность, и потому Фомушка, без рассуждений, тотчас же исполнил приказание Гречки.
— Чур меня!.. Чур меня! — шептал меж тем этот последний, оборачиваясь на все четыре стороны.
— Страшно, брат… — с легким содроганием сорвалось с языка Фомушки.
Тот покосился на него со злобою и только презрительно хикнул.
— Копай вот тут, рядом со мною!
Железные лопаты разом врезались в землю — и сырой глинистый ком глухо бухнулся и откатился в сторону.
При этом первом звуке Гречка невольно вздрогнул и еще усерднее приналег на лопату. Оба приятеля переживали не совсем обыкновенные мгновения. Суеверный, свинцово-давящий страх помимо их воли закрадывался в душу, в груди захватывало дух, и кровь напирала в височные жилы, а сердце то замирало, то вдруг начинало колотиться усиленными биениями. Осторожная, бесшумная работа шла среди глубокой тишины — ни слова не было уронено больше, только оба трудно и перерывчато дышали.
Вдруг вдалеке послышалось что-то неясное, как будто похожее на шаги человека.
Оба сильно вздрогнули, инстинктивно остановились и, напрягая ухо, пристально взглянули друг на друга.
Тишина. Где-то вдали цепная собака хрипит и заливается. Ветер на минуту слегка потянул по верхушкам кладбищенской рощи, обвеяв чем-то страшливым и холодненьким обоих гробокопателей. Прислушиваются — ничего не слыхать; только редкие капли неровно перепадают, шлепаясь на пыльные листья лопушника.
Снова стали копать, копать и слушать — чутко, напряженно, чтобы не проронить ни вблизи, ни вдали ни единого звука.
неожиданно послышалось позади них, словно бы из кладбищенской рощи.
— Обход!.. Хоронись живее! — чуть слышно вымолвил Гречка, перестав работать. — С лопатой хоронись!
— Да куда же?.. Наземь, что ли, ничком?
— За мною!.. да тише ты!.. Полезай в ящик да ложись боком, чтобы обоим хватило.
И осторожно, без малейшего шума опустились они с лопатами и легли на дно соседнего деревянного намогилья.
Голос, тянувший «моздокскую степь», меж тем раздавался все ближе. Вот и шаги уже слышны — шаги смешанные, как будто два человека идут. Ближе и ближе — через минуту, гляди, поравняются с укрывшимися гробокопателями.
Вдруг шагах в пяти от ящика послышалось сдержанное рычание большого пса.
— Полкашка! — обозвал голос, напевавший песню.
Пес продолжал озабоченно рыскать меж могилами и глухо рычать.
— Чего брешешь, ну, чего брешешь-то?.. Эка, дурень собака! Брешет себе зря. Совсем дурень… Ну, что ты там слышишь?.. Полкашка!..
— Нет, брат, ты его не обидь, — послышался в ответ другой голос. — Он у нас справедливый пес. Это он, верно, хорька слышит, — хорек тут завелся где-то: намедни-с у отца дьякона цыпленка утащил. Я третёва дни, как могилу копал, видел его, как он по траве побег. А Полкашку не обидь: он свою правилу собачью знает — он, это верно.
— Может, мазурики где забрамшись?..
— Какие тут мазурики, чего им тут взять?
— Одначе же пошарить бы.
— Пожалуй… для че не пошарить?
И могильщики, разойдясь один с другим, свернули с тропинки, побродили между крестами. Один даже мимо ящика прошел, мурлыча себе под нос все ту же песню.
— Ничего нету!.. Да и Полкаша побег себе! — крикнул издали другой, и через минуту оба удалились.
У Гречки отлегло от сердца: будь немножко почутче нюх у Полкашки да караульщики посмышленее и поретивее — и вся заветная мечта его развеялась бы дымом. Правда, он бы не дешево расстался с нею: он уже решил, что в случае накрытия — сразу бить насмерть обоих; но… как знать чужую неизвестную силу? Пожалуй что и его скрутили, и тогда — прости-прощай навеки фармазонский рубль!
«Степь моздокская» меж тем совсем уже затерялась вдали за деревьями; но не прежде, как только вполне убедившись, что опасность миновала совершенно, решился Гречка выползти из намогилья.
Снова лопаты вонзились в землю — работа закипела теперь еще решительней, еще энергичнее прежнего, и вскоре железо ударило о крышку гроба, а минут через пять она вся обнажилась.
На гробокопателей при виде вырытого гроба повеяло легким холодком нервного трепета.
— Вскрой крышку-то, запусти маленькую лопату под нее, — шепотом пролепетал блаженный.
Деревянные заклепки заскрипели под напором железа, и крышка соскочила.
Перед глазами Гречки и Фомушки вверх неподвижным лицом, обрамленная белым холщовым саваном, лежала мертвая женщина в арестантском капоте. У обоих крупными каплями проступил холодный пот на лбу.
— Где же деньги-то?.. Не слыхать что-то, — чуть слышно бормотал Фомушка, шаря по трупу своей трепещущей рукою.
— Больно прыток, — с худо скрытою злостью прошипел Гречка, отстраняя прочь от тела руку блаженного, из боязни, чтобы тот первый не нашел как-нибудь заветного рубля. — Больно прыток!.. Забыл, что дядя Жиган сказывал? Исперва надо надругательство над нею сотворить, а потом уже деньги-то сами объявятся.
— Ну, какого там еще надругательства? — шепотом огрызнулся Фомушка. — Дал ей тумака доброго — и вся недолга! Вот те и надругательство будет.
— Приподыми-ка ее! — приказал Гречка тоном, не допускавшим прекословья.
Фомушка взял покойницу за плечи и, придерживая рукою, посадил в гробу. При этом движении руки ее тихо опустились на колени.
— Братец ты мой, — с некоторым ужасом изумился блаженный, — да она мягкая, не закоченевшая совсем!
— Толкуй, баба! Мерещится! — отозвался Гречка, хотя сам очень хорошо заметил то же.
В эту минуту невольный ужас мешался в нем с чувством, которое говорило: минута еще — и ты достиг, и ты счастливый человек! — и потому он силился подавить в себе этот суеверный страх, но нервы плохо покорялись усилиям воли и ходуном ходили, тряся его как в лихорадке.
Наконец почувствовал он, что настала решительная, роковая минута. Глаза его налились кровью, грудь высоко и тяжело вздымалась, а лицо было бледно почти так же, как лицо покойницы. Закусив губу и задержав дыхание, он сквозь зубы тихо простонал блаженному: «Держи!» — и, сильно развернувшись, с ругательством наотмашь ударил ее в грудь ладонью. В эту минуту раздался короткий и слабый крик женщины.
Гробокопатели шарахнулись в сторону — и труп упал навзничь, но в ту же минуту, с усилием и очень слабым стоном, в гробу поднялась и села в прежнее положение живая женщина.
Фомушка с Гречкой, не слыша ног под собой от великого ужаса, инстинктивно упали на корячки и поползли, не смея обернуться на раскрытую могилу и не в силах будучи закричать, потому что от леденящего страха мгновенно потерялся голос, как теряется он иногда в тяжелом сонном кошмаре.
Проползя несколько саженей, Гречка поднялся на ноги, а вслед за ним стал и Фомушка: в эту минуту, после первого поражающего потрясения, у них едва-едва мелькнули слабые проблески сознанья, и потому оба, под неодолимым обаянием дико-суеверного страха, без оглядки пустились бежать с кладбища. Инстинкт самосохранения и этот бледный луч сознания вели их к той же самой лазейке, с помощью которой удалось им, за час перед этим, пробраться сюда; и теперь, спотыкаясь о кресты и могилы и падая на каждом шагу, дотащились они кое-как до разобранной канавочной загородки и прытко пустились наперекоски, через огородные грядки, к избе Устиньи Самсоновны.
— Надо, государи мои милостивые, исперва от духа уразуметь, — сидя за пряжей, наставительно калякала хлыстовка с двумя своими гостьми — Ковровым и Каллашем, тогда как Бодлевский с Катцелем работали в подызбище, а эти — между делом — вышли наверх поглотать воздуха, не пропитанного лабораторными запахами. Устинья Самсоновна каждый раз норовила не упустить малейшего случая и повода потолковать о вере с кем-либо из этих гостей, в надежде, что авось кто-нибудь из них, убежденный ее речами, обратится в веру правую, за что она паки и паки сподобится благодати вышнего. — Надо от духа поучаться и ходить по духу и веровать токмо по духу: как тебя дух божий в откровении вразумит, так ты и ходи, так и верь, — говорила хлыстовка. — Вот когда наша вера истинная стала шириться по земле, тогда на Москве сидел царь Алексий со своим антихристом Никоном, и повелел он Христа нашего батюшку Ивана Тимофеича изымать с сорока учениками, для того чтобы они веру правую не ширили. Пытали их много, а батюшке Иван Тимофеевичу дали столько батожья, сколько всем ученикам его вкупе, однако ж не выпытали от них, какая такая наша вера есть. Исперва в Москве сам антихрист допросы чинил им, а потом сдали их, наших батюшек-страстотерпцев, на житный двор к гонителю египетскому, князю Одоевскому, и тот гонитель очинно ревнив был пытать Иван Тимофеевича: жег его малым огнем, на железный прут повесимши, потом палил и на больших кострищах, и на лобном месте пытал, и затем уже распяли его на стене у Спасских ворот. В Москве-то бывали вы, государи мои? — спросила обоих Устинья Самсоновна.
— Случалось, — подтвердил ей Ковров.
— И Спасские ворота знаете?
— Как не знать!
— Ну, так вот, как идти-то в Кремль, по левой стороне, где ныне часовня-то поставлена, тут его и распинали. Я к тому это и говорю, — продолжала хлыстовка, — что значит дух-то! Чего-чего не перенесешь, коли дух божий крепок в тебе, потому и завет у нас такой: аще победити и спастися хочешь, имай, первее всего, дух божий и веру в духа.
— Ну, и что же с ним потом-то было? — спросил Каллаш.
— Ой, много с ним всякого было! — махнула хлыстовка. — Когда испустил-то он дух, то от стражи было ему с креста снятие, а в пятницу похоронили его на лобном месте, в могиле с каменными сводами, а с субботы на воскресение он, наш батюшка, при свидетелях воскрес и явился ученикам своим в Пахре. И тут снова был взят, и пытку чинили ему жестокую и вторительно распяли на тыем самом месте у Спасских ворот. И содрали с него кожу вживе, но едина от учениц его покрыла батюшку простынею белою, и простыня та дала ему новую кожу. Поэтому мужики наши хлыстовские, в воспоминание его, и носят белые рубахи, а в раденьях «знамена» мы имеем — полотенца алибо платы такие полотняные. И потом снова воскрес наш батюшка и начал проповедовать, а учеников ему, с этого второго воскресения, прибавилось видимо-невидимо. И когда в третий раз изыскали и обрекли на мучения — в те поры царица брюхата была и родами мучилась: никак не могла разродиться. И было ей тут пророчество, что тогда только разродится она благополучно сыном царевичем Петром, когда ослобонят Ивана Тимофеевича. Тут его и ослобонили, и стал он явно жить в Москве на покое, проповедуя веру правую тридцать лет; а дом, где жил, доселе цел и нерушен стоит и промеж божьих людей «Новым Юрусалимом» нарицается.
В эту минуту рассказ ее был прерван топотом неровных, торопливых шагов, который послышался на крылечке, словно бы туда прытко вбежали два человека. Раздался нетерпеливый, тревожный стук в наружную дверь.
Ковров и Каллаш[27] в недоумении вскочили с места, причем первый опустил свою руку в карман, где у него имелся наготове маленький карманный револьвер, который он постоянно брал с собою, отправляясь в загородную лабораторию.
— Господи Исусе!.. Кто там? — встала из-за пряжи хозяйка, встревоженная этим шумом в такую позднюю пору.
Старец Паисий взял свечу и пошел в сени.
— Кто там? — окликнул он.
— Мы… я… пустите, — отвечал перепуганный, задыхающийся голос Фомушки.
— Чего тебе?
— Христа ради, впустите скорее… Беда! — с отчаянием воскликнул он, стучась в дверь.
Старик отомкнул защелку — ив комнату влетели ошалелые гробокопатели. Лица их были в кровь исцарапаны, одежда перервана и перепачкана землею, а сами они до того дрожали и казались перепуганными, что Ковров с Каллашем поневоле отступили назад, изумленные этим неожиданным появлением.
Фомушка и Гречка, с трудом переводя дух, стояли посредине комнаты и все еще не могли прийти в себя.
— Ты как здесь? — подошел Каллаш к блаженному. — Что случилось? с кем ты? откуда?
— Ба… а… батюшка, страшно… — с усилием выговорил дрожащий Фомушка.
— Полиция здесь? Накрыла вас или гнался за вами кто, что ли?
— По… покойник гнался… на кладбище… из гроба… — говорил блаженный, почти бессознательно давая свои ответы.
— Да они пьяны, — заметил Ковров, переухмыльнувшись с графом.
— Были бы пьяны — не были бы так перепуганы.
— А зачем носило вас на кладбище? — снова приступил последний к Фомушке.
— Фармазонские деньги… на ей зашиты… могилу раскопали… — без смыслу лепетал блаженный, страшливо озираясь во все стороны.
— Могилу раскопали?.. — озабоченно сдвинув брови, повторил вслед за ним Каллаш. — Э-э!.. Шутки-то выходят плохие!.. Послушай, — отозвал он в сторону Коврова, — этот дурак мелет чепуху какую-то, но очевидно одно: оба страшно перепуганы и один обмолвился, что могилу раскопали. Это-то и есть причина паники.
— Ну, так что ж? — спросил Ковров.
— Очень скверно. Разрытую могилу завтра же могут найти, — принялся Каллаш развивать свою мысль, — поднимется следствие, розыски, обыски, «как да что», а до хлыстовской избы полиции нетрудно будет добраться: ведь по соседству стоит. Понимаешь?
Ковров кивнул головой и озабоченно закрутил свой великолепный ус.
— Вы разрывали могилу? Зачем? Для чего это? — наступили оба на Фомушку.
Гречка меж тем успел уже прийти в себя, а с возвратом полного сознания ему тотчас же явилась в голову суеверная мысль, что это, должно быть, вражья сила подшутила над ними, и потому, желая предупредить Фомушку, чтобы тот не давал ответа, он толкнул его в локоть. Но это движение не скрылось от Коврова.
— Эге, да это, кажись, мой старый знакомый!.. — протянул он, пристально вглядываясь в физиономию Гречки. — Помнится, будто встречал когда-то. Ты зачем толкнул его?
— Я?! Мерещится, что ли? — дерзко ответил Гречка. — Вольно ему сдуру молоть ерундищу!
— Где вы были? Отвечай мне! — начальнически и в упор приступил к нему Сергей Антонович.
— Да вам-то что, где бы мы ни были? Чего лезете?
В ответ на это последовал истинно командирский удар по уху.
Гречка отшатнулся в сторону и упал на лавку, но в ту ж минуту, поднявшись на ноги, хотел было броситься на Коврова, как вдруг, в ответ на это движение, увидел он ловко приставленный к своей груди револьвер.
Его попятило назад: он живо вспомнил былые времена и лихого капитана золотой роты.
Ковров меж тем не отставал от него со своим пистолетом.
— Отвечай, мерзавец, где вы были и что вы делали, или сейчас же, как собаку, положу на месте!
— Виноват, ваше… ваше сиятельство!.. Простите, Христа ради! — пробормотал оробелый Гречка, ибо вспомнил, по старым опытам и слухам, что с этим барином вообще шутки плохие, особенно когда в переносицу зловеще смотрит пистолетное дуло.
— Я не спрашиваю, виноват ли ты, а мне нужно знать, где вы были и что делали — понимаешь? — с расстановками над каждым словом возразил Сергей Антонович, нещадно теребя его за ухо, словно мальчишку-школьника.
— Виноват, ваше сиятельство… на кладбище были, — пролепетал Гречка, окончательно потерявшись от столь неожиданного и столь бесцеремонного отношения к своей особе.
— Зачем вы были на кладбище? — настойчиво наступил на него Ковров.
— Фармазонских денег искали…
— Где вы их искали?
— На покойнице… на арестантке одной тут…
— И разрыли для этого могилу?
— Виноваты, ваше сиятельство…
— Ну, так пойдемте зарывать ее, — сказал Ковров тем спокойно-сознательным тоном, который не допускает возражений.
Для подпольной компании было необходимо нужно, чтобы могила была зарыта, потому что иначе и в самом деле мог бы произойти весьма невыгодный оборот для их предприятия вследствие непременных обысков полиции. Надо было немедленно же уничтожить все следы преступления двух гробокопателей.
— Ваше сиятельство… ослобоните! Христа ради!.. Не могим вернуться на кладбище! — взмолился Фомушка. — Покойница ведь живая… стонала… сидела в гробу… сам видел своими глазами.
Это было еще одно новое открытие для Каллаша и Коврова; теперь, стало быть, необходимо нужно было пришибить насмерть либо спасти мнимую покойницу.
Ковров мигом накинул свой плед, захватил маленький потайной фонарик и вышел из горницы вместе с Фомушкой и Гречкой.
Он беспрекословно заставил их идти с помощью того же самого убедительного аргумента, который за минуту перед сим развязывал язык гробокопателей.
В глубокой тишине, не нарушаемой ни единым словом, осторожно пробрались они прежним путем на кладбище, и Гречка, весь дрожа от волнения и страха, снова нашел в темноте разрытую могилу.
Однако странно: гроб раскрыт, но никого в нем нет — один только саван лежит, брошенный в двух шагах от крышки.
Ковров еще круче закусил свой ус и озабоченно сдвинул брови. Что тут делать теперь? Ясно, что мнимоумершая выползла из гроба, но где искать ее по кладбищу, в какую сторону направиться? Да и когда тут искать, если каждая минута дорога, если для собственной безопасности нужно было как можно скорее уничтожить все признаки раскопанной могилы. Поиски, во всяком случае, отняли бы время. Из двух зол надо выбирать меньшее, а если мнимоумершую найдут завтра где-нибудь на кладбище живою или мертвою, это все-таки менее опасно, чем разрытая могила: там еще вопрос темный, там еще могут быть какие-нибудь сомнения, недоразумения, а здесь — эта разрытая могила, и в ней — свидетель преступления.
Ковров прислушался, пригляделся в темноту — напрасно: не различишь никакого признака, да и не слыхать ни шороха, ни стона, — мешкать было нечего.
— Бери, ребята, крышку — и снова на гроб ее, — шепотом распорядился он, не выпуская из руки револьвера, который держал все время наготове, так что те поневоле повиновались.
— Готово, ваше сиятельство.
— Теперь закапывай гроб хорошенько! Где лопаты у вас?
— Тутотки бросили вот…
— Ну, бери дружнее! Да живо у меня, мерзавцы!
— Ой, страшно, ваше сиятельство… руки словно в лихорадке… приняться страшно…
— Закапывай!
И без дальних разговоров он весьма убедительно приставил дуло к лбу Фомушки.
Такой решительный маневр, в особенности после стольких потрясающих ощущений, которые немного обессилили в обоих гробокопателях твердость и способность самостоятельно действовать своей силой и соображать своим рассудком, — такой маневр, говорим мы, произвел свое решительное действие: они опустили накрытый гроб в могилу и проворно стали закапывать.
— Вали землю живее! Живее, канальи! — энергическим шепотом поощрял Сергей Антонович. — За работу по пятирублевке получите.
И минут в пять могила быстро была засыпана в присутствии Коврова, лично наблюдавшего за работой.
Они уже возвращались прежним путем, вдоль канавки, как вдруг, шагах в пяти, послышался слабый, болезненный стон.
Фомушка с Гречкой так и обмерли в ужасе.
— Дальше ни с места! — громко приказал им Ковров и осторожно выполз из канавы, по тому направлению, откуда послышался стон.
Действительно, пройдя пять-шесть шагов, он наткнулся на что-то живое. Это была женщина, почти в беспамятстве, и по ее полулежачему положению можно было предположить, что она перед тем ползла по земле.
Ковров на мгновение отодвинул щиток потайного фонарика, и первое, что бросилось ему в глаза, — это арестантский капот. Лица он не успел разглядеть, потому что оставить свет еще на несколько секунд было бы не совсем безопасно. Что ж теперь делать с нею? Пришибить? Поздно: могила уже зарыта. Оставить на кладбище? Нельзя: этот арестантский капот мешает. Он при следствии, пожалуй, все дело выдаст и, быть может, поведет к черт знает какой кутерьме! Что же делать, однако, с этой женщиной? Время не терпит: надо самим как можно скорее уходить с кладбища. Остается одно только средство: была не была — взять ее с собою! Если она за ночь умрет — можно будет снять с нее этот предательский капот, переодеть в другую одежину и тайно вывезти да бросить за чертой города, в стане, на каком-нибудь пустыре, а если поправится, если выздоровеет, то сама арестантка, стало быть, не выдаст никого и ничего, а будет рада, что из гроба вынули да от тюрьмы спасли.
Ковров торопливо спустился в канавку и приказал Фомушке с Гречкой идти за собою. Он постлал по земле свой плед, завернул с головой найденную женщину и велел им нести.
Те дрожали как осиновые листья и не решались взяться за страшную для них ношу.
— Трусы! — презрительно отнесся к ним Сергей Антонович. — Не видите разве, это — живая женщина? Ее в обмороке схоронили! Ты неси лопаты и фонарь, — приказал он Фомушке, — и ступай вперед, а ты бери ее за ноги!
И вместе с этим осторожно поднял за плечи завернутую женщину, и вдвоем понесли ее с кладбища, к подзаборной лазейке. Хотя обоих гробокопателей все еще мучило чувство суеверного страха, однако, видя такое хладнокровие и энергию со стороны Коврова, они приободрились несколько, предполагая, что, верно, и в самом деле это живая женщина, потому нечистая сила с мертвечиной не так бы проявили себя.
Все благополучно возвратились в избу Устиньи Самсоновны.
Ковров приказал внести в горницу найденную женщину, а сам, не теряя минуты, прямо спустился в подызбище и позвал Катцеля.
Доктор развернул плед, наклонился, чтобы рассмотреть ее лицо, и вдруг быстро отшатнулся в сторону, очевидно, под влиянием какого-то невольно поразившего его чувства.
— Боже мой!.. Да это она!.. — прошептал он в смущении.
— Кто она?
— Она… Бероева…
— Бероева?! — изумленно повторили Ковров и Каллаш, в свою очередь нагибаясь к ее лицу, чтобы удостовериться, точно ли это правда.
Для Сергея Антоновича не осталось более сомнения в этом: он еще прежде знавал Бероеву, она как-то необыкновенно нравилась ему, как красивая женщина, — а он боготворил красивых женщин. Он знал и ее, и ее мужа, встречавшись с ними у Шиншеева, и вдобавок ему очень хорошо была известна настоящая история ее с Шадурским и судьба, постигшая эту женщину, и теперь, заглянув в это истомленное страданием лицо, окончательно удостоверился, что перед ним действительно лежит Бероева.
— Ее надо спасти, непременно спасти! Слышите, Катцель, не-пре-менно! — с одушевлением и решительно проговорил он.
— Но куда же мы с нею денемся? — возразил Бодлевский.
— Оставим здесь.
— Здесь… Она нам будет мешать, она может выдать нас.
Ковров оглядел его с нескрываемым презрением и тихо, отчетливо промолвил ему:
— Не выдайте вы нас, любезный друг! А она — женщина, обязанная нам спасением жизни, арестантка, приговоренная в Сибирь, — она нас не выдаст, лишь бы вы не проболтались в нежную минуту вашей княгине Шадурской.
Бодлевский вспыхнул от негодования, однако молчал и ушел в подызбище, не принимая более никакого участия в происходящем.
Бероева лежала на лавке, по-прежнему закутанная в плед Коврова.
— Эх, брат, как же ты так плошаешь! — с укором заметил он Катцелю и обратился к хлыстовке: — Матушка Устинья! В бога ты веруешь?
— Штой-то, мой батюшка, еще не верить-то! Верую! Хрестьяне ведь!..
— Ой ли?.. Ну, коли «хрестьяне», так и поступай же по-християнски! Постель-то у тебя мягкая?
— Мягкая, батюшка, пуховичок ништо, хороший.
— Пуховичок хороший, а больного человека на голой лавке допускаешь лежать! Эх ты, «верую»! Уступи, что ли, Христа ради, постель свою.
— Бери, мой батюшка, бери. Христос с тобой! Я рада. Болящего, сказано, посети.
— То-то же! Так вот и походи за нею, пока выздоровеет.
Ослабевшую Бероеву перенесли в другую горенку на постель Устиньи Самсоновны. Старуха раздела и укутала ее в теплое одеяло. Ковров меж тем озабоченно ходил по смежной горнице.
— Ее третьего дня на Конную вывозили — я случайно прочел в «Полицейских», — шепотом заметил граф Каллаш.
— Да? — отозвался доктор. — О, теперь я понимаю: это была летаргия от нервного потрясения. Субъект для меня весьма интересный — поштудирую, — заключил он, потирая от удовольствия руки.
— Мерзавцы… негодяи… барчонок… — шептал меж тем про себя Сергей Антонович, хмуро сжимая брови от какой-то неприятной мысли, и вдруг круто подошел к Катцелю. — Слушай, — начал он ему совершенно серьезно и строго. — Эта женщина всеми своими несчастиями главнейшим образом обязана тебе. Ты ее убил, ты же и воскресишь ее. Ступай к ней!
Но Катцель и без того уже засуетился над изысканием первых пособий: приказал Устинье нагреть самовар, спустился в подызбище и вытащил оттуда баночку спирту да бутылку лафиту.
— Ну, а вам, ребята, спасибо за то, что отрыли! — неожиданно обратился Ковров к Фомушке и Гречке, которые почтительно стояли у дверей. Бывший капитан золотой роты нагнал-таки на них порядочного страху. — Вот вам обещанная водка! — продолжал он, кидая им два империала. — А теперь скажите-ка мне, каких это фармазонских денег искали вы?
— Неразменного рубля, ваше сиятельство, — поведал Фомушка-блаженный.
— Дурни! — покачав головою, улыбнулся Сергей Антонович. — Тебе бы, собачий сын, о разменных рублях следовало думать, а ты черт знает о какой чепухе!
— Грешен человек, ваше сиятельство, и плоть моя немощная, — с покаянным сокрушением вздохнул блаженный.
— А ты, кажись, будешь человек годящий, — обратился Ковров к Фомкину товарищу. — Хочешь на меня работать? Внакладе не останешься, лучше всяких фармазонских денег будет. Согласен, что ли?
— Рады стараться, ваше сиятельство! — охотно согласился Гречка, который, впрочем, в глубине души своей подумал: «А все же, черт возьми, надо раздобыться фармазонским рублишкой».
В душе его смутно и больно щемило от неудачи.
— Ну, теперича с глаз долой! Ступайте дрыхнуть себе, — отпустил обоих Сергей Антонович и осторожно, на цыпочках отправился в комнату, где лежала Бероева. — В искусство ваше я верю, — шепотом обратился он к Катцелю, горячо сжимая его руку, — и… если вы — человек, умоляю вас, спасите ее: у нее дети ведь!.. А нас она, поверьте, не выдаст. За это уж я берусь.
Доктор улыбнулся, кивнул головой и, ответно пожав руку Коврова, опять наклонился над больною, принявшись за свои скудные наличные средства помощи: для него она, больше чем прежде, представляла теперь любопытный в научном отношении субъект, и поэтому он с великой охотой готов был упорно истощать над нею все усилия и все свое искусство.
— Ну, что? — опять войдя через час времени, спросил его Сергей Антонович.
Доктор Катцель самодовольно вытянулся и, вскинув на него торжествующий взгляд, промолвил тихо и внятно:
— Спасена!