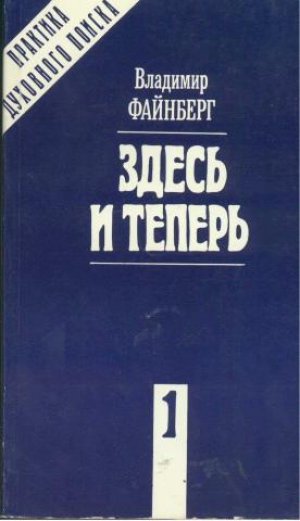
Владимир Файнберг
Здесь и теперь
Глава первая
До сих пор мне казалось, что жизнь моя, по сути, не меняется. И не изменится уже никогда.
Я стоял, засунув поднывающие от мороза руки в карманы наглухо застёгнутого плаща, приглядывался: как будто обычная ноябрьская ночь, улица Народного ополчения, где в начале моста–путепровода я одиноко жду автобуса.
Да, я видел себя со стороны — чёрную фигурку, прислонившуюся к стеклянному загону остановки. И этот ракурс — сверху, неизвестно от кого — вызывал не жалость к себе, мёрзнущему, может быть безнадёжно ждущему в без четверти час последнего автобуса, а жгучее любопытство. Словно кто‑то пристально следил за каждым моим движением. Более того — мыслью…
Вопреки всем доводам упирающегося рассудка я чувствовал: что‑то стронулось, происходит поворот, и то немыслимое, ещё призрачное, что открывается за этим поворотом, в конце концов станет реальнее вот этой остановки, прихотливых струй позёмки, змеящихся рядом по сухому асфальту, реальнее мерцающего дохлым неоном с той стороны улицы кинотеатра «Юность».
И это ощущение было вовсе не связано с надвигающейся завтрашней встречей, последствия которой могли рывком вытащить из трясины уже привычной бедности. Вторгалось, отбирало почву из‑под ног нечто иное, не имеющее отношения ни к бедности, ни к богатству, ни к чему‑либо, о чём я знал прежде. И в то же время объемлющее абсолютно все.
В какие только опасные приключения не затягивала судьба, куда меня только не заносило, чуть ли не по всему пространству, обнимающему шестую часть планеты, всё казалось, что я, как однажды увиденный циркач, перебираю ступнями огромный шар. Что это просто поворачивается–кружит подо мной земля. А я всё стою на одном месте.
Сотни, тысячи людей в разных краях страны знали меня, помнили, как я появлялся (всегда внезапно) и так же внезапно через неделю, через десяток дней исчезал, оставляя после себя смутный трепет надежд. Которые почти всегда не сбывались…
И мало кто мог предположить, что пугающе независимый, свободный человек, вернувшись после очередного поражения, бессильно припадает к плечу матери.
Мои сверстники отпускали усы, бороды, женились, разменивали квартиры, хоронили отцов и матерей, строили кто кооператив, кто — дачу, то покупали моторные лодки, мотоциклы, автомашины, то продавали их, пускались в запой, седели, наживали болезни, делали карьеру или же, наоборот, впадали в полное безразличие к ней… Все у них внешне вечно менялось — адреса, телефоны, жены, профессии.
Здесь же ничто не менялось. С детства, сколько я себя помнил, все так же возвращался я в дом и все так же сидел рядом с матерью, ни о чём не рассказывая.
Она приучилась и не спрашивать. Порой спрашивал, откашлявшись для храбрости, отец. Но его вопросы всегда были окольные: какая погода в тех местах, откуда я вернулся, почём картошка или урюк, есть ли мясо?
На такие вопросы можно было и ответить. Отец инстинктивно боялся влезать в мои дела.
Так мы и пребывали втроём после каждого возвращения, будь это возвращение со студенческой практики, просто из странствий или одной из бесчисленных экспедиций, командировок.
Мать и отец были как бы тихие, всегда открытые врата вечности.
Но все‑таки время шло. Теперь, когда я молча гладил мать по голове, в её волосах блестели серебристые нити, она становилась все ниже.
А отец умер.
Первый же трубный звук жизни снова вырывал меня из этой вечной скорлупы, где можно было задохнуться отчаянием. Как будто иная дорога, иная надежда звала вперёд. Чтобы опять вернуть к исходной точке.
Много было разных дорог, и мне даже сейчас не приходило в голову, что все это может быть одна, моя дорога, мой Путь, приведший в конце концов на эту ночную автобусную остановку.
Четвертый и, наверное, последний раз в жизни стоял я здесь.
Всё оставалось таким же, как в предыдущие ночи, — тот же морозный ветер, коробящий плащ, те же слепнущие окна наполненных батарейным теплом квартир, то же бессмысленно светящееся в пустоту название кинотеатра. Только автобус почему‑то не появлялся дольше, чем обычно, но сейчас это не имело значения — в крайнем случае до дома можно было добраться и пешком.
Я медлил здесь, в соседстве с облепленной примёрзшими окурками урной, потому что остановка была последней территорией, ещё как‑то связывавшей меня с навсегда оборвавшимся знакомством. Сейчас, после этих четырёх длинных вечеров подряд, я испытывал нечто похожее на чувство начинающего парашютиста, который вынужден шагнуть из самолёта в пустоту, и — никакого инструктора рядом. Вот что это была за остановка.
Обида, недоумение снова залили горечью, едва вспомнился момент, когда человек, которого я успел полюбить, глянув на часы, все тем же своим как бы военным голосом отчеканил:
— Поздно. Вам нужно идти. И давайте условимся: вы забыли мой телефон, адрес. Забыли, что я существую.
— То есть?! Почему?! — После четырёх фантастических вечеров, которые этот лобастый гигант в чистой застиранной рубахе с оторванным рукавом, подколотым английской булавкой, щедро отдал мне, это было как с разгону замереть перед краем пропасти.
— Мои функции кончились, — сказал он, снимая с вешалки мой плащ.
— Извините, может, я в чём‑то виноват перед вами?
— Не знаю. Мои функции кончились.
— Вы мне столько открыли… Что же теперь со мной будет?
— Вас поведут. — Вслед за плащом мне была подана кепка.
— Кто поведёт?
— А это зависит от вас.
Хозяин отщёлкнул один замок, второй, снял цепочку, я ступил за порог, потом, пока дверь не успела закрыться, торопливо шагнул обратно.
— А если никто не поведёт?
— Ведут каждого. Только большинство не знает.
Дверь хлопнула. Послышалось щёлканье замков.
Фактически меня выгнали, выставили. Ни за что ни про что. При всём том было в этом что‑то смешное, несоразмерное значительности происходившего за эти четыре вечера.
«А может, он каким‑то образом узнал, что я всё записываю, возвращаясь домой? Но, с другой стороны, запрета не было…
Хотя ни одной книги, ни одного ксерокса, не говоря уже о папках, ничего не то что почитать — на дом в руки не давал, сам показывал и схемы, и фотографии. И слайды…»
Я подумал, что и теперь необходимо будет записать все, о чём говорилось в последний раз.
Стало так странно… И то, что я должен был записать…
И этот безысходный мрак начала московской зимы, откуда возникли лениво плывущие в позёмке огни. Странен был и сам повод для знакомства с этим человеком.
Месяц назад, будучи в командировке в Чите, увидел ясной морозной ночью золотистый чечевицеобразный предмет, висящий между землёй и луной… Вернувшись в Москву, стал спрашивать всех и каждого, что бы это могло быть. И получил от случайного знакомого телефон, который следовало теперь намертво вычеркнуть.
Словно впервые глядел я на приближающийся островок тепла и света, где уже виднелись силуэты водителя, пассажиров.
Задняя дверь автобуса сломалась в гармошку. Только сейчас я ощутил, насколько окоченели руки. Едва ухватился за поручень, давно приготовленный пятак выпал на мостовую из замёрзших пальцев. По счастью, немногочисленные пассажиры сидели лицом к движению. Можно было проехать и без билета.
Зябко притулившись на заднем сиденье у кассы, я подумал, что и в этом проезде «зайцем» есть нечто смешное, несоизмеримое с приобретённым за сегодняшний вечер.
С того места, где я сидел, скупо освещённый электричеством салон вдруг увиделся трубой, просто трубой на колёсах, отгораживающей от ночной стужи. Затылки пассажиров торчали над спинками сидений, совсем как в самолёте. Который тоже, в сущности, являл собой металлическую трубу с крыльями.
Той же самой трубой с прорезью окошек были и вагоны трамвая.
Троллейбусы.
Железнодорожные составы.
Поезда метро.
Да и сами тоннели метрополитена, в конце концов, — все те же железобетонные трубы, проложенные под землёй.
«Многие, того не подозревая, проживают почти всю жизнь, переходя из трубы в трубу, — подумал я. — Утром с пересадками гонят по трубам на работу, вечером — обратно, чтоб снова проснуться и снова нырнуть в систему труб. Пока не кончится крематорием. Да и там тоже — труба…»
Ощущение тупого, автоматического существования большинства людей, равно как и собственной нескладывающейся, потерявшей смысл жизни, воскрешало привычную боль отчаяния, но сейчас она пресеклась. Будто рывком вернулась в детство, в раннюю юность, когда все — предчувствие тайны и смысла.
Что вернуло? Упование на завтрашнюю долгожданную встречу? Но человек, от которого я сейчас возвращался и с которым успел поделиться своей надеждой, секунды не раздумывая, холодно сказал, что некогда заниматься пустым и опасным делом.
Почему «некогда»? Почему «опасным»? И неужели всегда, во всех случаях оно было обязательно пустым? К тому же возможность получать зарплату, поддерживать благополучие матери, да и собственное — этой проблемы одинокий человек в рваной рубашке, заколотой английской булавкой, к счастью своему, видимо, уже понять был неспособен.
Конечно, по сравнению с тайнами земли и неба все это действительно могло показаться пустым. Хотя, как сказать… Стараться делать людей лучше, нести им свет правды, показать подлинную любовь к стране — разве это пустое?
В конце концов, надо же заниматься реальным делом, как‑нибудь жить.
Не ездить зайцем в автобусе, не унижаться, входя в учрежденческие кабинеты просителем хоть какой‑либо работы. Не обманывать каждый раз мать, с бодро–уверенным видом повторяя, что все в порядке.
А кроме того, мне давно страстно хотелось иметь ребёнка, жену. Порой, приходя в чужие семьи, я устало гладил чужих детей по головам, самозабвенно играл с ними. А потом уходил разбитый, растравленный…
…Автобус медленно пересекал мигающий во тьме огнями светофоров, одичавший в этот час перекрёсток. Ладонь прошлась по запотевшему стеклу, и я увидел — в угловом доме единственное окно — четвёртое от края на четвёртом этаже — тепло желтеет светом: Левка у стола возле лампы продолжает читать Ключевского. Или материалы к истории Ходынской давки. Сидит в сшитом из цветных обрезков халате. А за его спиной под таким же одеялом из цветных лоскутков в постели спят Галя и Машенька, и в тёмном углу белеет манекен, а рядом ножная швейная машинка.
Захотелось выйти сейчас же, тихо позвонить в дверь. Левка обрадовался бы. Они бы все обрадовались. Но все‑таки было уже очень поздно, а потом, я старался приходить в этот дом не с пустыми руками: то с пакетом картошки, то с пачкой мороженого для Машеньки. А кроме того, теперь, когда автобус проехал мимо, стало ясно: Левка бы не понял. Не понял того, что сейчас переполняло смутным ощущением сдвига с мёртвой точки, поворота… Поворота куда?
В одиночестве сошёл я на своей остановке, в темноте поднялся по лестнице, на ощупь вставил ключ в замок, бесшумно отворил дверь. Чтобы не будить мать, прошёл не к вешалке, а сразу в свою комнату, стянул с себя плащ, бросил на кресло вместе с кепкой и лишь тогда включил настольную лампу.
Она осветила чашку, накрытую блюдцем, и два бутерброда с сыром, лежащих на тарелке. Как всегда, прислонённая к будильнику, лежала записка, где крупным округлым почерком было написано:
«Снова ждала — не дождалась. Поешь обязательно. Спокойной ночи. Целую. Мама».
Компот был ещё тёплый.
Поев, я завёл будильник, поставил на семь утра — надо было успеть принять душ, побриться и, самое главное, вовремя доехать, не опоздать, ровно в девять быть у кабинета.
Захотелось спать, но я пересилил себя, отодвинул чашку, вытащил из ящика стола большую амбарную книгу. Перелистнув первые, густо исписанные листы, взял авторучку, и в этот момент кто‑то явственно тронул сзади за плечо. Я обернулся. Полумрак комнаты был пуст. Переведя дыхание, склонился над бумагой, вывел:
«Последняя встреча. Окончание записей.
На этот раз он раскрыл передо мною толстую папку, набитую вырезками из «Недели», «Техники молодёжи», «Комсомольской правды», «Соц. индустрии» и прочей обычной советской периодики за истёкшие 10–15 лет.
Разнообразные сообщения.
1. В 1977 году в Мексике (в Акапулько) происходил I Международный конгресс УФО (неопознанные летающие объекты).
2. Гитлер знал какие‑то тайны, был связан с магами–водителями, оставшимися от цивилизации, имевшей место на территории нынешней пустыни Гоби («Неделя»).
3. Форма египетских пирамид не случайна. Под любым, даже из проволоки сделанным подобием пирамиды якобы резко улучшается память у людей, здоровье. Иначе растут цветы (кажется, «Комсомолка»).
4. Астероид Эрос исчез со своей орбиты на семь лет и теперь вдруг опять появился (из журнала «Природа», с фотографией).
5. За год на Земле примерно 80 000 людей пропадает бесследно. «Техника молодёжи» помещает сообщение о молодой колхознице, которая видела зимним утром летящего чёрного человека. Об аналогичном явлении поведал Чехов — в рассказе «Черный монах».
6. У Солнца есть равный ему по массе спутник, которого мы по каким‑то причинам ещё не видим («Водный транспорт» за 1980 г.).
Всего остального, что было в этой папке, сейчас странным образом вспомнить не могу.
Н. Н. говорил, что астероид Эрос не зря так назван (Любовь), что он идёт к земле, чтобы спасти перед концом света святой остаток.
На мой вопрос: «Когда же подойдёт» — ответил:
— Скоро. Когда точно — знать не дано. Ни мне, ни вам. Готовьтесь!
— Как готовиться?
— А знаете, как на древнеславянском пишется «счастье» И вообще — что значит это слово?
И он написал на бумажке — СЪО–ЧАСТЬЕ. Объяснил: съо–частье, то есть часть, гармоничная с целым, со Вселенной…
Потом добавил:
— Мы, как войска командос, заброшены на землю для борьбы со злом.
Это как будто не было ответом на мой вопрос, и я повторил:
— Как все‑таки готовиться?
— Читали Библию?
— Читал.
— Нет, не читали! Иначе б не задали глупого вопроса.
— Выходит, вы верующий?
— Запомните, не я — Бэкон сказал: «Малое знание удаляет от Бога, большое — вновь приближает к Нему». При этом я не христианин в обычном смысле, я знающий. А это обозвано гностицизмом.
Такие вот разговорчики, все‑таки напоминающие фантастический роман. Легче всего предположить, что Н. Н. — сумасшедший.
Потом он произнёс буквально следующее:
— Я скоро уйду с этого плана… А вам через некоторое время будут предоставлены большие возможности.
— Какие? Кем предоставлены?
Эти и ещё десятки вопросов я не успел задать, потому что тут‑то он меня и выставил, запретил когда‑либо появляться, даже звонить, сказав, что теперь меня поведут…»
Приближается, нарастает, гудит огненный вал, ни дыма, ни копоти. Просто сплошной огонь. Золотисто–багровый. Его опережает жар. Палит, не опаляя. Но вот сейчас золотисто–прозрачный гул достигнет, поглотит…
На краю страха смертного слышу (до сих пор слышу) словно бы маминым голосом: «Будь добрым, будь добрым, честным, хорошим, будь добрым».
А золотистые, упругие струи стеной гудят, уже закрыв небо, вплотную…
Просыпаюсь весь в поту, в слезах.
Сколько мне лет или месяцев — не знаю. До этого ни о себе, ни о мире ничего не помню. Лишь отсюда, с огня, началось сознание.
СО–ЗНАНИЕ. Вместе с кем?
Зима. Она стоит всегда, вечно. Трещат дрова в печке–голландке, откуда через дырочки в дверце выскакивают на пол, обитый железным листом, раскалённые угольки.
Кажется, я всегда один в комнате деревянного дома. Высокие синеватые сугробы норовят дотянуться до окон второго этажа. Кроме сугробов, днём в эти окна видно голые, заснеженные деревья. Вечером, когда они угрожающе придвигаются, на них лучше не смотреть.
В раскрытую форточку со струением сладкого студёного воздуха доносится лай собак, звяканье ведерных дужек, изредка скрип санных полозьев.
Во всём этом — исконное стояние недвижного российского времени, того самого, где живут старик со старухой из сказки Пушкина и недавно жил царь. Правда, я уже знаю, что теперь царя нет, что мне повезло родиться в самой лучшей на свете стране, в самом лучшем на свете городе — Москве.
Чтоб не скучал, мне на огромном, во весь пол расстеленном старинном ковре оставляют игрушки, книжки с картинками. Несколько раз в день забегают то одна соседка, то другая — торопливо разворачивают из одеяла оставленные мамой тёплые кастрюльки с едой, кормят, подкидывают дрова в печку.
Долго тянется день до мамы и папы. Они приходят вечером.
Всегда внезапно скрежещет ключ в замке.
Мама кидается ко мне, ощупывает, прижимает к пахнущей морозом шубе, целует. Потом всовывает мои ноги в валенки с галошами, надевает на меня тулупчик, шапку, укутывает в платок. По скрипучим деревянным ступеням я колобком скатываюсь к пахнущей керосинками коммунальной кухне и, толкнув обитую рваным войлоком дверь с засовами, оказываюсь между первозданных сугробов, деревьев и звёзд.
Зимние звёзды твёрдо лучатся в чёрной бездне, загадочно смотрят на меня.
Я впервые живу на земле — плоской, заваленной снегом, уставленной двумя рядами деревянных домов нашего Второго Лавровского… В конце его сохранилась повисшая между крыш ржавая арка, к которой когда‑то были подвешены ворота, запиравшие вход в переулок.
Однажды, хмурым зимним утром, отец разворачивает «Правду», вскрикивает: «Убили Кирова!»
Глава вторая
Земля натужно поворачивалась вокруг своей оси. Ночь в Москве кончалась.
Из светящейся трубы троллейбуса я вышел в морозный воздух позднего ноябрьского утра и зашагал под горящими фонарями вслед за толпой, стягивающейся торопливой воронкой ко входу занявшего целый квартал многоэтажного здания. Стеклобетонный стриптиз архитектуры давил утилитарностью. Чем ближе притягивалась толпа служащих к стеклянным дверям, пришибленным длинным козырьком, тем нагляднее проявлялась несоизмеримость фигурок людей с надменным многоэтажием. Тупое здание, казалось, могло простоять века, маленькие, озабоченные, иззябшие человечки были обречённо смертны, эфемерны, как их косые тени, отбрасываемые лучами фонарей.
В вестибюле, освещённом лампами дневного света, я раскрыл книжечку пропуска перед грудастой милиционершей с лейтенантскими погонами, сдал плащ в гардероб и прошёл к лифту, над которым висели электрические часы. Стрелки показывали без четверти девять. Похоже, я успевал вовремя. Вдруг, вне всякой логики, захотелось повернуться и уйти. Уйти, пока не поздно. В самом деле, пустотой и опасностью грозила одна эта атмосфера, насыщенная неживым кондиционированным воздухом.
Но тут с вкрадчивым шорохом разошлись дверцы, обнаружив спустившуюся большую кабину. Я втиснулся туда вслед за толпой опаздывающих мужчин и женщин. И пока в тесноте все мы поднимались, почему‑то не мог оторвать взгляда от прикреплённой к стенке заводской таблички, на трёх языках повторявшей одну и ту же фразу: «В случае тревоги — Alarm — нажмите эту кнопку».
Alarm, Alarm… — в этом слове, кроме его тревожной сути, крылось что‑то еще… «А вдруг выгорит»! — подумалось мне. — Бывало же у других. Волшебное вдруг — и все поворачивается. Alarm!»
Выгорело.
Когда через час я с зажатой под мышкой папкой в смятении вышел на улицу и в глаза ударило солнце, на миг закружилась голова.
Показалось, привычный порядок вещей отменён: за осенью наступила весна. Небо, расчерченное проводами, сделалось голубым, воробьи чирикали, почти как в марте.
Шел пешком, не ведая куда.
И эта Наденька, и этот рыжий оператор Алеша Кононов со своей странной, как бы ныряющей походкой — откуда они так быстро узнали, что я получил постановку?
Наденька встретила тут же, в приёмной, едва я вышел из кабинета Гошева, взмолилась:
— Артур, возьмите меня на картину! — Худая, хрупкая, с поднятыми наверх пепельными волосами, она в упор смотрела яркими глазами. — Я давно в простое…
— Хорошо.
А когда шёл коридором к лифту, навстречу уже поспешал Кононов.
— Здравствуйте. Давно вас не видел. Имейте в виду — мне нужно делать диплом, Гошев обещал: ближайший фильм — мой.
— Хорошо, хорошо.
Кононов кончал заочно операторский факультет ВГИКа. «Хоть будет стараться», — подумал я.
В вестибюле надевал поданный гардеробщицей плащ, и опять возникла Наденька.
— Замечательно, что я вас догнала! Вы, наверное, плохо обо мне подумали: даже не спросила, какая картина, и напрашивается. А я просто мечтаю с вами работать.
— Почему?
— Я ведь видела первый ваш фильм. Вы подлости не сделаете.
— Спасибо.
— Артур, а завтра вечером после семи вы очень заняты?
— Признаться, не знаю.
— Если сможете, приходите в семь к выходу из метро «Лермонтовская». Там соберутся несколько моих знакомых, пойдём слушать одного удивительного человека.
— Кого это? Сколько я знаю, удивительный человек живёт совсем в другом месте.
— Его называют пророком Ильей в новом воплощении…
— Ну и ну!
— Артур, я бы ни за что не позвала, если бы не была уверена: вы будете потрясены.
Я дал обещание, стремясь скорее уйти, вырваться, остаться лицом к лицу с ситуацией, в которую влип так неожиданно.
Шереметьевской улицей, тонущей в сизой дымке выхлопных газов автотранспорта, шёл, не замечая того, что блеклое солнце нисколько не согревает ноябрьского дня.
Громыхали панелевозы, грузовики, автобусы. Прохожие, молодые матери с колясками — все они целеустремлённо двигались, каждый в своём направлении, включённые в некую всеобъемлющую карусель. И я, Артур, почувствовал сейчас, что и меня подключило, что время горькой моей свободы кончилось в тот самый момент, когда я принял назад свою папку из мясистых рук Гошева и сказал «Да».
Нужно было через две недели представить сценарий. Срочно запускаться. А то, что лежало под мышкой в папке, было окончательно отвергнуто «увы, самой высокой инстанцией», как не без сочувствия сообщил Гошев.
В этом сочувствии крылась мстительная издёвка человека, который ещё два с половиной года назад сказал:
— Думаю, что у меня для вас работы нет и не будет.
Сказал, когда мы остались наедине в опустевшем просмотровом зале.
— Не понимаю, поясните, пожалуйста.
— С удовольствием. Мне нужны профессиональные исполнители того, что спускают сверху. А из дипломной картины, которую мы только что видели, ясны ваши претензии на собственные идейки, на так называемый авторский кинематограф. Все это глупость, придуманная кинокритиками. В нашей стране продюсер — государство. Кто платит, тот и заказывает музыку. Теперь понятно?
— Понятно.
— Поставив вам «отлично», ваши учителя неверно вас ориентировали. Сделайте выводы, может, и приживётесь. Хотя вряд ли… По крайней мере, на ближайший год–полтора ни сценария, ни места в плане у меня для вас нет. Придумайте сами что‑нибудь, что нас очень заинтересует, попробуйте принесите.
Хотя я раз и навсегда осознал, что с этим циничным деятелем в пёстрых американских подтяжках, которого на студии втихомолку называли Лабазник, у меня не может быть никакого контакта, я несколько раз за последние годы передавал через секретаршу заявки и даже готовые сценарии в надежде все‑таки получить постановку.
Все это пренебрежительно отвергалось. Выведенные красным фломастером, рваными ранами зияли вдоль заглавных листов моих работ размашистые резолюции: «Нет производственной темы. Гошев», «Зрителю это не нужно. Гошев», «Не соответствует темплану. Гошев».
У меня возникло стойкое ощущение: Гошев в лучшем случае лишь пролистывал то, что предлагалось.
Но стыдно, невозможно было существовать на пенсию матери. Теперь, когда все вроде бы получилось, выгорело, хотя и боком, нелепо, я хоронил это напрасно потерянное время жизни, и с особенной горечью — потраченное на последнюю, главную свою надежду.
Оказавшись на перекрёстке Шереметьевской и Сущевского вала, я увидел наискось от себя знакомое неказистое здание Марьинского универмага, где в дверях клубились люди, и только теперь почувствовал промозглый холод обманного ноябрьского солнца, уже закрывавшегося слоистым пологом облаков. Я решил ехать к Левке — посоветоваться, что же теперь делать со внезапно нагрянувшей работой, вошёл в пустую будку телефона–автомата, но, томимый желанием понять, какой же повод был избран на этот раз для отказа, прежде чем позвонить, развязал тесёмки своей папки.
…Почти год назад, тоже осенью, только в начале сентября, мне позвонил Анатолий Александрович — заведующий отделом одной центральной газеты — с просьбой вылететь в командировку по тревожному письму.
Само по себе это было удивительно. Я знал, что Анатолий Александрович неизвестно почему симпатизирует мне, раз в полтора–два года не без труда выбивает в редакции командировки человеку со стороны, чтобы дать возможность заработать 50–80 рублей. Но всегда это происходило по моей просьбе, когда становилось совсем уж тяжко.
Я старался как можно реже пользоваться благосклонностью знакомого зав. отделом вовсе не из‑за малого заработка и даже не из деликатности, а прежде всего потому, что каждый привезённый мной материал обкатывался в недрах редакции до почти неузнаваемого состояния, а потом и цензура прикладывала свою руку. В результате от сути, смысла написанного оставалась в лучшем случае смутная тень, да и то благодаря тому же Анатолию Александровичу, пытавшемуся отстоять каждый абзац.
Когда газета с очерком или статьёй наконец выходила в свет, я испытывал мучительный стыд перед людьми, о которых писал, которым пытался как‑то помочь через печать. Тем не менее раздавались благодарственные звонки, порой герои очерков проезжали через Москву, заходили в гости, становились друзьями.
И вот Анатолий Александрович просил вылететь в командировку. Я, конечно же, не отказался.
В самолёте я вновь и вновь перечитывал «тревожное письмо» рабочих, под которым стояло более четырёхсот подписей. Люди жаловались на начальника строительства новой ГЭС — Героя Соцтруда. Вербовщики заманили их вместе с семьями из России в труднейшие условия азиатского высокогорья обещанием одновременно с началом возведения плотины приступить к строительству города современных домов. Плотина строилась. Город — и не начинался. В тесных вагончиках–времянках дети рабочих днём задыхались от тридцатисемиградусной жары, а ночью мёрзли от холода.
Слишком уж вопиющей казалась эта ситуация, чтоб быть правдивой. Между тем 400 подписей…
Я провёл на строительстве полтора месяца. В Москву вернулся с большим очерком и замыслом фильма, который, по моему убеждению, был немедленно необходим стране, людям, наконец, тому же Гошеву, ибо проблема, будучи производственной внешне, как это и бывает всегда, стоит лишь копнуть дальше поверхности, была глубоко нравственной по сути.
Мало того, я подружился с начальником строительства ГЭС Нурлиевым, прожил эти полтора месяца вместе с ним и его сыном в полевом вагончике и стал свидетелем драмы, происшедшей между ними. Пока очерк проходил редакционное чистилище, ждал своего места на полосе, я бешено работал над сценарием. Лишь через шесть месяцев очерк был опубликован, к тому времени готовый фильм на бумаге уже лежал у Гошева.
Оказалось, Нурлиев медлил со строительством города только из‑за того, что утверждённый где‑то выше дешёвый стандарт очередных «черемушек» разительно не соответствовал местным климатическим условиям. Между тем Нурлиев знал о существовании проектов зданий с вентелируемыми кровлями, плавательными бассейнами на крышах, защищающими от палящих лучей солнца, с гелиоустановками, аккумулирующими энергию светила для обогрева в холода.
Перипетии борьбы Нурлиева за новый проект были показаны в сценарии отражённо: через его отношения с любимым четырнадцатилетним сыном, которого отец не счёл нужным посвящать в свои трудные дела.
Утрата веры в отца, а потом, через ряд драматических эпизодов, понимание реальной расстановки сил делали из сына настоящего товарища отцу, истинного гражданина, болеющего за интересы людей, Родины.
После того как Гошев вернул сценарий с резолюцией красным фломастером «Зрителя это не вдохновит», я дал прочесть своё произведение Анатолию Александровичу.
К тому времени вышедший в свет очерк вызвал поток писем в редакцию. А также пришёл официальный отклик из министерства, где сообщалось, что принципиальная позиция начальника строительства ГЭС Нурлиева признана правильной и руководству среднеазиатской республики дано указание немедленно утвердить прогрессивный проект.
Имея такие козыри, Анатолий Александрович, не спросясь меня, рискнул послать очень понравившийся сценарий в «самую высокую инстанцию». К сценарию он приложил письмо, напечатанное на бланке газеты, где написал о трудной судьбе автора, о том, что третий год тот почему‑то не получает работу.
Следствием этой затеи и явился неожиданный для меня звонок, приглашавший на встречу с главным редактором студии.
И теперь, стоя в защищающей от промозглого ветра телефонной будке, я перелистывал свою рукопись. На этот раз было видно, что сценарий читали. Очень внимательно. Целые страницы были отчёркнуты уже не красным фломастером, но красным же карандашом. Наиболее острые эпизоды отчёркнуты дважды, трижды, с восклицательными знаками. Кое–где на полях пестрели пометы: «Действительно, талантливо, но нетипично», «Автор слишком драматизирует ситуацию», «Кто все‑таки герой сценария — отец или сын?»
В тесноте будки и так несподручно было держать папку с нескрепленными листами рукописи, а когда я добрался до последней страницы, рыхлая пачка выскользнула, веером рассыпалась у ног. Присев на корточки, я собирал эти уже никому не нужные бумажки, как попало пихал в папку. Почему‑то чудилось, что это моё унижение мстительно наблюдает Гошев.
Именно Гошеву была адресована резолюция внизу последней страницы: «Не следует озлоблять автора очередным отказом. Следует дать ему возможность показать себя на какой‑либо скромной работе. Из плана студии».
Оставить папку со сценарием в будке автомата было бы, наверное, лучшим способом проститься с последней иллюзией. По крайней мере, кто‑нибудь нашёл бы, прочёл, может, разделил мысли неведомого А. Крамера…
«Но нравится же Анатолию Александровичу, Левке, да и Нурлиеву. Что ж, все они идиоты?»
Я снова сунул папку под мышку, вышел из будки, так и не позвонив.
Даже для ноябрьского дня как‑то слишком быстро смерклось, кое–где в окнах затеплились огни. Я зябко поёжился, огляделся и зашагал к остановке троллейбуса 18.
Стоял в троллейбусе, движущемся в плотном потоке машин по Сущевскому валу, и с отчаянием думал, что попал в западню.
Гошев, безусловно, был уязвлён, что объективно получилось так, будто я жаловался на него в пресловутую «самую высокую инстанцию». Ни словом не обмолвившись об этом, он вернул сценарий, даже вроде посочувствовал, а потом и работать предложил:
— Раз меня просят, что ж… Мы тут посовещались и решили доверить вам ответственное дело. Дважды в год, к 1 января и к 1 мая, мы посылаем в соц. страны одночастный ролик — праздничное поздравление. Это должен быть фильм–концерт на 10 минут. Яркий. Насыщенный музыкой. Понятный жителям разных стран без перевода. И конечно, пропагандирующий советский образ жизни. Вам все ясно?
Сейчас я презирал себя за это растерянное, торопливое, хватающееся за соломинку «Да».
Гошев усмехнулся, добавил:
— Сценария нет. Его вы должны придумать сами и не позже чем через две недели передать мне в руки.
Вот так. Пропагандирующий. Понятный и без перевода. Наверняка они начиняли свои предыдущие «поздравления» плясками балетных пейзан в костюмах ансамбля «Березка» и бодряческими песнями солистов во фраках. Принеси сценарий такой бодяги, тот же Гошев обязательно скажет, что это штамп. И будет прав.
Золотистый пыльный вечер в московском дворе. Закатывается август, а с ним и каникулы — все, кому повезло куда‑то уехать на лето, вернулись.
Отстучала лапта, отмахались прыгалки. Ребятня, освещённая тёплым солнцем, притихла на высоком штабеле длинных замшелых брёвен, приваленных к забору, отгораживающему наш двор от соседнего.
Напротив, у двухэтажного краснокирпичного флигеля, на завалинке сидят две старухи — одна сухая, вся в чёрном, черным же платочком повязана трясущаяся её голова; другая дородная, рыхлая, ноги обуты в неподшитые валенки.
Мне лет пять. Я тоже примостился, пригрелся на шершавых брёвнах и не без зависти слушаю разговоры ребят, которые на днях пойдут в школу. Все они старше меня — и девчонки, и мальчики. Один из них — десятилетний Юрка — сидит чуть выше меня и время от времени пихает ногой в спину. Я робко отодвигаюсь, но избавиться от пинков не могу. А домой уходить не хочется. Так и сижу, видя перед собой старух. Нас разделяет пространство двора с истоптанной круглой клумбой посередине, где отцветают георгины, торчат сломанные стебли душистого табака.
Внезапно солнечное тепло прерывается, на двор наползает тень, и вместе с этой переменой старуха в чёрном кричит:
— Архангел с трубой!
Она тычет трясущейся рукой куда‑то вверх. Все мы вскидываем головы и видим длинную сизую тучу, закрывающую солнце. Действительно похожую на величественную фигуру, окутанную широким плащом, держащую у рта нечто вроде трубы.
— Архангела Бог послал! Близок Страшный суд!
От её крика и впрямь становится страшно. «А вдруг это совсем не облако?» — думаю я.
Ребята, одолев минутное замешательство, вопят:
— Заткнись, Тимофеевна, Бога нет!
— Бог твой и все архангелы отменены в семнадцатом году!
— Доходилась в церковь — облако за архангела принимает! У неё дома иконы — я видел!
Вторая старуха крестится, а Тимофеевна исступлённо грозит пальцем:
— Бог всех покарает, охальников!
Ребята смеются, передразнивают её жест. Тут и я поддаюсь общему угару, вплетаю свой голос в общий хор:
— Бога нет!
— А вдруг есть? — громко шепчет в ухо Юрка. — Если не боишься — плюнь в Бога!
То ли сизая туча, то ли архангел серединой уже проходит через солнце. Золотые лучи веером расходятся от краёв.
В мою спину ударяет требовательный Юркин пинок. Я слетаю с брёвен и, желая завоевать восхищение двора, воплю во всю силу лёгких пятилетнего человека:
— Нет Бога! Нет!
Стою у клумбы, коплю во рту слюну и, круто, до боли в шее задрав лицо, выхаркиваю её в сияющее небо.
Ожидание неминуемого наказания заставляет окаменеть. Двор в ужасе стих.
Харкотина, взлетев, шлёпается мне же на подбородок.
Оказалось, эта жизнь устроена так, что в ней обязательно есть четыре времени года, каждый день — обязательно утро и вечер. А ещё есть ночь, когда солнце уходит освещать иные страны.
Настоящая ночь начинается поздно, в двенадцать часов. Из комнаты родителей слышно, как по радио играют «Интернационал», долго бьют куранты Спасской башни.
Однажды просыпаюсь как раз в момент боя курантов, потому что он перебивается крепким стуком в дверь нашей маленькой квартиры на втором этаже деревянного домика. Отец отпирает кому‑то, с кем‑то здоровается, мама целует кого‑то, все громче звучат голоса за стенкой. Потом дверь комнаты, где я лежу в кровати, распахивается, в прямоугольном проёме света — мама, кто‑то ещё, отец входит последним, включает электричество и здесь.
Человек в пиджаке и косоворотке наклоняется надо мной, холодными руками выхватывает из постели.
— Не бойся, это дядя Федя! — говорит мама.
Я и не боюсь. Сразу видно, что дядя Федя добрый. Он худощавый, низенький, гораздо ниже отца.
Дядя Федя говорит, что я стал совсем взрослый, а он помнит меня маленьким, когда они с папой были студентами текстильного института. Они вспоминают какую‑то песенку, где есть непонятная повторяющаяся строка: «Веревка — вервие простое». Оба смеются. Мама уже одевает меня, и я впервые после двенадцати ночи оказываюсь за столом вместе с пирующими взрослыми. Черная тарелка репродуктора над шкафом в углу комнаты безмолвствует, черны стекла окон, за которыми отстаивается глухая ночь.
Словно чтоб запомнилось на всю жизнь, дядя Федя задевает стулом привезённый им мешок с антоновкой, и та жёлто–зелёными ядрами дробно раскатывается по окрашенным доскам пола. Яблочный дух заполняет комнату. Мы весело сидим у стола под абажуром, как на островке среди моря яблок.
Дядю Федю перевели работать из какого‑то Моршанска к нам в Москву, в Реввоенсовет. Он рассказывает о том, что будет служить в отделе, снабжающем Красную Армию шинелями, о Тамбовщине, где работал на текстильной фабрике, о раскулачивании, о скрытых врагах советской власти, которым придёт конец. Потом они с папой начинают говорить о Германии, её пролетариате, крепнущей коммунистической партии.
Слово «Германия» — чёрного цвета. С первого раза, как услышал, — чёрного. И вот в этой черноте вспыхивают красные знамёна, точно такие же, какие вывешивает дворник Мустафа в праздники на воротах нашего дома. Красные знамёна, которые срывают какие‑то шуцманы, красная песня «Роте фане». Ее поют папа и дядя Федя. А мама наливает им крепкий горячий чай и приносит альбом с фотографиями. Последнее, что я вижу, — коричневое фото.
Рука дяди Феди лежит на папином плече, оба смотрят в объектив с такими же счастливыми молодыми лицами, как сейчас, когда поют песню.
Сколько проходит времени после той запомнившейся ночи? Год? Полтора?
Как‑то дождливым вечером сижу дома у окна, малюю акварелью картинки, вдруг с улицы, со двора ликующие вопли мальчишечьего населения:
— Машина! Машина!
Спотыкаясь от нетерпения, сбегаю из квартиры во двор, со двора через калитку на улицу. Сопровождаемая эскортом пацанов, подъезжает чёрная «эмка». Автомобиль — величайшая редкость в нашем деревянном переулке, где царствуют лошади, запряжённые летом в телеги, зимой — в сани.
И в этой «эмке», рядом с шофёром, сидит моя мама!
Черная дверца отворяется. Меня приглашают внутрь.
— Покататься?! — замирая от счастья, спрашиваю я.
— И покататься, и в гости, — отвечает мама. Она оборачивается ко мне, отирает носовым платком краску с рук и лица.
Машина набирает скорость. Мы выезжаем из переулка навстречу дождю, шуму вечерних московских улиц, где все гуще сверкают витрины, огни окон и фонарей.
Пожилой шофёр суров и сосредоточен. Шелестят по мокрому асфальту шины.
По дороге мама знакомит меня с Москвой: «Вот школа, где ты будешь учиться», «Вот Садовое кольцо», «А вот это Кремль, Москва–река».
Мы проезжаем через мост, под которым в маслянисто–чёрной воде отражаются огни набережной, сворачиваем к огромному, словно туча, дому и, миновав арку, подруливаем к подъезду.
Робко вхожу в озеркаленную комнатку. Мама нажимает на кнопку. И пока нас тянет вверх неведомая сила, объясняет. Оказывается, нас пригласила в гости некая тётя, чьего ребёнка мама спасла, высасывая через трубочку какие‑то дифтеритные плёнки. То, на чём мы едем сейчас, называется лифт. Нет, лифт никто наверху не тянет, его просто движет электричество. Да, машина нас будет ждать, отвезёт обратно.
Выходим из остановившегося лифта. У высоких массивных дверей, прежде чем позвонить, мама ещё раз придирчиво оглядывает меня. Дверь открывает совсем не ожидаемая мною «тётя», а широкоплечий гигант с зеркально выбритым черепом. На его гимнастёрке, перетянутой портупеей, орден.
В передней хаос раскрытых чемоданов, баулов. Путаются под ногами обёрточная бумага, бечёвки.
— Здравствуйте, здравствуйте, проходите! — выглядывает из кухни разрумяненная жаром женщина в переднике с оборками. — Муж вернулся из Берлина! Из Германии! Сейчас кончу с пирогами — и за стол. А мальчика, он у вас совсем как Митенька, Петр Васильевич, проведи пока в детскую!
Гигант берет мою ладонь в свою надёжную тёплую руку, мягко отрывает от мамы, ведёт коридором к комнате с открытой дверью.
Там на тахте, прикрытый одеялом в разноцветную клетку, полулежит худой, бледный Митенька, ещё не вполне оправившийся после болезни. На ковре у тахты валяются раскрытые коробки с игрушками. Петр Васильевич гладит меня по темечку, знакомит с сыном и оставляет нас вдвоем… Заводной германский танк с черным крестом на башне ползёт по ковру, выплёвывая из ствола снопы разноцветных искр. Черная Германия настигает меня и солдатиками в широких касках, что, стоя на месте, бегут с ружьями в руках.
И потом — в гостиной — разговоры взрослых о том же германском пролетариате, который вот–вот совершит революцию. Правда, Петр Васильевич, в отличие от папы и дяди Феди, не верит, что это может совершиться так скоро. Он герой Гражданской войны, учится в военной академии в Берлине, ему виднее.
Уплетая выставленные на стол неслыханные яства, я всё поглядываю на обритый могучий череп со следами сабельного удара, на орден Красного Знамени. Ощущение надёжности, силы и чистоты, исходящее от этого человека, все сильнее охватывает меня.
Но мама уже тянет за руку из‑за стола. Я захожу попрощаться к Митеньке. Затем, получив роскошный подарок — германскую заводную железную дорогу с паровозом, вагонами, рельсами, — мы выходим к лифту. Жена Петра Васильевича целует меня, маму, ещё раз благодарит её за Митеньку. Петр Васильевич опять молча проводит рукой по моей голове.
Жест этот грустный. А может быть, так только кажется, потому что мне грустно уходить из этого дома. Мы опять волшебно спускаемся на лифте. Внизу действительно ждёт шофёр в «эмке». И обратный путь через опустевшую Москву ещё впереди.
Еще впереди и тот страшный вечер — через несколько месяцев? через год? — когда я невольно подслушиваю жаркий шёпот мамы, говорящей отцу:
— Помнишь ту историю с мальчиком, с дифтеритом, я тебе рассказывала? Какой ужас — этот Петр Васильевич оказался немецким шпионом! Расстрелян. Встретила на рынке его жену. Опустилась. Продает вещи. Ее с ребёнком высылают из Москвы. Благодарила, что подала ей руку…
Глава третья
Пока ехал в троллейбусе, повалил снег. У Белорусского вокзала я пересел в метро, а когда поднялся наверх у «Сокола», все уже было бело. Одолевая зыбкую стену валящихся хлопьев, я шёл к Левкиному дому на перекрёстке, мимо которого проезжал вчера вечером…
Н. Н. жил так близко — всего три автобусные остановки отсюда. Территория эта стала теперь запретной и оттого ещё более манящей.
«Подобное притягивает подобное, — сказал вчера Н. Н., — на каком уровне будете мыслить, на таком и будут решаться проблемы». На какой уровень и как надо было подняться, чтобы разрешить неразрешимое: придумать хоть мало–мальски достойный сценарий для реализации гошевской затеи?
Я уже перешёл перекрёсток, как вдруг моего слуха коснулась мелодия. На приглушённом фоне оркестра явственно пела скрипка. Я приостановился. Казалось, перемигивание светофоров, укутанных в пушистый белый наряд, кружение машин, самый полет снегопада — всё подчинилось некоему явному единству, похожему на обещание счастья.
Я не сразу сообразил, что музыка слышна из замершего в череде других автомашин «жигуля» с приспущенным боковым стеклом, словно владелец, несмотря на непогоду, решил поделиться мелодией со всем городом. Но вот светофор смигнул красный цвет на зелёный, и мелодия стала непоправимо отдаляться.
Я тщетно вслушивался — не продлят ли скрипку другие автомашины, тоже имеющие радио. Музыка исчезла.
Я рванул дверь парадного; поднимаясь в лифте, наскоро сбил кепкой снег с плаща и, едва Машенька впустила в переднюю, тотчас спросил:
— Где радио? Работает?
Девочка привычно зыркнула на мои руки, в которых на этот раз была всего лишь папка, и только потом ответила:
— Радио у нас на кухне, дядя Артур.
В самом деле, сетевой приёмник находился на своём месте — на кухне, над обеденным столиком. Я крутанул ручку, к недоумению Галины, гладящей здесь пышную красную юбку. Квартиру заполнил голос диктора, вещающего о плохой работе сборщиков вторсырья.
— Левки дома нет, — сказала Галина, после того как я выключил радио.
Потом я сидел в Левкиных тапочках у стола, ел макароны, пил горячий чай. Мелодия скрипки ещё была на слуху, и я настолько боялся её забыть, что, в сущности, не слышал ни Галю, ни Машеньку, да и не замечал того, что ел и пил…
— Так где Лева?
— Здравствуйте. Я же сказала: не знаю. Надеюсь, скоро придёт. А что, мы вдвоём тебя не устраиваем?
— Галочка, я сейчас попробую напеть одну мелодию, может быть, вспомнишь, откуда это? — Я попытался воспроизвести сначала голосом, а потом насвистать, выпустить на волю это чудо, жившее в моём сердце, но соответствия не получилось.
В глазах Машеньки я, наверное, был просто смешон. Она о чём‑то зашептала на ухо матери, а затем вылетела из кухни, схватив отглаженную юбку.
— Левка тебе звонил, — сказала Галя, когда мы остались одни. — И не раз. Куда ты делся? Как твои дела?
— Кстати, можно позвонить? — Я встал из‑за стола.
— Туда не ходи. Машка готовит тебе сюрприз.
Она вышла в комнату и вернулась с телефонным аппаратом, за которым тянулся шнур.
— Сейчас узнаешь, как дела, — буркнул я, набирая свой домашний номер, и сообщил матери, что получил постановку, зачислен на зарплату.
— Ну и артист! — сказала Галя, когда я положил трубку. — Изображать радость, если её нет, наверное, трудно.
— Наверное. — Я подумал, что Галя тем не менее позавидовала: Левка вот уже который год не может, да и не хочет зарабатывать ни рубля, живёт на её жалованье и приработок швеи, упрямо продолжая разрабатывать не нужный никаким Гошевым замысел фильма о Ходынке, о судьбах России. «Железный характер, — с грустью подумал я, — никаких компромиссов».
— А мы с Левкой, между прочим, разводимся, — вдруг сообщила Галя.
— Не может быть! Что случилось?
— Сам расскажет.
— Что за шутки? Почему ты при этом улыбаешься?
— Успокойся, Артурчик, все хорошо. — Она потянула меня за руку. — Идем. Машка, наверное, уже изготовилась. Маша, можно идти?!
— Я не знаю, где веер! — донеслось из комнаты.
— Сверху на комоде!
— Все‑таки, что произошло?
Я не знал более дружной семьи. Чем суровей стискивала её жизнь, тем крепче, казалось, становился этот союз трех…
— Входите! — позвала Машенька.
Когда мы вошли, девочка напряжённо стояла посреди комнаты, одетая в пышную красную юбку, доходящую ей до щиколоток, в наброшенной на плечи материнской шали. В руке у неё был раскрытый веер.
— Мама, включай!
Зашипела на старом проигрывателе заезженная пластинка.
— Цыганский танец! — торжественно объявила Маша, едва раздалась музыка.
Я сидел в шатком, разваленном кресле и с удивлением наблюдал, как преображается в танце девятилетняя девочка. Черные глаза её засверкали, худенькая фигурка обрела грациозность.
«Неужели разводятся? — думал я. — Что за подлая жизнь; казалось бы, иметь рядом такого ребёнка, такую чистоту и радость…»
В кухне раздался звонок. Галя вышла, потом заглянула в комнату, поманила:
— Иди.
Но Машенька ещё танцевала. Она метнула на меня настороженный взгляд, и я понял, что отойти невозможно, как невозможно предать. Я стоял у дверей до конца, пока не кончилась пластинка, обнял разгорячённую девочку и вместе с ней вернулся на кухню.
Трубка ждала на столе.
Странно, голос Левки был приподнятый, чуть ли не радостный. Он сказал, что не может приехать домой, а наоборот, просит меня как можно скорей встретиться с ним. И не где‑нибудь — на ипподроме, на бегах.
— Но уже поздно, и потом, я не знаю, где это, никогда не был.
— Какое поздно?! Еще нет шести, — доносилось из трубки. — Летом это даже не вечер! Не теряй ни минуты, жду у тридцатикопеечных касс!
— Что происходит? — в недоумении спросил я у Гали, когда разговор кончился.
— У тебя есть мелочь? Садись на трамвай, отсюда близко. Нам он запретил говорить, а тебе, наверное, все сам расскажет.
Галино лицо стало жёстким, каким‑то солдатским, чужим. Она за плечи притянула к себе дочь. И Машенька тоже посмотрела чуждо, как‑то издалека…
Меня особенно поразило это изменение лица девочки. Я ехал в промёрзшем трамвае, медленно пробивающемся сквозь метель, и перед глазами вновь возникал танцующий человеческий цветок.
Старушка в засыпанной снегом меховой шапке тычком в бок попросила передать деньги на билет. И когда я повернулся в сторону кассы, чтобы опустить монету, я уже знал, о чём буду снимать свою короткую десятиминутную картину. Да, я уже видел её всю — яркие, цветные песни и пляски детей, таких как Машенька, а лучше — ещё младше. По крайней мере, дети будут искренни, веселы и, слава Богу, непрофессиональны!
Влившись в поток людей, густо стремящихся к зданию ипподрома, уютно мерцавшему сквозь штриховку метели жёлтыми огнями своих этажей, в уме своём я уже возражал будущему недовольству Гошева: «Да кто, кроме детей, сможет лучше поздравить иностранного зрителя?! Ребята будут непосредственны, лихи, отчаянны, заразительны в своём веселье. Это и станет лучшей пропагандой, действительно понятной без слов, без перевода!»
Я понял: если не утвердят мою идею, дающую достойный выход из положения, я вообще откажусь снимать.
Но где взять таких детей?
Черная толпа на белом, ярко освещённом фонарями снегу вязко вращалась у тридцатикопеечных касс. Дрожащий старик с каплей на носу пихнул мне свёрнутую в трубочку бумажку:
— Дай гривенник! Узнаешь, какие лошади придут.
Подскочил сизый от перепоя мужик.
— Программка нужна? Гони рубль!
Я отшатнулся от первого, от второго и попал в руки смеющегося румяного Левки — чернобородый, в распахнутом стёганом ватнике, он неожиданно вписывался в эту разноголосую мельтешню.
— Бежим, опаздываем на первый заезд!
С Левкой невозможно было слова сказать. Он быстро вёл меня вверх по каким‑то зашарканным лестницам, через полные народа освещённые залы. Потом мы сбежали вниз и опять оказались под снегом, в толпе, сдерживаемой барьером, ограждающим овал ипподромного поля. Трижды пробил колокол. Мимо промчались лошади.
— Опоздали! — Левка с досадой перелистнул программку. — Денег, конечно, нет?
— А были бы — не стал бы выбрасывать.
— Скорее выбирай лошадь во втором заезде, — перебил Левка, — вот смотри в программу, выбирай одну из этих восьми номеров и в следующем, третьем, одну из одиннадцати. Подойдешь к кассе, где написано: «Двойной», сунешь рубль, тебе дадут билет. И все дела! Держи пятёрку!
— И что дальше?
— Если твои лошади придут во втором и третьем заездах — выиграешь деньги. Ты ничем не рискуешь, я тебе эту пятёрку дарю. Только сразу все не трать. И скорей иди в кассу!
— А ты?
— А я в другую.
Я пошёл под навес, где, как портреты в картинной галерее, в полукруглых окошках касс красовались редкостно вульгарные лица кассирш. Я не любил подчиняться чужой воле, не любил занимать денег. Пристроившись в одну из многочисленных очередей, решил, так и быть, выкинуть два рубля, сразу поставить два разных варианта, а трёшку, коль Левка и в самом деле подарил деньги, оставить на жизнь. При моих теперешних потребностях трёшки могло хватить дней на пять. Можно было пять дней не брать денег у матери.
Посмотрев в программке списки, я обратил внимание на дикое для лошади название — Индустрия. Она шла под номером четыре. В третьем заезде избрал девятый номер — Тореро. Точно так же, ориентируясь на экзотические клички, я выбрал и другой вариант: два — шесть.
Когда подошла очередь, протянул в кассу два рубля, сообщил кассирше:
— Четыре — девять, два — шесть.
Сработал кассовый аппарат, и я получил два одинаковых билетика, где было одинаково напечатано: четыре — девять.
— Извините, а где два — шесть?
— Какие ещё два — шесть? Вы сказали четыре — девять, два! Я и дала два!
— Уйди, не задерживай! — злобно зарокотала очередь.
Я отошёл, досадуя, что выбросил целых два рубля на одну и ту же комбинацию.
— Не жалей, — утешил Левка, когда мы встретились у барьера, — ни те лошади не придут, ни эти. Придет, по всей видимости, семь — три. — И он показал свой билет, где было выбито именно семь — три.
— Что ж ты мне не сказал?
— Не сказал и не пошёл с тобой в кассу, потому что есть такое поверье: кто впервые попал на ипподром и поставил, должен выиграть. Знаешь почему?
— Нет.
— Потому что дьявол так заманивает людей в это славное местечко.
— А потом всю жизнь проигрывают?
— Даже не в этом дело! Они уже не могут отсюда оторваться.
— И ты, понимая всё это, ходишь сюда?
— Еще недолго осталось… — уклончиво ответил Левка и потянул меня к самому барьеру. — Заезд начался!
— Ну и где моя четвёртая, моя Индустрия?
— Увы, старина, в самом конце.
Лошади с качалками наездников промчались мимо и на повороте исчезли в клубах метели.
— А где твоя седьмая? Буду болеть хотя бы за тебя.
— В этой кутерьме ничего не видно. — Левка привстал на цыпочки, вглядываясь в противоположный конец ипподрома.
По радио объявили, что первым в отрыве от всех идёт номер седьмой.
— На неё, конечно, ставил не только я. Фаворит! — сказал Левка, не отрывая взгляда от удаляющихся лошадей, всё более похожих на стайку крыс. — Но если мой третий номер придёт в следующем заезде — смогу пригласить тебя в ресторан. Нужно поговорить.
— Мне тоже хотелось кое о чём посоветоваться. Кроме того, довольно морозно, тебе не кажется?
Левка не слышал. Перегнувшись через барьер, он жадно смотрел на лошадей.
— Моя продолжает вести!
Ипподромная толпа добродушно гудела, приветствуя победителя, уверенно приближающегося к финишу. В этот момент что‑то случилось. Левкин фаворит странно засеменил ногами, другая лошадь, обогнав его, стала нелепо прыгать, и мимо них, плавно, как во сне, тенью проскользнула третья.
— Твоя. Четвертый номер, — убито сообщил Левка. Он зябко запахнул ватник и вдруг заорал, присоединяясь к негодующему ипподрому: — Жу‑ли–ки!
— Дальше что? — равнодушно спросил я. — Мне ведь теперь, чтобы выиграть, нужен только девятый из следующего заезда?
— Совершенно верно. И ты ухитрился из одиннадцати выбрать самую дохлую скотину. Второй раз чуда не будет.
— Тогда пойдём домой! Хочешь ко мне, хочешь — к тебе. Я, признаться, замёрз, да и виски трещат.
— Раз зацепился — нужно все же дождаться. Будешь ставить ещё?
Я отрицательно покачал головой.
— А я побегу.
Пока он бегал к кассам, я ходил взад–вперёд вдоль барьера, пытаясь превозмочь начинающийся озноб, и все смотрел на мелькающих вокруг людей, вдохновлённых иллюзией дармовой наживы. Все они были разные, но общая печать мелких хищников проступала на этих лицах.
Наконец начался третий заезд. Я уже не пытался следить за лошадьми, понимал: чудо второй раз не случится. «И к лучшему, — думал я, — получу зарплату — отдам пятёрку. Лишь бы не простудиться…»
И снова толпа завопила тысячами глоток:
— Жу‑ли–ки! Аферисты!
Левка больно ударил кулаком в плечо, жарко вздохнул:
— Видел? Твоя пришла. Девятый номер!
— Я выиграл?
— Да это на тебя поверье сработало! Получишь, наверное, рублей сорок или пятьдесят.
Мне стало жарко.
— За сочетание четыре — девять сто девяносто рублей. Ровно, — объявило радио.
— Понял? Ты выиграл сто девяносто рублей! — обнял меня Левка. — Где билет? Давай получу!
Замерзшими, негнущимися пальцами я вытащил засунутые под крышку своей папки билетики.
— Да ведь у тебя их два! Одинаковых! Ты выиграл два раза по сто девяносто!
— Сколько же это? — Я никак не мог сосчитать.
Левка метнулся к кассам, прибежал обратно, сунул толстую пачку денег.
— Триста восемьдесят. Ровно.
Через пятнадцать минут мы сидели в тепле ресторанного зала, в том же здании бегов, только здесь было тихо, несуетно.
— Что будешь делать со своим богатством? — спросил Левка, когда перед нами задымилась рыбная солянка и официант, разлив водку из графинчика в рюмки, удалился.
— Почему моим? Разделим поровну. Моей части с лихвой хватит на свитер и дожить до первой зарплаты. Представляешь, сегодня я получил постановку у Гошева.
— Ты? Артур Крамер? Постановку у Гошева? Даже теоретически этот сценарий, я тебе уже сто раз твердил, так же обречён, как и все остальные твои затеи. И мои тоже. Никогда не поверю!
— Что ж… К сожалению, ты прав. — Я рассказал, как обернулось дело, как согласился на подачку, на это «Первомайское поздравление».
— Хреновина, — констатировал Левка. — Уноси ноги, пока не поздно.
— А ты бы смог отказаться?
Левка яростно дохлебал солянку, отодвинул от себя тарелку.
— Я уже ото всего отказался.
— То есть?
— Видишь ли, я даже тебе не говорил. Но теперь уже можно — добился разрешения, уезжаю.
— Ладно тебе! Ну и шуточки у вас сегодня с Галкой! С ума сошли?
— История покажет. — Лицо Левки стало таким же чужим, грубым, как лица Гали и Машеньки. — Обрыдло. Все. Вплоть до погоды. Есть страны, где вот сейчас, в ноябре, купаются в море.
— В Израиле, что ли?
— Еду туда, но я, естественно, сделаю все, чтобы оказаться в Штатах.
— Это серьёзно?
— Еще как! Завтра мы с Галей разводимся. Фиктивно, конечно. Ее пока не пускают — работала в «ящике». Ничего! Через какое‑то время устроюсь — пришлю им вызов.
— Какой вызов? Какие Штаты? Ведь это же ты с самого начала, ещё когда мы только познакомились, только начали учиться на режиссёрских курсах, именно ты твердил о неотделимости судеб каждого из нас от судеб России. Все эти семь лет занимался Карамзиным, Ключевским, Соловьевым, вынашивал сценарий о Ходынке, той же России. В чём дело? Что изменилось?
— А ничего особенного, — сказал Левка. — Знаешь, у младенцев со временем выпадают молочные зубы… Так и у меня — махал молочными крылышками, шумел, а потом раз — и отпали.
— Ну, понятно, столько лет без работы, устал, вечное безденежье…
— Все так, старина, да не в этом суть. Между прочим деньги кое–какие последние месяцы появились, нашёл я себе все‑таки экологическую нишу благодаря ипподрому. — Он понизил голос. — Здесь орудует банда, связанная с наездниками. Смотрю, что ставит один тип, и делаю то же самое.
— Погоди, не отвлекайся. Стоило ли вести бескомпромиссную жизнь, штудировать Ключевского?
— Стоило, — сухо ответил Левка. — Хотя бы для того, чтобы убедиться: той России не существует. Все, о чём они писали, начиная с Гоголя, если и было, то исчезло от одного только смешения с другими народами. Какая там особая миссия! Все на поверку оказалось религиозным сиропом, в который влип и Достоевский, и тот же Тютчев. Вместо «святой земли» — Нечерноземная зона, откуда чапают колхозники.
— Минуточку, кто войну выиграл, кто стал сверхдержавой?
— А чего хорошего от сверхдержавства? Термоядерное противостояние? Древний Рим тоже был сверхдержавой, пока не смешался с варварами, и куда делись эти древние римляне, ищи–свищи вместе с их империей. — Он помолчал, потом залез во внутренний карман пиджака, достал оттуда сложенную вдоль школьную тетрадку. — Я сам хотел повидаться. Звонил тебе утром, давно хочу поделиться открытием, был все‑таки один трезвый человек. Послушай, что он пишет: «Мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человечества, ни к Западу, ни к Востоку, не имеем преданий ни того, ни другого. Мы существуем как бы вне времени, и всемирное образование человеческого рода не коснулось нас». А вот ещё: «Дома мы будто на постое, в семействах как чужие, в городах как будто кочуем».
— Почему не имеем преданий? А былины? А «Слово о полку…»? Не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку? Наверное, правильно, да только в этом есть особая роль. Кто прикрыл Европу от монголов? И, если говорить серьёзно, кто действительно спас мир от Гитлера?
— Потерпи. И имей мужество унять свой поток штампов. Былины, былины… А где наша «Илиада»? Где «Махабхарата»? Дослушай. Выслушай хотя бы одну, последнюю цитату: «Мы растём, но не зреем; идём вперёд, но по какому‑то косвенному направлению, не ведущему к цели».
— Цель‑то, по крайней мере, есть, — сказал я, не желая признаться в том, что последняя фраза произвела на меня впечатление. — Все‑таки кто же это?
— Чаадаев, «всевышней волею небес окованный на службе царской»…
— А зачем ты мне все это читал?
— Для твоего же блага. Ты‑то уж точно здесь погибнешь.
— Посмотрим. Готовишь себе оправдание. Ведь мы уже слышали нечто подобное, когда провожали то Мишку, то Андрея, то Отара.
— Генку с Валей, — добавил Левка, убирая тетрадь в карман.
— Да, и Генку с Валей. Я помалкивал, но всегда в душе думал, что это дезертирство. Им было наплевать, что станет со страной, которую они оставляют.
— И мне тоже, — перебил Левка. — Мы с тобой не можем ничего изменить. Я теперь хочу малого — хочу дать Машке настоящее образование, хочу снять хоть один задуманный фильм. Такой, как надо. И чтоб Галя платья да юбки для жирножопых продавщиц по ночам не шила, у неё все пальцы исколоты…
— Тогда так и говори — наплевать! — в сердцах сказал я. — Я никого не сужу, ни с кем не хочу спорить, в конце концов у каждого своя судьба, только мне кажется, большинство уезжает не для того, чтобы приехать куда‑то, а для того, чтобы просто уехать. От своих проблем, от самих себя. И обвинить во всём эту же Россию.
Я подозвал официанта, расплатился. Потом подошёл к буфету, купил две коробки дорогих шоколадных конфет, одну из них отдал Левке.
— Передай Машеньке. И вот возьми, пожалуйста, свою половину денег.
— Нет у тебя моей половины, — отказался Левка. — А за конфеты спасибо.
Мы оделись в гардеробе, молча вышли на улицу. Белый город под черным небом сиротливо гонял огоньки автомашин. Захотелось опять воскресить мелодию скрипки, но она исчезла из памяти, будто и не было ее…
— Помяни моё слово, — жёстко сказал Левка, прощаясь у автобусной остановки, — однажды мы с тобой все‑таки встретимся в Штатах. Вспомнишь этот наш разговор.
Цветок фиалки. Розовый, он стоит над розеткой листьев. Я смотрю на него бездумно, оглушённый только что отгремевшим скандалом. Утром мама увидела, что отец вырезал из общей фотографии дядю Федю. Осталась только рука дяди Феди, лежащая на папином плече.
Какой это год? Тридцать седьмой?
«Никогда не поверю, — сказала мама. — Это подлость». Родители, раскаляясь, шёпотом орали друг другу страшные слова. Потом разошлись на работу, каждый в свою сторону.
А я остался.
Цветок стоит перед глазами. Пять ярко–розовых и в то же время прозрачных лепестков, в середине жёлтые тычинки с шариками на концах. Все это беззащитное. Могу дать щелбан, и он слетит со своего хрупкого стебелька… На каждом лепестке — жилки, между ними чуть проступают какие‑то квадратики. Кажется, цветок тоже пристально смотрит на меня…
Кончики лепестков начинает окружать чуть вздрагивающее марево синего воздуха, где мелькают и кружатся золотые звёздочки–вспышки. Марево ширится, разгорается. Еще доля секунды, и я вижу вспыхнувшее густо–синее сияние, как бы поддерживаемое пятью лучами, расходящимися от лепестков.
Почему зелень? Откуда зелень? Во дворе в тенистых местах ещё лежит грязный лёд. Но помню и вспыхнувшую зелень тополиных почек. Вдоль просыхающих тротуаров, мимо вековых тополей текут ручьи, промывая накопившийся за зиму песок — золотом взблескивают на дне слюдяные чешуйки.
Солнце мечется под руками хозяек, моющих распахнутые окна. Мокрая, слепящая синева неба головокружительно шатается в застеклённых оконных рамах.
Сомнамбулически застыл на припёке, прислонившись к воротам двора, пацан с увеличительной линзой. Из‑под неё вьётся восхитительно вонючий дымок прожигаемой целлулоидной расчёски.
Чуть дальше по тротуару голенастые девчонки столбиками скачут через верёвку.
Почему именно этот миг весны не исчезнет из памяти никогда? Ведь ничего не случилось. Наоборот. Минут через сорок стрясётся крайне неприятная история. И хотя говорят, что память стремится избавиться от отрицательных впечатлений, история эта тоже запомнится на всю жизнь, может быть, как ядовитый контраст к чистому пробуждению природы.
Я ведь иду в школу, где назначена встреча с одним из покорителей северного полюса — Папаниным.
На сцене в актовом зале стоит накрытый красной материей стол. На столе возвышается графин с пробкой и стакан.
Председатель совета пионерской дружины — три красные нашивки на рукаве белой рубашки, — я сижу между директором и Папаниным, жду, когда в зале стихнет гул, чтобы произнести заранее выученное вступительное слово.
Солнечный луч играет на стеклянной пробке графина, взблескивает на орденах героя.
Наконец директор подталкивает меня в бок. Я поднимаюсь, без особых ошибок произношу текст и, садясь, решаю воспользоваться случаем — выпить воды из председательского графина, как это делает во время докладов сам товарищ Сталин. Я снимаю пробку, наливаю полстакана и лихо подношу ко рту.
О тухлая вода заседаний!
То ли нянечка никогда не меняла воду в графине, то ли в ней бешено расплодились особо вредоносные бактерии, только через секунду меня выворачивает у пожарного ящика за сценой.
Глава четвёртая
После трудового дня люди возвращаются домой по–разному.
Большинство ждут все те же, как и вчера, семейные хлопоты, тот же чай, телевизор или вечерняя газета, а после всего этого щелчок выключателя — и забытье до утреннего трезвона будильника, властно призывающего вновь уйти из дома, чтобы вечером вернуться обратно.
В этом заведённом механизме, наверное, для каждого бывали и свои прорывы: однажды кто‑то стремился домой в трепете от предстоящего свидания с ещё не обжитой квартирой; кого ждала молодая любовь, кого — ребёнок. Но все молодое становится старым, привычным. И вот человек плетётся в свою нору только потому, что идти больше некуда, а тут есть хотя бы домашние тапочки да своя лежанка.
Лишь для редкого меньшинства возвращение в дом — возвращение к высшему в себе — творчеству. Наконец оставшись один или в уважительном отдалении близких, человек смывает хлёсткими струями воды суету и усталость дня и скорей приступает к главному. Весь в своём деле, как в корабле, незаметно вплывает он в ночь…
Я не принадлежал ни к первым, ни ко вторым.
Конечно, я был благодарен судьбе за то, что у меня есть комната, квартира, согретая материнским теплом, но все лучшее, что приходило в голову, — строка стихотворения, образ, сюжет сценария — приходило чаще всего во время одинокой ходьбы.
Дома, за столом, я только записывал, разрабатывал принесённое из большого мира. Может быть, в силу того что в своё время я так и не смог впрячься в маятниковое движение масс от работы к дому и обратно, квартира стала всего лишь базой, единственной стабильной точкой в пространстве, по которому меня цыганила жизнь.
Вот и сейчас, подходя к подъезду, я думал о том, что нужно развить на бумаге мелькнувшую идею снять концерт маленьких детей, о которой я так и не посоветовался с Левкой, вышибленный из колеи неожиданным сообщением о его отъезде.
Окно материнской комнаты ещё светилось, бросая отблеск на верхушки заснеженных тополей.
Издавна было у меня свойство, никак не связанное с сознательной установкой. Я как бы становился тем человеком, о котором думал. До жеста. До внешнего сходства. Порой до пугающего возникновения в голове чужих мыслей.
Вот и теперь, поднимаясь по лестнице, я поймал себя на том, что как бы примериваю за Левку ситуацию последнего раза перед отъездом навсегда. Каково это в последний раз взбегать по щербатым ступенькам, в последний раз отпирать ключом дверь московской квартиры…
Когда я вошёл в прихожую, даже потянулась рука погладить несуществующую — Левкину! — бороду, но тут взгляд упёрся в стенку возле косяка, где несколько лет назад, расходясь после дня рождения, вдруг взяли и расписались друзья. Включил свет. Полустертые автографы ещё можно было различить:
Андрей
Гена
Валя
Владимир
Павел
Лена и Олег
Лева и Галя
Зураб.
Гена, Валя и Зураб были уже как бы по ту сторону жизни, канули за границу. Володя погиб, хотя сорванный голос и неостывший звук гитары ещё трепетали в воздухе… Теперь уезжал Левка, за ним отбудут Галя с Машенькой.
Каждый уезжающий и соблазнявший меня сделать то же самое добивался прямо противоположного результата.
Я сидел с матерью за кухонным столом, пил чай. Раскрытая коробка конфет стояла между нами овеществлённым признаком перемены. Но мать видела: я не рад ни полученной наконец работе, ни деньгам (я сразу отдал ей триста рублей на хозяйство, на квартиру, соврав, что получил аванс, — не объяснять же про бега).
— Утром звонил Лева, а часа три назад некая Надя… — Она вопросительно взглянула на меня: — Сказала, позвонит позже…
— Ах, Наденька! — Я совсем забыл о приглашении послушать вечером какого‑то «удивительного человека».
Всплыло вчерашнее чувство подступающей волны чего‑то неведомого, поворота. И на этой волне вдруг все‑таки вспомнилась, зазвучала мелодия скрипки…
Я молча смотрел на мать, и она смотрела на меня карими, ничуть не поблекшими глазами. Оба мы сидели друг против друга в одной и той же позе — подперев рукою висок.
— Ты читала сейчас?
— Совсем впала в детство. Взяла у тебя с полки Тургенева.
— Чего вдруг?
— Сама не пойму. Знаешь, читала, читала, а потом странная мысль пришла в голову. Будешь смеяться, но все же…
— Но все же? — подхватил я, через стол взяв мать за руку и ласково сжав её пальцы, распухшие в суставах.
— Почему‑то думала как раз не о Тургеневе — о Гамлете, Печорине, всех этих героях мировой литературы… Правда, не смейся над старой и глупой матерью. Я подумала: кого из них ни возьмёшь, хоть Дон Кихота, все они оказываются знаешь кто?
— Мама, ты меня заинтриговала. Что общего может быть между Гамлетом, Дон Кихотом и тем же Печориным?
— То, сыночек, что все они — бездельники, в том смысле что ничего реального не делают, не производят. Кого ни возьми. Татьяна Ларина, Онегин, князь Мышкин, все три брата Карамазовых, Пьер Безухов, Анна Каренина; и у Хемингуэя герои вечно слоняются из кафе в ресторан, пьют, иногда убивают других людей или быков. Всем еда сама валится в рот.
— Видишь ли, ведь это все по преимуществу дворяне, богатые люди. Гамлет даже принц…
— Тем более! Я этого понять не могу. Всю жизнь вставала каждое утро, в мороз, в жару, шла лечить детей. У трудящихся просто нет времени. А их поколениями воспитывают на этих будто бы положительных героях мировой литературы, которые, по–моему, прежде всего профессиональные бездельники.
— Я тебе подкину ещё мистера Пиквика, Одиссея, он только и знал, что путешествовал, а также чеховских трёх сестёр! Мама, да ты совершила открытие. А кипучий бездельник Остап Бендер?!
— Видишь, смеёшься! Так я и знала. — Мать сердито отняла руку и тут же улыбнулась. — Ты уж меня прости, наверное, на старости лет я перестала что‑либо понимать.
— Нет, мама, ты, как всегда, мыслишь свежо, а значит — молодо. — Я поднялся, обошёл стол и, нагнувшись, поцеловал её. — Ты у меня молодец, умница. А смеюсь я вовсе не над тобой, а над собой, потому что в фильме, который собираюсь снимать, дети будут танцевать, петь, то есть опять же бездельничать и ни в коем случае не вколачивать гвозди!
— Какие дети?! У тебя же сценарий о начальнике строительства ГЭС.
За окном пророкотала машина. И опять тишина затопила кухню.
— Верни аванс. Проживем.
— Не беспокойся, все в порядке.
— Когда ты так говоришь, я‑то уже давно знаю, что не все в порядке. — Она встала.
Из комнаты раздался звонок. Я успел подойти к телефону, бросил взгляд на будильник. Было четверть первого.
— Извините, Артур, — раздался в трубке быстрый Наденькин голос, — как хорошо, что вы не пришли, ведь вы не забыли, куда я вас звала?
— Помню. Не смог.
— И кстати! Всё перенеслось на завтра. Теперь наверняка. Только встречаемся в другом месте — у выхода из метро «Красносельская», в девятнадцать тридцать. Сможете?
— А вы уверены, что мне нужно обязательно идти?
— Ручаюсь! Будете рано утром на студии? Кое‑что расскажу.
— Вот это навряд ли.
— Тогда до встречи. Вы запомнили?
— У «Красносельской» в девятнадцать тридцать. — Я положил трубку с ощущением, что на меня настойчиво давят.
В чёрном окне на свет неонового фонаря конусом летел снег. Вновь разыгрывалась метель.
Нужно было сочинять сценарий, сочинять, не зная конкретных песен и танцев, исполняемых конкретными ребятишками. Писать нечто общее, взгляд на нечто — это могло только скомпрометировать в глазах Гошева счастливо пришедшую идею.
«Счастливо ли?» — переспросил я себя. Левка был бы презрительно против, мама — против, не говоря уже об Н. Н., хотя вчера идеи этой ещё не существовало. Даже и не против идеи они все, а против того, что я сдался.
Я стоял у окна, о которое бессильно бились снежинки, и думал о том, что завтра все‑таки придётся снова ехать на студию, взять бумагу, дающую право просмотреть детские самодеятельные коллективы, и отобрать номера, думал о материнских пальцах с распухшими суставами, о том, что к весне хорошо бы достать ей путёвку куда‑нибудь в санаторий.
Снежинки словно хотели заглянуть сюда, в тёплую комнату, из черноты ночи. Что‑то бесприютное, похожее на немую мольбу, было в этом неслышном биении о стекло.
Вскочив на подоконник, я рванул вниз верхний шпингалет, потом дёрнул нижний, распахнул не заклеенное на зиму окно.
Белый рой ворвался вместе с порывом ледяного ветра. Заждавшимися гостями снежинки летели вдоль книжных полок на стол, на кресло, на паркет пола.
Я подставил ладонь, они стали опускаться и на неё — невесомое чудо симметрии, нежности. И тут же исчезать, таять…
Я неотрывно смотрел на это умирание эфемерид. Трудно было предположить, что тончайшее кружево звёздочек создано низачем, без всякого смысла, и что случайно их сходство с лучистыми звёздами небес, которые сейчас были не видны, но где‑то там, над облачным покровом земли, над ночью, вечно светили.
Простая истина о крайней мимолётности человеческой жизни на фоне вечности лежала на ладони очередной тающей звёздочкой. Ледяная непреложность этого факта грубо вернула к мыслям о матери.
Я закрыл окно. Потирая мокрой рукой замёрзший лоб, оглядел комнату и вышел в кухню за веником и совком, чтобы смести налетевший снег, покуда он не растаял.
Мать продолжала сидеть за кухонным столом. Перед ней стояла раскрытая чёрная коробка с аппаратом для измерения давления.
— Опять поднялось?
— Немножко.
— Сколько?
— Неважно. Просто голова болит.
— Сейчас дам клофелин. Где он?
— Не нужно. Ну их, эти лекарства. Положи мне руки на голову. Помнишь, однажды положил, и всё прошло.
— Где у тебя болит?
— Затылок. И лоб.
Я приложил одну ладонь к её затылку, другую — ко лбу. Стоял над матерью, чувствуя своё бессилие. «Господи, хоть бы прошло, — думал я, — хоть бы на этот раз отпустило».
Если бы мне кто‑нибудь сейчас сказал, что я молюсь, я бы удивился. Просто очень хотелось, чтобы боль ушла, чтобы обошлось без неотложки или «скорой».
И боль ушла.
Когда я уже засыпал, странная мысль оформилась, зазвучала в мозгу: «Почему не говорят, не пишут о смерти? Словно некий цензор запретил. Ведь если бы каждый знал, помнил о неизбежном своём и чужом конце, люди стали бы добрее друг к другу, бескорыстней…»
И тут в закрытых глазах замелькали хищные лица, увиденные сегодня на ипподроме. Левка, орущий: «Жу‑ли–ки!» Но вот все перекрыли веер и красная юбка Машеньки, кружащейся в танце.
Прямо в ухо из невидимых уст:
— Артур!
До сих пор слышу этот сразу близкий и далёкий — ниоткуда — оклик:
— Артур!
Ошеломленно замираю с моделью планера в руке. Переулок пуст. Утреннее солнце освещает зелень тополей, деревянные домики, сиреневый булыжник мостовой.
Ни души.
И снова, совсем рядом, как предостережение, напоминание, рождающееся из воздуха:
— Артур!
Десятилетний мальчик едет с матерью в Крым, к морю. Окно в купе опущено донизу, ветер весело играет кремовыми занавесками, шелестит расстеленной на столе вощёной бумагой, на которой среди помидоров лежит разделанная на части большая жареная утка с толстой румяной корочкой.
Я, пишущий эти строки, знаю всё, что сбудется с мальчиком, какие метаморфозы ждут его впереди. Но, удивительное дело, мальчик этот со всеми его детскими глупыми надеждами, неосознанной уверенностью в бесконечности собственной жизни, в справедливости и чистоте распахивающегося перед ним мира, мальчик этот никуда не делся. Он не только в моей памяти. Он во мне. Как стержень.
И больше всего хочется сейчас поговорить с ним, услышать его голос.
— Артур, перестань уплетать утку, отвлекись. Ответь, куда и зачем ты едешь?
— В Евпаторию. Зимой я сильно повредил ногу. Мне сделали операцию — пересадку мышц. И теперь мама везёт меня на какие‑то лечебные грязи. И ещё я буду купаться в море.
— Кстати, где мама? Почему её нет в купе?
— Она в коридоре вагона. Разговаривает с военным, который тоже едет с нами. Этого типа я ненавижу, потому что мне кажется — он ухаживает за мамой. Вчера вечером вынул из кобуры и выложил напоказ вот на этот столик пистолет, стал его разбирать, чистить, вытащил из барабана патроны, дал мне подержать. Как маленькому. Я себя презираю за это.
— Интересно, чувствуешь ли ты, что скоро жизнь твоя и миллионов людей переломится на до и на после войны? И такой вкусной утки тебе уже не есть, оттого‑то ты её и запомнишь.
— Не знаю… Этот военный, у него ромбы в петлице, он по секрету сказал маме, что сопровождает каких‑то норвежцев, которые тайно едут из занятой Гитлером Норвегии через Советский Союз в Турцию, чтобы влиться в английскую армию.
— Где же эти норвежцы?
— В соседнем купе. Они в штатском. Один из них увидел мою красную пилотку-«испанку» и сказал: «Но пасаран!» Он был в Испании. Там победили фашисты.
— Ясно. А что в твоей жизни произошло важного за этот год? Кроме операции.
— Много! Во–первых, мы поменялись, хотя папа был против. Две наши комнаты в деревянном доме мама поменяла на одну, зато в самом центре, в большом каменном доме на улице Огарева, наискосок от МОПРа. Раньше нужно было зимой топить печку, на кухне жечь керосинку. А тут — паровое отопление, на кухне — газ. И самое главное — летом в раскрытое окно слышно, как бьют куранты на Спасской башне Кремля! А во–вторых, я сам записался в библиотеку, рядом, на улице Герцена. Там на полках сотни, тысячи книг, можно взять сразу три или даже четыре! Там очень добрая библиотекарша, она объяснила мне, что книги — это чудо, потому что они состоят из букв, которые просто значки, оттиски свинцовой краски на бумаге. Как сеть. И эта сеть удерживает мысли всех мудрецов всех народов, даже давно умерших!
— А что было ещё интересного за последний год?
— Очень чудной сон. Как будто не сон, а я просто иду по тёплой–тёплой узкой улице, и в воздухе висит красивая золотистая пыль от заходящего солнца. Иду один мимо каких‑то старинных домов и выхожу на площадь. Она круглая, посредине фонтан. Так было жалко проснуться!
— Почему?
— Просто жалко. Хотелось обратно.
— Так вот оно что! Тебе невдомёк, что этот самый сон будет изредка сниться много–много лет, пока ты однажды, уже наяву, не окажешься на той самой улице. Той самой площади. И узнаешь её. Но до этого ещё далеко. А пока, смотри, мама вошла в купе, да ещё с норвежцами, чтобы угостить их уткой. А этот командир, которого ты так ненавидишь, через год, попав в немецкое окружение под Гомелем, выстрелит себе в рот. Из этого самого пистолета.
Глава пятая
Я мотался по Москве без всякого толка. Оказалось, обыкновенных ребятишек, от души поющих и пляшущих, найти не так‑то просто. А может быть, и невозможно.
Уже начался месяц Самых Коротких Дней — декабрь. Особенно тяжёлый. И не потому, что у меня не было зимнего пальто. Даже недолгое отсутствие солнца, света, тепла всегда угнетало, как гнетёт север южные растения.
Каждый раз в эту пору я удивлялся: как это другие ухитряются радоваться зиме, вьюгам, морозу? И откуда это во мне такое нетерпеливое ожидание весны, прибавления светового дня, хотя бы только на листке календаря?
Выходя из очередного Дома пионеров в сырую тьму, пронизанную колючим ветром, думал: «Неужели и завтра то же самое, тоже впустую потраченное время жизни, да ещё на самое ненавистное?»
В самодеятельных коллективах помпезных Дворцов пионеров, клубов, даже в детских садах дети не были хозяевами, не имели права на выбор. Всюду и во всём ими руководили взрослые, по большей части те, кому не удалась их собственная артистическая или музыкальная карьера. Властные, жестокие, они словно мстили судьбе, дрессируя детей в угоду спущенным откуда‑то сверху методикам.
Эти «группы приветствия» всякого рода съездов и конференций, выкрикивающие слащавые стишки про планы, свершения… Эти огромные репетиционные залы с зеркалами во всю стену, полные грохота музыки, дробота танцующих ног, специфического запаха детского пота и всегда внезапного окрика: «Отставить! Репетируем снова!»
А эти вымуштрованные детские хоры с их солистами — лилипутской карикатурой на взрослых, поющие бодряческие песни о стройках.
А прислушивающееся, блаженное выражение лиц бабушек и мамаш, сидящих в коридорах с книгой или вязаньем в руках в ожидании своих возлюбленных чад!
Именно в этих детских коллективах не было детства, его непосредственного упоения пляской, словом, песенкой.
Я не знал, куда ещё податься со своей бумажкой — просьбой от студии «оказывать содействие в отборе номеров», которую подозрительно легко подписал Гошев. В исчерпанном списке оставалось всего два адреса.
Уже теряя надежду, нехотя, поднялся я по полукругу заснеженных ступенек к дверям нелепого, в стиле конструктивизма тридцатых годов угловато–кубического здания заводского клуба.
— Не уверена, найдёте ли вы у нас то, что нужно… Пожалуйста, смотрите сами. Только позвольте сперва предложить вам стакан горячего чаю, — встретила в своём кабинетике высокая полная женщина с косою, уложенной короной вокруг головы.
Подобным образом меня до сих пор не встречали. Я с удовольствием пил чай. А тем временем Татьяна Ивановна, так её звали, куда‑то вышла и вскоре вернулась вместе с беловолосым мальчуганом, одетым в тельняшку и расклёшенные брюки.
— Знакомьтесь. Игоряшка. Он вас всюду проведёт, всё покажет.
Я протянул руку, спросил:
— А сколько же тебе лет?
— Во втором классе. Восемь.
— Ты что — моряк?
— Он у нас — весёлый ветер!
…Да, мальчуган был что надо! В сопровождении оркестра школьников Игоряшка настолько задорно пел песенку из довоенного фильма «Дети капитана Гранта», что я понял: это находка. Как и весь оркестр! И маленькие танцоры, исполняющие «танец бабочек». И хор, трогательно выводящий моцартовское «Спи моя радость, усни…».
Всё, что я видел и слышал здесь, было находкой. Да ещё вместе с Игоряшкой и Татьяной Ивановной я заглянул в помещение изостудии, где усатый художник, похожий на мушкетёра, разрешал детям творить на ими же выбранные темы кто как хочет. Можно было попробовать рисовать акварелью, гуашью, пастелью, даже маслом. Художник лишь отвечал на вопросы ребят, советовал… Посмотрев работы студийцев, я сообразил: эти картинки непременно нужно ввести в будущий фильм для отбивки номеров друг от друга. Мало того, картинки могли при этом нести свой сюжет, хотя бы «времена года», и тем сцементировать десятиминутную ленту. Теперь сценарий фактически был у меня в кармане. Оставалось добавить танец Машеньки с веером, расписать номера по порядку и представить все это на утверждение Гошеву.
Я заказал ребятам серию картин — «Восход солнца», «Звездная ночь», «Зима», «Осень», «Лето» и «Весну» — в финал своего «Первомайского поздравления».
Из клуба вышел с Игоряшкой. Суконные уши его похожей на будёновку шапки сиротливо болтались на морозном ветру.
— С кем ты живёшь? — спросил я.
— Известно с кем — с мамкой.
— Она тебя не встречает?
— Еще чего!
— Кем же мама работает?
— Убирает цех после смены, а ещё лифтерит в подъезде через три дня на четвёртый.
— Ясно. Сниматься‑то в кино хочешь?
— Посмотрим, — независимо ответил мальчик, входя в метро. — Вам куда?
— На «Кировскую».
— А мне — в Текстильщики. До свидания! — И он исчез в толпе, стремящейся к эскалатору.
…На «Кировскую», в гости к Наденьке, я ехал, чтобы во второй раз увидеться с Игнатьичем — тем самым «удивительным человеком», проповедь которого все‑таки слушал неделю назад на квартире какой‑то бухгалтерши близ метро «Красносельская».
В тот раз я чуть запоздал к месту встречи, и Наденька, уже окружённая группой восторженных девиц и молодых людей, ни о чём не успела предупредить меня, только обрадовалась, что все‑таки пришёл.
Минут через пятнадцать, побросав грудой на сундук в передней верхнюю одежду, все мы втиснулись в комнату, где и так было полно народа. Люди тесно сидели на полу, стояли у стен. Лицом к нам, за маленьким столиком у окна сидел человек в сером костюме. Взгляд его спокойно останавливался на каждом.
Я как вошёл, так и остался стоять, прислонясь спиной к притолоке. Насторожила, как, впрочем, и всех остальных, эта атмосфера тайного сборища, вокруг сплошь были незнакомые лица. Люди, примолкнув, озирались, словно с недоумением спрашивали себя: «Что я тут делаю? Зачем я здесь?»
Одна лишь Наденька да бухгалтерша — хозяйка квартиры, — казалось, невозмутимо встречали новых гостей, с трудом продирались к столику с чаем и печеньем в вазочке. Но человек, которого называли Игнатьичем, не притрагивался ни к чаю, ни к печенью. Он продолжал внимательно оглядывать каждого вошедшего.
Наконец все оказались в сборе.
— Мне легче будет беседовать, если вы станете задавать вопросы, — сказал он.
Воцарилась недоуменная тишина. Видимо, большинство попало сюда, как и я, с бухты–барахты, совсем не представляя себе, о чём пойдёт речь.
Однако через секунду какой‑то бородач поднял руку и несколько раздражённо заговорил:
— Я уже не впервые слушаю вас. Совершенно не понимаю: почему вы так уверенно утверждаете, будто конец света наступит именно теперь, до двухтысячного года? Магия круглой даты? Так, в истории мы можем найти множество свидетельств — каждый раз накануне нового тысячелетия, даже века, подобных предсказаний было сколько угодно…
— Прекрасный вопрос, — одобрительно кивнул Игнатьич. Вдруг лицо его стало строгим, как бы по–военному собранным, и он стал чем‑то похож на Н. Н. — Думаю, никто из вас не станет отрицать, что за последние десятилетия наша Земля резко приблизилась к катастрофе. Мелеют реки, засоряются моря, океаны. Исчезли и исчезают целые виды животных, растений. Сама попытка защитить природу, все эти законы об охране окружающей среды придуманы учёными, не понимающими сути происходящей катастрофы. Между тем Земля во многих местах уже горит. Кто способен видеть — видят. Синевато–розовое пламя. Горит нижний астрал. Процесс этот — результат накопления вокруг Земли, в ноосфере, по определению нашего великого учителя Вернадского, чёрной, злобной энергии людей, особенно усилившейся сейчас, в XX веке. Появилось много новых болезней, в совокупности называемых «аллергии», что ничего не объясняет. Увеличилось количество немотивированных преступлений. А наркомания? Уход людей в царство грез… Мало того, все чаще вспыхивают межгосударственные конфликты, казалось бы, без особых причин. Ведь буквально каждый день сотни, тысячи людей убивают друг друга. Поговорите со старыми крестьянами любой русской деревни. Они вам скажут: Земля идёт к своему концу. И этот конец близок.
— Ужас какой вы говорите! — вскочила с пола молодая, рыжеволосая женщина. — У меня двое детей!
— То, что я говорю, есть в каждой газете, об этом трубят по радио. Имеющий уши да слышит.
— И когда же вы предполагаете? — раздался чей‑то оробевший голос.
— В домах, чьи фундаменты сейчас закладываются, люди уже не успеют поселиться. — Игнатьич встал из‑за столика, опережая шквал вопросов. — И это будет тот самый Страшный суд, о котором двадцать веков предупреждает Евангелие. Мало кто внял предупреждению… Кто крестился и покаялся. Эти, называемые «святой остаток», спасутся. За ними уже идёт из Космоса ковчег спасения.
— Какой ещё ковчег? — громко перебил раздражённый голос бородача. — Летающая тарелка, что ли?
— Избави Бог! Ближайшие сподвижники Христа прибудут именно на ковчеге спасения, который учёные по незнанию своему назвали астероидом Эрос, что значит Любовь. Ковчег причалит к Земле и заберёт праведников.
— И вас тоже? — уже с нескрываемой издёвкой выкрикнул бородач.
— Нет. Я буду убит на одной из центральных улиц Москвы вместе с ещё одним человеком.
— Откуда вы все это знаете?! — раздался истерический возглас.
— Не все я вам могу сказать, — тихо ответил Игнатьич и сел. — А что касается так называемых «летающих тарелок», или, как их у нас называют, НЛО, то двадцать веков назад в Евангелии прямо сказано: перед самым концом света дьявол будет отвлекать души людские всякого рода знамениями и «чудесами». Бойтесь их. Всё, что отвлекает людей от крещения и покаяния, — от дьявола. Вот вам единственный тест, единственный критерий. И — торопитесь. Настали последние времена.
И тут я не выдержал. У меня успело накопиться много вопросов к этому человеку. Задавать их здесь, при всех, было неудобно. Но один вопрос, как мне казалось, в корне подрубающий всю эту систему представлений, я все‑таки задал.
— Если вы правы, — сказал я, — то сейчас же все торгаши, спекулянты, вся человеческая сволочь ринется в церкви спасать свои шкуры. То есть души. Будут давать взятки, чтобы первыми креститься, расталкивать всех локтями. Вот эту женщину с её двумя детьми затопчут… Это вам нужно? Это угодно вашему Богу?
Все обернулись ко мне с надеждой. Да и сам Игнатьич смотрел, как ни странно, вроде бы одобрительно.
— Милый человек, — ответил он, вздохнув, — сказано ведь: креститься и покаяться. Покаяться. А тот, кто из глубины сердца своего покаялся, уже никогда не полезет вперёд брата или сестры своей. И уже не назовёт пусть заблудших, пусть грешных людей «человеческой сволочью».
Меня прожёг стыд. Я никогда не знал такого, почти физического чувства, когда стыд прожигает.
Вскоре Наденька предложила устроить перерыв. Часть народа немедленно окружила Игнатьича, часть вытеснилась курить на лестничную клетку, а часть, как‑то скрывая лица, торопливо оделась и ушла.
— Сердитесь, что я вас сюда привела? — мимоходом спросила Наденька.
— Нет.
— Знаете, Игнатьич уже несколько лет без работы, ездит по городам, ютится. Мы решили сейчас собрать, кто сколько даст.
— Конечно, конечно. — Я отдал ей пять рублей. — Хотелось бы с ним отдельно поговорить, вдвоем…
— А вы приезжайте ко мне в субботу на Чистые пруды, часов в восемь вечера.
— Хорошо.
Наденька побежала собирать деньги у курильщиков, а я вышел на кухню, где хозяйка–бухгалтерша раздавала всем желающим чай. Тут же в ногах взрослых вертелся мальчонка лет трёх, видимо внук хозяйки.
— Да он обыкновенный сумасшедший, — втолковывал бородач двум смертельно испуганным женщинам, — сумасшедший, и всё. А мы сидим, слушаем эту ахинею.
Тем не менее, когда перерыв кончился, бородач занял своё место в заметно опустевшей комнате.
Проповедник все так же внимательно оглядывал оставшихся. И тут в раскрытую дверь вбежал внучок хозяйки.
— А ты — сумасшедший! — радостно воскликнул он, указывая пальцем на Игнатьича.
Тот с беспомощной улыбкой смотрел на него, потом поднял руку, издали перекрестил…
Видимо, чтобы разрядить тяжкую паузу, Наденька спросила:
— А как вы относитесь к теории астронома Козырева о том, что время имеет вектор?
— Не теория — практика, — начал отвечать Игнатьич.
Но я уже не мог, да и не хотел вникать в эту проблему.
Спрашивали об индийских йогах, книгах Леви, опять о тарелках. А я все стоял у притолоки и думал даже не о приблизившемся конце света, а о самом Игнатьиче. Сумасшедший не сумасшедший, что толкнуло его выйти к людям с такими идеями, с такой убеждённостью в своей правде? Чем‑то он отличался от Н. Н., хотя то, что было сказано об астероиде Эросе, жутковато совпадало.
Теперь, когда я ехал из заводского клуба к Наденьке на Чистые пруды, эти мысли вновь всплыли, вытесняя Игорька с его песенкой о весёлом ветре, звуки клубного оркестра, да и все, касающееся будущего фильма.
«Ну, а такие, как Игоряшка, дети малые, в чём им каяться, они‑то за что должны гореть в этом астрале, в этом Страшном суде», — думал я, выглядывая номер Наденькиного дома сквозь снег и качающиеся ветви деревьев.
Открыв дверь, Наденька тут же сунула пятёрку, шепнула:
— Собрали тогда шестьдесят рублей, не взял ни копейки. Теперь целая проблема — раздавать обратно. Раздевайтесь и проходите со мной на кухню. Он пока разговаривает с Ниной — моей знакомой.
В маленькой кухне с пузырчатым от протечек потолком Наденька усадила меня на табурет, налила чашку кофе, поставила на стол тарелку с сухариками из чёрного хлеба.
— Извините, больше ничего нет. Картошку сыну скормила. Он спит.
— Наденька, возьмите эти же пять рублей, купите себе продуктов.
— Да не в этом дело, Артур. Ведь сейчас пост.
— Какой ещё пост?
— Рождественский. — Она улыбнулась моему незнанию.
— И давно вы крестились?
— Уже почти полгода. Как услышала Игнатьича.
— И сына крестили?
— И Костика.
— Сколько ему? Он сознательно на это пошёл?
— Вполне. Хотя Костику всего шесть.
Мне стало не по себе. Я смотрел на Наденьку, тщательно вытиравшую полотенцем стаканы, и думал: «Испугалась конца света? Ну, а сыну — шесть лет, и уже сознательно? Чушь какая‑то».
Словно прочитав мои мысли, Наденька с полотенцем в руках присела на другую табуретку и вдруг сказала, глядя в пространство:
— Когда мы крестились, от меня муж ушёл. Не смог понять…
— А что на это сказал Игнатьич?
— От него самого, с тех пор как стал проповедовать, отреклись жена, две дочери. Оставил им квартиру. Всё…
Наденька, с её поднятыми вверх пепельными волосами, худенькой фигуркой в чёрном платье, ничего, кроме жалости, не вызывала.
Скрипнула дверь.
— А вот и Нина, — промолвила Наденька. — Теперь ваша очередь.
Я встал. Навстречу мне с рукописью, заправленной в прозрачную пластиковую папку, шла эффектная, в браслетах и бусах женщина с чёрными локонами до плеч. Сколько я помнил, прошлый раз на встрече с Игнатьичем её не было.
— Пожалуйста, — она посторонилась в кухонных дверях, давая проход. — Ну и поле у вас!
Что она имела в виду, было неясно, во всяком случае, времени на размышления не оставалось, потому что я вошёл в комнату, где у стола вполоборота ко мне сидел Игнатьич. Справа в углу перед уходящими к потолку иконами мерцала лампадка.
— Здравствуйте. Меня зовут Артур Крамер.
— А я — русский Иван, Ваня, — Игнатьич улыбнулся, — зато, в отличие от многих, помнящий своё родство.
— В каком смысле? — насторожился я.
— Иван — значит Иоанн. Ведь это чисто еврейское имя, из Библии. Был такой — Иоанн Креститель… Ваня…
— Иван Игнатьевич, у меня к вам несколько вопросов. Разрешите задать?
Игнатьич кивнул.
Я вкратце рассказал о недавнем знакомстве с Н. Н., не раскрывая имени и фамилии, о всём комплексе в высшей степени странных идей, с которыми впервые в жизни столкнулся, о том, что тот тоже предупреждал: надо готовиться.
— Нет. Видимо, с этим человеком я не знаком, хотя наверняка у нас общий Учитель.
— Вы имеете в виду Иисуса Христа?
— Прежде всего. И других учителей, уже на этом, земном плане.
— Понятно, — сказал я, хотя далеко не все мне было понятно. — Ну, хорошо. Предположим, будет Страшный суд, надо готовиться. Но вот дети — безгрешные, маленькие, пусть некрещёные. Они‑то за что должны пострадать?
— Библия чётко отвечает на ваш вопрос: за грехи отцов. До седьмого колена.
— Но это жестоко!
— Среди всех существ Космоса лишь человеку дана свобода воли, поэтому так велика его ответственность за свои поступки, — строго ответил Игнатьич. — Каждой мыслью, каждым делом человек всякий раз выбирает между Богом и дьяволом.
— Ну, тогда, наверное, всем гибнуть в аду.
— Милый человек, — Игнатьич вдруг пригнулся ко мне, жарко зашептал: — увидите, Бог всех простит, ну, почти всех. Он же — Любовь. И вы тоже прощайте всех во всём, и от вас пойдёт добро, ладно?
— Ладно, — ошеломлённо повторил я.
Воротник рубахи Игнатьича был чист, но весь махрился от ветхости. И рукава пиджака — тоже. А глаза, васильковые, русские, сияли.
— Знаете, я очень любил своих отца и мать, — доверительно сказал Игнатьич. — Они умерли. Отец в войну, мать — простая колхозница — семь лет назад. И вот недавно мне их показали.
— То есть?!
— Очень просил. И вы просите, и вам откроется. Ну вот, вижу Космос, чёрный, бесконечный. И где‑то, страшно далеко, чуть светится. То ли я приближаюсь, то ли свет приближается… Смотрю — да это часовенка, а в ней лампадка горит, и матушка моя. Молится. Одна, средь Космоса… А потом показали другое: какие‑то камыши, заводь, в заводи лодка, а в лодке — отец мой, рыбу ловит (он смерть как любил рыбу ловить). «Батя, говорю, как ты тут? — до колена его дотрагиваюсь, а оно ледяное. — Может, тебе неприятно, что я тебя трогаю?» — «Нет, — отвечает, — ничего. Держусь молитвами матушки нашей, да тех, кто на земле помнит. Жду».
— Чего? Страшного суда?
Игнатьич кивнул, посуровев.
— Да вы поэт, — тихо сказал я. — Вы просто поэт. Я вот не верю и, наверное, никогда не поверю в Бога.
— Неправда. Каждый атеист, даже антирелигиозник, в душе верит. Только или не даёт себе в этом отчёта, или боится признаться. Ведь даже бесы веруют и трепещут.
— Ну откуда вам все это известно про конец света?
— А очень просто. Я, хотя и крещёный с детства, был, наверное, такой же, как вы. Кандидат наук, шагаю однажды с «дипломатом» в руке по Крещатику на работу, ни о чём таком не думаю, вдруг голос, женский, в ушах: «Бросай все. Иди, проповедуй моего Сына. Времени мало осталось». Я и пошёл.
Я перевёл дыхание, встал.
— Спасибо вам.
Игнатьич тоже поднялся, дружески подал руку.
— И вы тоже. Идите, креститесь, покайтесь. Это не формальный обряд. Кому дано — видят, как при крещении язык пламени падает в воду… По–моему, у вас ещё вопрос ко мне?
— Есть. Только о другом. Видите ли, друг мой вздумал уехать. Уезжает в Израиль, потом в Америку. Как вы бы к этому отнеслись?
— Пусть едет! Сейчас идёт великое размежевание. Многие уезжают. Туда им и дорога. У тех, кто в России, своя судьба. Над нею простёрт покров Богородицы.
…Наденька сидела в кухне одна. Перед нею лежала рукопись в прозрачной папке.
— Нина, когда уходила, сказала, что у вас какое‑то особо сильное поле. Она тут давала Игнатьичу одну вещь почитать. Оставила для вас. Хотите?
Даже не взглянув на заглавие, я взял рукопись и направился к вешалке.
— Ну, как вам Игнатьич? — шёпотом спросила Наденька.
— Голова пылает.
Морское утро.
Я неумело гребу вёслами. Грек–лодочник, дочерна выжженный солнцем, сидит на корме. Леска, которую он зажал в зубах, косо тянется за нами, уходя в синюю, искрящуюся воду.
Я знаю, с далёкой полоски пляжа мама напряжённо смотрит за нами, волнуется.
На дне лодки у моих ног уже лежит десятка полтора пойманных ставрид. Скучные они, серые.
— Сейчас, дядя Костя, мы поймаем необыкновенную рыбу.
— Акулу?
— Нет. — Я перестаю грести, на минуту зажмуриваю глаза. — Она будет красная, жёлтая, белая и немного синяя.
— Пусть так, — соглашается грек. — Только такой не бывает. Ты греби.
Я снова налегаю на весла, делаю гребок, другой. Леска дёргается. Лодочник резко подсекает лесу загорелой рукой, вытягивает, выбирает, и на поверхности моря, крутясь, появляется нечто красное, белое, жёлтое. Оно бешено сопротивляется.
— Дядя Костя, что это?! — кричу я. И вот на дно лодки тяжело шлёпается рыба. Разноцветная, как праздник.
— Умница, откуда узнал? — удивляется лодочник. — Морской петух. Редко попадается.
— Какой же петух — это рыба, — говорю я, проводя пальцем по атласно–влажной чешуе. Рыба бьёт хвостом, разевает рот. Краски её переливаются на солнце.
— Слушай, откуда узнал, что она попадётся? — продолжает удивляться дядя Костя.
— Не знаю. Закрыл глаза — и увидел.
Грек, наживив на крючок рачка, снова закидывает леску за корму.
— Мальчик, давай бросим обратно в море? Грех губить такую. Смотри, как цветок.
— Что вы?! Я хочу обязательно показать маме!
Пока мы разворачиваемся к берегу, полегонечку гребём, вылавливаем на ходу ещё несколько ставридок, праздничные цвета морского петуха блекнут. Он уже не бьётся. Уже поздно отдавать морю серую, как тряпка, дохлую рыбу.
Пораженный этим исчезновением цвета вместе с жизнью, я сижу в вытащенной на песок лодке, слышу рассказ дяди Кости о предсказанной поимке. Мама смотрит на меня с некоторой тревогой.
Войне — третий год.
Чем ближе фронт, тем дальше отодвигает меня от фронта. Из Крыма, над которым пролетели немецкие бомбардировщики, — в Москву, здесь тоже тревоги, ночи на платформах метро «Охотный ряд». Из Москвы — в Ташкент.
На колхозных полях под жарким солнцем узбекской осени я собирал хлопок, зимой вместе со всем пятым классом повторял за учителем: «калам — карандаш», «апа — женщина».
Познал и новые русские слова: спекулянт, проститутка, облава, вошебойка…
Как‑то после суточного дежурства в эвакогоспитале мама принесла домой судок ещё тёплого бульона, там плавало белое мясо.
— Куриный суп, — говорит она.
Только успел съесть первую ложку — вбегает мамина сослуживица Нора, тоже врач. Похоронка и письмо пришли сразу. Ее семнадцатилетний сын — доброволец Дима, которого мы две недели назад провожали, убит — фашисты разбомбили эшелон, даже не дошёл до фронта…
— Димочка! Дима! Димуша! — кричит она. Потом, уже к ночи, мама нагревает на электроплитке застывший суп, покрывшийся желтоватой корочкой жира.
— Не буду. Не могу, — говорю я.
— И не надо. Это не курица, это черепаха.
Меня рвёт.
— Ну, что ты? Что ты? ~ пытается утешить мама. — На войне каждую секунду убивают.
— Каждую секунду? — Я взглядываю на будильник. — И вот сейчас?!
С той ночи и до самого конца войны я помню, чувствую — каждую секунду.
А Нора — она сошла с ума. Ходит по ташкентским улицам, заглядывает во все дворы, зовёт:
— Димочка! Дима! Димуша!
…В начале 43–го года мама получает вызов, и мы возвращаемся в Москву, в комнату на улице Огарева, где в раскрытое окно доносится перезвон курантов с Красной площади.
Довоенная школа, школа в Ташкенте и вот теперь третья в жизни — 135–я образцово–показательная на Станиславского.
Как‑то в один из первых апрельских дней старенький учитель истории Аркадий Николаевич говорит в конце урока:
— Завтра все вы должны принести первомайские подарки для фронтовиков. Пусть каждый принесёт самое лучшее, самое дорогое.
А дома отец, которого не пустили на фронт из‑за грыжи. На днях он приехал после двух лет работы на лесоповале в Сибири — совсем худой, слабый, весь оборвавшийся. И получил в райкоме посылку американской помощи. Там был узкий синий пиджачок, доставшийся мне, две банки тушёнки и кожаный кисет с «молнией» и красной кисточкой на конце её, набитый ароматным табаком.
Я знаю, утром ребята принесут в класс книги, альбомы, в лучшем случае рукавицы. А мне хочется выпросить у отца кисет.
И он даёт. Только мама говорит, чтоб я написал записку бойцу. И я пишу:
«Дорогой товарищ красноармеец! Поздравляю с 1 Мая. Курите на здоровье».
Мама читает моё послание и велит исправить, потому что красноармейцев больше нет, а есть солдаты.
Я переписываю записку, втискиваю её в плотно набитый кисет, затягиваю молнию.
Утром на учительский стол поверх груды книг, рукавиц и альбомов ложится кисет с красной кисточкой.
— Молодец! — хвалит Аркадий Николаевич.
Проходит первый урок, второй. После третьего — большая перемена. Раздетые, мы выбегаем на школьный двор, где под солнцем уже зеленеет травка, лопнули почки сирени. Хорошо ухватиться за перекладину турника, подтянуться!
— Крамер! — подходит Рудик Лещинский, паренёк из нашего класса. — Посмотри, как Двоефедя из твоего кисета курит!
Отпустив перекладину, я опускаюсь на землю.
Наш директор Федор Федорович, по прозвищу Двоефедя, стоит на ступеньках у входа в школу. В руке у него самокрутка, из которой вьётся дым. Делаю шаг, ещё один. Ветерок катит по земле бумажку. Нагибаюсь за ней. «Дорогой товарищ солдат!» — Я поднимаю глаза. В другой руке у Двоефеди кисет. С красной кисточкой…
Звенит звонок. Но Большая перемена для меня только начинается.
Глава шестая
«ТУ-154», набрав высоту, пробил толстую пелену облаков, вышел в чистое небо, где сияла луна, а чуть поодаль от неё ярко лучилась звезда.
Что‑то похожее на турецкий флаг, южное было в этой декабрьской ночи. Казалось, лайнер недвижно завис среди зачарованного пространства и только тень его плывёт над бесконечным торосистым полем белых, как снег, облаков.
Я сидел у иллюминатора, все смотрел на луну, так и не отстегнув привязной ремень. И луна смотрела на меня своим магическим оком.
Там, внизу, под облаками, оставалась зимняя Москва, оставались скованные морозом спящие посёлки, леса, озера и реки.
Самолет плыл на юго–восток. В затемнённом салоне похрапывали пассажиры. Я вгляделся в циферблат наручных часов — было двенадцать с четвертью; подумал о матери, огорчённой моим внезапным отъездом, представил себе, как она ещё читает в постели. Потом почему‑то представился Игоряшка — тот наверняка уже спал… А что делал сейчас Иван Игнатьевич — молился о России?
В чёрном овале иллюминатора все так же одиноко светили луна и звезды. Никаких НЛО, ни астероида Эроса вроде не было видно.
Отсюда, сверху, все приключившееся со мной за последнее время показалось в высшей степени странным. Вдруг подумалось, что этот полет, да и сама поездка, даны как возможность вздохнуть, что‑то подытожить. «В самом деле, Н. Н. — Наденька — Игнатьич — потом эта Нинина книга…» — словно и впрямь кто‑то повёл, как предсказывал Н. Н.
В тот вечер, вернувшись после беседы с Игнатьичем, я стал листать напечатанную на машинке Нинину рукопись, невнятный четвёртый или пятый экземпляр. Чем дольше читал, тем большее раздражение охватывало меня. Но оторваться было невозможно. Речь шла о каком‑то исследовательском центре в США, где изучали людей, обладающих сверхчувственным восприятием, так называемых сенсетивов. Эти люди были способны на невероятное: уходили в сон с полным сознанием того, что они спят, и действовали в этих снах. Видели болезнь в теле пациентов и мановением рук изгоняли её. Видели какое‑то светящееся поле, окружающее фигуру человека, — ауру…
То ли это была фантастика, ловко скроенная под документ, то ли правда.
Дочитав рукопись, я вытянул руку с расставленными пальцами, некоторое время глядел на неё, пока не увидел нечто похожее на синеватое пламя, колеблющееся вокруг ладони.
На последнем листе под текстом размашисто, наискось было написано: «Большая просьба вернуть не позже чем через две недели». И тут же — номер телефона.
Хотя было уже поздновато, я все‑таки набрал этот номер.
— Слушаю, — раздался спокойный баритон.
— Извините, можно позвать Нину?
— Минуточку.
Через трубку доносилось пение Пугачевой: «Жизнь невозможно повернуть назад, и время ни на миг не остановишь». Наконец её приглушил весёлый напористый голос:
— Да?! Алло?!
— Добрый вечер. Это говорит Надин знакомый, Крамер, я прочёл вашу книгу.
— Уже?! Вот телепатия! Я ведь только что рассказывала мужу, какое у вас поле…
— Послушайте, Нина, я ведь ничего про это не понимаю.
— Ну приходите! Хоть завтра вечером! Поговорим. У нас будут интересные люди!
— Уж не сенсетивы ли?
— Увидите сами. Приходите!
Я записал адрес, сказал, что приду часам к восьми.
За два дня, прошедших со времени этого разговора и до посадки в самолёт, летевший сейчас в лунной ночи, произошло несколько событий, которых я никак не мог ожидать.
Находящийся там, внизу, под облаками, в сущности, тончайший слой человеческой цивилизации, окутавший Землю, был все‑таки парадоксален. Грозя в любую секунду уничтожить себя ядерной войной, люди, те самые маленькие мальчики и девочки, первым словом которых на любых языках звучало «Мама», «Ма», в целом были несчастны. Каждый по–своему. Там, внизу, кипели страсти. То затаённые, невысказанные. Как слезы, которых никто не видит. То взрывающиеся убийствами, всякого рода подлостями. Они боролись за место под солнцем, под этой самой луной, отпихивая слабых, добрых, и в результате тоже не получали ничего, кроме смерти.
Поймав себя на этих невесёлых мыслях, я удивился: с чего бы это они пришли в голову, кажется, никакого повода не было? Наоборот, у меня как будто всё складывалось неплохо.
Лайнер упрямо тянул сквозь ночь на юго–восток, в Азию. Корпус машины мерно подрагивал от работы двигателей. Луна уже отставала, уходя левее, за край иллюминатора. Зато неизвестная звезда все так же чисто лучилась навстречу взору.
Я наконец отстегнул пряжку страховочного ремня, подкрутил регулятор и, направив на себя ток холодного, свежего воздуха, расслабился.
Все‑таки приятно было вспоминать, как позавчера, наутро после телефонного разговора с Ниной, раздался звонок междугородной.
— Я вас не разбудил?
— Кто это?
— Доброе утро, Артур. Как поживаете?
— Тимур Саюнович! Я страшно рад слышать ваш голос!
— Я тоже рад, что тебя застал. Слушай, можешь срочно приехать на стройку?
— Когда?!
— Вылетай сегодня!
— Не могу, кто же мне даст командировку? И потом, несколько занят, впрягаюсь тут в одно дело.
— Бросай к чёртовой матери все дела, беги в газету, скажи им: Нурлиев, Герой Соцтруда, которому два года назад ты помог, просит командировать тебя.
— А что случилось?
— Подожди. Может, мне самому им позвонить? Какой телефон?
Я продиктовал служебный телефон Анатолия Александровича, снова спросил:
— Да что случилось?
— Приедешь — узнаешь. Когда будет на руках билет, пусть из редакции позвонят, я тебя встречу.
— Я сам позвоню.
— Не надо тратиться. Я же знаю: ты бедный. Очень нужна твоя помощь. Приезжай!
Может быть, самое приятное в жизни — чувствовать себя кому‑то нужным… Но прежде чем отправиться в редакцию, я долго дозванивался на студию. Там шёл редсовет, в числе других дел, возможно, решалась судьба «Первомайского поздравления».
Так захотелось уехать, что я просто счастлив был, когда секретарша соболезнующе сообщила, что утверждение сценария должно пройти сначала какой‑то Иностранный отдел и это произойдёт не раньше, чем через неделю.
В конце концов, зарплаты я пока что у Гошева не получал и формально был свободен, как птица.
Когда я приехал в редакцию, Анатолий Александрович, задёрганный, взлохмаченный, говорящий сразу по двум телефонам, только и успел бросить:
— Всё знаю. Иди заключай трудовое соглашение, бери командировку и — вперёд!
Никогда ещё они так запросто не отправляли меня. Только с билетом оказалось сложнее: я с трудом достал билет на завтрашний ночной рейс.
Да и происшедшее в оставшееся время тоже было любопытно перебрать в памяти.
То, как я приехал возвратить Нине рукопись и оказался в большой квартире. В гостиной, куда она меня провела, сидели в полутьме на ковре какие‑то девицы и под руководством пугающе худого маленького человечка с огромной бородой пытались крутить вокруг себя воображаемые цветные сферы и спирали. Причем одни сферы и спирали нужно было вращать по часовой стрелке, а другие одновременно — против. Девицы путались, нервничали. Человечек, неприязненно поглядывая на меня, снова и снова объяснял. Но ни девицы, ни Нина, ни её муж, оказывается, тоже сидевший слева от входа, в тёмном углу, — никто ничего не понимал.
По крайней мере, именно Нинин муж встал первым и, чертыхаясь вполголоса, вышел. Я выскользнул из комнаты вслед.
— Что тут у вас происходит? — спросил я, входя за ним в кухню, где на холодильнике стояла высокая клетка с большим разноцветным попугаем.
— Вы кто — йог?
— Нет. Я просто Артур Крамер.
— А меня зовут Пашей, — с облегчением произнёс он. — Хотите выпить?
Человек этот сразу мне понравился. Хоть Паша в сорок лет, как оказалось, был доктор экономических наук и профессор, никакого занудства в нём не ощущалось. Он рассказал, что, с тех пор как они вернулись после трёхлетней работы в Мали, Нина вдруг увлеклась сперва хиромантией, потом китайским массажем, теперь вот начала кругить сферы, а на днях была у какого‑то Игнатьича, вещающего о конце света…
— В самом деле — конец света! — Паша опрокинул в рот рюмку водки. — Пытаюсь понять. Высмеять ведь легче всего. Говорит, видит какие‑то поля. Я ничего не вижу. А вы?
— Не знаю. Иногда что‑то со мной происходило… До сих пор толком не задумывался. А вообще говоря, надо бы выйти на компетентного человека, который мог бы что‑нибудь объяснить. Вон в книге вашей написано: Штаты целый институт создали. Они, говорят, денег на ветер не бросают.
— Читал я эту книгу! А вы уверены, что это не фальшивка, не лабуда для отвлечения наших с вами мозгов? Знаете, Артур, есть старый школьный товарищ — физик, членкор, руководитель целой группы институтов. Он‑то должен был интересоваться, что‑то соображать. Его мнение было бы для меня решающим. Я бы тогда всю эту публику на порог не пускал!
— Что ж, мне тоже было бы любопытно с ним встретиться.
— Давайте! — загорелся Паша. — Хоть сейчас созвонюсь с ним, и завтра поедем вместе! Сегодня уже поздно.
— Не получится. У меня билет в кармане. Завтра ночью лечу в командировку.
— Так это ночью! Пойдемте, Артур, мне одному или даже с Ниной просто неудобно идти к нему по этому делу. Давно не виделись, я учёный, он учёный, и вдруг прихожу, ляпаю: «Гоша, а что, хиромантия — это серьёзно? А все эти поля–огороды вокруг личности — есть или нет? А как насчёт конца света?» Язык не повернётся!
— Понятно. Ну, если завтра вечером и не очень поздно — у меня повернётся.
— Ох, простите! Я не хотел вас обидеть. Вы понимаете, моя Нина год диссертацию не может дописать, занимается черт знает чем, водит сюда толпы сомнительных типов. После работы мою посуду, сдаю белье в прачечную, добываю продукты, а тут, видите ли, крутят сферы!
— Паша, а вдруг это серьёзно?
— Что — это?! — выкрикнул в раздражении Павел. И тут в гостиной послышался шум, раздались тревожные голоса. Павел вскочил, на пороге кухни столкнулся с Ниной.
— Воды! — крикнула она. — С девушкой одной обморок!
— Этого ещё не хватало, — сквозь зубы пробормотал Паша, наливая в стакан воду.
К счастью, упавшая в обморок девица пришла в себя, и вся компания быстро испарилась. Первым удалился худенький человечек с большой бородой.
— Не уходите, Артур, умоляю вас, — шепнул Павел. — Ну хоть ещё полчасика, чаю попьём.
Я понял: если уйду вслед за всеми, тут разразится семейный скандал.
Пока ужинали, пили чай, пока Паша созванивался со своим членкором, Нина все жаловалась на мужа: мол, закоснел, ничем не интересуется, еле уговорила попробовать вращать сферы, и то вышел. Не усидел.
Я почувствовал скрытый упрёк, обращённый и ко мне, сказал:
— Сколько я понял, у всех ничего не получалось.
— Да потому что один закрытый человек мешает созданию общей ауры! — с досадой ответила Нина.
— Значит, я тоже закрыт?
— Вы‑то как раз открыты. Поле у вас — на полкомнаты!
Услышав эту фразу, Паша даже побледнел от злости. А я, предупреждая взрыв, поспешно спросил:
— Нина, неужели вы все это видите?
— Да я целый год этим живу, у меня, представьте, знакомые есть, которые занимаются в специальной лаборатории. Да, в специальной! Между прочим, там и кандидаты, и даже доктора наук.
— Где же эта лаборатория?
— Вас обязательно туда отведут. — В глазах Нины стояли слезы. — А я из‑за него до сих пор там не была.
— Артур завтра уезжает, — вмешался Паша.
— Ничего. Приеду из командировки — обязательно пойду. Ведь нужно выслушать и другую точку зрения, не так ли?
Тот нехотя кивнул.
Мне почему‑то показалось, что при Нине о завтрашнем визите лучше не говорить, Паше это было бы неприятно.
И я не ошибся. Провожая меня к троллейбусной остановке, Паша сказал, что заедет за мной на машине к семи часам вечера, а после посещения членкора отвезёт прямо в Домодедово, в аэропорт.
Сейчас, разглядывая калейдоскоп московской жизни отсюда, из летящего самолёта, я поймал себя на ощущении, что все происходившее там, внизу, казалось несколько нелепым, ненастоящим, как африканский попугай, томящийся в клетке на холодильнике. Как этот членкор Георгий Николаевич, Гоша, которого, кроме каких‑то сложнейших интриг в своих институтах, вроде ничего и не интересовало.
Когда я храбро завёл разговор о том, ради чего мы с Пашей прибыли, тот только отмахнулся:
— Не берите себе в голову. Ноль. Пустое дело. Такое уже было при распаде Римской империи — всякого рода пророки, волшебные исцеления, нимбы. И перед первой мировой — спиритизм, Распутин, так называемые ясновидцы. Жалко, жена с сыном на даче — нечем вас угостить… Скажите, вы случайно не собираете марки? Меня интересуют почтовые знаки любых стран до сорок пятого года.
— Где‑то что‑то осталось от дедушки. — В тот момент я остро пожалел Нину: каково‑то ей будет теперь?
— Голубчик, умоляю, разыщите! Дайте мне ваш телефон, я сам позвоню, не то забудете.
Я оставил ему номер своего телефона, и мы с Пашей поехали в Домодедово.
По дороге Паша спросил:
— Ну и что, теперь после этого пойдёте вы в ту самую мифическую лабораторию?
— Обязательно. Видите ли, вы же не станете спорить, что истина одна. Кто‑то ошибается. Или Нина, ну и остальные с ней, или ваш Гоша вместе со всей официальной наукой. Во всяком случае, пока что большее уважение у меня вызывают Нина и такие люди, как Игнатьич. Отмахнуться ведь легче всего.
Паша трогательно дождался вместе со мной регистрации, довёл до «накопителя», махнул на прощание.
Хороший он был человек. Хороший человек был и Нурлиев, который сейчас, ночью, наверное, уже выезжал с далёкой стройки к аэропорту древнего азиатского города. До посадки оставалось около часа. Я прикрыл глаза и задремал.
…Всегда казалось странным, что люди не знают, сколько времени, обзаводятся часами, то и дело на них взглядывают.
Который час? Достаточно задать себе этот вопрос, и где‑то там, в уме, видишь стрелки на циферблате — без четверти пять. Или двадцать минут восьмого. Порой ошибёшься минуты на три. Причем если ошибаешься, то всегда почему‑то вперёд, в сторону увеличения времени.
А иногда никаких стрелок и циферблата не видишь. Просто задаёшь вопрос и через секунду уже знаешь: без пяти двенадцать…
Только не надо стараться. Если хоть немного постараешься угадать — ничего не выходит.
Он бьёт меня в голову чем‑то твёрдым, я валюсь в проход между партами, успевая схватить его за ногу, дёрнуть на себя.
— Ну, гад! Дай ему, Сокол, ещё!
Они громоздятся вокруг, смотрят, как он, кажется, убивает меня — кровь слепит глаза. Новый удар в голову. Из последних сил добираюсь руками до его кадыка, стискиваю мёртвой хваткой.
А ведь совсем недавно всё было так хорошо. Наши идут по Германии, уже подходят к Берлину. Вот–вот кончатся эти четыре года, когда каждую секунду кого‑нибудь убивают, — я это помню, помню всегда. Я видел раненых — читал в госпиталях газеты слепым, писал письма за безруких. Я разговаривал с ними, через них ужас фронтовой мясорубки вместе с запахом гнойных повязок дошёл до меня. Скоро война кончится, скоро мне исполнится пятнадцать лет, наступит необыкновенная жизнь.
В апреле в нашем седьмом классе появился новенький — коренастый, с глазами навыкате, зовут его Валька Сокол. В первый же день он сходится с двумя второгодниками — Морозовым и Таточенко, которые по дешёвке скупают на рынке облигации военных займов, скупают чемоданами, спекулируют американскими фотоаппаратами «лейка», оказывают какие‑то услуги нашему директору Двоефеде — Федору Федоровичу. А на уроках немецкого языка изводят учительницу, ещё не старую женщину — мать моего соседа по парте Рудика Лещинского, демонстрируя с «камчатки» похабные жесты…
Сокол не только присоединяется к этой компании мерзавцев. Сегодня на перемене он, гогоча, сообщил при всём классе робкому Лещинскому о том, что уже переспал с его мамашей.
— Сволочь ты, а не Сокол!
— Кто?
— Сволочь, — повторяю я и вижу, как, засунув одну руку в карман, он идёт на меня.
Лещинский, понурив голову, шепчет:
— Не связывайся…
— Моя фамилия Сокол! — говорит между тем Валька. — А твоя‑то какая?
— А моя — Крамер.
— Немец?
— Сам немец, фашист!
— Он еврей, — подсказывает Таточенко.
А Морозов добавляет:
— Жиды Христа распяли!
— Ах, значит, жид?! — радостно удивляется Сокол. — А ну скажи, что ты жид!
Класс замер. Я уже слышал это короткое страшное слово. Но до сих пор мне не приходилось задумываться о его смысле. Я знал, что я — советский. Такой же человек, как все в нашей единственной в мире стране…
— А ну скажи, что ты жид! — повторяет Валька и вдруг замедленным, как бы ленивым движением сует кулаком мне в нос.
— Я еврей, — яростно говорю я, не понимая того, что делаю выбор. Что действительно на всю жизнь становлюсь евреем.
Слезы застилают глаза. Слепо хватаю с парты чернильницу–непроливашку, швыряю в морду. Промахиваюсь. Чернильница с грохотом разбивается о стену.
И вот тогда другая его рука молнией вырывается из кармана. Что‑то взблескивает на миг, и уже из головы моей течёт теплое… А ведь совсем недавно всё было так хорошо.
Мы боремся, валяясь в проходе. Он снова и снова бьёт меня твёрдым. Бьет. Убивает на глазах у всех, но пальцы мои намертво сошлись на его горле, удары слабеют, слышится хрип. Кроме этого хрипа, я уже ничего не слышу, пока не раздаётся зычное:
— Встать!
Кто‑то с силой вздёргивает меня за ворот. Встаю, весь в крови. С трудом поднимается и Валька, пряча кастет.
Смутно различаю стоящего перед нами Двоефедю.
— Кто изгадил стену чернилами?
— Конечно, Крамер, — слышится голос Морозова.
— Вон отсюда, подлец! И чтобы мать принесла деньги на ремонт всего класса!
Глава седьмая
Я спускался по трапу одним из первых. Впереди, провожаемые стюардессой, сходили к подъехавшей чёрной сверкающей «Волге» дородная женщина в меховой шапке и дублёнке и совсем молодая парочка в кожаных пальто. Шофер уже укладывал в багажник машины чёрные чемоданы.
Пассажиры только начали тянуться к зданию аэропорта. «Волга», развернувшись, обогнала их и вылетела в город через раскрытые ворота. Бросился в глаза номер машины — «00–10».
У входа в отделение выдачи багажа толпились встречающие. Нурлиева среди них не было. Не было видно его и в зале, и у выхода на площадь, где возле стоянки такси накапливалась очередь.
Слепило встающее из‑за гор солнце. Здесь было тепло. Слышалось воркование горлицы. Воздух, сладкий, азиатский, размаривал…
Я перекинул ремень дорожной сумки с одного плеча на другое, нерешительно повернул назад. Больше всего хотелось сейчас выпить чашку крепкого кофе.
— Не вы будете Крамер? — Молодой смуглый парень растерянно шёл навстречу по опустевшему залу.
— Не буду, а есть!
— Извините, задержали на заправке, опоздал мало–мало.
— Ничего. А где Тимур Саюнович?
— Знаете, он просил сначала отвезти вас к Атаеву.
— К какому Атаеву?
— Директору комбината. Немножко неблизко. 350 километров будет… Вот записка вам.
«Артур! Нет возможности встретить, да и увидеться тоже. Прошу, поезжай с Чары на строительство металлургического комбината. Там тебя ждёт Атаев, ему надо помочь в первую очередь. Когда разберёшься, Чары привезёт прямо ко мне. Жму руку. Нурлиев».
— Что ж, Чары, поехали. — Я спрятал записку. Мы направились на площадь к стоящему в отдалении скромному газику с выгоревшим до белизны брезентом.
— Наверное, с Москвы не ели? — участливо спросил Чары. — Нам часов пять пилить…
— В самом деле, может, где‑нибудь перехватим по чашке кофе с бутербродом?
— В нашем городе кофе не выпьешь. Знаете, лучше всего завернём по пути на базар в чайхану, должна быть открыта.
Пока мы ехали туда, я смотрел на пробуждающийся город, не познавший снега, на школьников в расстёгнутых курточках, на бредущего по мостовой ишака, запряжённого в телегу. Как далеко отсюда было вчерашнее посещение членкора Гоши, ночная дорога с Пашей в завьюженное Домодедово…
Сидя под навесом за столиком чайханы, я видел перед собой оживающий базар — груды зелени на лотках, пирамиды орехов, гранаты. Поодаль полукольцом стояли закрытые ещё ларьки и киоски, здание барачного типа с вывеской «Комиссионный магазин».
«Интересно, неужели есть все‑таки смысл в этой цепи людей и событий? В том, что я сейчас оказался здесь, вижу этот дурацкий комиссионный магазин, это утро?» Ощущение того, что мне все это действительно для чего‑то показывают, куда‑то ведут, даже испугало…
Но вот расторопный Чары поставил на столик две щербатые пиалушки, чайник с зелёным чаем, разломил горячую лепёшку, потом принёс откуда‑то миску с пышущими паром пельменями–мантами. И все опять показалось обычным.
И дорога была обычной асфальтовой стрелой. Справа, на краю пустыни, изредка мелькали то новый посёлок, то старые крыши за глиняными дувалами, а слева всё время длился, синел высокогорный хребет, за которым простиралась другая страна.
В пути я выяснил у Чары, что тот ничего об Атаеве не знает, хотя видел его несколько раз, что он новый шофёр Нурлиева, осенью вернулся из армии в родные места, где теперь возводят ГЭС. Я слушал рассказ Чары о строящемся при ГЭС невиданной красоты городе, о том, что он получил вместе с женой и тремя детьми квартиру, что уже забили фонтаны на площади рядом с гостиницей…
Приятно было все это слушать, вспоминать прошлую поездку к Нурлиеву, свою статью в центральной газете. Я поймал себя на честолюбивой мысли: не будь статьи и решения, принятого по поводу неё, строился бы этот город, получил бы Чары свою квартиру?
Чары ничего ни о статье, ни обо мне не ведал. И в этом тоже таилась своя прелесть.
Постов ГАИ на шоссе не было, лишь пограничники по несколько раз останавливали машину, проверяли документы, и снова газик мчался вперёд. Стрелка спидометра колебалась у отметки 120 километров, и при этом Чары успевал закуривать сигарету, рассказывать о ГДР, где он служил.
Миновав лежащих у обочины верблюдов, газик резко свернул направо, показались стоящие на холме развалины крепости, за холмом виднелся большой кишлак.
Судя по обилию коротко обрезанного тутовника, растущего вдоль дороги, безлистых сейчас фруктовых деревьев, окружающих дома, здесь был оазис, вода.
Проехали мимо чайханы, стоящей над арыком, базарчика, длинного забора воинской части, здания ПТУ. Машина свернула снова, и вот на фоне синих гор открылись белые трубы и корпуса строящегося комбината.
Редкостной красоты человек — высокий, широкоплечий — возвышался над группой людей, обступивших его у входа в административный корпус. Все они были в оранжевых касках строителей, что‑то горячо обсуждали.
Я терпеливо прохаживался поодаль у газика, разминал ноги. И без подсказки Чары стало ясно, что высокий — это и есть Атаев. Поражала молодость директора; все стоявшие вокруг были явно старше его.
Наконец Атаев неторопливо зашагал навстречу, на ходу снял каску. Густая шапка волос была совершенно седая.
— Как добрались? — Он говорил с сильным восточным акцентом. — Давно вас увидел, извините, дела заели, просто конец света. Благодарен, что приехали.
«Вот и тут конец света», — улыбнулся я про себя и тотчас же, терзаемый любопытством, спросил:
— Простите, сколько вам лет?
— Тридцать седьмой. Все спрашивают, когда видят снег на моей голове… Давайте поднимемся в кабинет, выпьете зелёный чай? А в перерыв пообедаем у меня дома.
Я был заинтригован. С того самого момента, как прочёл записку Нурлиева. Понимал лишь одно: Нурлиев не стал бы по пустякам вызывать меня из Москвы, отфутболивать без серьёзной причины к Атаеву. Уже побывав на Востоке, я знал, что здесь сразу о главном не говорят, ни о чём не просят, а как бы проговариваются. Поэтому спокойно попивал терпкий зелёный чай, сидя в кабинете за маленьким боковым столиком, разглядывал рельефную карту республики на противоположной стене. К Атаеву валом валили инженеры, рабочие, звонил то один, то другой телефон, секретарша носила на подпись бумаги. Часа через три, то ли от долгой дороги, то ли от бесконечного мелькания лиц, я почувствовал приступ нарастающего раздражения. И когда Атаев сказал: «Все! Едем обедать!» — чуть не выпалил: «Я к вам сюда не обедать ехал!»
Директор оказался местным уроженцем. На одной из узких улиц кишлака за глиняным дувалом в саду стоял длинный неказистый дом с пристройками и навесами, где жили бабушка Атаева, его родители, его братья и сестры с многочисленными детьми, а также его собственная жена и четверо сыновей.
Было ощущение, что я попал то ли на территорию детского сада, то ли в зверинец. Мычала корова, блеяли бараны, под ногами путались куры, у сарая важно надулся индюк. Среди всего этого ездили взад–вперёд на велосипедиках, игрушечных автомобилях стриженные ёжиком мальчики; девочки, одетые в красные бархатные платьица, с серёжками в ушах, нянчили младших, с важностью Черчилля держащих во рту соски, или же возились со щенками и котятами.
Войдя под навес и оставив там туфли, я прошёл вслед за хозяином в комнату, где, кроме лежащего на полу ковра с пёстрыми подушками и угловой тумбочки с телевизором, ничего не было. Лишь на стенах висели фотографии. Почти все они относились к довоенному и военному периоду жизни семьи Атаевых. Старики в высоких каракулевых шапках, групповой снимок людей у колёсного трактора, ещё одна сильно увеличенная, в деревянной рамке фотография молодого человека тоже в бараньей папахе, но при пиджаке и при галстуке.
— Кто это?
— Наш первый предсовнаркома. Его в тридцать шестом отправили на тот свет, — ответил Атаев.
Скинув пиджак, он уже полулежал на ковре, опираясь локтем о подушку.
На другой стене висели многочисленные цветные виды — Париж с Эйфелевой башней, на фоне которой стоял кто‑то, похожий на Атаева. Я пригляделся — да, это был Атаев, только ещё черноволосый. А вот Атаев в Нью–Йорке, вот, видимо, в Токио. Рядом было фото, где Атаев, элегантный, напоминающий Маяковского, сидел под зонтиком уличного кафе.
— А это где?
— Турин. Четыре года назад я объездил полмира, был и в Латинской Америке. Пока будете смотреть, всё остынет, садитесь.
— Садитесь в смысле ложитесь, — пробормотал я, так и не привыкший к азиатскому способу поглощения пищи.
— Стул принести?
— Что вы! В Москве ещё насижусь.
За то время, пока я рассматривал фотографии, на клеёнке, расстеленной посреди ковра, появились глиняные миски с дымящейся шурпой, блюдо жареной рыбы, обложенной зеленью, бутылка коньяка и вездесущий чайник зелёного чая.
— А мой шофёр Чары, он где‑нибудь пообедает? — спросил я, пристраиваясь к подушке.
— По вашему вопросу видно: плохо знаете Азию. Такие вопросы у нас задавать не нужно. С Чары все в порядке. — Атаев разлил в рюмки коньяк. — Вообще, давайте выпьем по–мужски, на «ты», для вас я Рустам, вы для меня — Артур. Тем более разговор предстоит секретный, доверительный.
— Хорошо, Рустам.
Мы начали есть шурпу, когда в комнату с блюдом в руках вошла женщина в низко повязанном чёрном платке, в красном бархатном платье.
— Это Надия, моя супруга, — сказал Атаев.
Я поднялся с ковра, хотел протянуть ей руку, но она лишь поклонилась, поставила блюдо и тотчас же вышла. На блюде лежали гранаты, орехи, изюм, миндаль, вяленая дыня.
— Все‑таки плохо ты знаешь Азию, — сказал Атаев, наливая по второй рюмке. — Кроме как на стройке у Нурлиева, нигде у нас не был?
— Мальчиком жил в Ташкенте, в 41–42–м годах.
— Понятно. Невзоров тоже там был в эвакуации. Случайно не знаешь такого? Эдик Невзоров. Эдуард Григоръевич.
— Нет. Кто это?
— Наш большой с Нурлиевым друг, чтоб его дьявол унёс в преисподнюю. Знаешь, Артур, нехорошо так думать, но иногда я, член ЦК, ловлю себя на мысли: застрелю себя. Или его. И сам заработаю «вышку».
— Ну что вы такое говорите, Рустам?!
— Что я говорю? — Он вдруг вскочил, потянул меня за руку. — Зайдем сюда!
Я вошёл в большую тёмную комнату с наглухо зашторенными окнами. Щелкнул выключатель на кронштейне. Огромный письменный стол, чертёжная доска, книжные полки, забитые томами, над тахтой спиралевидные рога, с которых свисало несколько фотоаппаратов.
— Садись!
Я сел в удобное вращающееся кресло. Атаев сдёрнул с шеи галстук, снял через голову шнурок с ключом, отпер один из ящиков письменного стола и вынул оттуда магнитофонную кассету.
— Артур, слушай меня внимательно. Тимур Саюнович сказал, тебе можно доверять, да? — Он пытливо смотрел мне в глаза. — Кроме меня и Нурлиева об этой записи будешь знать только ты. Пока только трое нас будут об этом знать.
Мне вдруг неуютно стало в этом кресле, в этой комнате. Втягивали в какое‑то опасное дело, к которому я не имел никакого отношения, у меня и своих проблем было — достаточно. «Нурлиев — Герой Соцтруда, этот — член ЦК. Что я им? Всего лишь корреспондент центральной газеты, да и то внештатный».
Я нервно пригладил пятернёй голову.
Между тем Атаев вставил кассету в крошечный магнитофон, нажал кнопку.
« — …Ты сказал, теперь я скажу. Азиатская твоя башка думает хрен знает о чём, только не о плане. Который есть закон. Закон! Государство может позволить многое — например, послать тебя чуть ли не на год за границу, для собирания ихнего опыта. Хорошо, в результате сделали тебе поблажку, изменили тебе проект, удорожили его, усложнили. А ты тогда думал о том, что хлебать все это буду я, Невзоров, мой строительный трест, мои рабочие? Да у нас и средств таких нет, и специалистов, и технология не та… А тебе всё было мало! Вспомни: до Москвы дошло, до Совмина, пока спецпостановлением тебя уломали, национальный ты кадр, чтоб приступить наконец к строительству. Москве нужен металл, и как можно скорее, а ты что разводишь? Видите ли, воздушный бассейн родного района ему дорог, какой‑то тутовник погибает, фруктовые сады, делай ему отстойники, фильтры… Сделал же я тебе что мог и как мог. Почему не подписываешь, почему опять не принимаешь объекты? Когда примешь четвёртый цех? Трест без прогрессивки сидит.
— Будет сделано как следует, по проекту — подпишу.
— Нет уж. Условия теперь ставлю я, Невзоров. Или подпишешь, а мы потом доделаем, или хозяин устроит тебе такой пленум, что выйдешь оттуда вредителем. Если вообще выйдешь.
— Это он передал? Угрожаете? — узнал я голос Атаева.
— Он. Хозяину к семидесятилетию второго героя получать. Уже дырочку в лацкане провернул. По всем делам полный ажур, кроме твоего сраного комбината. Подпишешь, куда денешься!
— Никуда не денусь, — снова раздался гортанный голос Атаева. — Пока жив, халтуры не приму. Знаю: потом ничего не доделаете.
— Ну смотри. Думаешь, мы не видим, что тебя поддерживает Нурлиев? Оба сгорите. Из четырёх цехов только два дают продукцию, остальные шесть — одни фундаменты. И все из‑за очистных сооружений. Знаешь, как это называется, когда сейчас такое международное положение? Может, Рустам Атаев, ты сумасшедший? В больницу отправим.
— Я действую по закону. Две комиссии из Москвы установили: очистные сооружения не доведены, никуда не годятся. Я, Атаев Рустам, головой отвечаю перед своим народом за здоровье людей, за этот воздух, за эту землю.
— Да ты не только сумасшедший, но и демагог. Больше говорить с тобой не о чем. На пленуме поговорим. Только не вздумай пустить в себя пулю до пленума!»
Пленка ещё некоторое время шипела. Потом послышался щелчок. Атаев выключил магнитофон.
— А что, у вас есть оружие? — растерянно спросил я.
Атаев спрятал кассету, вынул из того же ящика пистолет.
— Рустам, неужели вы не видите, он вас просто подталкивает на самоубийство. Выкиньте эту штуку! Или сдайте в милицию. Мало ли какое бывает настроение.
Атаев запер пистолет в ящик, снова повесил ключ на шею.
— Теперь понял, отчего у меня снег на голове? — спросил он, вставая из‑за стола.
— Как давно все это записано?
— Три недели назад. Вон в той комнате, в гостиной. Аллах знает, что надоумило положить под занавеску магнитофон. Прости меня, всё остыло, идём доедать.
Мы вернулись, снова присели на ковёр, опершись на подушки.
— Пить ещё будешь?
— Спасибо. Хватит.
— И мне, пожалуй, хватит. Пора на работу. Хотя, признаюсь тебе, чего они добились, так это я стал попивать… Практически каждый вечер… Втихаря, как говорят у вас в России.
Мы молча ели остывшего сома, потом выпили остывшего чая и, вымыв руки, вышли во двор, где все так же безмятежно сновали дети.
У ворот возле газика стоял Чары, рядом виднелась белая «Волга» — машина Атаева.
— Когда пленум?
— Пока не объявлено, — ответил Атаев и тихо добавил: — Теперь поедем в разных машинах. Ознакомься со стройкой, поговори объективно с рабочими, инженерами, номер в нашей гостинице тебя ждёт. Надо будет увидеться — официально придёшь к секретарше.
— Понял, товарищ Атаев.
— Счастливо.
…За два дня я исходил, изъездил всю территорию строительства. Я слушал бесконечные объяснения главного инженера, секретаря парткома, вежливо записывал в блокнот цифры, даты, фамилии и понимал, что все это никому не нужная мякина, которой и без меня полны газеты. Единственное, что удалось уловить, — настороженность, возникавшую каждый раз, когда разговор касался директора комбината, при одном упоминании его имени. Кроме местных рабочих, кажется, все ожидали близкого падения Атаева.
«Почему все‑таки из четырёх готовых цехов только два работают?» — спрашивал я. И мне уклончиво отвечали: «Атаев пока не позволяет запускать, говорит, не готовы очистные сооружения». — «Может, действительно не готовы?» — «Да вон они, и отстойники вырыты, просто, говорит, не соответствуют каким‑то стандартам».
Кого ни спроси, получалось, что цеха стоят из‑за блажи директора.
Только бригадир сварщиков Хаджа Тухтаев в ответ на расспросы сказал: «Я на работу гоняю на мотоцикле, живу 25 километров отсюда, в соседнем кишлаке. Поезжайте туда, поговорите с населением».
Я поехал. Выяснилось, прошлой весной после пуска двух первых цехов скрутились и засохли листья тутовника, которым окрестные жители исстари выкармливали гусениц шелкопряда, начали чахнуть фруктовые сады, поля хлопка. Здесь открыто проклинали Атаева.
На следующее утро я разыскал районную санэпидемстанцию. Ее начальница долго изучала моё командировочное удостоверение и паспорт и затем нехотя, как секрет государственной важности, сообщила всё то, что я и так только что выяснил в кишлаке. «Что же будет, если при этих условиях задымят сразу десять цехов?» — подумал я и спросил:
— А как насчёт болезней — есть какая‑нибудь статистика?
Начальница нехотя выискала в одной из папок справку — резко увеличилось количество аллергических заболеваний у детей, в молоке коров появился свинец.
И опять вспомнился Игнатьич…
Я попытался выяснить, как же собираются реагировать медики на эти факты.
— Атаев виноват, будем штрафовать Атаева, — бубнила начальница.
В эту минуту какая‑то женщина в белом халате приоткрыла дверь:
— Тут московского корреспондента ищут.
Я вышел на крылечко. У запылённой чёрной «Волги» с номером «00–10» рядом с шофёром стоял спортивного сложения человек с депутатским значком на лацкане пиджака.
— За вами не угонишься! — сказал он, подавая руку. — Невзоров Эдуард Георгиевич.
Я тоже представился.
— Совершаю инспекционную поездку по своим стройкам, услышал, здесь корреспондент из Москвы, и огорчился: что ж вы, дорогой мой, прилетели, были в городе и не заглянули ко мне? Так не положено.
— Почему не положено? Я всегда сначала знакомлюсь с фактами и лишь потом — к начальству.
— Напрасно, напрасно… Ведь вы тот самый Крамер, который два года назад выступил в защиту Нурлиева?
— Тот самый.
— Дельная была статья. Молодец! Я тогда ещё не возглавлял трест, но был в курсе. Знаете что? Коллеги ждут меня на комбинате, оттуда мы отправимся обратно, заедем по пути на строительство химзавода, потом на ГЭС, к Нурлиеву, а часов в одиннадцать ночи должны вернуться домой. Вам предоставляется редкая возможность спокойно обсудить со мной в машине все проблемы. Если они у вас возникли.
— Возникли.
— Тогда прошу! — Невзоров гостеприимно распахнул заднюю дверцу «Волги».
— Минуточку, у меня есть газик.
— Ничего. Поедет за нами, — сказал Невзоров, усаживаясь первым на заднее сиденье. Я сел рядом.
Приехав на комбинат, мы застали в кабинете Атаева министра строительства республики, главного инженера треста и ещё человек семь специалистов.
Атаев увидел Невзорова, меня, входящего вслед за ним, невесело улыбнулся:
— Вот и корреспондент в вашей свите.
— А как же! — ответил Невзоров и обратился к присутствующим: — Товарищи! Я считаю, пора ехать, иначе никуда не успеем.
Несмотря на присутствие министра, главным был здесь Невзоров. Это чувствовалось по тому, как все послушно повернули к дверям и как уступали ему дорогу.
Я с демонстративной почтительностью пропустил высоких гостей и, когда все вышли, шагнул к Атаеву.
— Рустам, он сам нашёл меня. Надо ехать. Ты прав. Целиком.
— Беги за ним, — тихо прогудел Атаев.
— Не печалься. Постараюсь помочь.
— Беги, — перебил Атаев и добавил уже в спину: — Будь осторожен.
Между третьим и нашим, четвёртым, этажом, на тёмной лестничной площадке, у стены батарея отопления. Уже несколько дней, спускаясь по утрам в школу, вижу на полу какой‑то живой куль, жмущийся к теплу.
Днем куля нет, вечером — снова есть. Страшно проходить мимо. Особенно когда разглядел, что это — живой человек, старенькая женщина с короткими култышками вместо рук. Из‑под тряпки торчит рваный ворот ватника, подогнутые ноги в худых валенках.
— Мама, кто это?
— Нищенка, Артур.
— Возьмем к нам? Ведь зима…
— Куда?
В самом деле — куда? Мы втроём ютимся в комнате, заставленной тремя кроватями, столом, шкафом и буфетом. Одна радость — слышны куранты Спасской.
— Почему это у нас есть где жить, а у неё нет?
— Наверное, не прописана… — Матери тяжело отвечать на эти вопросы, она переводит разговор на другое.
— Вот карточки, сходи за хлебом, дашь ей кусок.
— Нет. Что сегодня сготовила?
— Борщ.
Молча беру из буфета миску, ложку, забираю всю полбуханку оставшегося чёрного хлеба, иду на коммунальную кухню, наливаю ещё горячего борща. Когда выхожу на лестницу, мама нагоняет, перебрасывает через плечо что‑то тяжкое, длинное. Кошу взглядом — одеяло. Спускаюсь на пол–этажа. Она там, у батареи.
Нагибаюсь поставить миску с борщом, встречаю настороженный взгляд. Лицо сморщенное, маленькое.
— Извините. Вот. Вам.
Одеяло само сваливается на пол.
Она приподнимается, смотрит на хлеб, на дымящуюся миску, потом на одеяло, потом на меня.
Вдруг култышка её тянется вверх, идёт вниз, затем вкось. Слышу хриплый голос:
— Спаси тя Христос.
Отпрянув, смотрю — зубами выхватывает ложку из борща, хрипит:
— Забери.
Беру ложку из её рта и вижу, как, стоя на коленях, она по–собачьи жадно лакает из миски.
В сердце моем что‑то поворачивается, душат слезы.
Перед глазами каменистый крутой склон горы, сзади — море. Мы с лейтенантом Яшей карабкаемся на самый верх. Пот солоно застит глаза. Грудь и руки до крови расцарапаны острыми выходами породы.
— Давай, давай, — подгоняет Яша. — Не маленький.
Это уж точно. Мне шестнадцать. Второй послевоенный год. Еще карточки. Еще в Москве я донашиваю синий пиджачок, полученный по американскому ленд–лизу.
— Давай–давай.
Яша, хотя и со свищом от осколочного ранения в голень, мог бы опередить меня, но он страхует, держится рядом.
Как здорово, что меня отпустили из Москвы, впервые в жизни одного, сюда, на Кавказ. Со своей продуктовой карточкой, толикой денег, выделенных родителями, я делю с Яшей из Минска комнатёнку уборщицы дома отдыха. За неделю успел надоесть размаривающий пляж, тётки, стоящие, расставив руки и ноги, под солнцем. Мы решили залезть на вершину.
Вот она, плосковатая макушка горы, совсем близко. Яша уже там. Он протягивает руку, втаскивает наверх.
А здесь — ветерок. Сдираю с себя липкую, изодранную ковбойку.
Море отсюда — в полнеба!
Яша в расстёгнутой гимнастёрке тоже стоит любуется открывшейся синевой. Потом присаживается, долго молчим.
По синей стене чуть движется белая чёрточка — пароход.
Продолжая глядеть на него, признаюсь Яше, что уже два года пишу стихи.
— А ну почитай, — добродушно предлагает он.
И я начинаю. С самого первого:
Дико, невпопад звучит это здесь, перед солнцем и морем. Перехожу на другое. Читаю стихи о войне, где каждую секунду убивают, о нашей Победе, о товарище Сталине. И когда дохожу до строчки «Владимир Ильич Сталин», которой особенно горжусь, Яша обнимает меня за плечи и тихо так говорит:
— А тебе никогда не казалось, что эта сука изменила всему, чему учил Ленин?
— Вы что?! — Хочу вскочить, но Яшина рука крепко прижимает меня к земле.
— Молчи и слушай.
Он говорит о том, что до войны была расстреляна, посажена в тюрьмы ленинская гвардия и его отец тоже, убиты лучшие командиры Красной Армии. Что в «Правде» писали о доблестных немецких войсках, занявших буржуазный Париж. О пакте с Гитлером. Об изгнании с родных мест целых народов. О том, что, когда шли в атаку и кричали «За Родину, за Сталина!», он кричал: «За Ленина!»
— Не может быть… — шепчу я. Сталин выиграл войну.
— Дурачок ты, дурачок. Выиграли те, кому этот таракан плакался, когда всё началось, — «братья и сестры».
Я не приемлю ничего из того, о чём говорит Яша. Он пристально смотрит на меня.
— Таких, как ты, жалко… Он ведь сто лет может прожить.
Вниз идём отчуждённые, другим, пологим склоном горы: оказывается, даже есть тропинка.
Глава восьмая
Вот и замкнулся круг. Опять я сидел под навесом той самой чайханы, куда в день приезда привозил меня завтракать Чары. Теперь через два часа я должен был ехать в аэропорт, чтобы лететь обратно в Москву.
Серенький дождик сшивал небо и землю, подгоняемый ледяным ветром. Декабрь добрался и сюда. В одном из базарных киосков продавались ёлочные украшения.
Я давно уже съел порцию плова и сейчас тянул время, подливая в пиалушку из чайника все тот же зелёный чай, разглядывал немногочисленных покупателей, торопливо пробегающих под зонтиками мимо «Комиссионного магазина» к отсыревшим торговцам в халатах, накрывшим свой товар полиэтиленом и клеёнкой.
Умолив Чары не провожать, уехать обратно на ГЭС, куда в дождь по серпантину горной дороги добираться было особенно опасно, я одиноко сидел в чайхане.
Только что нужный всем, теперь один, в чужом городе, думал о странном свойстве своей судьбы: быть всем и ничем. Словно, сыграв одну роль, должен был через паузу перейти к другой…
Между тем я чувствовал: эти паузы и составляют потаённую основу, сердцевину моей жизни. Видимо, у некоторых людей, таких как Невзоров, подобных пауз не было.
В тот день, когда ехали со стройки металлургического комбината, у меня даже пробудилось что‑то похожее на зависть. Впервые я видел рядом с собой столь счастливого человека, чьё целенаправленное существование, казалось, не знало сомнений. В конце концов, именно Невзоров руководил строительством заводов, комбинатов, электростанций, и ясно было, что эта единственная работа захватывает его, доставляет высшее наслаждение. И только такие, как Атаев, омрачают жизнь.
— А мы с вами почти земляки, — сказал Невзоров, когда во главе каравана машин мы тронулись в путь. — Я из Ногинска, у меня отец там хирург в местной больничке. На днях жена с сыном и невесткой оттуда вернулись, первую свадьбу сыграли, теперь будет вторая, настоящая, уже здесь. Того и гляди, дедом стану.
— Я их видел. В кожаных пальто.
— Правильно. Значит, одним рейсом летели. — Невзоров бросил на меня взгляд, спросил: — Кстати, почему вы прибыли именно теперь? Атаев в газету жаловался?
Я ожидал подобного вопроса.
— Я знаком с Атаевым три дня, вы — гораздо дольше. Неужели не ясно, что такой человек не станет кляузничать?
— А почему? Вы уже наверняка знаете, что я плохой, заставляю его принимать недостроенные объекты, гублю природу… Наш Рустамчик сейчас в таком состоянии — может выкинуть любой фортель.
— Видите ли, я ездил за двадцать пять километров от комбината, деревья действительно гибнут, люди болеют.
— Ну и правильно! Дорогой корреспондент, вы, газетчики, с самыми благородными намерениями часто творите зло, не понимая высшей стратегии, вставляете нам палки в колеса. Ведь недаром комбинат возводится в 350 километрах от нашей столицы, в диких краях. Сами видели — несколько кишлаков вокруг, остальное — пустыня, горы, граница. Мы соображали, что делали, когда нашли это место. Переселить людей подальше, всего тысячи полторы, и никаких проблем. И вот, на нашу беду, это родина Атаева. Его кишлак. Его арык. И так далее. А тут закон об охране окружающей среды — и полетели деньги на ветер. А главное — полетело время.
— Почему на ветер? А здоровье рабочих, которые заняты на комбинате? Большинство ведь тоже из местных, кончают тут ПТУ, техникум.
— Рабочим надбавку за вредность платят, — жёстко отрезал Эдуард Григорьевич. — Знают, на что идут.
«А что? Если рассуждать без соплей, убедительно все это выглядит», — подумалось тогда. Я хорошо запомнил этот момент, потому что по стёклам машины хлестанули первые капли дождя. Я понял, что могу невзначай предать Рустама, замороченный такой логикой.
Когда же часа через три подъехали к химкомбинату, построенному в густонаселённой долине, и я ещё издали увидел трубы, извергающие ядовито–жёлтый дым, Невзоров как бы невзначай заметил:
— Тут как раз с фильтрами газоочистки все в порядке.
Я решил держать ухо востро.
Я не пошёл вместе со всеми на совещание, не стал и осматривать цехи, а попросил Чары быстренько повозить меня по окрестностям. Выскакивал из машины под дождь, скользя по раскисающей глине, заходил в сельсоветы, в дома колхозников. Здесь тоже чахла растительность, болели люди и животные, вода в колодцах становилась негодной для питья.
— На черта нам эта химия, века без неё жили, землю возделывали, — жаловались старики. — Шайтан возьми эти трубы.
На возвратном пути к химзаводу заехал в райисполком и застал там заместителя председателя. К моему удивлению — русского.
— Безобразие, конечно. Что‑то неправильно делается, товарищ корреспондент. Это ведь имеет и политическое значение. Был исконно сельскохозяйственный район. Персиковые, абрикосовые сады, бахчеводство, тот же хлопок. А сейчас хоть беги. Я лично свою семью вывез.
— Сколько человек живёт в долине?
— Около ста тысяч.
— А если их переселить?
— У нас в республике горы да пустыни. Плодородной земли совсем мало. Куда переселять — на небо?
Вернувшись на завод, я отказался и от обеда, заранее приготовленного для высокого начальства. Перекусил с шофёрами, понимая, что тем самым бросаю вызов Невзорову.
И в самом деле, Эдуард Георгиевич, пока ехали под дождём до расположенной высоко в горах ГЭС, всё время молчал. Однако когда в мокрых сумерках за перевалом засветились огни нурлиевского города, ожерельем засверкала дуга плотины, внезапно проговорил:
— С идеализмом пора кончать. Страна практически находится на военном положении.
Это прозвучало как угроза. И я решил ответить.
— Эдуард Георгиевич, вы не находите, если вашему высказыванию придать грузинский акцент, получится типичный Сталин? — Тот хотел было что‑то сказать, но я перебил: — Раньше было капиталистическое окружение, потом война, потом восстановление промышленности. Повод нарушить государством же принятые законы всегда найдётся. Простите, буду писать о том, что видел. Одного не могу понять, как это вы, разумный человек…
Но тут уже перебил Невзоров:
— А вы? Вы не находите, что у вас типично атаевская интонация? Подпеваете ему, дорогой земляк.
Я почувствовал, что наговорил лишнего, но отступать уже было поздно, да и не хотелось.
— Подпеваю.
— Пой, ласточка, пой… Только если бы вам довелось строить хоть один комбинат, вы бы узнали, какой в нашем деле бардак, и я бы посмотрел, что вы бы построили, товарищ Крамер!
Я помнил предостережение Атаева и решил промолчать, хотя у меня и возник последний вопрос к Невзорову: «Как это все остаётся безнаказанным?»
Ответ я получил поздно вечером, когда, расставшись с Невзоровым и всем его сопровождением, вместе с Нурлиевым вошёл в отведённый мне номер новой гостиницы.
Тимур Саюнович прошёлся по номеру, включил и выключил настольное радио, раскрыл встроенный шкаф — посмотрел, есть ли там вешалки, откинул покрывало кровати — проверил, чистое ли постельное белье, зашёл в туалет, потом что‑то заметил на стене возле шкафа — это оказалась тонкая змеистая трещина.
Я успел снять плащ, выложить из сумки на подзеркальник туалетные принадлежности, Нурлиев все ещё присматривался к трещине.
— Это от просадки или землетрясения?
— Скорее, от того и другого, — ответил Тимур Саюнович. — Ну что, Артур, каковы впечатления?
Я поделился своими наблюдениями и наконец задал вопрос:
— Не понимаю, как это элементарное безобразие остаётся ненаказанным?
Нурлиев вздохнул, потом подошёл к окну и раскрыл его. Шум дождя вошёл в комнату.
— Видишь ли, у нас, в Азии, все просто. Невзоров — муж дочери нашего первого секретаря ЦК.
— Я догадывался о чём‑то подобном. Летел вместе с его семьёй из Москвы. Ну и что?
— Ничего, — ответил Нурлиев, — голова болит. У тебя с собой нет какой‑нибудь тройчатки?
— Не вожу. — Я увидел, что лицо Тимура Саюновича из оливкового стало землисто–серым. — А ну‑ка, сядьте.
— Зачем?
— Садитесь! Попробую помочь. — Я усадил его в кресло, положил ладони на лоб и затылок.
— Не беспокойся. Не сдохну, — проговорил Нурлиев. — Две турбины осталось поставить, тогда могу и умереть.
— Зачем умирать? Вам, сколько я понимаю, что‑то около пятидесяти.
— Пятьдесят один.
— ГЭС почти построена, директорствуйте на здоровье.
— Артур, когда кончается стройка, на готовое всегда приходит новый. У нас, по крайней мере, такие порядки.
— Давайте помолчим.
Лысоватая голова Нурлиева по–детски доверчиво покоилась в моих руках. Дождь монотонно шумел.
— А ты знаешь, проходит. Прошло. Только слабость осталась. Можно, прилягу?
— Конечно.
В комнате стало холодно. Я затворил окно. Снял с ног Нурлиева полуботинки, прикрыл его покрывалом и увидел, что тот уснул.
Сейчас, сидя в чайхане под все тем же нескончаемым дождём, я опять видел перед собой лицо спящего Тимура Саюновича с пробивающимся сквозь загар румянцем.
Тот спал недолго, минут двадцать. Встал бодрый, сосредоточенный. Мы проговорили до двух ночи.
— Главное, что падает на твои плечи, — поднять проблему на всесоюзный уровень, осадить этого карьериста. Внутри республики при данных условиях сделать это невозможно, сам понимаешь…
Я поделился своей тревогой за Атаева, рассказал про пистолет. Решили позвонить Рустаму домой, подбодрить. Но жена ответила, что он на работе — прорвало какой‑то трубопровод.
Утром в управлении ГЭС я опять встретился с Нурлиевым, потом вместе с ним осмотрел строящийся город, вместе же побывали в гостях у Чары на его новой квартире. То, что я два года назад видел лишь на листах ватмана, несмотря ни на что воплощалось, становилось благоустроенным, красивым и удобным жильём.
— Я тебя не встречал и провожать не буду, — сказал Тимур Саюнович, когда прощались у газика, — не имею возможности. Если что надо — звони в любое время, держи связь. Помни, и в атаевской истории, и в моей одна суть: не думают о людях.
Мы пожали друг другу руки. Потом расцеловались. Я шагнул в кабину к Чары, и тут Нурлиев крикнул:
— А как твой сценарий?! Когда снимать приедешь?
Я только отмахнулся.
«Еще неизвестно, — думал я теперь, — от чего больше пользы — от фильма, который, предположим, удалось бы поставить, или от конкретной статьи. Помог же Нурлиеву пробить проект города. Может, и сейчас удастся помочь». Я испытывал и к Атаеву, и к Нурлиеву нечто похожее на чувство братской любви, дорожил их доверием, понимал, что в них выражены лучшие стороны благородного, древнего народа, населяющего территорию, которую сейчас должен был покинуть.
До регистрации оставался час с лишним. Пора было ехать в аэропорт.
Я расплатился с чайханщиком и увидел, что осталось сэко–номленными рублей пятнадцать командировочных, не говоря уже о заветной пятидесятирублевке, сохранившейся от выигрыша на бегах. Решил напоследок зайти в заинтриговавший меня барак с вывеской «Комиссионный магазин», а по выходе купить для матери вяленой дыни и орехов.
…В комиссионке было пусто. Слева от входа табуном стояли подержанные детские коляски, на полках грудами пылились женские парики, видимо вышедшие из моды. Под стеклом на прилавках лежали шитые золотистыми нитями тюбетейки, рубашки, скатерти. Из стопки этих скатертей торчал угол чего‑то красно–чёрного, приковывающего к себе взор.
— Что это такое? — спросил я у продавщицы, сидевшей на табурете с вязаньем в руках.
Она встала, приподняла стеклянную крышку прилавка, вынула и положила передо мной ветхий от старости свёрток материи.
— Это у нас называется сюзане, настенный коврик. Какой‑то бабай принёс утром.
Я стал осторожно разворачивать свёрток. Продавщица помогла, и вот мы держали за четыре конца ручную вышивку. Плотными красными и чёрными узорами на белом шёлке.
— Смотрите, здесь в углу не докончено, — сказала продавщица, — было в древности поверье: докончишь — умрёшь. Ни одна по–настоящему старая вещь не кончена.
— Сколько стоит? — спросил я дрогнувшим голосом. Впервые мне страстно захотелось купить вещь. Именно эту. Я понимал: ей нет цены…
— Шестьдесят пять рублей.
— Сколько?!
— Шестьдесят пять, — продавщица протянула угол сюзане с прикреплённым ниткой ярлычком. И я прочёл: «Шестьдесят пять».
Отдал продавщице все свои деньги, спрятал в сумку завёрнутый в бумагу свёрток и вышел под дождь.
…Если у тебя ровно шестьдесят пять рублей и ты, находясь последние минуты в чужом городе, заходишь в случайную комиссионку на базаре и видишь там вещь, кажется предназначенную тебе, и она стоит именно шестьдесят пять, — попробуй подумать, что это случайность…
Правда, в карманах набралось немного мелочи. Я смог доехать до аэропорта автобусом. Регистрация на московский рейс заканчивалась. Предъявив у стойки билет и паспорт, прошёл к двери, ведущей в помещение спецпроверки.
— Быстрей, товарищи, проходите, — подгоняла последних пассажиров сотрудница аэропорта.
Когда подошла моя очередь, я подал ей паспорт, билет и шагнул было к девушке в форме Аэрофлота, досматривающей вещи на стенде.
— Минутку. Идите‑ка сюда!
— В чём дело?
— Говорят вам, сюда. — Меня грубо толкнули в спину, и я оказался в комнатёнке с окном на лётное поле. За столом сидели два милиционера. На стол легли раскрытый паспорт и билет. Дверь за мной захлопнулась.
— В чём дело?
Милиционер глянул на меня, на фотографию в паспорте, вскочил, выхватил сумку, дёрнул молнию и вывалил содержимое на стол. «Я купил ворованное», — подумал я.
Второй милиционер с профессиональной быстротой обчистил все карманы, а потом снизу вверх стал охлопывать ноги, туловище, сорвал с головы кепку.
Тем временем первый просматривал мои немногочисленные вещи, отбрасывал их в сторону, в том числе и сюзане.
— Что вы делаете? Смотрите, перед вами командировочное удостоверение, я корреспондент центральной газеты.
Сидящий за столом все так же молча листал мой блокнот с записями.
— Послушайте, друзья, вам это дорого обойдётся, не имеете права.
За окном на лётном поле пассажиры уже поднимались по трапу в самолёт.
— Возможно, вы меня с кем‑то спутали, — попробовал я разгадать загадку.
Стал слышен рёв запущенных двигателей. Один из милиционеров посмотрел на часы, потом оба глянули в окно.
— Все‑таки, в чём дело?
Вдруг милиционеры стали швырять в сумку вещи, вперемешку с бумажником, блокнотом, документами.
— Вы свободны.
— Объясните: что произошло?!
— Вы свободны.
…Я подбежал к самолёту в последний момент, когда трап начал отдаляться от входа. Вскочил внутрь. Предъявил стюардессе билет.
Сидел в кресле, чувствовал, как сердце колотится где‑то у горла.
Свежей летней ночью я иду к лагерю, где работаю пионервожатым. Вздумал пойти пешком от самого дома, из Москвы. Давно за спиной остались мосты, пригороды, железнодорожные пакгаузы, сторожа.
Чем дальше от города, тем ярче звезды.
За Мытищами сворачиваю на грунтовую дорогу, ведущую к водохранилищу, к пионерлагерю. Ноги утопают в мягкой пыли. Устал. Смаривает сон.
Бреду обочиной к темнеющему взгорку, поросшему деревьями, сажусь, привалясь спиной к стволу, и засыпаю мгновенно, как засыпают в шестнадцать лет.
Будит солнце, встающее из‑за раскинувшегося до горизонта поля спеющей ржи. Совсем близко, между мною и солнцем, что‑то алмазно сверкает, переливается — глазам больно.
Это маленькая, юная ёлочка. На конце каждой хвоинки дрожат, посылая синие, красные, зелёные лучи, капли росы. С трудом отвожу взгляд. Яркий радужный пересверк со всех сторон.
Окруженный этим хрустальным блистаньем росистых ёлочек, не могу ни уйти, ни встать. Кажется, они живые, что‑то знают про меня наперёд. И чистыми цветными огнями силятся что‑то сигналить…
Вечер. Морозный — градусов 20. Иду под фонарями «Охотного ряда», ищу свободный телефон–автомат.
Я купил билет в кинотеатр «Метрополь», на последний сеанс. Мне важно протянуть время, чтобы соседи, окончив готовку, разошлись из общей кухни по своим комнатам. Тогда я раскрою окно, проветрю её от чада и запахов еды и буду за нашим покрытым клеёнкой столиком до двух–трёх часов ночи сочинять стихи.
А пока нужно предупредить маму, что я задержусь в кино. Останавливаюсь у светящегося прямоугольника телефонной будки, жду, когда из неё выйдет рослая женщина в чёрной меховой шубке.
В морозном тумане мимо меня проходят подвыпившие люди из ресторана. С хохотом усаживается в такси компания мужчин и женщин. Вдруг я осознаю: все это богатые люди, одетые в пыжиковые шапки, роскошные шубы. Я не помню, чтобы хоть один раз мои родители — инженер и врач — могли позволить себе пойти в ресторан.
Ноги деревенеют от холода. Я поглядываю на будку. Женщина все не выходит.
…Мама отдала Двоефеде деньги на ремонт класса и перевела меня в другую школу. Теперь я учусь далеко от дома — в Банном переулке, возле Рижского рынка. Сижу за партой с хилым пареньком со странной фамилией Корейша. На уроках он потихоньку вырезает перочинным ножиком шахматные фигурки из мягкого грушевого дерева и при этом неплохо учится. У него всегда можно списать математику. Я учусь через пень колоду. Весь ушёл в стихи.
Рудик Лещинский, который живёт в подвальном этаже моего дома и продолжает на потеху мучителям ходить в 135–ю, Двоефедину, школу, — пока единственный слушатель моих творений.
Я что‑то совсем замёрз. Тротуары пустеют. Только офицер в распахнутой шинели медленно бредёт по снегу. Проходит мимо меня, приостанавливается, смотрит на будку.
Женщина в будке поворачивается, полы её чёрной шубки широко расходятся. Да она совсем голая! Только лифчик и чулки с широкими резинками.
Офицер кивает головой, и они вместе уходят в сторону метро «Площадь Свердлова».
Глава девятая
Едва я поднимался на верхнюю ступеньку стремянки, чтобы вбить под потолком гвозди для колечек, которые мать подшила к краю сюзане, как снова звонил телефон.
Москвой овладевало предновогоднее безумие. Даже давно забытые, разошедшиеся по своим путям люди возникали из небытия. Они заранее поздравляли, словно невзначай спрашивали, где я встречу праздник. Каждый боялся остаться дома, без компании или же стремился быть приглашённым куда‑нибудь, где будет весело, шумно и, если повезёт, можно завести новые знакомства.
Я понимал и жалел этих людей, обрывающих телефон, потому что сам побывал в их шкуре. Даже оказываясь в счастливых, на первый взгляд, семьях, я видел тщательно скрываемую разобщённость между мужем и женой, родителями и детьми. Часто эта разобщённость и не пряталась. Замкнутых, одиноких, ожесточённых людей видел я вокруг.
Стоя на стремянке, я вбивал гвозди, думал о том, что каждый из них жаждет любви, отзывчивости, но все они не умеют забыть себя, свою гордость и дать другому бескорыстно эту любовь и отзывчивость.
Не было сейчас в Москве такого дома, куда мне хотелось бы пойти встретить Новый год. Сегодня кончалась суббота, завтра наступало воскресенье. Праздничный день попадал на понедельник. За эти три нерабочих дня невозможно было узнать ни о судьбе сценария, ни съездить в редакцию, чтобы поведать о приключениях в аэропорту. Я решил отметить праздник с матерью — кто знает, придётся ли вместе встречать следующий год…
Вешал колечки на вбитые гвозди: ветхая ткань, падая, раскручивалась, как свиток. Азия, загадочная, древняя, смотрела со стен московской комнаты. Смотрела в упор большим малиново–красным кругом с более светлым кольцом посреди, похожим на зрачок. Широкие чёрные завитки, то ли волны, то ли драконы, обрамляли его со всех сторон.
Только сейчас, сойдя со стремянки, я впервые целиком разглядел эту вещь. Казалось, в плотно вышитых узорах, похожих на аппликацию, таился какой‑то зашифрованный смысл. Их цвет, взаимное расположение вроде что‑то даже напоминали…
Раздался очередной звонок. Я снял трубку.
— Здравствуйте. Это Артур? Говорит Паша, муж Нины. Как съездили?
Я не мог предположить, что меня так обрадует этот голос. Подумал, приглашают к себе на Новый год, и вперекор только что принятому решению уже готов был согласиться. Меня действительно приглашали, но совсем в другое место.
— Понимаете, тут Нинины друзья зовут встретить праздник в несколько специфической компании. Мы подумали, вам это будет интересно. Я, во всяком случае, был бы счастлив, если б вы были рядом.
— Боитесь?
— Минуточку, Нина хочет что‑то сказать.
— Артур! — раздался в трубке решительный голос Нины. — Павел отказывается идти, если вы не пойдёте. Я вас умоляю. Тем более там будет человек из той самой лаборатории. Я уже говорила с ним, он обещал отвести вас к руководителю. Артур, пойдёмте! Во всяком случае, вы встретите Новый год, как никогда не встречали, — это я вам гарантирую.
— Хорошо. Только я приду после двенадцати ночи, хочу обязательно быть в этот вечер с матерью. Давайте адрес.
Записывая название улицы, номер дома и квартиры, я с удивлением обнаружил, что это место находится совсем близко от меня. Квартира Н. Н. тоже была не так далеко, только в другом направлении…
Не успел положить трубку, как телефон зазвонил снова. Это была Галя.
— Артур, во–первых, спасибо за конфеты.
— Какие? — Я совсем забыл о коробке конфет, купленной для Машеньки на ипподроме.
— Ладно, не прикидывайся. А во–вторых, у Левки уже билет на руках, все документы. Второго утром улетает. Проводы в ночь с тридцать первого на первое. Такой у нас Новый год…
— А где сам Левка?
— Скоро придёт. Мотается. — Голос Гали дрогнул. — Говорит, поссорился с тобой. Просил позвонить, чтоб ты сегодня пришёл. Придешь?
— Постараюсь, — ответил я, зная, что не приду.
Уже не раз доводилось мне участвовать в подобных проводах, похожих на хирургическую операцию. Человек сам себя отсекал навсегда. При этом поднимали тосты, смеялись, даже танцевали. А потом обязательно возникали споры до хрипоты, до полного опустошения души.
Я отнёс стремянку в кладовку, зашёл в комнату матери. Сидя на тахте, она пришивала метки к рубашкам.
— Ну как, повесил?
— Хочешь взглянуть?
— Сейчас. Только дошью.
— А хочешь, заварю на пробу зелёного чая?
— Давай, Артурчик! Я ведь к твоему приезду испекла пирог с яблоками. Пойдем к тебе, будем чаёвничать и разглядывать твой ковёр.
— Не ковёр — сюзане.
— Пусть сюзане, — согласилась мать.
…За окном всё было бело от снега, а тут, в комнате, дымился в чашках зелёный чай, играли на стене яркие краски сюзане. Предощущение праздника чувствовалось во всём этом.
Давно у меня не было так спокойно на душе.
В таком состоянии я и пробыл всё время, оставшееся до Нового года, работая над статьёй о строительстве металлургического комбината. Я поставил перед собой трудную задачу, зная, что статью, коль она будет опубликована, обязательно прочтёт Невзоров. Захотелось написать её так, чтобы пробудить у Невзорова и ему подобных понимание нравственной позиции Атаева, пробудить совесть.
Лишь несколько раз за эти дни я выходил из дома. То за продуктами, то на почту — опустить в ящик стопку написанных матерью поздравительных открыток.
Я и сам получал теперь поздравления чуть не со всех концов Союза, отовсюду, где довелось побывать за долгие годы странствий. Люди помнили меня. И это внушало уверенность, давало ощущение силы.
«Да что бояться Невзорова, — думалось мне, — его шантажа, родственных связей. Надо обязательно написать, что он угрожает Атаеву. Противопоставить объективную статистику санэпидемстанции. И тут же сам собой возникает вопрос: кто же на самом деле сумасшедший?»
Было интересно работать над статьёй. И я знал: это признак того, что она получится.
Утром тридцать первого декабря раздался звонок в дверь. Открыв её, я увидел перед собой незнакомого человека.
— Здравствуйте. Вы Крамер? Тимур Саюнович просил поздравить вас и передать кое‑что. — Незнакомец втащил в прихожую тяжёлый мешок.
— Спасибо. Заходите, пожалуйста. Как вы его дотащили?
— А я на такси. Прямо из аэропорта. Извините, тороплюсь в гостиницу. До свидания.
Я переволок подарок в комнату, позвал мать, развязал верёвки и на её глазах начал последовательно вынимать нурлиевские дары.
Выложил на стол огромный полосатый с белым боком арбуз, длинную дыню, куль с фисташками, пакеты с изюмом и курагой, грецкие орехи. В самом низу находился свёрток, в котором лежали толстые зимние носки из верблюжьей шерсти и записочка, где рукой Нурлиева было написано: «Это тебе передала жена Атаева».
Носки добили меня. Я расчувствовался, вспомнив молчаливую женщину в платке и красном платье.
Принес нож из кухни и вонзил в арбуз. Тот с треском разломился на две части, обнажив красную сахаристую середину.
Вечером мы с матерью сидели у телевизора. Праздничный стол был полон лакомств. Впереди ждала какая–никакая работа. Мать была довольна. В двенадцать часов я поздравил её и ушёл в гости, взяв с собой дыню.
Любопытно было шагать в этот час по дымящимся пургой пустынным переулкам мимо светящихся окон, где виднелись наряженные ёлки, силуэты людей, откуда смутно доносились звуки музыки.
Надежда на то, что наступающий год что‑то изменит в жизни каждого, страны, всего человечества, была трогательна и смешна. Будто перемена цифры могла даровать кому‑то счастье. Люди играли в эту игру, отдавались самообману. Это был массовый гипноз.
Я почувствовал себя одиноким, нелепым. Ночью с нурлиевской дыней под мышкой шёл, неизвестно зачем и куда, вместо того чтобы закончить статью и переписать её набело. «Дело надо делать, дело, — раздражённо твердил я себе, разыскивая нужный корпус среди шеренги одинаковых пятиэтажек. — Но что, в конце концов, есть моё дело? Статья? Ее может написать и другой. Детский киноконцерт? Чепуха. Тоже гипноз, иллюзия деятельности».
Я поднимался в кабине лифта, засыпанной ёлочной хвоей, когда опять вспомнил обещание, что меня поведут. «Чушь. Болтаюсь по чужим людям — вот и все». Как недавно на киностудии, мелькнула мысль повернуться и уйти.
Выйдя из лифта, остановился перед квартирой, куда нужно было позвонить. «Ни семьи своей, ничего, — с отчаянием думал я. — Что меня ждёт?» Даже закрыл глаза, словно пытаясь провидеть будущее, но вдруг увидел сухонькую старушку с гладкими седыми волосами, завязанными в пучок на затылке.
Встряхнул головой и нажал кнопку звонка.
— Ведь вы Артур? Мы вас заждались! Меня зовут Виктория Петровна. С наступающим годом!
Передо мной, елейно улыбаясь, стояла сухонькая старушка с гладкими седыми волосами, завязанными в пучок.
«Такую убил Раскольников», — подумал я, сдавая с рук на руки дыню.
— Какая прелесть! Мы сыроеды, и это чудо будет очень кстати. Раздевайтесь!
Пока я искал свободный крючок, чтобы повесить плащ и кепку, в прихожей появились Паша с Ниной.
— Сейчас начнётся спиритический сеанс, — шепнула Нина.
Сопровождаемые хозяйкой, мы вошли в тёмную комнату, где вокруг стола, освещённого в центре настольной лампой, тесно сидели и стояли люди.
— Может быть, новый гость хочет принять участие? — раздался тихий мужской голос.
— Нет. Я просто посмотрю, с вашего разрешения.
— Это самый известный спирит Советского Союза, а рядом его медиум, — восторженно прошептала Виктория Петровна, — оба из Ленинграда.
Я стоял рядом с ней, Ниной, Пашей и ещё какими‑то людьми, смотрел, как спирит — пожилой, инженерного вида дядька в очках— торжественно расстилал вынутую из «дипломата» клеёнку обратной стороной наверх, где были начертаны буквы алфавита и цифры, образующие круг. Медиум — яркий брюнет с длинными вьющимися волосами — потребовал рюмочку.
Вспомнилась одна из последних повестей Трифонова, где был описан спиритический сеанс. Автор едко издевался над несчастными, потерявшими духовный ориентир людьми, смешными и глупыми.
То, что произошло потом, было действительно смешным и глупым. Спирит вызывал с того света некеого Афанасия Ивановича. Медиум двигал за ножку рюмку по кругу алфавита и получал ответ: «Я здесь». Тогда присутствующие задавали вопросы, и невидимый Афанасий Иванович через медиума и его рюмку давал ответы. Кто‑то спросил о своём дяде, умершем два года назад: каково ему там? Афанасий Иванович сообщил, что дяде там хорошо, только печень зябнет.
Затем кому‑то захотелось поговорить с Эйнштейном. Афанасий Иванович попросил обождать. В комнате воцарилась почтительная тишина. Только Паша клокотал от злости. Я так и чувствовал, что он вот–вот взорвётся.
Наконец рюмочка залетала по буквам. Это Афанасий Иванович передавал, что Эйнштейна «нет на месте».
— Как это нет на месте? — возмутились присутствующие. — Где же он?
«Отозван в высшие сферы», — ответила рюмочка.
И снова сгрудившиеся вокруг стола накинулись на покойных родственников. Ощущение брезгливости нарастало, как тошнота. Я решил покончить с этим маразмом.
— Позвольте и мне спросить, — сказал я громко, — пусть ваш Афанасий Иванович ответит, сколько лет было моему дедушке, когда он умер.
— Некорректный вопрос, — вякнул кто‑то в комнате.
— Простите, дедушка со стороны отца или матери? И как вас зовут? Имя и фамилия? — спросил спирит.
— Артур Крамер, — нехотя назвался я. — Дед со стороны матери.
В тишине раздался торжественный голос спирита:
— Афанасий Иванович, вы слышите нас? Артур Крамер спрашивает, сколько лет было его дедушке со стороны матери, когда он умер?
Рюмка в руке медиума медленно поползла к цифрам на круге. Замерла.
— Так их! Молодец! — выдохнул Паша в моё ухо и поощрительно пихнул кулаком в бок.
Наконец рюмка дёрнулась, поползла к одной цифре, другой…
— Пятьдесят два года. Его звали… Анатолий Михайлович.
Никто в этой комнате не знал, что дедушка умер действительно пятидесяти двух лет. Правда, звали его Анатолий Моисеевич, а не Михайлович.
Мне стало не по себе.
— Правильно? — спросил спирит, обратив ко мне лицо, освещённое настольной лампой.
— Правильно.
Раздались аплодисменты.
— Товарищи, медиум устал. Сеанс окончен.
Медиум действительно выглядел опустошённым. При ярком свете люстры, включённой хозяйкой, лицо его в контрасте со жгуче–чёрными локонами казалось особенно бледным. Он сидел, бессильно откинувшись на спинку кресла. Его соратник деловито сворачивал клеёнку.
— Товарищи, разделяйтесь. Сыроеды, садитесь по правую сторону стола, остальные — по левую. А посередине будет сюрприз, который для всех нас приготовил Артур. — Виктория Петровна с помощью пугающе хрупкой девушки стала вносить подносы с закусками.
— Знакомьтесь, — раздался за спиной голос Нины.
Я обернулся. Передо мной, доброжелательно улыбаясь, стоял человек в респектабельной синей тройке. Из верхнего кармана пиджака выглядывал уголок белоснежного платка.
— Я говорила о вас с Николаем Егоровичем, он обещает отвести в лабораторию.
— С удовольствием, — тот энергично пожал мою руку. — Созвонимся на неделе, и в четверг–пятницу я познакомлю вас с руководителем этого учреждения. Вот визитная карточка, там мои телефоны.
Занимая место, указанное заботливой хозяйкой, перед тем как спрятать, я взглянул на визитную карточку: «Павловский Николай Егорович. Лауреат Государственной премии РСФСР. Доктор философских наук».
Виктория Петровна поместила меня между медиумом и хрупкой девушкой, напротив сели Паша с Ниной. Я оказался на вегетарианской части стола. Кашица из чечевицы, тёртая морковь, клюквенный морс в графине…
— Что вам положить? — спросил я свою соседку.
— Немного морковки, — ответила она слабым голосом.
Положил ей морковки, налил в бокал морса.
— Я видела вас у Нины, — сказала вдруг девушка. — Вы не хотели бы прочитать записи моих бесед с Александром Степановичем? Я пробуду в Москве ещё четыре дня.
— С каким Александром Степановичем?
— С Грином. Писателем.
В этот момент хозяйка внесла и поставила в центр стола блюдо с нарезанной на длинные ломти дыней. Когда смолкли возгласы восторга, я обратился к девушке:
— Как вас зовут?
— Майя. Я из Феодосии. Мне двадцать один год. Работаю секретаршей.
— Она очень, очень продвинута, — вмешался медиум. — Работает на более высоком уровне, чем мы.
— Тоже спиритизм? — осторожно поинтересовался я.
— Нет. Я просто медитирую, отключаюсь, и рука с авторучкой сама начинает записывать то, что говорит Александр Степанович.
— Да? Кстати, — обратился я к медиуму, — скажите, пожалуйста, если можно, кто такой этот потусторонний Афанасий Иванович, к которому вы всё время обращались?
— Мало интеллектуальная личность. Пьяница. Умер несколько лет назад у нас в Ленинграде. Но замечательный связной. Работает только по просьбе моего друга. А уж потом знание поступает ко мне.
— Через рюмочку?
— Откровенно говоря, нет. За долю секунды до того, как рука дрогнет вести её к буквам, в голове уже ясен ответ.
— А что вы сами обо всём этом думаете?
— Видимо, в каждой единице пространства существует вся информация о том, что было, есть и будет.
— Тогда при чём тут Афанасий Иванович? — Я заметил, что Паша жадно прислушивается к нашему разговору, и добавил: — А не опасны для психики ваши опыты?
— Наверное, очень, — грустно подтвердила Майя. — Я специально приехала в Москву, думала выйти на знающих людей, чтоб мне что‑нибудь объяснили, но никто ничего толком не знает. Один Николай Егорович внимательно отнёсся, прочёл мои записи, отвёл в лабораторию… А то меня в Феодосии хотят уже в психбольнице лечить. Как вы думаете, я больна?
— Я не медик, — ответил я. — Только уж больно худенькая. И бледная. — Положил ей два ломтя дыни: — Ешьте, пожалуйста.
Аромат дыни струился передо мной напоминанием о далёких краях, откуда я вернулся совсем недавно, о сюзане, висевшем сейчас дома. С изумлением оглядел я общество людей, среди которых оказался, вспомнил когда‑то услышанную примету: «Как встретишь Новый год — так он и пройдёт».
В Одессе поздним августовским вечером, у портового пакгауза, в качающемся на ветру круге от фонаря, расположились цыгане.
За день ходьбы по незнакомому городу я устал, но не могу, как они, вольно усесться прямо на землю. Здесь и старики, и дети. Все они чумазые, жизнерадостные. Тоже ждут теплохода, только другого — в Измаил. А мой — вон он, тёмной громадой уже стоит у пирса со спущенным трапом. Посадка начнётся через полчаса.
Работая лагерным пионервожатым, я накопил за две смены денег, мама добавила, и вот я в Одессе, у меня дешёвый билет палубного пассажира до Сухуми, откуда я поездом вернусь домой. Впереди ждёт десятый класс — и прощай, школа.
Почему мне грустно? С утра я исходил чуть не всю Одессу, видел на Дерибасовской французских моряков в беретах с помпонами, видел здоровенных моряков–негров с американских торговых судов, искупался на пляже в Люстдорфе, ел на Привозе в рыбном ряду варёных раков и даже выпил гранёный стакан молдавского вина из бочки, купил пачку сигарет «Кэмел» у безногого матроса… Уже совсем скоро я впервые в жизни взойду на борт парохода… Почему же так грустно?
— Молодой–красивый, дай погадаю!
Молодая красивая цыганка, отделившаяся от своей компании, берет меня за ладонь.
— Не надо. — Я знаю, они, цыгане, обманщики, говорят всякие глупости, вымогают деньги…
— Не бойся. Даром погадаю, — жарко выдыхает цыганка, — прошлое, настоящее, будущее скажу. Давай руку, узнаешь: цыганка не врёт. — Обеими руками она держит мою ладонь, смотрит на неё: — Ты родился в мае. Тебе 17 лет. Дальше не получается, клади рубль!
Потрясенный, достаю рубль, и он мгновенно исчезает.
— Пацаном болел, отец–мать живы, девушки не имел, будешь иметь много… Ой, что это? — Она за руку тащит меня ближе к свету фонаря, вглядывается в линии на ладони и вдруг отдаёт рубль. — Бери, бери, у тебя тут такое, говорить нельзя. Одно скажу: всего, чего хочешь, достигнешь и всегда недоволен будешь.
Она отпускает мою ладонь, мгновение смотрит в глаза. Потом решительно стягивает с пальца одно из колец и надевает на мой.
— Носи. Так надо.
…Пароход увалисто идёт в ночи. Я стою у поручней верхней палубы, у самого носа. На носу матрос — вперёдсмотрящий, время от времени он включает прожектор, выглядывает мины, которых, оказывается, осталось полно от недавней войны.
Ощущение кольца на пальце непривычно. Я снимаю его, разглядываю. Вроде золотое. По внутренней стороне вьётся какая‑то надпись арабскими буквами.
Зачем это мне, комсомольцу? Я оглядываюсь на вперёдсмотрящего. Он стоит спиной, занятый своим делом.
Размахиваюсь и швыряю кольцо в пучину Черного моря.
Он привёл меня в ресторан гостиницы «Москва». Мы сидим за столиком, на котором графинчик, чёрная икра.
Официантка приносит пышущие паром судки с судаком по–польски, он наливает в рюмки водку, приказывает:
— Пей! И говори: чем не понравилась моя поэма?!
Он сидит против меня в офицерском кителе, на левой стороне которого военные ордена, а на правой сверкает золотом новенькая медаль лауреата Сталинской премии.
Набычив коротко стриженную голову, он исподлобья смотрит:
— Пей!
Я опрокидываю в рот водку, закашливаюсь. Официантка — полненькая, белокурая, по–матерински жалостливо смотрит на меня, потом торопливо выкладывает из судков на тарелки рыбу, поливает её соусом.
— Спасибо. Идите! — Он тоже выпил свою рюмку, наливает по новой. — Значит, не понравилось?
— Не понравилось, — говорю я.
Только что в литературном объединении, куда я хожу по средам вот уже несколько месяцев, все мы — молодые поэты — читали свои стихи ему, маститому, тридцатилетнему, специально приглашённому на этот вечер. А после перерыва он прочёл нам свою новую, ещё не опубликованную поэму. И потребовал обсуждения.
Почему‑то из выступавших только один я сказал то, что думали все. Что писать целую поэму о пользе лесополос в степи вряд ли стоило. Что можно было обойтись статьёй, но их и так много сейчас, в каждой газете — про лесополосы и про Волго–Дон. И поэтому поэма превратилась в кладбище хороших строк…
Это «кладбище» его особенно задело.
Вот он сидит против меня, пьёт водку, не закусывая, подливает мне и все допытывается: как же это могла не понравиться поэма?
Я хмелею, язык развязывается. Говорю о том, что бог поэзии — правда, что при социализме не должно быть богатых и бедных, проституции, нищеты, что поэты ничего об этом не пишут. Что тяжело, непонятно, как со всем этим жить. А тут тебе одни гимны, то стройкам, то лесополосам. Рассказываю, как в школе меня били за то, что еврей.
Он слушает, курит, заказывает ещё один графинчик.
— Может быть, хватит? — говорю я, отодвигая свою рюмку.
— Тебе, может, и хватит… Ты говори, говори. — Он вдруг раскис, смотрит не на меня, вслед уходящей официантке.
— Наверное, товарищ Сталин ничего об этом не знает, от него скрывают, — высказываю я заветную мысль.
— Вот что, парень, — перебивает он. — Кончай болтать, собирай до кучи свои стихи и волоки будущим летом в Литинститут. Я буду вести семинар и возьму тебя.
— Вы сейчас пьяны. Забудете.
— Что?! — он поворачивает ко мне покрасневшее, набрякшее лицо. — Если бы я не запомнил твои вирши, ты бы, сопляк, не сидел за этим столом. И не говорил бы всю эту хреновину мне в лицо. Между прочим, поэма понравилась на самом верху. И она уже набрана в журнале, понял?
Допив водку, он подзывает официантку, расплачивается. Потом на обороте счета пишет номер своего телефона и сует мне.
Глава десятая
Я проснулся счастливым, так, как давно не просыпался.
Вскочил. В тёмном прямоугольнике окна крыши домов светились снегом. Нигде не горело ни огонька. Все ещё спало после новогодней ночи. По незапятнанному снегу мостовой урча проехала мусоросборочная машина.
Ощущение беспричинного счастья уходило, как отлив. И, как после отлива остаётся на мокром песке заляпанная тиной океанская мелочь, осталась унылая надежда на утверждение сценария да обещанный Николаем Егоровичем поход в пресловутую лабораторию.
Зябко было торчать босиком у окна на холодном паркете. Я хотел было надеть висевший на спинке стула тренировочный костюм, как заметил угол высовывающегося из‑под подушки свёртка. Развернув бумагу, обнаружил целлофановый пакет, в котором лежали зимние — кожаные с мехом — перчатки.
Я натянул их. Материнский подарок был впору. И тут грянул телефон.
— Артур! Звоню из Шереметьева, — отчаянно кричал Левка. — Через пять минут иду на досмотр. Прошу тебя: не оставляй моих. Артур! Я тебе буду писать, можно?
— Конечно.
— Прощай. — Голос Левки дрогнул.
— Прощай. Желаю тебе! — Я медленно положил трубку и снова, как тогда на ночной остановке, увидел себя со стороны — на этот раз в одних трусах и перчатках стоящего в темноте комнаты.
«Да что это за жизнь?! — яростно думалось мне, в то время как кулаки в перчатках лупили во тьму, в пустоту, в ничто. — Друзья уезжают, ничто не складывается, годы уходят. Какая‑то ерунда да ложь изо дня в день, из месяца в месяц, год за годом, никому ничего не нужно. Надоело. Не могу. Хватит!»
«Что «хватит?, — думал я потом, стоя под струями душа, — что я могу сделать для страны? Даже для себя ничего не могу. Даже для Атаева».
Потом пил чай, перечитывал черновик своей статьи, а где‑то там, на заднем плане ума, всё время тянул на запад лайнер, в котором улетал Левка.
Статья не понравилась. «Полуправда, — презрительно думал я, — сам не заметишь, как втянешься в ту же игру. Хватит играть!»
Перешел в комнату, вытащил из секретера свою старенькую «колибри», вставил чистый лист и застучал по клавишам машинки.
Перепечатывая текст с черновика, выбрасывал одни абзацы, вставлял другие — и все о Невзорове, о круговой поруке эгоистов, пекущихся якобы о деле, а в конечном итоге — лишь о себе. Как бы доказывал Левке, летящему сейчас в самолёте, а может уже и прилетевшему (куда там они прилетают — в Вену, в Иерусалим?), что надежда не потеряна, пока есть такие люди, как Атаев, Нурлиев.
Оттого что в памяти сам по себе назойливо всплывал атаевский пистолет, оттого что тело помнило мерзкое охлопывание снизу доверху в аэропорту, всё больше наливался свинцовой, слепой яростью и в конце концов увидел, что вместо «Невзоров» напечатал фамилию своего собственного мучителя — «Гошев».
«Конечно, все связано, — подумал я, исправив ошибку, — везде одно и то же».
И сам почувствовал себя связанным.
Оконченная, перепечатанная статья лежала передо мной на столе — восемь страниц, сколотых скрепкой.
В окне, оказывается, давно стоял белый зимний день. Я погасил настольную лампу, взглянул на часы — четверть первого.
…Странно было набирать номер Левкиного телефона и знать, что его нет ни дома, ни в городе, ни в государстве.
— Мама спит, — тихим голосом ответила Машенька. — Дядя Артур, вы будете к нам приходить?
— Обязательно. С Новым годом тебя! Ты мне ещё станцуешь танец с веером?
— Опять? — печально удивилась Машенька.
Рассказывая ей о том, что собираюсь вставить этот танец номером в «Праздничное поздравление», снять её в кино, спохватился — ещё неизвестно, не зарубят ли всю затею, — но было уже поздно.
— Для вас, дядя Артур, я всё сделаю, — с готовностью ответила девочка. — А когда?
— Нескоро, — попытался я скорректировать свою ошибку. — Может, через месяц. Сообщу заранее. Привет маме.
О том, что наступила последняя фаза праздников, я понял, когда, едва успев положить трубку, услышал дребезг телефона.
— Слушаю.
— Это Артур? Артур, с Новым годом! Вы не забыли своё обещание? Говорит Гоша, Георгий Сергеевич, ну, насчёт марок, вы обещали поискать…
— Извините, забыл.
— А помните, что я сказал — забудете, непременно забудете. — Голос членкора был бритый, проодеколоненный, выспавшийся. — Тут есть такой проект: в четыре к нам на семейный обед и на весь вечер приедут Паша и Нина, они только что звонили. Сделайте мне удовольствие — захватывайте марки и прикатывайте тоже.
— До того вам хочется марок?
— Хочется! Это моя страстишка. А у вас разве нет никакого хобби?
— Не знаю…
— Итак, мы без вас не садимся обедать. Помните, где я живу? Дать адрес? — продолжал давить членкор.
— Ну давайте.
Только записав адрес, я понял, что заезжал к Гоше в тот самый дом, где давным–давно, до войны, с матерью был в гостях у бритоголового командира, впоследствии расстрелянного как «враг народа».
Жизнь снова зачем‑то закруживала по старым орбитам. Зачем? Пока искал дедушкин альбом с марками, телефон звонил беспрерывно. Отоспавшиеся знакомые поздравляли с прошедшим праздником. Они снова были озабочены тем, как провести вечер.
Альбом оказался втиснутым между книгами в заднем ряду на нижней полке шкафа.
Я много лет не раскрывал его и теперь, разглядывая страницы с радужными строчками марок, испытывал все усиливающееся чувство сожаления. Было не только жалко отдавать в руки чужого человека, пусть даже и коллекционера, семейную реликвию, принадлежавшую деду, тому самому, Анатолию Моисеевичу, имя и возраст которого так точно вычислил вчера медиум (кстати, только вчера о нём вспомнил, и вот — альбом!), жаль было всего, чем веяло от этих марок.
Деда своего я не видел никогда. Мы разминулись в жизни: я родился через год после того, как тот был найден мёртвым в своём рабочем кабинете в Наркомате чёрной металлургии.
Все марки, которые дед аккуратно помещал в этот альбом, были чисты, без печати, все советские, вероятно с самой первой — синей, где изображена рука с мечом, разрубающая цепь.
Ах, какой надеждой веяло от этих марок! Какой надеждой!
Молоты, лиры, раскрытые книги, рабочие, крестьяне, красноармейцы, взлетающие самолёты, и вот — серия — Ленин в красно–чёрной рамке…
Боком, неудобно, я сидел у стола, все смотрел на последнюю страницу с траурной серией, думал не о деде и не о членкоре Гоше, в чьи руки попадут эти символы надежды, наверняка ставшие всего лишь материальной ценностью, предметом купли–продажи среди марочников. Думал о Левке. О том, что он уехал.
— Идем обедать, Артур. Ты плачешь? Что случилось?
Я прикрыл ладонью лицо. Оно было мокрым. Мать стояла в дверях, не смея кинуться ко мне.
— О чём ты плакал?
— Я не стану обедать. Мне надо идти, мама.
Знал, что очень огорчаю мать, но, не отвечая на расспросы, быстро оделся и с альбомом под мышкой вышел на лестницу.
— Перчатки хоть возьми! Холодно!
Вернулся к порогу, взял у неё из рук перчатки.
— Спасибо, мама.
— О чём ты плакал? — снова спросила она, а у самой уже стояли в глазах слезы.
…О чём я плакал? Я и сам толком не знал: о чём? Только теперь, когда я стремительно шагал к метро, мне хотелось скорей избавиться от этого альбома, от мысли о Левке, который вот в эти минуты пристраивается где‑то в Вене или Тель–Авиве к чужой жизни. Вот кто бы посмеялся над моими слезами! И он, и те, кто давно уехал и в своих повестях, романах, кинофильмах поносил свою страну и социализм, да и многие из тех, кто никуда не уехал и прославлял тот же социализм, тоже бы от души посмеялись. Теснясь в вагоне метро, я чувствовал себя последним представителем вымершей расы, которого, казалось, уже ни один человек не сможет понять.
Сидели, стояли, проталкивались мимо к дверям чуждые друг другу, хмурые, озабоченные, со своими цветами, тортами, детьми, чтобы убить в гостях вечер последнего нерабочего дня. Да и сам я опять тащился к незнакомому, в сущности, человеку, и выражение собственного лица наверняка было не очень‑то счастливым.
«А вдруг за всем этим у каждого свербит одно и то же?»
Меня настолько поразило это соображение, что, выйдя из метро у Библиотеки Ленина и переходя реку через Каменный мост, я уже в виду здания, где жил членкор, остановился, чтобы побыть с этой мыслью наедине.
На мосту дул резкий, колючий со снегом ветер. Кремлевские дворцы, купола храмов, колокольня Ивана Великого, подсвеченные прожекторами, казалось, парили во тьме.
вспомнились сочинённые несколько лет назад строки. Это были все те же мысли, все тот же круг, из которого я не мог вырваться.
…Вода под мостом шла чёрной широкой полосой меж ледяных закраин. Она была далеко внизу и близко. Если прыгнуть.
Не считая изредка шуршавших автомобилей и автобусов, я был сейчас совсем один на этом особо памятном мне мосту. «А где же тогда все остальные? У которых свербит», — с горькой насмешкой подумал я, насильно оторвал себя от заснеженных перил, двинулся навстречу нависающему, как туча, зданию.
— Добрались! — Георгий Сергеевич бросил взгляд на альбом и просиял. — Ну, спасибо! Давайте я вам помогу. — Он выхватил марки из моих рук, крикнул: — Аня, иди встречай гостя! Моя жена — Анна Артемьевна.
В переднюю вышла статная, слегка полноватая женщина в чёрном платье.
— С Новым годом! Раздевайтесь, пожалуйста. — У неё был молодой, на редкость сочный голос.
Она насильно забрала плащ, ужаснулась, вешая его на крючок.
— И вам не холодно в такой мороз? Он даже не гнётся.
— Привык. — Я оглянулся. Гоши в передней уже не было.
— Так ждал ваших марок! Теперь пропал для общества, закрылся в кабинете, наверняка руки дрожат, каталог наготове… Очередное увлечение.
— А какое было раньше?
— О! Не всюду увидишь! — Анна Артемьевна провела меня на кухню. — Пожалуйста! Вот это, например, я!
Стены кухни до потолка были покрыты крупными глазурованными изразцами. «Не имей сто рублей, а имей одну Аню!» — было выведено славянским шрифтом под уродливым, но чем‑то похожим изображением хозяйки дома.
— Увековечил всех родных, знакомых, даже сотрудников, и всюду приписал какую‑нибудь мудрость из сборника пословиц Даля.
«Изувековечил», — подумалось мне, обозревавшему этот парад монстров. Видно было, что Гоша стремился изо всех сил к правдоподобию, но не обладал ни талантом, ни вкусом.
«Не подмажешь — не поедешь», — красовалась выпуклая надпись вокруг разноцветной старушки.
— Моя покойная мама, — пояснила Анна Артемьевна. — Пойдемте, нас ждут. Эту галерею можно разглядывать часами, два года на неё потратил.
— Извините, в какой области он специалист?
— Физик–теоретик, но сейчас скорее организатор науки, впрочем, я и сама давно понять не могу.
Мы уже покидали кухню, когда Анна Артемьевна, остановившись на пороге, обернулась ко мне.
— Артур, позвольте мне вас так называть?
— Пожалуйста.
— Нина с Пашей, которые вместе с другими ждут нас в гостиной, говорили, вы интересуетесь парапсихологией, верно?
Я кивнул.
— Видите ли, муж имеет на меня странное влияние. А может, я на него. — Она понизила голос. — Вон там, налево, приоткрыта дверь кабинета, подойдите тихонько и встаньте так, чтоб видеть его лицо. Он увлечён марками, не заметит. Когда подойдёте, сначала посмотрите сюда, на меня, а потом — на него.
Недоумевая, я тихо прошёл вдоль стены коридора, пока не увидел через полуоткрытую дверь Гошу. Тот, нагнувшись над столом, что‑то разглядывал в лупу.
Я перевёл взгляд на Анну Артемьевну. Свет из кухни ярко освещал её красивое, в ямочках на щеках, лицо. Вдруг она оскалила зубы, сморщила нос… В ту же секунду лицо сидевшего в кабинете Гоши жутко повторило эту гримасу.
— Ну, что это такое? — жарко шептала в коридоре Анна Артемьевна. — Я боюсь себя, его, умираю от страха, особенно когда он так «шутит», где бы он ни находился, хоть в командировке!..
— У вас сейчас же возникает такая гримаса?
— Да! В любом месте, в любое время.
— Должно быть, какой‑то семейный гипноз… Вы давно замужем?
— Нашему сыну семнадцать.
— А на него это распространилось?
— Нет, Артур, у него другое, — тяжело вздохнула Анна Артемьевна. — Впрочем, что я на вас насела? Простите меня. Идем к гостям.
Увидев меня, Паша и Нина призывно замахали руками.
— Что вы там делали? Идите сюда, садитесь рядом.
Сев возле Паши и Нины, я попал в спокойную зону, казалось, давно знакомых и родных людей. Здесь я несколько пришёл в себя, даже вспомнил, что с утра, кроме чашки чая с бутербродом, ничего не ел. Нина положила мне на тарелку буженину, маслины, Паша налил рюмку виски из затейливой бутылки с заграничной наклейкой.
Наискось через стол, подле Анны Артемьевны, сидел её сын — копия отца, такой же уверенный в себе, крепко сбитый. Он при всех без церемоний то обнимал, то целовал в губы чрезвычайно тощую и противно вертлявую девицу, сидевшую с ним рядом. По левую руку от девицы возвышалась столь же неприятная женщина с маслеными угодливыми глазками.
— Что же Георгий Сергеевич не идёт? Где наш Гошенька? Пока не сядет, баранья ножка будет стоять в духовке. Анна Артемьевна, вы не можете его позвать? Не то ножка перестоится.
— Ну, мамочка, ты и скажешь — ножка перестоится! Боречка, каково?
На этот вопрос Боречка ответил очередным поцелуем в губы и закусил его маслиной.
— Мы не будем ждать Гошу, — ответила Анна Артемьевна. Она сидела, держась пальцами за виски.
Вскоре мне стало ясно, что юный Боря собирается играть свадьбу с этой девицей, уже беременной. И она, и её мамаша ничуть не скрывали своего счастья. Хотя собравшиеся на семейном обеде видели, что ничего долговечного, хорошего из этой затеи не выйдет, все они изо всех сил старались отвлечь хозяйку, которой стыдно было своих будущих родственниц, да и собственного сына.
Принесли из духовки пресловутую баранью ногу, подали бруснику к ней. Гости наворачивали изысканные кушанья, произносили тосты; кто рассказывал о своих перипетиях с перепродажей автомашины, кто зазывал на следующие нерабочие дни к себе на дачу, обещая роскошную лыжную прогулку. Даже Паша с Ниной вписывались в эту благодушную атмосферу хорошо пристроившихся к жизни людей.
Наконец, когда внесли надраенный старинный самовар и Анна Артемьевна стала заваривать английский чай с жасмином, появился Георгий Сергеевич. Вид у него был отрешённый.
— Что случилось, Гоша? Уж не прикорнул ли ты там в кабинете? — спросила Анна Артемьевна.
Тот ничего не ответил, подсел ко мне и всё время, пока пили чай, втолковывал, что среди принесённых марок есть пять–шесть особенно редких, очень дорогих, за которые он готов уплатить по каталогу.
— Я их не покупал и продавать не стану. Возьмите себе все, раз доставляют удовольствие.
— Нет, я не могу себе этого позволить, — горячился Гоша.
— А я могу! — отрезал я и увидел, что Анна Артемьевна, слышавшая наш разговор, с укором посмотрела на меня.
…Когда я собрался уходить вместе с Пашей и Ниной, взявшихся подвезти меня на машине, она вынула из стенного шкафа в передней добротное чёрное пальто, подала.
— Мне кажется, вы — человек без этих противных условностей. Наденьте, пожалуйста. И я буду за вас спокойна. И Гоше так будет легче. Поверьте, у него есть что носить.
Какую‑то секунду я смотрел в её чёрные, слегка подведённые глаза, потом молча надел пальто. Оно оказалось впору.
Вместе с земным шаром и всем, что на нём находится, я медленно теку в чёрном пространстве. Вокруг, то приближаясь, то удаляясь, текут иные миры. Всё это, наподобие кровяных шариков, находится в теле непомерно огромного существа. Большего, чем космос. Может быть, похожего на человека. Снаружи мне его никогда не увидать. Заключенный внутри него мельчайшей частицей, я знаю, что и во мне точно такие же, только совсем уже крохотные миры. Миры со своим сознанием.
Я завишу от них так же, как огромное существо зависит от таких, как я. Если мы будем плохими, ему станет худо.
Это — моя догадка, тайна, о которой я никогда никому не рассказываю.
Солнце ещё плавится на окнах и крыше «Метрополя», а площадь начинает погружаться в сиреневый сумрак. Только что отгремел ливень, смыл первую пыль начавшегося лета.
Я стою на тротуаре, на краю мокрой площади. С зелёного острова в центре неё сквозь запах бензина пробивается аромат доцветающей сирени.
Сейчас, когда опрокинутый в мокрый асфальт светофор перемигнет с красного на зелёный, я перейду туда, в сквер, чтобы вынуть из бокового кармана пиджака бережно свёрнутый в трубочку аттестат, снова разглядеть его, — со школой покончено!
Вдруг воздух уплотняется. Мимо моего лица со свистом проносится что‑то белое. И с маху — об асфальт. Это залетевшая сюда с Москвы–реки чайка. Видимо, она приняла площадь со всеми её отражениями за поверхность воды. Рыхлый ком перьев и пуха недвижим. Его обтекает ручеёк с радужными разводами бензина.
Глава одиннадцатая
Теперь у меня было тёплое, как оказалось, ратиновое пальто, руки надёжно защищены перчатками. И сценарий утвердили. Правда, с заменой рисунков. «Весна, лето, осень — что тут советского? — подозрительно глянув в глаза, спросил Гошев. — Нет уж, пусть рисуют приметы нашего образа жизни».
«Нарисовать бы тебя, как ты есть, толстого, в подтяжках — вышел бы босс сицилийской мафии», — зло подумал я.
Уже не в первый раз я замечал, что от Гошева попахивает водочным перегаром. «Любопытно, отчего такие, как он, пьют? Власть, деньги, положение — что ещё надо?» Как‑то в коридоре на студии мне показали гошевскую любовницу — пухленькую Зиночку, взятую по протекции на должность администратора. Именно она была назначена директором «Праздничного представления». Я поморщился. По доброте души я исполнил своё обещание — взял оператором заочника ВГИКа Кононова, даром что тот не снял ещё ни одной картины. И вот Зиночка, тоже не имеющая никакого опыта…
А если вспомнить, что и сам я, по милости Гошева, после дипломного фильма три года не имел практики…
«Не беда. Короткометражка. Всего одна часть», — утешил я себя, когда все они, да ещё художница Наденька, собрались в отведённой нам комнате, чтобы составить смету картины и расписание съёмок.
— Так ведь фильм‑то детский! — удивилась Зиночка, пробежав глазами сценарный план. — Говорят, хлопот с ними! Знала бы — не согласилась.
— Наоборот, хорошо. На детей дополнительное время. И плёнка, — возразил Кононов.
— Плохо ли, хорошо ли, давайте‑ка приниматься за дело, — сурово вступил я в свою новую роль.
Кроме Наденьки, в этом маленьком коллективе у меня союзников не было. Ей одной нравился неформальный подход к самой идее «Поздравления», она предлагала эскизы фона для каждого из пяти номеров, придумала ввести в один из них полёты авиамоделей с резиновыми моторчиками.
— Надо экономить государственные средства, а не удорожать смету, — бурчала Зиночка.
— Модели достану бесплатно. Красивые, как бабочки, — горячилась Наденька. — Договорюсь с руководителем кружка, где занимается мой Костя. Все беру на себя.
— Зачем это? — морщился оператор. — Будут всё время вылетать у меня из кадра. Следи за ними — лишняя морока.
— Прекрасная идея, — вмешался я. — Спасибо, Наденька!
За неделю, отпущенную до павильонных съёмок, надо было отхронометрировать номера, нарисовать и утвердить декорации, записать фонограммы, получить от детей рисунки и, самое главное, иметь на руках покадровый режиссёрский сценарий.
Это только на вид работа казалась пустяковой. Порой легче снять посредственный полнометражный фильм, чем вот такую малость, где не спрячешь за диалогами, за сюжетом отсутствие идеи.
А идея у меня была. Я осознал её лишь после вчерашнего стояния на Каменном мосту. Но пока держал в себе. Не поделился ни с кем.
Худо–бедно подготовительная работа пошла. У меня даже хватило времени заехать в редакцию, отдать Анатолию Александровичу очерк и рассказать об инциденте в аэропорту.
— Пугнули тебя. Чтоб больше не ездил. Могло быть и хуже. Между прочим, часов в одиннадцать звонил Нурлиев — интересовался, готова ли статья, торопил, чтоб скорее напечатали. Иди отчитывайся в бухгалтерию, а я пока прочту.
Когда я вернулся в кабинет, статья лежала на столе поверх бумаг. На ней оглоблями вверх валялись очки Анатолия Александровича.
— Артур, ты сам понимаешь, в какую историю втягиваешь газету, да и меня?
— Конечно, понимаю. А куда деваться? Так оно все и есть.
— Не сомневаюсь, что так оно все и есть. Если хочешь, в истории с Атаевым и Невзоровым ты ничего нового не открыл. Подумаешь — заставляют принимать незавершёнку! Да я тебе сто, тысячи писем покажу со всей страны. — И Анатолий Александрович стал лихорадочно вытаскивать из ящиков стола пухлые папки с подборками писем, потом полез в стенной шкаф, где на полках тоже грудились папки.
— Неужели вы думаете, что я сейчас буду все это читать? Чтоб вы знали, у Атаева пистолет в таком же ящике. Человек реально борется, может пасть мёртвым, пока вы тут, простите, бабью истерику закатываете, боитесь втянуться в кампанию, которая заденет первого секретаря республики. И если эта история типична — тем более надо печатать.
— Видишь ли, легко быть смелым, когда не работаешь в газете, не получаешь зарплаты.
— Да. Мне очень легко, Анатолий Александрович.
Мы помолчали.
— Ну извини, — он вздохнул. — Я ведь к тебе лично хорошо отношусь. Ты не знаешь, чего мне стоило тогда решиться послать сценарий в самую высокую инстанцию…
— Во–первых, я вас об этом не просил. А во–вторых, Анатолий Александрович, давайте хоть в этот раз не будем дипломатничать, юлить. Встанем вровень с Атаевым и Нурлиевым. А что касается зарплаты — можете поздравить, с сегодняшнего дня я её тоже получаю.
Я стал рассказывать о том, как обернулось дело на студии. Но Анатолий Александрович слушал невнимательно, поглядывая на телефоны, тарабанил пальцами по краю стола.
— Когда у них Пленум ЦК?
— Не знаю. Может, со дня на день.
— Ладно. Иди снимай своё кино, а я попробую кое с кем посоветоваться.
Я спустился к раздевалке, уже подавал номерок гардеробщице, когда кто‑то ухватил меня за плечи, навис заиндевелой от морозного дыхания бородой, загудел в ухо:
— Крамер, Крамер, а я‑то думал, ты давно уехал в края невозвратные… Куда же ты девался тогда? Ни в печати, нигде столько лет…
Огромный колоритный мужик с лицом, утопленным в бороду чуть не по хитрые, умные глаза, стоял передо мною.
— Здравствуй, Афанасий.
— Здравствуй, Артур. Что делаешь здесь, в этом богоугодном заведении? Постой. Раз ты попался в кои‑то веки, зайдём в буфет, побалуемся чайком или там кофейком. На дворе мороз крепчает, а я отвык, только что из Новой Зеландии прибыл. А там‑то лето, сенокос.
Афанасий, давний соученик по Литературному институту, был верен себе. Все такой же говорливый, он сдал в гардероб бобровую шапку, дублёнку и остался в куртке и брюках, заправленных в обыкновенные деревенские валенки.
— Шут его знает, почему я вспомнил как раз о тебе в самолёте, — гудел Афанасий за столиком в опустевшем после обеденного перерыва редакционном буфете. — А ты обо мне ненароком не вспоминал позавчера?
— Нет, — честно признался я. Вообще никогда не вспоминал о своих выбившихся в люди соучениках.
— Напрасно. А как ты думаешь, не дадут ли нам здесь водочки?
— Сомневаюсь. Да и нет особенно времени. — Я глянул на часы. — Мне, видишь ли, нужно по делу в один заводской клуб…
— Дело подождёт. Какой деловой стал! Ты вот посиди, а я схожу на разведку.
…Из «разведки» Афанасий вернулся с подносом, где кроме горячего гуляша, бутербродов с колбасой и сыром стояли два стакана чая и две кофейные чашечки, в которые, оказывается, была налита водка.
— Ну вот. Всюду люди. Всюду можно договориться. Посидим по–человечески. А теперь давай отопьём за встречу, и ты расскажешь, что ты здесь делаешь.
Афанасий ещё начиная с тех давних времён проявлял ко мне пристальный интерес. Не было между нами ни дружбы, ни товарищества, но я всегда чувствовал на себе изучающий взгляд этого человека, ставшего ныне весьма известным писателем, автором толстых романов, где достоверно и основательно описывались так называемые производственные конфликты.
— Хорошо. На ловца и зверь бежит. Но сначала скажи два слова о себе. Что делал в Новой Зеландии? Ведь не косил же сено.
— Не косил. У них и косы‑то теперь не найдёшь. В Зеландии этой я оказался ненароком. Летел из Австралии, где изучал фермерскую кооперацию. А до этого был в Японии.
— Здорово живёшь.
— Не больно здорово. Половину командировки в отелях, в горячей ванне отлёживался, камень почку бодает. Почечная колика — это не приведи Господь, никому не пожелаю. Ты‑то как? Что здесь делаешь?
— Ну, раз тебя это интересует, пожалуйста. — И я рассказал о своей поездке, об Атаеве, Невзорове, Нурлиеве, обыске в аэропорту.
— Погоди, погоди. Так это твоя статейка была года два назад в газете? Про город для ГЭС. Помню. А я тогда подумал: однофамилец. Ты же стихи писал! Я их до сих пор не забыл. Бросил, что ли?
— Не будем об этом говорить.
— Не будем так не будем. Хозяин — барин. А что до твоей коллизии с Атаевым, то жаль, конечно, человека, только все они сами во всём виноваты. Вот теперь и хлебают. За грех великий.
— Как это понять?
— Очень просто. Строят заводы, фабрики, комбинаты один за другим. А ведь каждый из них свои заводы требует, свою сырьевую базу, энергетическую, ремонтную и так далее. До бесконечности. Ты слушай, слушай меня, небось я подольше в этом варился… Прорве конца нет. Дурная бесконечность. Так во всём мире, сам видел. Заводы плодят заводы. Всю землю изгадили. Мир сошёл с ума. Если даже отбросить вооружение, сколько ненужного навязано людям. Хоть верь в нечистую силу. И заметь: темп все убыстряется — конвейеры, страшней, чем у Чаплина. Раньше мы ругали — потогонная система. Теперь — и у нас. А на хрена все эти автомобили, джинсы, мода? Обычные портки чем плохи? А зайди в любой галантерейный магазин, хоть здесь, хоть в Нью–Йорке, уйма ненужного барахла — конец света!
— Выходит, твои валенки — вызов современному миру?
— Ни хрена! Я, если ты заметил, в дублёнке пришёл, да и на своей «Волге» подъехал, что я — хуже всех буду жить, раз они такие? А для души у меня в Тверском уезде деревянный дом с садом и пчёлками. И рыбку ещё есть где половить. Хочешь — приезжай.
— Спасибо. Послушай, а как же ты с такой установкой пишешь как раз о производстве, о рабочем классе?
— Есть‑то хоца. Семья. Три дочки, — мрачно ответил Афанасий. — Это мой огород, считаюсь специалистом. По–хорошему, надо бы завязать и перейти на повести для детишек — святое дело.
— И ещё одного не пойму, — помолчав, спросил я, — при чём тут кооперация новозеландских или там австралийских фермеров?
— А это я потихоньку перекидываюсь и на сельхозтематику. Кого жалко, Артур, так это землю. Давай допьём! Знаешь, за что?
— За землю?
— Нет. За твоего Атаева.
Мы чокнулись кофейными чашечками, выпили. Афанасий степенно утёр бороду, взял бутерброд.
— Небось сам видел, у нас хороших людей, как этот Атаев, много. Слава Богу, не до конца оскудели. Только если все это у тебя написано, как рассказал, статью или же не напечатают, или же кастрируют.
— Подумаешь, открыл Америку! Ладно. Мне пора ехать.
— Да не горячись. Всегда ты горячился. Я поднимусь к нашему любезному Анатолию Александровичу, прочту материал, вместе подумаем, что да как.
— Подумайте. Пока!
— Будь здоров. Вот ведь какой. Как это получилось — я о себе все выложил, а ты о себе — почти ни слова.
— Не о чем рассказывать. Будь здоров!
И пока ехал в клуб, пока хронометрировал там отобранные номера, договаривался с членами изокружка о новой тематике рисунков, я не мог избавиться от непонятного, тяжёлого осадка после этой встречи, от собственной правды — «Не о чем рассказывать».
Мне казалось, действительно не о чем было рассказывать.
Я не был в Новой Зеландии.
У меня не выходили книги.
Не было ни детей, ни деревянного дома.
Не было той основательности, своего места в жизни, которые были у Афанасия, у того же Анатолия Александровича, у Нурлиева, у Невзорова, у Паши с Ниной, не говоря уже о членкоре Гоше.
Даже пальто — с чужого плеча, даже работа — случайная. Статья и та могла не пройти.
Вечером, вернувшись домой, первое, что я услышал от матери, было: «Никто не звонил».
«С чего это я сломался? — Я лежал навзничь на тахте, не включив света. — Позавидовал Афанасию? Он и сам по–своему несчастен, пишет о заводах, которые ненавидит, носит в своей почке камень, может быть, собственную смерть… Анатолий Александрович? Вот уж кому не позавидуешь — вечная трусость, гомеопатические расчёты, кажется, сто лет работает в газете и каждый день боится, чтоб не выгнали».
Я перебирал в памяти всех, с кем виделся в последнее время, — никто не был счастлив. Вспомнилась жуткая гримаса на лице Гоши и Анны Артемьевны и то, как эта женщина, роскошная, всем обеспеченная, сидела, держась пальцами за виски. Вспомнился Атаев со своим ключом на шее…
И тут я понял, что произошло. Афанасий, Анатолий Александрович, сами того не желая, предельно унизили меня, поставили на место — я был бессилен что‑либо сделать для Атаева. Бессилен. Не качество статьи решало вопрос, а соображения, не имеющие никакого отношения к здоровью рабочих комбината, жителей кишлаков, к судьбе Атаева. «Но ведь так всегда. За множеством случаев не видят отдельную человеческую судьбу. Огрубели. Покрылись коростой. Хорошие люди. Прогрессивные. Сочувствующие. Да они седого атаевского волоса не стоят».
В бессильной ярости я ходил взад–вперёд по тёмной комнате, наткнулся на стул. Вспомнил, как на днях, надев перчатки, боксировал в темноте. Включил свет. Ярость требовала выхода.
Выхода не было.
Я сел у телефона, машинально листал записную книжку. Из книжки вывалился плотный прямоугольник визитной карточки: «Павловский Николай Егорович. Лауреат… Доктор философских наук».
Набрал номер его домашнего телефона и узнал голос новогоднего знакомого.
— Как же! Отлично помню. А если б забыл — Ниночка не даст. Она уже звонила, напоминала. Итак, Артур, я должен быть в лаборатории послезавтра. Если свободны — встретимся и пойдём вместе.
— Я весь день занят.
— Так это вечером, к десяти. Сможете?
— К десяти смогу. Не поздно?
— В самый раз.
Мы договорились о встрече. Я на всякий случай записал адрес лаборатории и положил трубку. Потом моя рука снова взяла авторучку и на обороте визитной карточки вывела: «Н. Н. — Наденька — Игнатьич — Нина — Николай Егорович — ?»
Что с ним могло стрястись? Отец не вернулся с работы. Одиннадцать вечера. Двенадцать. Второй час… «Ложись спать», — уговаривает мама.
Он никогда нигде не задерживался. Не ходил без неё в гости. И вот его нет.
Времена тревожные. Страшные своей непонятностью. Газеты и журналы пишут о космополитах. Людей хватают в домах по ночам, хватают на работе. Забирают на улицах.
Лишь к утру мы дозвонились сначала в милицию, потом в больницу Склифосовского. Он там.
И вот я сижу рядом с папой. Папа спит. Его сбила машина. Травма черепа, сотрясение мозга.
Спит мой отец, мой папа. Глажу его седой висок. Глажу. Глажу. И сам впадаю в забытье, сказывается бессонная ночь. Думаю о бедной юности папы, о его отце — уличном сапожнике. А кто был отец того сапожника, кто был мой прадед? А кто отец прадеда? Ведь был же… В голове отчётливо возникает длинный ряд людей, силуэтами уходящий в бесконечность, где всё началось. Оттуда, из бесконечности времён, через эту цепочку жизнь достигла меня. Будь хоть один разрыв в цепи — меня бы не было.
Открываю глаза. И отец смотрит навстречу, протягивает руку, слабо сжимает мне пальцы.
Я ещё не знаю, что это — в последний раз…
С плавного изгиба лестницы, ведущей на второй этаж «Коктейль–холла», какой‑то человек в пиджаке, на котором в свете люстр пересверкивают военные ордена, швыряет сюда, в нижний зал, апельсины.
Швыряет метко. Звенят и бьются бокалы. Визжат женщины.
— Буржуйская сволочь! — кричит он, вытаскивая из пакета очередной апельсин. — Мы на фронте кровь проливали, а вы тут продали Родину, страна в голодухе. Пьете?! Гранат на вас нет!
Апельсин сбивает на длинной зеркальной стойке бара один бокал с коктейлем, другой. И вот они валятся, как кегли, задевая друг друга.
Средь визга хохочет за стойкой пьяный толстяк с отполированной лысиной. Уворачиваясь от летящего апельсина, он вдруг падает навзничь с вращающегося стула прямо в лужу с осколками.
— Здорово? — толкает локтем мой спутник.
— Здорово… — отзываюсь я.
Мне стыдно быть здесь. Стыдно смотреть, как невозмутимый швейцар в галунах и два милиционера уводят к выходу человека с орденами. Он не сопротивляется, только прижимает к груди опустевший пакет.
На поверхности нашего столика тоже пузырится лужа, где, словно глаз, плавает желток из коктейля «Маяк».
Зачем я здесь? С кем я? Предчувствие беды томит душу.
Худой, востроносый, мой спутник тянет через соломинку новый коктейль, поставленный официанткой, пристаёт:
— Пей! И поедем в гости. На всю ночь.
— В какие гости?
Все уже вытерто, выметено. Как не бывало того человека с апельсинами…
— Есть у меня две знакомые. Балерины. Учти — ввожу тебя в высший круг! Имел когда‑нибудь балерину? Ножки длинные, как дорога Москва — Пекин. Елисеевский ещё открыт, купим коньяк, возьмём такси… Эти дамочки умеют все, — вкрадчиво бубнит он под ухом.
Знаю, он ненавидит меня. И даже не за то, что я принят в Литературный институт (лауреат Сталинской премии сдержал своё слово). Мой спутник не принят. Зато его стихи печатают. Как какой‑нибудь праздник — в «Вечерке» его стихотворение. Он ненавидит меня за то, что я пишу о другом.
Сегодня после лекций у нас в актовом зале состоялось много раз откладывавшаяся встреча с руководителем Союза писателей, прославленным прозаиком.
Руководитель, он и пришёл руководить. Седовласый, с ветчинно–красным лицом, говорил об ответственности перед партией и народом, о социалистическом реализме. Все это были расхожие газетные штампы. Я сидел в заднем ряду и думал: сознаёт ли он, что ради этого не стоило приходить? По–настоящему талантливый человек, верит ли он сам в нудные прописи? Что‑то заставляло в этом усомниться, хотя голос был твёрдый, государственный. И на вопросы отвечал столь же твёрдо.
— Почему притихла борьба с космополитизмом? — спросил поэт–второкурсник из морячков, демонстративно оглядываясь, ища меня в зале.
— Борьба с космополитизмом была, есть и будет нашей постоянной заботой, — устало, но с все той же твёрдостью ответил руководитель. — Если вы возьмёте последний номер «Нового мира», увидите большую статью Симонова, разоблачающую пасквильные романы Ильи Ильфа и Петрова.
Морячок ещё раз победно оглянулся и сел. Тут‑то и коснулось меня предчувствие беды.
Да ещё в подвале, в раздевалке, возник, словно ниоткуда, этот самый искуситель — Витька Дранов. Пролез, проник, протырился на встречу, а потом увязался за мной, затащил в «Коктейль–холл», угощает, сорит очередным гонораром.
— Не поеду я к балеринам. Будь здоров.
В сумерках ранней весны подхожу к своему дому на Огарева, когда за спиной опять возникает голос:
— А ножки‑то длинные… Может, поедем?
Вдоль тротуара ползёт такси, из окна высовывается Витька, кривая улыбочка змеится на лице.
— Сгинь! — говорю я и поворачиваю в подъезд.
Глава двенадцатая
— А знаете, Артур, у вас очень редкая фамилия. Тем не менее имеется однофамилец. И довольно знаменитый, — игриво сказал Николай Егорович, когда мы встретились у дышащего морозным паром метро и зашагали переулками к лаборатории.
— Это вы о ком? Американском кинорежиссёре?
— Эрих Мария Ремарк. Ведь на самом деле он — Крамер. Перевернул фамилию наоборот. Чтобы зря не дразнить нацистов своим еврейством.
Я не стал говорить о том, что это мне известно. Любопытно было послушать, к чему бы философ поднял эту тему…
Но Николай Егорович перешёл на другое. Он клял мороз, который действительно что‑то уж слишком забирал. Переулки, клочковато освещённые фонарями, были по–ночному пусты. Даже автомашины не ездили. Прокатил заиндевелый милицейский газик, и снова тихо. Как в деревне. Лишь потрескивали деревья, роняя снег с ветвей.
— Градусов двадцать пять, — сказал Николай Егорович. — К ночи ещё понизится.
То ли от этих слов, то ли от стужи я почувствовал знобкую волну, пробежавшую по плечам, с благодарностью вспомнил Анну Артемьевну — хорош бы я был сейчас в плаще!
Пальто было тёплым, надёжным. Познабливало скорее от нарастающего волнения — каждый шаг приближал к лаборатории, которая, казалось, должна была стать вехой в цепи событий последних месяцев.
— Вехой! Вехой! — раздалось вдруг в морозном воздухе.
Размашисто шагая по мостовой, нас обогнала высокая женщина в меховом полупальто, брюках, заправленных в сапожки. Обогнала и свернула налево во двор. Я покосился на Николая Егоровича.
— Я что‑нибудь говорил сейчас?
— Нет.
— А почему это она крикнула?
Тот покрутил пальцем у виска, объяснил:
— Здесь много таких. Завлаб создал очень нездоровую среду. Впрочем, сами увидите.
— Кстати, как его зовут?
— Игорь Михайлович. Человек не без странностей. — Мы тоже свернули во двор, пошли по тропинке мимо вековых тополей. — Нина говорила, вы кинорежиссёр. Хотелось бы, Артур, чтоб мы, как трезвомыслящие люди, держали друг с другом контакт. Здесь нужно навести порядок. Смотрите, опять это безобразие!
Тропинка между высоких сугробов вывела к ярко освещённому двухэтажному обшарпанному зданию, у которого теснилась толпа. Она почтительно раздвинулась, пропуская нас к двери с прямоугольным оконцем, и тут я понял, что этих людей привело сюда нечто другое, чем меня, — привело горе.
— Вы не целитель? Не посмотрите моего мальчика, гидроцефалия, врачи отказываются. — Женщина, совсем промёрзшая, протягивала укутанного в платок ребёнка.
А сзади уже цепко тащил за рукав угрюмый худой мужчина в очках:
— Рачок. Пустяковый — в желудке. Сведете — машину отдам. Товарищ, пожалуйста, войдите в положение.
Я отшатнулся от него, а Николай Егорович закричал, нажимая кнопку дверного звонка:
— Разойдитесь немедленно! Не видите, что написано?!
Действительно, на двери виднелась пластмассовая табличка — «Прием больных не производится».
— Вам‑то что, вы здоровый! — выкрикнул кто‑то из толпы.
— Повторяю: расходитесь, иначе снова милицию вызовем!
Дверь приоткрылась. Николай Егорович пропустил вперёд меня и сам прошмыгнул вслед. Человек с красной повязкой дружинника тотчас запер за ним дверь на щеколду, спросил:
— А этот к кому?
— На приём к Игорю Михайловичу, — ответил Николай Егорович и добавил, обращаясь ко мне: — Я пройду и буду здесь недолго, а вам придётся в порядке очереди.
Только теперь я обратил внимание на длинную череду людей, тянущуюся в глубь узкого коридора. Последней, прислонясь к стене, стояла та самая обогнавшая нас женщина.
— Да, я крайняя к Игорю Михайловичу, — предупредила она мой вопрос.
Я молча встал рядом, расстегнул пальто. Потом заметил, что напротив, чуть наискось, находится гардероб. Зашел туда и разделся.
— А почему не предложите помочь мне? — Она уже протягивала своё меховое полупальто. Я повесил и его.
— Давайте уж познакомимся. Меня зовут Маргарита
— Тогда я — Фауст, — вырвалось у меня. — И оба мы стоим в очереди к Мефистофелю.
Она оценила шутку, рассмеялась. Лицо, при правильности черт, было неприятное, какое‑то чернявое. Глаза не смеялись. Они смотрели в упор.
— Я вам не нравлюсь. Ничего. Все впереди.
Маргарита определённо читала мысли, и я заставил себя переключиться на другое.
Подпирая стену в коридоре, я думал о неожиданной ситуации, возникшей на студии. «К вам всей душой, а вы не цените!» — с глухой угрозой сказала сегодня Зиночка, Зинаида Яковлевна, директор картины.
За эту неделю все уже утряслось. Съемки должны были начаться в понедельник.
Наденька, работая день и ночь, нарисовала фоны–декорации для каждого номера, я привёз из клуба серию детских работ, на этот раз их темой был космос. Даже удалось провести в павильоне репетицию с танцорами, Игорьком и Машенькой, под записанные звукооператором фонограммы. «А вы знаете, внизу, в буфете, дают телячью печёнку, привезли всего один лоток, — взволнованно прошептала мне на ухо Зиночка как раз в разгар репетиции. — Хотите, скажу, чтоб вам оставили?» — «Спасибо. Не до того». На другой день она поманила меня из комнаты, где помещалась киногруппа, и стала совать талон на продуктовый заказ. «Редкий случай. Дают только начальству. В «Диете? на Горького. Возьмем нашу машину, сгоняем и получим. Обернемся за каких‑нибудь полчаса». Я отказался от талона и категорически запретил использовать казённую машину.
Зиночка обиделась, а у меня мелькнула мысль, что, может быть, гошевская ставленница неспроста набивается с услугами: Гошев с удовольствием подловил бы на любой противозаконной мелочи. Сама по себе подозрительность была противна, но сегодня днём, когда я с режиссёрским сценарием в одиночестве расхаживал по пустому павильону, соображая, как лучше использовать добытые Надей авиамодели, которые оказались действительно похожи на бабочек фантастической красоты, как ни в чём не бывало подошла Зиночка. «А вы знаете, Артур, как бы у нас с вами не было неприятностей…» — «В чём дело?» — «Нашу‑то Надюшу, художницу, видели в церкви у Чистых прудов. Сама крестится, и ребёнок крестится. Это мне редакторша Виолетта сказала. Говорит, не раз видела». — «Ну и что? — грубо прервал я. — Это её личное. Нечего лезть. Свобода вероисповедания гарантирована конституцией. Вам все ясно?» — «Ясно, — неожиданно легко согласилась Зиночка и тут же, подняв пухленькое личико с лоснящимися от помады губами сказала: — А знаете, наверное, вам синий цвет очень пойдёт. Вчера получила со склада цветную материю на флажки для съёмок. И там есть кусок синей ткани. Хэбэ. Прелесть. Как раз на рубашку хватит. Хотите, сошью?»
Она стояла так близко. Так интимно и доверчиво смотрела…
«Гошева тебе уже мало!» — ошеломлённо подумал я, а вслух сказал: «Зинаида Яковлевна, откуда это у вас патологическое стремление что‑нибудь урвать? Мне не нужно ни талонов, ни рубашек, ничего…»
Лицо Зиночки старело на глазах. А я продолжал: «Ничего. Запомните это навсегда. Второе: прошу переключить ваше мышление на то, что у нас будут сниматься дети. Маленькие. Нужны стулья для отдыха. Графины со свежей водой. Нужно тщательно проверить вентиляцию павильона, о чём я уже не раз просил».
Вот тут‑то она и сказала злобно: «К вам всей душой, а вы не цените».
Наверняка не стоило так резко говорить с Зиночкой. Люди подобного рода мстительны. Да и с чего я взял, будто она провоцирует по указке Гошева? А вдруг просто дура, по–своему желавшая мне добра?
Очередь медленно двигалась, и я, занятый своими мыслями, автоматически передвигался вместе с ней. Уже стала видна дверь, где на бумажке, приколотой кнопками, было написано: «Йовайша И. М.»
Маргарита подловила Николая Егоровича, вышедшего из кабинета завлаба, о чём‑то с ним разговаривала в сторонке — выходит, они были знакомы?
Пошел двенадцатый час. Теперь, когда я передвинулся, против меня на стене оказался стенд с прикреплёнными вырезками из газет и журналов. С удивлением я обнаружил — часть материалов совпадает с теми, что демонстрировал в последнюю встречу Н. Н. Но были и другие.
На журнальной странице воспроизводились рисунки–схемы «Контуров эквипотенциальных линий биоэлектрического поля людей при заболеваниях раком груди, базедовой болезнью, астмой и шизофренией». Рядом находилась вырезка из «Известий»: «НЛО под присмотром учёных». Сбоку висела страница «Московского комсомольца» с большим очерком–интервью «Живая Вселенная?», где доктор психологических наук, профессор В. Н. Пушкин отвечал на вопросы корреспондента.
Пока я знакомился со всеми этими материалами, очередь растаяла. Я был один в коридоре странного учреждения.
Вскоре из кабинета вышла Маргарита. В глазах её стояли слезы.
— Идите, идите, — тихо сказала она и добавила: — Он не белый, даже не чёрный, он — серый.
…Хотя Игорь Михайлович Йовайша сидел за письменным столом, было видно, что он невысокого роста. И впрямь какой‑то серенький, непредставительный.
— Присаживайтесь. После вас никого нет? Ну и хорошо. Правда, первый час ночи… Но я к вашим услугам. Ведь вы Крамер, о котором мне говорил Николай Егорович?
И пока я рассказывал о цепи необычных событий и встреч, приведших в лабораторию, тот терпеливо, не переспрашивая, не перебивая, слушал. Порой лишь лёгкая улыбочка пробегала по лицу. Когда я упомянул о визите к членкору Гоше, Игорь Михайлович выдвинул ящик, достал бумажку с каким‑то графиком.
— Продолжайте, продолжайте, — любезно кивнул он.
— Я, собственно, кончил. Грубо говоря, у меня к вам один вопрос: как со всем этим быть?
— А кто вы по профессии? — Впервые Игорь Михайлович взглянул в упор. Глаза были маленькие, колючие.
— В данное время — кинорежиссёр.
— В данное время вы — одинокий человек, на грани последнего отчаяния, — быстро сказал Игорь Михайлович. — И это очень хорошо.
— Почему же «последнего»? — помолчав, произнёс я. — И что тут хорошего? — Казалось, будто меня раздели. — По–моему, все одиноки. И весь мир на грани.
— Я с удовольствием возьму вас в группу, которую сейчас набираю. Разговаривать на эти темы можно всю жизнь, но только собственный опыт ответит на вопросы. И то не на все. — Улыбочка опять появилась на его лице. — К окончательной истине, знаете ли, можно приближаться бесконечно.
То, что он говорил, подкупало. Улыбочка — настораживала.
— А может, я не гожусь для ваших занятий?
— Годитесь. Если хотите, проверю. Встаньте по стойке «смирно», только расслабьтесь и закройте глаза.
Игорь Михайлович вышел из‑за стола, действительно низенький, в коричневых брюках, чёрной курточке из кожзаменителя.
Я прикрыл веки. Тот что‑то делал ладонью спереди, сзади, не прикасаясь. Словно колебания воздуха чувствовал я позвоночником.
— Присаживайтесь.
Я сел. Игорь Михайлович тоже занял своё место.
— Теоретически годятся все. В свёрнутом, нереализованном виде сверхчувственным восприятием обладают все. Без исключения. Другое дело, насколько человек готов к раскрытию…
— Я, выходит, готов?
— Вы уже раскрыты. По некоторым центрам, может быть, с детства.
— А вот эта женщина, которая была передо мной? Она вышла зарёванная — почему же её вы не взяли?
— Отчего вы так решили? Взял. У неё способности, но ещё больше амбиций. Не пройдя систематического обучения, пришла — требует: дайте ей возможность вести сектор телепатии. — Улыбочка опять заиграла на лице Игоря Михайловича. — Да ещё зарплату, да ещё чтоб её обследовала Академия наук. А эти академики вроде вашего членкора… Кстати, он был отчасти прав, когда говорил об известной периодичности «чудес». Взгляните‑ка на этот график. Его по моей просьбе составил известный историк науки.
Я пододвинулся ближе. Игорь Михайлович провёл пальцем по горизонтальной линии графика, пересечённой короткими вертикалями, которых становилось всё больше к концу.
— Это, конечно, упрощённая схема, тем не менее… Обратите внимание — феномены, чудеса сгущенно возникают в разные периоды истории. Однако вполне определённые. Первый зафиксированный всплеск — пятнадцать веков до нашей эры, эпоха фараонов, так называемое Раннее царство, когда в папирусах того времени зафиксирован массовый прилёт НЛО. Читали? Не раз цитировалось в нашей научной литературе. Через тысячелетие новый всплеск (отражён в Библии) — Бог говорит с человеком, далее серьёзнейший факт — появление Христа. А теперь глядите: вертикали возникают все чаще. Предпоследняя действительно перед первой мировой, а последняя сейчас, то есть всего через каких‑нибудь семьдесят лет, — всеобщий интерес во всём мире к паранормальным явлениям, филиппинским целителям, астрологам, гороскопам; во многих точках земного шара регистрируются НЛО. Только слепой не заметит тенденции вертикалей учащаться, а это значит, что через два–три десятилетия произойдёт нечто…
— Как бы ядерная война не произошла, — промолвил я.
В этот момент дверь распахнулась, и в кабинет влетела пожилая тётка в фартуке дворника.
— Снова засиделись. Закрывать нужно. Скоро час ночи! Когда же я домой‑то попаду?!
— Сейчас–сейчас. — Игорь Михайлович стал суетливо распихивать бумаги по ящикам. Потом запер кабинет. Мы оделись и вышли в ночную стужу.
— Занятия начнутся на следующей неделе, в четверг, в 18.30. Устраивает?
— Устраивает.
— Как доберётесь домой?
— А вы?
— Я тут близко живу. Не забудьте взять с собой блокнот и авторучку. До свидания.
Я вбежал в метро на последних минутах. Ехал в пустом вагоне и с удивлением думал о том, как это вышло, — ведь я вовсе не собирался заниматься ни в какой лаборатории.
Прямоугольная мраморная плита простёрта на взгорке среди кипарисов, высящихся силуэтами на фоне звёздного неба.
Когда это все, где — не помню. Помню нежнейшее тепло, исходящее от плиты. Я лежу на ней, заложив руки за голову.
Надо мной ослепительный хоровод звёзд. Пытаюсь различить знакомые созвездия. Вот переливается Орион, вот Кассиопея, а вон и Большая Медведица. Оказывается, похожая вовсе не на ковш. А на вопросительный знак.
О чём он вопрошает меня? И всю Землю, которая плывёт среди звёзд?
Плывет Земля, плывёт плита вместе со мной, с тёмными силуэтами кипарисов. Ощущение верха и низа исчезает… Головокружительно кренится и плита, и земля, и я вспоминаю — не могу вспомнить, где услышал или прочёл, что если бы звезды были видны только из одной точки Земли, туда собиралось бы все человечество.
Я встречаю его, едва выйдя из подъезда. Он караулит меня — щуплый, маленький, — бывший соученик по Двоефединой школе. Живя в одном доме, мы все реже и реже видимся с Рудиком Лещинским. После десятого класса он поступил на филфак университета. Вечно занят. Счастлив. Избран комсоргом группы. Зачем же сегодня утром он идёт совсем в противоположную сторону от МГУ, провожает меня по Герцена к Тверскому бульвару, к Литературному институту? На вопросы не отвечает. Шаркает валенками по тающему снегу. Март. Ранняя весна. Тепло и туманно.
Наконец у памятника Тимирязеву спрашивает:
— У тебя есть немного времени?
Мы садимся на бульварную скамью.
— Сегодня в шесть часов меня будут исключать из комсомола и университета.
Губы его трясутся. Плачет.
— За что?
С Лещинским я проучился три года. Мухи не обидит. Живет с матерью–учительницей и сестрёнкой в подвале, бедно. Я думал, его отец погиб на войне. И вот оказывается, отец есть, жив. Рудик, скопив стипендию, даже ездил к нему в Павлодар, где тот находится в ссылке.
— За что? — снова спрашиваю я.
— Ни за что. За политику. Кто‑то узнал, что я скрыл в анкете, — шепчет сквозь слезы Рудик.
— А ты‑то тут при чём? Сын за отца не отвечает. — Я уже знаю эту фразу. — Напиши Сталину.
Лещинский молча долбит задником худого валенка подтаявший наст.
— Хорошо. Я сегодня приду к вам на собрание. Не дам в обиду.
— Не надо. У тебя будут неприятности, — говорит он, а сам уже смотрит с надеждой. — И потом, учишься совсем в другом месте…
— Ты комсомолец, я — комсомолец, знаю тебя дольше, чем они. Имею право. Приду.
И я пришёл. Весь день промучился, как бы в самом деле не нарваться на неприятности, но пришёл. Показал студенческий билет, комсомольский. Пропустили.
Собрание общефакультетское. В Коммунистической аудитории, крутым веером поднимающейся к потолку.
Стою у стены. На сцене длинный стол, где сидит президиум. Между президиумом и кафедрой — стул. На стуле, как подсудимый, подогнув ноги все в тех же валенках, — Лещинский. Отдельный, обречённый.
С кафедры выступает белый человек, совсем белый. Альбинос.
— Переходим ко второму вопросу повестки дня, — говорит белесый и наливает себе воды из графина. — К сожалению, только теперь, на втором семестре, благодаря бдительности одного товарища было обнаружено, что в нашей среде оказался человек, обманувший доверие.
— Благодаря чьей бдительности?! — кричит кто‑то из глубины аудитории.
— Вы что сказали? — переспрашивает белесый и не спеша пьёт воду из стакана. — Так вот. Студент Лещинский скрыл тот факт, что он сын врага народа. Я думаю, этот политический поступок ставит его вне рядов комсомола и вне рядов нашего учебного заведения. Кто хочет высказаться? Какие будут предложения?
Один за другим две девицы и некий красавец с волевым подбородком выходят на трибуну, клеймят Рудика как заклятого врага.
Я стараюсь смотреть только на валенки Рудика. Не могу почему‑то смотреть на его лицо.
Потом выступает толстая очкастая студентка. Когда она начинает говорить о своей политической близорукости, все смеются. Она говорит, что ничего смешного тут нет и что она кается, что этот человек, то есть Лещинский, бывал в её доме и даже втирался в доверие к её родителям.
Лицо Рудика искажает какая‑то странная, подхихикивающая улыбочка.
Пока студентка заканчивала своё выступление просьбой объявить ей выговор за все ту же политическую близорукость, пишу записку, подаю белесому. Он перегибается через стол, берет записку, развёртывает её.
— Тут просит слова какой‑то посторонний, — говорит белесый, — написано — комсомолец, друг Лещинского. Дадим слово или нет?
— Дадим! — дружно отвечает аудитория. После речи очкастой студентки все они, в том числе и альбинос, стали чуть благодушнее, размякли, что ли.
И вот я на трибуне.
— Да, Рудик виноват, — говорю я, — что скрыл этот важный факт своей биографии. Но дети не могут отвечать за поступки своих отцов, иначе что же получится? — А потом рассказываю, как трудно было Рудику в безотцовские послевоенные годы выбиться в студенты, и что они сами выбрали его комсоргом группы, и что он хорошо учится. — А теперь вы как‑то автоматически и бездушно хотите перечеркнуть всё это, сломать жизнь человеку. Пусть Рудик виноват. Может, ему и стоит записать выговор, но мне за него не страшно, — говорю я, — мне страшно за тех, которые здесь выступали, ведь большинство выпускников вашего факультета будут учить ребят. Чему они их будут учить?
И вот тут это случилось. В этот самый момент.
Рудик срывается со своего стула и тащит меня с трибуны, уцепившись за свитер.
— Что он говорит?! Товарищи, я с вами со всеми согласен, я его не просил!
И становится тихо. Так тихо–тихо.
Как слепой, иду через всю сцену, опрокинув по дороге стул, на котором раньше сидел Рудик. Но я не слышу грохота от падения стула. Слышу, как плачет в притихшей аудитории какая‑то девушка.
Глава тринадцатая
«Одни плачут, что у них суп жидкий, а другие, что у них жемчуг мелкий», — вспомнилась поговорка по пути. Но когда я позвонил в дверь и увидел глаза Анны Артемьевны, я сам себе сделался неприятен. Сразу стало видно, что здесь — неподдельное горе.
Телефонный звонок раздался рано утром. Сначала я удивился самому факту, что это вдруг звонит Анна Артемьевна, потом бросил взгляд на будильник, убеждённый, что люди, подобные ей, встают гораздо позже: ещё не было восьми.
Звуки голоса, сочного и молодого, противоречили тому, о чём она говорила:
— Артур, я схожу с ума. Умоляю, приезжайте в любое время, мне не с кем посоветоваться, я не знаю, что делать. Гоша в командировке за границей, я одна. Артур, извините, но мне больше не к кому обратиться.
Когда же спросил, в чём дело, коротко ответила:
— Это не телефонный разговор.
Я объяснил, что у меня сегодня первый съёмочный день, сказал, что смогу быть только вечером.
Отсняв Машеньку, её танец с веером, и подготовив павильон к завтрашней съёмке маленьких танцоров, я приехал и теперь сидел в гостиной перед накрытым для меня столом с ужином и не мог притронуться к еде.
В прекрасных глазах Анны Артемьевны стояли слезы.
— Два магнитофона, мои бриллиантовые серьги, дублёнка — всё исчезло. И Бог с ними, с вещами, но Бори нет уже вторые сутки. Я не знаю, Артур, — заявлять в милицию? Ведь это уже не в первый раз. Он на учёте. С пятнадцати лет мы без конца ищем его по городу.
— И где находите?
— Продает вполцены наши вещи, нанимает на весь день такси, возит приятелей и девиц, случайных знакомых по ресторанам, угощает, как какой‑нибудь купчик, причём сам почти не пьёт.
— Подождите, а где же невеста?
— Позавчера всё кончилось. И слава Богу! У неё выкидыш. Мы дали какое‑то количество денег.
— Понятно. Но ведь он возвращается. Куда ему деваться? И сейчас вернётся. Сколько я помню, вашему Боре семнадцать. Скоро армия.
— Не будет армии. Освободят. Психопатия. Пытался выпросить ключи от отцовской машины.
— У него есть права?
Она отрицательно покачала головой, потом уронила её на руки и заплакала.
— Анна Артемьевна, что я могу для вас сделать?
Голова вздрагивала, шея с трогательными завитками волос была беззащитна.
— Вы даже не представляете, в каком я аду. — Она вскочила, дёрнула за руку, вытащила в коридор. — Вот смотрите, это моя комната.
На двери снаружи красовались два хитроумных замка.
— Вынуждена в своём доме все запирать. Артур, я больше не вынесу. Гоша занят своими делами, марками, ни он, ни Боря стакана чаю себе не нальют. — Она закрыла ладонью лицо, глухо добавила: — Превратилась в служанку, в домработницу.
— Анна Артемьевна, а почему вы не работаете? У вас есть профессия?
Она пошатнулась. Я придержал её.
— Простите меня, простите. Профессия есть.
Она толкнула дверь, включила свет, ввела меня в комнату, где, кроме зеркального трёхстворчатого трюмо, тахты и полок с книгами, ничего не было.
— Вот моя профессия. Бывшая. — Анна Артемьевна кивнула на полки.
Все они были сплошь забиты книгами по высшей математике. Я с удивлением перевёл взгляд на хозяйку.
— Я программист. — Она вдруг улыбнулась. — Что? Не ожидали? А что вы думали?
Я пожал плечами.
— Ну признавайтесь!
— Не знаю… Красивая женщина.
— Это не профессия! — засмеялась Анна Артемьевна, ямочки показались на её щеках, потом вздохнула. — Когда вышла замуж, Гоша запретил работать, сказал, достаточно зарабатывает, а теперь упрекает за каждую копейку… Если хотите, я с ним уже давно не живу, Артур. Все это липа, одна видимость.
Она опустилась на край тахты, обхватила руками голову, и опять бросились в глаза беззащитные колечки волос на шее. Я с трудом отвёл взгляд и увидел себя, отражённым в трюмо, тахту, женщину.
Она нуждалась в утешении, плечи, глаза, шея, всё тело жаждали ласки, и я почувствовал, ещё секунда, доля секунды — толкнёт к ней. Но что‑то чужое, не своё, запретное было в этом доме, во всей этой ситуации.
— Анна Артемьевна, чем я могу вам помочь?
— Вы хороший человек. — Она подняла голову, мгновение молча смотрела снизу вверх, прямо в глаза. Потом встала. — Вы знаете, я просто хотела просить побеседовать с Борей, когда вернётся. Мне кажется, я уверена — вы сможете на него повлиять.
Мы вышли из комнаты, и я направился к вешалке.
— А ужин? Я же для вас готовила.
— Спасибо. Должен идти.
Когда я оделся, она вынула из стенного шкафа аккуратно упакованный свёрток.
— Это что такое?
— Ваш плащ. — Улыбка её была грустной. — Забыли в прошлый раз.
Я взял свёрток, и тут Анна Артемьевна коснулась губами моей щеки, шепнула:
— До свидания, Артур.
— До свидания. — Страшная магнитная сила опять потянула.
Я схватил Анну Артемьевну за руку, поцеловал пальцы и вышел вон.
…Все слабое во мне, одинокое ныло и кричало: «Да что же ты делаешь? Тебя любят», а ноги несли к троллейбусной остановке. Я почему‑то чувствовал, что, если сейчас же не вернусь, больше не увижу Анну Артемьевну никогда в жизни.
И весь оставшийся вечер дома бросался на каждый телефонный звонок — а вдруг она? И ночью не спал, строил чудовищные планы: вот она бросает своего Гошу, выходит за меня, за Артура, переезжает сюда, мы идём в загс, а свидетелями приглашаем Нину и Пашу. Смешно это было и глупо, ибо никак не монтировались я, Артур, с моей неустроенной, бедной жизнью, и эта роскошная статная дама.
Утром я то хотел звонить ей, благо был предлог («Вернулся ли Боря?»), то, загнав себя под ледяные струи душа, проклинал случайное знакомство, бессонную ночь, выбившую из колеи, как раз когда пошла работа.
На студию я приехал раньше времени, прошёл прямо в павильон, где Наденька, оператор, его помощник и осветители только начинали готовиться к сегодняшней съёмке.
Чтоб не утомлять маленьких артистов бесконечными дублями, я с самого начала решил снимать их номера сразу тремя камерами: одна только крупные планы, другая — средние, третья — общие. Тогда при монтаже у меня были бы развязаны руки. Детей вместе с Игорьком должны были привезти автобусом к трём часам. Осталось достаточно времени на составление схемы размещения камер, на разговор с оператором. Я знал: когда павильон заполнят дети, уже не смогу отвлекаться на технику.
Но только я уединился с оператором за колченогим столиком в углу павильона, как подошла Зиночка, мрачно сказала:
— Вас срочно к телефону.
— Кто? — спросил я.
— Откуда я знаю. Женщина.
Я выбежал из павильона к лифту. И пока ждал кабину, пока поднимался на этаж, где была расположена комната киногруппы, был уверен, что это звонит Анна Артемьевна.
«Отрублю все, — думал я, стремительно идя по длинному коридору. — Разве это любовь? То, чего я всю жизнь жду? Да с нею и говорить‑то не о чем, кроме как о её Боре. У нас ничего общего, ничего. Просто сытая истеричная барыня».
Я даже не сообразил, что Анна Артемьевна не может знать моего рабочего телефона.
И поэтому, когда схватил лежащую на столе трубку и услышал голос матери, был не только разочарован — я понял, что жаждал звонка этой самой «барыни», одного звука её грудного, сочного голоса.
Между тем мать говорила:
— Извини, что я тебя оторвала. Спустилась за газетой. Там твоя статья. Ты уже знаешь об этом?
— Нет.
— Большая статья. Поздравляю. С редакционным комментарием. Прочесть тебе?
— Спасибо. Здесь достану. Или дома прочту. Как ты себя чувствуешь?
— Одышка. А так ничего. Сегодня поздно придёшь?
— Думаю, что нет. Мне никто не звонил?
— Был звонок. Не успела подойти к телефону.
Я положил трубку и поймал себя на том, что почти не обрадовался тому, что статья напечатана, и напечатана сравнительно быстро.
«Чей же это был звонок? — думал я, направляясь к приёмной Гошева. — Не может быть, чтобы она всегда звонила так рано. Разве что Боря вернулся…»
— Все сегодняшние газеты у шефа, — секретарша кивнула на дверь гошевского кабинета.
— Может, уже прочёл?
— Минуточку, — доброжелательно ответила секретарша, вошла в кабинет и тут же вернулась: — Зайдите.
…Гошев массивной горой поднялся навстречу, протянул руку.
— Не знал, что вы ещё и подвизаетесь в журналистике. Я прочёл ваш материал. — Он сделал паузу, ожидая, что спрошу, как понравилось. Но я не спросил. — Садитесь. Вот этот номер. Хотя, собственно говоря, почему вы не в павильоне?
— У меня сегодня вторая смена. — Я не собирался рассиживаться, взял газету и повернул к двери.
— Садитесь–садитесь, — повторил Гошев. — Вы мне не помешаете.
В этом добродушном тоне было что‑то новое. «Видит — напечатали в центральной прессе, теперь уважает».
— Спасибо. — Я сел в конце длинного стола для совещаний и развернул газету. Статья была помещена на третьей странице. Я пробежал её глазами, сокращений не заметил. Под статьёй жирным шрифтом был набран редакционный комментарий. «Пока материал нашего корреспондента готовился к публикации… порочная практика… заставлял принимать незавершённые объекты… защита среды…» — глаза бежали, пока не запнулись о слова: «…самоубийством директор комбината Атаев Р. К.»
У меня словно взорвалось в мозгу.
«Опоздал!» — стоном вырвалось вслух, голова зашумела.
— Что с вами? — раздался голос Гошева. — Между прочим драматически выгодный сюжетец, как раз на производственную тему. Тут уж я не стал бы возражать. Напишите заявку, заключим договор. Тем более здесь самоубийство, да ещё особый колорит — национальный, строительство социализма в республике на современном этапе.
— Какого социализма?! Социализм — это и был Атаев. Довели человека, убили. Вот такие, как вы.
— Что вы несёте? — перебил Гошев. — С ума сошли?!
— Такие, как вы, — повторил я, вставая из‑за стола. — Убиваете, предаёте социализм. Давите всё, что может пошатнуть ваше кресло, с зарплатами, пайками. Это, по–вашему, социализм?! Атаев мёртв — теперь пиши сценарий?! Героев любят, когда они мертвы.
Звенел беспрерывно звонок. Это Гошев, налившись кровью, вызывал секретаршу, а она все не шла.
— Ладно, Георгий Николаевич. Вы не способны понять. Вам сейчас нужен свидетель, не беспокойтесь — готов повторить то, что сказал. Где угодно. — Я взял газету, вышел в пустую приёмную, оттуда в коридор и столкнулся с секретаршей, которая несла на тарелке пирожные из буфета.
— Что с вами? На вас лица нет.
— А что, не знаете, как выходят от Гошева?
В павильоне всё было готово к съёмкам. Из школы уже привезли Игорька. Я решил с сегодняшнего дня вводить его во все номера в качестве Мальчика, Запускающего Модели. В финале Игорек должен был выйти на первый план и в окружении летящих планеров спеть свою песенку о весёлом ветре. Мой замысел заключался в том, чтобы эту коротенькую ленту сделать реквиемом детству довоенной поры, когда казалось, что достижение высших идеалов человечества так близко… Эта мысль пришла именно в ту отчаянную минуту, на Каменном мосту, когда я смотрел в чёрную воду… С кем я мог поделиться? С Наденькой? Она жила совсем в другом мире. С оператором? Тот был равнодушный прагматик, делающий диплом. О Зиночке и говорить нечего.
Пока Игорька переодевали для съёмок, привезли маленьких танцоров. Их тоже отправили переодеваться.
Я сидел у столика в павильоне, пытался, воспользовавшись паузой, прийти в себя.
«Что же произошло? — думал я, снова пробегая глазами строки редакционного комментария. — Выходит, пленума у них ещё не было. Похожий на Маяковского кончил, как Маяковский». Вспомнился гортанный голос: «Теперь ты для меня Артур, я для тебя — Рустам»…
— Дядя Артур, а вы меня сегодня заведёте?
Передо мной стоял Игорек в чёрных брюках, в белой рубашке с красным галстуком, скреплённым довоенным металлическим зажимом, и матросской бескозыркой с лентами. Приплюснутый бескозыркой мальчик показался совсем уж маленьким. Я снял с него шапку.
Вчера, едва начались съёмки, Игоряшка неожиданно быстро устал, сник. «Ну как тебя завести?» — в растерянности спросил я, а мальчик вдруг ответил: «Как будильник». Я сложил пальцы щепотью, будто держа заводной ключ, и, прищёлкивая языком, трижды крутанул их на его макушке… «Это — другое дело», — бодро ответил Игоряшка.
Теперь он просил нового подзавода. «Бледный, витаминов не хватает. Хотя бы аскорбинки надо купить», — подумалось мне.
Тем же вчерашним способом «завёл» Игорька, и мы оба пошли навстречу вбегающей в павильон толпе детишек, одетых в матроски и бескозырки.
Приступая к съёмке, я мельком подумал о том, что Гошев может в любой момент войти и отстранить от работы, но теперь, когда Рустама Атаева не стало, уже было всё равно.
Гремела фонограмма оркестра. Взлетали из рук Игорька модели планеров. На фоне разноцветных сигнальных флажков, нарисованного морского залива с парусниками и чайками отплясывали матросский танец малыши.
В разгар съёмки, в какой‑то момент, когда я объяснял оператору, что перетягивание каната, входившее частью в состав танца, не нужно снимать отдельно, не нужно переставлять камеры, останавливать расплясавшихся детей, почувствовалось чьё‑то постороннее присутствие.
Обернувшись на миг, я увидел: в дальнем конце павильона в кресле сидит какой‑то элегантно одетый человек. Незнакомец фамильярно помахал рукой в знак приветствия.
И все оставшееся время до перерыва я спиной ощущал этого соглядатая, а когда погасли осветительные приборы и ребятишек опять повели переодеваться для нового номера, над ухом раздался насмешливый голос:
— Ну, Артур, никак не думал, что ты докатишься — снимать пионерышей. Как в незабвенные годы культа, старик!
Передо мной стоял Витька Дранов собственной персоной. Тот самый Витька, соблазнявший когда‑то длинноногими балеринами… Витька, ставший теперь знаменитой личностью, поэтом и прозаиком, объехавшим весь мир.
— А собственно, что ты здесь делаешь? — спросил я.
— Да подмахнул у Гошева договорчик на сериал, — беззаботно ответил Витька. — Пять серий. Сам напишу, сам поставлю. Кстати, не присоветуешь опытного оператора?
— Спроси у Гошева. Он присоветует.
Зиночка, осветители, даже Наденька — все стояли, во все глаза глядя на Дранова.
— Еще долго будешь снимать эту хреновину?
— Почему же «хреновину»? — Я старался говорить спокойно. — Часа полтора.
— Обожду, с твоего разрешения. Недавно в Чинечеза, в Риме, смотрел, как снимает Федерико, теперь поучусь у Артура. — Ерническая улыбочка зазмеилась на тонких губах Витьки.
— А вы знакомы с самим Феллини?! — вмешалась Зиночка.
— Мой друг. Нас в своё время познакомила Джина, — непринуждённо ответил Витька. — К нему в павильон так просто не войдёшь. Там поперёк входа цепь. Когда я пришёл, Федерико, конечно, велел меня пропустить, тут же погнал продюсера за чашкой кофе.
— А сейчас вам хочется кофе? — лезла из кожи вон Зиночка.
— Ваша сексуальность равна почти сорока процентам, — Витька даже согнул в полупоклоне лысеющую голову. — Не откажусь.
…«Зачем я ему нужен? — думал я, снимая следующий номер. — Принесла нелегкая… Большой борец против сталинизма, процветает при всех погодах. А вот Атаева нет на свете…»
Когда наконец съёмка кончилась и все распоряжения на завтра были отданы, Витька поднялся мне навстречу из‑за столика с чашечками кофе, протянул газету.
— Не забудь свой опус. Я прочитал. А также взамен на автограф взял телефон у твоей Зиночки. Не ревнуешь?
— Пошел к чёрту!
Дранов засмеялся. Он, не отставая, шёл за мной к лифту.
— Вот теперь узнаю. Прежний Крамер. Не понимаю, как тебя в кино занесло, да ещё снимать такую бодягу? Что происходит? Правдоискательная статейка, эти пионерчики… А где стихи? Если хочешь серьёзно, я ведь всё помню, читал — переводил тому же Феллини: «Снег перечёркивает звезды, не падает — перепадает, иду, глотаю зимний воздух и чувствую, что пропадаю…» Помню ведь, а?
В самом деле, он помнил. Помнил мои стихи тех лет, когда все мы только начинали, когда только прорезывались голоса, когда выходили в жизнь все вместе, не зная, кто чего стоит.
Глухо прогудел лифт. Дверцы раскрылись. Из кабины вышел Гошев в окружении членов худсовета.
— Георгий Николаевич, оказывается, у вас мой друг работает, — прямо‑таки накинулся Витька на Гошева. — Да это же Артур Крамер! Почему он снимает какие‑то танцы новорождённых?! Нехорошо, Георгий Николаевич.
Гошев стоял, чуть ли не виновато потупясь. Члены худсовета благоговейно взирали на Витьку. Я ухватил его за руку, втащил в лифт и нажал кнопку.
— Кто тебя просит?
Витька изумился.
— Пользуйся, пока я в славе. Повысил твой рейтинг! С этой сволочью только так и надо.
Мы вышли из‑под козырька подъезда, у ступенек которого стоял темно–синий «мерседес».
— Скучно, — сказал Витька, отпирая дверцу. — Тащусь на пельмени к одному художнику. Он прибыл только что с Севера. Будь человеком, поедем вместе, все‑таки столько не виделись.
— Поедем. — Мне хотелось уйти от безысходных мыслей о гибели Атаева, хоть как‑то отвлечься.
По дороге Витька деловито, словно в отделе кадров, стал расспрашивать. Я вкратце сказал, что после Литературного института много лет не печатали, три года назад кончил Высшие курсы кинорежиссёров и вот снимаю фильм–концерт.
— Покажи мне всё, что скопилось. Сменил бы фамилию. А то играешь без ферзя… Ладно, пробью тебе книжечку. Кстати, глянь, пока едем. — Одной рукой Витька небрежно держал руль, другой потянул с заднего сиденья «дипломат», вынул переплетённую рукопись. — Новая поэма.
Пока я листал машинописные страницы, Дранов говорил не переставая.
— Кадят со всех сторон. Так можно и себя потерять. Уже не понимаю, что делаю, нужен ли кому‑нибудь. Печатают, переводят, аплодируют, а иногда кажется — все мираж. С другой стороны, ночью проснёшься — страшно: а если завтра все кончится? Я, может, самый несчастный человек в Советском Союзе.
Витька, конечно, лукавил. Вот к нему как раз в полной мере подходила поговорка: «Одни плачут, что у них суп жидкий, другие — что у них жемчуг мелкий»… Я вспомнил об Анне Артемьевне и почувствовал себя погано. Надо было найти минуту, хотя бы позвонить — как там с её Борей?
— Никто меня искренне не любит. Все льстят. Все хотят использовать. Просят денег. Кстати, тебе не нужно?
— Не мешай. Хочешь, чтобы я прочёл? Тогда заткнись.
Теперь стало понятно, зачем я, Артур, понадобился Витьке. Тот знал, что я никогда всерьёз не принимал ни его самого, ни его творчество, и теперь для самоутверждения жаждал услышать похвалу свеженаписанной поэме, услышать именно от меня.
Поэма ничем не отличалась от всего, ранее созданного Витькой. Это был обыкновенный репортаж в стихах. Витька опять описывал встречи с различными знаменитыми деятелями, а также с незаметными тружениками на всех континентах, опять вспоминал о своём голодном военном детстве, снова и снова обыгрывал свою фамилию — Дранов, клялся в любви к простым людям. Все это было красноречиво, но не имело никакого отношения к поэзии. А кроме того, между той жизнью, которая ежедневно окружала меня, и этими горами слов простиралась непроходимая бездна.
Я не успел долистать рукопись. «Мерседес» остановился.
— Прибыли. — Витька выключил зажигание, вопросительно глянул и неизвестно зачем сообщил: — Недавно на приёме в одном посольстве несколько выпил и ночью, едучи домой, решил заглянуть к Ильичу. Едва не врезался в Мавзолей. Как тебе на будущее такой способ самоубийства?
— А из пистолета в глухом кишлаке — нравится? — зло ответил я, отдавая рукопись. — Когда рядом семья, дети, и ты прав, и стараешься не для себя, а тебя довели, замучили, позорят перед земляками, грозят объявить сумасшедшим… Не так красиво, конечно…
— Знаю–знаю, я ведь прочёл, — отмахнулся Витька. Мы уже вышли из машины и стояли перед подъездом высокого дома. — Так ты идёшь?
Стало ясно, что я уже не нужен. Витька понял: поэма не произвела впечатления.
— Иду. Завез Бог знает куда и ещё хочешь оставить без пельменей?
Когда мы поднимались в лифте на самый последний этаж, Витька спокойно, взвешивая каждое слово, сказал:
— Почему, едва я тебя вижу или даже думаю о тебе, появляется сальерианский комплекс? Не бойся — не отравлю. Откуда это в тебе такая независимость, такая воля? Правда, она дорого тебе обходится, я надеюсь.
— Надеешься?
— Ну прости, оговорился, хотел сказать — полагаю. — Витька улыбнулся, лицо его сделалось страшным, воистину дьявольским. Словно на миг приспустили маску.
Я был уже не рад, что пришёл в эту мастерскую, где стояли ширмы, мольберты, пандусы, кресла, зеркала, свисали занавеси, ткани; на стенах в рамах впритык висели картины в высшей степени странного содержания. На одной из них — огромной, от потолка до пола — был изображён сам хозяин мастерской Жора, который в данный момент доставал из лоджии замороженные пельмени.
На полотне массивный Жора стоял в облачении православного священника, но с царской короной поверх кудлатой головы. В одной руке он держал тщательно выписанную бутылку «Столичной», в другой — пластиковую сумку с надписью «Мальборо».
Дранов отправился куда‑то за ширму звонить по телефону, а я, оставшись один, продолжал рассматривать картины.
Вечерний пляж на фоне крымской Медведь–горы был полон совокупляющихся парочек. Даже в небе тем же занимались два ангела…
— Осваиваетесь? — из‑за занавески с грудой тарелок в руках вынырнула ещё молодая, миловидная женщина, но что‑то угасшее, серое сквозило во всём её облике. В углу рта дымился окурок сигареты. — Сначала не нравится, потом привыкают. А вон там мы все, поглядите.
На большой картине было изображено двусветное помещение с лестницей, ведущей сверху, с антресолей. Все ступени лестницы были полны людьми. Расхристанные девицы, одна из них голая, сидели на коленях бородатых, длинноволосых мужчин, держащих в руках кто стакан, кто вилку с закуской.
Внизу, у подножия лестницы, с группой явных иностранцев стоял Витька Дранов, а сверху, с антресолей, на них смотрела одутловатая старуха.
— Что за сборище? — спросил я хозяина мастерской, который волок мимо меня таз, полный мёрзлых самодельных пельменей.
— Салон. Толкаем за рубеж свои шедевры, — провозгласил Жора. — Двигайте лучше на кухню. Пока не поднялись остальные, покажу Дранову, что нагрёб на Севере.
В кухне возле длинного деревянного стола на лавке красовался старинный, кованный жестью сундучище. Витька уже стоял над ним, нетерпеливо дёргал замок.
— Погоди. — Жора поставил таз на стол, вынул ключ из кармана джинсов.
Крышка сундука была откинута, сверху лежала большая икона Богородицы в окладе, густо усеянном крупным жемчугом. Витька перекрестился, взял её.
— Это мне. В уплату долга.
Жора хотел что‑то возразить, но, глянув на меня, махнул рукой.
Сундук был доверху полон икон, серебряных крестов, трёхстворчатых складней, старинных эмалей…
Я повернулся, прошёл через мастерскую в переднюю, надел пальто и вышел.
Сверкает май. На чужой даче склоняюсь в огороде над пышной грядкой, сажаю вместе с хозяевами семена огурцов. Мне удивительно, что в каждом семечке содержится будущее растение — с корнями, стеблем, листьями, множеством цветков, плодов и в них опять семена.
Вынимаю из влажной тряпицы каждое проросшее семечко — белое, продолговатое, с хвостиком–корешком. Если приглядеться, все они неуловимо отличаются друг от друга, и все такие беззащитные… Осторожно опускаю в лунку одно, затем, налюбовавшись, — другое.
Хозяева дачи давно кончили с посадкой огурцов на своих грядках, а я все ещё вожусь.
В конце лета узнаю: растения на моей грядке дали неслыханный урожай. Хозяева просят, чтоб на следующую весну снова приехал сажать.
Она нашла меня в моём институте, та самая девушка, которая заплакала, когда я, словно ослепший от предательства Лещинского, уходил со сцены Коммунистической аудитории.
Весь март мы встречаемся каждое утро в 6.30 у зоопарка, проходим на его территорию. Пруды ещё покрыты льдом, на дорожках замёрзшие лужи. Во внутреннем помещении площадки молодняка Наташа надевает халат, отворяет вольер, и на неё с разгону прыгает яркая полосатая кошка. Это — ягуарёнок Прима. Шефствует Наташа над ней уже третий год, с рождения зверя.
Вцепившись когтями в халат, Прима блаженно урчит и раскачивается, не даёт убирать вольер. Я с трудом отрываю тяжёлую Приму от Наташи, держу на руках, чешу за ухом. Зверь недоверчиво щурит жёлтые глаза, бьёт по плечу упругим хвостом.
— Примочка, — говорю я, а сам смотрю на Наташу.
Светлые пряди волос падают ей на лоб, когда она нагибается за ведром, орудует шваброй. Почему, будучи все старшие классы юннаткой, она после школы пошла не на биологический, а на филфак?
«Родители настояли», — объяснила Наташа. Начиная с прабабушки все женщины в их семье кто учительница, кто преподаватель литературы в вузе. А Наташин отец — начальник треста, у него машина, шофёр.
Каждое утро до лекций она приезжает сюда, к Приме, кормит её, играет с ней. За этот месяц Наташа открыла мне ту сторону жизни зоопарка, которой обычно не знают посетители.
Слон одиноко стоит в полутьме слоновника, надсадно трубит и трубит.
Горилла, ухватившись мохнатыми руками за прутья решётки, часами гневно трясёт её.
В просторную клеть с двух сторон впускают льва и львицу. Члены комиссии в белых халатах смотрят, как он сзади накидывается на неё и, прикусив ей ухо, оплодотворяет. И тут же баграми их растаскивают в соседние клетки. О, как негодующе рычит лев, а у львицы — у львицы на глазах слезы…
Нахохлясь, недвижно сидят орлы с подрезанными крыльями.
Странно, Наташа не чувствует неволи. Это отчуждает нас друг от друга.
Однажды, уже в апреле, мы с Наташей, как всегда, встречаемся у площадки молодняка и узнаем, что Примы нет — её продали за валюту в какой‑то зарубежный зверинец. Я утешаю плачущую Наташу, но в глубине души рад — не придётся видеть выросшую Приму за стальной решёткой, кончаются тягостные походы в зоопарк, да и наше нечаянное знакомство.
Глава четырнадцатая
Не открывая глаз, я все лежал в темноте, пытался вспомнить, что мне только что снилось. Пробуждение быстро отделяло от какого‑то удивительного сна. Хотелось вернуться, погрузиться обратно в смутное, не имеющее имени состояние.
Наверное, так себя чувствует вольная летучая рыба, не рассчитавшая полёта и шлёпнувшаяся на сухой песок отмели.
В трезвеющем сознании всплывало известие о гибели Атаева, всплыла вчерашняя поездка с Витькой Драновым, омерзительная картина в мастерской… Потом в голове возник циферблат. Пять минут девятого. Протянул руку, включил ночник, взглянул на часы. Стрелки показывали ровно восемь.
Я с трудом заставил себя подняться. Мир был устроен плохо. Не хотелось вставать, идти навстречу новому дню.
Учитывая разницу во времени (там, у Нурлиева, в Азии, сейчас было уже одиннадцать), прежде всего заказал по междугородной разговор, потом умылся, поставил чайник.
Чтоб не будить мать, заварил чаю, с дымящейся чашкой ушёл к себе. Глянув на лежащий у телефона блокнот с режиссёрским сценарием, вспомнил ещё о Гошеве, как тот жал на звонок, вызывая секретаршу…
Сегодня снова предстояла вторая смена, за время которой нужно было отснять три номера — два танцевальных и хоровой вместе с Игоряшкой — песню о весёлом ветре.
Я не мог заставить себя думать о работе. Сидя за столом, попивал чай, рассеянно смотрел перед собой, не понимая, что приковывает взор. Не сразу осознал: да это светает! Световой день пошёл на прибыль. В просвете между корпусами домов над апельсиново–нежным востоком ярко сияла Венера. Так ярко. Так чисто.
Я уже стоял под открытой фрамугой, не в силах оторвать взгляда от притягательных лучей звезды. И это притяжение вызвало чувство, схожее с тем, которое я испытывал позавчера, глядя на склонённую голову Анны Артемьевны.
«Что же это, звезда как любовь?» — подумалось мне.
За миллионы километров отсюда далёкая звезда летела, вращаясь, как и Земля, вокруг Солнца, и все они одновременно мчались в Галактике, оказываясь каждую секунду в новом пространстве. В том, что это объективно происходило и никто не знал, откуда, куда и зачем несёт сквозь космос всю Солнечную систему, заключалось величие такой тайны, что все напасти моей, Артуровой, маленькой жизни показались ничтожны, особенно по сравнению с тем потрясающим фактом, что мне дано видеть, чувствовать, сознавать эту тайну; быть её составной частью.
Пока человек задаёт вопросы, на которые нет ответа, он жив. Это ощущение, близкое мне всегда, сейчас стало особенно отчётливым, и я почувствовал: необыкновенная, победительная сила вошла внутрь. Вошла вместе с печалью, оттого что не все люди помнили об этой тайне, и, пожелай я поделиться с ними, они, наверное, сказали бы, что я поэт, а это в данном случае было бы просто глупостью, увёрткой, боязнью остаться наедине с истинным масштабом жизни.
Рассвет набирал силу. Заслонял своими лучами утреннюю звезду, и если бы я отвёл на мгновение взгляд, уже не нашёл бы её. «Но ведь и днём и она, и все созвездья всегда над нами, никуда не уходят», — и эта констатация обычной реальности открылась видением: поверх голубого чистого неба высился чёрный загадочный космос, полный сияющих звёзд.
И точно так же, когда на рассвете не хотелось отрываться от забытого сна, сейчас я с досадой отвлёкся от своего открытия, услышав резкий дребезг звонка междугородной.
— Кто спрашивает Тимура Саюновича? — раздался голос секретарши.
— Крамер. Из Москвы.
Я ждал, когда Нурлиев возьмёт трубку, и думал, что, в сущности, звоню зря: ну, узнаю, как, при каких обстоятельствах погиб Атаев, должен буду сказать приличествующие слова, которые не нужны ни Нурлиеву, ни мне и лишь подчеркнут наше обоюдное бессилие, невозвратность потери.
Утро за окном разгоралось. Обещало быть солнечным, голубым.
— Здравствуй, — послышался в трубке тусклый голос Тимура Саюновича. — Как живёшь?
— По–всякому… Вчера вот вышла газета…
— Видел. Неделю назад мы его проводили. Нет больше Рустама. Но ты не вини себя, ты ни в чём не виноват.
— В чём не винить?! Что случилось?
— Выберу время — напишу. Всего так не скажешь. Могу сообщить одно: Невзоров пока отстранён от работы. И видимо, полетит его большой родственник.
— Тимур Саюнович, что они сделали с Атаевым? Что толкнуло его?
— Извини. У меня полная приёмная. Получишь письмо. Будь здоров.
Звезды в окне не было видно. Следа не осталось. «В чём не винить себя? Почему он так сухо попрощался?» Я взял пустую чашку, вышел в кухню, чтоб вымыть. Мать хлопотала у плиты.
Ее густые чёрные волосы с проблеском седины были аккуратно уложены в тугую высокую причёску. Свежие капли воды сверкали на них. Только что умытая, бодрая, кареглазая, она была всегдашней утренней мамой, которую я всю жизнь привык видеть рядом. Давно уже она так хорошо не выглядела.
— Доброе утро! Что ж не дождался — пьёшь пустой чай? Садись. Через пять минут будут гренки.
— Спасибо, — я обнял мать за плечи. Прижал к себе. Ее голова доставала как раз до сердца.
— Смотри, сынок, солнце! Неужели в этом году будет ранняя весна?!
Какое‑то мгновение мы так и стояли вдвоём, глядя в слепящее светом окно.
— Мама, ты никогда не думала про то, что звезды и днём над нами, никуда не уходят?
— Я думаю, гренки сгорят. — Она мягко высвободилась из моих рук, переложила на тарелку пышущую жаром порцию гренков, потом, подбавив сливочного масла, стала доставать из кастрюли новые ломти белого хлеба, намокшего в молоке и взбитых яйцах, укладывать их на сковородку.
Я смотрел, как они покрываются золотистой корочкой. Рядом на конфорке шипел чайник. Из комнаты снова послышался звон телефона.
— Ну вот. Как есть садиться — всегда телефон, — сказала мать. — Ты уж поскорей.
Поднимая трубку, я поймал себя на том, что все ещё жду звонка Анны Артемьевны.
— Артур! Это я, Нина. Здравствуйте. Я не могу с вами не поделиться — какой ужас!
— Что случилось?
— Вчера вечером нам позвонил общий знакомый. Артур, вы помните Гошу?
— Конечно, помню.
— Его нет больше. Нашли на полу в луже крови.
— Что вы такое говорите? — я опустился на стул.
— Вчера, Артур, он вернулся из‑за границы, и его ударил молотком по голове Боря, их сын. Сам явился в милицию, сказал: отец не давал ключи от машины…
Нина что‑то ещё говорила, говорила, а я все сидел с трубкой в руке.
Мать так и застала меня в этой позе. Осторожно вынула трубку из ладони, положила на рычаг. Секунду постояла рядом. Потом вышла.
Что поразило, когда я отворил дверь подъезда, — это чирикание воробьёв. Как ни в чём не бывало чирикали воробьи. Сугробы во дворе искрились под лучами солнца.
Вокруг мелькали лица людей, глаза светофоров, вывески. Я прошёл мимо аптеки. Остановился, не понимая, что мне там нужно. Вернулся. Купил аскорбинку с глюкозой для Игоряшки.
Ноги несли в сторону студии, чуть ли не через всю Москву. Рано было ещё на смену. Стоя в толпе у перехода через Сущевский вал, удивился, как быстро вытеснила из сознания смерть Гоши другую — смерть Атаева. Закружилась голова. «Может, оттого что не ел с утра? Или замёрз?» — подумал я и вспомнил: на мне пальто, подаренное Анной Артемьевной.
Двинулся дальше в почему‑то уплотнившемся потоке людей. Вскоре поток развернул вправо, пронёс сквозь двери. Это был Марьинский универмаг. Я с трудом раздвинул толпу, вырвался к внутренней лестнице, стал подниматься по ступеням.
Внизу, на первом этаже, продавали туалетную бумагу. Сограждане, современники, работая локтями, ругались, вешали себе на шеи бечёвки с рулонами, перекидывали эти вихляющие связки через плечи на грудь, словно ленты с патронами, тащили в руках, пробивались к выходу навстречу другим, ещё не урвавшим дефицитного товара.
С содроганием представил самого себя в этом кипении. Разве точно так же, стиснув в остервенении зубы, не рвался я прошлой осенью к прилавку универмага при Ленинградском рынке за такой же туалетной бумагой? Уж какие там звезды!
Стоял на лестнице и смотрел, не в силах оторвать взгляда от этого зрелища, пока не увидел: у толстой, рыхлой старухи лопнула бечёвка, рулоны раскатываются под ноги толпы.
Сбежал вниз, отталкивая людей, стал собирать рулоны, зло пихать их в сумку, в руки плачущей, растерявшейся старухе.
— Десять их было, десять, — причитала она. — А тут всего семь.
В сердцах махнув рукой, выбрался в распахнувшемся пальто на улицу. Из трёх пуговиц две были сорваны.
Жаль мне стало этих пуговиц. «Когда‑нибудь и пальто износится», — подумал я.
Добравшись до студии, все‑таки заставил себя спуститься в цокольный этаж в так называемый «творческий буфет», взял два бутерброда, чашку кофе. Съемочная смена должна была начаться ещё через полтора часа. И все это время просидел за столиком — старался собраться с мыслями.
Работники студии беспрестанно забегали в буфет перехватить порцию сосисок, выпить чашку кофе. Почти никого я не знал, но по обрывкам фраз, манерам, просто по одежде легко было догадаться, кто есть кто.
Режиссеры, почти сплошь в джинсах, заправленных в полусапожки, в куртках с «молниями». Редакторши в очках со свисающими металлическими цепочками и бусами на груди. Операторы в свитерах.
Сейчас мне казалось, что все они ухватились за свои роли, исправно играют их, чтоб скрыть подлинную человеческую сущность, у всех одинаково ранимую. И больше всего боятся, что эти роли у них отнимут, маски спадут, и оттого такая нервозность, язвительное высокомерие или, наоборот, показное доброжелательство друг к другу. Странно было, что раньше я ничего не замечал, никогда об этом не думал. Теперь же перед лицом двух смертей всё было так наглядно…
«А если все‑таки я ошибаюсь? Никаких масок нет. Просто нужно родиться, безропотно сыграть свою роль и так же безропотно сойти навсегда в могилу? Если это они правильно живут, умеют взять то, что способны взять от своей работы, своего положения. А меня выламывает из этих правил. Сижу здесь, всех жалею, может быть единственно жалкий из них?»
Поднимаясь на лифте, вновь наткнулся взглядом на кнопку с надписью «Alarm» — «тревога».
Первые два номера, хотя и раздражающе медленно, из‑за капризов оператора, были в конце концов благополучно сняты. Леша смотрел на «Поздравление» как прежде всего на собственный диплом и поэтому всё время норовил кстати и некстати употребить весь арсенал операторских средств: стоп–кадры, переводы изображения из фокуса в размыв и наоборот; то снимал статичной камерой, то с движения, то оказалось, что в одной из камер его помощника кончилась плёнка и часть танца надо переснимать.
Детей распустили на перерыв усталыми. «Ничего, — подумал я, — отберу в монтаже самое необходимое, а все эти фокусы, весь выпендрёж пусть сам вставляет в свою отдельную дипломную копию».
Попросил выключить осветительные приборы и вышел из душного павильона в коридор, где возле единственного автомата с бесплатной газировкой толпились малыши–артисты.
— Дядя Артур, а вы меня сегодня не завели! — подошёл ко мне Игоряшка.
— В самом деле. Возьми вот, угощайся. Не лекарство — аскорбинка с глюкозой, витамин.
Я раздал детворе все таблетки, «завёл» Игорька, а заодно и остальных.
— Что это вы с ними делаете? — подозрительно спросила Зиночка, пробегавшая по коридору с ведомостью в руках.
Я ничего не ответил.
— Мистику какую‑то развёл, — злобно пробормотала она.
…Теплая, погруженная в предзакатный сумрак безлюдная улица, круглая площадь с аркадами — сегодняшний сон, в который так безуспешно пытался вернуться утром, все‑таки всплыл… Давно уже не снилось это место, где душе так вольно, так спокойно.
«Где это? Что это? — думал я, возвращаясь в павильон. — Зачем оно повторяется? Как насмешка».
В павильоне опять горели все приборы, он был перегрет, душен.
— Что происходит? Ведь сейчас войдут дети.
Подошла Наденька.
— Лаборатория выдала первый материал. Он уже в монтажной. Посмотрим после работы?
— Конечно.
…Игоряшка упал минут через двадцать после того, как снова начались съёмки. Повалился навзничь в тот момент, когда из руки его вылетала модель красно–жёлтого планера.
Фонограмма гремела: «Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай запоет…»
Я кинулся из‑за камеры, поднял его, крикнул:
— Вырубить свет, звук, включить всю вентиляцию, воды!
Еще продолжали стрекотать камеры. Еще планировали в воздухе модели.
Запрокинутое лицо Игоряшки было синюшно.
— Воды! Врача! — снова крикнул я в наступившей наконец тишине.
— Воды в павильоне нет, — раздался голос оператора.
— Дуйте, дуйте ему в лицо! А я в медпункт. — Надя бросилась было к выходу из павильона. Но путь ей преградила Зиночка.
— Не сметь без администрации вызывать врача!
Наденька попыталась увернуться, но Зинаида Яковлевна вцепилась в неё, завизжала на весь павильон:
— Сначала акт! Акт! Воображают тут о себе всякие, заводят детей словно часы, черт знает что! Да это уголовное дело!
«Звезды, ну где же вы, звезды?» — в отчаянии подумал я, выбегая из павильона с ребёнком в руках. И в тот же миг перед внутренним взором над студией, над Москвой раскрылся чёрный космос, играющий мириадами звёзд.
И вновь неведомая победительная сила вошла в меня.
Под этими звёздами положил Игоряшку на холодный пол в коридоре у газировочного автомата. Подставил стакан, нажал кнопку и, когда стакан наполнился шипучей жидкостью, с размаху выплеснул её в лицо мальчика.
Тот открыл глаза.
Просыпаюсь в восемнадцать лет ранним летним утром. Перед зарядкой, перед душем можно позволить себе минуту вот так, бездумно полежать, глядя в сияющее небо.
Хорошо помню: руки закинуты за голову, окно прямо против меня. Бездумно. Безмятежно.
Но вот в заоконном пространстве образуется, приближается прозрачная, сотканная из голубого и золотистого света фигура человека.
На нём что‑то вроде хитона, ноги в сандалиях. Он проходит по воздуху сквозь стекло окна, наискось пересекает комнату, вдруг на какую‑то секунду поворачивает ко мне измождённое лицо, наши взгляды встречаются.
Невыразимая словом, горячая волна окатывает меня изнутри.
А человек уже исчезает в стене, там, где висит карта земных полушарий.
— Хреновые твои дела, Крамер, — говорит знаменитый поэт, тот самый, благодаря которому я попал в Литературный институт. Он гоняет ногами футбольный мяч по ковру своего кабинета, по холлу, по всей квартире. Я молча следую за ним, слушаю с бьющимся сердцем. — Прямо скажу, хотят тебя, космополита, выпереть. Взят после школы, жизни не знаешь, и тому подобная фигня. Да ещё Крамер. Сам подумай. Ты не кисни. Пока что я тебя отстоял, добился, чтоб послали на практику изучать эту самую жизнь. Так что шпарь в институт, оформляйся. Поедешь на июль и август в город–герой Сталинград, поработаешь в областной газете. Может, и в самом деле полезно, шут его знает? Николай вот услал Пушкина на саранчу, а тот «Цыган» сочинил и ещё кое‑что!
Перед отъездом захожу в парикмахерскую, зачем‑то прошу сбрить наголо густые юношеские волосы и вот в таком диковатом виде, без кепки появляюсь под знойным солнцем Сталинграда.
Для начала меня усаживают в отделе писем. Отвечать авторам присылаемых стихов и прозы. Стихов больше, чем прозы. В сущности, сплошь стихи. Сплошь — борьба за мир («Да неужели вы и в самом деле думаете, что боретесь за мир, сочиняя эти вирши?»). Стихи о берёзках (а почему именно о берёзках, а не о тополе, сосне, липе?), стихи об отгремевшей войне с обязательной рифмой «пламя — знамя», стихи о стройках — «Восстановим страну из развалин, как велит нам великий Сталин».
За месяц этой деятельности я бы совсем одурел и забыл всё, что знаю о жизни. Если б не Волга.
Свежим утром входишь в её мощное течение, отдаёшься ему, плывёшь к далёкому другому берегу. Посередине устанешь — ляжешь на спину, и несёт тебя прямо в Каспийское море.
А над головой небо в стрижах. А вон коршун повис. Струи холодят обритую голову, вымывают редакционную чушь. Плывешь один посреди России, безвестный, никому, в сущности, не нужный, разве кроме мамы…
Потом, на другом берегу, отлежишься на теплом песочке и шлёпаешь вверх по течению. Мальки тычутся в щиколотки. Далеко приходится идти, далеко тебя отнесло, Артур.
А после плывёшь обратно, снова пересекаешь этот живой поток с его рыбами, самоходными баржами, пароходами. И город, ещё весь в развалинах, вырастает перед глазами. «Восстановим страну из развалин, как велит нам великий Сталин…»
Однажды завотделом опускает на мой столик четыре толстые, как кирпичи, папки. «Отрецензируй. Очень вежливо. Очень ответственно. Переслано из обкома».
Убежденный, что это многотомный роман, с интересом развязываю тесёмку верхней папки. О ужас! Это история партии, «Краткий курс», переложенный стихами. Зарифмовано все, даже фамилии, фракции большевиков и меньшевиков, даже даты. «Для лучшего усвоения трудящимися в политучёбе».
Кладу перед собой чистый лист бумаги, чтобы выписывать цитаты, начинаю покорно читать. Но это же невозможно! Нет сил продвинуться хотя бы далее полстраницы — во мраке бездарной затеи нет и не может быть даже проблеска света.
Решительно волоку папки в кабинет заведующего отделом, грохаю их на стол. «Извините, я не член партии, а тут нужен специалист, тем более посвящено гению всех времен…»
Он поднимает на меня взгляд, мгновение смотрит, но крыть ему нечем.
В результате меня отправляют в отдалённый район за очерком о начавшейся уборке урожая.
На следующий день еду в дряхлом, довоенном автобусе куда‑то в сторону Дона, в станицу Степановскую. Вышло вроде бы в наказание, а я счастлив: мне девятнадцать лет, первая в жизни командировка!
Еду, не ведаю, что через день произойдёт, может быть, самое рискованное приключение в моей жизни. Все‑таки хорошо, что человек не знает своего будущего. Ну а если б я знал? Отказался бы поехать? Вряд ли…
Автобус пылит и пылит бесконечным просёлком, неторопливо прихрамывают за открытыми окнами колченогие столбы телеграфа, до горизонта тянутся опалённые суховеем поля пшеницы. Стоит нестерпимая духота.
Падает и никак не может упасть за горизонт багровое солнце.
К вечеру автобус наконец въезжает на пыльную площадь и, распугивая кур, останавливается у скамейки и шеста с фанеркой, на которой написано «Станица Бахчевая».
Выясняется, что дальше, до Степановской, нужно добираться попутным транспортом. Немногочисленные пассажиры растворяются в спустившихся сумерках. Я остаюсь один.
Лишь к ночи, когда в небе затрепетали звезды, слышится отдалённый вой мотора. Выбегаю навстречу слепящим огням фар, отчаянно машу.
С грохотом притормаживает полуторка.
— Куда вы едете?
— В Степановскую.
И вот уже, счастливый своей удачей, мчусь в грузовике. Свежий ночной воздух врывается в кабину.
Неожиданно машина резко сбавляет скорость. Медленно ползёт по степной дороге, неразличимой под звёздами.
— Не всюду ещё разминировано, — отвечает шофёр на мой незаданный вопрос. — Такая круговерть была. До сей поры цельные поля не сеются — мины и мины… Ты откуда?
— Из Москвы.
— Из Москвы? Тогда скажи: почему церковью никто не поинтересуется, что в Высокой станице? В Степановской‑то и нет ничего, и народ какой‑то…
— Какой народ?
— Казачье. Долго под немцем были.
— А вы не местный?
— Не. Вот послушай, поезжай ты в Высокую. Там есть церковь. Люди говорят, и не раз я этот слух сам слышал, древние книги там, не машиной писанные, а рукой. Ведь искрутят те книги на цигарки, и никто не узнает, что написано. А ведь и до нас учёные люди были. И, должно, не дураки.
— Где эта Высокая?
— Километров сорок от Степановской. Пешком дойди, а съезди.
— Ладно. Попробую. — Я уже знаю, что обязательно доберусь до церкви.
…Мы въезжаем в Степановскую. Огней в окнах не видно. Качается единственный фонарь над чем‑то вроде продуктовой лавки. То ли люди толпятся вокруг, то ли тени деревьев.
— Здесь бабка Шура живёт. Постучись — пустит, — говорит шофёр, тормозя возле покосившегося плетня. — А я сдам в эмтээсе солярку и обратно.
— Спасибо.
Денег он не берет. И отъезжает, лишь убедившись, что маленькая сухая старушка впустила меня в хату.
Бабка Шура зажигает керосиновую лампу — трёхлинейку, ставит на стол банку с простоквашей и миску, где лежит несколько холодных картофелин.
— Хлеба нет, — горестно говорит она, поглядывая, как я расправляюсь с ужином. Потом показывает на ветхую лестницу: — Там сено.
Взбираюсь наверх, располагаюсь на сене, свежем, ещё пахнущем степью.
Неведомая церковь не выходит из головы. Я только что окончил первый курс, на четвёрку сдал древнерусскую литературу, и лавры Мусина–Пушкина, открывшего «Слово о полку Игореве», теперь не дают мне уснуть. Внизу кто‑то тяжко и мощно вздыхает. Я замираю. Потом догадываюсь, что там в хлеву, наверное, спит корова. И засыпаю тоже.
Глава пятнадцатая
Я сидел в цокольном этаже студии, в одной из тесных монтажных, и занимался сборкой фильма.
После случая с Игоряшкой не мог заставить себя доснимать номер. Это сделал на следующий день оператор. Он же со своими наездами–отъездами снял детские рисунки на тему «Космос».
То ли действительно сыграл роль визит Витьки Дранова, то ли незримые тучи сгущались медленно, но пока меня никто не трогал.
Из всего процесса создания кинофильма единственное, что по–настоящему захватывает, — монтаж. Даже скудный материал маленького «Поздравления» давал почти неограниченные возможности для эксперимента, для творчества.
— Монтировать! Да это же дело, равное Господу Богу! — сказал я в сердцах монтажнице Люде, которая сразу предложила, не мудрствуя лукаво, за одну смену склеить номера вперемежку с рисунками, подложить фонограмму и досрочно сдать «Поздравление» худсовету. — Есть у вас какие‑нибудь другие дела — идите делайте их. И сегодня. И завтра. А я как‑нибудь справлюсь сам.
Люда для вида скорчила обиженную гримасу, показала, где, в каком порядке лежат в жестяных коробках дубли и фонограммы, и упорхнула.
Я вынул из коробки первый ролик плёнки, приклеил раккорд, зарядил в аппарат, нажал ногой педаль под монтажным столом. Передо мной на маленьком экране возникла Машенька. Это оказался сплошь крупный план. Одно только лицо кружащейся в танце девочки. Оно было грустным. Ни лучистых глаз, ни милой пробуждающейся женственности, невинного детского кокетства — всё, что было столь заразительно тогда, у них дома, всё исчезло.
Я должен был это предвидеть. Ведь Левка, её отец, её папа, уезжал, уезжал навсегда — какое тут веселье! Добросовестность, старание — больше ничего, никакой эмоциональной информации дубль не содержал. Это был режиссёрский брак.
Я посмотрел ролики со средним и общим планами танцующей девочки. Их ещё можно было пустить в дело.
Склеив наиболее выразительные кадры из этих роликов в одну монтажную фразу, запустил их под фонограмму цыганского танца, и тут пришло в голову, что для начала можно использовать и крупный грустный план. Отрезал часть этих кадров, подклеил скотчем к основной ленте. Снова запустил её под фонограмму.
— Артур, можно посмотреть, как вы работаете? — в монтажную вошла Наденька.
— Пожалуйста.
— Давно хочу спросить: откуда взяли вы эту прелестную девочку? — спросила Наденька, усаживаясь рядом и глядя на экран.
— А она не кажется грустной? — Я запустил ленту сначала.
— Если и есть грустинка, то в ней вся прелесть.
— «Грустинка»! Ох, Надя, не люблю этот словарь. Из передачи радиостанции «Юность»… А что, если подложить сразу после этого плана рисунок «Парящие звёзды» и положить на него звуки танца?
— Вы же хотели вставлять рисунки только после каждого номера.
— Мало что хотел. Давайте попробуем! — Я люблю ломать собственные замыслы, приходить к новым решениям.
С помощью Нади проработал весь день и в результате вчерне смонтировал два номера.
— Только два?! — ужаснулась забежавшая в конце смены Зиночка. — Если в таком темпе, когда же остальные пять?! Монтажную послезавтра забирает другая группа. А вы тут сидите вдвоём, неизвестно чем занимаетесь…
— Зинаида Яковлевна, я вообще не желаю с вами разговаривать после случившегося с Игоряшкой. Можете идти к своему Гошеву жаловаться, но пока я здесь — запрещаю переступать порог монтажной.
— Ах, вот как?! — Она грохнула железной, окованной дверью.
— …А мне казалось сначала, что вы ей нравились, — сказала Наденька, когда мы вышли в огни раннего зимнего вечера. — В конце концов, таких, как она, жалко. По–моему, не стоит так сурово…
— Это по–вашему. Сейчас вы куда?
— В садик за сыном. Звонила Нина, передавала привет. Там что‑то произошло с её знакомым. Похороны.
— Похороны… Когда это было?
— Вчера. В среду. Она как раз вечером после похорон и звонила, хотела поговорить с Игнатьичем. А тот уже уехал.
— Надя, сегодня, выходит, четверг? Вы уверены?
Глаза из‑под чёрного капюшона с удивлением посмотрели на меня.
— Уверена, конечно!
Как это было спасительно вспомнить, что сегодня первый день занятий в лаборатории. И я решил поехать туда, просто чтоб не сидеть дома наедине с тяжёлыми мыслями.
Расставшись с Наденькой, доехал до «Кировской», вышел из дымящегося паром метро. Шел пустынным бульваром, думал о том, как тесно сошлось: смерть Атаева, история с Игоряшкой. Еще хорошо, что тот очнулся, мало ли чем все это могло кончиться. Стоило ли ради кино подвергать риску жизнь мальчишки? И едва я об этом подумал, в голове возник предостерегающий голос Н. Н.: «Стоит ли заниматься пустым и опасным делом?» Да он как в воду глядел! Будто заранее знал… А может, знал? По крайней мере, теперь становилось совершенно ясно: опасным. А что бы он сказал об Атаеве? Надо было мне лететь в эту азиатскую командировку? А вдруг цепочка событий такова, что не сунься я в эти дела, там все бы пошло по–другому?
Я похолодел от этой мысли.
Было в ней нечто значительное, несмотря на то что, кажется, я ни в чём не мог себя упрекнуть.
Вспомнилось, как в одну из первых встреч Н. Н. проговорил: «Большинство людей, не видя причин, становятся игрушкой следствий и этим закладывают причины новых бед — своих и всего мира». А потом вдруг, безо всякого перехода, приказал:
— Расскажите о своём опыте.
Я переспросил, что он имеет в виду. И это был единственный раз, когда Н. Н. приоткрылся.
Скупо, как‑то отрывисто рассказал, что во время войны, будучи разведчиком, получил контузию в ночном бою. И с тех пор у него открылось свойство предвидеть будущее. И даже влиять на него.
— Каким образам? — спросил я.
— Изменяя причину, изменяешь далёкую цепь следствий, — ответил он и снова вернулся к вопросу о моём духовном опыте.
Я рассказал о периодически возникающем сне про площадь с аркадами и фонтаном, о свечении вокруг листьев, почему‑то вспомнил цыганку, подарившую мне кольцо, о том, как я выбросил его в море.
«И напрасно, — жёстко сказал Н. Н., — это был знак Шамбалы, поданный вам руками цыганки».
— А вы верите в Шамбалу, о которой писал Рерих?
— Не мы одни населяем Землю и космос, — так же жёстко ответил Н. Н. — Читайте «Неизвестные разумные силы Вселенной» Циолковского.
Я с трудом подавил в себе искушение зайти в будку телефона–автомата, набрать навсегда запомнившийся запретный номер Н. Н., набиться к нему в гости, поговорить с ним.
«А с кем ещё в мире можно об этом говорить?» — угрюмо думал я, сворачивая во двор мимо запомнившихся с прошлого раза высоких сугробов, искрящихся под светом фонаря.
И опять у особняка толпились замёрзшие люди. И опять, проходя к двери с глазком, нажимая звонок, слышал в спину: «Гражданин, посмотрите моего ребёнка», «Товарищ, исцели». И снова в приоткрывшиеся двери показался человек с красной повязкой на руке.
— Фамилия?
— Крамер. На занятия к Йовайше.
Тот, сверившись со списком, впустил, сказал:
— Между прочим занятия начались. Раздевайтесь, проходите в седьмую комнату.
Вешая пальто, я обратил внимание, что на одном из крючков висит меховая шубка Маргариты.
— …Земной шар, товарищи, тоже имеет энергетически активные точки. Причем как положительно воздействующие на человека, так и отрицательно… Входите, входите, — в высшей степени доброжелательно улыбнулся Йовайша. — Присаживайтесь. Есть ещё свободное место?
— Есть! — Из разных концов небольшого, переполненного зальца призывно взметнулись руки. С радостным удивлением я увидел, что меня зовёт Нина. Другая рука принадлежала Маргарите. Маргарита была ближе, с краю третьего ряда. Я и сел около неё.
— Видите, вы уже подчиняетесь моей воле, — шепнула она.
Между тем Йовайша, прохаживаясь вдоль висящей на стене чёрной доски, продолжал:
— В прежние времена были люди, которые умели отыскивать такие положительно активные места. Именно на этих местах ставили церкви. Об отрицательных энергетических выходах издавна в народе говорят: «плохое место», «туда не ходи». То же самое и с людьми. Есть люди, ищущие обычно себе подобных, которые, как бы умножая отрицательный энергетический потенциал такой компании, сосут энергию у других. Хотя почему «как бы»? Александр Блок очень точно это описал: «Ты и сам иногда не поймёшь, отчего так бывает порой, что собою ты к людям придёшь, а уйдёшь от людей не собой».
— А как защищаться?! — вскочил с середины второго ряда худенький бородатый человечек, тот самый, которого я видел у Нины.
— В своё время узнаете, — многообещающе улыбнулся Йовайша. — Все вы здесь — люди самых разных уровней. При устремлённости всех создастся общая аура. Пробить её будет непросто. Ни дурным влияниям, ни инфекциями. Ни даже радиацией. А что касается индивидуальной защиты от вампиризма, я уже сказал: в своё время вы все будете это уметь. Я вижу, многие записывают то, что я говорю, а у некоторых, у вас, например, — он кивнул на меня, — нет ни тетради, ни авторучки. Я, кажется, предупреждал, чтоб захватили?
Я виновато кивнул. Даже приятно было вновь почувствовать себя школьником, учеником. Маргарита вырвала двойной лист из своей тетради, протянула. Я вынул авторучку.
Йовайша обернулся к доске, взял мел и начертил на ней контур человеческого тела.
— Мы говорили об энергетике Земли. Теперь кое‑что об энергетике каждого из нас. На темечке у нас полярность положительная. — Он вывел жирный плюс над головой силуэта. — В копчике — отрицательная. Напряжение между этими полярностями и есть жизнь. Только тот, кто понимает смысл внутренних процессов организма, Земли, Вселенной, их взаимосвязь, — тот сознательный человек. Конечно, плюс его воля.
Йовайша говорил любопытные вещи, и я стал кое‑что записывать. Особенно поразила древняя индусская формула «Я — Ты». Йовайша утверждал, что в конечном итоге за всеми возрастными, социальными, половыми и прочими различиями между людьми, за всеми этими оболочками находится нечто общее, идентичное, как искра, как пламя свечи. Это и есть, по воззрениям древних, божественный огонь, душа. Тот, кто всецело проникся этим пониманием, уже не может сознательно причинить зло другому человеку, практически владеет такими феноменами, как целительство, телепатия… Архимед не нашёл точку опоры, при помощи которой мог бы перевернуть мир. Между тем эта точка есть — «Я — Ты».
Йовайша попросил обвести эту формулу прямоугольником в своих тетрадях, постоянно помнить о её значении и объявил перерыв.
Их было человек тридцать, этих людей, вытеснившихся в узкий коридор. Я обратил внимание на сутуловатого человека с сине–чёрной ассирийской бородкой в кольцах и такой же гривой волос, свисающей ниже лопаток, на полковника с погонами военно–воздушных сил.
— Вы не знаете, кто это? — спросила Маргарита, жадно закуривая сигарету.
— Никого не знаю, кроме разве Нины. Нина, я рад, что вы здесь. Вот познакомьтесь с Маргаритой.
— Артур, я тоже очень рада видеть вас тут! — сказала Нина, окидывая при этом ревнивым взглядом Маргариту и подавая ей руку. — Потрясающе интересно, не правда ли?
Я кивнул. А Маргарита сказала:
— Пока что мне все это давно известно. И он прав насчёт уровня — тут масса серых, не понимаю, зачем он их набрал…
Когда перерыв кончился и все расселись по местам, Йовайша неожиданно приказал всем выкинуть вперёд обе руки.
— Встаньте, пожалуйста, вы, — указал он на Маргариту, — вы, — указал на маленького аскета с большой бородой, — и вы.
Третьей поднялась пожилая женщина с лицом, как печёное яблоко.
— Смотрите, у всех остальных ладони обращены наружу, открыты космосу, а у вас троих ладошки смотрят вниз. Вы закрыты. Этот очень простой тест говорит о многом… Огорчаться не следует. Нужно учиться видеть себя со стороны, думать о подлинной мотивировке своих поступков. А сейчас снова возьмите ваши тетради, запишем два упражнения на всю неделю. Эти упражнения вы должны будете делать каждый день. Пятнадцать минут утром, после сна, и пятнадцать минут вечером, перед сном. Методика, по которой вы будете заниматься, единственно безопасная, пригодная для жителей многомиллионного города. С этого дня я отвечаю за ваше физическое и нравственное здоровье. И хочу вас заверить, что те, кто будет регулярно выполнять всё, что здесь задаётся, как бы законсервируются и навсегда останутся в том возрасте, в каком пришли на сегодняшнее занятие. Запомните: любое упражнение должно доставлять только радость.
Я лежу навзничь, совсем расслабляясь на выдохе, и стараюсь прочувствовать раскинутыми руками и ногами, что? они воспринимают снаружи, из космоса.
Добросовестно упражняюсь утром и вечером, день, другой, третий, четвёртый. Не чувствую ничего. Только подмерзаю.
Затем, умывшись и одевшись, принимаюсь за упражнение номер два: сосредоточение на цветке.
Дома у нас только одно растение — кринум. Длинные ремневидные листья, веером свисающие из луковицы, полускрытой землёй в глиняном горшке.
Нужно, сидя с прямой спиной, смотреть на листья, а потом в закрытых глазах удержать это изображение во всей его конкретности.
Открытыми глазами сразу вижу ярко–синюю прозрачную дугу, проходящую рядом с каждым листом. В закрытых глазах она светится.
На шестой день в закрытых глазах отчётливо вижу неизвестно откуда возникший лишний короткий лист. Открываю глаза — его нет.
Заглядываю сверху в сердцевину растения. Вот он! Новый растущий листок. Как же это я смог увидеть его сначала в закрытых глазах?
Странная пыль на этой дороге. Белая–белая пудра. Она лежит толстым слоем, и на ней смутно виднеются как бы размытые две бесконечные, уходящие вдаль колеи. Это след телеги, на которой я утром ехал сюда, в Высокую. А куда потом делась телега? Надо было хоть спросить возницу, собирается ли он двинуться обратно, — теперь вот вышагивай сорок вёрст!
Приостанавливаюсь и, чувствуя, как пухлые слои раскалённой пыли прожигают подошвы ботинок, оборачиваю голову назад.
Ветхая церковь ещё видна. Накренившимся куполом без креста словно кланяется вслед. Мне вдруг тоже хочется поклониться, но я поворачиваюсь и шагаю дальше.
Не вышло из меня Мусина–Пушкина. Зря суетилась бабка Шура, отыскивала оказию. Как хорошо было на рассвете выезжать из Степановской в Высокую! Лежал на телеге поверх сена, досыпал под цокот копыт, потом смотрел в небо на розовеющие облачка. Лучше бы на дорогу смотрел. А то встретится какая‑нибудь развилка — куда пойду? Никаких указателей нет.
Отчего я был так уверен, что найду что‑то вроде «Слова о полку»? Особенно когда, простившись с возницей, отыскал у огородных грядок священника — отца Пантелеймона, показал ему документы, а тот, взяв в хате связку ключей, повёл меня к церкви. Старый тощий священник в старой сатиновой рясе, с тощей косицей на затылке…
Я шагал рядом с ним, как конвоир, и думал о том, что не так уж давно — несколько лет назад — мимо покосившихся плетней, мимо пыльных деревьев с пожелтевшей листвой ходили и проезжали эсэсовцы… Вот и по этой дороге они наверняка проезжали, мимо этих полей, на которых ничего не посеяно.
Еще раз оглядываюсь на церковь, но её уже больше не видно. Пустая раскалённая степь. Я один движусь по ней.
Сегодня первый раз в жизни переступил порог храма. Изнутри он показался выше, чем снаружи; сверху на каменный пол косо выстреливали солнечные лучи, по углам в бархатной темноте взблескивали оклады икон.
Древние сокровища покоились в сундуке, стоящем у стены. По тому, как отец Пантелеймон ковырялся с замком, я понял, что его давно не отпирали.
Наконец крышка откинулась. Запахло кислой пылью, старой кожей. Там навалом лежали книги, некоторые — в толстых кожаных переплётах.
Отец Пантелеймон принёс табуретку, и я сначала медленно, а потом все быстрей, нетерпеливее просмотрел всё, что лежало в сундуке. Это были напечатанные типографским способом Евангелия, Псалтыри, ещё какие‑то божественные сочинения на старославянском языке, и самое старое из них датировалось знакомым мне 1799 годом — годом, когда родился Пушкин, а я ведь искал древние рукописи.
На самом дне сундука лежал большой серебряный крест.
— Тут ещё есть, — раздался откуда‑то издалека голос отца Пантелеймона.
Я встал с табуретки и пошёл на голос.
— Сюда нельзя. Алтарь! — Отец Пантелеймон появился из‑за маленькой дверцы. В руках его была тощая стопка книг без переплётов. Это оказалось ещё одно Евангелие, «Толкователь снов, или Сонник», брошюра о разведении травы тимофеевки.
— А где же рукописные книги? — сказал я, возвращая странное добавление в руки священника.
— Было и рукописное, — ответил он.
— Где же оно?
— Немцы пожгли.
— Что ж, они рукописи пожгли, а книги не пожгли?
— Духовные не жгли.
Мы перешли к раскрытому сундуку и принялись укладывать книги. Но сначала отец Пантелеймон вынул крест, обтёр пыль рукавом рясы и поставил его на пол, прислонив к стене.
— А что, все‑таки есть Бог или нет? — спросил я, когда он запирал сундук. Терять было уже нечего.
— Был, — спокойно ответил священник.
— Распяли, что ли?
Отец Пантелеймон нагнулся, поднял крест и вдруг жутковато показал им к сияющему проёму раскрытых дверей.
— Умер. В одна тысяча девятьсот десятом году.
Выйдя из знобящего сумрака церкви на раскалённую паперть, я долго соображал: кого это он имеет в виду, Толстого, что ли?
Отец Пантелеймон появился во дворе уже без креста, и я пошёл за ним к воротам.
— Не слушали Льва, — сказал священник, не оборачиваясь. — Аэропланы изобретали, граммофоны, вот и проворонили…
— Что проворонили?
Он навесил замок.
— Лев умер, а после 14–й год начался, две такие войны проворонили… По–духовному надо было идти, а не по–вещественному. — Он обернулся ко мне, яростно прошептал: — У меня сын неведомо где погиб! Идемте яишню кушать.
Я почувствовал себя виноватым. Если бы Бог был, он бы ясно видел, что я не причастен к возникновению ни первой мировой, ни второй…
— Спасибо. Поеду.
— Куда?
— В Степановскую.
— Ни телеги, ни машины не достанете. Идемте яишню кушать. Переночуете, глядишь, завтра–послезавтра кто поедет.
— Что вы! Я в командировке. Может, попутная нагонит. Как здесь на дорогу выйти?
— Вольному воля… — Он взмахнул рукавом рясы. — Налево и сорок вёрст все прямо.
— До свидания.
Но он не протянул мне ладони. Может, у них, священников, не принято?
Сворачивая налево, за церковь, я оглянулся и увидел, как отец Пантелеймон стоит и смотрит мне вслед.
И вот я иду, передвигаюсь один посреди пекла, только тень, маленькая ещё, движется у моих ног.
«Если немцы духовное не жгли, то что же тогда представляли собой исчезнувшие рукописи?
А может, шофёр грузовика поверил в чью‑то болтовню или вообще все выдумал? Как глупо! Особенно если мою поросшую колючим ёжиком голову хватит солнечный удар».
Я расстегнул пуговицы ковбойки и громко, во всю глотку, начинаю орать: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой чёрною, с проклятою ордой!»
Черные брюки давно поседели от пыли, в горле першит. «Шаланды, полные кефали, в Одессу Костя привозил…» Неужели я не прошёл ещё и трети пути? Солнце не думает спускаться с белесого неба. Ковбойка прилипла к лопаткам. Некоторое время бреду молча. Потом снова запеваю: «Товарищи в тюрьмах, в застенках холодных…» — и чувствую на губах резкую, раздирающую боль, дотрагиваюсь до них пальцами, тотчас отдёргиваю руки. Губы мои покрылись толстой коркой, растрескались.
Вдалеке, справа и слева от дороги, маячат два низких столбика. Я дотаскиваюсь до них, с трудом передвигая ноги. На каждом прибита фанерка, и на ней почти свежей краской начертано: «МИНЫ».
Опускаюсь на пыльный бугорок у основания правого столбика, рассудив, что уж под ним‑то мин наверняка нет. «Что же здесь творилось, что ещё целые поля заминированы?» Сдираю ковбойку, набрасываю её на пылающую голову и краем глаза улавливаю какое‑то движение. Большая серая змея с дрожащим язычком ползёт, струится, пересекая дорогу.
Через секунду я уже иду не оглядываясь. Иду, облизывая кровоточащие, покрытые коростой губы. Вскоре встречаю ещё одну гадюку. Гадина греется в пыли прямо посреди дороги. После минутного колебания обхожу её слева, зайдя на несколько шагов в поле, есть там мины или нет — не знаю.
Дорога приводит к полуразбитому мостику через сухую балку. Сажусь на него, свесив ноги. Сухая балка, совсем сухая. А прошлый год, примерно в это время, я ездил в Серебряный бор, купался в прохладе Москвы–реки, несколько дней назад пересекал Волгу, миллионы кубометров пресной воды… Отдохнув, иду дальше, иду как заведённый, потеряв чувство времени. Даже пить уже не хочется. Из небытия возвращает чей‑то голос.
— Серый! Серый!
Справа, далеко–далеко в знойном мареве, мелькает фигурка скачущего коня. Наверное, ноги его спутаны. Конь скачет неуклюже, как‑то боком.
Скольжу равнодушным взглядом по этой недоступной для меня тяге и бреду дальше.
— Серый! — вдалеке возникает бегущий мальчишка. — Серый!
Все это — и мальчик, и конь — как на другом конце света. И когда в небо ударяет взрыв — это кажется неправдоподобным, как мираж.
Земля дрогнула. Долетел слабый гул. И снова звенящая тишина. Коня словно не было. Только убегающая за горизонт фигурка мальчика…
«Вставай, проклятьем заклеймённый, — хриплю я, — весь мир голодных и рабов…» Пою «Интернационал», одолеваю пространство, которому нет конца. Солнце уже сильно клонит к западу.
Через час, а может, через три впереди показывается что‑то вроде верхушек деревьев.
Впервые познаю, что последние километры — самые длинные. Когда вхожу в станицу, тени уже большие, вечерние. Да, это Степановская. Вон за тем забором должен открыться поворот в проулок. Вот он. А вот и плетень бабушки Шуры. Тропинка к колодцу.
Налегаю на железную ручку ворота. Помогаю себе всем телом, выкручиваю наверх полведра, подчаливаю его на край колодезного сруба, накреняю и, обливаясь, пью это мокрое, это холодное…
Хватает сил войти в сени. Бабка испуганно вглядывается, бросается навстречу, потом кидает на сундук что‑то мягкое, рваное. Я валюсь и последнее, что чувствую, — шнурки расшнуровывают, снимают с распухших ног ботинки.
Глава шестнадцатая
Однажды рано утром уже в начале февраля прозвенел телефон, и в трубке раздался голос Нурлиева:
— Что делаешь? Спишь?
— Не сплю, Тимур Саюнович. Я вас узнал. Все жду обещанного письма…
— Слушай, я сейчас к тебе приду. Можно?
— Так вы в Москве?
— Минут через двадцать буду. Адрес у меня есть. Выходи встречать.
Положив трубку, я глянул на часы, потом кинулся на кухню, включил свет, открыл холодильник. Кроме пяти сморщенных сосисок, пакета молока, яиц и начатой банки чешского паштета, там ничего не было.
Мать ещё спала в своей комнате.
Я обдал сосиски горячей водой из‑под крана, содрал с них целлофановую оболочку, нарезал на тонкие кусочки, бросил на раскалённую сковородку со сливочным маслом, потом залил все это взбитыми яйцами. Поставил чайник на газ.
Вернувшись в комнату, ужаснулся. Давно пора было делать ремонт: обои на стенах пооборвались, выгорели, по потолку змеились трещины, паркет нуждался в циклёвке.
«Наверное, только что прилетел, голодный. Неужели ему не забронировали номер в гостинице? В крайнем случае буду спать в кухне на раскладушке, а ему предоставлю комнату».
Я перенёс со стола на подоконник кринум, с которым за время упражнений успел чуть ли не сродниться. В тот момент, когда позвонил Нурлиев, я как раз занимался с растением. «Интересно, что бы сказал Тимур Саюнович, если бы застал меня за этим занятием?»
Надев пальто, кепку, выключил газ под сковородкой с омлетом и вскипевшим чайником, выбежал на улицу.
Был хмурый час московского зимнего утра, когда, кроме дворников с их скребками и редких ещё автомашин, ничто не нарушает тишины кварталов.
Я стоял на углу своего дома у проезда во двор. Сквозь пелену медленно падающих хлопьев снега то тут, то там загорались окна. Казалось, слышен разноголосый хор будильников, вырывающих людей из сна.
«Хорошо ещё, что не надо ехать на студию, — думал я. — Гонят в шею, сдавай скорей, устроили скандал за то, что сдал на шесть дней позже срока, а теперь жди, когда товарищ Гошев со своим худсоветом соизволит принять фильм».
Я понимал, что ничего доброго от этого просмотра мне ждать нечего, и тем не менее наивная надежда ещё теплилась: «А вдруг «Первомайское поздравление? понравится, ведь ничего подобного у них никто никогда не снимал, и дадут наконец настоящую, серьёзную работу».
Я знал, что больше ни на какой компромисс не пойду. Между тем со сдачей картины кончалась и моя зарплата.
Из глубины улицы показалось такси с погашенным огоньком, проехало мимо, затем протарахтел «запорожец» с сугробом снега на крыше.
«Опять все на полном нуле, — думалось мне, — что ни пытаюсь сделать — отбрасывает назад. Просто рок. Чем все это кончится? Хлеб скоро не на что будет купить».
Я, правда, вспомнил, что должен ещё получить гонорар за сценарий своего «Поздравления», какие‑то сотни полторы рублей. Такая оставалась перспектива.
Еще одна машина возникла вдалеке. Она быстро приближалась, чёрная, необычно длинная, новая правительственная «чайка». Чуть притормозив, она свернула во двор мимо меня. Рядом с водителем сидел в папахе из золотистого каракуля Нурлиев.
Там, у себя на стройке ГЭС, Тимур Саюнович ездил исключительно на газике.
Шофер и Нурлиев одновременно хлопнули дверцами, вышли из машины.
— Ну, здравствуй! — Нурлиев обнял меня, трижды по–русски поцеловал.
— Здравствуйте, — издалека поклонился и шофёр. Я почувствовал его цепкий, внимательный взгляд.
— У меня есть два часа. Чаем угостишь?
— Конечно.
Нурлиев забрал из машины «дипломат», двинулся к подъезду.
— А шофёр? — спросил я, когда мы вошли в лифт.
— Не беспокойся о нём. Будет ждать, сколько нужно.
В передней Тимур Саюнович стал оттирать ноги о резиновый коврик, потребовал тапочки.
— Бросьте вы! У меня это не заведено. — Я взял у него пальто и папаху, повесил на вешалку.
Тогда Нурлиев скинул полуботинки и в носках прошёл в комнату.
— Так вот как ты живёшь! Смотри — сюзане повесил. Древняя, очень древняя вещь. Где достал?
— Сейчас принесу еду, чай, расскажу. Садитесь пока, отдыхайте.
Заваривая на кухне чай, раскладывая по тарелкам омлет с сосисками, я все думал о том, почему Нурлиев прибыл на правительственной машине. «Ну, депутат Верховного Совета, начальник одной из крупнейших строек. Тем не менее…»
— А что ж не пригласил всю квартиру посмотреть? — громко спросил Нурлиев, входя в кухню. — Давай помогу.
— Тихо. Мама спит.
Но она уже вышла из своей комнаты, смутилась, увидев незнакомого человека.
— Какой счастливый, мать имеешь! — Нурлиев взял её за руку, почтительно поцеловал. — Извините, разбудил.
— Тимур Саюнович только что прилетел со стройки, куда я ездил в командировку, — пояснил я.
— Ничего подобного! Уже три дня, как прибыл! — перебил Нурлиев. — Газеты читаешь?
— Почитываю.
— Редко почитываешь, значит. Чем он у вас занимается, что не в курсе событий?
И тут мать, глядя на Нурлиева, с неожиданной серьёзностью произнесла:
— Плохо ему, очень плохо моему Артуру. Я скоро умру, не знаю, как он останется…
— Не умирайте! Я вас очень прошу. — Нурлиев обнял её за плечи, прижал к груди. — И вообще, не беспокойтесь, пожалуйста. Если ему будет здесь и в самом деле плохо — заберу в свою республику, тем более имейте в виду: я теперь первый секретарь ЦК, моё слово имеет некоторый вес.
— Вы? Первый секретарь?! Каким образом?
— Говорю, газет не читаешь. А между прочим в некотором смысле это произошло благодаря тебе. Но сначала давай наконец что‑нибудь съедим. Это пицца, что ли? Давай здесь, на кухне.
— Нет, пошли ко мне.
Мать поняла, что я хочу остаться с гостем наедине. Она только сделала нам бутерброды с маслом и паштетом, веером уложила на тарелку.
Нурлиев помог перенести еду в комнату.
— Я на минутку, — сказала мать, входя вслед за ним. — Может, подойдут эти тапочки? Все‑таки холодно, дует.
— Спасибо. — Нурлиев, большой, лысоголовый, снова обнял её. — Всё будет хорошо. Не утешаю — серьёзно говорю. Знаете, ваш сын как водохранилище — столько лет копит в себе такое… Потом, как вода через гидроузел, большую энергию даст, светить будет, всё свет тот увидят. Вы тоже увидите.
— Я и сейчас вижу, — с гордостью сказала мать и вышла.
А Нурлиев надел тапочки, прошёлся по комнате, поглядывая на драные обои, на потрёпанные корешки книг за стёклами полок.
— Фолкнер, Достоевский, Марсель Пруст, Гомер — все это и у меня есть. Только, в отличие от тебя, почти ничего прочитать не удалось. А теперь, наверное, никогда не удастся.
— Садитесь. Омлет совсем остыл.
Нурлиев опустился на стул. Мы молча поели. Потом я разлил из заварочного чайника чай в пиалушки, вынутые ради гостя из буфета.
— Мать, наверное, ещё потому переживает, что ты не женат. Вообще как дела?
Я очень коротко рассказал о своём фильме–концерте, о случае с Игоряшкой…
— Этого пацана потом видел?
— Нет. Съемки ведь кончились.
— Нехорошо. Надо навестить.
— Надо. — Я выжидательно глянул на Нурлиева.
— Можно? — спросил тот, доставая из своего дипломата пачку «Мальборо».
— Пожалуйста.
Нурлиев щёлкнул зажигалкой, закурил сигарету.
— Рустам говорил тебе о своих трениях с бывшим первым?
— Впрямую — нет. Только о его зяте, Невзорове. Прокрутил кассету — запись их разговора с угрозами.
— Теперь понятно. Ты взял и в своей статье использовал оттуда какие‑то факты.
— Именно какие‑то, не все. Тот же ему руки выкручивал. Помню, между прочим буквально говорит: «Смотри не застрелись до пленума», фактически подталкивал к самоубийству.
— Их стиль, его и тестя. В своё время я тоже прошёл через подобное. Выжил. ГЭС построил, город, как ты знаешь, построил. Такой, как надо. И себя не уронил. А Рустам оказался слишком горяч, слишком молод… Когда вышла твоя статья, они поняли по некоторым деталям, что ты каким‑то образом знаешь о том разговоре… Конфиденциальном. Хотя Атаев, наверное, предупреждал тебя, чтоб ты не использовал то, что услышал из этой кассеты. Предупреждал?
— Предупреждал.
— Вот видишь… Сразу после твоего отъезда они вызвали его на ковёр. Без всякого пленума. Что там было — не знаю. Наутро он застрелился. В своём рабочем кабинете. Еще не известно, сам ли он это сделал. Идет следствие.
— Выходит, я виноват во всём?!
— Сядь, успокойся. Я уже говорил тебе по телефону: не вини себя. Они бы так или иначе с ним разделались. Сейчас выяснилось: неугодных убивали, закапывали в щебёнку, в дорожное покрытие, сверху закатывали асфальтом…
— Тимур Саюнович, не может быть!
— Я это тебе рассказал, как говорится, не для протокола… Ты должен это знать. И если б не твоя статья, может, и эта смерть сошла бы им с рук. Еще неизвестно, сколько бы эта мафия держалась у власти. Наш бывший первый не брезговал и такими штучками: весной приезжает в один район, в другой, выступает перед колхозниками: «Сдавайте ранние помидоры из личных хозяйств государству. За вычетом накладных расходов получите по 80 копеек за килограмм». Люди верят, сдают. А потом им выплачивают по 30 копеек. Как думаешь, куда девалась разница в полтинник?
— Наверное, шла государству.
— Даже если бы она шла государству, нехорошо обманывать людей, свой народ. А тут достигалась двойная цель — рапортовали о перевыполнении планов закупок, разницу же (это, Артур, сотни тысяч) клали себе в личный карман. Потом обращали в бриллианты и золото…
— Да неужели никто ни разу не возмутился?!
— Бывало. Только таких ждала могила под гудроном шоссе.
Я вытянул из пачки сигарету, тоже закурил, вспомнил об обыске в аэропорту…
— Ведь не куришь. Брось. — Нурлиев забрал сигарету, раздавил в пепельнице. — Твоя статья в центральной газете оказалась первым камешком, двинувшим эту лавину… В результате мафия под следствием. Пока что не вся. В январе у нас был пленум, меня избрали первым секретарем… Знаешь, особенно жалко, что Рустама нет. Он был бы лучшей кандидатурой.
— Возможно. — Я смотрел на уставшее лицо Тимура Саюновича, на тяжёлые кисти рук в узлах вен.
— Ну вот, исполнил обещанное. Все объяснил. Пора ехать. Тебя никуда не подвезти?
— Вроде нет. Спасибо.
Но только Нурлиев встал, чтобы пройти в переднюю одеться, как зазвонил телефон. Секретарша Гошева сообщила, что в 10.30 состоится приёмка «Первомайского поздравления» худсоветом.
— Еду с вами. Подкинете на студию?
…Черная правительственная «чайка» летела у самой осевой линии, обгоняя другие автомашины. Сидя на заднем сиденье с Нурлиевым, я видел, как милиционеры–регулировщики торопливо переключали свет светофоров на зелёный, отдавали честь.
И поймал себя на ощущении самозванства. Заснеженные улицы и проспекты знакомой с детства Москвы отсюда, из окна этого лимузина, казались короткими, мельтешение людей на тротуарах, у магазинов — жалким.
Нурлиев, видимо, уловил мои мысли, сказал негромко:
— Так можно быстро оторваться от нормальной жизни. Поэтому я недоволен изменением в моей судьбе. Мое дело — электростанции строить.
— Тимур Саюнович, кому–кому, а вам зазнайство не грозит, уверен.
— Ой, Артур, человек непредсказуем, ни в чём нельзя до конца быть уверенным. Я не молод — знаю, что говорю… Теперь часто придётся летать в Москву. Будет оставаться время — увидимся.
Лимузин мягко затормозил у киностудии.
— Не грусти. Чувствую, судьба готовит тебя для чего‑то, о чём не знаем ни ты, ни я…
Входя по ступенькам под козырёк подъезда, я оглянулся. «Чайки» уже не было видно за пеленой снегопада. И тут я пожалел, что не рассказал Нурлиеву о занятиях в лаборатории.
Когда подходил к просмотровому залу на четвёртом этаже, где обычно принимались фильмы, обогнала Зинаида Яковлевна. Она предупредительно открыла дверь, пропустила меня вперёд и вошла вслед.
Небольшой зал был полон. Кроме членов худсовета во главе с Гошевым я увидел здесь Наденьку, оператора. И ещё человек пятнадцать, совсем незнакомых.
Сел в заднем ряду, у микшера.
— Все собрались? — оглянулся Гошев. Мутные глаза скользнули по мне. — Давайте наконец начинать.
Я снял трубку телефона и сказал механику:
— Поехали.
Свет в зале погас. Во весь экран появился титр: «Первомайское поздравление советского народа».
Десять минут, пока длился фильм, показались бесконечно долгими. Сейчас, после встречи с Нурлиевым, после разговора об Атаеве, о делах, которые творились в республике, стыдно было смотреть на этот калейдоскоп пляшущих и поющих ребятишек, на вид благополучных, отглаженных… Да и наплывающие после каждого номера цветные детские картины на космические темы создавали впечатление лёгкости проникновения в запредельное… Лишь Игоряшка, каждое его появление в кадре, неизвестно почему, магически оставляло впечатление чего‑то значительного.
В зале стояла полная тишина, когда зажёгся свет. Только Наденька, перегнувшись назад из предпоследнего ряда, шепнула:
— Артур, замечательно. Такого они ещё не видели.
— Давайте без перерыва просмотрим вторую картину, — раздался голос Гошева. — Тогда и обсудим.
Я уступил место у микшера другому режиссёру и пересел на край ряда, поближе к двери.
Вторым принимался полнометражный художественный фильм «Дедово поле». В отстающий колхоз удирал после десятого класса долговязый паренёк Коля. Родители, тепло устроившиеся в городе, пытались его вернуть. Но он был верен завету деда–земледельца.
Я потерпел минут двадцать, не смог перебороть себя и тихо вышел.
Взад–вперёд шагал по пустынному коридору, думал о том, что, по сути дела, эта поделка досадно компрометирует трагическую тему.
Вспомнилось, как через несколько лет после окончания института, когда я стал уже ездить внештатным корреспондентом одной ведомственной газетки, судьба закинула как‑то осенью в картофелеводческий колхоз Брянщины. Не успел я поселиться в избе бригадирши, зарядил многодневный ледяной дождь. Поля с не убранной ещё картошкой заплывали жидкой грязью. Бригадирша (сейчас я пытался и никак не мог вспомнить её имя), худая, как спичка, в платке, ватнике и кирзовых сапогах, тяжёлых от налипшей глины, однажды, войдя в избу, сказала с отчаянием: «Помрем с голоду. Видно, все же есть Председатель над нами!»
Странная была фраза. Но запомнилась. Запомнились её дети — три человечка мал мала меньше, с рёвом ползающие по половицам, запомнился её муж — вечно пьяный, небритый, одноногий инвалид войны. Запомнился тяжкий угар от растрескавшейся, дымящей печки; затируха, которой эти погрязшие в бедности люди делились со мной.
Ни один грузовик не мог проехать по единственной, потонувшей в глубокой глине дороге. В конце концов председателю удалось связаться по телефону с воинской частью, и меня вывез на железнодорожную станцию бронетранспортёр на гусеничном ходу.
Забираясь под все тем же ледяным дождём в бронетранспортёр, я был счастлив, что вырываюсь из этого ада, и в то же время чувствовал себя предателем. Уже в поезде, лёжа на боковой полке бесплацкартного вагона, под стук колёс думал о том, что должен бросить стихи, литературу, окончить какие‑нибудь курсы председателей и пойти в колхоз, чтоб хоть что‑то сделать для этих людей.
«Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои просторы ветровые, как слезы первые любви», — повторял я блоковские строки, когда поезд уже подъезжал к Москве, к теплу, к родному дому…
Всякое с тех пор со мной бывало, и вот надо же, сейчас в коридоре студии возник в памяти давно забытый эпизод. «Может, все обойдётся, — думал я, — предложу Гошеву ещё один замысел. Так и назову: «Слезы первые любви?».
Выглянула в коридор Наденька, позвала на обсуждение.
Через полчаса всё было кончено.
Я первым вышел из зала и побрёл к лифту. В ушах звучали голоса членов худсовета: «Дети слишком маленькие, не могут нести идею государственности»; «Где танцы, отображающие трудовые навыки?»; «А песни? Вы заметили: у одной девочки на крупном плане нет переднего зуба?! Другая танцует с веером! С каких пор веер стал атрибутом советской пионерии?» Короткое обсуждение подытожил Гошев:
— Как видите, все единодушны в оценке этой картины. Я поручил вам ответственное задание. Вы сами придумали сценарий. Мы не контролировали вас ни в павильоне, ни при монтаже. Каков итог? Три года мы вас держали, согласно положению о молодых специалистах. Вы подвели нас. Думаю, выражу общее мнение — пора расстаться.
В конце коридора нагнала Зиночка.
— А я поздравляю вас. Очень талантливый фильм. Даже не ожидала, что так получится, — задыхаясь, прошептала она. — Ой, скажите, Артур, а кто вас привёз на правительственной машине?
Я тупо взглянул на неё и вошёл в кабину лифта.
Если я смотрю издалека на свою ладонь и моргаю, это движение ресниц чётко отражается на ней. Все дальше отодвигаю ладонь, отодвигаю, сколько могу, и все так же чётко, словно движение крыльев бабочки, ощущает ладонь взмахи ресниц.
После этого мысленно закручиваю по часовой стрелке кольцо энергии на той же ладони. И вот по подушечкам пальцев проходит дуновение, а через секунду–другую вертится на ладони призрачное кольцо вроде бублика. Вертится само, с любой скоростью, какую пожелаю. Если упражняюсь в темноте — оно светится, если подношу ладонь к уху — слышу потрескивание. Увеличиваю скорость кружения — потрескивание учащается. Интересно, что на моей правой ладони ничего этого не происходит.
Продолжаю упражняться с цветком, с моим кринумом. Как было задано Йовайшей в прошлый четверг, опять сосредоточиваюсь на растении. Вижу уже привычные полосы синей энергии вдоль зелёных листьев, затем закрываю глаза — в них то же самое. Мысленно задаю вопрос цветку: «Откуда ты?» Несколько дней никакого ответа. И вот позавчера вечером увидел в закрытых глазах совершенно реальную заводь вдоль болотца возле большой реки. В заводи стояла на одной ноге цапля. Цапля взлетела. Сверху стали видны группы кринумов, растущие между заводью и рекой.
Я не поленился зайти в библиотеку, взял толстый том «Оранжерейные и комнатные растения» и прочёл, что кринум — растение с берегов Нила, его называют «нильская лилия».
…Кто‑то дёргает за ногу, за плечо, вырывает, вырывает из сна. С трудом приоткрываю глаза. Вижу над собой заросшего рыжеватой щетиной старика с коптящей керосиновой лампой в руке.
— Ты корреспондент?
— В чём дело?
— Ты, говорю, корреспондент?
— Да.
— Откуда?
— Из Москвы, — отвечаю, ещё пытаясь уйти обратно в сон.
— Вставай. В станице заваруха.
Спускаю ноги, вскакиваю и тут же со стоном валюсь на пол. Ступни, распухшие от вчерашнего сорокакилометрового перехода через степь, не держат.
— Чего кувыркаешься? Вставай!
Натягиваю брюки, носки, втискиваю ноги в ботинки. Поднимаюсь, опершись на локоть старика. И только сейчас слышу гул голосов за стенами избы.
— Что случилось?
— Муки в пекарню до вчерашнего неделю не завозили. Вчера привезли. Народ неделю ночами очередь держал, с детями малыми, номера на руках рисовали. Нынче хлеб в ларьке продают, а он сплошь в червях. — Старик нервничает, тянет меня на улицу. — Продавщицу Наталью захватили, пекаря Семена Ивановича. Хотят их убить. Убьют ведь. А что из этого будет, соображаешь? Говорил им — не слушают.
— А вас как зовут? Кто вы?
— Яков, всю жизнь активист, крестьянский корреспондент, два сына в войне погибли.
Выхожу вместе с ним на крыльцо в серый рассвет и оказываюсь лицом к лицу с морем людей. Все они смотрят на меня. Гул притих. Только плачут закутанные младенцы на руках у женщин.
У некоторых мужиков винтовки, у одного перекинут через плечо автомат.
— Вот корреспондент! Из самой Москвы! — возглашает Яков. — Станичники, он знает, что делать. — И больно пихает меня под лопатку: — Говори народу!
Почему этот старик решил, будто я знаю, что делать? Я ничего не знаю. Мне всего девятнадцать лет. Я еле держусь на ногах после вчерашнего…
— Где продавщица и пекарь? — спрашиваю толпу.
— В пекарне запертые, — ответил за моей спиной Яков.
Толпа настороженно молчит.
— Товарищи станичники! Прошу вас: спрячьте оружие, уберите его. Нельзя допустить самосуд. Обещаю, я всё сделаю, чтобы виновные были наказаны. Только уберите оружие, дайте возможность поговорить с пекарем.
Схожу со ступенек крыльца. Яков забегает вперёд. Толпа нехотя расступается.
Иду за Яковом меж двух живых стен. Глаза людей враждебно смотрят. Стараюсь не опускать взгляд, чувствую: если опущу — случится непоправимое.
Так мы подходим к покосившемуся деревянному амбару. На дверях его большой ржавый замок.
— Отпирай, — говорит Яков парню, хмуро стоящему с обрезом в руках у крыльца.
Я оглядываюсь. Вся толпа развернулась в нашу сторону.
— Скажите, чтоб открыл дверь и впустил к арестованным! — Я стараюсь говорить приказным тоном, твёрдо.
Встающее солнце тоже смотрит на меня в упор поверх голов.
— Пусти его, Николай, пущай спросит, — раздаётся заскорузлый голос. Мужик с узкими татарскими глазками, в старой казачьей фуражке с красным околышком выходит вперёд. — Только сперва покажь документ, кто ты есть?
Он долго разглядывает мой студенческий билет и командировочное удостоверение газеты. Потом, не сказав ни слова, машет Николаю рукой. Тот достаёт из кармана галифе ключ, отпирает замок, снимает со скобы. Дверь со скрипом отворяется. Мы с Яковом входим в сумрачное помещение.
Одутловатый пекарь в страхе отступает от нас к стене. Руки его трясутся.
— Не виноват, — шепчет он и крестится. — Восемь мешков, все с червями.
Я уже понимаю, что он не виноват. Глаза, привыкшие к сумраку, различают и продавщицу. Она стоит у крохотного квадратного оконца, вся — статуя напряжения.
— Где мука?
Пекарь суетливо хватает мешок, стоящий у печи, тянет ко мне.
— Не надо, — подхожу, запускаю руку в мешок, вынимаю полную горсть муки. Ладонь что‑то щекочет. Это черви. Толстые белые черви.
С отвращением отбрасываю все это на пол.
— Где остальные?
— Кто?
— Мешки. — Я изо всех сил стараюсь говорить только необходимое, боюсь выдать свою растерянность.
Он заводит меня в соседнее помещение. Это подсобка. Проверяю каждый мешок. Всюду кишмя кишит.
— Здесь пять мешков, там — шестой. Где остальные? Ведь вам привезли восемь?
— На хлеб ушли, — отвечает пекарь и вдруг начинает плакать.
— Покажите хлеб!
Яков подносит початую серую буханку. Разламываю. На изломе торчат черви. Дохлые, неподвижные.
Слезы противно капают с круглых щёк пекаря.
— Семен Иваныч, что ж муку не просеял? Не видел, что ли, чего в печь суёшь? — спрашивает Яков. — На худой конец, просеял бы, чем население травить. Тем паче детишек голодных…
И тут вмешивается продавщица. Медленно, как во сне, говорит:
— Вчерась только к вечеру привезли муку эту. Когда её просеивать, муку‑то? Всю ночь пекли, чтоб к утру продать. Народ‑то который день ждёт.
Наконец во мне созрело решение:
— Дайте тряпку какую‑нибудь. Или газету.
Все трое смотрят с недоумением. Тогда я вытаскиваю свой носовой платок, снова зачерпываю муку с червями, высыпаю в платок, завязываю его концы узлом, запихиваю в карман.
— А решето у вас есть?
— Вот они, две штуки, — указывает Яков куда‑то на тёмную стену.
— Начинайте просеивать муку и печь хлеб. Только так спасётесь. У вас ведь райцентр? Яков, идёмте в райком партии, скорей!
Мы выходим на крыльцо, и я, надрывая горло, кричу людям, что хлеб будет, чистый. Пекарь и продавщица не виновны в том, что им прислали такую муку. А те, кто это сделал, понесут заслуженное наказание. По закону.
Кричу и вижу: женщины с детьми расходятся, толпа редеет.
Тем не менее Николай закрывает за нашими спинами дверь, навешивает замок…
Пыльными проулками Яков проводит меня сначала к райкому, где по раннему часу, кроме дежурного, никого нет. Заставляю дежурного позвонить первому секретарю. Тот соглашается принять меня дома.
Дом находится здесь же, по ту сторону маленькой площади, за высоким сплошным забором.
Пока я стучу в запертую калитку, Яков вдруг бессильно садится в пыль, приваливается к забору, говорит:
— Ты весь в муке, стряхнись. А я к нему не пойду.
Звенят цепочки, щёлкают засовы. Калитка приоткрывается, и толстая, квадратная женщина впускает меня в узкое пространство перед другим забором, чуть пониже. Здесь по проволоке бегает, гремя цепью, овчарка. Пока женщина придерживает свирепо лающего пса, через вторую калитку прохожу во двор, где стоит рубленый бревенчатый дом, напоминающий форт из романов Фенимора Купера.
Минут через двадцать тем же путём меня выводят обратно. За спиной снова гремят засовы, звенят цепочки.
Яков вяло встаёт из пыли, старческое лицо его за это время совсем осунулось, глаза потухли.
— Ну как? — спрашивает он. — Хотя бы знает, что творится?
— Знает. Говорит, все население — контрреволюционный элемент, у всех оружие. Немецкое. И ещё с гражданской войны. Говорит, вызвал по телефону войска. Роту автоматчиков на мотоциклах. Будут разоружать, арестовывать… Хотел ему показать муку — даже смотреть не хочет. Спрашивал, откуда я, кто меня сюда привел…
— Вот как… — медленно цедит Яков. — Ну, тогда, корреспондент, ясно дело. — Он слепо смотрит на солнце, на выжженный горизонт. — Теперь тебя за это самое место тоже возьмут, драпай, парень, тебе ещё жить надо…
Лишь сейчас сознание опасности в полной мере доходит до меня. А ведь я ещё не рассказал старику, что секретарь пытался оставить у себя на столе мои документы, спрашивал: как долго знаком с Яковом, врагом советской власти?
— Видишь взгорок? — Яков показывает в пустынный конец проулка, за которым полого поднимается белый холм. — Бежи. За ним плешина. Туда к десяти из Сталинграда прилетает самолёт, почту привозит. Моли, чем хочешь, лётчика, чтоб увёз. Все отдай, чтоб только увёз, понял?
— А как же вы?
— Мне уж все едино… Тикай, парень. — Яков резко толкает меня в плечо. — Бежи!
— До свидания, Яков, попаду в Сталинград — добьюсь правды! Скажи всем: виновных накажут, муку пришлют.
Поворачиваюсь, ухожу без оглядки. В сухой траве стрекочут кузнечики, а мне уже кажется: приближаются мотоциклы. Не чувствуя разбитых ног, взбираюсь на холм, вижу с его вершины площадку с шестом, на котором обвис полосатый, словно тело осы, матерчатый конус. Под шестом лежит женщина, рядом с ней бумажный мешок.
Спускаюсь, сажусь рядом на землю. Это — почтальонша. Она ждёт почты.
…Гул возник непонятно откуда. В небе не видно никакого самолёта. Автоматчики?
Вскакиваю на ноги и только теперь замечаю чёрную точку. Она стремительно увеличивается, делает круг. Это «У-2».
Самолет снижается, и вот он уже катится по неровному грунту. Вовсе не чёрный, а зелёный, выгоревший.
Летчик сначала выбрасывает свой мешок, затем вылезает сам, вместе с почтальоншей укладывает её мешок в кабину, расписывается в тетрадке.
А затем начинается моё унижение. Ни документы, ни жалкие мои трёшки и пятёрки — ничто не действует.
— Инструкцией не положено, — отвечает пилот и с загадочной улыбкой добавляет: — А если б мог, всё равно не взял бы.
Он уже собирается залезать в машину, когда почтальонша говорит:
— Илюха, этот малый сегодня двух людей от смерти спас. Сама видела.
Пилот секунду стоит молча. Затем произнёс все с той же улыбкой:
— Ладно. Сам напросился. Если что — я не отвечаю.
Сзади него, за его сиденьем, есть второе. Он усаживает меня на него, затягивает ремнём.
Шест с конусом, почтальонша, холм, станица — все это откатывается, уменьшается. Мы летим.
Я лечу! Первый раз в жизни между землёй и солнцем в пространстве неба.
Пилот защищён от ветра плексигласом, а меня ветер бьёт в лицо. Упругий ветер, странный ветер. Этот ветер душит, набивает лёгкие каким‑то дурманом… Еще секунда — я потеряю сознание.
Пилот оборачивается, что‑то кричит сквозь прерывистый рокот мотора, снова оборачивается, снова кричит.
— Отклонись, — наконец разбираю я и последним усилием воли отклоняю голову вправо. Забортный ветер теперь грозит оторвать мою башку, но, кажется, становится легче.
Вскоре впереди по лету нашей машины замечаю длинное извилистое сверкание, трубы заводов, крыши. Да это Волга, Сталинград!
Летчик сажает самолёт на окраине, возле трамвайного круга. Вытаскивает меня из машины. Подводит к столбу у трамвайной остановки, прислоняет к нему.
— Ты уж прости. Вчера сусликов травил. Мешок с дустом как раз сзади лежал…
Стою и смотрю, как разбегается, взмывает в небо «У-2», первый мой самолёт.
А потом я неделю хожу с узелком с мукой и червями по сталинградским учреждениям. И одновременно пишу статью.
Как‑то утром секретарша вызывает меня к главному редактору.
Он усаживает меня в боковое кресло. Затем, выдвинув ящик стола, достаёт мои скреплённые скрепкой листочки.
— Ты что, с луны свалился? У тебя была тема: «Уберем урожай быстро и без потерь». А ты что привёз?.. Кстати, читал это ещё кто‑нибудь?
— Нет.
— Копии есть?
— Нет.
— Где черновик?
— Порвал.
Редактор вынимает спички и, содрав скрепку, начинает сжигать лист за листом, держа их над корзиной для мусора.
Горит пламя. Горит статья.
— Характеристику я тебе подписал хорошую. Возьмешь у секретарши. Немедленно бери билет, мотай обратно в Москву. Из Степановской уже звонили, интересовались. И из обкома тоже. Чтоб сегодня же духу твоего не было здесь!
— Почему?! Что я такого сделал? Из Москвы гонят спасаться сюда, отсюда — в Москву. Из Степановской тоже беги… Неужели вы не верите? Всё, что я написал, — правда. А вы сжигаете.
— Верю. Потому и жгу.
Статья догорела. В кабинете летает пепел. Редактор открывает окно, садится рядом со мной, сильно трёт ладонями лицо.
— Мне пятьдесят шесть. Наверное, не доживу. А тебе надо.
— Что надо?
— Дожить. Выжить.
— До чего дожить? Что у нас происходит?
— Представь себе, в данных условиях штурмом сделать ничего нельзя. Это — трагедия. Не только твоя. Эта история тебя, конечно, сломает. Ничего, не помрёшь. Я ведь из рабочих, до войны сварщиком был. Если стальной стержень лопнет и его сварить — он становится крепче всего на месте прежнего излома.
Мы сидим молча, два человека среди оседающего пепла.
В Москве пытаюсь все с тем же узелком прорваться в ЦК партии, в Президиум Верховного Совета к товарищу Калинину. На меня смотрят как на сумасшедшего.
В конце концов как‑то вечером, идя по Каменному мосту, я оглядываюсь, вижу, что рядом никого нет, и выбрасываю узелок в Москву–реку.
Глава семнадцатая
Надо же было так случиться, что в многомиллионной Москве на улице судьба снова столкнула меня с Игнатьичем. И при каких обстоятельствах!
В тот день пришлось испить ещё одну горькую чашу — в последний раз идти на студию, рассчитываться, забирать в отделе кадров свою трудовую книжку и получать сто пятьдесят рублей в бухгалтерии за сценарий «Поздравления».
Вроде бы пора уж было привыкнуть к унижению, неудачам, из которых складывалась, казалось, вся жизнь. И все‑таки это последнее посещение киностудии навсегда (я знал это) отбрасывало от способа воздействия на мир, нравящегося больше всех остальных.
Шел длинным коридором к отделу кадров, шёл мимо дверей с табличками — названиями снимающихся кинокартин, кивал тем, кто, опустив глаза, кивал мне, и, прекрасно понимая, что эти будущие кинокартины — одна чуть лучше, другая хуже — все делаются по ложным принципам, обрекающим их на бессилие, на мотыльковый век, тем не менее ловил себя на мысли: «А может, позвонить Дранову? Чтоб вмешался. Или Нурлиеву?»
В отделе кадров я расписался и получил из рук женщины с пустыми глазами синенькую трудовую книжку, где было выведено: «Уволен по п.1, ст.33 КЗоТ РСФСР (по сокращению штатов)».
Когда шёл в бухгалтерию, встретилась Наденька.
— Господи, мне сказали, вы здесь. Артур, надо бороться! По крайней мере, они должны вас трудоустроить.
— Скучное слово, Наденька. От него воняет безнадёжностью. Обождите, если можете.
Зашел в бухгалтерию, предъявил паспорт, получил в кассе гонорар и двадцать восемь рублей окончательного расчёта. «Если фильм зарубили, он не пойдёт, с какой же стати платят за сценарий?» — мысль мелькнула и ушла.
Захотелось на прощание угостить Наденьку. Мы спустились в так называемый «творческий буфет», я усадил её за столик, а сам прошёл к стойке, взял у буфетчицы две чашки кофе, два стакана апельсинового сока, четыре пирожных.
Повернувшись от стойки с нагруженным подносом в руках, заметил в буфете Гошева.
Гошев стоял у прохода между столиками, разговаривал с нарумяненной, обвешанной бусами и цепочками редакторшей:
— Еще два года назад собственными руками зарубил бы этот сценарий. Я вас понимаю, Виолетта Владимировна, но сейчас, если сверху дают добро, — почему не пропустить? — Я прошёл рядом, я слышал эти слова, видел эту циничную, плотоядную ухмылку. — Извинитесь перед автором, напишите другое редзаключение. Получится плохой фильм — не мы будем виноваты, хороший — нам галочка. Ну, пока. Меня дней десять не будет — я лечу в Мексику представлять картины на фестиваль.
Это «лечу в Мексику» особенно задело меня. Даже поразился, как задело.
Гошев ушёл. А я все сидел, машинально помешивал ложечкой сахар в кофе. Наденька опять говорила о том, чтоб не волновался, что у неё есть знакомый юрист, она пойдёт к нему, узнает, а я все думал о том, почему так резанула эта Мексика. Зависть? В конце концов я и сам успел побывать за границей лет десять назад. К тому времени вышли две книжки стихов, приняли в Союз писателей и тут же включили в состав делегации, выезжавшей по линии ЦК комсомола в Болгарию.
Это была самая настоящая заграница. Даже родное Черное море казалось там, у Бургаса, совсем иным. И горы. И городки с черепичными крышами и длинными вязанками красного перца, свисающими вдоль балконов; и София, где на каждом углу под яркими тентами можно было сидеть, пить кофе, разглядывать прохожих, чужую, бурлящую жизнь… Я не был бы самим собой, если б в ту поездку не случилось приключения, какое бывает не с каждым… Циничная, наглая сволочь летела в Мексику представлять мою страну, мою Родину.
Наденька вдруг привстала.
— Артур, вы, по–моему, побледнели.
— Это по–вашему… Сегодня день не постный? Тогда почему не едите пирожные?
— Спасибо. Между прочим, звонила мать нашего Игорька, просила показать фильм. Ох, зачем я вам все это говорю?..
— У вас есть их телефон? Давайте запишу. Надо заехать, объяснить ситуацию.
— Это мой Костя, когда принесёт двойку из школы, говорит: «Мам, опять ситуация…» Артур, Нина рассказывала, что постоянно встречает вас в лаборатории. Вы тоже стали туда ходить?
— Занимаюсь. А что?
Наденька вздохнула, потом с горячностью выпалила:
— Дьявольщина! Убеждена: все это дьявольщина, Артур. Боюсь, погубите свою душу. Там изучают всякие «глубины сатанинские», как в Писании говорится. Нина мне рассказывала. Но она, хоть и хороший человек, вся в гордыне. А вы‑то? Вас‑то что там прельщает? Ну что вы смотрите? Дура? Артур, по–моему, вы не слышите меня, не видите. А я всегда рядом. С вами…
— Знаю, Наденька, знаю. Должен идти. Что теперь вы делаете?
— В подготовительном периоде к полнометражной картине — «Частная жизнь токаря Сергеева». Производственная тематика. — Наденька погасла. Лицо её стало таким же пепельным, как и её красивые, поднятые кверху волосы. — Артур, прошу хотя бы об одном, умоляю: не ходите в вертеп. «Блажен муж, иже не идёт в совет нечестивых…»
Я грустно улыбнулся. Спорить с Наденькой на эту тему, да ещё здесь…
— Спасибо. Подумаю.
Но вовсе о другом думал я, уходя с места своей бывшей работы. Не о киностудии, не о Наденьке думалось.
В прошлый четверг на занятиях в лаборатории Маргарита вырвала у меня согласие зайти к ней в гости якобы для какого‑то очень важного дела, и теперь я направлялся в район Рижского вокзала, где она жила. И не о Маргарите думал я, шагая по морозным солнечным улицам. Как часто со мной бывало, вскользь брошенная фраза, в данном случае — фраза Наденьки о производственной тематике фильма «Частная жизнь токаря Сергеева», запустила поток мыслей о том, почему, как правило, не удаются фильмы, спектакли, связанные с трудом рабочих. Почему вообще не сбывается формула Маяковского: «Социализм — свободный труд свободно собравшихся людей»?
Я, человек, чьи стихи и проза столько лет, десятилетия не печатались, чьи сценарии гробились на корню, только что лишившийся последней работы, шёл среди прохожих, думая о том, что изделие роковым образом отчуждено от рабочего и, даже зная предназначение какой‑либо изготовляемой детали, тот вовсе равнодушен к тому, куда она попадёт. Сколько ни пропагандируй рабочего, ни заинтересовывай материально — не хлебом единым жив человек. Какие возможности ему предлагают за труд, кроме хлеба и вещественных благ? Кино, телевизор, массовики–затейники в клубах? Какой выбор остаётся у этих людей, вообще какова степень их свободы? Тем не менее детали, которые делает рабочий, наверное, необходимы?
Вот о чём мучительно думал я, пока, выходя к площади Рижского вокзала, не увидел на тротуаре и на мостовой возле стоянки такси увеличивающуюся на глазах толпу. Оттуда слышались какие‑то возгласы. Если бы меня не обогнал милиционер с перекинутым через плечо переговорным устройством, я непременно обогнул бы это место. Оставалось всего лишь перейти площадь и войти в первый из трёх высоких белых корпусов возле эстакады, у которой стояла, сверкая золотым крестом, церковь.
Но молоденький милиционер в полушубке с погонами, в валенках, оснащённых галошами, уже норовисто вклинивался в густую толпу, откуда громко, как‑то слишком громко для человеческого голоса раздавалось:
— Время истекает! Братья и сестры! Покайтесь! Покайтесь, кто не крещён — немедленно креститесь! Храм рядом — рукой подать. Так же близко до Страшного суда!
В этот момент из‑за широкой милицейской спины я увидел Игнатьича. В руках его был новенький оранжевый мегафон.
Среди испуганных, смеющихся, недоумевающих лиц синеглазое, доверчиво открытое лицо Игнатьича поразило.
На полшага опередив милиционера, я ухватил проповедника за локоть.
— Идемте скорей!
— Куда? — спокойно улыбнулся Игнатьич.
Я так и не понял, узнал он меня или нет. Я было потянул его вон из толпы, но тут же милиционер вырвал из руки Игнатьича мегафон, схватил его за другую руку.
— Гражданин, пройдёмте!
— На каком это основании?! — вмешался я.
— Не твоё дело. Расходитесь. И вы расходитесь, граждане.
Моя рука молнией метнулась во внутренний карман пальто, и перед лицом милиционера появился несданный пропуск на киностудию, на красной обложке которого золотой краской был оттиснут орден Ленина.
— Нарушал общественный порядок, — выдавил из себя милиционер. Обе руки его были заняты. Одной он крепко держал Игнатьича, другой — мегафон и поэтому при всём желании не мог раскрыть пропуска и даже понять, какую организацию представляет неожиданный прохожий.
— Киностудия. Идет репетиция эпизода из фильма. Понятно?
— Тогда другое дело. — Милиционер отпустил Игнатьича, а мегафон отдал мне. — А вы кто будете?
— Режиссер. Тут написано. — Я уже уводил Игнатьича сквозь расступающуюся толпу. Милиционер мог опомниться в любую минуту, тем более кто‑то сзади растерянно спросил:
— А где же кинооператор?
К счастью, вереница свободных такси стояла вдоль тротуара. Я впихнул Игнатьича на заднее сиденье первой же машины, втиснулся за ним и бросил шофёру:
— Вперед!
— Куда вперёд? — обернулся немолодой, благообразный водитель в форменной фуражке.
Я назвал свой адрес.
— Только потому, что артисты, — недовольно буркнул таксист, трогая с места машину. — Смена кончается, я ещё в баню хочу попасть, пивка попить. Другой край Москвы, всегда так получается.
И тут неожиданно заговорил Игнатьич.
— Баня — дело хорошее. Особенно — духовная баня покаяния. Сегодня же, после работы, сядь, успокойся, вспомни про совесть и подумай, какой ты на самом деле внутри себя, чего по–настоящему хочешь, сдери с себя все личины, хоть раз глянь в истинное лицо свое… А после крестись, если не крещён.
— Ну и артист! — перебил водитель. — Некогда мне дурью заниматься.
— Справедливо сказано, — подхватил Игнатьич. — Грянет Страшный суд — с чем предстанешь? Времени совсем мало осталось. Дурью заниматься некогда. Вот и пустит тебя Господь в распыл.
— Вы это серьёзно? — на миг обернулся таксист.
Из синих глаз Игнатьича струилась несокрушимая вера.
Таксист проехал ещё немного, потом тормознул у тротуара.
— Вылезайте!
— В чём дело? — спросил я.
— К чёртовой матери! Ездят тут — настроение портят! Вылезайте!
Я решил не связываться. Вышел с мегафоном в руках. Следом вышел и Игнатьич, перекрестив напоследок обалдевшего водителя.
И вот такси уехало, и мы оба стояли друг против друга на полдороге до моего дома.
— Ну а вы, милый человек, разобрались в самом себе, покаялись? Больно суровое у вас лицо, а ведь радоваться надо! В бедах своих виноваты мы сами. Бог тут ни при чём. Он даровал человеку свой, божественный атрибут — полную свободу воли. И все смотрел, как мы, люди, ею распорядимся… Вот и довели все до безобразия. Веками стирали образ Божий с земли, с себя, с детей своих. Но скоро после Страшного суда все это восстановит Бог для тех, кто покаялся и крестился, пришёл ко Христу. Потому и радоваться надо, что мало ждать осталось. — И тут же, без всякого перехода, Игнатьич спросил: — У вас случаем не найдётся двух копеек? Вон как раз автомат.
Пока Игнатьич звонил, я, стоя с мегафоном в руке, настороженно оглядывался. Я не представлял себе, что дальше делать с этим человеком. Страшно было за него. Страшна была его кликушеская уверенность в приближении события, подводящего черту под историей человечества. И в то же время меня необыкновенно привлекало органическое единство между словом и делом Игнатьича. Такое завидное единство могло быть доступно только гению. Или же психически больному. Но что есть психическая болезнь? Ведь и Ван Гога считали сумасшедшим…
Игнатьич вышел из телефонной будки весёлым.
— Оказывается, здесь Трифоновская рядом! Знакомые собирают на квартире добрых людей для беседы, хотите пойти?
— Я ведь был! — вырвалось у меня. Я понял, что при всей симпатии к Игнатьичу не хочу, не могу больше слышать про Страшный суд, прибывающий по известному Игнатьичу расписанию. — Когда это случится? — на всякий случай спросил я.
Игнатьич придвинулся и шепнул в ухо:
— Через три с половиной недели — двадцать восьмого февраля.
— Откуда все‑таки вам это так точно известно?
— Если ползать по картине — увидишь только комья краски, ну, линию, точку. Больше ничего. Чтоб увидеть картину, понять её, милый человек, нужно отойти, подняться над ней. Тогда откроется красота, смысл. И ещё скажу. — Игнатьич снова придвинулся к уху, загадочно прошептал: — Во всей Вселенной человек — единственное живое существо, ставящее вопрос о смысле жизни…
Я вздохнул и буркнул, отдавая мегафон:
— Знаете ли, не надо ходить по улицам с этой штукой. Кто вам дал?
— Надежда — добрая душа, — просиял Игнатьич.
— Можете подвести не только себя, но и Наденьку, — жёстко сказал я. — А у неё ребёнок.
— Фома неверующий, — все так же ласково улыбнулся Игнатьич, — я ведь объяснил вам: уже и времени‑то не осталось кого‑нибудь подводить… А то, что сегодня вырвали меня из когтей дьявольских, — это вам зачтётся, очень скоро.
— Ладно. До свидания.
— Воистину до свидания. При иных обстоятельствах, — поклонился Игнатьич и добавил, поудобнее пристраивая ремешок мегафона на плече: — Теперь хоть вам ясно, что есть труба архангельская?
У меня голова пошла кругом. Я смотрел вслед удаляющейся высокой фигуре, пока та не свернула за угол.
Очнувшись, подумал, что на мне висит какое‑то обязательство, какое‑то дело. Потом вспомнил. Вошел в ту же будку автомата, позвонил сначала Маргарите, извинился за то, что опоздал.
— Это к лучшему! — затараторила она. — Всё не случайно. Я сейчас убегаю, за мной приехали. Артур, умоляю вас, приходите в четверг часа в три. У нас будет вдоволь времени, и я вам скажу самое главное. А потом мы вместе поедем в лабораторию. Заметано?
— Хорошо. — Я повесил трубку, достал бумажку с телефоном, который дала Наденька, и набрал номер.
Мать Игоряшки была дома.
— А у меня смена в шесть начинается, к двум конец, теперь уж пятый. Игоря нет ещё, на продлёнке. Все просит: «Мам, позвони на студию». Да и нам охота кино поглядеть — всей родне, все ж таки слух прошёл: «Игоря засняли». А когда, по какой программе запустят?
— С вашего разрешения, я к вам приду сегодня, всё объясню. Удобно часам к восьми?
— Очень даже! Пироги испеку! Любите с грибами?
Я записал адрес и пошёл в сторону дома, понемногу согреваясь от ходьбы. По пути заходил в магазины, складывал в приобретённый пластиковый пакет сливочное масло, творог, бутылки с кефиром, хлеб. В магазине «Мясо» давали сосиски. Когда, простояв за ними в очереди, вышел на улицу, уже зажглись фонари. Второй раз отстоял очередь в аптеке к отделу готовых форм, купил для Игоряшки две упаковки витамина С с глюкозой, потом подъехал в переполненном троллейбусе к «Детскому миру», вышел оттуда ещё и с длинной яркой коробкой — набором деталей для сборки модели планера.
Деньги таяли быстро.
Помятый в очередях и транспорте, усталый, подходил к дому, думая с отчаянием, что опять круг замкнулся, ничто не изменилось. Но все‑таки ощущение поворота, сдвига с мёртвой точки теплилось вопреки всей логике событий.
Мало того, даже войдя в квартиру и увидев, что у матери опять приступ давления, она лежит, постанывая от головной боли с мокрым полотенцем под затылком, — даже тогда я сознавал: что‑то должно произойти, теперешняя суета вокруг неё — кипячение воды для грелки, лихорадочные поиски клофелина в ящичке для лекарств, набрасывание вдобавок к одеялу пледа на ноги — все это чем‑то отличается от уже много раз бывшего.
— Только «скорую» не зови, — тихо промолвила мать. — Не хочу в больницу. Хочу уснуть.
Я сел рядом, осторожно водил руками вокруг её головы, вымывал боль, вымывал, вымывал.
И мать уснула.
Осторожно приподнял её голову, забрал полотенце и пошёл в кухню перекладывать продукты из сумки в холодильник.
Надо было поесть. Но я не чувствовал ничего, кроме разбитости.
Лежал на тахте в своей комнате с открытой дверью, прислушивался — не стонет, не зовёт ли мать? — и отчётливое предощущение каких‑то событий, которые изменят жизнь, нарастало, поднималось, как волна.
Встал, чтоб позвонить матери Игоряшки и сказать, что не смогу прийти.
Так редко бывает: когда снял трубку, там уже был голос.
— Будьте любезны Артура.
— Слушаю, — сказал я, недоумевая, почему не раздался звонок.
— Это я.
— Кто? — спрашивая, уже догадался, не смел поверить.
— Аня. Анна Артемьевна. У вас не найдётся времени встретиться? — Голос был все тот же — глубокий, певучий.
— Когда?
— Хоть сейчас, Артур. Я не кажусь вам назойливой? Уже не первый раз звоню с той же просьбой.
— У меня мама заболела, — сказал я и почувствовал себя мальчиком. — Можно я позвоню вам через несколько часов?
— А что с ней? Я не могу чем‑нибудь помочь?
— Спасибо. Позвоню позже. — Положил трубку, тронутый её сочувствием, недовольный собой — тем, как резко, даже вроде грубовато прервал разговор.
«Господи! — думал я, расхаживая по комнате. — Горе — муж погиб, сын в тюрьме… Что я за человек?!»
Показалось, что на кухне звякнуло. Прислушался. Потом выбежал из комнаты.
Мать как ни в чём не бывало стояла у плиты, ставила на горячую конфорку кастрюлю с компотом.
— Ты что это делаешь?
— А я себя хорошо чувствую! Поспала немного — как рукой сняло. Спасибо за продукты. Я сегодня выходила и тоже, представь себе, достала сосиски. А что на студии? Что теперь будешь снимать?
— Пока не ясно. Подряд не бывает.
Она глянула своими проницательными карими глазами, но только вздохнула.
— Забыла сказать, тут звонили днём. Во–первых, женщина, кажется, назвалась Анной Артемьевной, потом некая Маргарита, и ещё — Галя с Машенькой.
— Спасибо. — Я вспомнил об Игоряшке, глянул на часы — было без четверти восемь. — Ты действительно себя хорошо чувствуешь? Обещал заехать к одним людям… ненадолго.
— Езжай… — И вдруг безнадёжно махнув рукой, она добавила: — Никогда вместе не поужинаем, сколько мне жить осталось…
— Мама!
— Извини. Просто вырвалось. Не беспокойся. Телевизор посмотрю, компот сварится. Езжай.
…Я сидел в опустевшем вагоне метро со своей коробкой сборного макета планера. Чем ближе к «Текстильщикам», тем меньше становилось пассажиров.
«Вместо того чтоб мчаться к Анне Артемьевне, Ане, Аня — так она сказала, неизвестно зачем еду к Игоряшке. Дурацкая обязательность».
Против меня, ухватившись одной рукой за верхний поручень, а другой держа у глаз раскрытую книгу, стоял здоровенный парень.
Мне всегда было любопытно, что читает человек, что интересует людей, жадно поглощающих информацию с газетных листов, со страниц книг и журналов. Сколько я мог заметить, как правило, это были детективы и фантастика. Но чаще всего почему‑то читали роман Кронина «Звезды смотрят вниз» или же «Сестру Керри». Проходили годы, десятилетия, а «Звезды» и «Сестра Керри» — потрёпанные, рыхлые библиотечные экземпляры продолжали путешествовать в метро и наземном транспорте.
Книжка у парня была новенькая, в мягком коричневом переплёте. Названия было не разглядеть. Смирившись с этим фактом, я отвёл было взгляд и внезапно увидел: вокруг руки, держащейся за поручень, полыхает синее пламя. Пальцы, кисть, далеко высунувшаяся из рукава куртки, — всё было окружено ярким синим пламенем. Я не мог оторвать взор. Так и сидел, глядя снизу вверх.
Парень что‑то почувствовал, оторвался от чтения, недоуменно глянул на меня, переменил руку. Мелькнуло название книги — Д. Даррелл, «Сад богов».
Забегая вперёд, нужно заметить, что я так никогда и не смог привыкнуть к явлениям подобного рода. Видимо, привыкнуть к ним вообще невозможно. Одним из свойств этих явлений было то, что они разом отсекали все заботы будней, приводили к глубокой отрешённости.
…В таком состоянии я вошёл в квартиру, где жил Игоряшка со своей матерью.
— Все ж таки дошли, доехали! Девять часов! Мы уж думали, что случилось! Заходите, раздевайтесь. Меня звать Наташа, Наталья Петровна, а вас как величать?
— Артуром. — Я снял пальто и кепку. Игоряшка забрал их и уволок куда‑то, потому что на вешалке не было места.
Наталья Петровна ввела в комнату. Я в недоумении при–остановился. За празднично накрытым столом пировала большая компания.
— Вот, знакомьтесь — все наши родичи, а это он самый, режиссёр кино Артур, не знаю, как по отчеству, да вы садитесь, садитесь вот сюда, во главу стола!
— Дядя Артур… — раздался шёпот за спиной.
Я обернулся и снова вышел в переднюю к манящему меня Игоряшке.
— Дядя Артур, они не знают, и мать тоже. Я не сказал.
— Про что?
— Ну, как свалился. Про этот обморок.
— Спасибо, дружок. Кстати, — я взял приставленную к стене коробку с моделью, отдал, — это тебе. И пожалуйста, залезь в карман моего пальто. Там витамины.
— Дядя Артур, а вы не можете меня ещё разик завести? — Мальчик нагнул голову с торчащими вихрами. Я коснулся пальцами тёплого темечка и стал «заводить».
«Безотцовщина», — думал я с болью. Этот маленький человек, покорный и доверчивый, стоящий сейчас передо мной, нуждался в участии. Не столько витамины нужны были ему, сколько мужская дружба.
— Ну, чего это вы здесь делаете? Гость пришёл, все ждут, а ты его держишь. Идите за стол, картошка простынет. Как вы такого растрёпу снимали? Артист, перед хором поёт, а в парикмахерскую силком не загонишь.
…От чугунка с картошкой шёл пар. На столе была разделанная селёдка, шпроты, пироги с грибами; в мисках грудились солёные огурцы, капуста. Наталья Петровна сбегала на кухню и принесла из холодильника открытую баночку с красной икрой, которую поставила передо мной.
Наталья Петровна, два её брата со своими дородными жёнами, Игоряшкин дедушка с многострочной колодкой орденских лент, аскетически худой парень Женя с разбитной Тамарой — работницей того завода, где Наталья Петровна убирает цех, — все они притихли, сковались, чего‑то ждали от гостя, прервавшего своим появлением шумную трапезу. Даже телевизор, на экране которого шёл хоккей, был выключен.
Давно мне так не хотелось есть, и, пожалуй, давно я не был в таком ложном положении… Правда, вспомнилась поездка по Москве в правительственном лимузине…
Я решил признаться, что фильм зарубили, что я уже не кинорежиссёр, но, к моему изумлению, уста произнесли следующее:
— К сожалению, не имею возможности показать фильм с Игоряшкой. Фильм предназначен только для показа в соцстранах 1 мая.
В сущности, это тоже была правда. Но другая. И она устроила всех. Зазвякали рюмки, вилки, вновь помчались по экрану хоккеисты.
Я наконец тоже принялся есть. С сокрушением размышляя, как же это вышло, что сказал совсем не то, что собирался сказать. Такого я за собой раньше не замечал.
Оживившись, компания, видимо, чтоб занять гостя, начала задавать вопросы: знаком ли я с тем или другим артистом? Худой Женя, подстрекаемый своей подружкой, следил, чтобы рюмка у меня была полна, Наталья Петровна всё время подкладывала угощение. Обе её дородные золовки интересовались, сколько денег получает киноартист, а их мужья допытывались, за кого в хоккее и в футболе я болею.
Когда же выяснилось, что не болею ни за кого, это вызвало предельное удивление.
— Как это? — воскликнул один из них, на лице его с длинными бачками пылал нездоровый, багровый румянец. — Каждый болеет. Все должны за кого‑нибудь болеть!
— Почему вы так решили? — миролюбиво спросил я. — Если б я сам был футболистом или играл в хоккей, я бы, естественно, болел за свою команду. А так, глазеть, как другие играют, не заниматься спортом, наживать при этом больную печень, стенокардию…
— Откуда вы знаете, что у меня больная печень и стенокардия?!
Я был изумлён не меньше, чем собеседник.
— Так сказал, для примера, — поспешил замять я разговор.
— Но у меня вправду жёлчнокаменная болезнь, операцию предлагают. И стенокардия! — взволновался человек с бачками. — Как вы узнали?
— А он, наверное, этот, экстрасенс! Их сейчас много развелось, в газетах пишут, — вмешалась Тамара. — А вы вот не скажете случаем, что у меня болит.
Такого поворота событий я никак не ожидал. Я был в замешательстве.
— Братцы, вы что? Я ничего не умею, просто случайно совпало. — Я говорил, и при этом совершенно отчётливо крепло знание: у Тамары в правой груди опухоль, чуть ниже соска. Я встал. — Извините, мне давно уже надо позвонить.
Телефон висел в передней. Сперва позвонил домой, поговорил с матерью, убедился, что она себя сносно чувствует, затем раскрыл записную книжку, чтобы найти номер телефона Анны Артемьевны.
— А может, вы все‑таки скажете, что со мной? — как‑то жалко улыбаясь, подошла Тамара.
Эта улыбка, эти неумело подкрашенные тушью глаза не могли скрыть беды. Той, что переживают в одиночку… Я встретился с ней взглядом. Захлестнула волна сочувствия. И я решился.
— Видите ли, мне кажется, вам следует записаться на рентген, проверить правую грудь… — Дорого стоило мне каждое слово. Ведь все это могла быть игра воображения, чушь.
— Ой, а что там — злокачественное, рак? Дергает уже неделю, в подмышку отдаёт. — Глаза Тамары глядели моляще…
— Не знаю. Просто нужно сделать рентген правой груди.
— Не правая у меня. Левая.
— Левая? — На секунду я задумался. Ну конечно, левая! Она же сидела напротив. — Тамара, я не врач, ничего в этом не понимаю, честное слово. Что вам стоит сделать рентген, чем раньше, тем лучше. Сейчас это лечат.
Я заставил себя снова отвернуться к телефону. Может быть, это и выглядело жестоко, но мне больше нечего было сказать. И Тамара ушла к столу.
— Анна Артемьевна, не поздно звоню? Четверть одиннадцатого.
— Нет. Я ждала.
— Я не из дома, я в районе Текстильщиков.
— Текстильщики?.. А можете подъехать на метро по кольцу к «Проспекту Мира»? И я вас встречу.
— Где?
— Снаружи. У выхода.
— Хорошо. Буду там не раньше, чем минут через сорок. — Я положил трубку, столь же поражённый тем, что она назначила встречу так далеко от собственного дома, сколь и тем, что только что из уст Тамары получил подтверждение тому, что казалось чистой игрой воображения.
Неделю назад Йовайша задал такое упражнение: сидеть с прямой спиной, расслабленно. Закрыв глаза, сосредоточиться на верхней части собственного мозга. Первые два дня упражнений не дают никакого эффекта, кроме тяжести в голове. На третий сознаю, что вижу сноп золотистого света. Этот свет пробивается внутри головы откуда‑то справа. В следующие дни он возникает и слева.
После упражнения свет исчезает, но голова остаётся ясной.
Что же это за свет такой необыкновенный? Я уже знаю: если спрошу Йовайшу, тот снова загадочно улыбнётся, толком ничего не ответит. Вечная моя трагедия: желание знать и бессилие познать.
Кроме носового платка с червивой мукой и некоторого жизненного опыта (а ведь меня за тем и посылали — учиться у жизни) я привёз в Москву ещё и характеристику. На бланке с грифом областной газеты напечатано:
«2 августа 1952 г.
ХАРАКТЕРИСТИКА
Студент Литературного института Артур Крамер в течение двух месяцев проходил практику в редакции нашей газеты. За это время т. Крамер участвовал в литературной правке материалов, опубликовал пять корреспонденций и очерк. Язык этих материалов, разработка тем — интересны.
К недостаткам практики т. Крамера следует отнести тот факт, что после командировки в глубинный район он привёз статью, из которой видно недостаточное знание вопросов сельского хозяйства».
С этой бумажкой прихожу к началу учебного года в институт и узнаю в канцелярии, что я переведён на заочное отделение с обязательством в месячный срок устроиться на работу и предоставить справку.
Выйдя из канцелярии, сразу напарываюсь на руководителя моего семинара, лауреата Сталинской премии. Тот швыряет в урну окурок, тащит меня за угол коридора, шепчет:
— Хотели совсем вышибить. Большего я для тебя сделать не мог. Теперь выкарабкивайся сам, добро?
— Добро‑то добро. Да куда меня возьмут? С неоконченным образованием. После школы…
— Мой тебе совет: срочно уезжай из Москвы. В провинции грамотных нехватка, запросто устроишься в какую‑нибудь газетку, теперь это тебе знакомо, будешь приезжать на сессию, отчитываться стихами на семинарах. Стихи‑то привёз?
— Привез.
Он отыскивает пустую аудиторию, закрывается там со мной. Со стен смотрят портреты классиков — Сервантес, Грибоедов, Лермонтов…
Сейчас мне не до стихов. С трудом вспоминаю написанное до поездки в станицу Степановскую. Чем дальше читаю, тем нетерпеливее барабанит мундштуком папиросы по столу мой руководитель. Обрываю чтение.
Тот закуривает.
— С нового года я назначен редактором журнала. Толстого. Хотел бы тебя напечатать. Талантливо, искренне. Да кому это нужно? Ты вот только что был на практике. Лесополосы видел?
— Видел.
— На строительстве Волго–Дона был? Поля пшеницы видел? Газеты читаешь?
— И газеты читаю, и поля видел. Но видел и кое‑что другое.
Он задумчиво разглядывает меня сквозь дымок папиросы, произносит:
— У каждой собаки своя шерсть. К гладкошёрстным ничего не пристаёт, а есть лохматые, всякий репей цепляют.
— Вы что, собаку завели?
Спрашиваю по простоте души. Но в глазах его это дерзость, нарушение рамок наших отношений. Встает, направляется к двери.
««Молодая гвардия?. Орган Курского обкома и горкома ВЛКСМ — Крамеру.
Уважаемый т. Крамер! Вакантных мест в редакции нет. С приветом, зам. редактора Приваленко».
«ЦККН Украины — А. Крамеру.
В редакциях республиканских, областных и многотиражных газет, выходящих на русском языке, нет незамещённых вакансий. Зам. зав. отдела пропаганды и агитации Лазебник».
««Красноярский рабочий? — Крамеру.
Вакантных мест нет».
Кто счастлив от этих стереотипных отказов, так это мать.
— Пока жива, с голода не умрём. Никуда не надо ехать — пропадёшь. С понедельника начну работать на полторы ставки.
До того как рассылать запросы во все концы Советского Союза, я, конечно, пытаюсь устроиться здесь, в Москве. Не берут, даже нормировщиком на завод, даже учеником токаря: «Зачем нам заочник Литературного института?» А скрыть своё студенческое положение я не могу, потому что нужна справка именно в институт…
Каждый новый конверт с отказом доламывает. Уходя в предрассветный мрак на работу, мать вместе с завтраком оставляет деньги на день и записку: «Не волнуйся. Всё будет хорошо».
Мне двадцать лет. Я думаю о смерти.
Однажды ночью появляюсь на Красной площади.
Часы таинственно отбивают четверть. Таинственно звучат мои шаги по брусчатке. У Спасской башни подхожу к часовым.
Те было насторожились. Но я поднимаю руку, делаю круговое движение ладонью.
Часовые засыпают.
Прохожу в Кремль, иду по его территории, глядя на единственно светящееся окно. Подхожу к дворцу, мановением руки усыпляю охрану. Бегом поднимаюсь по устланной коврами лестнице.
Отворяю тяжёлую дверь приёмной. Из‑за столика вскакивает секретарь. Моя рука совершает круговое движение. Секретарь уснул.
Вхожу в кабинет.
Сталин с трубкой в руке стоит у большого стола, на котором расстелена карта Советского Союза.
— Иосиф Виссарионович, — говорю я, вынимая свой узелок и выкладывая его на карту, — у нас ведь социализм?
И с ужасом вижу, что вся карта покрыта шевелящимися, ползущими червями. Они свисают со стола, падают на ковёр.
Перевожу взгляд на Сталина. Тот, ласково улыбаясь, поднимает руку, делает круговое движение…
Утром будит телефонный звонок. Один из таких же заочников, как я, говорит, чтоб приехал в редакцию «Московского комсомольца», где он работает. Мне дадут задание написать очерк о строительстве стадиона в Лужниках.
Так открывается новая стезя. Становлюсь внештатным корреспондентом то «Московского комсомольца», то «Лесной промышленности», то «Водного транспорта», то «Советской торговли».
Задания разовые, гонорары мизерные. Зато институт удовлетворён справками. Я постоянно в пути. Участвую в перегоне самоходных барж по системе Волго—Балта из Черного моря в Балтийское, обличаю воров торговой сети Вологды, вместе с лесниками иду в дальневосточной тайге на браконьеров…
Смерть Сталина застаёт в Москве. У газетных киосков длинные очереди. С Огарева до Красной площади близко. Приспущен флаг над куполом Большого Кремлевского дворца. Равнодушно топчутся голуби на брусчатке. Трибуны возле Мавзолея завалены снегом. Солдат раздаёт желающим деревянные лопаты. Беру. Счищаю снег с гостевых трибун. Рядом со мной трудится маленький китайский лётчик. Он плачет.
Размеренно бьют куранты.
Глава восемнадцатая
…И вот я ехал в трубе метропоезда. Который мчался на колёсах в сквозных недвижных трубах тоннелей.
Теперь, стоило настроиться, приглядеться, я видел синее сияние вокруг державшихся за поручни рук. Оказывается, оно окружало и головы людей.
В этот час народа в вагоне было мало. Я сидел, разглядывал сидящих напротив меня пассажиров. Особенно явственно сияние возникало на фоне чёрного вагонного окна на перегонах между станциями.
Вокруг головы немолодой женщины в красной вязаной шапочке сияние было неровным. Слева больше, справа его почти не было.
Чуть поодаль, наискось от меня, сидела парочка, видимо студенты. Парень держал девушку за руку, что‑то нежно говорил ей. Я взглянул поверх их голов. Два не синих, а прозрачно–золотистых сияния сливались в одно. Любоваться этим неземным золотом хотелось бесконечно, радуясь счастью этих двух людей…
Парень глянул ревниво, и я снова перевёл взгляд на женщину в красной шапочке. Отчего ж у неё было такое несимметричное свечение? И тут я понял, догадался: болит голова.
У неё болит голова, правый висок. И лицо бледное. И морщится.
Нужно было сделать то, что я делал с матерью: дать рукам почувствовать энергию и вымыть этой энергией всё то чёрное, что, подобно облачку грязи, стояло в правой половине её мозга, в виске.
Я успел лишь подумать об этом, как из рук, из кончиков пальцев, полился ток энергии — ощутимо, мощно…
Но мыслимо ли было здесь, в вагоне метро, подойти к незнакомому человеку?
И тотчас же, будто кто‑то сказал, голос возник не в ушах — прямо в уме: «Делай это на расстоянии, вообрази, что протянул руку к ней…»
Настороженно повёл головой вправо, влево… Рядом никого не было.
Я взглянул на женщину. Одной рукой она придерживала хозяйственную сумку, другой потирала правый висок.
Закрыл глаза, усилием воли воскресил в воображении лицо женщины, сконцентрировался на нём, «увидел» грязное облачко справа в мозгу и, представив себе собственные руки, протянутые к этой голове, стал вымывать энергией грязь… Сколько прошло времени? Минута? Две? Закружилась голова, вспотели ладони.
Я снова глянул на женщину. И столкнулся с её взглядом. Она смотрела в упор. Порозовевшее лицо недоуменно улыбалось.
Вскочил с места, прошёл к двери и, как только поезд остановился, вышел.
Это оказалась «Белорусская». А ведь мне нужно было выйти на «Проспекте Мира», где ждала Анна Артемьевна. Я проехал две остановки.
Перешел на противоположную платформу, сел в поезд и поехал назад.
Но если можно так, на расстоянии, воздействовать на человека, почему бы не попробовать помочь Тамаре с её опухолью? Само это предположение настолько ошеломило, что я был не в состоянии сейчас же, немедленно заняться Тамарой. Да и перспектива опять проскочить «Проспект Мира», застрять в бесконечности этой кольцевой линии… Я вспомнил, как один ныне знаменитый на весь мир академик рассказывал, что в молодости, не имея квартиры, сделал своё знаменитое открытие и расчёты к нему, именно кружа весь день по кольцевой в вагоне метро…
Поднимаясь эскалатором к выходу с «Проспекта Мира», я был уже абсолютно уверен, что такое воздействие на расстоянии реально. Доступно мне. И таким образом, возникает головокружительная, ни с чем не сравнимая возможность тайно оказывать помощь людям.
Эта тайность, анонимность была настолько мила, что я впервые почувствовал, что наконец‑то выхожу на что‑то своё, присущее мне чуть ли не с детства.
Я был до того захвачен этими мыслями, этим своим открытием, что, когда вышел из метро и увидел расхаживающую под фонарями Анну Артемьевну, словно очнулся.
А она уже быстро шла навстречу — большая, статная, в дублёнке и пыжиковой шапке с опущенными ушами, что неожиданно делало её похожей на девочку.
— Где вы пропали? Я замёрзла. — Она окинула меня взглядом, вдруг ухватилась за край пальто. — А где пуговицы?
Я улыбнулся. Вспомнил, при каких обстоятельствах лишился этих пуговиц, и только махнул рукой.
— Нет. Так нельзя. Ходите в мороз в распахнутом пальто, в кепке. Взгляните: хоть один мужчина ходит сейчас в кепке? — Она быстро говорила, быстро вела меня куда‑то к краю тротуара.
— Куда мы идём?
— Нет, вы сначала покажите мне хоть одного мужчину в кепке! Вы, Артур, безумный человек.
Но безумной казалась она.
Обойдя припаркованные возле тротуара синие «жигули», Анна Артемьевна вынула из сумочки ключи и отперла дверцу.
— Давайте погреемся, я страшно замёрзла, честное слово.
Она вошла в машину, пригнулась, открыла другую дверь и, когда я сел с ней рядом, вдруг сняла с себя ушанку, бросила на заднее сиденье и стала расстёгивать «молнии» на сапогах.
— Анна Артемьевна, вы же совсем замёрзнете, — сказал я, видя, что она стягивает с себя сапоги.
— Ждала вас здесь больше часа. Приехала. Боялась отойти от выхода из метро, чтоб не пропустить… — Она включила двигатель, засветился приборный щиток, загудела печка. Волны тёплого воздуха, смешанные с тонким запахом духов, обволокли меня.
— Простите, задержался. Да ещё проскочил «Проспект Мира». — Захотелось поделиться всем, что произошло в гостях у Игоряшки, в метро, но я подумал: «У неё своё горе, от этого она такая взвинченная», и сказал:
— Анна Артемьевна, я ведь всё знаю, мне Нина рассказала.
— Ни слова об этом. Умоляю: ни слова. Имейте в виду, Артур, если бы ничего не случилось, ни–че–го, я бы вас всё равно нашла, позвонила. Я без вас жить не могу.
Некоторое время мы сидели молча. Стало жарко. Я спросил:
— Можно чуть опустить стекло?
— Пожалуйста, — быстро ответила Анна Артемьевна. — Вам плохо со мной? Можно открыть дверь и уйти. Все можно.
Я повернулся к ней, крепко обнял за плечи, притянул к себе.
— Не надо. Не трогайте меня. — Она вырвалась, отшатнулась. — Думаете: красивая баба, сама набивается… Я вас на самом деле люблю, понимаете это? Мне без вас невозможно.
— Анна Артемьевна, Аня, вы серьёзно? Не надо этим шутить… — Схватил её за руки и, чувствуя, как слезы горячо прожигают глаза, проговорил: — Я ведь уже не верил, что это мне достанется в жизни.
У меня свело горло.
Она мягко высвободила одну руку, достала из сумки платочек, стала утирать мои слезы.
— Ну что ты? Ну не надо. Теперь тебе будет хорошо. Теперь я буду с тобой. Ты простишь меня, что я была не с тобой, ладно?
— Конечно, конечно, — повторял я, пытаясь унять слезы.
— Ты ведь сразу меня узнал, скажи, тогда, у меня дома, да?
— Да. — Я отобрал у неё мокрый платок, утёр глаза и лицо. — Прости. Видно, я был здорово одинок и вот — сломался. Давай куда‑нибудь поедем.
— Почему куда‑нибудь? Погоди, я тебя пристегну. — Она перегнулась ко мне надеть ремень безопасности, прижалась, губы её прикоснулись к щеке, поцеловали. — Ну вот, теперь ты в плену, да, милый?
Мы ехали по проспекту Мира и дальше, от центра, по Ярославскому шоссе в темноту зимней ночи. Промелькнула будка ГАИ на кольцевой.
Кое–где по заснеженному шоссе качались круги от фонарей, затем опять была темнота. Несколько встречных машин ослепили огнями фар — и снова ночь, ещё безлюдней, ещё темнее.
— Отчего ты не спрашиваешь, куда мы едем?
— Можешь остановиться хоть на минуту? Кажется, у меня сейчас разорвётся сердце.
Машина встала у обочины. Я вышел.
В небе гроздьями висели созвездья. Вдыхал чистый студёный воздух. Все это было неправдоподобно: смёрзшиеся заледенелые сугробы вдоль шоссе, мёртвая тишина, и эта машина, и смутные очертания женского лица за стеклом… Единственное, что было реальным, — это звезды. Я вспомнил давнюю южную ночь, мраморную плиту, свой юношеский восторг перед тайной неба.
— Замерз? — спросила Анна Артемьевна, когда я сел в машину и мы поехали дальше.
— Нет. А вот ты? Почему ты без сапог?
— Не беспокойся. На мне толстые шерстяные носки. А летом вообще вожу машину босая — люблю. Тебя это шокирует? Расскажи что‑нибудь.
— Что?
— Что хочешь.
И пока мы ехали, я рассказал о том, как был сегодня вечером у Игоряшки и его мамы, заодно и об истории с «Первомайским поздравлением», о Тамаре и её опухоли, о пассажирке в красной шапочке, о своём открытии в метро. Поймал себя на том, что хочется выговориться, что давно, в сущности, очень давно не с кем было поделиться всем сокровенным, чем жила и мучилась душа. Хотелось, чтоб этот рейс в неизвестность длился бесконечно.
Свернули с шоссе, медленно поехали по скользкой обледенелой дороге. Я понял, что ей трудно вести машину, и умолк.
— Я ничего в этом не понимаю, — отозвалась Анна Артемьевна. — Но и без этого ты — чудо. Сразу увидела, когда ты впервые пришёл.
— Я тоже.
— Что тоже?
— Что на самом деле чудо — это ты.
— Я ведь серьёзно, а ты — комплименты. Я обыкновенная женщина, Артур. Между прочим, снова пошла работать, уже неделю преподаю математику. В школе.
Проехали лес, потом за деревьями показалось покрытое льдом озеро, спящие домики на его берегу, снова лес. Осыпанные снегом сосны стояли недвижно.
Дорога пошла влево, а мы свернули по узкой просеке и подъехали почти вплотную к забору, за которым виднелась рубленная из брёвен изба с высокой крышей.
…Только когда был расчищен снег и машина въехала на участок, когда была отперта дверь и в печи затрепетал, загудел огонь, только тогда я спросил:
— Ты ещё раньше знала, что мы приедем сюда?
— Хочешь сказать, откуда я была уверена, что ты захочешь поехать со мной, да? Так вот, не была в этом уверена, признаюсь тебе. Помнишь, когда я позвала, и ты второй раз приехал, и мне было очень плохо, а ты, ты даже не поцеловал, ушёл, помнишь?
— Аня, но ведь тогда…
— Не надо. Не надо об этом. — Она стояла в накинутой на плечи дублёнке с поленьями на руках. — Вот, пожалуйста, подкладывай в печку, а я возьму из багажника сумку с продуктами.
— Аня, ты тоже прости меня. Пойми. — Я принял поленья.
И вот теперь, когда были заняты руки, она сняла с меня кепку, отбросила куда‑то, погладила по голове, потом притянула к себе.
— Дурачок, я всё понимаю, ты просто порядочный человек, а мы, женщины, отвыкли.
Она вышла.
Я сидел на низком табурете перед печью, подкидывал поленья, смотрел на огонь… «А ведь как обмануло предчувствие. Тогда, уходя от неё, был убеждён: больше не увижу… И вот я тут. И все сейчас будет. Как в кино, как в романе».
Стукнула дверь.
— Не оборачивайся. Пожалуйста, не оборачивайся, ладно?
За спиной звякнула посуда, что‑то шелестело, чиркали спички, снова звякало. Потом стало тихо. Но вот послышались шаги. Ближе, ближе. Теплые руки обняли, подняли с табурета, развернули.
Анна Артемьевна стояла передо мной в чёрном платье, в туфлях на высоких каблуках.
Я рванулся к ней, но Анна отступила, оттолкнула.
— Подожди, подожди! Неужели ты так не чуток, что не понимаешь? Я вот переодевалась для тебя, а сама думала, как это все, наверное, пошло в твоих глазах — свидание, дача, баба, которая привезла тебя на машине. Словно какое‑нибудь австрийское кино! Все это ужасно, милый, ужасно.
— Но почему австрийское? — проговорил я, поражённый тем, что она уловила мои мысли, и добавил: — А знаешь, ты сказала — и я тебя за это ещё больше люблю.
— Давай ужинать, — перебила Анна.
На столе на белой скатерти в шандале горели свечи, освещающие два прибора, бутылку с вином; рюмки, тарелки с красной рыбой, нарезанным сыром, лимоном.
— Надеюсь, ты голоден?
— Очень.
…Я проснулся среди ночи оттого, что показалось, будто рядом кто‑то ходит. Но нет, Анна спала рядом. Это потрескивал, согреваясь, дом.
Повернул голову, посмотрел на печку. Дырочки чугунной дверцы то наливались малиновым жаром, то гасли. Вдруг наплыло — вспомнилось раннее детство, довоенный дом во Втором Лавровском, печка–голландка…
Подумал, что, наверное, нужно подложить дров, и только хотел встать, как нежная рука обняла за шею, притянула.
— Со мной, — сонно пролепетала Анна. — Всегда со мной.
— С тобой, — проговорил я и тоже обнял, не выдержал, стал яростно целовать плечо, груди…
Потом, откинувшись, она вдруг спросила:
— Тебе в самом деле хорошо?
— Очень.
— Тогда что тебя беспокоит?
— Ничего.
— Но я чувствую. У тебя завтра что‑нибудь срочное в городе?
— Единственное — мать наверняка очень волнуется. Здесь, конечно, нет телефона?
— Вот видишь, я же знаю, чувствую тебя. Но всё будет хорошо, теперь спи спокойно.
Засыпая, я подумал: недавно кто‑то тоже говорил: «Всё будет хорошо». Но кто говорил, так и не вспомнил.
…Сквозь неплотно задёрнутые шторы било солнце. Какое‑то мгновение лежал, хлопая ресницами. Вдруг ощутил: Анны нет рядом. Приподнялся. Ее не было и в комнате.
Встал, подошёл к окну, раздвинул шторы и зажмурился. Слепило солнце, слепил снег. Это было торжество весны света.
Вышел в сени, где висел рукомойник, увидел дверь в соседнюю комнату, приоткрыл её — пусто.
Тогда толкнул другую, обитую войлоком дверь, шагнул на крыльцо. Машины не было.
Лишь вернувшись в тепло комнаты, увидел на зеркале, висящем в простенке между окнами, помадой выведено: «Доброе утро! Поехала на работу. Буду к восьми. Целую тебя. Не скучай».
Странно было видеть себя, взлохмаченного, сквозь эти красные буквы.
На прибранном столе стоял прибор для завтрака, термос и тут же на виду демонстративно лежала, раскинув уши, пыжиковая шапка… Я надел её, вдохнул тонкий аромат духов. Потом снял, бережно повесил на гвоздь в стенке. Зверски захотелось есть, как давно не хотелось. Но сперва я умылся холодной водой из рукомойника, причесался, провёл тыльной стороной ладони по щеке и понял: к вечеру буду совсем небритым.
В термосе оказался горячий кофе, в холодильнике были масло, сыр, яйца, вчерашняя красная рыба.
Позавтракав, решил пойти поискать магазин: нужно было, по крайней мере, купить свежего хлеба. Да и парикмахерскую не мешало найти. Взял с тумбочки часы, чтоб надеть на руку, изумился — пять минут двенадцатого… Так поздно я ещё никогда не вставал.
Быстро оделся и обратил внимание — пуговицы на пальто пришиты. «Почти всю ночь не спала, когда же она успела?» — думал я, привычно нахлобучивая кепку и спускаясь с крыльца.
Ключей не нашёл, поэтому оставил дом незапертым.
Шел в солнечной тишине, нарушаемой лишь скрипом снега под ногами. Издалека навстречу по узкой тропинке двигались гуськом люди, целая череда. Девушки в платках и курточках, старушки с бидончиками, мужчины. Некоторые вели за руки детей.
Подумал было, что пошёл не в том направления, но первая же старушка, к которой я обратился, закивала:
— Верно идёшь, милок. Так и шпарь, дорожка сама к магазину выведет, а там дальше и автостанция будет.
Разминувшись с этой многочисленной чередой, пошёл дальше, уже совсем один на этой тропе среди блистающего снега. Впереди мыском выступал лес. Удивительно было видеть сейчас, в январе, яркую зелень сосновых лап, выглядывающих из‑под висящих на них сугробов. Мощные стволы бронзовели на солнце.
Тропа обогнула лес и вдруг вывела к церкви. На фоне синего неба и леса небольшой деревянный храм сиял золотом креста.
Возле ограды храма, у калитки, стоял зелёный «запорожец» с раскрытыми дверцами. Какой‑то человек, опираясь на палку, нервно прохаживался рядом.
Когда я поравнялся с ним, из калитки быстро вышел священник в чёрной рясе с серебряной цепью и большим крестом на груди. Великолепная лепка высокого лба, умное лицо с побитыми сединой бородой и усами поразили. Но больше всего поразил внимательный, казалось, всепонимающий взгляд, лишь на миг, на долю секунды столкнувшийся с моим взглядом.
И всю дорогу до магазина я испытывал чувство, что не туда иду, что необходимо вернуться, познакомиться с этим человеком, поговорить с ним…
В «стекляшке» возле автостанции купил хлеба и, увидев в мясном отделе тощих цыплят («Только что с птицефабрики, парные», — сообщила продавщица), попросил, на свою беду, завернуть четыре штуки.
Кирпич чёрного, батон белого да мокрый расползающийся свёрток с цыплятами — нести все это в руках на морозе стало сущим испытанием. Возле храма уже никого не было. И калитка была закрыта.
На полдороге я запоздало сообразил, что возле автостанции наверняка можно было бы найти телефон, позвонить в Москву, матери. Досада охватила меня. Идти назад со своим грузом я уже не мог. Жалея, что не поискал в доме сумки, хотя бы авоськи, что связался с этими цыплятами, хоть зашвырни их в лес на съедение волкам, я наконец дошагал до ограды дачи, толкнул ногой калитку, и только тут вся моя ноша разлетелась по снегу.
…Даже когда я уже жарил этих цыплят на газовой плите, установленной в сенях, и потом, когда носил в дом из‑под навеса наколотые дрова, когда растапливал печку, ощущение досады не проходило. Я вспомнил, что из‑за своей покупки не поискал парикмахерскую.
Эта комната, с её шторами, ковром на полу, букетом сухо–цветов в большей вазе на буфете, полками, где сплошь стояли книги по вычислительной технике и математике, была царством Анны.
В поисках какого‑либо прибора для бритья я вошёл во вторую комнату. На одной стене висел чёрный костюм для подводного плавания, на другой — яркий иностранный плакат. В книжном шкафу среди десятка–другого учебников лежали гантели, боксёрские перчатки. На письменном столе валялась пыльная гора магнитофонных кассет. Тут же пребывал и портативный японский магнитофон с наушниками.
Я выдвигал один за другим ящики письменного стола. Авторучки, фломастеры, спутанные мотки лесок, рассыпанные рыболовные крючки, коробки с засохшими акварельными красками, несколько медицинских шприцев.
Задвинув нижний ящик, выпрямился и увидел прямо перед собой на полочке электробритву. Рядом стояла стереооткрытка с подмигивающей японкой.
Я отыскал розетку, включил электробритву. Круглое зеркальце висело рядом с плакатом. Бреясь, думал о том, что эта комната явно принадлежит Боре, её несчастному сыну.
«Boris Smirnow» — крупными латинскими буквами почему‑то было напечатано на плакате с изображением громадного чёрного быка, которого закалывал изящный тореро в расшитом золотыми блёстками костюме.
Я добрился, вычистил бритву, положил её на место и вышел, плотно закрыв за собой дверь. Это были два разных мира — та комната и эта — комната Анны.
Здесь мне было по себе.
Печь разгоралась. Я придвинул к ней кресло с подлокотниками и долго сидел, бездумно глядя в огонь. Ощущение счастья поднималось, как поднимается тёплое море вокруг тебя, когда ты входишь в него…
«Всё будет хорошо», — сказала Анна. Впервые я поверил этому. Поверил в реальность происходящего. Что бы там ни было, а сейчас я сидел перед этой печью, в этом доме и ждал женщину, такую женщину, о которой и не смел мечтать… И она любила меня. Это было как незаслуженная награда. Неизвестно за что.
С другой стороны, в этой благоустроенной даче, в том, что у Анны была автомашина, крылось опасное для меня искушение. Я не мог не думать о том, что все это богатство заработано Гошей. Никогда не мечтал ни о даче, ни о машине. Они мне были ни к чему. Кроме того, все‑таки странным казалось, что Анна так быстро кинулась ко мне. Сразу после такой трагедии. А может, я просто одичал и уже не мог понять порыва естественного чувства.
Я решил честно рассказать ей о своей жизни, обо всей своей жизни, чтоб она знала, с кем связывается, с каким неудачником… И сделать это сегодня же вечером. Чтоб не было никаких иллюзий. И если она примет меня таким, как есть, искренне примет, тогда… видеть её каждый день, быть с ней…
За окнами давно уже сгустились синие сумерки.
Я ходил взад–вперёд по ковру. Переполняло желание немедленно сотворить что‑нибудь полезное, доброе. И тут вспомнил о своём вчерашнем открытии, когда ехал в метро, о Тамаре, её опухоли.
И опять, едва подумал об этом, в руках загудело, заструился из пальцев ток. Всегда это было чудом. С удивлением глянул на свои ладони, потом сблизил их и, разводя, вдруг отчётливо увидел в воздухе розоватые полосы, которые протянулись между пальцами. Снова и снова сближал кончики пальцев правой и левой руки, разводил, и каждый раз в воздухе оставалось что‑то похожее на розовую тельняшку, на нотные линейки розового цвета…
Я заставил себя вернуться к мыслям о Тамаре. Сидя в кресле с закрытыми глазами, не без труда воскресил в своём воображении её облик, её накрученную в разные стороны причёску, встревоженные глаза, услышал хрипловатый голос, даже интонацию, с которой она молила: «Скажите, злокачественное или нет?»
Руки лежали ладонями вверх. «В самом деле, злокачественное? Рак? — подумал я, продолжая усилием воли удерживать в закрытых глазах Тамару. — Или просто доброкачественное?»
В этот момент в центре ладони левой руки как бы сильно кольнуло.
«Доброкачественное? Обыкновенная опухоль?» — мысленно переспросил я.
И тотчас снова сильно кольнуло. Как подтверждение. Как ответ.
Я был ошеломлён. Некоторое время сидел замерев. Затем снова воскресил в умозрении Тамару и задал вопрос: «А может, рак?»
Ладонь «молчала», только струился из пальцев поток энергии. «Значит, доброкачественное?»
Это было похоже на укол или на разряд статического электричества…
Каким‑то образом получились ответы на вопрос!
Осмыслить это открытие, хоть как‑то объяснить его себе я был не в состоянии.
Тихо постреливали дрова в печи.
Вышел на крыльцо. Постоял в темноте, остывая. Вопросительный знак Большой Медведицы чётко мерцал в небе.
…Было начало восьмого, когда, вернувшись в комнату, я стал убирать чёрное пятно опухоли из груди Тамары. Самое трудное состояло в том, чтобы ни на миг не выпускать из умозрения эту индивидуальность со всеми её характерными признаками, с хрипотцой голоса, подкрашенными глазами, и эту её левую грудь с припухлостью под соском. Вот она, под рукой, эта припухлость; оттуда как бы торчала колючая проволока, задевала ладонь…
Со стороны это было дикое зрелище. Взрослый человек сидел с закрытыми глазами и яростно орудовал рукой, протянутой в пустоту. То что‑то выдёргивал из этой пустоты, то что‑то плавно выгребал пальцами, вычерпывал… Иногда ладонь совершала вращательные движения.
Сильно вспотели руки. Я уже знал по своему небольшому опыту, это сигнал к окончанию работы.
Я выдохся. Тем не менее хватило сил ещё раз сконцентрироваться на больной, посмотреть грудь. Черного пятна под соском вроде не было видно.
Лишь теперь, открыв глаза, позволил докатиться до себя ледяной волне скептицизма: «А если все это лишь игра моего воображения?»
Снова свёл и развёл в стороны ладони с растопыренными навстречу друг другу пальцами. Розовые полоски, правда теперь уже более бледные, висели в воздухе, таяли…
«А может, мне просто показалось, что у той тётки в красной шапочке болела голова, и я мню, будто её вылечил? — думал я, моя руки под рукомойником. — И здесь — то же самое. Но с другой стороны, каким образом увидел вчера, что у Тамары опухоль?»
Вытирая руки полотенцем, глянул на часы, спохватился: четверть девятого! Анна могла прийти с минуты на минуту. Водрузил чайник на огонь, стал разогревать цыплят, нарезал хлеб, вынул из буфета и поставил на стол чистые тарелки. Отыскал в холодильнике баночку аджики к цыплятам… Делая всё это, прислушивался: не застучат ли шаги на ступеньках крыльца, не скрипнет ли дверь в сенях.
И только решил одеться и выйти за ворота встречать, как услышал: длинно сигналит автомашина. Раз, другой, третий.
Не накинув пальто, вылетел наружу, побежал навстречу слепящему сквозь штакетник забора свету фар. Открыл ворота.
Но машина не двинулась с места.
Анна открыла дверь. Я сел рядом. Пушистый белый платок мешал целовать её.
— Едешь, видишь — в окнах дома свет. И там — ты. Удивительно, да? Будешь смеяться, но я, честно говоря, так устала, так хочу спать — нет сил даже въехать на участок, надеть сапоги.
— Нет проблем, — я стал надевать ей сапоги. — А машину затолкаю руками.
— Спасибо, милый. Давай все же несколько метров прокатимся вместе.
Въехали за ворота, Анна вышла, отперла багажник. Я взял оттуда сумку. И мы поднялись по ступенькам крыльца.
— Как у тебя тепло! — говорила она, пока я снимал с неё платок, дублёнку и, усадив в кресло, теперь уже стягивал сапоги. — Как ты думаешь, где я была сегодня?
Сидел на ковре у её ног, смотрел вверх на её лицо, на слипающиеся сонные глаза.
— Не будешь сердиться, да? Я позвонила, а потом приехала к твоей маме. Не беспокойся, она себя прилично чувствует. Она — прелесть. Привезла ей кое–какие продукты. Возьми, там в сумочке бумажка — кто тебе звонил. А пока, если ты не против, немножко посплю, можно?
Я приподнял её с кресла, перевёл на тахту, уложил.
— В шкафу плед, прикрой меня.
Нашел плед, укрыл её, как укрывал совсем недавно мать. Погасил свет в комнате.
…Анна уже спала. Ее лицо, освещаемое отблесками пламени из печки, было таким детским и таким усталым… «Чего ей стоит пережить, нести в себе всю эту трагедию… Где теперь Боря — в тюрьме? В психбольнице на экспертизе? Да и раньше ей было несладко». Я помнил её глаза, застланные слезами, обращённые на меня… И вот при всём том поехала к матери, купила ей продукты… Сжалось сердце. Если б мог сделать её счастливой, служить ей… Но как?
Открыл сумочку, вынул записку.
«Сыночек, звонили из Союза писателей, просили срочно прийти. Еще — Галя с Машенькой, у них есть новости. И опять некая Маргарита. Целую. Мама».
Я встревожился. Годами Союзу писателей не было до меня дела… Взгляд упал на лицо спящей Анны. И тревога ушла. Чего мне теперь бояться?
В лаборатории каждому из нашей группы раздали по пакетику семян элитной пшеницы и по две чашечки Петри — маленьких стеклянных блюдечка. Дома на следующее утро кладу на дно этих блюдечек бумажные салфетки и отсчитываю в каждое по пятьдесят зёрен.
В одно из блюдечек подливаю обыкновенной воды из‑под крана и помечаю красным фломастером. Это — контрольное.
В другое наливаю той же водопроводной воды. Потом возбуждаю в руках поток энергии.
Чашечка с зёрнами, едва покрытыми влагой, стоит передо мной на столе. Закрываю глаза, представляю себе изумрудное поле всходящей пшеницы, мягко греющее солнце, голубое небо. Начинаю облучать ладонью эти зерна, это чудо. Ведь в каждом целиком заложено будущее растение, в потенции в каждом уже есть множество зёрен — эстафета в будущее, хлеб человечества.
Чувствую, как льётся энергия из центра ладони, из кончиков пальцев. Ласково провожу ладонью над семенами, стряхиваю энергию, будто солнечный дождь. Потом ставлю чашечку на правую ладонь и опять делаю левой те же движения, не теряя из виду тёплое солнце, изумрудную озимь… Опыт длится всего три–четыре минуты.
Остается поставить эти чашечки на полку в книжный шкаф.
Через пять дней вижу: в контрольной пустили корешки лишь несколько семян. В опытной — все окутано сильными белыми корнями, кое–где торчат бледно–зелёные росточки.
После смерти Сталина не погасло Солнце. И Земля не сбилась со своей орбиты.
Прошел XX съезд партии. К 1980 году Никитой Сергеевичем Хрущевым обещан коммунизм.
А я по ночам в нашей коммунальной кухне читаю Ленина. Читаю подряд все краснотомное собрание сочинений, оставшееся от отца.
Столько знакомых цитат, знакомых работ, по которым сдавал основы марксизма–ленинизма, диамат. Но ещё больше таких высказываний о том, каков должен быть социализм, что, опубликуй их сейчас, когда на всех ступенях государственной пирамиды блат, взяточничество, преступность, проституция, продажность милиции, — опубликуй это, и люди поймут: то, что у нас построено, не социализм.
По ночам выписываю ленинские высказывания в общую тетрадь. Зачем это делаю — сам не знаю. Потом лихорадочно начинаю штудировать Маркса. И окончательно запутываюсь. Засыпаю с трудом, с трудом просыпаюсь.
Однажды будит звонок в дверь. Мама давно ушла в поликлинику. Заставляю себя встать, отпереть.
На пороге стоит старик с котомкой через плечо.
— Погостить пустишь? — говорит он, шепелявя, переступает порог. — Папка‑то на работе?
— Отец умер. Четыре года назад, — отвечаю я.
— Вот это учудил! Я живой, а он помер, ну и дела… — Старик опускается на стул, потом поглядывает на меня. — А ведь ты — Артур. Небось, не помнишь, я тебя на коленях качал, пел: «С нами Ворошилов, первый красный офицер…»?
— Дядя Федя?!
— Он самый и есть, дядя Федя Рыбин.
Суетливо отнимаю у него котомку, ватник, готовлю завтрак.
Выясняется, что дядю Федю лишь недавно реабилитировали, и вот он приехал в Москву хлопотать о пенсии в Министерстве социального обеспечения и о месте в каком‑либо доме для престарелых: за время, пока он находился в лагерях, все его родные умерли.
К вечеру приходит мама. Удивительно, она сразу узнала его, обняла.
Пьем чай. Дядя Федя ни на что не жалуется. Днем он сходил в баню, вымылся. Он всем доволен.
И надо же было маме отыскать альбом с фотографиями! Сидим, рассматриваем довоенные снимки. Между страницами альбома вложен чёрный пакет из‑под фотобумаги. И там тоже довоенные фото. Одно из них наполовину обрезано. Остался отец, и на его плече — чья‑то рука.
— А это вот мы с твоим папкой к Первому мая снимались, когда вместе в Реввоенсовете работали, — говорит дядя Федя. — Рука‑то моя, в косоворотке украинской… Белая была, вышитая. На праздники надевал. В ней меня и взяли.
Молчание повисает в комнате. Мы с мамой сидим, не смея поднять глаз. Она плачет.
— Ну, это зря. — Дядя Федя отбрасывает фотографию на скатерть. — Он был настоящий коммунист. А коммунист должен верить своей партии.
Глава девятнадцатая
Я уже не рад был тому, что исполнил обещание и наконец появился у Маргариты.
— От моего взгляда белая мышь умирает за три минуты, — сообщила она, продолжая вытаскивать на пол из нижних ящиков комода груды книг, ксероксов, отпечатанных на машинке работ. — Ваша, Артур, энергетика порядка 600, моя — 900, у Розы Кулешовой было что‑то около ста пятидесяти.
— Ста пятидесяти чего?
— Не помню. Один учёный говорил, он исследовал, измерял фоллиевым аппаратом мой третий глаз. Чёрт возьми, где же эта книга?!
В комнате было грязно, сквозь оконные стекла, видимо не мытые много лет, с трудом пробивалось солнце февраля.
Из второй комнаты в закрытую на задвижку дверь все чаще, все нетерпеливее скреблись, стучались люди, которым Маргарита строго–настрого приказала ждать, пока она будет беседовать с «духовным братом своим Артуром».
Меня покоробило это насильственное обращение в брата, покоробила длинная очередь больных на лестнице перед квартирой Маргариты, где несколько энергичных молодцев в джинсовых костюмах раздавали за пятёрку картонные талончики с номерами. Они ни за что не хотели меня впускать, пока Маргарита не выглянула на площадку.
— Идиоты! Артур, если б я не почувствовала вашего приближения, они, чего доброго, спустили б вас с лестницы. Заходите. Раздевайтесь. А я долечу эту пневмонию, и мы с вами уединимся.
В благоговейном окружении страждущих Маргарита одновременно водила ладонью над грудью тяжело дышащего толстяка и поглядывала на экран телевизора, где шёл видеофильм «Все звезды эстрады».
Закончив лечение, она получила с толстяка двадцать пять рублей, небрежно сунула их в резную шкатулку, назначила ему следующий сеанс через день и, повелев оставшимся смотреть фильм, уединилась со своим «духовным братом».
— Ладно, Маргарита, не ищите, — сказал я. Хотелось уйти отсюда.
— Не знаю, куда подевалась эта книжка. У меня все растаскивают, ничего не возвращают, ужас какой‑то! Отдаю свою энергию половине Москвы, кормлю ораву бездельников, и они же меня обворовывают. Как жаль, Артур, эта книжка вас бы продвинула, многое бы объяснила.
— Что за книжка, в конце концов?
— «Третий глаз».
— А это всё что такое? — указал я на кипы, громоздящиеся на полу возле открытых ящиков.
— Бог знает! Покупаю всё что ни попадя, а прочесть не успеваю. Хотите — поройтесь, а я сейчас зайду, у меня там ещё один нужный пациент, неудобно. Щитовидка. Всего минут пятнадцать. А потом займёмся самым главным, я ведь помню, я обещала.
…Камилл Фламмарион, «Неведомое».
Блаватская, «Тайная доктрина».
«Знаки Агни–йоги» Елены Ивановны Рерих.
Ее же «Иерархия».
«Карма–йога».
«Хатха–йога».
«Жнана–йога».
«Порыв к творчеству» Карагулы.
«Оккультное лечение» Рамачараки.
Сафонов, «Нить Ариадны».
«Магия» Папюса.
Опять Рамачарака — «Основы миросозерцания индийских йогов».
Джон Лилли — «Центр циклона».
Выдранная из «Иностранной литературы» повесть «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха.
Переплетенные лекции целителя Криворотова.
Лекции Спиркина…
Прекрасно отдавая себе отчёт в том, что эта литература наверняка содержит много мути, я все же несколько растерялся. Хотелось бы спокойно полистать хоть несколько книг, разобраться. Но что выбрать из этой груды?
Сатпрем, «Шри Ауробиндо, или Путешествие сознания».
Алиса Бейли — «Посвящение человеческое и солнечное».
Когда рука потянулась за лежащей в стороне обыкновенной канцелярской папкой, вдруг ощутил жар в ладони.
— Этого вы ещё тоже не одолели? — спросил я вошедшую в комнату Маргариту.
— Нет. — Она снова закрыла дверь на крючок. — Надоело! То пневмония, то диабет, то щитовидка. Ну их к чёрту! Давайте лучше научу вас диагностировать. Садитесь напротив меня, вот на этот стул. Да положите папку на подоконник. Что вы за неё держитесь? Хотите почитать — дам хоть насовсем.
Я покорно отложил папку, сел.
— Я диагностирую этим местом, — Маргарита указала острым накрашенным ногтем на своё междубровье. — Как развёртка телевизора, понимаете?
— Нет.
— Ну так смотрите. Это очень легко! — И она стала чуть поводить головой из стороны в сторону, как бы что‑то прочитывая во мне. — Так… Голова в порядке, щитовидка в норме… А вот правое лёгкое чуть задето, то ли простужен, то ли было воспаление… Дальше — пищевод, желудок… Печень не беспокоит?.. Ага, кроме того, сигналят поясничные позвонки — даёт о себе знать радикулит…
— Извините, Маргарита. — Я встал. Было неприятно, что тебя «раздевают». И, кроме того, ни простуды, ни радикулита у меня не было. И печень не беспокоила. А вот голова стала побаливать, о чём я и сообщил.
— Правильно. Я и должна была кругом ошибаться, потому что волнуюсь, — вывернулась из неловкой ситуации Маргарита. — Зато сейчас сделаю вам подарок — на всю жизнь.
Она вдруг дрыгнула одной ногой, другой — туфли разлетелись в разные стороны.
— Садитесь. Вот сюда, поближе, против меня. Теперь скиньте обувь. Поставьте свои ступни на мои, ваши руки в моих руках. Смотрите мне прямо в глаза, не мигая.
Ее чёрные глаза тоже смотрели в упор. Я ощущал сквозь носки тепло её ступнёй, чувствовал тепло её рук с длинными пальцами. Во всём этом было что‑то насильственно–интимное, порочное.
Внезапно лицо Маргариты стало меняться. Слева вокруг головы засветилась оранжевая дуга. Глаза сделались совсем маленькими, как две яркие точки, светящиеся сквозь туман. Когда туман прополз, за ним открылось другое лицо, крайне неприятное, жуткое…
Я отбросил её руки, откинулся на спинку стула.
— Ну что? Что вы видели? — набросилась Маргарита, снова приняв свой обычный вид. — Я лично видела потрясающие вещи!
Она забегала по комнате, разыскивая свои туфли.
— Почему вы молчите? Я видела ваши прежние воплощения! — Она схватила меня, подняла со стула. — Артур, поздравляю, вы — принц голубых кровей!
— Маргарита! Ну что вы несёте?! — Я вырвался из её рук. — Теперь я вам скажу, что я видел: широкую оранжевую полосу вокруг вашего лица, ставшего похожим на лицо какой‑то бабы–яги!
Она вдруг опустилась на диван, сникла.
— Я не знаю, что это такое, то, что я видел. Может, какой‑нибудь эффект аберрации, расфокусировки зрения, может, действительно некое иное измерение… Еще не знаю. Но в чём уверен — так это в том, что вы, человек, который действительно одарён способностью иногда читать чужие мысли, живёте в иллюзии, в придуманном мире. Вот вы диагностировали меня — и все мимо. Уверен, вы никого не вылечиваете, в лучшем случае снимаете боль, а болезнь остается… Да ещё берете за это деньги. По–моему, лечить можно только из сострадания, а не из корысти. Разве я не прав?
Маргарита сползла с дивана, стала на колени.
— Брат мой, ты во всём прав, спаси меня.
Такого оборота дела я никак не мог ожидать. И страшно испугался.
— Встаньте, пожалуйста, ну прошу вас, — я начал поднимать её с пола.
Но Маргарита ни за что не хотела подниматься.
— Брат мой, я пропадаю среди таких идиотов, они стригут купоны с меня, ты даже не представляешь, это — мафия, мафия… Молись за меня!
В этот момент в дверь постучали, за ней раздались какие‑то новые голоса.
Маргарита поднялась, оправляя причёску, вяло прошла к двери, откинула крючок, и в комнату ввалилась компания в шубах, состоящая из одних мужчин, среди которых был Витька Дранов.
— Знакомьтесь, мой брат Артур. — Ей почему‑то нужно непременно представить меня каждому.
— Ты как здесь оказался? — осклабился Дранов. — Чего это ты тут с ней делал запершись? Занимались сверхчувственным восприятием, а?
Компания засмеялась, кроме одного человека с трубкой в зубах. Ему перевели по–английски то, что сказал Дранов, и тот подмигнул мне.
— Представитель крупнейшей американской фирмы, — пояснил Дранов. — Принимал меня в Штатах. А сейчас везём Маргариту в посольство. Хочешь с нами?
— Извини, я занят.
— Почему всю жизнь никак не могу тебя совратить? — на миг задумался Витька. — Помнишь, последний раз ездили в мастерскую художника? Тебе хотя бы понравился портрет?
— Какой портрет?
Дранов вывел меня в другую комнату, где Маргарита спешно одевалась и разгоняла больных, и ткнул рукой на стену, где висел ранее не замеченный мною поясной портрет Маргариты.
Она была изображена в чёрном платье, с летающей тарелкой над головой, сквозь тело просвечивал храм Василия Блаженного…
— Артур, может, все‑таки поедете с нами? — спросила Маргарита, когда мы вышли к автомашинам, стоящим у подъезда.
— Нет. Иду в лабораторию. А откуда вы знаете Дранова?
— Лечила его. От импотенции, — шепнула Маргарита.
— Ну и как?
Вместо ответа она безнадёжно махнула рукой и полезла в «мерседес».
…До чего хорошо было на вечерних улицах! С папкой под мышкой я шагал в февральском снегопаде. Словно сверхочистительный душ густо струился и струился с неба. Голова перестала болеть.
«Даже Булгаков, — думал я, — даже Булгаков при всём таланте и бешеной фантазии не смог бы выдумать такой нечисти. Белая мышь от её взгляда умирает… Бедная белая мышь…» Но не столько сама Маргарита, сколько окружение, вся суетная атмосфера торгашества вокруг её сомнительного дара отвращали… Я с горечью подумал: Маргарита компрометирует в высшей степени серьёзное дело. И таких, как она, должно быть, немало… «В посольство поехали», — думал я с яростью. Возникло то же чувство, которое я испытал, узнав, что Гошев летит в Мексику. Унизительно было сознавать, что эти люди представляют мою страну, стыдно.
Казалось, я, Артур Крамер, ничем не обязан этой стране. По языку, по образованию, по пережитому вместе с народом я был вполне россиянином. Но с детства, со школьных лет, кулаком, издевательскими анекдотами мне напоминали о том, что я еврей. И сделали из меня еврея. Да и учёба в заочном, без стипендии, с постоянной угрозой выгнать «космополита», кроме ранней закалки мужеством, ничего не дала. Образовался я сам, не благодаря институту, а вопреки. И за всё, что случилось дальше, — за бедность, за то, что лучшие, наиболее зрелые мои произведения не были доведены до читателя, до зрителя, — кого я должен благодарить?
В своё время умник Дранов посоветовал: «Возьми псевдоним, играешь без ферзя». Но именно потому, что я с юности понял: единственный настоящий путь — путь наибольшего сопротивления, я отказался от этого компромисса.
Зато навсегда осталась роскошь быть самим собой. Иметь лицо, а не личину.
И тем не менее всё, что я делал, каждая строка и особенно каждый поступок были продиктованы инстинктивным стремлением служить этой стране, её народам.
Той нечисти, которая уехала в посольство, не было никакого дела до страны.
Обычно от подобных мыслей приходило отчаяние. Но сейчас, когда я шёл по заметаемой снегом Москве, оно не наступало. Не наступало, потому что теперь у меня была Анна. И ещё: днём я дозвонился матери Игоряшки, а потом — Тамаре. Выяснилось: опухоль исчезла!
Наталья Петровна подумала Бог знает что, когда я стал домогаться телефона Тамары. «Да она уже занята другим, замуж собирается, за Женю!» Я почувствовал, что падаю в её глазах. Все это было, конечно, смешно, однако я не мог оставаться в неведении. Слишком многое значил для меня вчерашний эксперимент. Пришлось сказать, что Тамара просила связать со знакомым врачом.
Когда наконец дозвонился Тамаре на работу, она тоже сначала была в недоумении, тем более что я и не думал говорить ей о своём вмешательстве. «Как вы себя чувствуете?» — спросил я. Обнаружив, что опухоль не прощупывается, её нет, Тамара разревелась, догадалась: «Это вы! Это все вы. И ночью не дёргало, не болело!»
Я настоятельно посоветовал ей все‑таки пойти в поликлинику, сделать рентген, позвонить мне. Продиктовал номер своего телефона и положил трубку.
Сейчас, вспомнив об этом разговоре, я удивился своим переживаниям по поводу Маргариты и её компании: «Да что мне до этой шушеры в конце концов?»
Чувство, что я несу в себе неразгаданную тайну, возвышало. Там, наверху, над снегопадом, над Москвой, вчера, когда мы с Анной ехали на дачу, гроздьями висели звезды… Вряд ли кто‑нибудь из прохожих, пробивавшихся сквозь зыблющееся от снега пространство, видел их, думал о них…
И тут мне пришла в голову мысль, что я зря звонил Тамаре. Если ладонь действительно давала ответ на вопрос, достаточно было спросить ладонь. Захотелось немедленно проверить, насколько постоянен этот феномен.
Рано утром, когда мы возвращались в Москву, я уговорился с Анной, что она к одиннадцати вечера подъедет за мной в лабораторию. Теперь, когда я ещё только шёл туда, когда до занятий оставалось больше часа, я решил узнать по ладони, дома ли она. И тут же позвонить.
Наверное, поразмыслив, можно было бы найти и другие поводы для столь необычного эксперимента. Я не осознавал, что просто успел соскучиться.
Войдя в ближайшую будку–автомат, водрузил на железную подставку у телефона папку со взятой у Маргариты книгой, растёр замёрзшие руки. Затем, закрыв глаза, легко воскресил в своём воображении лицо Анны, мысленно задал вопрос: «Анна сейчас дома?»
Ладонь отозвалась тотчас. Словно что‑то щёлкнуло в её центре.
Монеты двухкопеечной не нашлось. Кинул в щель автомата гривенник и набрал номер.
— Как хорошо, что ты позвонил, — раздалось в трубке. — Я так рада!
— Но откуда ты знаешь, что это я? Это рискованно, так сразу отвечать…
— Да ведь я чувствую тебя, я же говорила. Где ты? Я звонила твоей маме, она беспокоится. Ты обедал?
— Обедал.
— Но это ложь.
— Ложь, — весело согласился я.
— Послушай, но ведь так нельзя — лгать. Ты ведь меня никогда не будешь обманывать, да?
— Я и сейчас не обманываю — сознался.
— Так поешь где‑нибудь, обещаешь? А деньги у тебя есть? Кстати, имей в виду, ты, кажется, очень разбогател.
— Я? Интересно, каким образом?
— А это пока секрет.
— Анна, слушай меня внимательно, очень серьёзно. Ни сейчас, ни в будущем не вздумай меня каким‑то образом финансировать. От этого мне будет только плохо. Ты должна это понять.
— Понимаю, милый. Очень. Но в данном случае тебе не о чем тревожиться. Ты разбогател сам. Без меня.
— Этого быть не может. В чём дело?
— Ну потерпи. Неужели тебе самому не интересно потерпеть?
— Аня, подойди к окну, взгляни, какая метель. Может, тебе лучше не заезжать за мной? А уж о поездке за город и думать нечего.
— Нет уж, я за тобой приеду. Ты меня не лишишь этого удовольствия, да? А что касается куда после — надо что‑то решать вместе. Хотя мне бы хотелось, чтоб ты решал сам… По крайней мере, моя квартира и дача — твои.
Я хотел было возразить, сказать, что ни в коей мере не могу пользоваться тем, что связано с её мужем, но Анна перебила:
— А ты помнишь, что тебя вызывали в Союз писателей? Ты был там?
— Ох, Аня, невероятная история. Увидимся — расскажу.
— Рассказывай сейчас!
— Потерпи. Мы же увидимся через четыре часа. Неужели тебе не интересно потерпеть?
— Так нечестно!
— Нет, дорогая, ты расставила сеть и сама в неё попалась. Теперь терпи.
Закончив разговор, я взял с подставки папку, и это движение воскресило тот, показалось, очень далёкий день, когда вот так же стоял я в будке телефона–автомата со своим отвергнутым сценарием. Всего два с лишним месяца назад это было… Но до чего же плотно прошло это время, сколько всего случилось!
Где, на каком этапе произошёл поворот? Тот самый, обещанный четырьмя встречами с Н. Н. От отчаяния к надежде, к тем открытиям, о которых я и подозревать не мог, перед которыми бледнели все фантастические романы. А то, что случилось между мной и Анной!
Уже сворачивая к переулку, где находилась лаборатория, я задумался о странном сцеплении случайностей. Утром по дороге в Москву, рассказывая Анне о том, как в поисках электробритвы зашёл в соседнюю комнату, между прочим спросил: откуда у них этот плакат с быком и тореадором и почему там напечатано «Boris Smirnow»?
Спросил и осёкся. Но Анна ответила:
— У меня подруга в Испании. Прислала как‑то среди прочего такой сувенир. Там можно сказать любое имя, и тебе его вмиг впечатают в афишу.
В Союзе писателей выяснилось, что меня вызывали внести членские взносы. Оказалось, задолжал за четыре года. Отдал деньги, расписался и, когда шёл узким коридорчиком к вестибюлю, столкнулся с женщиной, которая ведала туризмом писателей. Много лет назад она оформляла поездку в Болгарию.
— Господи, как давно я вас не видела! На ловца и зверь бежит, зайдёмте ко мне.
— Зачем?
Заведя меня в кабинет, она выложила на стол расписанный на год план турпоездок.
— По разным причинам недобор групп. Горит план. Выбирайте страну, пишите заявление.
— Но я никуда не собираюсь. У меня и денег нет.
— При чём тут деньги? Сегодня их нет — завтра есть. Что вам стоит пока написать заявление? Деньги сдают в последнюю очередь, перед самой поездкой.
Из любопытства пробежал глазами список:
«Англия,
Швейцария,
страны Бенилюкса,
Болгария,
Испания,
ГДР,
круиз по Средиземному морю».
— Шикарная жизнь, — сказал я, возвращая список, — увы, это не для меня.
— Но что вам стоит написать заявление? Вот бланк, вот авторучка. Садитесь и заполняйте.
Терпеть не могу, когда на меня давят. Но в данном случае все это было так смешно и фантастично, что, вспомнив афишу с тореадором, уступил и смеха ради написал, что хочу поехать в Испанию. Поездка предполагалась в конце апреля и стоила семьсот пятьдесят рублей.
«Интересно, — думал я, нажимая звонок у двери в лабораторию, — если б не плакат, какую бы страну я выбрал?» Испания казалась столь же недостижимой, как Марс. Или какое‑нибудь созвездие Ориона.
— …Что нового, Артур? — спросила Нина, когда мы усаживались в зале перед началом занятий. — Давно у нас не были, даже не звоните. Паша о вас спрашивал.
«Знает или не знает?» Было почему‑то стыдно взглянуть Нине в глаза; с другой стороны, я испытывал чувство благодарности к ней, познакомившей меня с Анной.
— Видела Наденьку, — продолжала между тем Нина. — Она говорит, у вас неприятности на работе.
— Все в порядке. — Не хотелось не то что рассказывать, даже возвращаться к мыслям о студии.
Нина с удивлением глянула на меня и сказала:
— Вчера была у Наденьки, её Костя что‑то себя неважно чувствует.
Вошел Йовайша, сел за стол, оглядел притихшую аудиторию. Начались отчёты.
Пока очередь ещё не дошла до меня, думал, включить ли в отчёт историю с Тамарой и то, как обнаружилось, что ладонь может давать ответы, и понял: это будет нескромно. Решил обязательно поговорить с Йовайшей наедине, в перерыве, или же, на худой конец, после занятий. Хотя не хотелось, чтоб Анна ждала.
Слушая отчёты других, вспомнил о Маргарите. Худой длиннобородый человечек — Нинин знакомый — фанатически призывал собравшихся перейти исключительно на гречку, отказаться от остальных продуктов и медитировать в полдень в позе лотоса перед зеркалом, чтобы углядеть свои предыдущие воплощения.
— А кто вы по профессии, где работаете? — перебил Йовайша.
— По профессии инженер, работаю дворником, это к делу не относится.
— Извините, я попросил бы отчитываться конкретно, по тому, что было задано.
Выяснилось, упражнений дворник не делал, ибо, как он заявил, «давно всё умеет».
Толстая пожилая женщина в брючном костюме сообщила, что облучала семена своей «половой чакрой».
— Я ведь этого не задавал! — с досадой воскликнул Йовайша. — Ну и что? Каков результат?
— Потрясающий! Все семена проросли на другой день!
Было очевидно, что она бессовестно врёт.
Некрасивая робкая девица рассказала, глядя в тетрадь, что опыт с семенами у неё удался. Что облучённых рукой семян проросло на 30 процентов больше, чем необлученных, и проросли они на двенадцать часов раньше. Кроме того, она застенчиво поделилась тем, что на днях сняла головную боль у бабушки. Этой, по крайней мере, можно было верить.
Из всего услышанного меня больше всего заинтересовал отчёт лётчика, полковника ВВС.
— По поводу опыта с пшеницей распространяться не стану, — сказал тот, — у меня всё получилось. Примерно как у большинства. Но потом я решил несколько видоизменить условия игры: я облучал энергией не семена, а воду, которой полил семена. И, вы знаете, итог, как говорится, превзошёл все ожидания. И ещё хочу заметить, эти эксперименты надо бы делать здесь, в лаборатории. При комиссии. И чтоб не мы, а она объективно регистрировала результаты.
Йовайша заулыбался:
— Молодец, товарищ полковник! Комиссию создадим, и немедленно. Что касается облучения воды — вы опередили события. Как раз сегодня будет рассказано, как работать с водой, делать её носителем информации. Все вы получите соответствующее задание.
После отчётов избрали комиссию, решили одно из помещений лаборатории оснастить стеллажами и лампами дневного света, чтоб можно было ставить биологические опыты.
Во время перерыва поговорить с Йовайшей не удалось. Тот вызвал к себе в кабинет человека с длинной бородой и тётку в брючном костюме.
Полковник ВВС подошёл ко мне, когда я кончал разговаривать с матерью по телефону, стоящему на тумбочке в коридоре.
— Думается, мы симпатичны друг другу, отчего бы не познакомиться? — Он протянул руку: — Меня зовут Оскар Анатольевич. Если хотите — просто Оскар.
Я пожал широкую ладонь, тоже представился.
— Читали сегодняшнюю «Литературную газету»? Беседу за «круглым столом» по поводу экстрасенсов?
Я отрицательно покачал головой. Давно уже мы с матерью отказались от этой роскоши — выписывать газеты. Обходились радио и стареньким черно–белым телевизором «Рекорд».
Оскар Анатольевич пересказал содержание беседы. Несколько академиков и членкоров утверждали, будто кроме обычного тепла, исходящего из рук целителей, тончайшие электронные приборы ничего не зафиксировали; что если некоторые болезни и вылечивались, то исключительно силой теплового массажа. Или внушения.
Я слушал и думал о том, что ни Тамара, ни женщина в красной шапочке даже не знали о моём вмешательстве. Да и как могло дойти тепло ладони с дачи, расположенной в десятках километров от Москвы, до той же Тамары?
— Глупость всё это, — сказал я полковнику. — Читал я подобные статьи. Этим людям кажется, что они борются против идеализма. На самом деле идеалисты именно они: молятся на материю. А есть ещё сверхтонкие энергии. Если бы Ленин был не Ленин и сказал в их присутствии, что атом неисчерпаем, как Вселенная, ему б показали, где раки зимуют! Пока что не все можно измерить приборами. Например, человеческую мысль. И в мозгу до сих пор не нашли место, где она рождается. Я лично с каждым днём все сильнее ощущаю: все вокруг — тайна. И мы с вами — тайна.
— Так что ж, выходит, считаете: не надо исследовать?
— Надо. Обязательно. Сам мучаюсь, оттого что многого не понимаю. Только нужны какие‑то совсем иные методы, иной способ мышления. Нельзя на звёзды смотреть в микроскоп.
Перерыв кончился, все направились к аудитории, и тут я увидел, что из своего кабинета выходит Йовайша.
— Извините, можно вас задержать? На два слова.
— После занятий — сколько угодно, — хмуро ответил Йовайша и поделился: — Дворника и даму с «половой чакрой» пришлось попросить из лаборатории. Если б вы знали, сколько вреда от таких людей — с мозгами набекрень!
Усаживаясь на своё место, я взглянул на часы. До встречи с Анной осталось час тридцать.
Перед Йовайшей на столе стояли два пустых гранёных стакана.
— Товарищи, — сказал он, — наверное, некоторые из вас знают или хотя бы слыхали от других, что издавна в сельской местности во всех регионах, в частности в Грузии, были и находятся такие люди, которых просят посеять семена в огороде, иногда даже платят им за это. Было замечено, если какой‑то определённый человек сажает семена — урожай обязательно получается отменным. Это вам первый факт для размышления.
А вот второй. Недавно на крупнейшей в стране фабрике киноплёнки пошёл брак. Были тщательно проверены все этапы технологического процесса, все режимы обработки. Пленка продолжала выходить засвеченной. Причем засветка какая‑то странная — пятнами. С нами, с нашей лабораторией, был заключён хоздоговор. И вот что мы обнаружили: двое работников, конечно сами того не зная, засвечивали плёнку излучениями своих пальцев. Стоило их перевести в другой цех, брак прекратился.
Все вы достаточно подготовленные люди, поэтому, думаю, эти факты не нуждаются в комментариях. А теперь давайте вспомним дошедшие до нас из глубин веков слухи и легенды о знахарях, заговаривающих воду. Говоря современным языком, речь идёт о каких‑то способах, делающих воду носителем информации… Я попрошу кого‑либо из вас взять эти два стакана, набрать в умывальнике воды и принести их сюда.
Пока Нина ходила за водой, Йовайша попросил Оскара Анатольевича пересесть к нему за стол и «привести свои руки в рабочее состояние».
— Энергия, исходящая из ваших пальцев, способна нести информацию, а вода способна её принять и хранить. Причем каждая молекула воды становится как бы письмом, которое можно отправить куда угодно. Например, в организм больного человека. Итак, вот перед нами два одинаковых стакана с обыкновенной водой. Попрошу вас, товарищ полковник, насытить энергией воду в одном из стаканов, ну, вот в этом. Другой пока отставим в сторону. Для нашего опыта сейчас информация необязательна. Просто нужно зарядить эту воду энергией.
…Все‑таки странно было смотреть, как полковник авиации трясёт пальцами над стаканом, водит ладонью над ним, снова трясёт.
— Достаточно, — сказал Йовайша. — А теперь попробуйте воду в одном и в другом стаканах. Отличается ли она на вкус?
— Сильно! — сказал полковник. — Одна как бы щелочная, другая — кислотная.
— А можно мне попробовать?! — спросила робкая девица.
За ней стали пробовать все.
Йовайша задал упражнение на дом, а затем повесил поверх доски плакат с изображением уха и перешёл ко второй части лекции.
— Еще в древности китайские мудрецы обратили внимание на то, что человеческое ухо напоминает младенца в утробе, зародыш. Взгляните: мочка — это голова и так далее… Выяснилось: различные точки ушной раковины абсолютно соответствуют внешним и внутренним органам. Воздействуя на эти точки иглами, китайцы научились вылечивать множество болезней. Но оказалось, что, если просто массировать пальцем соответствующий участок да ещё давать определённую энергетическую информацию, можно достичь тех же результатов.
Лекция была интересной. Йовайша увлёкся. Он показывал все точки, расположенные на ухе. А время подошло к одиннадцати.
Я извинился, сказал, что вынужден уйти. Захватив свою папку, вышел и стал уже надевать пальто, когда из аудитории выскочил Йовайша.
— Простите, не успел с вами поговорить. Что‑нибудь случилось?
Я вкратце рассказал о розовых полосах между пальцами, о том, как на расстоянии снял опухоль у Тамары. Говорил, внутренне гордясь собой и одновременно все ещё сомневаясь в реальности происшедшего… В какой‑то момент показалось, что Йовайша тоже отнесётся ко мне как к человеку, у которого мозги набекрень.
— Вы открылись, — сказал Йовайша, ничуть не удивившись. — Теперь на вас пойдёт практика. Больные. Вот увидите. И это вам сейчас нужно. Для уверенности в своих силах.
Я не успел спросить, как это получается, что ладонь даёт сигнал. Йовайша побежал обратно в аудиторию.
…Приткнувшись к тротуару между двух сугробов, ждали синие «жигули». Снегопад прекратился. В морозном небе висела луна.
Я направился к машине, и тут кто‑то перчатками закрыл глаза. Приостановился, замер.
— Отчего ж не спрашиваешь, кто это? — раздался сзади голос Анны.
— Потому что в этом мире нужен только тебе.
Сели в машину. Анна включила зажигание, заработал двигатель.
— Куда мы едем, милый?
— Знаешь, Аня, сегодня был такой путаный, сложный день, даже не успел серьёзно подумать. С другой стороны, тебе ведь тяжело сейчас в твоей квартире. Поедем ко мне? Ведь ты не боишься моей мамы?
— Нисколько, — ответила Анна. — Спасибо тебе.
Впервые за всё время занятий не упражнялся несколько дней. Из‑за полного переворота в жизни, связанного с Анной. Сегодня спохватился.
Ставлю на стол два стакана с водой. Один из них насыщаю энергией, опять представляю себе изумрудную зелень и светящее на неё солнце. Поливаю этой водой новые семена в чашечке Петри. Ее и контрольную снова прячу на книжную полку, накрываю их книгой Уитмена. Оставшуюся воду выливать жалко. Пробую её, сравниваю со вкусом обыкновенной. Действительно, явная разница, но определить её словами трудно… Решаюсь полить облучённой водой кринум. Теперь облучаю для него воду каждый день.
Семена в опытной чашечке дружно проклюнулись через трое суток. В контрольной — лишь на пятые, и то не все.
А кринум вдруг не по сезону стал выпускать цветочную стрелку с бутонами.
Я окончил Литературный институт. Представил в качестве диплома рукопись поэмы.
Там было все: и фотография отца с рукой дяди Феди на плече, и Ленин, который, выйдя из Мавзолея, неузнанный, бродит среди прохожих по теперешним улицам, и моя беседа со Сталиным.
Удалось даже напечатать отрывок. Впрочем, не самый главный — оду свободному человеку. На первый в жизни гонорар покупаю себе галстук — синий с широкой красной полосой наискось, а маме — антикварную чашку в комиссионке на Арбате.
Вдруг перед самой защитой мне мой диплом заворачивают, запрещают. Оказывается, поэму отдавали на рецензию Сергею Городецкому.
«Дипломная работа студента пятого курса Артура Крамера не выдерживает никакой критики. Способный, даже талантливый автор, он сам ярко показывает идейную неразбериху, царящую у него в голове. Лозунг Горького «Человек — это звучит гордо!», актуальный в дни русской революции, он, видимо, считает актуальным и теперь — в эпоху развитого социализма. Таков подтекст каждой его строки, таков пафос, определивший неудачу поэмы. Между тем лозунг этот давно устарел…» — напечатанные на машинке строчки прыгают перед глазами.
— Очередной скандал с тобой, Крамер, — говорит только что вернувшийся из Парижа мой творческий руководитель. — Собирай до кучи отдельные стихотворения, придумай название. Будешь защищаться книгой стихов. И — не мудри. А то не успел я приехать, как уже за тебя влетело.
Он вынимает из бумажника цветное фото: на корме катера вьётся французский флаг. В катере мой лауреат, красивый, загорелый, в рубашке с короткими рукавами. Рядом с ним Витька Дранов, другие знакомые поэты — мои ровесники.
— Отбываем из Марселя на Корсику, на родину Наполеона, — поясняет руководитель семинара, вкладывая фотографию обратно. — А ты сидишь в дерьме. И будешь сидеть. Умный парень, неужели до сих пор ничего не понял?
— В каком это смысле?
— Не придуривайся! — Он прячет бумажник во внутренний карман пиджака, на лацкане которого уже не висит медаль лауреата Сталинской премии.
…Защитив диплом, пусть и без поэмы, рукописным сборником стихов, сразу же отношу экземпляр в издательство — авось что выйдет.
А диплом, оказывается, никому не нужен. Теперь уже и с ним не могу устроиться на постоянную работу.
Однажды, разговаривая с зам. редактора большой центральной газеты, где, я точно знаю, требуются сотрудники, есть вакантные места, в сердцах спрашиваю:
— Объясните наконец, в чём дело? Вот мой диплом, вот мои честные руки…
— Не нужны нам ваши руки! — И он брезгливо отодвигает от себя синенькую книжечку моего диплома.
«Хорошо, что всего этого не видела мама», — думаю я, выходя из здания, где помещается редакция.
Этот день особенно запомнился на всю жизнь тем, что, когда я возвращался домой, увидел: навстречу по лестнице, придерживаясь за перила, спускается очень пожилой человек, останавливает вопросом:
— Извините, ваша фамилия случайно не Крамер?
— Случайно Крамер.
— Господи, как вы похожи на свою поэму!
Оказалось, машинописная копия поэмы неведомым путём попала к нему, старому критику, имя которого гремело в двадцатые годы. И вот он отыскал адрес, пришёл, пьёт чай, заставляет читать стихи…
А вечером берет меня с собой в гости. Мы едем на Пресню и входим в квартиру, где живёт Александра Алексеевна — мать Маяковского.
Владимира Владимировича давно нет. Время невероятно стыкует его маму и меня.
Кажется, она не похожа на сына. Лишь за столом, приглядевшись, улавливаю сходство во взгляде, чуть оттопыренных ушах…
Александра Алексеевна угощает чаем, айвовым вареньем.
— С Кавказа прислали, — говорит она. — Ешьте. Володя любил.
А потом манит меня пальцем, заводит в маленькую комнату без окна. Включает настольную лампу.
— Когда Володя приходил, всегда приносил какой‑нибудь подарок. Вот эта скатерть от него, сберегла. Принесет подарок, расспросит что да как. Денег даст. А после войдёт вот сюда, в эту комнату, на этот самый стул сядет и просит: «Мама, дайте я один побуду». Посидит полчаса, час. Уж не знаю, о чём он здесь думал, затворясь. Никогда не поделится… Запамятовала, как вас зовут?
— Артур.
— Так вот, Артур, думается мне, старухе, и вам хорошо бы здесь побыть. Посидите. А я вас закрою и пока займу гостя беседой.
Глава двадцатая
— Кто здесь провожает в Соединенные Штаты женщину и ребёнка?
— Я.
— Возьмите! — Крашеная блондинка в строгой форме таможенного управления сунула мне из‑за барьера серебряные карманные часы с цепочкой. — Нельзя вывозить антиквариат.
Эти старинные часы с разноцветным фарфоровым циферблатом были их единственной фамильной ценностью…
— Галя! Ты слышишь меня?!
— Слышу, Артур, слышу! — донёсся откуда‑то удаляющийся, обесцвеченный от долгих слез Галин голос. — Пусть будут тебе на память, прощай!
— Прощайте, дядя Артур! — послышался голос Машеньки. Их уже не было видно за крутым поворотом стены.
— Они ваши! Я их буду хранить! Когда‑нибудь отдам!
Никто не отозвался.
Я отошёл от барьера, взглянул на свои, ручные, потом откинул крышку серебряных. Они шли. Шли точно, показывали московское время. Самолет должен был взлететь через тридцать пять минут. Навстречу другому времени, всему другому…
Вполне можно было уезжать отсюда, из Шереметьева. Но эти оставшиеся полчаса я все ходил взад–вперёд по гигантскому залу, поглядывая на выходные стойки. Будто могло случиться чудо, и Галя с Машенькой появятся оттуда. Знал, этого не произойдёт, не может произойти. Это было бы как возвращение с того света.
Когда же тридцать пять минут истекли и я вышел из здания аэропорта в серенький знобкий февральский денёк и направился к остановке автобуса, то почувствовал, что не иду, а плетусь.
В конце концов, Галя и Маша были совсем чужими людьми, всего лишь женой и дочерью соученика, и то, что Левка прислал им вызов из Соединенных Штатов, было вполне логичным. Но отчего же такая раздавленность, такое ощущение потери, вины?
Автобус–экспресс мчался по Ленинградскому шоссе. За стёклами мелькали вывески — «Булочная», «Молочная». Возле магазина «Фрукты—овощи» у громоздящихся ящиков и весов, за которыми торговал парень в напяленной на пальто белой куртке, мёрзла длинная очередь. В ушах всё звучало Галино «Прощай!».
Сегодняшним утром, когда я наконец нашёл время дозвониться Гале и узнал, что они через пять часов улетают, я сказал Анне, что не могу не поехать их проводить. Выбежал на улицу. Хотелось что‑то передать Левке, чтоб тот знал, что его помнят. Но что можно купить здесь, в Москве, чего бы не было в Нью–Йорке?
Все‑таки нашёл выход. Поскольку Левка был запойный курильщик, я, памятуя строку Грибоедова «И дым Отечества нам сладок и приятен», купил в табачном киоске у метро по три пачки «Казбека», «Беломора», «Столичных», «Астры», «Дымка», «Примы».
«Это не тяжело», — сказал я, передавая свёрток с куревом Гале. «Не тяжело», — кивнула она. Лицо было опухшее от слез. Зато Машенька, казалось, не понимала происходящего.
«А вы будете нам писать? — спросила девочка, уже в пальто подметавшая после вчерашних проводов комнату, где, кроме сумки, затянутой на «молнию», швейной машинки в футляре и чемодана, стояли две собранные и прислонённые к голым стенам раскладушки. Да ещё портновский манекен жутковато высился у окна. — Мама, ты совсем забыла, а папин подарок?!»
Оказалось, Левка месяц назад прислал посылку, в которой был отдельный пакет с авторучкой, записной книжкой и альбомом репродукций картин Ван Гога, самого любимого мною художника.
Пакет ждал на подоконнике. Чтоб не были заняты руки, я распихал подарки по карманам. Потом поднял швейную машинку и чемодан.
«Даже не на что присесть перед дорогой, — хрипло промолвила Галя. — Всю мебель продала… Прощай, комната!»
В этот момент девочка заплакала. Мне вдруг ярко вспомнился вечер, когда она танцевала здесь цыганский танец с веером.
В такси я узнал от Гали, что Левка живёт на какое‑то пособие, пока не работает. «Знаю, осуждаешь нас, но что теперь делать? Буду шить, портнихи везде нужны. Всюду ведь люди. Как ты думаешь?»
Я кивнул, хотя думал о другом. Думал о Машеньке, о том, что ей сейчас всего одиннадцатый год и она почти всё забудет: и язык, и танец с веером, и эти вот серые улицы. Хорошо, хоть танец остался снятым на пленке…
Теперь, возвращаясь обратно в город, я думал о том, что самолёт, наверное, уже пересёк границу — летит в студёном небе, и там Галя и Машенька.
Дома почувствовал себя странно, не в своей тарелке. Казалось, пробирает озноб. Мать спала. Анна должна была вернуться с работы к началу седьмого, и до её прихода я решил позволить себе прилечь.
Стараясь не греметь на кухне, разогрел и налил себе тарелку бульона, затем выпил крепкого чая.
С альбомом репродукций Ван Гога устроился на тахте в своей комнате. Рядом на тумбочке среди заколок, оставленных утром Анной, тихо стрекотали карманные серебряные часы.
То состояние, в каком я сейчас находился, насторожило, потому что озноб ничем не выражался внешне: не трясло, не стыли ноги, кажется, не было температуры. Трясло душу. Было ощущение, будто весь я — сплошная дыра, в которой сквозит ледяной ветер. Понадобилось усилие заставить себя раскрыть альбом.
Здесь было представлено то, что я любил больше всего у Ван Гога, — его пронизанная зелёным солнцем «Спальня», «Подсолнухи», «Цветущая ветвь». Более простых и более жизнерадостных вещей не существовало на свете. Даже «Едоки картофеля», изуродованные нищетой люди, собравшиеся у очага, сами того не сознавая, противостояли унынию, безнадёжности. Даже «Автопортрет с перевязанным ухом», созданный в дни, когда Ван Гог лишился последних иллюзий, являл собою пример мужества смотреть жизни прямо в лицо. Прямо в лицо. А «Звездная ночь», где клубились ночная земля и звезды, целые галактики вокруг неё, окружённые ореолами?
Благодарное, братское чувство к художнику поднималось в груди, заполняло сквозящую пустоту. Как жаль, что мы разминулись во времени, что невозможно броситься, отвести пистолет от него, Винсента, от Владимира Маяковского, от Рустама Атаева…
Засыпая, почему‑то вспомнил, что по галактическим часам, если принять оборот нашей галактики за год, человечество живёт всего восемь минут, оно ещё так молодо.
Мне снилось, что я спускаюсь эскалатором в метро и оттуда, снизу, приветствуют люди, машут руками. Оглянувшись, увидел: вслед спускаются другие пассажиры, их всё меньше. Их тоже приветствуют. И я понимаю, что там, наверху, началась ядерная война. Спасутся лишь те, кто случайно оказался здесь, под землёй. А землю уже трясёт, вспучились рельсы. Мигают светофоры, звенит какая‑то сигнализация.
Я проснулся в поту. Звонил телефон.
— Не вставай. Я сама. — Анна в расстёгнутой шубе, в сброшенном на плечи платке подошла к столу, где стоял аппарат. — Кто спрашивает? А вы не можете позвонить позже?
Я успел подняться, взять у неё трубку.
— Слушаю.
Это звонила Тамара.
— Сделала рентген, как вы велели. Ничего нет! Женю помните? От Жени — поклон. А от меня — очень пребольшое спасибо. Нет, я знаю, это вы! Знаю, и поэтому, только не ругайтесь, ещё одна просьба. У меня бабушка приехала. Из Вологодской области, из Никольского Торжка, оттуда мы родом. У неё что‑то с рукой. Лечат–лечат, а толку нет. Может, посмотрите? Жалко старуху. Завтра перед работой, если адрес скажете, могла бы её завезти…
— Хорошо. Я вам ничего не гарантирую, привозите.
Дал свой адрес, положил трубку.
За это время Анна разделась и пошла к матери, которая уже хлопотала на кухне. Чудесно было слышать отсюда, из комнаты, их приглушённые голоса. «Что мне ещё надо? — думал я, присев у стола. — Отремонтировать квартиру, найти какую‑нибудь возможность зарабатывать да напечатать хоть часть того, что написано за столько лет. Может, снова разнести по издательствам, по редакциям?» От одного этого предположения все во мне заныло, закровоточило. Вспомнились редакционные кабинеты, где автора, пришедшего с рукописью, встречали как непрошеного гостя, сразу предупреждали, что редакционный портфель заполнен на годы вперед… Через несколько месяцев я получал назад свою повесть или подборку стихотворений с приложенной рецензией, наполовину состоящей из цитат, при помощи которых доказывалось, будто я, Артур, аполитичен, не знаю жизни; или же, наоборот, жизнь знаю, но не могу осмыслить её в свете очередных решений…
Лет пятнадцать назад меня самого пристроили брать для внутренних рецензий повести и романы в одном толстом журнале. Развязывая тесёмки очередной папки, чувствовал себя золотоискателем. Казалось, сейчас прочту нечто неожиданное, захватывающее… Возможно, мне редкостно повезло. За полгода дважды попались именно такие рукописи. И оба раза, когда я приносил в редакцию свои рецензии, исполненные радостью по поводу появления никому не известного таланта, работники журнала, до той поры неплохо относившиеся ко мне, суровели на глазах. «Нет, вы должны переделать рецензию. Мы не можем и не будем это публиковать». — «Но хотя бы прочтите!» — «Нет, не будем. У нас и так полон портфель произведений профессиональных авторов, лауреатов. За то вам и платят деньги, чтоб вы читали, вы отсеивали. Напишите отрицательную рецензию, иначе лишитесь заработка».
Заработка, конечно, я лишился. А рецензии послал авторам от себя, частным порядком.
Один из них — человек в потрёпанной шинели морского офицера — однажды зимой приехал из Петропавловска–Камчатского в Москву, зашёл ко мне с бутылкой водки. Мы долго тогда сидели за столом, как могли, подбадривали друг друга.
Где теперь этот офицер? Как сложилась судьба никому не ведомого писателя? А если спился, умер в безвестности? Кто ответит за это?
— А мы думаем, ты опять заснул… Отчего сидишь здесь один? Тебе нездоровится? — спросила Анна, входя в комнату.
— Нет. Просто разбитость.
— Зачем же перемогаться? Иди поужинай и ложись. — Она уже стелила постель.
— Спасибо. Скажи маме, я уж сразу лягу, не хочется есть.
— А я обещала посидеть с ней у телевизора. Хотела кое‑что тебе рассказать, да уж завтра, ладно?
— Ладно.
Разделся, лёг, погасил ночник. «Что‑то надо предпринимать, — думал я. — Она не должна, не сможет жить в бедности, в комнате с продранными обоями».
Перед тем как провалиться в сон, подумал, что самолёт с Галей и Машенькой ещё, наверное, летит в студёном небе…
Проснулся, когда Анна уже ушла в свою школу. Старинные серебряные часы мерно тикали рядом на тумбочке. Я не сразу вспомнил, что за дело ждёт меня утром. А когда вспомнил, вскочил, вымылся в душе, побрился, успел выпить крепкого чаю с бутербродом.
— Я только привезла. Обратно сама доберётся, знает, — застрекотала Тамара, едва я вышел на звонок и открыл дверь ей и старушке в чёрном зимнем жакете, валенках. — Ой, убегаю, опаздываю на работу. Возьмите, Артур, к столу пригодится. Грибочки. Не какие‑нибудь — маслята. А у меня ничего не болит. Как рукой сняло. Спасибочки вам преогромное! Побежала. — Сунула мне банку с грибами, хлопнула дверью и застучала каблуками вниз по лестнице.
— Раздевайтесь, пожалуйста. Как вас зовут?
— Евдокия Ивановна.
Я помог старухе раздеться, пристроил на вешалку жакетку и платок, пригласил войти в комнату.
— Боюсь, наслежу…
— Не бойтесь. Сами видите, какой у меня пол…
Но Евдокия Ивановна тщательно обтёрла ноги о резиновый коврик у двери и лишь тогда вошла.
Она сидела на стуле напротив меня и рассказывала, что уже год мыкается с рукой — колола дрова, отлетело полено, ударило по локтю.
— И снимок делали, и ванны парафиновые, а толку‑то нет, болит. Днем ещё терпеть можно, а ночью иной раз и не уснёшь.
— Сколько вам лет, что вы сами дрова колете? — спросил я, бросив взгляд на больной локоть.
— Семьдесят третий. А кто ж наколет, когда все в город подались? Томка вот в Москве пристроилась, остальная родня — кто в Вологде, кто где.
Я слышал её, как сквозь воду. Прикрыв глаза, увидел в умозрении чёткое пятно неправильной формы, словно бабочка с одним крылом… Почувствовал, как из кончиков пальцев хлынул поток. Левая ладонь загудела.
— Давайте сюда вашу руку.
— Кофту‑то снять?
— Наверное, не обязательно.
Придвинулся к ней, провёл ладонью вдоль больной руки от плеча к кисти. Когда ладонь проходила над локтем, ощутил ледяной сквозняк.
Евдокия Ивановна глядела недоверчиво…
Начал вымывать льющейся из пальцев энергией это чёрное ледяное пятно. Прикрывая временами глаза, следя, уменьшается ли оно.
Но нет, оно не делалось меньше.
Ладонь совершала вращательные движения вокруг локтя, розовые полосы тянулись из пальцев, я старался допить ими эту черноту, вывести наружу, выбросить. Ничего не получалось.
— Болит?
— Еще шибче. Разнылось, мочи нет. — Евдокия Ивановна потрогала локоть. — Зря стараешься, небось так и будет до самой смерти.
«Что‑то не так, — подумал я. — Оно как вмёрзло, это пятно…» Снова яростно накинулся на локоть и чувствовал — без толку.
— Употел весь, извёлся, — с жалостью глядя на меня, сказала Евдокия Ивановна. — Лекарства не помогли, доктора, а ты думаешь, руками помахал — и все?
«Как рукой сняло», — вспомнилась Тамарина фраза. Решение возникло мгновенно.
Я изо всех сил потёр одну ладонь о другую. Левая странно разогрелась, раскалилась… Наложив эту ладонь сверху на локоть, другую подсунул снизу. «Хоть бы оттаяло, размягчилось», — думал я, чувствуя, как тепло переходит в локоть.
— Жар‑то какой, Господи! — испугалась Евдокия Ивановна.
Я ничего не ответил. Снова растёр ладонь о ладонь, снова наложил их на локоть. Прикрыл глаза, увидел: пятно изменило форму.
А потом стал делать то, что делал вначале, — вытягивал своей энергией эту растопленную черноту наружу.
— Ой! — сказала Евдокия Ивановна. — Чего‑то щёлкнуло!
— Где?
— В локте.
— Болит?
Она пошевелила рукой, опасливо дотронулась до локтя.
— Вроде нет…
Я перевёл дыхание, прикрыл глаза. Пятна не было. На всякий случай ещё раз прочистил локоть, потом всю руку сверху донизу.
— Всё, Евдокия Ивановна.
Некоторое время она недоверчиво ощупывала руку, мотала ею из стороны в сторону, сгибала, разгибала. Я безучастно наблюдал…
— Голубчик, а ведь вправду не болит. Как же это?
— Не знаю, — честно ответил я.
— Знаешь! — Оказывается, она умела улыбаться, быть счастливой.
Я не мог отвести взгляд от этой улыбки.
— Знаешь! — повторила Евдокия Ивановна, вставая со стула. — Спасибо, милок.
Я тоже поднялся, вышел с ней из комнаты, стал помогать одеваться.
— Теперь‑то уж сама справлюсь, ишь как легко стало! — Она оделась, сунула руку в карман жакета, достала оттуда носовой платок, развернула и подала десятку.
— Вы что? Да я от чистого сердца.
— Вижу, голубчик. Все же возьми. Иначе нельзя.
— Нет, Евдокия Ивановна, — я отвёл руку с деньгами, — этого не нужно.
— Как же так? Трудящийся достоин пропитания. Возьми. Я ведь тоже от чистого сердца.
Так мы стояли и препирались. Я чувствовал: сейчас проснётся, выйдет из своей комнаты мать, застанет эту нелепую сцену…
— Евдокия Ивановна, представьте, что ко мне кто‑нибудь ещё обратится за помощью. И я уже стану заранее думать, кто сколько даст. А ведь лечить, да ещё таким образом, можно только из сострадания. Иначе просто ничего не выйдет. Способны вы это понять?
Какую‑то секунду старуха смотрела на меня, моргая. Потом лицо её сморщилось. Она заплакала.
— Ну что вы! — Я обнял её за плечи. — Не надо.
— Прости, голубчик. — Она запихнула в карман платок и десятку. — Храни тебя Господь!
…Мать вышла сразу же, как только за Евдокией Ивановной захлопнулась дверь.
— Доброе утро. Кто это приходил?
— Так. По делу.
— Знаешь, Артур, неудобно перед Анной. Она вчера картошки привезла целую корзину, яблоки. А у нас масло сливочное кончилось, сахар нужен. У тебя остались деньги? Мою пенсию ещё через двенадцать дней принесут.
— Сейчас всё куплю. Как спала? Как себя чувствуешь?
— Неплохо. Мы с ней вчера откровенно говорили, до самого конца телевизора, и о тебе тоже.
— Что обо мне говорить!
Я вошёл в свою комнату, пересчитал оставшиеся деньги. В лучшем случае их должно было хватить на неделю, ну на десять дней. А потом? Жить на материнскую пенсию? На заработок Анны?
Оделся, взял авоську и пошёл в магазин.
Днем вымыл пол в обеих комнатах и на кухне, обтёр пыль, вместе с матерью начистил картошки. Потом набил две сумки грязным бельём и направился сдать его в прачечную. Там, отстояв очередь, нарвался на раздражённую приёмщицу, которая стала прямо‑таки орать, что часть меток стёрта, часть полуоторвана.
— Зачем вы так кричите? У меня со слухом все в порядке.
Долго сидел в уголке приёмного пункта, неумело пришивая новые метки.
Домой вернулся в сумерках. Зашвырнул пустые сумки в кладовку.
— Пообедай, — сказала мать. — По–моему, ты с утра ничего не ел.
Поел вместе с ней жареной картошки, открыл принесённую Тамарой банку маринованных маслят.
…Анна пришла рано. Раздевшись, вошла в комнату, включила свет, положила на стол сумку.
— Почему опять грустный? — Она взъерошила мои волосы, дотронулась до лба. — Мы с тобой сегодня идём в гости. Хочешь?
Я кивнул.
— А почему не спрашиваешь, к кому? У тебя удивительная выдержка. На днях я тебе по телефону сказала, что ты разбогател, помнишь? — Она села рядом у стола. — Все жду, может, спросишь, в чём дело?
— Если разбогател — деньги на бочку.
— Вот как? Это уже другие интонации. — Анна щёлкнула застёжкой своей сумки и перевернула её над столом. — Как это тебе нравится, милый? А?
Рассыпавшиеся веером толстые пачки сотенных вперемешку с помадой, коробочкой грима, ключами от автомашины лежали передо мной.
— Здесь три тысячи восемьсот рублей. Не бойся! Это тебе подарок. Знаешь, от кого? От твоего собственного детства! Ты в детстве собирал марки? Ты пришёл к нам в мороз, в плаще, наверняка без копейки; отдал чужому человеку целый альбом редких марок, редчайших. По крайней мере, среди них оказалось семь или восемь, каждая из которых стоит не меньше трёхсот рублей. А может, и больше. Может, меня и надул этот оценщик марочных коллекций. Ну? Ты рад?
Я взял одну из сотенных ассигнаций. На ней были изображены Кремль, Москва–река и Каменный мост, откуда я бросил в своё время носовой платок с мукой и червями…
— Как это все тебе пришло в голову проделать?
— Очень просто. Сейчас я уже начинаю уметь об этом говорить. Я стала удалять из той квартиры всё, что напоминает… — Анна смотрела в чёрную пустоту за окно, говорила как автомат. — Удаляла вещи, бумаги, письма, даже фотографии — все. Остались марки. Их надо было продать. Позвонила знакомому археологу, тоже филателисту. Он свёл меня с оценщиком. Оказалось, негашёные марки твоего альбома дороже всей коллекции. Оценщик сам их и купил. Я только что от него, он у кого‑то занимал деньги. И вот — пожалуйста.
— А остальная коллекция?
— Отдала ему за так. В придачу. Не хочу ничего этого видеть, понимаешь? Хочу, чтоб не было ничего до тебя. Всего этого ужаса.
— Бедная ты моя девочка. — Я обнял её и, помолчав, осмелился, спросил: — Ну а что все‑таки с Борей?
— После экспертизы был суд. Принудлечение. Тюрьма. Десять лет, — глухо отозвалась Анна. — Вчера вдруг все рассказала твоей маме. Ты уже меня не терзай.
…К восьми вечера мы собирались в гости. К археологу, который свёл Анну с оценщиком марок.
— А как ты провёл день? — спросила Анна, когда мы ехали в машине на Ленинский проспект.
Терзаясь оттого, что день, как я считал, прошёл впустую, чтоб оправдаться в собственных глазах, рассказал об утреннем посещении, о том, как удалось помочь Евдокии Ивановне.
— Какой ты ещё дурачок! — сказала Анна. — Вот ты на днях вздумал испугать меня историей твоей жизни, мучаешься — не печатают, с кино ничего не выходит… А представь себе, что ты бы по уши был погружён в кино, да ещё в писательские дела, смог бы ты заниматься в лаборатории? Вылечить Тамару? Найти время для этой бабушки? Может, тебя Бог спас от суеты!
Меня поразила эта точка зрения.
— Надо работать, как‑то жить, — промолвил я скорее по привычке вечно задавленного обстоятельствами человека. И стал сам себе противен, как противен всякий нытик.
— Это и есть твоя работа, твоя жизнь, — возразила Анна. — Знаешь ли, раньше мы часто бывали в Доме кино, в Доме литераторов. Один раз даже на Новый год. Какое кипение самолюбий, зависти, сколько позы! У меня всегда потом голова болела.
Мне было тем более радостно слышать эти слова, что, несмотря на любовь к Анне, я до сих пор подозревал, что она относится к классу людей, давно называемому мной советской буржуазией.
Когда она припарковала машину во дворе большого белого с синим дома и мы вошли в лифт, я обнял её, молча прижал к себе.
Так мы поднимались до четырнадцатого этажа.
— Ты весь в помаде. Просто разбойник, я тебя начинаю бояться. — Она вынула из сумочки платок, вытерла мою щеку, затем достала зеркальце, оглядела себя и, нажимая кнопку звонка, сказала: — Я ведь тебе говорила, всё будет хорошо, а ты не верил.
Археолог Нодар Шервашидзе оказался князем. Вернее, прямым потомком князей, когда‑то правивших Абхазией, затем обедневших, эмигрировавших во Францию. Он и родился в Париже, откуда после второй мировой его привезли маленьким мальчиком в Советский Союз.
Княжеского в этом высоком тощем человеке ничего не было, разве что он поцеловал руку Анне.
Чуть ли не с порога поведав свою экзотическую родословную, он тотчас повёл меня на экскурсию по квартире, стены которой были увешаны собственноручно исполненными акварелями с изображениями заросших дикими зарослями руин, подводными пейзажами с утонувшими амфорами, якорями. Чем только не увлекался Нодар Шервашидзе! Коллекции марок, монет. Даже плоский ящик с уложенными на слой ваты пёрышками разнообразных птиц был у него. Даже полные комплекты антикварных журналов «Мир искусства» и «Золотое руно».
Все это время Анна вместе с женой хозяина — Софико — накрывала стол к ужину, и я просто очумел, понуждаемый разглядывать, да ещё без неё, мешанину чужих увлечений, блажь большого ребёнка, каким казался Шервашидзе!
Но за ужином выяснилось, что я ошибся.
Единственным настоящим увлечением Нодара были раскопки, которые велись уже много лет где‑то под Кутаиси. Фотографии, планы раскопок — все это было вывалено на стол среди чашек с чаем, среди всего угощения.
— Видели одержимого? — спросила Софико. — Это мой муж. Вы пропали.
— Девятый год копаем — нет кладбища, ни одного захоронения! На холме искали, на мысе, под водой — ничего! Мне бы найти хоть одну могилу! — Нодар всё время обращался только ко мне, чем я был немало озадачен.
Очень скоро всё объяснилось.
— Нодар уезжает на днях на раскопки, — сказала Анна. — Я убеждена, что ты смог бы ему помочь.
— Имею возможность оплатить дорогу, выписать командировочные. Она рассказала о ваших способностях. Я лично всегда верил в лозоискательство, в парапсихологию. У меня отпуск, я свободен. Умоляю: хоть на неделю поедем вместе!
Я взглянул на Анну с укором.
Уже не первый раз за короткое время нашей совместной жизни она пыталась подсунуть мне больных. То свою сослуживицу, то подругу. У неё не укладывалось в голове, отчего я наотрез отказываюсь рекламировать себя, брать деньги или подарки за целительство. То, что поняла бабушка из вологодской деревни, то не доходило, никак не могло дойти до Анны. Ей казалось, что она хочет блага не себе, а мне. Но я боялся, что в этом непонимании таится трещина, которая когда‑нибудь сможет привести к разрыву.
— Вовсе не уверен, что смогу что‑нибудь найти.
— А я уверена. Абсолютно. Когда я тебе подкладывала под скатерть то ключи, то деревянные ложки и ты находил, у меня мелькнула мысль: а почему не попробовать помочь Нодару?
Я рассердился, однако сдержал себя.
— По–моему, это серьёзное дело. Если профессиональные археологи столько лет не могут найти, куда мне?
И тут в разговор вмешалась дотоле молчавшая Софико.
— Дорогой Артур, никто с вас не взыщет. И потом, у меня с Нодаром ещё одна просьба: у Нодара камень в почке. Вы, наверное, не знаете, что такое почечные колики? Теряет сознание, падает на улицах — такая боль.
— Ну, друзья, это целый заговор! Извините, я не шарлатан. Никогда не находил покойников, не извлекал камней… Соглашайтесь на операцию — и делу конец.
— В том‑то и беда, что Нодар может не выдержать вмешательства хирургов, — у него осталась одна почка, — тихо сказала Софико.
Всю эту неделю с удовольствием занимаюсь новыми упражнениями, заданными Йовайшей.
Нужно с закрытыми глазами, протянув над столом ладонь, отыскивать предметы — вилку, деревянную ложку, авторучку, ключи… Нужно прочувствовать, запомнить, как по–разному реагирует на них ладонь.
Оказывается, дерево, железо, пластмасса сигналят по–своему. Удивительно: две на вид идентичные столовые ложки «звучат» не совсем одинаково.
Анна предложила усложнить это упражнение. Я выхожу из комнаты, она в это время прячет под толстую скатерть, расстеленную на столе, разнообразные предметы. Вначале путаюсь, ничего не выходит. Но через день начинаю уверенно находить: «Здесь нож, а здесь расчёска».
В воскресенье Анна вырезала из цветной бумаги четыре квадратика — красный, синий, зелёный и жёлтый. Сначала я потренировался, ощутил, как сигналит на ладонь каждый из этих цветов. А потом она спрятала квадратики под скатерть.
Поразительно не то, что я точно показывал, где какой лежит. Поразительно другое: мне кажется, что и без протягивания ладони над скатертью я уже знаю, где что спрятано.
Вот ведь как бывает! Старый критик, когда мы уходили от мамы Маяковского, без всяких просьб с моей стороны заставил взять телефон редакции радио, вещающего на заграницу, где работает сын его знакомого.
Я позвонил. Пришел.
— Много вы у нас не заработаете. Но раз–другой в месяц могу давать вам задание. Коль вы пишете стихи, кончили Литературный институт, будете приносить микроинтервью, микроочерки о писателях, не больше полутора–двух страниц на машинке. — Редактор, на вид мой ровесник, держится вроде простецки, на равных, вполне доброжелателен. — Знаете, сейчас там, за бугром, больше всего интересуются этим нашим поэтом, ну, который роман написал. Понимаете, о ком я говорю?
Еще бы не понять! В данное время на территории Советского Союза, а может, и во всём мире, он — единственный Поэт.
— А роман‑то вы читали? — быстро, как бы невзначай спрашивает редактор.
— К сожалению, нет.
— Ну, естественно, он же издан за рубежом… Да, так вот, нужно взять интервью, спросить о творческих планах, все такое. Пусть они там, на Западе, успокоятся, мол, жив и здоров.
— Но, простите, ведь его травят, этого Поэта. С самых высоких трибун. Недавно назвали «свиньёй», сам в газете читал.
— Ну и что? А мне спущено указание дать информашку.
— Нет уж. Или найдите другое задание, или я пойду.
— Интересное дело, значит, вы не хотите ему помочь. Официально советское радио даст о нём на Запад объективную информацию. Неужели вы не понимаете, что это значит? Подумайте. Вот телефон его московской квартиры.
Выхожу из редакции в холодный, стальной синевы октябрьский день. Иду вдоль оголённых деревьев бульвара и решаюсь все‑таки позвонить Поэту, откровенно сказать об этой затее, а там уж как сам захочет. Только за то, что я поговорю с ним по телефону, услышу протяжный, неповторимый голос, который запомнился, с тех пор как однажды я слышал его в Политехническом, — за одно это надо благодарить судьбу.
Набравшись храбрости, звоню из дому. Скучный женский голос сообщает, что Поэт живёт под Москвой, застать его на даче можно часов в семь вечера. Записываю адрес.
Идет ледяной дождь, когда на следующий день я бегу по мокрому отсвечивающему перрону, успеваю вскочить в электричку.
Чем ближе станция, где я должен сойти, тем всё более нелепой кажется поездка. У меня уже вышла первая книжечка стихов. Хотелось подарить её Поэту, да я в ней прежний, позавчерашний. Взять с собой новые, переписанные от руки стихи? Страшно. А если не понравятся? Так и не взял ничего.
В окне вагонного тамбура редеющий хоровод мокрых огней Подмосковья. Сквозит. Поднимаю воротник плаща, крепче нахлобучиваю кепку. Выхожу.
Грязь. Мрак. Ливень.
Пока дошёл до посёлка, пока отыскал с помощью единственного встретившегося прохожего дачу Поэта, промок, иззяб.
Несмело толкаю дверь калитки, направляюсь по дорожке к даче, стоящей в глубине участка. Из огородных гряд, из гниющей ботвы вдруг поднимается невысокая фигурка, почти неразличимая во тьме.
— Вы куда? Их никого нету.
— Как же так? — говорю. — Мне сказали в Москве, что в семь он у себя.
— А вы кто?
— Корреспондент.
— Погодите. Сейчас узнаю.
Стою посреди дорожки под ливнем. Жду. Наконец с крыльца спускается та же неопределённая фигура.
— Заходите.
Подхожу к крыльцу, поднимаюсь по ступенькам.
В проёме раскрытой двери, освещённом светом из прихожей, стоит Поэт. Бросается в глаза яркость седин, яркость глаз. Пиджак его почему‑то весь в древесных опилках.
Тут же, на пороге, запинаясь от неловкости, сообщаю, по какому делу прислан, и сам же говорю:
— По–моему, все это просто подлость.
— Ну конечно! — радостно подхватывает он и ведёт меня в большую комнату с блистающим чистотой полом, с картинами на стенах. — Садитесь. А своих творческих планов я и сам не знаю.
Я сижу, он стоит рядом. Какую‑то секунду смотрим друг на друга. Я понимаю: пора уходить. Привстаю и с ужасом вижу отпечатки своих ног на полу.
— Обождите, — говорит Поэт. — У вас есть хоть немного времени?
— Есть. — Опускаюсь обратно на стул.
Он садится напротив, взглядывает на меня.
— Да ведь у вас за пазухой пачка стихов! Вы поэт!
— Хотел взять, да не осмелился, — признаюсь я, поражённый его проницательностью.
— Ну да! — подхватывает он. — Боялись, не понравится. Это мне близко. Как вас зовут? Артур Крамер? А знаете, Артур, что мне пришло в голову? Давайте уговоримся. Через год. Чтоб не путаться, в первое воскресенье после следующего Нового года вы вот так же вечером приедете ко мне со всем, что сочинится. Только ставьте себе недостижимые цели. А я буду помнить, я запишу, буду ждать. Согласны?
— Конечно! Спасибо! — Я встаю осчастливленный.
— Нет, Артур! Если у вас есть ещё время, обождите, я сейчас. — Он выходит из комнаты.
Слышу, как скрипят ступени не видимой мне лестницы, он поднимается на верхний этаж.
Жду пять минут, десять.
Это свидание, назначенное через год с лишним, как аванс, щедро выданный мне, неслыханная фора, которую я должен оправдать во что бы то ни стало…
Двадцать минут прошло, а его нет. Гений, может, он обо всём позабыл, склонился там, наверху, над листом бумаги?
Наконец снова слышится скрип ступенек. Поэт входит в комнату, держа на ладони раскрытую книгу.
— У меня давно ничего не выходило. Вот «Гамлет» в моём переводе — единственное, что пока могу подарить.
Чернилами, характерным летящим почерком, крупно, во всю страницу написано:
«Артуру Крамеру — на счастье». И подпись, и дата.
Аккуратно завёртывает книгу в газету, перевязывает крест–накрест шпагатом, подаёт. Лицо вдруг замкнутое, трагическое.
Выходим в переднюю.
— А почему вас так долго не было? — вырывается у меня.
— Ждал, пока чернила просохнут. — Детская, извиняющаяся улыбка озаряет лицо.
Он тянется снять с вешалки дождевик.
— Куда вы? Слышите, какой ливень?
— Провожу вас на станцию.
— Не надо. — Говорю это так твёрдо, что он соглашается и тут же предлагает:
— Тогда можно, я буду стоять и смотреть, пока вы не скроетесь за поворотом? И не забудьте про уговор.
Я выхожу с участка, иду к повороту, оглядываюсь. В освещённом прямоугольнике двери ещё видна фигура Поэта, смотрящего вслед…
Глава двадцать первая
Бурная горная река, круто огибая холм, впадала в другую реку, а та — в море.
Отсюда, с вершины заросшего вековым лесом холма, далеко видна была низменность, где сливались реки. Сейчас, в самом начале марта, здесь уже зеленели поля, явственно пригревало утреннее солнце.
— Артур! — раздался откуда‑то снизу чуть слышный голос Нодара. — Вы где? Идемте пить кофе!
Я с неохотой отделил спину от нагретой мраморной стены, обошёл её по узкой тропке над самым обрывом, миновал остаток другой стены с нишей, где, по уверениям Нодара, древние хранили свитки своих книг. Продираясь сквозь дикий кустарник с набухшими почками, вышел к развалинам башни, под которыми зиял чернотой вход в подземелье.
После воли и света спускаться в могильной тьме без фонаря было неприятно. Ступени вели вниз и вниз, потом подземный ход сделал резкий изгиб — в уши ударил грохот. Мрак стал зыбким, обозначились края каменных ступеней, вековая копоть на стенах и сводчатом потолке; и вот впереди заиграла слепящим солнцем река.
Тут, где выходил подземный ход, река, стиснутая скалистыми берегами, сворачивала влево и билась о камни так, что водяной дым стоял над мокрыми склонами.
Я глубоко вдохнул насыщенный озоном воздух, увидел, как, блеснув на солнце, вскинулась из воды форель…
— Где будете начинать? — спросил Нодар, когда мы уселись друг против друга за дощатым столом под навесом. Развернутый план древнего города лежал между нами, придавленный по краям обломками черепицы. — Знаете, Артур, наверху, в цитадели, по–моему, искать нет смысла, захоронения обычно делали у подножия крепостных стен. Здесь, кроме царских и общественных бань у реки да фундамента дворца, где стоит вон тот храм, уже христианский, неинтересный, мы ничего не обнаружили.
Прихлебывая кофе из чашечки, я перевёл взгляд с плана на храм: разрушенный, с проломом в стене, без дверей, он стоял поодаль, словно сирота, до которого никому нет дела.
— Под этим лесом весь холм — сплошной древнеримский город, — продолжал Нодар, — а под ним, возможно, и древнегреческий. Раскорчевана только десятая часть леса. Круто. Грунт скальный. Поэтому девять лет занимались в основном тем, что у подножия. И цитаделью наверху. Открыли там подземный ход, видимо, он служил для доставки воды, когда была осада. Между прочим, вы обратили внимание, под водой видны остатки каменной пристани? Корабли плыли сюда из Древнего Рима через Средиземное и Черное моря, дальше — вверх по реке.
— Как можно плыть навстречу такому течению?
— Элементарно. Бурлаки были всегда. По берегу шли рабы, волокли суда на канатах.
Здесь, на раскопках, вне московской полумузейной квартиры, Шервашидзе в своей войлочной сванской шапочке, распахнутой куртке, из‑под которой виднелась ковбойка, казался больше на своём месте. Я не без зависти глядел на него: счастливый человек, есть дело — не в тягость, а в удовольствие, да за него ещё деньги платят… Приехал сюда в свой отпуск, когда ни одного рабочего, запустение… Одно огорчало: чёрные мешки под глазами Нодара. Летели в самолёте, всё время глотал баралгин — его терзала очередная почечная колика.
Уже второй день мы находились здесь. Нодар горел нетерпением начать поиски древнего захоронения. Но — деликатный человек! — выдержал целые сутки, все рассказывал об этом месте, хранящем наслоения тысячелетий, заставил обойти всю территорию раскопок. О почке своей даже не заикнулся. А вот началось утро — не вытерпел:
— Где будете начинать?
Допивая кофе, я знал: деваться некуда, пора приступать к поиску. Хотя ещё в Москве, да и в самолёте, повторял Нодару, что не представляю себе, как это сделать. «Ничего, если можете находить предметы под скатертью, найдёте могилу и под землёй — какая разница?»
«Мне бы такую веру, — думал я. — Мог бы двигать горами».
С одной стороны, я продолжал досадовать на Анну, на её неожиданную склонность рекламировать мои дела, к которым я относился сокровенно, с другой — если б не она, оказался бы я когда‑нибудь здесь, слышал бы шум этой бешеной реки, дальний крик петухов?
Поставив опустевшую чашечку на стол рядом с планом, взглянул на холм, озарённый солнцем, на горы, которые плавной чередой поднимались за ним. На самой высокой блистал снег.
— Батоно Нодар!
Немолодой крестьянин в такой же сванской шапочке, как у Нодара, гнал корову мимо деревьев по утоптанной дороге вдоль берега. Нодар вскочил из‑за стола, побежал навстречу. Пока они обнимались, разговаривали, я разглядывал план.
Холм фактически был полуостровом, с трёх сторон окружённым рекой. Более безопасное и красивое место для города трудно было вообразить. Заречная низменность с её полями и пастбищами могла, наверное, прокормить множество народа. Подошва холма, возле которой были найдены помеченные на плане бани, триумфальная арка, фундаменты и поверженные колонны царского дворца, наверняка утопала когда‑то в садах.
Проблема Нодара как руководителя раскопок состояла в датировке. Ему непременно нужно было найти хоть одно захоронение до нашей эры. До принятия христианства покойников, оказывается, укладывали в могилу на бок с поджатыми коленями.
Бумага, на которой был вычерчен план, взбугрилась. Я протянул ладонь, чтоб разгладить её. Внезапно знакомый укол в центре ладони заставил меня замереть: ладонь застыла над местом, где была изображена дорога, примерно там, где стояли сейчас Нодар и его знакомый.
Когда я подошёл, они рассматривали круглый кирпич с дыркой посередине.
— Знакомьтесь, дорогой Артур, это мой самый большой друг и помощник, — сказал Нодар. — В зимнее время охраняет все это хозяйство.
— Вано, — поклонился колхозник. — С приездом!
— Что это у вас?
— Калорифер, — ответил Нодар. — Недалеко источник — выход термальных вод, пятьдесят градусов. К царским баням шёл глиняный водопровод, через эти дырочки в кирпичах вода текла, отапливала помещение. У нас таких много. Вот он ещё один подобрал.
— Нодар, — решился я, — давайте потренируемся.
— К вашим услугам. Что должен сделать? Могу лечь в позе покойника до нашей эры!
— Зачем? Просто запрячьте какой‑либо предмет, а я попробую найти.
Вано с недоумением переводил взгляд с меня на Нодара.
— Можно этот калорифер?
— Можно. Только, пожалуйста, поблизости. Чтоб не ходить по всей территории. — Я отвернулся.
Вскипая зеленоватыми волнами перед обломками скал, мощно текла река. Такого грохота, как возле выхода из подземного хода, здесь не было. Стоял ровный рокот. Птичка, ярко–зелёная, как живой изумруд, сидела на высунутом из воды зубчатом камне. «Зимородок, — догадался я, — караулит рыбёшку».
— Готово! — послышалось за спиной.
Нодар и Вано стояли на дороге, с показным безразличием глядя по сторонам. Лишь корова с тупым любопытством смотрела на меня.
Я обошёл её, выставив ладонь, повёл ею влево, вправо, локатором. И в тот момент, когда почувствовал: что‑то вроде зацепило центр ладони, — обратил внимание на придорожный каштан. Направился к нему и поднял упрятанный за стволом круглый кирпич с дырочкой.
— Давайте‑ка ещё попробуем, — сказал я, стараясь скрыть волнение и предупреждая восторги участников эксперимента. — Спрячьте какой‑нибудь другой предмет, желательно помельче.
…Зимородок все ещё сидел на месте. Я смотрел на него, думал: «Им просто больше некуда было запрятать. Деревьев рядом, кажется, всего три. Или четыре. Пока что все это ерунда».
— Готово!
Птица зелёной стрелой полетела низко над стремниной. Я проводил взглядом зимородка, пока тот не скрылся за скалистым мысом.
— Извините, возможно, мы переборщили, — сказал Нодар. Он стоял совсем рядом. Вано, оглядываясь, угонял корову дальше по дороге.
Я снова проделал те же движения ладонью. Шагал вперёд, потом вправо, влево… Поднимал руку выше, опускал, ладонь не отзывалась.
— А что, собственно, мы ищем?! — крикнул я Нодару, который продолжал оставаться на месте.
— Гвоздь!
— Гвоздь? — удивился я и подумал: «Это уж слишком!»
— Гвоздь, такой ржавый! — ещё раз подтвердил Нодар.
С выставленной ладонью, стоя на месте, я медленно поворачивался вокруг. В какой‑то момент показалось, что ладонь то ли отозвалась, то ли её потянула слабая магнитная сила. Закрыл глаза, с предельной чёткостью постарался представить себе ржавый гвоздь и снова стал проворачиваться… Когда ладонь опять попала в узкую зону притяжения, пошёл вперёд. Шагал, не открывая глаз, чувствуя знакомое щекотание в центре ладони, пока, споткнувшись обо что‑то, не рухнул.
— Артур, дорогой, извини меня! — Нодар не успел подбежать, как я поднялся, повелительным жестом приказал остановиться.
— Минуточку!
Передо мной возвышалась большая куча мусора. Обломки кирпичей, клочья газет, консервные банки, ветки деревьев, куски черепицы, известки… Снова воскресив в умозрении ржавый гвоздь, я повёл ладонью с одной стороны кучи, с другой. Потом откинул свободной рукой мокрую газету, схватил банку из‑под сардин и перевернул над землёй.
Гвоздь, большой, четырёхгранный, весь в ржавчине, лежал у моих ног.
…Днем пошёл дождь со снегом. Мы сидели в гостях у Вано на втором этаже старинного крестьянского дома. Сквозь запотевшие стекла веранды, кроме покрытых бегущими каплями чёрных ветвей, ничего не было видно.
— Ешьте руками, — сказал Вано, — мамалыгу едят руками.
Жена хозяина — Тамрико — внесла сковородку с бараниной, миску маринованных баклажанов. Потом появилось блюдо с кусками вареной курицы.
— Хорошо живёте!
— Дай Бог не хуже! — ответил Вано и крикнул: — Тамрико, где у нас были салфетки? Посмотри на шкафу!
— Слушайте, Артур, как все‑таки у вас получается? — Нодар все вертел в пальцах ржавый гвоздь. — Просто чудо. Пытаюсь объяснить себе — не могу, честное слово.
— У меня самого волосы на макушке зашевелились, — признался я. — Почему он четырёхгранный?
— Средневековье. Такие тогда употребляли.
— А можно его взять на память?
— Я вам десяток найду, хотите? — вмешался Вано.
— Спасибо. Одного хватит, — сказал я, пряча гвоздь в нагрудный карман рубахи.
Тамрико принесла бумажные салфетки и снова вышла. Я вспомнил, как сидел с Атаевым на ковре, как нас обслуживала его жена, тоже всё время выходила… Посмотрел на Нодара. Лицо с чёрными мешками подглазий было совсем больным.
Яростное чувство протеста, неприятия устройства мира разгоралось во мне. Почему Атаев должен был погибнуть? Почему страдает Нодар? Отчего мы не сидим сейчас все вместе? В конце концов, хорошие, нормальные люди должны быть знакомы между собой, а не гибнуть в окружении Гошевых. «Почему все примирились с банальной истиной, что мерзавцы всегда находят друг друга, сплачиваются, а остальные разъединены, одиноки? Как Ван Гог, тот же Атаев… Даже роман такой был — «Каждый умирает в одиночку». Да и должны ли люди умирать? Болеть?
С детства мне было присуще смутное ощущение человеческого бессмертия, данного как закон. Смерть и болезнь казались, при всём их множестве, нарушением этого закона.
Вечером, ложась спать в деревянном домике археологов, я сказал Нодару:
— Завтра попробуем выгнать камень из вашей почки. Примите сейчас на всякий случай баралгин, чтобы не мучиться. И спите спокойно. Почему‑то знаю: всё выйдет.
— Я тоже верю, — отозвался Нодар. — Дай Бог здоровья Анне, что нас познакомила.
— Вера тут ни при чём. Что‑то другое, — сказал я, засыпая.
Ночью приснилась мать. Молодая. Веселая.
Встал я на рассвете, хотел одеться потихоньку, чтоб не будить археолога, но гвоздь, забытый в кармане рубашки, выпал на дощатый пол.
— Спите, спите, — сказал я застонавшему Нодару, — ещё рано.
Открыл дверь и зажмурился. Сверкал и таял выпавший за ночь снег. Утреннее ясное солнце растапливало заиндевелые ветви каштанов.
Я подошёл к берегу реки, увидел Вано, который стоял на камне с длинным удилищем в руке.
— Доброе утро! Как дела?
Тот обернулся. Улыбка озарила небритое лицо.
— Думал, ничего не поймаю — вода мутная. Однако две штуки взял! — Свободной рукой он поднял из воды проволочную корзинку, в которой запрыгали крупные, в красную крапинку рыбины. — Форель! Еще одну уговорю, и пойдём завтракать. Нодар спит?
Я кивнул и двинулся вдоль реки по раскисшей от снега дороге. Вдруг подумал: «Хорошо, что Анна с мамой. Как никогда, спокойно за нее…»
Со двора дома Вано, одиноко стоящего возле триумфальной арки, донёсся крик петуха. И тут же ему ответил другой. Где‑то неподалёку была деревня.
Я свернул на тропинку, подошёл к арке, задрал голову. Шапка мокрого снега лежала на мраморе. Пронизанные солнцем капли срывались, падали на лицо. Ступил под арку. Она была не широкая. Во всяком случае, колесница вряд ли могла бы проехать. «Наверное, проводили под ней триумфаторов», — решил я, выходя под косо летящие капли.
Одна из них попала за шиворот. Я поёжился и пошёл на дорогу к тому месту, где вчера встретились Вано с Нодаром.
«Сомнительно, чтоб местность изменилась за тысячелетия, — думал я. — Так же текла река. Так же стояли горы. Чего уж там — триумфальная арка стоит. Значит, здесь, где церковь, был царский дворец, наверху цитадель. А может, кладбище скрыто на холме в корнях букового леса? Тоже сомнительно: кто будет хоронить на крутых склонах?»
Я хорошо помнил ощущение в ладони, когда проводил рукой над дорогой, означенной на плане. С другой стороны, это казалось слишком простым решением — искать прямо здесь, на дороге. Вчера спросил Нодара: велись ли раскопки тут, на самом берегу?
«Конечно. Именно на берегу в двух разных местах найдены бани — царские и городские».
«Нет, а вот здесь, где мы ходим, копали?»
«Дорогой, здесь, где ходим, всегда ходили, от Ромула до наших дней. Зачем копать? Дорога есть дорога».
Возможно, это было и так, но, пока Нодар спал, я решил все‑таки довериться своему ощущению. Остановился, издали осмотрел путь, по которому должен был пройти не споткнувшись, закрыл глаза, представил себе лежащий на боку скелет с подогнутыми конечностями, выставил ладонь и двинулся вперёд.
В ладони щёлкнуло сразу же. Я замер и стал опускаться на корточки, делая шарящие движения рукой. «Да. Похоже, прямо здесь», — подумал я, открывая глаза, и в этот миг показалось, что вижу, реально вижу сквозь землю лежащий скелет.
— Не может тут быть ничего, — раздался голос Вано. — Один камень.
Он стоял передо мной с удочкой и проволочной корзиной с тремя форелями.
— Пожалуйста, шагните сюда, на моё место, — попросил я. — Я сейчас.
Подбежал к мусорной куче, поднял обломок белого кирпича и, вернувшись, положил у ног Вано.
— Никто не тронет?
— Мои дети в школе. А зимой здесь больше никого нет. Через полчаса рыба будет готова. Жду вас с Нодаром.
«Не верит», — с досадой подумал я. Мне было не до рыбы. Хотелось немедленно взять лопату и приступить к раскопкам.
Вскоре выяснилось, что дело это не столь уж простое. Судя по медлительности, с которой Нодар умывался, брился, тащился потом завтракать форелью, было ясно, что он готов поверить во что угодно, только не в место, найденное мной. Лишь послав Вано за какими‑то колышками и шпагатом, он сказал:
— Попробуем, конечно. Отчего не попробовать? Только раньше, чем часа через два, не начнём. У меня тут старшеклассники заняты в качестве рабочих. Вот кончатся уроки, Вано сходит в школу, кого‑нибудь приведёт. Мне нельзя копать. А вы не умеете.
Я в душе обиделся: почему это не умею? Но через два часа убедился, что Нодар был прав. К тому времени Вано уже вбил колышки, обозначив края непомерно большого, как казалось, квадрата — два на два метра. Туго обтянул по колышкам шпагатом. Появились четыре десятиклассника, принесли из сарая мотыги, ломы, кирку и лопаты.
Затем они начали осторожно долбить грунт по всей поверхности квадрата, снимали его широкими лопатами, непременно рассматривая каждый комок на лопате, перетирая его пальцами.
Часа полтора проторчал я рядом. За это время квадрат углубился сантиметров на пятнадцать.
— Можете спокойно идти выспаться, рано встали, — сказал Нодар, который со своими чертежами сидел рядом на раскладном стуле. — Или, Вано, принеси человеку удочки, пускай порыбачит.
Но мне не хотелось ни спать, ни предаваться рыбной ловле. Я чувствовал, что теряю уверенность. В конце концов, было бы просто сумасшествием, если бы скелет действительно нашёлся на этом самом месте. «Зачем я здесь? Зачем всё это?» Я все‑таки повернулся, пошёл к домику и, захлопнув за собой дверь, рухнул на кровать. «Не надо было соглашаться! Тщеславие, самообман…» Если б можно было сейчас же вскочить в самолёт, не дожидаясь, пока кончат копать, я бы непременно улетел.
Лежал навзничь, видел перед собой фанерный потолок, угол, затянутый паутиной. И думал теперь о том, что в такую же паутину затянули лаборатория, упражнения, знакомство с Маргаритой, Игнатьичем — всеми этими странными людьми. Я с ужасом взглянул на вошедшего в домик Нодара.
— Пионерский зажим, — сказал тот.
— Что?!
— Нашли пионерский зажим для галстука, кусок битой тарелки. Культурный слой тридцатых годов. — Нодар открыл кран умывальника, подставил стакан под струю и вынул таблетки. — Может, пока займёмся медициной?
— Нет, — сказал я. — Сколько метров отрыли?
— Каких метров? Дай бог пятьдесят сантиметров. — Он принял таблетку, снова вышел.
В три часа дня я не выдержал, пришёл к раскопу. Двое школьников стояли в нём по пояс, — долбили ломами. Двое других сидели, устало привалясь спинами к высокой куче земли, загорали.
Проходя мимо них навстречу Нодару, который прогуливался поодаль, я услышал, как один из парней что‑то отрывисто сказал по–грузински, остальные загоготали.
— Ну что? — спросил я Нодара. — Плохо?
— Понимаете, культурный слой кончился, упёрлись в скальный грунт.
— Тогда засыпайте!
— Почему?
— Если скала — чего там дальше искать?
— Может, посмотрите ещё раз?
Мы вернулись к раскопу. Парни вылезли, вытащили ломы. Я спрыгнул в яму. Действительно, под ногами было что‑то вроде гладкой потрескавшейся скалы.
Я присел на корточки, вытянул ладонь. Парни и Нодар стояли на краю, напряжённо глядя вниз.
— Отойдите! — крикнул я. — Мешаете!
И опять представил себе лежащий на боку скелет, и опять ладонь отозвалась… Самым удивительным было то, что я снова увидел близко от поверхности кости скелета.
— Нодар! Дайте руку!
Нодар появился над краем, помог выбраться. Все пятеро молча смотрели на меня.
— Еще сантиметров тридцать–сорок, — сказал я и пошёл прочь.
Нодар догнал, обнял, притянул к себе.
— Зачем нервничать? Есть хотите?
— Нет.
— Тогда сварю кофе.
Пока он кипятил воду на электроплитке, пока за тем же длинным дощатым столом под навесом пили растворимый кофе, я все поглядывал в сторону раскопа. Отсюда видно было, как после ломов в ход пошла кирка. Словно маятник, мелькала над ямой.
— По–моему, они обложили меня матом, — мрачно сказал я.
— Вполне возможно, — невозмутимо отозвался Нодар.
Солнце стало клониться к вершине заснеженной горы, когда один из подростков выскочил из раскопа, что‑то крикнул Нодару.
— Взглянем? — спросил Нодар.
— Посижу. Или пойду надену пальто — прохладно. — Меня и в самом деле колотило.
Я успел войти в домик, снять с крючка пальто, накинуть на плечи.
— Если б ты видел, как они смотрят! Дураки — на меня смотрят! — с этим возгласом, от волнения перейдя на «ты», Нодар ворвался в комнату, схватил за руку.
— Кто?
— Мальчики! — Он тащил меня, не давая слова сказать. — Посмотри на них, какие молодцы, какие красавцы!
Тесной группой парни неподвижно стояли над раскопом. Последние лучи солнца освещали их. Красивого здесь ничего не было. Казалось, это сцена расстрела.
— Что? Есть что‑нибудь, ребята? — голос мой дрогнул. Я заглянул вниз и ничего не увидел в черноте ямы.
— Бичико, — обратился Нодар к одному из них, — беги к Вано, попроси фонарь и кисточки, быстро!
Минут через пятнадцать Нодар и Вано уже сидели на корточках внизу и при свете «летучей мыши» счищали кистями землю с черепа, позвонков, согнутых под углом костей ног.
Я стоял ошеломлённый. Радости не было. Ни на йоту не было радости. Наоборот, поднималось чувство, что сделал совершено недозволенное, кощунственное. «Эти тускло отблёскивающие желтизной кости были когда‑то человеком, — думал я, — лежали здесь тысячи лет, похороненные, схороненные от того, что происходило на земле, от суеты мира. И вот возник я со своей ладонью…»
Позже, когда раскоп был покрыт брезентом и все ужинали при свете фонаря за тем же длинным столом под навесом, я поделился этими мыслями с Нодаром.
— Напрасно. Напрасно так думаешь, — сказал Нодар. — Человечество должно знать своё прошлое. Если б не мы, гробокопатели, если б не археология, чем было бы человечество сейчас: без Помпеи, скифских курганов… Лучше скажи — это одиночное захоронение?
— Нет. Кладбище. — Я даже не взглянул в сторону раскопа. Перед умственным взором, словно мгновенно освещённые фотовспышкой, мелькнули границы этого кладбища — от раскопа до триумфальной арки.
…Перевозбужденный, я долго не мог заснуть, думал о том, что надо бы фиксировать в записной книжке подобные истории, да и начинающийся опыт целительства тоже, но в конце концов, вытащив из своей потёртой дорожной сумки папку с взятой у Маргариты рукописью, которую так и не успел начать в Москве, принялся за чтение.
Это был напечатанный на машинке текст, непереплетенный. Без заголовка. Без фамилии автора.
Лист за листом слетал на пол возле кровати.
Я так подвесил газету к лампе, чтобы лицо Нодара было в тени. Он спал, как всегда, постанывая.
«Если каждая клетка человека хранит генетическую информацию обо всём организме, если мы уже теперь можем из одной клетки растения вырастить всё растение, то не будет большой смелостью интерполировать наши знания на порядок выше и догадаться, что любой индивидуум есть клетка всего вида. Человек — клетка всего человечества. И, следовательно, в любом человеке в свёрнутом состоянии обязательно заложена информация обо всём человечестве, с его прошлым, настоящим, а может быть, и будущим».
Далее неведомый автор рассказывал об опытах над муравьями, птицами, стадными животными. Выяснилось, что при строго определённом количестве, скажем, муравьёв образуется некое энергетически–информационное поле, заставляющее их строить муравейник, который они никогда раньше не строили. Муравьев должно быть не меньше определённого числа, чтоб возникла критическая масса информации, понуждающая их в разумных пропорциях поделиться на муравьёв–солдат, муравьёв–строителей и так далее. То же самое происходит с термитами, пчёлами. Только при определённом количестве особей птицы сплачиваются в стаи, антилопы — в стада.
Автор называл это явление «коллективным разумом вида». В рукописи высказывалось предположение, что нынешняя численность человечества уже подвела к созданию критической массы вида, свидетельством чего, во–первых, является новое для истории осознание все большим количеством людей себя в качестве единой человеческой семьи и, во–вторых, всё более частое появление личностей, обладающих способностью подключения к всеобщему разуму…
Далее шла речь о духовности. Автор утверждал, что этим понятием часто жонглируют, или не вкладывая в него никакого содержания, или считая духовность синонимом всеобщей грамотности. Но любое накопление знаний человеком вовсе не делает его духовным. Среди фашистов были и образованные люди, любившие музыку Баха, Бетховена, Вагнера…
Рукопись неожиданно кончилась строками Маркса. Они, словно прожектор, осветили для меня многое:
«Царство свободы начинается в действительности лишь там, где прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью, следовательно, по природе вещей оно лежит по ту сторону сферы собственно материального производства… По ту сторону его начинается развитие человеческих сил, которое является самоцелью, истинное царство свободы, которое, однако, может расцвести на этом царстве необходимости как на своём базисе. Сокращение рабочего дня — основное условие».
…Около шести утра у Нодара начались почечные колики. Проснувшись, включив свет, я увидел, как тот корчится, не в силах сдержать стона.
— Простите меня, пожалуйста, — сказал я, проклиная себя за то, что не попытался раньше помочь Нодару. — Ну, сейчас всё пройдёт, повернитесь, если можно, ко мне. Вот так.
Руки гудели, розовые полосы струились из пальцев. Отшвырнув одеяло, я подсунул одну ладонь слева под поясницу Нодара, туда, где была больная почка, другой же начал водить сверху…
— Ты прости, — проговорил Нодар. — Разбудил, спать не даю. — И вдруг сказал: — Отрезало!
— Что отрезало?!
— Не болит. Как отрезало.
— Можете встать? Постоять передо мною?
— Брюки надеть? — спросил Нодар, поднимаясь и подтягивая трусы.
— Не надо, князь. Стойте спокойно.
Я пододвинул табуретку, сел перед ним и начал шарящими движениями ладони искать место, где застрял камень.
Оно было слева от пупка, чуть ниже.
— Что у вас там, мочеточник? — спросил я, сильно нажимая пальцем.
Нодар вскрикнул от боли.
— Он, сволочь, здесь и застрял. В Москве снимки есть, к сожалению, не захватил.
«Ну и зря не захватил, — подумал я. — А мне пора анатомию знать». Я снова взглянул на свои розовые полосы, потом погрузил их в то место, где был камень, и тут же пришло решение: дробить, гнать вниз.
Изо всех сил тряс руками, поворачивал Нодара, обрабатывал это место спереди, сзади, сбоку — дробил камень, гнал его.
Минут через десять Нодара стало шатать. Я поддержал его, усадил на койку. Потом, ополоснув кофейную чашечку, налил в неё из‑под крана воды. «Если информация доходит с водой до семян, почему она не может дойти до мочеточника, до камня?» — подумалось мне.
Теперь я стряхивал энергию в стоящую на столе чашечку. «Вода, миленькая, дойди, вытолкни инородное. Молекулы, попадите туда, в мочеточник Нодара, очистите его…» Я чувствовал: чем наивнее, чем проще информация, тем действеннее будет результат. Молекулы воды представлялись множеством прозрачных прямоугольников. Обладающих детским разумом.
Когда я выдохся и провёл ладонью поверх воды, ощутил явственный, упругий столб энергии.
— Выпейте это, — сказал я, подавая чашечку Нодару. И повалился на постель.
…Проснувшись, я обнаружил, что Нодара в комнате нет, листы рукописи подобраны с пола, лежат аккуратной стопкой на столе.
Умылся, вышел навстречу тёплым лучам солнца. Нодар и Вано что‑то делали там, над раскопом. Я направился к ним, ещё издали крикнул:
— Болит?!
— Нет, — сказал Нодар. Он фотографировал с разных точек лежащий в яме скелет. — Ждем тебя. Вано и Тамрико опять приглашают на завтрак.
— С удовольствием, — ответил я и подумал: «А если это обыкновенная психотерапия? Или приступ сам по себе кончился? Ведь так у него бывало не раз».
После завтрака на той же веранде, когда выпили чай, Нодар отлучился и вдруг влетел обратно с вытянутой рукой, зажатой в кулак.
— Не побрезгуй! Не побрезгуй! Смотри, что я поймал, когда писал! — он разжал пальцы. Серый камешек неправильной формы лежал у него на ладони. — Дайте пузырёк какой‑нибудь, с пробочкой! Я его в Москву отвезу своим урологам. Слушай, Артур, ты понимаешь, что ты сделал?!
— Не очень. — Я сам был потрясён.
Вано и Тамрико о чём‑то шептались.
— Знаете что, — сказал Вано, — у нас учитель болен. Возили в Тбилиси — не помогло. Может быть, посмотрите?
— Почему нет?! Посмотрит! Поднимет на ноги! — вмешался Нодар, который мыл руки у рукомойника. — Надо помочь, Артур! Чудесный человек, всех их грамоте обучил, я его давно знаю, все девять лет, пока здесь копаем. Сельский интеллигент, фронтовик. Грех не помочь.
— Пойдем. Но я ни за что не ручаюсь.
— Зачем «пойдём»? Поедем! — обрадовался Вано. — Машину имею.
…На помятом заржавленном «запорожце» мы въезжали в старинное грузинское село. Справа остался деревянный мост через реку, слева тянулись горы.
«Что за судьба у меня? — думал я. — Что происходит? Будто лишился воли, своего выбора… Несет! Зачем? Куда? Чем все это кончится?»
Машина остановилась возле проволочного забора с воротами. В глубине большого двора виднелся кирпичный дом на сваях. Деревянная галерея обнимала его на уровне второго этажа.
Нодар с Вано и Тамрико пошли в дом. Я ходил взад–вперёд по асфальтовой дорожке среди двора, ждал, пока позовут.
«Все‑таки странно обернулось, — думал я. — Я здесь, Анна в Москве. Уже четвёртый день бездельничаю, понуждают играть роль не то врача, не то знахаря. Возят, как какого‑то генерала. Бред. Надо скорей браться за что‑то реальное, может, написать очерк о древнеримском городе?!»
Меня захватила эта идея. Поскольку мы приехали на неделю, я решил оставшиеся дни посвятить сбору материала, подробнее расспросить Нодара о раскопках, о его проблемах как руководителя археологической экспедиции. «По крайней мере, будет хоть нечто осязаемое, полезное, — думал я. — Вернусь не с пустыми руками. Если очерк напечатают — ещё и заработаю».
По своей давней привычке к бедности я не сразу вспомнил, что на какое‑то время обеспечен благодаря продаже марок. А вспомнив, поразился: до чего фантастически изменилась жизнь. «Кстати, — непоследовательно подумалось мне, — нужно непременно заставить Нодара сделать в Москве рентген. Кто знает — тот ли вышел камень?»
— Мамочка! — раздался голос откуда‑то сверху.
С галереи звала, махала рукой старая одутловатая женщина в накинутом на плечи пуховом платке. Я огляделся. Кроме индюка, расхаживающего в лоснящейся свежей траве, вокруг никого не было.
— Мамочка! Поди! Поди! — продолжала махать старуха. — Сюда иди!
Я понял, что зовут именно меня.
Тамрико, которая как раз спускалась, чтоб встретить у входа, провела по наружной лестнице на галерею, а оттуда в комнату, где у ложа больного стояли Нодар и Вано. Чувствовалось, что комнату только что наспех прибрали, сменили постельное белье. Пахло одеколоном.
Чистое, видимо только что выбритое, лицо старого человека, укрытого одеялом с накрахмаленным пододеяльником, было по–своему красиво, словно античная медаль.
— Вот наш дорогой Отари, — сказал Нодар. — А это Артур — настоящий волшебник!
— Почему? — спросил слабым голосом больной. — Почему никто не предложит стула? Здравствуйте. Пожалуйста, садитесь.
Я сел на стул, подставленный Вано. И почувствовал, что за моей спиной прибавилось народа.
— Простите, как ваше отчество?
— Отар Степанович.
— Что с вами, Отар Степанович?
— Может быть, пусть жена расскажет? — вмешался Нодар.
Я оглянулся, увидел ту самую одутловатую женщину, которая звала меня с галереи. В руках у неё были бумажки, очевидно выписка из истории болезни, рецепты. За её спиной, ближе к двери, теснились молодые ребята. Те самые, что вчера работали на раскопе.
— Она не знает по–русски, — сказал Отар Степанович. — Лежу почти месяц уже. Боль — повернуться не могу.
— Где боль?
— В радикулите. Спину больно. Скажите, если уколы делали, таблетки ем — не помогает, разве это радикулит?
— Посмотрим. — Было неловко протягивать свои руки, не хотелось приводить присутствующих в замешательство. И я попросил всех выйти.
Оставшись наедине с больным, обследовал ладонью позвоночник, поясницу. От одного из поясничных позвонков прерывисто, как морзянка, било холодом.
Начал насыщать это место энергией. Будучи уверен, что у Отара Степановича защемлён нерв, я не очень‑то представлял себе, как быть. Ни насыщение энергией, ни прогрев растёртыми друг о друга ладонями — все это не давало никакого эффекта, хотя больной, лёжа на животе, трогательно приговаривал:
— Как будто легче, немного легче.
«А может, там, наоборот, переизбыток?» — подумал я и стал выматывать всепроникающими розовыми полосами эту холодную энергию, зацеплять, вытаскивать её из позвонка наружу…
— Отар Степанович, попробуйте двинуться.
Едва шевельнувшись, больной закричал. Я испугался, что сейчас ворвутся домочадцы.
— Спокойно!
И тут я вспомнил, как недавно во время занятий Йовайша раздал каждому по листу голубоватой бумаги с изображениями человеческих стоп. Оказывается, что и на стопах, как и на ушах, каждый участок представляет внешние и внутренние органы… Наружный край, ребро стопы, представлял весь позвоночник.
Я откинул с ног одеяло и указательным пальцем стал поочерёдно надавливать и массировать ребра сначала левой, затем правой стопы. Потом сообразил, что участок, где стопа изгибается к пятке, подобен изгибу спины к пояснице. Изо всех сил нажал на этот изгиб раз, другой…
— Подвигайтесь, спровоцируйте боль!
Отар Степанович робко шевельнулся.
— Ничего не чувствую.
— Смелее! Не бойтесь! — Я снял одеяло, помог ему повернуться на спину, сесть, спустить ноги с кровати. Вокруг талии поверх кальсон у него был повязан какой‑то белый широкий пояс.
— Что это такое?
— В Тбилиси дали. Американский. Против радикулита. Пятнадцать рублей стоит.
— Снимите.
Развязывая пояс, старик удивился:
— Поворачиваюсь! Сижу!
— А сейчас встанете. Где ваши брюки?
Я достал из шкафа брюки, рубашку, помог надеть туфли.
— Вставайте!
Отар Степанович поднялся, сделал шаг.
— Ну что? — Я подстраховывал его, стоял рядом.
Недоуменная улыбка показалась на лице старика. И вдруг исчезла. Я встревожился.
— Моя Натэлла. Извините, раз вы уж здесь, сердце у неё.
— Хорошо. Посмотрю. Только идите за ней сами.
— Сам? — Старик с испугом взглянул на расстояние, отделяющее его от двери.
— Не робейте, Отар Степанович. Вперед!
Старик робко двинулся. У самой двери обернулся, выдохнул:
— Не болит.
…Пока я занимался одутловатой Натэллой, у которой действительно оказалось нездоровое сердце, привели её двоюродную сестру с воспалением седалищного нерва. И тут произошёл сбой: как я ни бился, женщине не становилось легче. Вконец измучившись, отпустил пациентку, и тут же на её месте возник мальчик с гландами.
После мальчика Тамрико умолила выйти во двор, куда привезли ещё одного острого радикулитчика — колхозного агронома.
Спускаясь по лестнице, я ужаснулся. Двор был полон народа. У раскрытых ворот стояли машины, подводы с лошадьми.
— Что вы наделали? — шёпотом сказал я Вано, шествующему рядом со стулом в руках.
— Они все заплатят, заплатят.
— Вы с ума сошли. Никаких денег я не беру.
— Не берете? — огорчился Вано.
Сидя на стуле, я принимал пациентов. Нодар, Вано, Тамрико ассистировали мне. То приносили стаканчики с водой для насыщения её энергией, то устанавливали очередь, прекращали брань. Краем глаза я порой замечал, как по двору довольно бодро снуёт Отар Степанович.
Непомерная усталость наваливалась на меня, а народа всё прибывало. Самым поразительным было то, что люди продолжали излечиваться. Снималась зубная боль, головная, стихали рези в желудке, в придатках. Переставали болеть сердца.
Отпустив очередного пациента, я сидел в изнеможении, расслабленно уронив руки, когда, раздвигая толпу, показался коренастый милиционер с лейтенантскими погонами.
«Заберут», — подумал я. Мне уже было всё равно.
— Здравствуйте!
— Здравствуйте.
— Фурункулез лечить можете?
Я смотрел на лейтенанта, который торопливо расстёгивал китель, чувствовал, что выдохся окончательно.
— Завтра.
— Что?
— В другой раз. Извините. — И я начал валиться со стула.
…Нодар и Вано, поддерживая, вели меня к машине, Тамрико расчищала дорогу.
Открытый багажник «запорожца» был доверху забит какими‑то банками, пакетами, узелками. Отар Степанович и один из вчерашних парней втаскивали на забитое мешками заднее сиденье тяжёлую бутыль.
Меня усадили рядом с Вано. Поехали вдвоём, так как для Нодара и Тамрико места не осталось.
Машина вырвалась из села, покатила вдоль реки. Солнце уже клонилось к горам.
Вано остановился возле своего дома, помог выйти. На воротах белела наколотая на гвоздь бумажка. Вано снял её, развернул. Потом подал мне.
Это была телеграмма. «Возвращайся. Мама больна. Анна».
Йовайша задал новое упражнение: перед сном надо вспомнить весь день, увидеть себя со стороны, будто смотришь немой фильм. А когда дойдёшь до вечера — вспоминать в обратном порядке. На следующий день нужно вспомнить уже два дня туда и обратно, далее — три дня. Так до семи дней сразу.
Поначалу это очень трудно. Застреваешь на встречах, разговорах, ситуациях. Порой ловишься на том, что не видишь себя или выпадает часть дня — кажется, невозможно вспомнить, что ты делал, где был. Обратный порядок воспоминания, задом наперёд, сперва смешон и странен. Это как кино, пущенное вспять.
Но постепенно замечаешь, что при обратном порядке вспоминается гораздо больше деталей, подробностей. Это в конце концов объяснимо. Совершенно необъяснимо другое: когда идёт обратный порядок и глядишь на себя со стороны, особенно если это связано с быстрым проходом по улице, поворотом за угол, — всем телом чувствуешь реальное дуновение упругого ветра. Он сшибает тебя, сопротивляется твоему на–оборотному перемещению в пространстве.
Сегодня в лаборатории спрашиваю Йовайшу: что же это такое?
Отвечает, по своему обыкновению коротко и загадочно:
— Ведь вы читали труды пулковского астронома Козырева? Время — это энергия. Оно имеет вектор.
Я помню об этом дне. Весь год помню. Подвел черту под прежними стихами. Под собой прежним. Какое счастье, что я тогда не подарил Поэту свою первую книжку.
Всегда писал искренне. Можно хотеть быть искренним, но не уметь им быть. Это мне было дано с самого начала. Но я пытался смотреть на жизнь глазами Маяковского, Уитмена, того же Поэта.
Теперь учусь видеть сам, искать свои слова. Как трудно понять действительность, которая в упор смотрит на тебя каждый миг. Кажется, понять её до конца невозможно. Загадка. Задуманные стихи в процессе творчества вырываются из‑под контроля. В итоге выходит не совсем то, что замыслил. И в этом «не совсем» — какой‑то сокровенный, тайный подсказ.
Зато ни одно из новых стихотворений напечатать не удаётся. Виктор Борисович Шкловский, Борис Слуцкий, Михаил Светлов — редактор первой книжки — не дают пасть духом, поддерживают.
Жизнь продолжает цыганить меня по командировкам от случайных газет и журнальчиков. Где я только не был за этот год: жил на острове Шикотан, видел с борта рыболовного сейнера Тихий океан, японские берега, занесло в феврале в Смоленск, поздней осенью — во Льгов, потом за Полярный круг — в Воркуту.
Куда б я ни приезжал, людей почему‑то тянет рассказать мне свои беды. А беды? на белом свете много.
Я рвусь помочь. Яростно пишу статьи, очерки. Хожу в Москве по чужим делам, обиваю пороги учреждений. В отличие от стихов, статьи и очерки публикуются. Но как? Редакторы вытравливают почти всю остроту проблем, вписывают своё. «Да это антисоветчина, вы что — хотите, чтоб вас арестовали, а нас с работы сняли?» Порой мне стыдно того, что выходит на страницах газеты или журнала под моей подписью. Это не я. Не то, что я думал, что хотел сказать. Все мои старания не могут никому помочь. Ничто не меняется. Безнадёга.
С такими делами, с таким настроением встречаю Новый год.
На «Соколе», как раз наискосок от дома, где живут Левка с Галей и Машей, я сижу в квартире испанских политэмигрантов Педро и Роситы. Здесь находится и приехавший из Парижа повидаться со старыми друзьями легендарный командир интербригадовской части — Рамон. Здесь чешка Ружена, сидела восемь лет в наших лагерях. Реабилитирована. Здесь Искра, болгарка, с которой я подружился ещё в Литературном институте.
Связная подпольного ЦК, совсем девчонка, она была выслежена фашистами, пережила пытки, приговор к смертной казни. Ее спасло наступление Советской Армии. Теперь Искра приехала собирать в Библиотеке имени Ленина материалы для книги о Платонове. Это она привела меня сюда.
Последним приходит Хосе — советский испанец, родившийся здесь. Он моложе всех. Есть в нём что‑то неприятное: демонстративный жест, с которым поставил бутылку коньяка, то, как фамильярно лезет целоваться с Рамоном.
Рамон седой, лицо — в шрамах.
Он привёз из Парижа ящик испанского вина и стеклянный сосуд с длинным носиком.
Учит меня пить «по–каталонски». Нужно одной рукой высоко поднять этот сосуд, полный красной, как кровь, жидкости, нагнуть и ловить ртом тугую струю. Под общий хохот я, конечно, залил свою белую рубашку, наглаженную мамой.
Искра заставила меня прочесть стихи.
В красной мокрой рубашке сижу перед ними, читаю самое сокровенное, тревожусь: не дойдёт, плохо знают русский.
Но Рамон сильной рукой треплет по голове, по плечу, говорит:
— Артуро, камарадо, нет грустить. Увидишь — все переменяется. И ещё — узнаем смерть Франко. Ты, я пойдём по Мадриду вместе…
Первое воскресенье после Нового года наступает через четыре дня. То самое воскресенье, когда меня ждёт Поэт. А вдруг забыл, вдруг стихи не понравятся? И хочется ехать, и страшно.
Днем меня зовут к телефону. Звонят из районного отделения милиции, требуют, чтобы явился к семи вечера, в комнату номер одиннадцать.
Зачем? Почему в воскресенье, да ещё вечером? Никаких объяснений не следует.
Что ж, значит, не выпало мне ехать к Поэту. Да он, должно быть, и в самом деле забыл — больше года прошло…
Не чувствуя за собой вины, являюсь в райотдел милиции на улице Станиславского. Прохожу мимо дежурного, отыскиваю комнату номер одиннадцать, стучу.
Встречает пожилой человек в штатском, вежливо предлагает снять пальто, сесть к столу, где светит настольная лампа.
Сажусь, спрашиваю:
— В чём дело?
Он вынимает из ящика книжку стихов, вырезки из газет и журналов — мои статьи и очерки. Говорит, что является поклонником таланта, не пропускает ни одной публикации.
Снова спрашиваю:
— В чём дело?
— Где вы были на Новый год?
— Ах, вот оно что! А какое у вас право задавать такие вопросы?
Он показывает удостоверение, ласково просит не волноваться, успокоиться.
— Там среди гостей находился ещё один советский, по имени Хосе. Давно вы его знаете? Раньше встречались?
— Нет. Не встречался.
— А что он говорил о нашем сельском хозяйстве? О международной политике? А его мнение о промышленности?
— Послушайте, во–первых, этот человек ни о чём таком не говорил. А во–вторых, я пошёл.
Он вскакивает, запирает дверь, затем садится, взглядывает на часы.
— Будете сидеть, пока не вспомните.
Откидываюсь на спинку стула, вытягиваю ноги. Совесть моя чиста. Он перебирает вырезки. Через стол видно — некоторые абзацы отчёркнуты красным.
— Между прочим, здесь достаточно материала, чтоб засадить вас в лагерь. — Он вдруг разворачивает лампу, ослепляет. — Говорите! Что вы думаете об этом Хосе, о его моральном облике?!
— Думаю, что Берия давно расстрелян. И сгнил.
Глаза привыкли к свету. Вижу в его руке пистолет. Щелкает предохранитель.
— Видишь на столе авторучку и бумагу? Если не выдашь всю информацию…
Телефонный звонок. Он срывает трубку, отвечает:
— Нет… Нет… Нет… Так точно. — Кладет трубку, обращается ко мне: — Ну, мы немного погорячились. А теперь начнём сначала. Что он говорил о сельском хозяйстве?
Так я провожу время до двух часов ночи. На расстоянии чувствую, как волнуется мать: ушёл в семь, уже два…
Наконец то ли он устал, то ли понял, что я действительно ничего не знаю, — отпускает. Только требует, чтоб дал подписку о неразглашении.
— Нет. Не имели права допрашивать меня да ещё запугивать. Обязательно буду рассказывать всем, а когда‑нибудь и опишу.
Через четыре года я узнаю, что Поэт ждал в тот вечер, тревожился: не случилось ли чего с Артуром Крамером?
Глава двадцать вторая
Я вышел в распахнутом пальто из вестибюля больничного корпуса, увидел сквозь струи метели чёрную «Волгу». Человека, стоящего у «Волги». Человек курил.
— У вас не найдётся сигареты?
Человек выщелкнул из пачки сигарету, подал коробок спичек. Я чиркал спичками. Они ломались, гасли. Руки ходили ходуном.
Человек отобрал коробок, зажёг спичку, дал прикурить.
— И ещё: как выбраться к остановке? — спросил я, откашлявшись от горького дыма.
Человек нагнулся, поднял шарф, упавший к моим ногам, подал.
— Направо через пустырь — там увидишь.
Я пошёл направо с шарфом в руке. Остановился. Оглянулся на корпус, на окна третьего этажа… Потом двинулся дальше узкой тропкой среди сугробов. Метель била в лицо.
Я знал: это конец.
Не верил в силу дефицитных лекарств, которые врач посоветовала срочно достать. Какой‑то японский гамалон в ампулах, трентал, кавинтон…
Дойдя до остановки, рывком отряхнул шарф от налипшего снега, намотал на шею, застегнул пальто до горла. «Вот так оно случилось, — думал я, — оказывается, вот так…»
Вчера, добравшись домой из аэропорта, застал у постели матери Анну и участковую врачиху из поликлиники. Ставили банки.
Казалось, мать всего лишь простужена. Свистят лёгкие. Ничего больше. Ну, высокое давление. Тоже не раз бывало.
Когда врачиха, сделав напоследок укол, ушла, мать через силу улыбнулась:
— Как съездил?
— Замечательно съездил. Что сделать? Что у тебя болит?
— Мне лучше. Жалко — не успела…
— Что не успела?
Не ответила. Закрыла глаза, заснула.
Вечером сидели вместе с Анной на кухне, пили чай, разговаривали вполголоса. Оказалось, пока я находился с Нодаром в Грузии, они решили быстро сделать ремонт, по крайней мере побелить потолки, сменить обои в моей комнате.
Позавчера Анна с утра, побелив кухню, уехала на работу, а когда вернулась вечером, после того как купила в магазине обои, застала мать с температурой тридцать девять, в забытьи. Вздумала при распахнутой фрамуге вымыть заляпанный побелкой кухонный пол…
— Я виновата, — сказала Анна. — Нельзя было так оставлять, зная её характер. Пришла — фрамуга распахнута, сквозит.
— Что поделать, — ответил я. — Хороший характер. У мамы всю жизнь такой. Ложись спать.
— А ты? Я правильно сделала, что дала телеграмму?
— Еще бы. Пойду взгляну на неё, тоже лягу, устал.
— Расскажешь, как там у вас было с Нодаром?
— Конечно. Иди ложись.
Сейчас, когда, дождавшись автобуса, ехал из больницы к центру, я казнился, что в тот момент вчера вечером, наверное, упустил последний шанс, непоправимо упустил.
Тогда, войдя в комнату, я сел на стул у постели матери. Наверняка нужно было что‑то делать… Но что? Она спала, слышалось хриплое дыхание.
Снизилось ли после укола давление? Болела ли у неё голова? Сердце? Чтоб, не дай Бог, не сделать хуже, нужна была обратная связь, но мыслимо ли будить человека в таком состоянии? Я только шепнул, как в детстве: «Мама», коснулся губами влажного лба. И пошёл спать.
А на рассвете проснулся от страшного, непривычного звука. Из материнской комнаты доносилось мычание. Прерывистое. Жалобное.
Кинулся туда. Столкнулся со взглядом, полным муки.
В жизни я не был так растерян. Забыл себя. Забыл все. Мама не могла говорить, не могла шевельнуть правой рукой, правой ногой.
Как Анна дозванивалась, вызывала «скорую», когда вошли в комнату врач с медсестрой, когда появились носилки — ничего я не помнил. Помнил только, как сидел, склонясь над матерью в тесноте санитарной машины, все спрашивал у врача: «Скоро? Скоро? Куда мы едем?!»
Эти струи метели за окном, этот бесконечный путь… Вот, кажется, и Москва кончилась. «Куда вы её везёте?! Ведь у нас рядом больница, Боткинская».
Мать высвободила из‑под одеяла здоровую руку, потянула меня к себе. Пригнувшись к запёкшимся губам, различил только одно слово: «Плохо».
Я теребил за плечо врача, который сидел впереди рядом с шофёром: «Почему мы так долго едем?!»
«Центропункт дал восемьдесят первую больницу. Не волнуйте больную, сидите спокойно».
Даже сейчас, когда я ехал в автобусе из больницы, путь казался бесконечным. Это было Дмитровское шоссе. Метель не стихала, подлая мартовская метель.
…Когда мать выдвинули на носилках из «скорой», эта метель лепила ей в лицо, лепила, пока не внесли под козырёк подъезда приёмного покоя. Я шёл рядом, обтирая носовым платком её лоб, ресницы…
В приёмном покое взглянул на большие электронные часы. Было десять часов одиннадцать минут. Уютно сидящая у столика женщина–регистратор начала записывать имя, фамилию, возраст, домашний адрес. «Когда же начнёте лечить?! У неё инсульт!» — не выдержал я.
«Не мешайте работать. Иначе выведем».
Прошло сорок минут, я видел это по часам, пока пришёл врач, медсестра, взяли у матери кровь на анализ. Потом её увезли на каталке.
Еще через час узнал, что мать находится в третьем корпусе, на третьем этаже в восемнадцатой палате.
Корпус был новый. Лифт новый. Коридор новый. Я постучал в двери восемнадцатой палаты и, не дождавшись ответа, вошёл.
Палата была на троих. Слева и справа лежали две старушки. Еще впереди, слева, лицом к окну, лежала мать. Глаза её были закрыты.
«Мама, это я. Я с тобой».
Веки дрогнули, приоткрылись. Мать постаралась улыбнуться. Лучше бы она не делала этой попытки…
За стёклами автобуса проплыл Савеловский вокзал. Стараясь сдержать слезы, я смотрел в окно, вспоминал, как старуха, лежащая ближе к двери, сказала: «Не убивайся, сынок, мы все тут помрём»; как врач, которого я нашёл в ординаторской, подтвердил: «Левосторонний инсульт. Положение тяжкое. Если сможете — срочно достаньте вот эти лекарства. Дефицит. У нас таких нет». Выписал рецепты.
Сошел у «Новослободской», стал переходить на другую сторону. Услышал визг тормозов, резкий свисток над ухом.
— Почему идёте через проезжую часть?! Что, не видите перехода?
— Мать умирает.
Секунду милиционер смотрел на меня, потом взял за локоть, довёл до метро.
Я ехал в редакцию газеты. Знал: если кто и поможет достать лекарства, это только Анатолий Александрович.
Тот сразу все понял. Забрал рецепты. Стал дозваниваться сначала в Минздрав, затем куда‑то ещё. Теперь мне казалось, что если быстро достать лекарства, то они помогут… Во мне как бы заработали часы, отсчитывающие мгновения.
Я сидел по другую сторону стола, старался не смотреть на Анатолия Александровича, не подгонять его взглядом, думал: «Почему сегодня в палате, когда все‑таки попытался помочь матери, воскресить движение в её руке и ноге, ничего не вышло? Ровно ничего. Наверное, нужно было воздействовать на мозг, там, где прорвался сосуд, — запоздало сообразил я. — Но как воздействовать?»
Наконец Анатолий Александрович положил трубку, вырвал листок из блокнота, написал адреса двух аптек.
— Смотрите, одна в районе Рогожского вала, другая — в Измайлове. Гамалон в Измайлове.
— Спасибо. — Я направился к дверям кабинета.
— Стойте! Возьмите рецепты!
…Обратно в больницу я доехал лишь в пятом часу. Метель кончилась. Над Москвой открылось по–весеннему голубое небо.
Вбежал в палату, склонился над матерью.
— Как ты здесь? Достал лекарства, замечательные…
Здоровой рукой обняла мою голову, судорожно прижала к себе, к мокрой от слез щеке.
— Мама, ты чего?
Она силилась что‑то сказать. Я ничего не понимал. Тогда она сделала левой рукой жест, будто пишет.
Выхватил из кармана записную книжку, открыл на чистой странице, сунул в пальцы авторучку.
Большие, скачущие буквы заполнили весь листок —
БЬЮТ
БОЛЬНО
РУГАЮТСЯ
БОЮСЬ ОСТАТЬСЯ
В первую секунду, когда я прочёл, осознал смысл написанного, решил, что у неё помрачение ума… Повернулся к старухе, лежащей у стены.
— Разве здесь бьют?! — спросил я громко, чтоб слышала мать.
Но ответила не эта беленькая, испуганно глядящая выцветшими голубыми глазками старушка.
— А ты не знал, что ли, куда мать родную привёз? — ответила чернявая, цыганистая, лежавшая ближе к двери.
— Как укол али мокрое тащить, что нянька, что медсестра, и ударят, и обзовут, мол, скорей ворочайся, сволочь старая… Креста на них нет. Я тут одна встаю, так воды ей два раза давала. Мычит — пить хочет. А кто принесёт? Ты ей ещё дай: у ней губы спеклись. А лучше соку бы какого — сочка не привёз? Я б тоже попила… Ко мне ездить‑то некому.
— Мама, пить хочешь?
Она заморгала мокрыми ресницами, кивнула.
Графина с кипячёной водой не было, я взял с тумбочки гранёный стакан с остатками кефира, отмыл его под краном умывальника, налил воды, некоторое время подержал между ладоней, чтоб она хоть чуть согрелась, и поднёс матери.
Она пила жадно, до дна.
— Мама, я никуда не ухожу, скоро вернусь.
С записной книжкой в руках я вышел из палаты, прошёл по коридору к посту дежурной сестры.
— Где врач?
— В ординаторской. Если уже не ушёл, — ответила она, не поднимая головы от книжки.
Я бросился к двери с надписью «Ординаторская», открыл. Тот самый врач, который утром советовал достать лекарства, как раз стаскивал с себя белый халат.
— А! Добрый вечер! Удалось? — приветливо спросил он. — Я сейчас дам распоряжение сестре.
— Что это значит? — я поднёс к его глазам раскрытую записную книжку.
Тот внимательно рассмотрел каракули, перевёл взгляд на меня.
— Психическое. Проще говоря — бред.
— Вы уверены? Я хочу немедленно перевести маму в другую больницу. Или забрать домой.
— Ну что вы?! Зачем так нервничать? Тем более — её нельзя транспортировать. — Врач потянулся в шкаф, чтоб снять пальто.
— А бить человека, да ещё беспомощного, можно? Имейте в виду — есть свидетели.
Врач бросил на диван пальто, шагнул ко мне.
— Я вас очень понимаю. Но вы же знаете: не хватает персонала, нянечек, сестёр. Всякое бывает. Мы сейчас отыщем санитарку, поговорим с сестрой. Кстати, чтоб не терять времени, давайте лекарства, пока не ушёл, сам сделаю укол…
— Отдайте мне маму. Я хочу её отсюда забрать.
— Видите ли, наша задача — вылечить маму. А мы, повторяю, теряем время. Давайте лекарства. Все ваши претензии я передам зам. главного врача по лечебной части, как раз буду идти мимо административного корпуса, договорились?
Я вытащил из карманов коробки с лекарствами, отдал.
— Между нами говоря, — тихо добавил врач, — виноваты не мы, а вся эта система…
— Советская власть, что ли?
Тот ничего не ответил, снова стал надевать халат. Потом сказал:
— Мой вам совет. Мы сейчас найдём санитарку — дайте ей денег. Медсестре тоже.
…Перед тем как сделать матери укол, врач приподнял одеяло, пощупал простыни. Они были насквозь мокрые. Он вызвал медсестру, велел отыскать санитарку, принести чистое белье и ещё две подушки.
Санитарка оказалась грузной, неторопливой бабой со щёлочками заплывших глаз. Вместе с медсестрой она, ворча, сменила матери постель. Врач сделал укол гамалона, оставил лекарства в тумбочке, написал подробное назначение.
— Что ей нужно привезти? — спросил я, пока тот не ушёл.
— Ничего. Разве что провёрнутый в мясорубке чернослив. Мед… И не забудьте сделать то, что я посоветовал.
— Но и вы не забудьте сказать там администрации. — Я чувствовал, что меня сломали, и добавил: — Я останусь здесь.
Врач вышел вслед за медсестрой.
— А я тоже мокрая, — сказала тихая беленькая старушка.
Санитарка посмотрела на неё с ненавистью и направилась с охапкой грязных простынь к двери.
Я стоял посреди палаты. Мать лежала на высоких подушках с закрытыми глазами. (Врач сказал, чтоб непременно лежала высоко, иначе может произойти отёк мозга.)
Третья старуха, чернявая, спросила:
— Сколько заплатил‑то? Ишь устроили, словно королеву…
Я бросился в коридор за санитаркой. Догнал её возле кладовой.
— Извините, как вас зовут?
— Анфиса. А чего надо? — Узкие хитрые глазки проницательно уставились на меня.
— Вы ещё будете дежурить?
— До утра, до восьми.
— Анфиса, вот вам двадцать пять рублей. Хватит? Я тоже останусь здесь. Поможете приглядеть за матерью? Ну, если понадобятся сухие простыни или ещё чего…
— Где это останетесь? У нас не заведено, — ответила она, забирая деньги и высоко отворачивая полу халата, чтоб спрятать их в кармане кофты. — Ладно уж. Пригляжу. Поезжайте домой.
— И ещё одна просьба. Понимаете ли, там другой женщине тоже нужно все поменять. Я сам всё сделаю, только дайте, пожалуйста, комплект.
— Сам? Да ей уж ничего не надо. Глядишь, к утру помрёт. Они все тут помирают.
— Все? — с ужасом переспросил я.
Не ответив, Анфиса полезла в тесную кладовку, с трудом развернулась, выдала комплект.
Я понёс его в палату.
Мать спала. Дыхание, казалось, стало спокойным. Я повернулся к беленькой старушке.
— Бабушка, вы меня слышите? Давайте перестелимся.
Хотя старушка была худенькая, невесомая, я с непривычки умаялся, вытягивая из‑под неё мокрые простыни, клеёнку. Потом начал подстилать сухое.
— Что здесь происходит?
На пороге палаты стояла высокая женщина в халате, накинутом поверх шубы.
— Это ваша больная?
— Нет. Эта, — я кивнул на мать.
Женщина подошла к кровати, взяла мать за кисть руки.
— Можете спокойно идти домой. Она спит. Здесь оставаться нельзя.
— Нет уж, останусь.
— А я вам говорю — идите домой. Приемные часы окончились. Придете завтра.
— Я боюсь оставить маму.
— Знаю. Мне сказали. Как заместитель главного врача по лечебной части убедительно прошу вас уйти. Такие мнительные родственники, как вы, только возбуждают больных, приносят вред.
— Вы уверены?
— Абсолютно. Я посижу с вашей мамой, проверю пульс, давление. А вы идите. Отдыхайте.
…Лишь в автобусе я спохватился, что забыл дать денег медсестре.
По дороге домой успел вбежать до закрытия в магазин «Дары природы». Повезло. Там были чернослив, мёд; купил две бутылки сока — яблочного и виноградного.
— Как дела? — спросила Анна, лишь только я переступил порог.
Прошел прямо на кухню, стал вытаскивать и никак не мог вытащить из карманов пальто бутылки, пакеты. Анна помогла, повесила одежду на вешалку, усадила.
Бутылок с соком почему‑то стало семь. Не сразу сообразил, что это Анна уже позаботилась. Подумал: надо было позвонить ей, волновалась. Не было сил рассказывать о чём бы то ни было. Не было сил.
Передо мной стояла тарелка с дымящимся картофельным пюре и сосисками. Чай дымился в чашке. Поверху плавал кружок лимона.
— Очень прошу тебя поесть. Тебе тут дозванивалась Надя из киностудии и женщина из Союза писателей. — Анна погладила меня по голове.
Я поел, выпил чаю. И лишь потом увидел натаявшую с ботинок лужицу на полу, вымытом мамой.
— Спасибо. Тут чернослив, пожалуйста, проверни через мясорубку.
Вошел в комнату, раскрыл записную книжку, чтоб позвонить Наденьке, хоть на минуту отвлечься. Мелькнула страница с мамиными прыгающими буквами…
— Артур! Как я рада, что вы появились. У меня Костя болеет, в школу не ходит. Взяла бюллетень по уходу. И вот сегодня днём звонит знакомая, помните, у которой мы слушали Игнатьича?
— Помню.
— Представляете, что случилось?! Конец света не наступил! Игнатьич пришёл в милицию, говорит: «Вяжите меня, я вводил людей в соблазн!» Те его выгнали. Тогда он опять объявился на Рижском вокзале и стал там каяться… Забрали прямо в психбольницу. Наверное, нужно срочно встретиться, подумать, посоветоваться?
— Наденька, не могу.
— А почему у вас такой голос?
— У меня мама умирает.
Когда положил трубку, Анна спросила:
— Зачем ты так говоришь? Нехорошо говорить так…
Я смолчал.
Среди ночи поднялся, вышел на кухню, закрыл за собой дверь и, не зажигая света, сел за стол.
Вот тут, напротив, обычно сидела мать. Я представил себе её аккуратно причёсанную голову со сверкающими каплями воды на волосах после умывания. Почему‑то мама была связана с утром, только с утром, всю жизнь.
Закрыл глаза. В воображении пытался проникнуть за эти жаркие карие очи, за этот смуглый лоб, на котором почти не было морщин, проникнуть туда, в левую половину мозга, где произошёл разрыв сосуда.
Увидев наконец тёмное пятно разлившейся крови, приподнял левую руку, но привычного струения энергии не ощутил. И розовых полос не было видно. Включил свет. Сблизил пальцы левой и правой рук, развёл. Полос не было. Только теперь я понял, насколько вымотан, обесточен. К тому же трепетала боязнь навредить. Без обратной связи лучше было и не пытаться вмешиваться. «Скольким людям помог, а маме не могу», — с горечью подумал я. А может, вообще невозможно вылечить родного по крови? Вступают в силу законы генетики? Но вспомнилась совсем чужая женщина с воспалением седалищного нерва… Не смог не только вылечить — даже снять боль.
Подошел к окну, пригляделся. В чистом небе слабо мерцали звёздочки. Снова закрыл глаза. Перед мысленным взором торжественно и грозно возник ледяной, сверкающий звёздами космос…
И странное, ни с чем не сравнимое спокойствие нашло на меня.
«Смерти нет, — вслух сказали губы. — Нет смерти».
…В восемь утра Анна повезла меня в больницу.
— Не настраивайся на плохое, ладно? — поцеловала, передала сумку с продуктами. — После работы я тоже приеду к пяти часам, можно?
Поднимаясь на лифте, я думал о том, что забыл дома открывалку для бутылок с соком.
На этот раз не стал стучаться, отворил дверь палаты, вошёл, и первое, что увидел, — валяющееся на полу у материнской постели одеяло, раскрытую настежь фрамугу. Мать лежала под сбившейся простыней на сквозняке. Лежала низко. Голова её свалилась с подушек.
Схватил одеяло, накрыл её, приподнял, подсунул подушки под затылок.
Мать была в забытьи, тело дрожало, дыхание вырывалось с трудом.
— Мама, мама, ты слышишь меня?
Глаза её приоткрылись. Они смотрели невидяще.
— Это я, мама, мамочка ты моя, это я, Артур.
Губы её дрогнули, силились что‑то сказать.
Доставая записную книжку, авторучку, спохватился, что не закрыл фрамугу. Куцые верёвки свисали сверху. Я вскочил на подоконник, захлопнул её и, спрыгивая, только теперь обратил внимание: кровать, где вчера была маленькая старушка, пуста. Лишь скатанный матрац поперёк проволочной сетки.
— Мама, что ты хочешь сказать? Напиши. — Подставил записную книжку, вложил в пальцы здоровой руки авторучку.
Каракули налезали друг на друга. Цепенея, смотрел за тем, что появлялось на бумаге.
УМИРАЮ
НЕ ПЛАЧЬ МОЙ МАЛЬЧИК
ПОСЛЕ КРЕМАЦИИ
НЕ ХОРОНИ ДОРОГО
ПЕПЕЛ ПО ВЕТРУ
Глаза её закрылись. Дыхание стало ещё более хриплым. Авторучка вывалилась из пальцев.
Я выбежал из палаты. Медсестра, уже другая, сидела в коридоре за своим столиком.
— Врача! Срочно!
— А в чём дело?
— Матери плохо! Умирает! В восемнадцатой!
— Все врачи ещё на летучке. — Медсестра все же встала, пошла за мной.
— Тут для неё лекарства! — сказал я, бросаясь к тумбочке. Вместо трёх лекарств там было только два, так и не раскрытые трентал и кавинтон. Японский гамалон отсутствовал… — Почему ей не давали лекарств?!
Между тем сестра, взглянув на лицо матери, быстро направилась к выходу из палаты.
— Где назначение? Почему вы ей ничего не делаете?! — Я бросился за ней.
— Какое назначение? Нужно реаниматоров вызывать!
Я метнулся назад к матери, обнял, стал судорожно гладить по голове.
Ресницы её дрогнули. Она смотрела со странным, необыкновенным выражением глаз. Здоровая рука приподнялась, провела по моему лицу, как бы запоминая…
Пальцы её зашевелились. Я догадался, что она снова хочет что‑то написать.
МНЕ ХОРОШО
Я СЛЫШУ
ВИЖУ
ВИЖУ!
Я смотрел на буквы, ничего не понимал. Что она слышит? Что видит?
Дверь распахнулась. Мужчина и три женщины в белых халатах с какими‑то приборами, шлангами заполнили палату.
— Выйдите, пожалуйста, — сказал мужчина.
Уходя, я беспомощно оглянулся на мать.
Минут через двадцать бригада реаниматоров вышла в коридор.
— К сожалению, всё, — сказал мужчина. — Можете войти.
— Что «всё»? — я почувствовал, как немеют губы.
Через два часа я сидел в другом корпусе больницы, в приёмной перед кабинетом заместителя главного врача по лечебной части, и уже моя собственная рука выводила скачущие по бумаге буквы: «Прошу не вскрывать тело моей матери…»
— Оставьте, — сказала секретарша. — Я передам. Завтра воскресенье, а в понедельник с двенадцати можете приехать в морг за справкой для загса. Сможете и забрать труп. Или хоронить будете отсюда?
В сиянье слепящего мартовского дня вчерашний снег таял. Я вспомнил, что Анна должна приехать сюда после работы. Оставаться на территории больницы не мог больше ни минуты.
Сначала потащился, а потом пошёл скорее через пустырь, все скорее. Наконец выбежал к автобусной остановке. Увидел поодаль телефонную будку. В будке взглянул на часы. Было без пяти двенадцать. Стал звонить в школу, в учительскую. Казалось, ещё одна секунда, и если я не сообщу Анне, не разделю с ней своё горе, оно раздавит.
Когда Анну наконец позвали к телефону, закричал в трубку:
— Говорила: «Всё будет хорошо», а мама умерла! Ее убили! Да, убили. Все эти ваши порядки! — Я понимал, что Анна ни в чём не виновата, но не давал ей слова сказать. — Я больше так жить не могу. Не хочу. Я тоже убил — зачем я вызвал реаниматоров?!
«Зачем я вызвал реаниматоров? — повторял и повторял я потом, стоя возле будки. — Может, ты ещё жила бы, мамочка моя бедная…»
Единственное, что удалось Анне, это на миг прорваться сквозь мою горячечную речь, внушить, чтоб никуда не отходил от автомата.
«А ведь это не я вызвал реаниматоров», — вдруг ударило в голову. Вспомнились глаза чернявой старушки, забившейся под одеяло.
…Когда подъехали синие «жигули», я едва стоял на ногах.
— Прости, — только и сказал я Анне.
Этот день и следующий — воскресенье — было чувство, что мама вопреки всему жива. Страшно было зайти в её комнату и там её не увидеть. Незримое присутствие матери ощущалось всюду. Однажды я застиг себя на том, что разговариваю с ней.
В понедельник Анна отпросилась с работы и поехала вместе со мной в больницу. Все приготовления к похоронам она взяла на себя.
Я вышел из машины, направился к одноэтажному зданию морга, широкие двери его были раскрыты, виднелся постамент среди небольшого зала.
— Вы куда? — спросила какая‑то служительница.
— За справкой.
— Справки — с другой стороны.
Тропкой среди осевших сугробов я обогнул морг, увидел дверь. Вошел в залитое солнцем помещение, уставленное комнатными растениями. Две сотрудницы в белых халатах пили чай.
Объяснил, что пришёл за справкой о смерти матери.
Одна из женщин, раскрыв толстую тетрадь, что‑то поискала в ней, затем вышла в соседнее помещение и тут же вернулась.
— Вашу маму как раз вскрывают. Обождите полчасика.
— Я просил не делать этого. Заявление писал!
— Ах, это вы он самый и есть?! — сказала другая, допив чай с блюдечка. — Зам. главного врача распорядилась обязательно вскрыть, говорит, беспокойный родственник, ещё станет жаловаться в Минздрав, что неправильно лечили…
Слепо шёл я вдоль стены морга, за которой резали сейчас тело моей матери. По–южному, совсем как в Грузии, припекало солнце.
…На следующий день мать кремировали, урна с пеплом была захоронена в закрытом колумбарии на Николо–Архангельском кладбище.
И вдруг я вспомнил. Как я вообще мог об этом забыть?!
Когда‑то, когда я был в Болгарии, я пришёл в гости к Искре — бывшей связной подпольного Болгарского ЦК партии. Она непременно хотела познакомить меня с Невеной — своей подругой, бывшей радисткой партизанского отряда.
Мы сидим втроём, пьём кофе, Невена — пожилая полная женщина с седой шапкой волос — внезапно протягивает через стол руку, берет меня за ладонь и, глядя в пол, словно в пропасть, начинает быстро говорить. Искра едва успевает с переводом.
— Ты волнуешься. Ты здоров. Но у тебя горят нервы сердца, тебе нельзя волноваться. Всё будет хорошо. Фантастически хорошо. Сначала много лет будут затруднения. Когда ты начнёшь отдавать себя людям, случится смерть. У тебя есть мама. Это смерть мамы. Ты поймёшь, что должен написать книгу. Очень важную для всех. Но не будешь знать, как это сделать. Потом пойдёт! Эту книгу сначала не будут печатать. Потом увидишь, что будет. Ты сделаешь главное дело жизни. Ты его сделаешь.
Затем Невена говорит вещи, о которых нельзя здесь сообщать.
И в конце предлагает:
— Я могу ответить на два твоих вопроса. Только два. Подумай.
— Невена, скажите, неужели третья, термоядерная мировая война будет?
Лицо её делается каменным.
— На этот вопрос не имею права ответить. Говори второй вопрос.
— Ну а что будет с моей страной, с Россией, с СССР?
Невена смотрит в пол, как в пропасть.
Холодный пот течёт у меня между лопаток, вдоль позвоночника.
— Народ мечется… Народ в смущении мечется. — Лицо Невены теплеет, как бы оттаивает. — Но всё будет хорошо. Увидишь — всё будет хорошо!
…Пусть скептический читатель этих страниц вспомнит однажды сказанное Гамлетом: «Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось…»
1965 год. Навсегда расстаюсь с комнатой, откуда слышен перезвон Кремлевских курантов. Прощай и коммунальная кухня, где по ночам столько лет сочинял до рассвета.
Жильцы нашей двенадцатикомнатной квартиры ещё держат круговую оборону.
Могущественное министерство отбирает дом для своего ведомства. Домоуправ, милиция, работники прокуратуры приходят ежедневно, уговаривают взять ордера на отдельные квартиры.
Дело не только в том, что никто не хочет ехать в новые районы, где уже и Москва — совсем не та Москва, где мы все родились, где живем… Неожиданно выясняется, что все эти люди, «соседи», занимая хлеб, деньги, десятилетиями ссорясь и мирясь, прикипели друг к другу. Да так, что теперь требуют поселить всех вместе, в один дом.
Такое сплочение было только в военные годы.
Моссовет почему‑то не имеет возможности дать всем ордера в один дом. А жильцы не хотят разъезжаться.
Готовый сюжет для фильма.
Никогда ни у кого не было ни своей кухни, ни своей ванны, но никто не соблазняется. Никто не берет ордеров. Коммунальная двенадцатикомнатная квартира становится коммуной. Жильцы приносят друг другу продукты, ухаживают за больными, одинокими, присматривают за детьми.
Как просто и как счастливо, оказывается, можно жить!
В доме отключают воду, затем электричество, газ…
Остальные этажи выселены.
Но вот выявляется первый предатель. Все разваливается.
…Не забыть этого чувства семьи человеческой, солидарности. С тех пор ищу его всюду, тоскую по нему. Как тоскуют по родине.
Глава двадцать третья
Пламя свечи клонилось на сквозняке. Видимо, в храме где‑то были приоткрыты окна.
Я стоял, стиснутый людьми, и сквозь слезы смотрел вперёд, туда, где у алтаря под большим изображением Христа трепетала и моя свеча.
«Господи, прости моей маме её грехи, упокой её в Царствии Своем Небесном», — повторял и повторял слова, которым научила Наденька.
Торжественно и непонятно звучал невидимый хор.
Теперь я не жалел, что пришёл сюда, поддался на уговоры Наденьки. Что‑то во мне размягчалось, оттаивало. Я видел людские головы, свечи, иконы. И в то же время прямо перед собой — глаза матери. Казалось, они смотрели с печалью.
«Мамочка моя, бедная, если Бог есть, пусть Он дарует тебе жизнь вечную, не беспокойся обо мне и прости за то, что я не дал тебе радости…» Кто‑то дёрнул за рукав, потащил в сторону.
Вдоль стены, помахивая дымящимся кадилом, шёл священник. Высокий, холёный, с выдающимся вперёд животом, он нёс себя в освободившемся пространстве, ни на кого не глядя.
— Поклониться надо батюшке, — шепнул чей‑то голос. Я склонил голову. Вдохнул прекрасный, ни на что другое не похожий запах ладана.
Исчезли материнские глаза. Исчезло состояние, в котором я был только что.
Поискал глазами Наденьку. И не увидел её. Храм был полон женщин. В основном пожилых, старых. Что‑то убогое было в их облике. «Убогое, — подумал я. — У–Бога».
Посмотрел наверх, на изображение сидящего средь облаков благостного седобородого дедушки с широко раскинутыми руками.
«Ну хорошо, символ, — думал я. — Но зачем сейчас, в канун двадцать первого века, молиться на старославянском? Нарочно? Чтоб было меньше понятно?»
Священник то отворял царские врата и выходил из алтаря, то зачем‑то скрывался за ними. Возник дьякон — толстый, лысый, с ухоженной бородой. Утробным голосом стал читать Библию: «Во время оно…» Что случилось «во время оно», разобрать было невозможно.
Вдруг увидел Наденьку. Она стояла у окна напротив иконы Николая–угодника. Ее голова в чёрном платке напоминала о картинах Сурикова, о Древней Руси.
«Молится о своём Костеньке», — думал я, невольно любуясь её профилем и чувствуя, как теплеет на сердце.
Одно было досадно. Сын Наденьки болел уже давно — что‑то серьёзное случилось с почками. Я был уверен, что могу ему помочь, предложил эту помощь. Наденька отказалась наотрез: «Неизвестно, откуда эти ваши энергии. Бог для чего‑то посылает болезнь, а вы с нею боретесь. Значит, боретесь с Богом. А это — грех».
До своего единственного, самого близкого, дорогого, находящегося в опасности, она не допускала, а вот сейчас, после церкви, уговорила ехать смотреть какого‑то больного с острым приступом радикулита.
Эта непоследовательность поразила. Кроме того, я тоже читал Библию, и, сколько понял, там было чётко сказано, что ни болезни, ни смерти Бог для человека не создал. Всё это началось после грехопадения. От дьявола.
«Ведь она лечит его лекарствами, вызывает врачей. И священники наверняка лечатся. Выходит, борются с Богом… Скажут, лекарство — одно, энергия — другое. Но, в конце концов, любая таблетка, любое вещество — это сконцентрированная энергия».
Я спохватился, что не думаю о матери, не делаю того, ради чего пришёл в храм.
Богослужение уже кончалось. Священник стоял перед царскими вратами, протягивал большой серебряный крест к губам верующих, они целовали его.
Я подошёл последним. Пухлая рука протянула крест и ко мне.
— Батюшка, я не крещён, — тихо сказал я. — Если можно, один вопрос. По поводу болезней и Библии.
— Не крещён? — спросил священник, опуская руку с крестом и вглядываясь в моё лицо.
— Мама умерла. Заказал поминание, свечку поставил.
— Мать была крещена?
— Нет.
— А вы кто по нации будете?
— Еврей.
— Ну, это, извините, кощунство. Церковь молится только за своих. — Священник повернулся, пошёл в алтарь.
Я поднял голову. Прямо в глаза скорбно смотрел Христос. Рожденный от еврейской матери.
…Когда ехали в трамвае по мокрой сверкающей мартовским солнцем Москве, Наденька спросила:
— Если не секрет, о чём вы говорили с батюшкой?
— Так. Ни о чём. — Не хотелось её огорчать. — К кому вы меня везёте?
— Артур, вы помогаете всем людям или избранным?
— Стараюсь всем.
— И плохим, и хорошим?
— А по–моему, плохих не существует. Знаете, Наденька, я порой как подумаю: все когда‑то были мальчиками, девочками… Дурное воспитание, среда, ну, может, наследственность — вот что делает так называемых плохих людей. Но там, в глубине, они всё равно хорошие. Разве не так?
— Конечно, так! — просияла Наденька. — Нам сходить.
С остановки она провела меня к большому дому в стиле пятидесятых годов, остановилась у подъезда с массивной одной дверью.
— Артур, не сердитесь, мы идём к Гошеву.
— Что?! — Я отступил назад.
— Это для вас и для меня испытание, — быстро заговорила Наденька, удерживая меня за отворот пальто. — Вы знаете, я вообще против вашего способа… Но тут, Артур, другое дело. Человек мучается. Сами же говорите — плохих нет! Или вы лукавите?
— Ну, Наденька! — я сокрушённо покачал головой. — Кстати, откуда вы взяли, что я могу вылечить радикулит?
— Нина на днях мне рассказывала о ваших подвигах в Грузии.
— А она‑то откуда знает?
— От некой Анны, своей подруги. — Наденька испытующе глянула на меня.
— Ну, Наденька! — снова повторил я. — А какого рожна оно мне нужно, это ваше испытание?
— Христос говорит: прощайте врагам вашим.
— Уж не думаете ли вы, добрая душа, что вот Артур Крамер вылечит Гошева и за это Гошев снова примет Крамера на работу?
— Нет, не думаю, — быстро ответила Наденька.
Стало совершенно ясно, что она именно так и думает, ради этой цели затеяла всю историю…
— Видите ли, я неспособен подняться на ваши нравственные высоты. И от радикулита ещё никто не умирал.
— Артур! — перебила Наденька. — Он ждёт вас. Я заранее сказала по телефону. Получится, что вы мстите.
У неё стояли слезы в глазах.
— Заранее сказали, не спросив меня?
— Я не говорила, что именно вы, сказала — приедет один человек.
— Любопытно… — Я представил себе мясистое лицо Гошева, его пёстрые американские подтяжки и вдруг решился. — Идем!
Когда поднимались в лифте, когда Наденька нажимала звонок у двери, я чувствовал, как между мною и тем, кто находился за этой дверью, нарастает колоссальное силовое поле. Гошев олицетворял собой всё, что я ненавидел. Мы были разными, противоположными полюсами жизни.
Открыла невзрачная, рано состарившаяся женщина. Отгоняя звонко лающего ирландского сеттера, она сообщила:
— К мужу только что снова приехал знакомый врач. Ничего, раздевайтесь. Такое горе. Второй день не может разогнуться. Вчера вышел во двор прогулять собаку, спустил с поводка. А она схватилась с другой. Стал их разнимать, нагнулся пристегнуть поводок — распрямиться не может. Так его и внесли в квартиру… Проходите, пожалуйста.
Ковровая дорожка, хрустальная люстра в холле, на двери туалета писающий у Эйфелевой башни мальчуган с полуспущенными штанами. Я шёл за Наденькой и женой Гошева к гостиной, где лежал больной.
Дверь с матовым стеклом отворилась.
Первое, что бросилось в глаза, — серебряноголовый врач в белом халате, пёстрые мексиканские маски на стенах, застеклённые книжные полки.
Гошев лицом к стене в согнутом виде лежал на диване, прикрытый пледом.
— Жора, к тебе пришли, — громко сказала жена.
Тот попытался повернуться и застонал от боли.
— Неважно, — сказал я. — Дайте стул.
Врач, с любопытством поглядывая на меня и Наденьку, подставил стул.
Я сел, откинул плед, поднял повыше задравшуюся на Гошеве пижамную куртку, определил ладонью острую зону и стал делать то же самое, что делал прежде в случаях радикулита: яростно выматывал энергией черноту у позвонка, докрасна растирал руки, накладывал их на поясницу… Когда чернота стала исчезать из моего видения, отёр пот со лба, приказал:
— Лягте на спину, не бойтесь!
Пока Гошев, уже по привычке охая, грузно поворачивался, я, чтоб не столкнуться с ним глазами, поднял взор.
Над диваном высились прикреплённые к стене книжные полки. За стеклом одной из них стоял напоказ какой‑то нарядный томик.
Я поднялся, перенося стул к изножию больного, успел прочесть название: «Малая земля». И размашистую надпись на суперобложке: «Дорогому Георгию Александровичу Гошеву — Брежнев».
Массируя наружные края стоп, почувствовал, как Гошев вдруг напрягся.
— Расслабьтесь!
Но Гошев словно окоченел.
Я нажал точки на стопах, отвечающие за область поясницы.
— Все. Можете сесть, спускайте ноги с дивана.
— Здравствуйте, — настороженно сказал Гошев. Он глядел на меня, не поднимался.
— Где здесь можно руки отмыть?
Жена Гошева проводила меня в ванную, подала чистое полотенце. Я тщательно вымыл руки, потом направился к вешалке, оделся, позвал:
— Надя!
Из гостиной вышла Наденька, врач, потом и сам Георгий Александрович, за ним и его жена.
— Что ж вы так быстро собрались? — спросила она, на ходу засовывая в пластиковую сумку бутылку коньяка и конверт. — Спасибо! Возьмите, пожалуйста. Мы очень благодарны.
— Я тоже, — ответил я, отводя рукой протянутую сумку.
— За что это? — удивился Гошев.
— Вам не понять…
Проводив до метро Наденьку, по привычке позвонил домой — не надо ли что купить? Странно было слышать вместо маминого голоса голос Анны.
— Нет, милый, ничего не надо, — ответила она. — Куда ты ушёл так рано? Наверное, забыл, что сегодня я дома. Успела сходить в молочную, зашла в гастроном. Могу тебя обрадовать: звонил Нодар. Он приехал, сделал рентген, камня нет, представляешь?!
— Хорошо, сейчас приеду.
— Но неужели ты не потрясён, что камня действительно нет?!
— Потрясен.
— Нодар говорит, что приедет к нам сегодня, ты рад?
— Рад.
— И ещё тебе звонил какой‑то Нурлиев.
— Из Москвы?
— Не знаю. Сказал, ещё раз позвонит. Скорей приходи!
«Наверное, скучно ей быть со мной, — подумал я, — ни в кино, ни в театр… У самой несчастье — у меня мать умерла…»
Решил по дороге к дому зайти на рынок, купить хоть букетик цветов для Анны.
Вот уж где пахло весной, так это здесь, на Центральном рынке. Шел меж цветочных рядов, где на мокрых лотках стояли ведра с мимозой, розами, гвоздиками; высились горки спрыснутых водой фиалок и подснежников.
Я уже хотел купить фиалки, уже достал деньги, когда сквозь рыночный гомон послышался крик:
— Эй! Эй! Поди. Поди сюда! Пожалуйста!
Давно не бритый человек в круглой кавказской кепке-«аэродроме» зазывно махал рукой из соседнего ряда.
— Вы меня?
— Тебя! Тебя! Очень прошу, иди ко мне!
Подумав, что это действует наглая форма конкуренции среди продавцов, я все же подошёл.
— Цветы надо? Бери сколько хочешь! — Кавказец широким жестом показал на лежащий перед ним целлофановый мешок с грудой роз.
— А почём штука?
— Даром бери!
— Почему?!
— Ты что, меня не узнаешь? Я Аполлон Гвасалия!
— Извините, не узнаю.
— Слушай, разве не ты мать мою спас? Вано знаешь? Тамрико знаешь? Ну вот, Тамрико — её племянница. Теперь у матери сердце не болит, дай Бог тебе здоровья! Я её привозил во двор к нашему учителю Отару! Теперь помнишь?!
Я решительно не мог вспомнить ни Аполлона, ни его мать, но кивнул.
— Бери розы! — потребовал Аполлон, сгребая с прилавка тяжёлый целлофановый мешок и протягивая его мне. — Люди! Этот человек может все!
Увидев, что на меня обратились взгляды продавцов и покупателей, я в замешательстве выдернул из мешка одну розу.
— Спасибо.
Сутулясь, быстро пошёл к выходу, спиной чувствовал, как народ смотрит вслед.
Подходя к дому, ещё издали увидел у подъезда длинный чёрный лимузин.
Дверь открыла Анна.
— У тебя гость, — сообщила она и просияла, увидев розу; — Это мне?!
Я отдал розу, не раздеваясь, вошёл в комнату. Тимур Саюнович шагнул навстречу.
— Уже знаю про маму, прими мои чувства. — Он обнял меня, крепко прижал к себе. — Теперь считай старшим братом. Один не останешься.
Я почувствовал, что меня душат слезы, шепнул:
— И Анна есть.
— Хорошая женщина. Красивая, — сказал Нурлиев. — Стой, не снимай пальто. Я, правда, немного опоздал. — Он открыл свой «дипломат», достал папаху из золотистого каракуля, встряхнул её. — Увидел, как вашей московской зимой ходишь в кепке, решил привезти головной убор. Разреши, надену? Не знал размера твоей головы, наугад пошил.
— Сами? — Я стоял перед ним в пальто и папахе.
— Что это за басмач? — спросила Анна, входя с наполненной водой узкой вазочкой, в которой высилась роза, и ставя её посреди стола. — Через час придёт Нодар, сядем обедать. Хорошо?
— Спасибо, — ответил Нурлиев. — А мы пока поговорим.
Анна оставила нас вдвоём, ушла на кухню. Я наконец разделся.
— Ну что? — спросил Нурлиев. — Снял своё кино?
Я рассказал о том, как зарубили картину, как меня убрали со студии.
— А ты апеллировал, рыпался?
— Всю жизнь рыпаюсь. Бесполезно. Устал.
— Ну и что теперь?
Я поведал о недавней поездке в Грузию, о случае, происшедшем только что на рынке, кивнул на розу:
— Вот весь результат.
— Дорогая роза, — сказал Нурлиев. — Очень дорогая. Сколько понимаю, ты стал вроде дервиша. А такой профессии в наших списках нет. Растеребят тебя люди. Попадешься какому‑нибудь дураку — сочтут сумасшедшим или, ещё хуже, могут посадить…
— Я уже думал об этом. А что делать? У вас у всех есть какая‑то точка, прикрепляющая к жизни. Анна вот математик, в школе работает, вы между прочим первый секретарь… Я же — ничто.
— Ты — всё, — сказал Нурлиев. — Один раз я тебе это уже говорил. Знаешь, нужно скорей найти учёных, институт, чтоб все это дело исследовали…
— Ни за что, — твёрдо сказал я. — Уже исследовали. Других людей. Пытаются подогнать непонятные явления к привычным представлениям. Быть подопытным кроликом, чтоб при помощи тебя компрометировали то, что древнейшие народы в разных концах земли, не сговариваясь, записали в своих священных книгах? Пусть по–разному, каждый — в своей образной системе. Но об одном и том же… Я уверен, убеждён — прав Циолковский: не человек мера всех вещей!
— А кто же? — удивился Нурлиев.
— Космос. Скажем так. Только в соизмерении с Космосом раскрывается человек. Если б вы знали, что я порой вижу, когда настраиваюсь на окружающую земной шар бездну!
— Вы ещё не умираете от голода? — заглянула в комнату Анна. — Нодар задерживается. Может, пока сварить вам кофе?
— Тимуру Саюновичу, наверное, нельзя… Завари, пожалуйста, чаю. — Я вопросительно взглянул на Нурлиева. Тот сидел задумавшись.
— Завидую я тебе. Лично я обо всём этом даже не размышлял. Всегда некогда. А тебе далось время…
— Чего–чего, времени далось. — Я продолжал смотреть на гостя. Обратил внимание на то, что Нурлиев выглядит гораздо хуже, чем в прошлый приезд. Лицо словно обугленное, исхудалое. — Тимур Саюнович, что с вами? Как себя чувствуете?
— Обыкновенно. Как всегда.
— Я не могу вам помочь?
— Не беспокойся, Артур. В этих делах даже ты бессилен. Извини, конечно.
— Что вы хотите этим сказать?!
— Плохо.
Меня словно пригвоздило. Это было последнее слово, услышанное из уст матери.
— Плохо со здоровьем?
— Хуже. — Нурлиев достал пачку «Мальборо», закурил. — С республикой.
— Это теперь, когда вы стали первым секретарём?
— Артур! Открой, пожалуйста, у меня руки заняты! — раздался из коридора голос Анны.
Я бросился к двери, отворил, взял у неё поднос с тремя дымящимися чашками, шепнул:
— Обожди чуть–чуть.
Анна кивнула. Лицо её стало встревоженным.
Опустив поднос на стол, оглянулся и увидел, что дверь плотно прикрыта, тихо проговорил:
— Тимур Саюнович, сами сказали, теперь я вам брат. Говорите уж до конца.
— За это время удалось разобраться в том, что натворил мой предшественник со своей бандой. Это были настоящие уголовники. Убивали неугодных, торговали званиями Героев Соцтруда, имели при саунах гаремы… Этой клики сейчас нет. Но они заставляли дехкан десятилетиями сеять хлопок по хлопку. Ради отчёта перед Москвой истощили землю, испортили. Надолго испортили, Артур. К тому же поливали минерализованной водой. Истощенная земля ещё и насквозь просолена…
— Теперь я понял, на что похоже ваше лицо, — тихо сказал я. — Но ведь существуют какие‑то промывки почв…
— А чем промывать будешь? Леса по берегам горных рек вырубили, сады вырубили. Воды почти не стало. Жителей насильно переселили в долины — возделывать хлопчатник… В долинах жарче, чем в горах. Все отравлено химизацией. Люди болеют, дети. Вдобавок инфекционный гепатит…
Нурлиев умолк. Мы сидели, глядя на стынущий чай. Я думал о том, что обстоятельства смерти матери и гибели земли, о которой рассказал Нурлиев, схожи в своей основе. Но хоть землю‑то можно спасти? Или она тоже не вечна, мать–земля?
Нурлиев вздохнул, невесело улыбнулся.
— Собрал я мудрецов. Всех дипломированных философов столицы нашей республики. Их оказалось больше, чем во всей Франции. Ох, Артур, в лучшем случае это были цитатоносители — бесполезные люди с большой зарплатой… Вот что мне досталось. А ты говоришь — первый секретарь.
Раздался звонок в дверь.
— Нужно все в корне менять, — сказал я, вставая. — Всё!
— За этим я и приехал в Москву. — Нурлиев смотрел снизу вверх вопрошающе, будто я мог ответить на его незаданный вопрос.
…Раздевшись, Нодар Шервашидзе первым делом стал показывать рентгеновские снимки мне, Анне, заодно и Нурлиеву.
— Видите? Камня нет! Почка чистая, мочеточник чистый, все чистое! Я себя прекрасно чувствую.
Я смотрел на снимок и ничего не понимал в этом чередовании чёрных и белых пятен.
— Возьми на память! Я у тебя первый такой больной? — ревниво спросил Нодар.
— Кажется, первый.
— Давайте наконец обедать, — сказала Анна. Она бережно взяла снимки, спрятала их в секретер.
За обедом, рассказывая о моём пребывании на раскопках, Нодар обратил внимание на сюзане, висящее над тахтой.
— А это откуда?
— Азия, — ответил я. — В начале зимы был в командировке, приобрёл.
— Случайно, конечно?
— Будем считать, случайно.
— А что тут изображено — вы все отдаёте себе отчёт?
— Наверное, орнамент, — ответила Анна. — Безумной красоты.
— А вы? — обратился Нодар к Нурлиеву. — Это же, наверное, из ваших краёв?
— Из наших. Старинная вещь. Какой‑то смысл старые люди здесь видели. Несомненно.
— Но вы хотя бы догадываетесь, что здесь изображено?
— Нет. Дедушка мой, быть может, понимал…
— Дайте что‑нибудь вместо указки! — Нодар встал из‑за стола, шагнул к тахте.
Я достал в углу между стенкой и секретером верхнее колено удочки, подал ему.
— Смотрите! В центре малый круг малинового цвета — солнце. Его окружает широкая жёлтая полоса с зубцами наружу. Это — его энергия, его лучи. Вокруг — ещё более широкий малиновый овал, на нём разбросано восемь жёлтых, похожих на пламя свечи пятен. Марс, Земля, Венера, Сатурн, Уран, Юпитер, Меркурий, Плутон. Восемь планет нашей Солнечной системы. Все это обнимают соединённые между собой широкие чёрные завитки на белом фоне. Как думаете, что это значит?
— Неужели галактика? — спросила Анна.
— Галактика! — подтвердил Нодар. — Но вглядитесь, что изображено дальше — по всем краям замечательного сюзане. Эти прихотливо извивающиеся чёрные дракончики — не что иное, как соседние вселенные… В целом, друзья, перед нами карта Космоса…
— Какого же века эта работа? — спросил я.
— Восемнадцатого или девятнадцатого. Неважно. Женщина, которая вышивала по белому шёлку эту карту, могла понятия не иметь о том, что она передаёт эстафету древнейших знаний. Интересно, сколько заплатил за бесценную вещь?
— Шестьдесят пять рублей.
— Считай, получил даром. Везет!
— Ему вообще везёт, — сказала Анна. — Не понимает.
— Это откуда смотреть, — возразил Нурлиев. — Если из космоса — быть может… Но не дай Бог всем, как достаётся Артуру. Да ещё только что мать схоронил…
Зазвонил телефон. Я не снял трубку. Сидели молча, отдавая дань памяти матери.
Потом Анна сказала:
— Пока вы здесь, я хочу просить воздействовать на этого человека. Уже несколько дней подряд звонят, напоминают: Союз писателей оформил его поездку в Испанию. Артур даже говорить об этом не хочет. Я с ним сделать ничего не могу. Именно сейчас ему надо бы переключиться, сменить обстановку.
— Когда надо ехать? — спросил Нурлиев.
— Через три недели, — ответил я. — Глупости всё это. Кто я такой, чтоб оказаться в Испании? Для меня Испания — что одна из этих вселенных на краю сюзане.
— И деньги есть! — вмешалась Анна. — Бог послал ему деньги.
— Что ты изображаешь пришибленного? — сказал Нодар. — По–моему, хоть мало знакомы, это на тебя не похоже…
— Не похоже, — согласился Нурлиев. — А я его давно знаю. Смотри, у женщины слезы на глазах, так она хочет тебе счастья.
Я, оказывается, пропустил много занятий в лаборатории. Поездка с Нодаром, похороны мамы… Настал апрель. Сегодня вечером пришёл, слушаю отчёты. Большинство несёт такую ахинею — стыдно присутствовать. У одного чешется копчик — проснулась змея Кундалини, другой общается с неземной цивилизацией. Маргарите каждую ночь снится Елена Рерих, учит делать некий талисман…
Поглядываю на Йовайшу. Тот невозмутим.
Лишь полковник авиации Оскар Анатольевич и ещё несколько человек, безусловно, продвигаются. У полковника открылась способность видеть сквозь закрытые приборы — электронные и другие — любую неисправность. Он просит поставить объективные опыты, с комиссией.
После конца занятий я наконец дорвался до Йовайши. За полночь разговаривали в его кабинетике. Рассказывал о своих приключениях в Грузии. А потом спросил: неужели он не видит, что большинство слушателей несёт околесицу, вздор?
— Вижу, — ответил Иовайша, и я впервые отметил, что он может быть печальным. — Мало того, что они не занимаются, обманывают меня, будто делают упражнения… Они компрометируют нас. К лаборатории стали присматриваться как к рассаднику мистики. Это очень опасно. Но как быть? Из сорока человек вашей группы лишь десять–двенадцать ушли вперёд. И вы в том числе. Не такой уж плохой процент. Остальные приходят провести время, обмениваются сомнительной литературой, болтают. Знаете, есть такая притча: осел, ходя вокруг жернова, прошёл сто километров. Когда его отвязали, он находился все на том же месте. Есть люди, которые много ходят и никуда не продвигаются.
За высокими зашторенными окнами зала оглушительно чирикают воробьи. А здесь изо всех сил старается улыбнуться Чаплин. Он смотрит на нас, уже умерший, и, словно эстафету, передаёт улыбку.
Снизу вверх смотрим мы на экран.
Нас двадцать — будущих кинорежиссёров. Два года воробьиный щебет сопровождает парад шедевров мирового кино. От ветра шторы вздымаются парусами надежды. Московское солнце заглядывает в зал.
За время учёбы на Высших режиссёрских курсах я понял: подлинное искусство не делится на жанры. В жизни улыбка и слезы всегда вместе. Это на потребу мировому мещанству кино поделилось на комическое, развлекательное, приключенческое.. Лишь бы глазеть, а не видеть, не думать…
Глава двадцать четвёртая
Двадцать третьего апреля здесь отмечался день святого Георгия, день роз и день смерти Сервантеса.
Перед ужином в трёхзвёздном отеле, где разместилась туристская группа, я попросил испанского гида Хорхе позвонить по телефону, который мне дала Анна.
За одним из столиков облицованного мрамором вестибюля сидел широкоплечий черноусый красавец с газетой в руках. С того места, где я стоял, было видно, что он не столько читает её, сколько внимательно оглядывает каждого входящего и выходящего из отеля.
Еще дальше — через проход за длинной лакированной стойкой — перемещались одетые в синюю униформу портье и его молодой помощник.
Передав мне трубку телефона, Хорхе шепнул:
— Портье — фашист. После Франко многие устроились в отелях администраторами.
— Алло! Это Катя? — спросил я, продолжая глядеть на фашиста.
— Боже мой, кто это? Вы из Москвы?
— Еще утром был в Москве. Меня зовут Артур Крамер. Привез вам привет от Анны.
— Как она там? Давно не пишет, беспокоюсь. Завтра в десять утра могу за вами подъехать? Где вы остановились?
— Отель «Expo», номер 966. Но лучше встретиться перед входом. — Я описал свои приметы, чтоб Катя узнала меня, повесил трубку, спросил у Хорхе, кивнув на черноусого красавца: — А это охранник?
— Тайная полиция, — ответил тот и, словно извиняясь, добавил: — Ведь у нас терроризм. — Хорхе отлично владел русским и вообще был, что называется, свой парень. — Жаль, в вашей программе нет бульвара Рамбла. Кто не был там ночью, тот не узнает Барселоны.
После ужина я предупредил руководителя группы, что вернусь поздно. Спускаясь озеркаленным лифтом из ресторана в вестибюль, увидел у одной из кнопок знакомое слово — «Alarm». И словно замкнулось кольцо в цепочке жизни.
Прошел между стойкой, где фашист вершил какие‑то расчёты на микрокалькуляторе, и креслом, на котором сидел со своей газетой агент тайной полиции, толкнул тяжёлую стеклянную дверь и вышел.
Весь день со времени посадки самолёта в Барселоне заняло размещение в отеле, экскурсия в музей Пикассо, обед, ознакомительная поездка по городу. В сущности, это мало чем отличалось от цветного документального фильма.
Лишь сейчас, вечером, шагая широкими тротуарами Барселоны, я почувствовал, что оказался в Испании.
Затерянный в толпе прохожих, снова, как полгода назад, вдруг увидел себя сверху, со стороны. Тогда, одинокий, на грани отчаяния, ждал последнего автобуса в начале улицы Народного ополчения…
Сейчас, через шесть месяцев, наделённый могучей силой, древней, как мир, и не признанной миром, направлялся на другом конце Европы мимо платанов и пальм, перемежаемых фонарями, к бульвару Рамбла, выводящему, как я увидел это на карте путеводителя, к порту, к Средиземному морю.
Пересекая площади с грохочущими каскадами фонтанов, выходя на залитые электричеством авениды, я не жалел о том, что оставил путеводитель в номере отеля. Азартно было самому найти этот бульвар. Не чувствовать себя ротозеем, туристом, раствориться в потоке местных жителей — предвкушение нового, неизведанного состояния охватило меня.
На мачтах фонарей повсюду виднелись цветные плакаты. На одних человек с порочным лицом политикана призывал выбрать его в мэры города. Это был кандидат правой партии. На других, осенённый серпом и молотом, был изображён молодой коммунист, его соперник.
Поперек улицы над потоками автомашин висели туго натянутые предвыборные лозунги разных партий. Как перевёл утром Хорхе, все они гласили одно и то же:
«Открой глаза, Барселона!»
Негр в белом смокинге, окружённый подростками, отбивал чечётку на углу у входа в пульсирующее огнями реклам кабаре.
Я перешёл на другую сторону, миновал священника в сутане, который изучал витрину ювелирного магазина, где на чёрном бархате сверкали драгоценности; прошёл мимо вынесенных на тротуар столиков кафе. Здесь под полосатыми зонтиками сидели компании людей, наслаждаясь апрельским вечером.
Пройдя ещё квартал, где нижние этажи старинных зданий были заняты под шумные залы игровых автоматов и кинотеатры, я вдруг ощутил, что на меня смотрит кто‑то знакомый. Повернул голову, увидел: с афиши, закусив розу, робко улыбается Чаплин… Сейчас за этой стеной шёл ретроспективный показ «Огней большого города».
У подъезда громадного дома в стиле модерн на раскладном стуле сидела толстая женщина с кошкой на руках.
— Сеньора, бульвар Рамбла?
— Рамбла? — переспросила она, что‑то сказала по–испански, потом по–английски. Видя, что я не понимаю, встала, опустила кошку на стул, взяла меня под локоть и прошла со мной несколько шагов, показывая рукой вперёд и вправо. Огромная площадь в кружении автомашин показалась вдали.
— Грациас. Большое спасибо!
Женщина ободряюще похлопала по плечу, кивнула:
— Салюд!
Я пересёк площадь, где на мраморных скамьях сидели с розами парочки, где, подсвеченные прожекторами, били в звёздное небо струи фонтана, свернул направо, увидел уходящую вдаль улицу. Посреди неё, как ртуть в градуснике, что‑то светилось, переливалось.
Это был бульвар La rambla.
Под ярким светом фонарей нежно зеленела первая листва старых платанов. Разноцветные киоски тянулись среди них. Все они были открыты.
Я подошёл к первому же, где купил за 25 песет бумажный стаканчик кофе. Кофе был ароматен, горяч. Я наслаждался, присев на скамью и вытянув гудящие ноги. Думал о том, что поездка по Испании только начинается, необходимо экономить скудные туристские деньги, раз уж решил истратить их все на подарок Анне. Почему‑то казалось, это должна быть испанская шаль. Как она выглядит, я не знал. И пока что ни в витринах, ни на женщинах никаких шалей не видел.
Сидел с вощёным стаканчиком в руке, отпивал кофе, глядя на фланирующих людей. Бульвар лежал передо мной как приключение. Я не торопился, оттягивал время.
Днем во время экскурсии по Барселоне автобус с начертанным на боку названием «Юлия», к моей досаде, повёз нас осматривать архитектуру новых районов. Как мне казалось, возведение во всём мире стандартных «машин для жилья» не имело права даже называться архитектурой. Я был уверен, что этот стандарт порождает обезличку не только зданий, кварталов, целых городов. Из‑за него происходит обезличка людей, порождая преступность.
Но здесь, в Барселоне, моему предубеждению был нанесён удар. Я увидел высокие, с волнистой линией фасадов дома — сиреневые, солнечно–жёлтые, темно–синие. Даже издали были видны на плоских крышах кипарисы, пальмы, кусты роз. Хорхе сказал, что там, наверху, среди посаженных в кадки растений, бассейны, где плавают жители этих домов. Летом — под небом. Зимой нажатием кнопки воздвигается каркас плёночного купола.
Я почувствовал себя обкраденным. Возможность круглый год иметь под рукой, лишь поднимись лифтом, простор для плавания, зелень растений, ничем не заслонённые небеса…
Я смял стаканчик, швырнул его в урну, пошёл по бульвару.
Плыл в разноязыком потоке людей мимо киосков, где сейчас, ночью, можно было купить книги по всем отраслям знаний; где прямо в клетках продавались попугаи и канарейки; экзотические рыбки в целлофановых пакетах, наполненных водой; очищенные орехи всех сортов, сладости; снова тот же кофе, сигареты, «Кока–Кола», длинные сэндвичи…
Справа и слева от бульвара светились стеклянные двери и окна варьете, дискотек, кафе и ресторанчиков, откуда доносились звуки музыки.
Внезапно поток сдвинулся в сторону, огибая что‑то большое, яркое, нарисованное на чуть волнистых плитах, устилающих бульвар.
Это оказалась выполненная цветными мелками копия боттичеллиевской «Весны». Чуть поодаль, прислонясь спиной к стволу платана, сидел на земле молодой измождённый художник. Рядом стояла худенькая девочка лет семи, со шляпой в руках. Проходящие изредка кидали в шляпу монеты. Я кинул тоже. Потом вернулся к киоску, где продавали кофе и бутерброды. Купил хрусткую булку, в её разинутом зеве лежали тонкие ломтики разных сортов колбасы. Вернулся, подал девочке. Опустив к ногам шляпу, она обеими руками взяла булку, откусила и, глядя на меня чёрными блестящими глазами, промолвила почему‑то по–английски:
— Very nice…
Я погладил её по макушке. Девочка рванулась к художнику, протянула булку. Но тот отрицательно покачал головой и горестным, безнадёжным жестом тоже погладил голову девочки.
У меня перевернулось сердце. Пошел дальше, чувствуя, что вот–вот разревусь.
Навстречу, раздвигая толпу, шли пять расхристанных девушек, видимо старшеклассницы. Они что‑то отчаянно скандировали, стараясь переорать бульвар. Одна из них размахивала плакатом. Там было написано:
«Долой нашего учителя литературы!»
Когда я дошёл до конца бульвара, был уже час ночи. Передо мной посреди небольшой площади стояла колонна с освещённым прожекторами памятником Колумбу наверху. А дальше переливался огнями порт, светились иллюминаторы стоящих у причалов лайнеров, вспыхивали маяки на концах молов.
От невидимого в темноте Средиземного моря потянуло знобкой свежестью.
Пора было возвращаться в отель.
Обратно шёл по улице вдоль бульвара, сопровождаемый доносящейся из ночных баров музыкой. Страстный перебор гитары сменялся взрывом джаза, снова гитарой…
На капотах припаркованных к бортику тротуара автомашин, укрыв лицо ладонями, в одних колготках и коротких меховых накидках сидели проститутки.
Идти между музыкой и этим позором, скрывающим своё лицо, было жутковато.
Внезапно одна из стеклянных дверей, за которой плавали цветные всполохи, отворилась. Выскочил китаец в белой курточке, ухватил меня за руку, лопоча, стал тащить внутрь, совать какую‑то тонкую книжку. Это оказалось меню ресторана «Кухня Гонконга».
— Но, — сказал я. — Но.
Китаец отстал.
Пройдя ещё несколько кварталов, я потерял направление. Передо мной уходили вверх незнакомые улицы. Бульвар остался позади.
И тут я увидел высокого старика. Все в нём было респектабельно: чёрный костюм, чёрный галстук–бабочка на белой манишке, бамбуковая трость. Старик совершал моцион во втором часу ночи.
— Сеньор, отель «Expo»?
— «Expo»? — Лицо его напряглось, потом прояснилось. Он поднял трость и, что‑то говоря по–испански, стал показывать в ту сторону ночной дали, где намечалось зарево площади.
«Plasa de Katalunja», — только и разобрал я.
— Грациас.
Но старик продолжал тыкать тростью в темноту. Стало ясно: он силится внушить, что от площади Каталонии нужно будет свернуть влево и дальше идти вверх.
— Грациас, — снова сказал я и тряхнул головой, показывая, что все понял.
Старик с сомнением поглядел на меня, и мы расстались.
Я шёл быстро. Хотелось вернуться в отель хотя бы к трём часам, урвать часть ночи, выспаться. Трудно было поверить, что ещё сегодня утром я выходил из своего дома.
«Какие разные миры!» — думал я. Всё, что я нёс в себе, всё, что составляло мою биографию, боль и надежду, казалось несовместимым с этими улицами, где продолжалось ночное гулянье, где незнакомые люди дарили друг другу розы, где у освещённой витрины стоял длинноволосый скрипач, играл Моцарта, и песеты прохожих падали в раскрытый футляр скрипки, лежащий на тротуаре.
Наконец я вышел на слепящую светом площадь Каталонии, стал огибать её, вспоминая, что уже проезжал здесь днём во время автобусной экскурсии мимо вон того фонтана, вот этого отеля «Кальдерой»…
Кто‑то сильно дёрнул за плечо. Я обернулся.
Это был старик. Галстук–бабочка сбился на сторону. Он тяжело дышал, дрожащей рукой показывал влево, за угол.
Боясь, что я пропущу поворот, он, оказывается, мчался за мной всю дорогу…
— «Expo»! — старик продолжал показывать влево. — «Expo»! Avenida Mallorca!
С этой минуты я окончательно влюбился в Испанию. Стоящий передо мной человек олицетворял собой благородный народ Сервантеса, Гарсиа Лорки.
Я поцеловал ошеломлённого старика и свернул с площади.
…В десять часов утра, свежевыбритый и невыспавшийся, с сумкой в руке, я стоял перед своим отелем. Нежно пригревало весеннее солнышко.
Только что автобус «Юлия» отошёл со всей туристской группой, повёз её на экскурсию в парк архитектора Гауди. Я ничуть не жалел, что остался один. Конечно, любопытно было бы взглянуть на причудливые виллы, на недостроенный собор, созданный знаменитым зодчим, но меня гораздо больше интересовали люди. А все эти вычурные здания можно было увидеть и на сериях цветных фотографий, которые наверняка продавались наискосок — в магазинчике с полосатыми маркизами над витриной, где у входа висели гирлянды книжечек–гармошек для туристов.
Надо было бы перейти мостовую и купить такой буклетик, посвящённый творениям Гауди, но ещё неизвестно, сколько могла стоить гипотетическая испанская шаль. Поджидая знакомую Анны, я решил с её помощью выяснить стоимость подобной вещи и по возможности немедленно её приобрести, пока оставались деньги.
Что‑то обидное и несправедливое было в том, что я оказался здесь без Анны. И ещё подумал о матери: за всю свою трудную жизнь ничего, в сущности, не увидела, нигде не побывала…
Красная микролитражка остановилась у тротуара. Дверца распахнулась. Невысокая женщина вышла из машины, позвала:
— Артур! Это вы? Садитесь скорей! Тут нельзя парковаться!
Я сел в машину, и мы тут же тронулись с места.
— Извините, несколько задержалась, отвозила сына в колледж! — Катя вела автомобиль, курила, расспрашивала об Анне. У неё был московский говорок без примеси акцента.
— Вы давно здесь?
— Пятнадцать лет. Училась с будущим мужем в Москве, в Плехановском, а он испанец. Так и попала сюда. Вообще‑то я из Киева. Что ж вы так мало рассказываете об Анне? А как её Гоша? Как чадо — этот анфан террибль? Два года назад ездила в Киев к сестре, по пути побывала у Анны и дома, и на даче. Там, признаться, было напряженно…
Не хотелось мне ни о чём рассказывать. Но пришлось.
Катя заплакала.
— Не надо, — сказал я. — Теперь мы с Анной вместе. Здесь в сумке сувениры для вас.
— Вот почему она не пишет… — Пока машина стояла у светофора, Катя утёрла слезы, глянула на меня. — Но вы‑то хоть можете дать ей счастье?
— Не знаю.
— Извините, кто вы, чем занимаетесь?
— Недавно назвали дервишем. Знакомо вам это понятие?
— Как интересно. — Катя свернула с широкой авениды на тихую улицу.
— Признайтесь, подумали: Анне ещё дервиша теперь не хватает?
— Подумала, — кивнула Катя, вдруг спохватилась: — Откуда вы узнали? Читаете мысли?
— В данном случае это не трудно.
Подъехали к старинному розовому дому в семь этажей со стеклянной будочкой у ворот. В будочке сидел человек. Он приподнялся, почтительно кивнул Кате.
Ворота отъехали в сторону. Машина покатила вниз, в подземный гараж.
Черный с золотом «роллс–ройс», японский «дацун», итальянская «альфа–ромео» сверкали под ярким электрическим светом.
— Ничего себе кареты у ваших соседей, — сказал я.
— Этот гараж принадлежит нам. И все машины наши. — Катя заглушила двигатель. — Дело в том, Артур, что мой муж — миллионер. Владеет авиакомпанией. К сожалению, он сейчас в командировке, за границей. «Роллс–ройсом» пользуемся редко, разве что ездим на приёмы, «дацун» — его ежедневная машина. Третья принадлежит Кармен — моей дочери, а я довольствуюсь «фиатом»: маленький, легко парковаться в городе. У нас с этим проблема.
Вышли из машины. Лицо Кати исказилось, словно от боли. Я направился было к выходу из гаража, но Катя вернула к скрытой в стене двери, нажала ручку.
Это оказался лифт. Кабина, вся в бархате, зеркалах и бронзе, плавно пошла наверх.
— Что у вас болит? — спросил я.
— Нога. Зимой катаемся на горных лыжах. Ездим тут неподалёку, в Андорру. Сломала левую ногу. Вроде все хорошо срослось, а боль осталась.
— Где?
— В голени. Ничего не помогает. Прибегала даже к помощи парапсихолога, как у вас говорят, экстрасенса.
— Ну и что?
— Расскажу. Это очень интересно.
Вышли из лифта. Катя отперла дверь, и я вошёл вслед за нею в квартиру.
— Кармен! — позвала Катя. — Кармен! Гость из Москвы!
В просторный холл вышла прелестная девочка лет пятнадцати. Приблизилась ко мне, подставила щеку.
Я вопросительно взглянул на мать.
— В Испании так принято. Целуйте!
…В гостиной, пока Катя и Кармен готовили на кухне угощение, я осмотрелся. Мебель была японская — черно–лаковая с перламутровыми инкрустациями. В углах стояли высокие японские же полукруглые этажерочки. На каждой полке пестрели русские народные игрушки. Катя уже успела поставить на них и деревянные крашеные птички–свистульки, деревянные грибочки, самоварчики — всё, что я привёз.
— Сколько у вас комнат? — спросил я Кармен, когда она вошла с подносом, уставленным едой и напитками. Девушка, напряжённо улыбаясь, смотрела на меня.
— Она, хоть и родилась в Москве, уже забыла русский, — сказала мать, входя следом с другим подносом, где дымился в чашечках кофе. — Сама толком не знаю, сколько комнат. Хотите, покажу наши апартаменты?
Я пошёл вслед за Катей. Она отворяла одну дверь за другой.
— Вот кабинет мужа. Это — спальня. Это — комната Кармен. А тут царство моего сына, вы его сегодня увидите. Эти две комнаты для гостей. Тут библиотека. А это — моя комната, нравится?
Это было единственное помещение, где отсутствовала японская мебель. На полке над тахтой тянулся рад вятских глиняных игрушек, в углу висела маленькая бумажная икона Христа.
Катя, чуть прихрамывая, шла вперёд, показывала ещё какие‑то комнаты, завела в огромную кухню с настоящим баром, где были полукруглая стойка и высокие вращающиеся кресла, где блистала чистотой автоматическая мойка, стояли электроплиты.
— А это считать за комнату или нет? — спросила Катя, отворяя ещё одну дверь между мойкой и плитой.
В длинном помещении снизу до потолка тянулись широкие полки, тесно уставленные консервами, жестяными, стеклянными, пластиковыми банками, бутылками, оплетёнными соломой бутылями. Все это было в ярких надписях, этикетках. Сверху с крюков свешивались копчёные окорока, колбасы. Тут же стояло четыре японских же холодильника.
Потом я сидел в гостиной, угощали блюдами, которых я никогда раньше не пробовал: какими‑то рачками под лимонным соком, омаром, необыкновенно вкусным сыром с клубникой.
Говорят, когда что‑либо ешь впервые, нужно загадать желание. И я пожалел, что не загадал.
Вскоре Кармен извинилась и убежала.
— Отец купил ей на день рождения арабского коня. Учится ездить в «Жокей–клубе», — объяснила Катя.
Допили кофе.
— Ну а теперь кладите вот сюда на стул свою ногу, — сказал я. — Не могу смотреть, как вы морщитесь.
Через полчаса Катя сначала осторожно, потом все смелее ходила по ковру в гостиной.
— Прошло, — сказала она. — Вас мне Бог послал. Каким образом это получается? Что вы ещё умеете лечить?
Я немного рассказал о лаборатории, о своём опыте и сам в душе удивился: скольким людям удалось помочь!
— У нас вы были бы миллионером! — убеждённо сказала Катя, снова садясь к столу. — Когда уезжает ваша группа?
— Завтра. В Мадрид. Оттуда — в Толедо, Сеговию, Авилу, затем снова в Мадрид. Утром 2 мая — в Москву.
— Жаль. У меня здесь много друзей, которых вы, наверное, могли бы вылечить. И в Мадриде тоже. У вас в Испании была бы хорошая практика, большие возможности. Очень большие, Артур…
— Больных и в Москве хватает, — ответил я.
— Там вы не получите признания. Я уверена.
— Возможно.
— Подумайте. Пока не поздно. Анне потом прислали бы вызов. На первых порах жили бы у нас. Муж у меня славный человек, он поможет открыть студию, где вы будете принимать пациентов… Я хотела вам рассказать о нашем местном экстрасенсе. Так вот, у него кабинет, табличка. В приёмной вечно очередь. Визит стоит 1000 песет. Мне он назначил десять сеансов тоже по тысяче каждый.
— Ну и что? Он ведь не вылечил вас.
— В том‑то и дело. А вы будете вылечивать всех! Прославитесь. — В Катиных глазах светилось неподдельное сочувствие, доброжелательство.
Вспомнился последний разговор с Левкой на ипподроме. И я подумал о том, что жизнь не случайно подкинула эту поездку в Испанию, очередное испытание.
— Такое решение, Катя, невозможно. Рационально не объяснишь. Разве что могу сказать: Советский Союз для меня не только страна — судьба… Поговорим лучше об испанской шали. Хочу купить для Анны. Не представляю: где приобрести?
Катя сидела потупясь, курила. Потом загасила сигарету.
— Еще кофе?
— Нет. Спасибо.
— Видите ли, Артур, ваших туристских грошей на настоящую шаль не хватит. Если хотите, у меня есть время, подъедем в универмаг «Cort Angle», смогу помочь решить все ваши проблемы.
— Прекрасно. Я не умею покупать вещи, тем более не знаю языка…
…Когда поднимались эскалатором универмага «Cort Angle» на один из этажей, где продавалась женская одежда, Катя сказала:
— Давайте договоримся. Подлинная испанская шаль, к тому же старинная, у меня есть, и я посылаю её Анне. Это будет мой подарок. А вам, вы мне тоже очень симпатичны, хотя и порицаете за то, что оставила Москву, за буржуазную жизнь (я тоже умею читать мысли), мне хочется подарить видеомагнитофон. Это здесь неподалёку.
— Не обижайтесь, пожалуйста, я не приму такого подарка, — твёрдо сказал я.
Сошли с эскалатора в зал, где, кроме нас, покупателей не было. Приглушенно звучала итальянская мелодия — «Санта Лючия»… В широкие окна лилось солнце Барселоны. У просторных отсеков–секций стояли девушки–продавщицы.
— С вами каши не сваришь, — горько улыбнулась Катя. — Тогда поступим так. Я вам говорила, у меня сестра в Киеве. Вернетесь — пошлите ей сто рублей, а я соответственно даю испанские деньги. Вот двадцать тысяч песет. По рукам, Артур?
— Ну, если соответствует — спасибо.
Вместе выбрали Анне белое платье, туфли, поднялись выше в мужской отдел, где я купил для себя голубую курточку на «молнии» и кроссовки.
После этих покупок у меня осталось целых шесть тысяч песет, что было равно примерно тридцати рублям — на кофе и прочие мелочи.
— Когда вы должны быть в отеле? — спросила Катя.
— К двум.
— Надо вернуться, упаковаться, взять шаль, но мы ещё успеем заехать в колледж забрать моего Федерико, хорошо?
— Конечно.
И мы поехали за Федерико.
У ворот узорчатой ограды, замыкающей парк со старинным особняком посреди, машина остановилась.
— Сейчас выпустят, — сказала Катя, взглянув на часы.
Тотчас двери особняка распахнулись, и орава мальчишек в разноцветных курточках выбежала на зелёную лужайку. Вместе с ними появился высокий, спортивного сложения парень с мячом.
— Десятиминутная разминка в конце занятий. Без этого их не отпускают, — сказала Катя.
Подъезжали и подъезжали машины с родителями. Все смотрели сквозь решётку на взлетающий мяч, на счастливых ребят.
— Не думайте, что это так уж прекрасно, — сказала Катя. — Эти богатые люди, и мы с мужем в том числе, ежемесячно платим огромные деньги гангстерам за то, чтоб наши дети остались живыми. Представьте, в каком напряжении я нахожусь…
Наконец створки ворот разошлись в стороны. Родители быстро разобрали детей. Машины начали разъезжаться.
Приехав домой, Катя стала спешно паковать вещи, а Федерико, не менее очаровательный, чем его сестра, затащил меня в свою комнату, где на низком столе среди электронных игрушек стоял большой глобус. Мальчуган закрутил его, потом нашёл какую‑то точку, ткнул пальцем и крикнул:
— Москва!
Это было единственное русское слово, которое он знал.
…Через восемь дней вечером первого мая накануне отлёта из Мадрида, уже побывав в Толедо, в Сеговии, Авиле, усталый от обилия впечатлений, включил цветной телевизор в своём номере, в отеле «Gran Via». И ахнул.
Первое, что я увидел на экране, — был Игоряшка! Игоряшка запускал модель планера, танцевала Машенька с веером, отплясывали малыши…
Смотрел с нарастающим чувством вины. Создал, сам того не желая, пусть и оригинальный, узор на гигантском занавесе показухи.
«Первомайское поздравление» не только не было зарублено, но, как потом выяснилось, шло в этот день и в социалистических, и во всех странах мира.
Испания.
Рано утром мы выехали из Мадрида. По дороге в Сеговию автобус сверх программы заезжает на полтора часа в Алькала‑де–Энарес — городок с университетом шестнадцатого века.
Пока мои спутники посещают музей, фотографируют действительно красивый мраморный фасад университета — с гербами, барельефами, статуями, — я брожу по окрестным авенидам, прохожу мимо коротко обрезанных платанов с брызнувшей листвою, мимо белых домов с красными черепичными крышами, вступаю под тень аркад, откуда освещённая солнцем улица, балкончики с цветами бегонии кажутся ещё более яркими.
Аркады выводят на круглую площадь. Посреди неё бьёт фонтан. Знакомые старинные здания смотрят на меня…
Я замираю, озираюсь, оказавшись в собственном сне.
Там, на восьмидесятиметровой глубине, сегодня неслыханный жор. Правая рука налилась свинцом, устала выбирать толстую леску с десятью крючками, оснащёнными разноцветными птичьими пёрышками. Каждый раз стряхиваю с них на дно шлюпки по десятку крупных, отливающих синей сталью сельдей.
И опять свинцовое грузило утаскивает в глубину леску самодура. Сквозь поверхность воды какое‑то мгновение видна зазывная игра птичьих пёрышек.
Дно шлюпки устлано толстым слоем шевелящихся рыб. А по леске вновь передаются дробные удары — клюёт.
Раньше такого клёва никогда не было.
Третий месяц каждое утро, если нет шторма, я выхожу в зимнее море на старой, купленной по дешёвке шлюпке, ловлю рыбу, потом причаливаю к берегу, где меня ждут торговки с клеёнчатыми сумками. Продаю им улов, который они тут же волокут на базар, а сам, сонный, плетусь в гостиницу, где снимаю недорогой номер — каморку без окна, сдираю с себя брезентовый костюм с капюшоном, свитер, смываю с лица и рук морскую соль, обедаю в гостиничном буфете, часа полтора сплю, а потом до поздней ночи работаю при свете лампы. Надежда, что мой труд все‑таки дойдёт до людей, трепещет в душе. Пишу, машинально прислушиваюсь, не начался ли шторм, временами думаю о матери, о Москве. Иной раз кажется — там кипит жизнь, без меня происходит что‑то важное, главное…
На рассвете, когда я выгребаю от причала, горькие мысли уходят.
Из‑за гряды Кавказа встаёт солнце. С криком проносится чайка. Дома? на набережной, город, берег — все это отодвигается с каждым рывком весел.
…Никогда так не клевало, как сегодня. Может, особая погода? Взглядываю на небо.
С дальних гор надвигается широченная чёрная туча. Она идёт быстро. Порыв ветра коснулся моего лица, сбросил капюшон.
Лихорадочно сматываю и все никак не могу смотать самодур, хватаюсь за рукоятки весел. Перегруженная рыбой лодка медленно разворачивается. В борт бьёт волна, рассыпается брызгами.
Гребу изо всех сил. Гроза, неожиданная в это время года, налетает с дождём и снегом. Вокруг бьют молнии, озаряя потемневшее море с шипящими барашками пены.
Опасность всю жизнь ходит рядом со мной. Но так глупо погибнуть от молнии. Я мокрый, шлюпка мокрая, сейчас она одна в море.
Гребу в раскатах грома. Бесконечно долго приближается набережная. Вон проехала автомашина. Люди ходят под зонтиками.
Соленые брызги срываются с гребней водяных валов, застят глаза. Некогда отереть лицо, отпустить весла — лодку тут же отнесёт.
Совсем близко взрывается огненный разряд. Сердце выскакивает из груди. Может, ещё миг, и я погибну у всех на глазах.
Там под крышами дети в школьных классах, старики читают газеты, домохозяйки готовят обед, девушки мечтают о любви. Они все там.
А я здесь. Один.
Накат волны высоко поднимает шлюпку, с грохотом рушит о песчаную косу. Вышибает дно. В отхлынувшем водовороте кружат щепки, весла, снасти.
Успеваю отползти от нового нависающего вала. Стою на коленях. Без сил.
Из‑за края уходящей тучи показывается солнце. Слепящее до слез.
Глава двадцать пятая
Стоя рядом, он искоса следит за каждым моим движением. Следит, ничуть не скрывая брезгливости.
Громадный мужик в белом халате, белой шапочке — знаменитый хирург–уролог, заведующий отделением крупнейшей московской больницы, он дал мне всего тридцать минут.
Если за полчаса у Веры — девушки, что лежит под простыней на каталке, — не стихнут колики, не упадёт высокая температура, её немедленно повезут в операционную вырезать камень, закупоривший выход из почки в мочеточник. В данном случае операция связана с риском для жизни: у больной плохое сердце.
Только поэтому по просьбе отца этой девушки — серебряноголового врача–реаниматора, работающего здесь же, в больнице, того самого, который столкнулся со мной в квартире у Гошева, — операция оттянута.
Едва я прилетел из Мадрида, как врач поймал меня по телефону, умолил спасти его ребёнка.
«Не соглашайся, — сказала Анна. — Можешь попасть в неприятную ситуацию».
— Все правильно. Никаких гарантий у меня нет. Но как не сделать попытку вырвать человека у смерти?
Я работаю, стараюсь не обращать внимания на хирурга, забыть о его присутствии. Боли у Веры прошли почти сразу, насчёт температуры пока ничего не знаю. Моя сверхзадача — выгнать камень.
Прикрываю глаза — вижу, он уже треснул в трёх направлениях, но стоит на месте.
Временами сюда, в палату, заглядывает Верин отец, волнуется. И передаёт волнение мне. Это мешает. Мешает присутствие хирурга. Камень не трогается с места. Я устал, выдохся. Прошу полстакана воды.
Хирург своей ручищей ставит на тумбочку гранёный стакан. На одной из граней его след белой полоски кефира…
Вскакиваю со стула, бросаюсь к рукомойнику, яростно мою стакан. Ополаскиваю. Наливаю свежую воду.
Когда возвращаюсь к каталке. Вера улыбается навстречу.
— Не волнуйтесь. Ну совершенно не болит. Спасибо вам.
Хирург хмурится, демонстративно смотрит на часы. Видя, как я насыщаю энергией воду, не выдерживает:
— Черт знает что! Давайте‑ка, милейший, кончать этот спектакль.
Подношу стакан больной. Пока Вера пьёт, входит её отец.
Стоя у окна, прихожу в себя. Они меряют температуру. Нормальная. Операция отложена на сутки. Если завтра рентген покажет, что камень не вышел, Вера всё равно попадёт под нож.
Верин отец отвозит меня домой на санитарной машине. Уговариваемся встретиться завтра утром у него в отделении реанимации, куда привезут Веру, чтоб я перед рентгеном успел провести ещё один сеанс.
— Как вы думаете, получится? — робко спрашивает он на прощание.
— Не знаю, — отвечаю я. — Не знаю.
Дома пусто. Анна на работе. Пока я был в Испании, она довела ремонт до конца. Брожу по неузнаваемо чистой квартире, не могу успокоиться. В самом деле, что же это за материя такая, что я никогда не уверен в успехе своего целительства, не понимаю механизма его действия? Вообще, что все это такое? Ни одна из книг, ни один человек, с которым я разговаривал на эту тему, не дают чёткого ответа.
Подхожу к телефону, медлю минуту–другую, затем решаюсь и набираю запретный номер. Только Н. Н. сможет все объяснить.
Женский голос с удивлением отвечает, что Н. Н. умер ещё перед Новым годом и теперь здесь живут другие.
Кладу трубку. Тут же — звонок телефона. Это Анна. Спрашивает, как дела. Успокаиваю, говорю, что ни температуры, ни колик у больной нет, все в порядке. Она напоминает: уже пятый час, сегодня четверг — день вечерних занятий в лаборатории.
А передо мной встаёт лицо Веры. Все ли действительно в порядке? Вдруг снова боли, снова вспыхнула температура?
В руках самопроизвольно возникает ток энергии. И я начинаю лечить на расстоянии. Дроблю камень, гоню его вниз…
А потом, усталый, плетусь на почту, чтобы отправить сто рублей Катиной сестре в Киев. Через час нужно спешить на занятия.
Как назло, длиннейшая очередь, человек пятнадцать. В основном это старушки, получающие здесь пенсию, женщины с детьми. Очередь движется очень медленно. Думаю об Н. Н. — самом загадочном из всех людей, каких встречал. Прочтя о таком, не поверил бы…
Вдруг вспомнилось, как всего несколько дней назад в библиотеке Эскориала под висящими в простенках между окнами портретами католических королей увидел старинную испанскую карту, созданную ещё до открытия Америки. Там, где теперь Советский Союз, простиралось огромное белое пятно с надписью «Terra incognita».
Земля неизвестная… Неизвестная земля…
Смотрю на этих людей, на эту вечную российскую очередь. И опять вспоминаю: в Мадриде, в свободные часы перед отъе–здом, все из нашей группы кинулись кто куда. Одни побежали покупать на оставшиеся песеты подарки детям, другие, крадучись, — в кинотеатр, смотреть порнофильм. А я свернул с Gran via, просто пошёл по улицам… Увидел под весенним небом за оградой древний собор среди двора, заросшего свежей травой. Врата его были раскрыты. Вошел в резкую после солнца темноту пустого храма. Пригляделся. У алтаря двое служек устанавливали кресло, обтянутое красным бархатом, а я опустился на край одной из деревянных скамеек; сидел, думал об этой «Terra incognita», о своей родине. Так странно было думать о ней на другом конце Европы.
Когда я вышел из собора, увидел священника. В раздумье он медленно шёл по тропинке среди травы. Поравнявшись со мной, поднял голову, что‑то спросил. Ни одно из слов не было мне понятным. Я развёл руками, сказал:
— Москва. Совьетико.
Какое‑то мгновение священник вглядывался в меня. Потом вдруг опустился на колени и несколько раз произнёс:
— Usted i Dios son baonika esperanza — фразу, которую я запомнил и которую через два часа перевёл мне Хорхе:
— Одна надежда — на Бога и на вас.
Отослав наконец деньги, иду в лабораторию.
Сегодня у входа никаких больных. Прогуливается милиционер с переговорным устройством. Предъявляю пропуск, прохожу внутрь. В коридоре на доске объявлений приказ:
«Уволить с должности заведующего лабораторией Йовайшу И. М.»
Отворяю дверь в аудиторию, где уже начались занятия, извиняюсь за опоздание, примащиваюсь с краешку на стул рядом с Ниной.
За столом на фоне чёрной доски стоит Николай Егорович — тот самый доктор философских наук, который впервые привёл меня сюда.
— Наш новый заведующий, — шёпотом объясняет Нина. — Вы его помните?
Николай Егорович говорит о том, что прежний руководитель развёл в стенах лаборатории мистику, что никаких энергий, якобы исцеляющих человека, никаких тайн нет. Есть некоторые тепловые эффекты, которые нужно изучать при помощи приборов. Вот конструированием этих приборов и должна заняться лаборатория. Особо ценными людьми отныне здесь будут электронщики, математики, паяльщики. Тем же, кто интересуется так называемой парапсихологией, какими‑то духовными изысканиями, здесь не место.
Я встаю и покидаю аудиторию.
Во дворе на лавочке рядом со старухой, катающей взад–вперёд коляску с ребёнком, сидит Йовайша.
Бросаюсь к нему. Игорь Михайлович улыбается навстречу, усаживает.
Май. Еще совсем светло. На ветках тополей лопнули почки, первая зелень. Мы смотрим на здание лаборатории. Йовайша прерывает молчание:
— Так и должно было случиться. Но это не конец. Просто ещё один виток.
Младенец в коляске улыбается, гукает, никак не хочет засыпать. Мы смотрим на него — будущее человечества…
Темнеет. Холодает. В окнах лаборатории зажёгся свет. Старуха разворачивает коляску и увозит младенца. Мы тоже встаём, вместе шагаем к метро.
— И все‑таки, — спрашиваю я, — то, что происходит со мной, — чудо?
— Нет, — твёрдо ответил Йовайша. — Это дано каждому, как способность видеть, дышать, слышать… То, что происходит с вами, — самая малость того, что может случиться не где‑то на небе, а вот здесь и теперь с каждым. Кто тренируется, продвигается, алчет правды… Не стану скрывать: вы одолели лишь ближайшую гору, самое трудное у вас впереди. И так будет всегда. Но именно в этом — счастье. Вам не кажется?
— Уверен. А что будет с вами?
— Давно приглашают в другой город. Начну все сначала.
…Утром Верин отец везёт меня в больницу. На этот раз к себе — в отделение реанимации.
— Есть температура? Боли? — спрашиваю я.
— Нет.
Во мне загорается надежда.
Вера сама, без каталки, спускается на первый этаж. Худенькая, в выцветшем больничном халате, она так доверчиво улыбается.
— Знаете, по–моему, камень вышел. Мгновенная боль — и все.
— Когда это было?
— Вчера днём, часов в пять. Меня выпишут?
Нас проводят мимо пустых стеклянных саркофагов — кислородных камер — в комнату–закуток, где оставляют вдвоём.
Вера стоит передо мной. Проникаю розовыми полосами в почку, веду вниз по мочеточнику, мочевому пузырю. Камня нет. Проверяю снова и снова. Кажется, чисто.
На всякий случай решаюсь ещё на один сеанс. Ошибка, неудача недопустимы. За здоровье этой девушки, за успех дела, которое доверила судьба, я несу ответственность. Особенно теперь, когда остался один — без лаборатории, без Йовайши, без Н. Н.
Через полчаса Верин отец заводит меня в ординаторскую, где я, опустошённый, опускаюсь на стул, а сам уходит с Верой в отделение урологии. Там ей сделают рентген. Голова клонится на руки. Буду ждать. Не уйду, пока не дождусь результата.
Дежурные реаниматоры варят кофе в джезвее, наливают и мне чашечку, включают стоящий на холодильнике маленький телевизор, идёт «Утренняя почта»; кто‑то подсовывает бутерброд с сыром.
Их, врачей, здесь двое, в этой маленькой комнатке. Обстановка почти семейная. Слева на стене почему‑то плакат с портретом Никиты Михалкова — усатый красавец с равнодушным взором. Пью кофе, оживаю.
— У вас сегодня мало работы? — спрашиваю симпатичную докторшу, чем‑то похожую на Катю.
— Никакой, — отвечает она. — Редчайший случай. Правда, лежит одна девица, практически труп. Ждем следователей, составят акт, отключим от приборов — и в морг.
— То есть?! — насторожился я.
— Обычное дело, — говорит другой доктор, попивая кофе и поглядывая на экран телевизора. — Позавчера на рассвете привезли парня и молодую женщину лет двадцати восьми. Их обнаружил милицейский патруль. Видимо, загуляли, замёрзли, деться некуда, открыли чужой гараж, сели в машину, включили печку, да так и уснули. Устроили себе душегубку. Оба мертвы.
У доктора красивые бархатные глаза, перстень на руке.
— Подождите, но ведь женщина ещё жива? А где парень?
— В морге. Что касается женщины — это просто дом, где уже никого нет. Пребывание в CO необратимо убивает мозг, нервные клетки. А она пробыла часов семь… Любопытно, их до сих пор никто не хватился. Документов ни на ком не нашли.
— Даже неизвестно, как её зовут?
— Неизвестно. Да вы не волнуйтесь. Хотите ещё кофе?
— А можно на неё посмотреть? — спрашиваю я, и мой голос почему‑то садится.
— Ну, пожалуйста. Это рядом, в барозале. Только зачем это вам? Она безнадёжна.
Подают белый халат, помогают надеть. Мельком вижу себя в зеркале, вспоминаю: «Terra incognita».
— Может, кто‑нибудь из вас пойдёт со мной? Мне страшно.
Врач с неохотой отвлекается от телевизора.
Коротким коридором подходим к барозалу. С каждым шагом идти все труднее.
Зал облицован светлой керамической плиткой. В центре на постаменте в барокамере без крышки под белой простыней опутанное трубками человеческое тело. Стоит капельница.
Голова. Белокурые волосы будто только что уложены парикмахером. Глаза с длинными ресницами полуоткрыты. В них из стороны в сторону медленно плавают зрачки.
От контраста между красивым, зрелым лицом этой женщины и её худеньким, совсем девичьим плечом, высунувшимся из‑под простыни, перехватывает горло. И хотя я заранее знаю ответ, шёпотом спрашиваю врача:
— А что с ней будет, после следователей? Когда вы отключите аппараты?
— Морг, — громко отвечает он. — Потом кремация. Се ля ви.
Хочется заткнуть ему рот.
Зрачки женщины все так же жутко плавают из стороны в сторону. Дом, где никого уже нет… А вдруг не поздно вернуть? Дорога каждая секунда.
— Можно мне попробовать что‑нибудь сделать?
— Что угодно! — отвечает он. — Наивный вы человек. Мы уже все перепробовали, четыре сеанса барокамеры…
Осторожно поднимаю с простыни руку, ещё живую, тёплую. Там, где расходятся большой и указательный пальцы, в глубине ладони есть китайская точка хэ–гу. Через неё возвращают жизненные силы.
Только начинаю сосредоточиваться, как в зал входят хирург–уролог, Верин отец и Вера. Они сияют.
— Камня нет! — говорит хирург. — Поразительно! Как вам это удалось?
Стиснув зубы, отмахиваюсь.
— Уходите скорей, уходите.
Уходят, оглядываются.
Подаю энергию в точку хэ–гу — никакого эффекта.
Тогда начинаю одновременно с подачей энергии массировать эту точку. Массирую жёстко. Другой человек заорал бы от боли.
Зрачки все так же плавают…
Захожу с другой стороны барокамеры, беру другую руку.
Работаю отчаянно, изо всех сил.
Из глубины зала появляется пожилая медсестра, проверяет капельницу, трубки, ворчит:
— Да чего мучаетесь? За грехи и расплата. Безобразничают, а потом возись с ними… Ишь красотка, думала, Бог не видит, Бог все видит. Ничего, отвезут в морг — будешь со своим дружком рядом.
— Дайте скорей табуретку, стул, что‑нибудь! Мне низко.
— А для чего?
— Скорей! — повторяю, отпуская руку. Там, где я массировал, остаётся огромный синяк.
…И вот я стою на табуретке. Над барокамерой, над белым полем простыни, где, как страна под снегом, человек. Гибнущий. Уже никому не нужный. Если не я, никто его не спасёт.
Вспоминаю слова Йовайши: «Это дано каждому».
Передо мной возникают глаза. Мамины глаза. Лучатся любовью и надеждой.
Но вот они исчезают. Исчезает зал — стены, потолок.
Вокруг чернота Космоса с пылающими созвездиями. Необыкновенно сильный ток энергии льётся в меня, струится из пальцев.
Очищаю этой энергией белокурую голову, тело. Потом беру обеими руками мочки ушей, где представлены обе половины мозга, жёстко массирую, глядя в плавающие зрачки.
Стон. Детский, жалобный. Он нарастает. Зрачки останавливаются. Глаза смотрят на меня. В них боль, изумление…
На следующее утро Артур Крамер начал писать эту книгу.
1981–1987