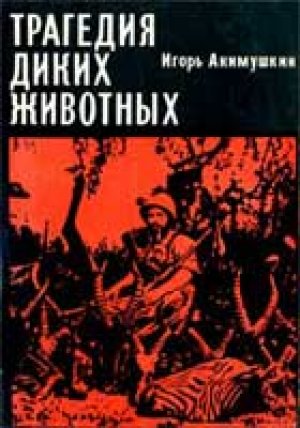
Посвящается Алине
Введение, которого могло и не быть.
Нужно ли введение для этой книги? Сама жизнь, все, что мы читаем в газетах, журналах и книгах о природе, о зверях и птицах, о рыбах и китах, о лесах и реках, о почвах и урожаях, – все служит введением к ней!
Все взывает к сознанию человека: СТОП!
Пора навести порядок на земле, пора прекратить бессмысленное уничтожение диких животных, истребление лесов, загрязнение и иссушение рек и озер! Охрана природы в наши дни не академическая теория, а насущная необходимость и долг каждого разумного существа на земле!
Люди Земли мечтают попасть на Луну, но ЛУННЫЙ ПЕЙЗАЖ У НАС НА ЗЕМЛЕ НИКОГО НЕ УСТРОИТ. Мы переживаем сейчас время, когда человек начинает понимать, что нельзя так бесконтрольно, как прежде, расточать природные ресурсы. Это приведет к печальному финалу. Все больше и больше энтузиастов вступает в ряды бойцов, решивших выиграть великую битву – спасти от уничтожения богатства природы.
И это одна из причин, почему книги о диких животных, о путешествиях в неизведанные края, о природе далеких стран пользуются в наши дни такой популярностью. «Книги фактов» без выдуманной фабулы и интригующего сюжета успешно конкурируют сейчас с художественной литературой. Люди хотят лучше знать мир, в котором они живут. Это хороший симптом.
С каждым годом растет интерес к редким исчезающим животным.
И растет пропорционально их гибели. Когда в прериях Америки, в степях Австралии и Африки, на затерянных в океанах островах появились европейцы со своим смертоносным оружием, над девственной природой пронесся ураган опустошения. Началось массовое, часто бессмысленное уничтожение диких животных. Один за другим стали навсегда исчезать не стада и не стаи, а целые виды вполне жизнеспособных и полезных зверей и птиц. Люди, не знакомые с зоологией, даже приблизительно не представляют себе величины понесенного природой урона.
Известные специалисты Харпер и Аллен подсчитали, что за последние двадцать веков охотниками и колонистами УНИЧТОЖЕНО УЖЕ 106 ВИДОВ КРУПНЫХ ЗВЕРЕЙ и 139 ВИДОВ И ПОДВИДОВ ПТИЦ. Первые 1800 лет человек медленно наступал на природу: за восемнадцать веков вымерло только 33 вида. Затем истребление фауны пошло с нарастающим темпом: за последующие сто лет было уничтожено человеком еще 33 вида. В одном только XIX веке вымерло 70 видов животных, а за последние пятьдесят лет – 40 видов!
Но и это не все – новые ШЕСТЬСОТ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ сейчас на грани полного уничтожения. По-видимому, они НЕ ДОЖИВУТ ДО КОНЦА НАШЕГО ВЕКА.
Иногда спрашивают люди, которые сами думать не любят: «А зачем нам беречь диких животных?»
На это «зачем» можно сказать много разных «потому что». Проблема сохранения диких видов имеет немало нравственных, эстетических, экологических, генетических, экономических и других моральных, научных и хозяйственных сторон.
Прошли те годы, когда спортивная ОХОТА нуждалась в рекламе и поощрении, а охотничья литература помогала любить красоты природы. ТЕПЕРЬ это СЛИШКОМ РАСТОЧИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ ЛЮБВИ.
Я уверен, пройдет немного времени, и все человечество будет считать так называемую спортивную охоту позорным пережитком дикости, а убийство без надобности животного будет караться законом почти так же строго, как убийство человека. Потому что всякое убийство, и человека, и животного, наносит большой моральный урон, прежде всего тому, кто убивает, и тем, кто его окружает. И еще потому, что ЕСЛИ ТАК БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ, то убивать скоро станет некого и инженерам ПРИДЕТСЯ ИЗ НЕЙЛОНА или другого химзаменителя ДЕЛАТЬ и ЗАЙЦЕВ, и ОЛЕНЕЙ, и ГЛУХАРЕЙ и ВЫПУСКАТЬ ИХ В ЛЕСА (ТОЖЕ НЕЙЛОНОВЫЕ!).
Чтобы этого не случилось, чтобы цифры в списке мертвых видов не стали вскоре пятизначными, чтобы непоправимое оскудение лесов, степей, рек и почв не умножалось с безнадежной быстротой (ведь все в природе, живое и неживое, взаимосвязано!), пора на всех материках и островах прекратить бессмысленное «спортивное» кровопролитие или хотя бы установить над ним более строгий контроль. Трудно вести эффективную и последовательную борьбу с браконьерством, пока многие люди одержимы еще охотничьей страстью каменного века.
НУЖНО МЕНЬШЕ ОХОТНИКОВ – больше сторожей в заповедниках, меньше охотничьих обществ – больше обществ защиты животных, меньше охотничьей литературы – больше литературы биологической. И ТОГДА ПОСЛЕДНИЕ АКТЫ ТРАГЕДИИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ, которые человечество впишет в историю жизни на планете Земля, БУДУТ С ХОРОШИМ КОНЦОМ!
Мертвые, как дронт, – мы никогда их не увидим
Последние из гайерфуглов
Все знают, что пингвины водятся в Антарктиде, но мало кому известно, что это не настоящие пингвины. «Это маншоты», – говорит Анатоль Франс, ссылаясь на ученые авторитеты. «Но если маншотов называют пингвинами, – восклицает бессмертный историк «Острова пингвинов», – то, как в таком случае будут называться настоящие пингвины?»
Увы, сейчас этот вопрос уже никого не беспокоит. Прежде чем ученые решили спор, какое имя носить антарктическим и арктическим пингвинам, последние все вымерли. Исчезли в необъятном желудке жиропромышленной коммерции.
Арктические пингвины – это исполинские бескрылые гагарки. Английские моряки называли бескрылых гагарок «пин-уингами» (от pin-wing – крыло-шпилька) – намек на недоразвитые крылья этих птиц {1}. Пин-уинг превратился затем в пингвина, а потом и это имя отобрали у исполинских гагарок и перенесли его на антарктических всем хорошо известных птиц.
Правда, знаменитый французский натуралист Бюффон в конце XVIII века протестовал против такой узурпации. Он читал отчеты капитана Кука и Фостера о плавании в южные моря, в которых описывались антарктические пингвины, и понял, что те с бескрылыми гагарками ничего не имеют общего. Это совсем разные птицы. Бюффон и предложил называть южных пингвинов маншотами, а северных, то есть гагарок, пингвинами.
Но еще раньше, задолго до Бюффона и до того, как английские моряки появились на сцене со своим трудно произносимым «пин-уингом», бескрылые гагарки известны были северным народам Европы под названием «гайерфуглов». Это имя долго сохранялось за ними в Исландии. Оно же упоминается и в норманнских эддах и сагах и по-древнескандинавски означает «копье-птица». У бескрылых гагарок были довольно крупные и неплохо «отточенные» клювы, и они ими больно клевались.
Издали по внешности и по повадкам бескрылые гагарки действительно напоминали пингвинов. Они так же неуклюже, но несгибаемо прямо передвигались по суше на коротких лапах. Крылья у них были недоразвиты, как у пингвинов. Но у пингвинов крылья превратились в ласты, которыми отлично можно грести в воде. А у гагарок просто остались бесполезными придатками {2}. Как и пингвины, бескрылые гагарки не умели, конечно, летать. Ростом были с гуся и много первосортного жира носили под кожей. Это их и погубило.
На заре истории европейских наций бескрылые гагарки обитали почти всюду у моря и в море по обеим сторонам северной половины Атлантического океана. На западной стороне – от Гренландии до Ньюфаундленда, по атлантическому побережью США вплоть до Флориды. По восточной – от Исландии, Шотландии, Ирландии, Скандинавии до прибрежных районов Франции и южной Испании. А в ледниковую эпоху, примерно шестьдесят тысяч лет назад, исполинские гагарки жили даже на самом носке европейского сапога: в Апулии, на юге Италии. Но в то время климат там был более холодный, чем сейчас.
Зимой и в негнездовое время гагарки разбредались, вернее, расплывались по разным странам и морям. А весной и летом, с мая по июль, собирались они в безмерном числе на немногих скалистых островах туманного севера, у берегов Исландии, например. Возможно, исполинские гагарки гнездились также и на Оркнейских, Гебридских, Фарерских островах, и, конечно, на знаменитом «Острове пингвинов» около Ньюфаундленда (а в каменном веке также и в Шотландии и по всему западному побережью Скандинавии).
Когда суда мореплавателей приближались к берегам, густо населенным пингвинами, те с любопытством и без боязни встречали моряков. Вытянувшись и с достоинством подняв головы, птицы большими группами спокойно поджидали людей, словно уважаемые члены почтенной делегации, приветствующей дорогих гостей.
Но люди были не столь почтенны: вооружившись палками, набрасывались они на бедных аборигенов и избивали их без всякого стеснения. Благо бежать тем было некуда: сразу от моря вверх вздымались высокие скалы, на которые гагарки забраться не могли. А летать они ведь не умели. Обманутые в своем трогательном доверии к человеку птицы метались по берегу, беспомощно размахивая нелепыми культяпками.
Это была, пожалуй, самая добычливая «охота», которую знает история. Жак Картье, «веселый корсар» и исследователь Лабрадора, рассказывал, как за один день и почти не сходя с места, его матросы убили больше тысячи «северных пингвинов»! И еще, добавляет он, на том берегу в живых их осталось столько, что можно было бы наполнить сорок шлюпок.
А другой капитан похвалялся своими парнями, которые за полчаса нагрузили до краев два бота жирными пингвинами: их наловили голыми руками.
В Европе бескрылых гагарок было не меньше, чем на Лабрадоре. Здесь прославился свой «Остров пингвинов», или Гайерфугласкер, как его еще называли, – главное место охоты исландских промышленников. Забавно, что церковь даже и гагарок не оставила без своего пасторского внимания: большую часть доходов охотники за пингвинами должны были выплачивать в ее казну. Церковь в Киркйеворге требовала половинной доли от добычи, а в Утcкала – половины с другой половины. Так что самим охотникам доставалась лишь четвертая часть вырученных за пингвинов денег. И все-таки это было немало, потому что избиение гагарок продолжалось.
В наполеоновские войны за мясом для солдат в Исландию и на «Остров пингвинов» приплывали даже большие корабли из Европы. В 1813 году матросы со шхуны «Ферое» под командой капитана Петера Хансена перебили почти всех бескрылых гагарок на Гайерфугласкере. Доверху наполнили шлюпки даже их яйцами (птицы как раз выводили птенцов), множество яиц просто подавили. Горы мертвых пингвинов остались гнить на берегу: в море начался шторм, и второй раз за убитой добычей моряки не смогли пристать к острову.
Нарождавшийся капитализм острым нюхом молодого зверя быстро распознал вкус легкой наживы. Наскоро организованные компании посылали к берегам арктических островов корабли с охотниками за птичьим жиром и пером, которое почему-то очень ценилось. Беззащитных птиц били дубинами, ловили сетями. Набивали полные трюмы. Это был «ойл-бизнес», и он приносил хороший барыш.
Последние страницы трагедии дописали своим энергичным вмешательством коллекционеры. Исполинская гагарка стала редкостью. За ее яйца и шкурки музеи и любители платили большие деньги. «Ойл-бизнес» заглох, исчерпав ресурсы. Но «эметёр-бизнес» только расцветал. За каждую шкурку бескрылой гагарки платили уже по сотне крон: куда больше, чем стоили жир и перья всех сваленных в шлюпке птиц!
Но заработать эти сто крон стало нелегко. Всюду, где когда-то без счета колотили их дубинами, о гагарках остались теперь лишь воспоминания. Еще в 1790 году в бухте города Киля убили последнего в Балтийском море пингвина. На Оркнейских островах двух последних бескрылых гагарок поймали в 1812, а в Британии и в Ирландии – в 1834 году. С той поры заработать сто крон можно было только в Исландии. Только там уцелели еще, по-видимому, пингвины. Туда-то, к маленькому островку у южного побережья Исландии – к Элди-Року, капитан Хаконарссон и направил темной ночью 2 июня 1844 года свой корабль. Отплывали поспешно и в тайне. Никто на берегу не знал, куда они плывут. Впрочем, один человек знал – Карл Сиемсен, капиталист и маклер. Он и снарядил эту недобрую экспедицию (которая век спустя еще так больно ранит чистую совесть Исландии).
А чуть раньше две уставшие птицы тяжело поднялись на скалистый берег Элди-Рока. Они плыли долго по морю бурному и спокойному. Плыли тысячи миль от теплых широт Атлантического океана. Плыли на север, на родину, чтобы отложить на маленьком островке одно единственное яйцо, – так было в обычае у бескрылых гагарок. Птицы не знали, да и никто тогда в мире не знал, что они остались единственной на земле парой способной еще продолжить угасающий род северных пингвинов.
Они нашли на берегу подходящее место и отложили это яйцо. Согревали его, единственное и последнее (!), хранящее под толстой скорлупой едва тлеющую искорку обреченной жизни.
3 июня на рассвете лодка с тремя гребцами пристала к берегу на Элди-Рок.
Гребцы вышли, озираясь по сторонам. С криком птицы потрясли воздух испуганным плеском своих крыльев. Давя сапогами гнезда, люди шли по берегу. Их хмурые лица равнодушно взирали на разбитые надежды пернатых семей.
– Я не вижу пингвинов, Джон, – сказал один.
– Говорил я вам: их тут нет. Все сгорели на Гайерфугласкере. Сам видел, как он провалился в преисподнюю {3}.
Они обошли скалу, за ней открылась широкая отмель. И тут Сигурдр Ислефссон закричал:
– Провалиться мне, как Гайерфугласкеру, вон пингвины!
– Не пускайте их в море, ребята! – заорал бородатый Джон Брандссон, и все трое бросились, отталкивая друг друга, за двумя странными птицами, которые с печальным разочарованием в последний раз заковыляли по немилосердной планете, спасаясь от орущих гомосапиенсов.
Джон Брандссон схватил одну птицу у отвесной скалы, на которую она в отчаянных, но безуспешных попытках хотела взобраться. Сигурдр Ислефссон поймал другую на самом краю каменного карниза, нависшего над ущельем. А Кетилу Кентилссону, третьему члену этой компании маленьких геростратов, уже некого было ловить. Он вернулся туда, где первый раз увидели они пингвинов: ведь пингвинье яйцо тоже можно продать! Он нашел это яйцо. Но, увы, все надежды Кентилссона рухнули, как только он взглянул на него: яйцо было раздавлено!
Так погибли две последние на планете бескрылые гагарки, два низвергнутых в небытие законных обладателя имени пингвинов. С той поры нигде больше в северных морях и на островах Старого Света живых пингвинов не видели. А в Америке они вымерли еще раньше – где-то между 1750 и 1800 годами. До XIX века не дожила, по-видимому, ни одна американская исполинская гагарка {4}.
Трагедия завершилась весьма прозаическим финалом: истребив всех гагарок, американцы, спохватившись, решили с пользой употребить хотя бы то, что от них осталось – гуано. На острове Фанк, около Ньюфаундленда, где в былые времена гнездились миллионы пингвинов, нашли большие залежи птичьего помета. Его стали вывозить и продавать фермерам. При разработках раскопали массу костей и даже несколько бесперых мумий исполинских гагарок. Ценные находки отправили в Англию. Там британский Жорж Кювье – профессор Ричард Оуэн изучил мумии и написал большую монографию о бескрылых гагарках. Она увидела свет через двадцать один год после того, как на Элди-Роке люди раздавили последнее яйцо с последним зародышем этих птиц.
Истребление бескрылых гагарок увенчалось фантастическим триумфом: их бренные останки ценятся теперь дороже золота. За яичную скорлупу пин-уинга коллекционеры платят по шестьсот, а за шкурку – по двадцать тысяч фунтов стерлингов. Как за двадцать первоклассных автомобилей!
В конце прошлого века подсчитали, что в музеях мира и в частных коллекциях любителей хранится лишь 79 (или 81 по другим, менее надежным сведениям) шкурок гайерфуглов, две дюжины их полных скелетов, две заспиртованные тушки и 75 яиц {5}. (В этом списке не учтены кости, найденные при раскопках на Фанке).
Не многих бы удивило, если бы обнаружилось, что некоторые из этих редкостных экспонатов – подделки. Такое уже случилось. В музее Дармштадта, в Германии, пишет Вилли Лей, долго и бережно хранили чучело бескрылой гагарки – так думали, по крайней мере, сотрудники музея. А потом какой-то невежда решил проверить, гагарка ли это. Этот дотошный скептик тщательно исследовал каждое перо и… не нашел среди них ни одного той птицы, имя которой чучело так долго и гордо носило. Все перья были гагарок, но не бескрылых, а обыкновенных, которых немало и сейчас еще летает над северными морями. Только череп был неподдельный, от бескрылой гагарки. Его откопали, наверное, в кучах гуано, а потом хитроумно оперили.
Печальная история дронтов
В 1507 году португалец Педро Маскаренас открыл в Индийском океане острова, которые позднее были названы его именем. Они представляли удобную перевалочную станцию на пути в Индию, и вскоре толпы авантюристов, как прожорливая саранча, наводнили их. Команды судов пополняли здесь запасы продовольствия, избивая все живое в лесах архипелага. Голодные матросы съели всех огромных черепах {6}, а затем принялись за дронтов.
Португальцы называли их «додо» {7}, а голландцы, которые пришли позднее, – «дронтами». Много потешались тогда над нелепым видом фантастических птиц, жирных и неуклюжих, как откормленные каплуны. Беззащитные дронты, тяжело переваливаясь с боку на бок и беспомощно размахивая жалкими обрубками крыльев, безуспешно пытались спастись от людей бегством.
Трюмы кораблей доверху набивали живыми и мертвыми дронтами. Голландские поселенцы завезли на Маскаренские острова домашних свиней, кошек и… макак. Они принялись с не меньшим усердием, чем люди, уничтожать яйца и птенцов дронтов. И все вместе, люди и животные, к концу XVIII века истребили всех додо. Несколько жалких скелетов в музеях, изображения на картинах голландских живописцев да поговорка «мертвый, как дронт» – вот все, что осталось теперь от удивительных птиц.
Зоологи немногое успели узнать о дронтах. Эти огромные, ростом больше индюка (весили они 18-20 килограммов!), жирные и неуклюжие птицы были, по-видимому, выродившимися голубями. «Лысую» голову дронта украшал массивный крючковатый клюв, а на месте хвоста и крыльев торчали небольшие пучки перьев.
На трех островах Маскаренского архипелага – Маврикии, Реюньоне и Родригесе – обитало, по-видимому, три разных вида дронтов. Дронт с Маврикия, или темный додо, оставил после себя наиболее ценное для зоологов наследство: несколько костей, лапу и клюв (или две лапы и два клюва?), не считая дюжины рисунков и картин, на которых более или менее мастерски запечатлены его портреты. В 1599 году адмирал Ван Нек привез первого живого дронта в Европу. На родине адмирала в Голландии странная птица произвела шумный переполох. На нее не могли надивиться. Художников особенно привлекала ее прямо гротескная внешность. И Питер-Холстейн, и Хуфнагель, и Франц Франкен, и другие известные живописцы увлеклись «дронтописью». В то время, говорят, нарисовано было более четырнадцати портретов с пленного дронта.
Другой живой додо попал в Европу полвека спустя, в 1638 году. С этой птицей, вернее, с ее чучелом случилась забавная история. Дронта привезли в Лондон и там за деньги показывали всем желающим посмотреть на него. А когда птица умерла, с нее сняли шкуру и набили ее соломой. Из частной коллекции чучело попало в один из Оксфордских музеев. Целый век прозябало оно там, в пыльном углу. И вот зимой 1755 года хранитель музея решил произвести генеральную инвентаризацию экспонатов. Долго с недоумением он рассматривал полусъеденное молью чучело сюрреалистической птицы с нелепой надписью на этикетке: «Ark» (ковчег?). А потом приказал выкинуть его в мусорную кучу.
К счастью, мимо той кучи случайно проходил более образованный человек. Дивясь неожиданной удаче, он вытащил из помойки крючконосую голову дронта и неуклюжую лапу – все, что от него осталось, – и со своими бесценными находками поспешил к торговцу редкостями. Спасенные и лапа, и голова позднее снова, но на этот раз уже с великими почестями были приняты в музей. Это единственные в мире реликвии, оставшиеся от единственного чучела драконоподобного «голубя», – так считает Вилли Лей, один из знатоков печальной истории дронтов. Но доктор Джеймс Гринвей из Кембриджа в превосходной монографии о вымерших птицах утверждает, что в Британском музее хранится еще одна нога, а в Копенгагене – голова, бесспорно принадлежавшие когда-то живому додо с Маврикия.
Последнего дронта видели здесь, на Маврикии, в 1681 году. А через сто лет жители острова уже забыли, что когда-то в лесах их родины водились пудовые каплуны. Когда в конце XVIII века натуралисты устремились по следам дронтов и поиски привели их на остров Маврикия, все, к кому они тут обращались за советами, лишь с сомнением качали головами. «Нет, господин, таких птиц у нас нет и никогда не было», – говорили и пастухи и крестьяне.
Охотники за додо, разочарованные и смущенные, возвращались ни с чем. Но Дж. Кларк, не веря местным преданиям, упорно продолжал искать забытых каплунов. Он лазил по горам и болотам, не один камзол изорвал о колючие кусты, копал землю, рылся в пыльных осыпях на речных кручах и в оврагах. Удача всегда приходит к тому, кто упорно ее добивается. И вот Кларку повезло: на одном болоте он откопал много массивных костей крупной птицы. Ричард Оуэн детально исследовал эти кости и доказал, что они принадлежат дронтам. Подтвердил он также и то, что еще до него установил немец Рейнхардт: странные дронты, бесспорно, были родичами голубей! (Некоторые исследователи, впрочем, утверждают сейчас, что не голубей, а пастушков и болотных курочек!)
В конце прошлого века правительство острова Маврикия распорядилось произвести более основательные раскопки на болоте, открытом Кларком. Нашли немало костей дронтов и даже несколько полных скелетов, которые украшают сейчас залы с наиболее ценными коллекциями некоторых музеев мира.
Соседний с Маврикием остров Реюньон прославили белые дронты. Они более чем на полвека пережили своих темных собратьев: последнего белого дронта убили, по-видимому, в 1750 году.
Дронты с Реюньона мало, чем отличались от додо с Маврикия. Но кажется, были значительно более светлыми, почти белыми. Их называли дронтами-отшельниками, потому что большую часть жизни птицы проводили в одиночестве.
Отшельником прозвали также и еще одного дронта совсем особого вида, и даже рода – так полагают некоторые исследователи. Этот второй «отшельник» коротал свои дни на небольшом островке Родригес. Крылья (вернее, то, что от них осталось) были у него более длинные, чем у других дронтов, и на их концах болтались какие-то странные круглые костяшки – по одной на каждом крыле – размером с мушкетную пулю. Этими «пулями», словно кастетами, дронты в драке наносили друг другу удары. Отбивались ими и от собак, причем кусались отчаянно. Клювы у пернатых отшельников были немаленькие, крючковатые и острые, укусы они наносили довольно болезненные. Так что это были не такие уж беззащитные птицы. И вид у них весьма хищный и устрашающий, для вегетарианцев мало подходящий. Дронты ведь питались, говорят, только листьями, плодами и семенами деревьев.
Скромная диета не помешала им, однако, прославиться даже в… астрономии. В честь дронта с Родригеса было названо одно созвездие на небе. В июне 1761 года французский астроном Пингре провел на Родригесе некоторое время, наблюдая за Венерой на фоне солнечного диска (она как раз тогда его пересекала). Через пять лет его коллега Ле-Монье, чтобы сохранить в веках память о пребывании своего друга на Родригесе и в честь удивительной птицы, обитавшей на этом острове, назвал открытую им между Драконом и Скорпионом новую группу звезд созвездием Отшельника. Желая отметить его на карте, по обычаям тех времен, символической фигурой, Ле-Монье обратился за справкой к популярной тогда во Франции «Орнитологии» Бриссона. Он не знал, что Бриссон не включил дронтов в свою книгу, и, увидев в списке птиц название solitaria, то есть «отшельник», добросовестно перерисовал названное так животное. И все перепутал, конечно: вместо внушительного додо новое созвездие на карте увенчал своей мало представительной фигурой синий каменный дрозд – Monticola solitaria (он живет и сейчас на юге Европы, а у нас – в Закавказье, Средней Азии и южном Приморье).
И тут дронтам не повезло. Серия роковых неудач отметила последнюю страницу их истории курьезным финалом.
Кроме трех дронтов, о которых я рассказал, старые путешественники и натуралисты описали еще несколько разновидностей додо. Однако современные зоологи после мучительных раздумий пришли к заключению, что дронты эти рождены недоразумением. В действительности они никогда не существовали.
Французский мореплаватель Лего, посетивший в конце XVII века Маскаренские острова, поведал миру о «солитере» с Родригеса и еще о каком-то загадочном дронте-великане. Рост его, уверял Лего, шесть футов! И перо у него розовое! Наверное (так думают сейчас), Лего принял за дронтов… обыкновенных фламинго.
Два других псевдододо появились на свет после неправильного перевода с голландского языка некоторых кличек, которыми переселенцы из Нидерландов наградили дронтов.
Последний из дронтов был убит на острове Родригес в самом конце XVIII века. До просвещенного девятнадцатого столетия не дожила ни одна из этих «неправдоподобных» птиц.
Моа – страусы-гиганты
Странные острова Новая Зеландия! Тут растут исчезнувшие всюду древние папоротниковые леса – наследие каменноугольного периода. С гор в долины, прямо к фонтанам горячих гейзеров, сползают ледники. На двух огромных островах нет ни одного четвероногого хищника, ни одного млекопитающего зверя. Здесь безраздельное царство птиц.
Многие виды новозеландских пернатых за долгую историю безмятежного существования утратили способность к полету. Навсегда расстались с крыльями – ни к чему им крылья, раз не было в стране опасных хищников!
В горах и равнинах Новой Зеландии живут птицы киви с перьями, похожими на волосы, болотные курочки века и тахаке, которые летают не лучше черепахи. Водились здесь даже бескрылые журавли и сейчас еще живет диковинный попугай какапо. Странная птица днем прячется в норах и только по ночам выходит на поверхность. У какапо есть крылья, но нет «двигателя» для них – киля и необходимых для полета мускулов. Поэтому попугай-норокопатель умеет летать лишь сверху вниз.
Но самыми удивительными птицами Новой Зеландии были моа. Огромные бескрылые гиганты, которые неуклюже передвигались на массивных, «слоновьих», ногах.
С 1840 года ученые описали по ископаемым остаткам около двух десятков видов этих бескрылых новозеландских страусов. Иные моа были ростом лишь с кулика, другие своими колоссальными формами соперничали со… слонами. Ведь некоторые моа достигали в высоту почти четырех метров! Весила такая птичка, как хорошая лошадь, – 300 килограммов!
В 1839 году нашли первую кость гигантской птицы. Сначала подумали, что это бычья нога. Находку привезли в Англию, и здесь палеонтолог Ричард Оуэн доказал, что кость принадлежит чудовищной птице. Ричард Оуэн сорок пять лет жизни посвятил изучению птиц-великанов. За три года, с 1847 по 1850, натуралист Уолтер Мэнтелл, неутомимый исследователь диковинных новозеландских животных, собрал для него более тысячи костей моа и множество яичных скорлупок величиной с ведро. Оуэн изучил эти кости и скорлупки. Он описал много разных видов моа и изготовил для музеев несколько скелетов гигантских птиц.
И сейчас еще в Новой Зеландии находят прекрасно сохранившиеся скелеты моа, а иногда и целые залежи гигантских костей, точно кладбища каких-то сказочных исполинов. Около костей лежат обычно кучки круглых камешков, отшлифованных трением друг о друга: камешки были когда-то в желудках у моа. Как и наши куры, моа подбирали на земле камешки и проглатывали их. В желудке эти маленькие «жернова» перетирали зерна. В Новой Зеландии находят не только кости моа, но и их перья с кусками мышц, кожи и сухожилий. Даже яйца с зародышами!
В прошлом веке время от времени поступали сообщения и от очевидцев, собственными глазами видевших якобы живых моа.
Говорили, например, что охотники на тюленей, расположившиеся лагерем на Срединном острове (в проливе Кука, разделяющем Северный и Южный острова Новой Зеландии), были напуганы однажды чудовищными птицами высотой в четыре-пять метров, выбежавшими из леса на берег.
В другой раз, уже в 1860 году, чиновники, размечавшие земельные участки, заметили как-то утром отпечатки лап огромной птицы. Длина следа – 36 сантиметров, а ширина – 27. Следы терялись в зарослях между скалами. В этой местности много известковых пещер. В них-то, решили землемеры, и скрываются последние моа.
Вот почему некоторых зоологов-оптимистов еще не покинула надежда найти в горных лесах Новой Зеландии живых гигантских птиц. Но все усилия пока ни к чему не привели. Следы моа следует искать теперь не в лесных зарослях, а в земле: они все вымерли.
Правда, вымерли совсем недавно. Некоторые старики маори рассказывают, что в молодости принимали участие в охоте на моа. Живы еще у маори воспоминания о тех сказочных временах, когда куропатки были ростом с лошадь. Рассказывают, что на горе Бакапунака прячется один спасшийся моа. Птица питается только воздухом, и ее стерегут два огромных ящера. Жаль, что это только легенда.
Тринадцать бутылок рому на одну скорлупу!
Замечательно, что на другом конце земного шара, за тысячи километров от Новой Зеландии, на острове Мадагаскар, мы тоже встречаем колоссальные фигуры гигантских страусов.
Арабы первыми из белых людей проникли на Мадагаскар. Первыми познакомились они и с животным миром этого своеобразного острова. Чудовищная птица арабских сказок родилась на Мадагаскаре. Именно здесь, в лесах этого острова, водились птицы-исполины, которые могли послужить прообразом сказочной птицы Рухх.
Много разных диковинок повидал Синдбад-мореход, герой арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Он видел чудовищных змей и обезьян, встречал он и птицу Рухх.
До чего же огромна эта птица! Когда она поднимается в воздух – заслоняет солнце. В когтях может унести слона или даже единорога с тремя слонами, нанизанными на его рог!
На одном из южных островов Синдбад-мореход нашел даже яйцо птицы Рухх. Не яйцо, а целая гора!
«…И вдруг передо мной блеснуло на острове что-то белое и большое, – рассказывает этот восточный Мюнхгаузен, – и оказалось, что то – большой белый купол, уходящий ввысь,… я обошел вокруг купола, измеряя его окружность, и он был в 50 полных шагов.
…И вдруг солнце скрылось, и воздух потемнел, я удивился и поднял голову и увидел большую птицу с огромным телом и широкими крыльями, которая летела по воздуху, – и она покрыла око солнца.
…Птица опустилась на купол, и обняла его крыльями, и вытянула ноги на земле сзади него, и заснула на нем (да будет слава тому, кто спит)».
Позднее, в XIII веке, знаменитый венецианский путешественник Марко Поло тоже имел дело с птицей Рухх. На карте, составленной по его описаниям, были нанесены даже «Острова птицы Рухх».
Описывая животный мир Мадагаскара, Марко Поло рассказывает удивительные вещи:
«Есть тут разные птицы, и совсем они не похожи на наших, просто диво!
…Есть тут птица гриф, и во всем гриф не таков, как у нас думают и как его изображают; у нас говорят, что гриф наполовину птица, а наполовину лев, и это неправда. Те, кто его видал, рассказывают, что он совсем как орел, но только чрезвычайно большой… Гриф очень силен и очень велик, схватит слона и высоко-высоко унесет его вверх, на воздух, а потом бросит его на землю, и слон разобьется; гриф тут клюет его, жрет и упитывается им. Кто видел грифа, рассказывает еще, что если он расправит крылья, так в них тридцать шагов, а перья в крыльях двенадцати шагов, по длине и толщина их.
…О грифе вот еще что нужно сказать, зовут его на островах руком».
Марко Поло рассказывает дальше. Монгольский хан Хубилай, гостем которого он был, услышал о том, что далеко за пределами Китайской империи живет птица-исполин, но имени Рухх. Хан отправил на разведку верных людей: они должны были подробнее узнать о диковинной птице. Гонцы отыскали родину птицы Рухх – остров Мадагаскар. Самой птицы не видели, но привезли ее перо – длиной в девяносто пядей {8}!
Место обитания сказочной птицы Рухх ханскими гонцами указано точно. Побываем же на Мадагаскаре, поищем в его лесах легендарную птицу.
Зоологи прошлых столетий уже проделали это путешествие. Впервые европейцы узнали не о сказочных, а живых птицах-гигантах – воромпатрах из сочинения французского адмирала Флакура «История большого острова Мадагаскара», изданной в середине XVII века. Но лишь двести лет спустя были добыты яйца и кости воромпатры.
В 1832 году французский натуралист Виктор Сганзен нашел на Мадагаскаре скорлупу огромного яйца – в шесть раз более крупного, чем яйцо страуса.
Позднее на остров Св. Маврикия (в Маскаренском архипелаге) приплыли за ромом жители Мадагаскара. Вместо бочонков они привезли с собой скорлупки исполинских яиц. В каждую поместилось по тринадцать бутылей рому!
Наконец, были найдены и кости чудовищной птицы: в 1851 году их привезли в Парижский музей. Знаменитый французский ученый Исидор Жоффруа Сент-Илер изучил эти кости и составил по ним научное описание птицы. Он назвал ее эпиорнисом – «высочайшей из всех самых высоких птиц».
Здесь я должен несколько разочаровать читателя. Оказалось, что гигантская птица Мадагаскара далеко не так огромна, как о том повествуют древние легенды. Она не могла унести в когтях слона, однако не уступала ему в росте. Жоффруа Сент-Илер полагал, что некоторые эпиорнисы были ростом в пять метров! Но по-видимому, он ошибался. Однако трехметровые эпиорнисы не были редкостью. Три метра – средний рост слона. Весила такая птица почти полтонны!
Если же Сент-Илер не ошибся, то, значит, птицы в лице своих мадагаскарских представителей наряду с жирафами могут считаться одними из самых высоких животных на земле {9}.
Выше слонов, выше даже ископаемого носорога балухитерия, общепризнанного рекордсмена-гиганта среди всех зверей, когда-либо обитавших на суше. Один лишь ящер брахиозавр, живший в озерах Африки сто миллионов лет назад, был выше. В холке он достигал почти шести метров, а вытянув шею, мог поднять голову на 12 метров над землей.
Но увы, воромпатра не умела летать: не было у нее крыльев (лишь недоразвитые культяпки), но были толстые массивные ноги и маленькая голова на змеиной шее.
Итак, одна мадагаскарская птичка весила чуть поменьше быка и несла яйца с добрый бочонок. Эти яйца иногда находят в торфе болот Мадагаскара. Каждое из них вмещает 9 литров, или 184 куриных яйца! Шутки ради подсчитали, что из одного яйца эпиорниса можно было приготовить яичницу почти на сто человек, а всеми яйцами из одного гнезда накормить две тысячи человек!
До середины прошлого века жители Мадагаскара утверждали, что «слоновьи птицы» живут в самых пустынных уголках острова. Еще в 1860 году миссионеры слышали глухие трубные крики этих таинственных птиц, раздававшиеся из лесных болот. Теперь мадагаскарские страусы все вымерли.
Кто среди диких болот в короткий срок истребил целый мир гигантских птиц? Мадагаскарцы, по-видимому, не охотились на воромпатру. В вымирании самых удивительных пернатых, каких когда-либо знала земля, повинны люди из Европы, прибывшие на остров как завоеватели.
За время своего господства на острове европейцы уничтожили девять десятых лесов Мадагаскара.
Вместе с девственными лесами исчезли и исполинские птицы, которые жили в глубине диких непроходимых болот.
Страусы из Одессы.
Совсем недавно, какой-нибудь миллион лет назад, на земле, похоже, были более подходящие для жизни страусов условия. Они жили тогда и в Индии, и в Китае, и даже в Южной Европе. А сейчас уцелели только на юге Аравийского полуострова и в Африке. (Настоящие страусы – африканские.) Кроме того, в Южной Америке живет еще особого вида страус нанду, а в Австралии и Тасмании – эму и казуар {10}.
В 1916 году под Одессой нашли в земле большую птичью кость, старую, почерневшую. Специалисты рассмотрели ее внимательно и решили: кость от ноги страуса. Он жил здесь и умер приблизительно десять миллионов лет назад. Его назвали Struthio novorossicus, то есть новороссийским страусом.
Ископаемые остатки его раскопали и в других местах под Одессой. А близ Херсона нашли даже страусиное яйцо. Видно, на юге Украины и в Крыму эти птицы в ту пору не были редкостью.
Страусы вымерли еще в доисторическое время. Люди в их гибели не виноваты. Но больше ста других разновидностей птиц исчезли с лица земли, бесспорно, при непосредственном содействии человека.
В общем, получается довольно внушительное досье, обличающее человека в бессмысленном истреблении пернатых. Приведенная таблица поможет читателям нагляднее все это уяснить.
Таблица
Птицы Число видов и подвидов
Полностью истребленные 107
По-видимому, истребленные 19
Вымершие за последние триста лет, предполагаемое существование которых не подтверждено, впрочем, свидетельством специалистов 27
Очень редкие и вымирающие виды, которые нуждаются в охране и защите 312
Эти цифры взяты из монографии Джемса Гринвея, изданной в 1958 году в Нью-Йорке. У других исследователей несколько иные подсчеты. Впрочем, разница только в двух последних знаках, общий порядок величин одинаков. Одни зоологи сомневаются, что многие птицы (от которых не осталось ни костей, ни перьев), описанные старыми путешественниками и натуралистами, действительно существовали, другие в это верят и учитывают их в своих списках. Одни думают, что те или иные пернатые уже вымерли, другие – что еще не вымерли. Нет единодушия и в том, считать ли некоторые разновидности подвидами, видами и даже родами, и т.д. Оттого и цифры в разных списках разные.
История открытия и гибели многих птиц не пестрит крупными именами и драматическими событиями. Не привлек внимания широкой публики факт их открытия, и совсем уж без шума, незаметно ушли они со сцены. И рассказать-то о них, собственно говоря, теперь нечего. О многих из них, но не о странствующих голубях Северной Америки. Ибо история их истребления едва ли не самая потрясающая драма, разыгравшаяся в природе при участии человека.
Затмение солнца голубями.
Рассказы о странствующих голубях читаются как фантастический роман. Они появлялись в небе столь густыми стаями, что буквально заслоняли солнце. Становилось сумрачно, как при затмении. Летящие птицы покрывали весь небосвод от горизонта до горизонта. Голубиный помет падал с неба подобно хлопьям снега, бесконечное гудение крыльев напоминало свист штормового ветра.
Проходили часы, а голуби все летели и летели, и не было видно ни конца, ни начала их походным колоннам. Ни криками, ни выстрелами, ни пальбой из пушек нельзя было отклонить от курса бесчисленную, как саранча, эскадрилью.
Американский орнитолог Вильсон утверждал, что одна стая голубей пролетала над ним четыре часа. Стая растянулась на 360 километров {11}!
Он подсчитал, сколько же в ней было голубей, и получил невероятную цифру – 2.230.272.000 птиц!
Другой знаменитый орнитолог, Одюбон, рассказал о стае странствующих голубей числом в 1.115.136.000 птиц! Это значит, что всего в одной только стае голубей было больше, чем всех вообще наземных птиц в такой стране, как, например, Финляндия {12}.
Дальнейшие подсчеты дают еще более поразительные результаты. Допустим, что каждый голубь весит полфунта, тогда вес всей стаи будет около полмиллиона тонн! В день эта прожорливая армия пернатых съедала 617 тысяч кубометров всевозможного корма. «Это больше, – пишет британский натуралист Франк Лейн, – суточного рациона солдат всех воюющих стран к концу второй мировой войны!»
Можно ли быстро истребить такое сказочное множество птиц? Печальная судьба странствующего голубя говорит, что можно, если умело приняться за дело.
Странствующих голубей уничтожали всеми способами, которые для этого годились. Стреляли из ружей, винтовок, пистолетов, мушкетов всех систем и калибров. В ход были пущены даже горшки с серой – их разжигали под деревьями на местах ночевок голубей. Птиц ловили сетями, били палками, камнями. Так густы были стаи голубей и порой они летели так низко, что колонисты сбивали их жердями, а рыбаки били веслами. Ни один предмет, брошенный вверх, не падал обратно, не подбив одного или двух голубей. Рассказывают, что работники на фермах наловчились сбивать голубей ножницами для стрижки овец. Даже собаки выбегали на бугры и ловили летящих голубей, прыгая в воздух. Прямо чудеса!
Когда голуби пролетали над военными фортами, солдаты заряжали пушки картечью и сбивали сотни птиц. Американский писатель середины XIX века описывает город Торонто во время пролета над ним большой стаи голубей. Три или четыре дня, пока голуби летели над городом, стены его домов дрожали от непрерывной пальбы, словно жители завязали на улицах перестрелку с неприятелем. Все лавки, все учреждения были закрыты. Люди осаждали крыши домов. Всевозможные ружья, пистолеты и мушкеты были пущены в ход. Даже почтенные члены муниципального совета, адвокаты, преуспевающие дельцы и сам шериф графства не могли отказать себе в увлекательном спорте – истреблении безобидных птиц.
Странствующие голуби кормились желудями, каштанами, буковыми и другими орехами, которые в изобилии производили нетронутые леса Северной Америки. Голубям часто приходилось менять места кормежек, но ночевать они прилетали обычно в одну и ту же местность. Здесь их с нетерпением поджидали толпы убийц, собравшиеся со всей округи.
Одюбон рассказывает, что одно место, где ночевали голуби, занимало участок леса шириной почти в пять и длиной около 65 километров. Голубей еще не было видно, а вокруг расположились лагерем охотники с повозками, бочками для засолки мяса и другим снаряжением. Два фермера пригнали за сто миль стада свиней, чтобы откармливать их здесь голубиным мясом.
Когда село солнце, на горизонте показалась темная туча. Это летели голуби. Они быстро приближались. Тысячи голубей были убиты первыми же выстрелами. Но прибывали все новые и новые легионы птиц. Они уже заняли все деревья, в лесу не осталось ни одной свободной ветки, на некоторых сучьях голуби сидели в несколько слоев, располагаясь на спинах друг у друга.
А воздух вокруг дрожал от непрерывной пальбы, от треска падающих под тяжестью голубей деревьев, хлопанья миллионов крыльев. В адском грохоте нельзя было расслышать слов соседа. Даже ружейные выстрелы распознавались лишь по вспышкам. Всю ночь длилось побоище. К утру под деревьями лежали горы убитых и издыхающих птиц.
Люди из Европы презирали законы «невежественных» индейцев, запрещающие охоту на птиц в пору размножения. Они миллионами убивали гнездящихся голубей. В штате Мичиган в 1878 году гнездовая колония голубей занимала все деревья в лесу на пространстве 15o57 километров. Гнездовья в Кентукки располагались на площади в два раза большей. На каждом дереве было иногда до сотни гнезд, и нередко сучья обламывались под тяжестью быстро растущих птенцов.
Когда птенцы подрастали и годились в пищу, отовсюду съезжались фермеры. Они приезжали с семьями, работниками, пригоняли стада свиней. Деревья с гнездами валили на землю и убивали палками еще не оперившихся птенцов.
Тогда в США было много тысяч профессиональных охотников на голубей, которые зарабатывали баснословные по тем временам деньги – до 10 фунтов стерлингов в день. Их «дело» было широко поставлено. Целая сеть агентов посылала по телеграфу донесения о появлении тут или там новых стай голубей, о местах их ночевок и направлении полета. Туда уже мчались заготовители.
Развитие железных дорог обеспечивало быструю доставку сотен тонн убитых голубей на рынки страны. Ежедневно, например, из гнездовой колонии в штате Мичиган отправлялось по железной дороге 12,5 тысячи птенцов и взрослых птиц, а валовой сбор с марта по июль (время размножения голубей) достигал 1,5 миллиона птиц.
Таков «урожай» только одной гнездовой колонии. Во всех же Соединенных Штатах и в Канаде в семидесятых годах прошлого века добывались сотни миллионов голубей!
Неужели в большой стране не нашлось людей, которые подняли бы голос в защиту избиваемых птиц? Неужели в США не было законов, охраняющих богатства природы?
Законы такие, конечно, были. Еще в 1848 году в Массачусетсе издали постановление, запрещающее ловлю голубей сетями. Через три года в штате Вермонт были взяты под охрану все непромысловые птицы, в том числе и странствующие голуби. Законы, запрещающие их добычу, вскоре приняли и другие штаты. Но кто считался с ними, когда речь шла о большом бизнесе!
В 1880 году в стране встречались еще значительные стаи странствующих голубей, но уже через двадцать лет от них не осталось и следа. Исчезновение фантастически многочисленного вида было так внезапно, что в Америке, кажется, до сих пор не могут прийти в себя от неожиданности. Изобретено несколько теорий для объяснения ошеломляюще быстрого, «как взрыв динамита», исчезновения голубей. Одна теория предполагает, будто все голуби утонули в Атлантическом океане, когда «эмигрировали» в Австралию. Другие думают, что они улетели на Северный полюс и там замерзли.
Нужно ли объяснять после всего изложенного, что в истреблении странствующих голубей повинен не Северный полюс и не Атлантический океан, а стихия более страшная, имя которой – бизнес.
В начало нашего века в зоопарках и у различных любителей жило еще несколько странствующих голубей. Последний представитель этого вида, по кличке Восьмое Марта, умер в городе Цинциннати в сентябре 1914 года.
На шкуры для бурдюков.
В 1812 году, когда уже все дронты были съедены изголодавшимися мореплавателями, натуралист Вильям Бурчелл «открыл» в Южной Африке стада забавных лошадей, которым было суждено разделить горькую участь диких каплунов с Маскаренских островов. Это были квагги – бурые зебры с редкими полосами лишь на голове и шее.
Слово «открыл» я взял в кавычки потому, что и до Бурчелла квагга не раз описывалась многими натуралистами и путешественниками. Правда, по ошибке до Бурчелла принимали ее за самку обычной зебры. Заблуждение это долго держалось в научной литературе. Бурчелл развеял его, установив истину {13}.
О том, что в Африке живут дикие полосатые лошади, римляне узнали, по-видимому, во II веке нашей эры. Во всяком случае, первое упоминание о зебрах в античной литературе относится к этому столетию, когда историк Кассиус Дио писал о «лошадях солнца, которые напоминают тигра».
В зоологию кваггу впервые ввел, сам, впрочем, того не подозревая, натуралист и библиограф Королевского колледжа медицины Джорд Эдвардc. В 1758 году он опубликовал очень популярные в его время «Записки по естественной истории». В первом томе этого богато иллюстрированного издания был прекрасный рисунок квагги, а под ним подпись: «самка зебры».
Эдвардc писал далее: «Это интересное животное было привезено живым вместе с самцом с мыса Доброй Надежды. Самец умер по пути в Лондон. Я не видел его. Но самка жила несколько лет в доме его высочества принца Уэльского в Кьо… Крик ее не был похож на рев осла. Он скорее напоминал лай мастифа {14}. Ее нрав был дикий и свирепый, и никто не рисковал к ней приближаться. Но садовник принца, который ее кормил, без страха ездил на ней верхом».
Эдвардc уверяет, что сам видел, как эта «лэди-зебра» с аппетитом поедала большие листья табака, ела и бумагу, и даже мясо. Она не отказывалась от любой пищи, которую ей предлагали. «Я полагаю, – продолжает Эдвардc, – питалась она так в силу привычки, приобретенной во время долгого морского путешествия. На самом же деле, как у всех ослов и лошадей, настоящая ее пища – растения».
Так уж повелось с легкой руки Эдвардса – разуметь под кваггами самок всех зебр. Ошибки авторитетов нелегко бывает искоренить. В истории человечества много таких примеров. Судьба квагги – лишь малозначительный эпизод в длинной серии канонизированных недоразумений.
Даже француз Бюффон, один из самых крупных натуралистов всех времен и народов, в знаменитой «Истории четвероногих животных», опубликованной в 1787 году, называет кваггу самкой зебры.
Но буры, голландские поселенцы в Южной Африке, не читали зоологических трактатов и, наверное, поэтому не усвоили ошибок ученых. Они знали, что квагга – совсем особый вид диких лошадей: она похожа на зебру, но не зебра. Полосы у нее отчетливо заметны только на голове и шее. Туловище же бурое, а ноги и хвост белые. Сложение у квагги более приземистое и плотное, чем у зебры, и пропорциями своими она напоминала скорее пони, чем лошадь.
Буры называли кваггу «квакка», а готтентоты, у которых голландцы заимствовали это имя, – «кхоуа-кхоуа». Название это, как полагают, ономатопическое, звукоподражательное: квагга действительно басовито «лаяла», почти как мастиф – «кхоуа-кхоуа».
Многотысячные стада этих забавных полузебр, до того как европейцы появились в Африке, паслись в бескрайних степях, простиравшихся от мыса Доброй Надежды до реки Оранжевой и дальше к северу почти до самой Лимпопо. Квагги всегда держались в компании с белохвостыми гну и страусами. Страусы лучше видят, а квагги и гну лучше чуют. Сочетание получилось отличное: львов и людей объединенные таким образом животные замечали скорее, чем в «сегрегированных» стадах.
Но и дружеский альянс с гну и страусами не спас квагг от гибели. Бурам потребовались их шкуры для бурдюков; в них хранили они зерно, а мясом квагг кормили рабочих-африканцев, которых насильно заставляли обрабатывать свои поля. Из шкур, снятых с ног квагг, шили домашнюю обувь – вельшоонсы. Говорят, будто вначале квагг было так много, что бурам не хватало свинца, чтобы в них стрелять. Из трупов они вырезали пули, заряжали ими ружья и снова палили в беззащитных животных, которые не успевали даже далеко разбежаться.
В результате через семьдесят лет после приобщения к науке квагги уже стали достоянием палеонтологических музеев: две последние квагги в Капской провинции были убиты на горе Тигерберг в 1850 году. В Оранжевой Республике несколько диких квагг в глуши полупустынных степей дожили до рокового 1878 года, когда их не стало.
Еще лет за сто до этих трагических событий шестнадцать квагг привезли в Европу. В Париже одна из них в покое и благополучии жила шестнадцать лет. Пара других квагг, запряженных в экипаж, каждое утро торжественно дефилировала по Гайд-Парку в Лондоне. Квагга, которая двадцать лет пробыла пленницей Лондонского зоопарка, дождалась даже времен Дагера и была сфотографирована. Это единственная фотография единственной сфотографированной в живом виде квагги!
Но лондонскую кваггу пережила амстердамская. К тому времени ни у кого уже не было сомнения, что эта квагга последняя! В Африке не осталось ни одной, и в Европе тоже их не было. Полосатая лошадь в Зоологическом саду Амстердама меланхолически доживала свой век, а натуралисты и те люди, для которых бурдюки не олицетворяют лучших ценностей мира, в бессильном отчаянии смирялись с мыслью, что будущие поколения людей никогда уже не увидят этих прекрасных животных, ведь через год-два наступит смерть вида.
Это случилось 12 августа 1882 года: последняя на земле квагга умерла.
А в 1917 году майор Мэннинг вернулся из путешествия по плоскогорью Каоко (в Юго-Западной Африке) с потрясающей новостью: он сам видел, уверял Мэннинг, целое стадо живых квагг! Во всяком случае, зебры, которых он встретил, были необычного вида: бурые и с полосами только спереди.
Позднее и другие путешественники, и охотники клялись, что в Каоко попадались им бурые полуполосатые лошади. И бушмены говорили: такие зебры еще встречаются в их степях.
Может быть, немногие уцелевшие в глуши южноафриканских степей квагги расплодились и стали попадаться на глаза охотникам? Может быть. Но торжествовать еще рано: это могли быть гибриды ослов и зебр, которые выглядят почти как квагги.
Но скорее всего, полагают знатоки, причиной охотничьих миражей были зебры Гартманна. Говорят, что в жаркий полдень, когда солнце немилосердно палит над головой и туманное марево струится над степью, зебры Гартманна кажутся издали темно-бурыми ослами: их черные и белые полосы сливаются в однотонный промежуточный колер.
Этот оптический обман и породил, по-видимому, легенду о воскресших кваггах, которые навсегда исчезли с лица земли. Серьезные исследователи не нашли пока никаких достаточно веских доказательств, которые убедили бы нас, что это не так.
О том, как открыли и перебили капустниц
В четверг 4 июня 1741 года пакетбот «Св. Петр» покинул гавань Петропавловской крепости на Камчатке и взял курс на восток. Кораблем командовал капитан-командор Свендсен, датчанин на русской службе, которого царь Петр, когда бывал в хорошем настроении, ласково величал Иваном Ивановичем. Сам же командор называл себя Витусом Берингом. Его отца звали Ионой Свендсеном, но Иван Иванович предпочел девичью фамилию матери. Капитан и почти половина команды не вернулись из этого знаменитого и тяжелого плавания.
В конце своей деятельной жизни Петр I вспомнил «то, о чем мыслил давно и что другие дела предпринять мешали», то есть о дороге через Ледовитое море в Китай и Индию. За три недели до смерти он написал любезному Ивану Ивановичу монаршую инструкцию: «На ботах плыть с Камчатки возле земли, которая идет на Норд,… искать, где она сошлась с Америкой… и самим побывать на берегу… и, поставя на карту, приезжать сюды».
Летом 1728 года экспедиция вышла из устья реки Камчатки. Медленно продвигаясь на север, прошла через Берингов пролив в Чукотское море и… вернулась обратно, не увидев даже американского берега.
И вот теперь, через тринадцать лет после первой неудачной попытки, шестидесятилетний и уставший Витус Беринг опять повел «на обыскание американских берегов от Камчатки» новый, построенный в Охотске корабль и семьдесят восемь человек матросов и офицеров {15}.
Среди этих семидесяти восьми человек, связавших отныне свою судьбу с капитан-командором Берингом, был молодой натуралист Георг Вильгельм Стеллер, который прославился описанием этого печального путешествия и мирных морских гигантов, открытых совершенно неожиданно в конце пути из Америки.
Стеллер родился в Германии. «Двадцатипятилетним юношей, – говорит наш академик и эрудит Л.С. Берг, – он приехал в Петербург искать счастья». Здесь сначала работал врачом, а потом адъюнктом натуральной истории при экспедиции Беринга.
Это был натуралист даровитый, вспоминает о нем его коллега и современник Иоганн Гмелин, и путешественник прирожденный. Никакие трудности его не смущали. В пути обходился очень малым: возил с собой одну плошку, в которой и пищу варил, и ел, и пил. «Всякое платье и всякий сапог были ему впору. Всегда он был весел». Стеллер – наблюдатель «весьма точный». Но вот характер у него, говорят, был неважный: заносчивый и с «весьма неприятной склонностью вмешиваться в дела, которые его официально не касались». Впрочем, с людьми талантливыми такое случается нередко…
…И вот после сорока двух дней плавания по неспокойному и туманному морю люди Беринга, наконец, увидели на горизонте снежные вершины огромной горы. Это был хребет Святого Ильи на южном берегу Аляски. Большие кедры и пихты росли у его подножия.
«Св. Петр» повернул на запад и через два дня бросил якорь в бухте у небольшого острова Каяк. На берег послали за пресной водой ял, и на нем отплыл Стеллер (которого Беринг отпустил, впрочем, с неохотой) {16}. Он пробыл на острове всего около десяти часов, но успел, однако, собрать интересные сведения о местных людях, животных и растениях (успел описать 163 вида растений!). Стеллер открыл даже новый, неизвестный науке вид сойки, названный позднее его именем – Cyanocitta stelleri.
Когда он вернулся на корабль, Беринг угостил его чашкой шоколада, чтобы достойно отметить столь знаменательное событие, как пребывание первого натуралиста на Аляске, но больше на берег не отпускал. Беринг был уже болен, тяжкие сомнения угнетали его, и он спешил поскорее вернуться назад. Стеллер с горечью записал в своем дневнике: «Десять лет Беринг готовился к великому плаванию… а исследование длилось только десять часов… якобы только для взятия и отвозу из Америки в Азию американской воды приходили».
Но и воды набрали недостаточно: не наполнили всех бочек на корабле и поплыли дальше.
И тут еще цинга стала валить с ног одного моряка за другим: треть команды уже болела цингой. А когда миновали юго-западный угол Аляски, умер первый матрос – Никита Шумагин. Его похоронили на одном из открытых островов, которые с тех пор так и называются – Шумагинскими.
Отсюда пошли прямо на запад, на Камчатку. Но уж и не верили, что дойдут до нее. Море было бурное, швыряло бот, как колоду, пресная вода протухла, есть стало нечего, голодали сильно, и цинга свирепствовала. Люди обессилели совсем…
И вот 4 ноября вдруг вырос перед ними из тумана высокий берег. Камчатка! Слава богу…
Пробовали стать на якорь, но не выдержали канаты. Налетела огромная волна и кинула корабль через буруны в мелкую лагуну поближе к берегу. Там было спокойнее. Стали перебираться на сушу. Только десять человек держались еще на ногах.
Вырыли ямы в земле, накрыли их парусами. А чтобы теплее было, больных засыпали песком вместо одеял. Измученный Беринг через месяц «за два часа до рассвета» умер в песчаной яме, заживо полузасыпанный землей. А товарищи его обошли по берегу всю сушу вокруг, и горькая открылась им истина: попали они не на Камчатку, а на неведомый какой-то остров {17}. Назвали его позднее островом Беринга.
Вот при таких печальных обстоятельствах и были открыты стеллеровы коровы.
На другой день после высадки Стеллер заметил в море, недалеко от берега, какие-то странные бугры. Они чернели над водой, словно днища перевернутых лодок. Бугры плавали, ныряли. Но на берег не вылезали. Позднее, уже в июне следующего лета, когда увидали еще раз такие же бугры, моряки бросились к лодкам и поплыли к неведомым зверям, которые сулили богатое угощение их голодным желудкам, но могли оказаться и хищниками, способными проглотить охотников вместе с их шлюпками.
К счастью, гиганты были мирного нрава. Когда подцепили крюком одного из них и вытащили на берег, Стеллер понял, что судьбой предназначено ему сделать большое открытие. Животное спереди было похоже на тюленя, а сзади на… рыбу.
«Господин студент» Крашенинников {18} говорит, что принять его можно было «как бы за некоторое средство, которым род морских зверей с рыбами соединить можно».
С первого же взгляда Стеллер решил – это манат, один из представителей сирен, или морских коров. И не ошибся.
Морские коровы своими неуклюжими формами напоминают тюленей. Но вместо задних ластов у них рыбий хвост (хвостовые лопасти расположены, впрочем, не вертикально, как у рыб, а горизонтально, как у китов).
Вначале ученые решили, было, что сирены – родичи китов. Одно время их даже называли растительноядными китами. Но оказалось, что сирены сродни не китам, а… слонам.
Сирены и слоны произошли от общих предков. Это теперь установлено. Поэтому черты семейного сходства со слонами и сохранились у морских коров, хотя внешне они больше похожи на китов, рыб, тюленей, но никак не на мастодонтов.
В наши дни морские коровы стали довольно редкостными животными. Науке известно четыре их вида, которые обитают в тропических морях и реках. Самая крупная из ныне живущих морских коров – дюгонь. Его еще можно встретить в Красном море, в прибрежных водах Индийского океана, у Филиппинских островов и северного побережья Австралии. Более мелкий – ламантин живет в реках и морских заливах Западной Африки, а похожий на него манат – у восточного побережья Америки от Каролины до Бразилии. В Амазонке и Ориноко обитает еще амазонский манат.
Сирены – тишайшие создания: они совершенно немы. Фырканье – единственный звук, который издают взрослые морские коровы.
«Что касается до реву сего животного, – пишет Крашенинников, – то оно безгласно, токмо сильно дышит, а раненое тяжело вздыхает».
У детенышей вокальный репертуар более разнообразен: они иногда попискивают. Кроме того, у морских коров нет ни шерсти, ни волос. Лишь редкие щетинки – жалкое воспоминание о когда-то пышной шкуре – уцелели кое-где на коже.
Сирены – убежденные вегетарианцы. Единственная их пища – водоросли и морская трава. Они пасутся на подводных лугах, как коровы сухопутные на надводных, – оттого их так и называют.
Открытое Стеллером животное тоже было вегетарианцем и морской коровой. Только уж очень большой коровой, гигантом среди сирен: длиной метров до девяти и весом около четырех тонн.
Стеллер очень подробно описал и внешность и образ жизни прославивших его капустниц (или капустников) – так назвали русские стеллеровых коров: ведь те объедались водорослями ламинариями, по-местному – морской капустой.
Несмотря на отчаянное положение, в котором оказались люди с бота «Св. Петр», молодой врач находил в себе силы не только лечить их многочисленные недуги, но и вести дневник, каждый день аккуратно записывал в него свои наблюдения. И записи его особенно ценны для науки тем, что Стеллер ведь был единственным натуралистом, который видел живых капустниц!
Животные любят мелкие и песчаные места у берега, писал Стеллер, особенно там, где реки и ручьи впадают в море и где дно покрывают густые заросли подводных трав и водорослей. Собираются они здесь стадами. Взрослые всегда заботливо охраняют малышей. Когда пасутся, пропускают детенышей вперед, чтобы лучше их видеть. Когда же отправляются на поиски новых пастбищ, малыши плывут в центре стада: тут гораздо безопаснее.
Во время прилива, продолжает Стеллер, сирены-гиганты так близко подходили к берегу, что их можно было не только достать копьем, но иногда даже и рукой погладить. Если люди причиняли им боль, они «от досады и битья» беззлобно удалялись в сторону. Но вскоре, забыв обиду, опять подплывали к берегу. Казалось, невинные создания понятия не имели о том, какой опасный враг это размахивающее длинной палкой двуногое существо на берегу.
Наполнив животы, морские коровы отплывали подальше от берега и, переворачиваясь на спины, засыпали.
Я не могу удержаться и не процитировать здесь замечательный отрывок из великолепной монографии Степана Крашенинникова «Описание Земли Камчатки». Правда, заимствован он из Стеллера, но уж очень живописно изложен (сравните полнокровный язык Крашенинникова со штампованными фразами современных научных книг, и вы поймете, как много потеряла наша профессиональная речь).
«Кожа на нем (на капустнике) черная, толстая, как кора на старом дубе, шероховатая, голая и столь твердая, что едва топором прорубить можно. Голова у него в рассуждении тулова не велика. Глаза весьма малые и бараньих почти не больше, что в столь огромном животном не недостойно примечания. Бровей и ресниц нет. Ушей нет же, но токмо одне скважины, которые усмотреть не без трудности. Шеи почти не видно, ибо тулово с головою нераздельным кажется, однако есть в ней позвонки, к поворачиванию принадлежащие, на которых и действительно поворачивается, а особливо во время пищи, ибо оно изгибает голову, как коровы на пастве. Тулово, как у тюленя, кругловато, к голове и к хвосту уже, а около пупа шире. Ластов у него два, под самою шеею, длиною около трех четвертей аршина, которыми оно и плавает и ходит, за каменье держится и, будучи тащено крюком, столь сильно упирается, что кожица с них отскакивает лоскутьями… У самок по две титьки на грудях против свойства других морских животных.
…Прожорливость примечена в них весьма странная, ибо они от непрестанного ядения головы почти из воды не вынимают, и нимало не пекутся о своей безопасности, так что можно между ними на лодке плавать, по песку ходя, выбирать и бить которое угодно. Весь труд их во время еды состоит в том, что оне, через четыре или пять минут выставливая из воды, как лошади, чхают. Плавают тогда тихо, один ласт по другом вперед двигая, так, как быки или овцы на пастве ходят. Половина тулова у них, то есть спина и бока, всегда поверьх воды, и на спине тогда у них сидят чайки стадами и вши из кожицы их вытаскивают, так же как вороны у свиней и овец таскают… Сытые спят вверьх брюхом и во время морского отлива в море удаляются, чтоб на берегу не обсохнуть».
Первое время поселившиеся на Командорах моряки не охотились на морских коров. Не из жалости, а просто слабы они были еще слишком, чтобы отважиться на такое. Те, кто мог стоять на ногах, ходили по берегу с дубинами и убивали морских выдр каланов, которых на острове водилось великое множество, и все они были так доверчивы, что без страха подпускали человека. Даже сами приходили на огонь и только тогда разбегались, «когда их несколько штук перебьют». Мясо каланов ели, а их дорогие шкуры берегли для продажи: люди не теряли веры, что вернутся скоро на материк.
Потом, когда больные начали поправляться и уже многие окрепли, стали охотиться на капустниц. Действовали так: большой железный крюк привязывали к длинному канату. Один его конец держали на берегу «человек больше двадцати», другие пятеро садились в лодку. Самый сильный матрос стоял на носу с крюком наготове. Подплывали тихо к стаду капустниц, выбирали самую аппетитную на вид корову, и гарпунер вонзал в нее крюк. Сразу же «бережные люди» (то есть люди на берегу) изо всех сил натягивали веревку, перехватывали ее и тянули снова. Раненое животное билось в воде, люди на лодке кололи его штыками, ножами, копьями, «всяким острым железом», добивали, как могли. Выбившись из сил и истекая кровью, оно в конце концов затихало, и тогда стопудовую тушу медленно, шаг за шагом, тридцать человек с трудом подтягивали к берегу. Тут набрасывались на еще живую морскую корову и ножами и саблями отрезали большие куски мяса и жира. Жарили его под веселые крики и прибаутки и тяжкие вздохи умиравшего зверя.
Другие животные в стаде не оставались равнодушными, когда их товарищ попадал в беду. Как только раненый начинал биться, все бросались к нему на помощь. Одни, говорит Стеллер, подплывая снизу, старались перевернуть лодку, другие бросались на веревку, словно хотели порвать ее, колотили хвостами по крюку, и не раз случалось, что выбивали его из раны.
Когда в плен попадала самка, самец всегда, презирая опасность и удары, которые сыпались на него, старался освободить ее. Он потеряв голову метался вокруг и, даже если она была уже мертва, все равно плыл рядом до самого берега. Даже на следующее утро, когда моряки, бывало, приходили на берег, чтобы отрезать от брошенной здесь туши куски мяса, они видели самца рядом с мертвой самкой.
Он не покинул ее и на третий день, когда Стеллер пришел туда с единственной целью исследовать кишечник его погибшей подруги.
Такая трогательная преданность убивала у моряков всякое желание охотиться на морских коров. И все с радостью бросили это дело, когда плотники из остатков полуразбитого бота построили новое небольшое суденышко.
Постройка тоже не далась легко: никто из уцелевших офицеров и матросов никогда не строил кораблей. Мастера же, которые знали это дело, умерли от цинги.
Но умелец нашелся: Савва Стародубцев, красноярский казак, неожиданно открыл в себе способности судостроителя. Без него «едва ли удалось бы справиться с делом», писал Свен Ваксель, принявший после Беринга командование экспедицией. За эти способности и сноровку Савва Стародубцев был возведен позднее в звание сына боярского, то есть в дворянство.
Новое судно назвали тоже «Св. Петром», все сорок шесть человек благополучно погрузились на него и отплыли 13 августа 1742 года.
Через четыре дня увидели Камчатку и пошли вдоль берега на юг, в Петропавловск. Добрались до него без особых приключений.
Они привезли с собой около тысячи шкур морских выдр. Это был отличный товар. Мехопромышленники, как только услышали, что всего в каких-то двухстах километрах к востоку от Камчатки лежат острова – поистине сказочный край непуганых зверей, сейчас же начали снаряжать корабли с охотниками за пушниной.
Командоры стали главной сырьевой базой пышно расцветавшего на востоке мехопромышленного дела. А дело было нешуточное: за пять ближайших лет здесь только три охотника добыли, например, одиннадцать тысяч песцов и две тысячи каланов! Даже по тем временам немало.
Морские коровы особой коммерческой ценности не представляли, но и их во множестве истребляли: охотникам полюбилось мясо капустниц. «А той одной коровы, – писал Петр Яковлев, обер-гитенфорвальтер, побывавший в 1754 году на Беринговом острове, – мясо всем тридцати трем человекам на один месяц с удовольствием происходило в пищу».
Капустниц часто били глупо и бессмысленно. Промышленники зимовали обычно малыми партиями по два-три человека и такими силами не могли, конечно, вытащить на берег убитую корову. Тогда они просто кололи их с берега или, зайдя неглубоко в море, длинными поколюгами (заточенными стальными полосами, привязанными к шестам). Животные уплывали в море умирать. А потом бывало, что иных приносило волнами обратно. Тогда из них вырезали куски мяса. Но «к рукам их ни одна свежая корова не приходит», говорит Яковлев, и зря лишь они «тем коровьим табунам, подле берега в море обретающимся, чинят сугубую трату и гибель».
Вернувшись на Камчатку, Яковлев советовал запретить «вредительный» промысел морских коров. Но кому до этого было дело… В результате через двадцать семь лет после того, как экспедиция Беринга покинула Командорские острова, всех морских коров здесь уже перебили. Не осталось ни одной. Последнюю, говорят, съел с товарищами некий Попов в 1768 году. С тех пор этих удивительных животных никто уже не видел ни у Командор, ни в другом месте (впрочем, некоторые утверждают, что видели, но об этом поговорим чуть позже)…
Георгу Стеллеру, одному из самых замечательных натуралистов, не суждено было самолично сообщить Академии наук о своем открытии. Он два года после возвращения с острова Беринга занимался исследованиями на Камчатке. Потом поехал в Россию. Но ему не повезло: Стеллер долго с нелепыми приключениями и осложнениями добирался из Петропавловска до Петербурга. Был даже арестован по ложному доносу и под стражей отправлен обратно в Иркутск. Но по дороге его освободили. Наконец, тяжело заболел горячкой и умер в Тюмени в 1746 году, так и не увидев столицы.
Наблюдения Стеллера, написанные на латыни, были опубликованы лишь через три – пять лет после его смерти. Еще через два года перевели их на немецкий язык, потом и на другие языки мира.
Открытому Стеллером животному дал научное имя Rhytina gigas, снабдив его соответствующим описанием, немец Циммерман в 1780 году, уже много лет спустя после того, как последнюю стеллерову корову съели охотники за пушниной.
Куски толстой сухой кожи, несколько скелетов и черепов и рисунки, скопированные с мореходной карты «Св. Петра», – вот и все, что осталось от самых представительных морских кузенов толстокожих.
В последние годы все чаще приходится слышать: где-то, кто-то и когда-то видел как будто живую стеллерову корову. На Дальнем Востоке китобои рассказывают, что иногда им в море встречается странное животное: огромное, похожее на рыбу. Но не рыба и не кит…
А в 1963 году в журнале «Природа» помещено было даже сообщение, авторы которого утверждали, что минувшим летом с китобойца «Буран» видели «группу очень крупных животных необычного вида», по всем признакам похожих на вымерших двести лет назад стеллеровых коров. Случилось это недалеко от мыса Наварин (в Беринговом море севернее Камчатки), на мелководье с густыми зарослями морской капусты.
По-видимому, капустницы водились не только у Командорских островов. Ученые, внимательно изучив архивные материалы, пришли к выводу, что, если верить старым записям, встречались они и у берегов Чукотки, Калифорнии и Алеутских островов и что еще в 1803-1806, в 1854 и даже в 1910 годах в разных местах Дальнего Востока видели будто бы живых и мертвых стеллеровых коров.
«Итак, – заключают авторы статьи, помещенной в «Природе», – наблюдаемые с китобойца «Буран» животные вполне могли быть морскими коровами». Возможно. Но вполне могли ими и не быть, и последнее более вероятно. Едва ли, если где-нибудь сохранились чудом уцелевшие капустницы, дело ограничилось бы только слухами. Хоть одна бы из них да попалась в руки к зоологам, и тогда всем сомнениям пришел бы конец.
Социологи и экономисты единодушно утверждают, что уже в недалеком будущем умудренное человечество более решительно, чем в наши дни, займется эксплуатацией морских богатств и основными продуктами питания станут в этом близком веке не плоды земли, а дары моря. Вот тогда-то люди не раз пожалеют о том, как неразумно их предки истребили капустниц. Нрав у капустниц был тихий, доверчивый, их, наверное, можно было приручить (а может быть, даже умелой селекцией вывести из них отличную породу крупного безрогого скота!). Но если бы и не удалось их приручить, то все равно при строгой охране они расплодились бы (не без помощи человека, конечно) по всем северным и умеренным морям, где растут бурые водоросли и морские травы, и можно было бы без забот промышлять немых «буренок», которые ростом мало уступали китам. (Вспомните: «мяса в ней и жира более 200 пуд!»)
Еще двести лет назад морских коров у Командор водилось так много, что мясом их, пишет Л.С. Берг, «можно было прокормить все население восточной Камчатки».
А мясо было отличное (не то что у китов, его и собаки-то неохотно едят): у молодых коров «напоминало телячье», а у взрослых «не отличалось от говядины». А под кожей у капустниц залегал толстый («в четыре пальца») слой белоснежного сала. Вываренное, оно имело «вид и вкус оливкого масла, и спутники Стеллера пили его чашками». Удивительно ли, что «на цинготных больных питание мясом и салом этого животного оказывало чудодейственное влияние. Молоко тоже было похоже на коровье, только слаще и жирнее».
А теперь представьте себе те сказочные времена (которые могли бы быть не за горами): коровы на морских фермах весят «по 200 пуд», а молока дают по сто литров в день! И кормить их не надо, этих коров, и пасти тоже не надо. Далеко они сами не уплывают. Морская капуста растет лишь у берега: тут и пища и дом капустниц. Аквалангисты доят их электродойками…
Увы! Мечты эти теперь нереальны. Капустниц нет в живых, и людям никогда их не воскресить: ведь стеллеровы коровы не оставили потомков, как туры или тарпаны.
От эогиппуса до седла и шпор
Если бы человек увидел в лесу предка нашей лошади, он, возможно, принял бы его за кота. Эогиппус – так звали этого предка – ростом был не больше лисицы. Голову имел маленькую, шею короткую, спину горбатую, шкуру полосатую, а лапы четырехпалые (передние) и трехпалые (задние). Жил эогиппус в сырых лесах Северной Америки пятьдесят миллионов лет назад, питался листьями и напоминал повадками неуклюжего тапира.
Было несколько разновидностей эогиппусов, некоторые из них рано переселились в Европу (по-видимому, через «мост», существовавший тогда на севере между Канадой, Гренландией, Исландией и Скандинавией). Европейский потомок эогиппуса- палеотерий – могучим телосложением напоминал носорога. Первым лошадям в Европе не повезло – здесь они все вымерли.
Но в Америке род их по-прежнему процветал. От эогиппуса произошел орогиппус, а от него – трехпалый мезогиппус, который был уже ростом с овцу. Тут в истории лошадей случилось важное событие: сырые тропические леса, покрывавшие большую часть планеты, стали всюду исчезать. Появились степи и луговые травы. Мезогиппусы робко вышли из лесных зарослей и рискнули начать новую жизнь под открытым небом прерий. Питаться стали травой. В степи их преследовали быстроногие предки волков. Спасение было только в одном: научиться бегать быстрее хищников. Лишние пальцы на ногах стали обузой (на одном пальце бегать легче!), и мы видим (по ископаемым костям), как у предков лошадей стал атрофироваться палец за пальцем, пока на каждой ноге не осталось лишь по одному. Лошадь превратилась в однокопытное животное. Но превращение это наступило не сразу.
От мезогиппуса произошел меригиппус, а затем стройный гиппарион (ростом чуть пониже зебры). Два недоразвитых боковых пальца на его ногах не касались земли. Трехпалый гиппарион бегал, следовательно, уже на одном пальце.
Едва ли какое-нибудь другое четвероногое животное встречалось такими колоссальными стадами, как гиппарион. Миллионные полчища этих элегантных лошадей через перешеек, соединявший в те времена Чукотку и Аляску, проникли из Северной Америки в Азию, а затем и в Европу.
Бесчисленные табуны гиппарионов галопировали по равнинам Евроазиатского континента. Их ископаемые остатки так многочисленны, что палеонтологи назвали «фауной гиппариона» весь комплекс живых существ, обитавших в тех же степях и в одно время с этими лошадьми.
В Африку, Южную Америку и Австралию гиппарионы не сумели пробраться: тогда эти страны отделялись от Северной Америки, Азии и Европы широкими проливами и морями.
Прошло несколько миллионов лет, и все гиппарионы вымерли.
Более счастливая судьба ожидала двоюродного, так сказать, «брата» гиппариона (конечно, в эволюционном, а не бытовом смысле) – плиогиппуса. От него-то и произошли наши лошади.
Когда-то табуны плиогиппусов населяли всю Северную и Южную Америку, Европу, Азию и Африку (к тому времени эти материки снова соединились перешейками). Среди древних лошадей были очень интересные разновидности: одни ростом больше самого крупного тяжеловоза, другие – меньше карликового пони. Но миллион лет назад все лошади в Америке по непонятной причине вымерли. В Африке уцелели лишь зебры и ослы, а в Европе и Азии – два-три диких вида, история которых отныне тесно сплетена с судьбой человека {19}.
В ледниковое время, несколько десятков тысяч лет назад, дикие лошади водились еще по всей Европе. Вместе с мамонтами и северными оленями они часто попадали на обед к троглодитам. Конечно, не как званые гости, а как лучшее блюдо в их меню. О том свидетельствуют «кухонные» отбросы наших предков – огромные кучи раздробленных костей, исследованные антропологами. В одной из них нашли остатки десяти тысяч съеденных лошадей. Прародители наши, как видно, не страдали отсутствием аппетита.
Сначала люди ели лошадей, а потом начали их приручать. Домашними дикие лошади впервые стали, по-видимому, где-то в Азии, произошло это, наверное, в шестом или седьмом тысячелетии до нашей эры. Странно, но арабы, общепризнанные ценители лошадей, позднее многих других народов познакомились с лошадью. Их отряды, сопровождавшие полчища персидского царя Ксеркса в походах против греков, в V веке до нашей эры сражались не на лошадях, а на верблюдах. И позднее, во времена эллинизма и Рима, мы ничего не слышим об арабской лошади. Только когда ислам, выйдя из пустынь Аравийского полуострова, двинулся в наступление на цветущие земли соседей, слава об арабской лошади облетела весь мир.
Интересно проследить, как вместе с лошадью усовершенствовалась ее сбруя. Раньше всего человек научился пользоваться уздой. Еще на доисторических изображениях мы видим взнузданных трензелем лошадей. Долго люди ездили что называется охлюпкой – без седла. Греческие и римские всадники накидывали на конские спины попоны и бодро выступали в бой и на цирковые ристалища. А германцы презирали и попоны. По их понятиям, говорит Юлий Цезарь, нет ничего более постыдного и малодушного для всадника, как сидеть на мягкой подстилке. На таких «трусов» они смело нападают, даже если встретят и очень многочисленный их отряд. И тем не менее именно германцы, разгромившие в IV веке Рим, сидели уже в седлах. Они укрепляли по бокам холки коня две плоские доски, так что хребет лошади торчал между ними. Доски покрывали звериной шкурой. Варвары изобрели и стремена. Связывали их из трех палочек, соединенных в виде треугольника.
Первые шпоры появились в IV веке до нашей эры. Гораздо раньше и седла и стремян. Сначала это были просто острые колышки, привязанные к пяткам. Подковы изобретены очень давно. За две тысячи лет их конструкция почти не изменилась. Дамское седло вошло в употребление в XII веке, но еще четыреста лет назад английская королева Елизавета ездила на прогулки, сидя по-мужски на крупе лошади позади своего шталмейстера.
И наконец, последнее изобретение – мундштук был придуман основателем первой школы верховой езды итальянцем Пиньятелли в XVII веке. С тех пор, кажется, значительных «рационализаторских предложений» по части конской сбруи не поступало.
… И дальше до последнего тарпана
Бок о бок с домашними в Европе долго еще жили дикие лошади. Римлянин Варрон (II век до нашей эры) и грек Страбон (он жил на сто лет позже Варрона) пишут, что они водились даже в Испании и Альпах. Древнегерманские и скандинавские героические сказания содержат немало драматических эпизодов, в которых действуют дикие лошади. Зигфрид из «Песни о Нибелунгах», например, убивает дикого коня скельха, а морской исполин Изе охотится на берегу на серых в яблоках коней (такая масть не свойственна диким лошадям, говорит профессор Е.А. Богданов, известный знаток домашних животных, но это, по-видимому, позднейшее добавление к старой легенде).
В средние века население многих стран Европы с упоением поедало на праздничных обедах непарнокопытную «дичь» – мясо дикого коня. Похоже, монахи особенно увлекались кониной.
«Ты позволил некоторым есть мясо диких лошадей, а большинству и мясо от домашних,- писал в VIII веке папа Григорий III св. Бонифацию.- Отныне же, святейший брат, отнюдь не дозволяй этого».
Но гурманы-иноки игнорировали запрещение святого отца. Долго еще в монастырях дикий конь слыл деликатесом. Эккегард, настоятель Сен-Галленского монастыря в Швейцарии, в книге-сборнике застольных молитв среди других рекомендует своим братьям во Христе и следующую: «Да будет вкусно нам мясо дикого коня под знаменем креста!»
До начала XVII века некоторые города Европы содержали отряды стрелков, которые охотились на диких лошадей, опустошавших поля. А в лесах Восточной Германии и, по-видимому, Польши еще лет сто пятьдесят назад можно было встретить дикую лошадь (или одичавшую? Вопрос этот теперь уже, наверное, никогда не будет решен).
В 1814 году в Пруссии несколько тысяч загонщиков окружили в Дуйсбургском лесу последние табуны лесных лошадей и истребили их. Всего было убито двести шестьдесят животных.
«А се в Чернигове деял есмь: конь диких своима рукама связал есмь в пущах десять и двадцать живых конь, а кроме того же, по Роси ездя, имал есмь своими руками те же кони дикие» – так писал храбрый киевский князь Владимир Мономах в «Поучении детям». Значит, и в России у нас еще в XII веке водились дикие лошади. Водились и позже. В 1663 году, рассказывают историки, будущего гетмана Ивана Мазепу за какую-то провинность казаки привязали к дикому коню, и тот умчал его в степь. Но Мазепа сумел как-то освободиться от веревок и через сорок четыре года поднял на Украине мятеж против царя Петра.
Украина – единственная страна в Европе, где дикие кони дожили до второй половины прошлого века. Это были знаменитые тарпаны, лошади, о которых когда-то много писали и говорили, а сейчас почти забыли. Даже у жителей тех мест, где еще сто лет назад дикие лошади «гуляли на воле», не сохранилось о них никаких воспоминаний.
Тарпан (или турпан, слово это татарское) – некрупная, но выносливая и отважная лошадка. Масть у него была мышастая: пепельно-серая с темным ремнем вдоль по хребту (он «цветом похож на мышей», писал о тарпане один старый натуралист). Грива, хвост и ноги до «колен» черные или черно-бурые, а на передних ногах у некоторых тарпанов замечали еще и темные поперечные полосы – чуть приметная зеброидность.
Еще совсем недавно жили тарпаны в южнорусских степях, лесостепях и даже лесах Литвы и Белоруссии (в Беловежской пуще, пишет профессор В.Г. Гептнер, они встречались даже в конце XVIII века) и по всей Украине, по всему степному Крыму, Предкавказью, Дону, Нижнему Поволжью – на восток до Волги и, возможно, даже до Урала. А там, за Уралом, водились уже другие дикие лошади – джунгарские тарпаны, более известные под именем лошадей Пржевальского. Но если верно, как полагают сейчас некоторые зоологи (я уже говорил об этом), что лошадь Пржевальского и тарпан – лишь два разных названия одного и того же зверя, значит, и за Уралом тоже водился тарпан и дальше – по сибирским степям до Иртыша, Алтая и Новосибирска. А еще восточнее, в Забайкалье, в даурских степях, снова встречаем мы следы недавнего (до XVIII века включительно) обитания диких лошадей.
Степи наши тогда еще были не распаханы. И по буйным травам, по ковылю и типчаку, по степному безлюдному простору скакали табуны вольных диких лошадей. В табуне обычно было десять-двадцать животных, и вел табун всегда старый и сильный жеребец.
А.М. Колчанов, председатель Днепровской уездной управы, с увлечением собирал разные сведения о вольной жизни тарпанов. Вот как он описывал эту жизнь. «Тарпаны были очень осторожны, легки и быстры на бегу. Стадом тарпанов всегда заправлял самец, он охранял стадо во время пастьбы, всегда находясь на каком-нибудь кургане, вообще на возвышенной местности, тогда как стадо паслось в долине. Самец давал знать стаду об опасности и сам уходил последним. Он же гнал свое стадо к водопою, предварительно осмотревши место водопоя, нет ли опасности, для чего удалялся от стада нередко на версту и более. В сухие лета, когда в степи вся вода пересыхала, тарпаны приближались к Днепру, где их встречали на Казацком броде, верст сорок от Зеленой. Впрочем, тарпаны, по сообщениям, очень выносливы к жажде, и достаточно небольшой росы, чтобы тарпан мог утолить свою жажду, слизывая росу языком с травы.
Тарпанов ловили, преимущественно жеребят и беременных самок, весною, старых тарпанов-самцов удавалось редко поймать арканом: бегали они очень быстро и были чрезвычайно осторожны. Но приручить их для езды, даже только верховой, никогда не удавалось. Жеребят удавалось воспитывать и приручать к верховой езде, но они обыкновенно долго не выдерживали и пропадали. Бывали случаи, когда степные лошади, особенно кобылицы, приставали к стаду тарпанов. Говорят даже, что тарпаны-жеребцы сами отбивали самок из табунов домашних лошадей и вступали в бой с жеребцом таковых, но никогда не одерживали победы».
Местные жители на Украине, в Оренбургском крае и всюду, где тарпаны водились, не любили их. И не только потому, что те часто уводили из табуна домашних кобыл. Тарпаны травили посевы, а зимой поедали, иногда начисто, сено, заготовленное поселенцами в степи и сложенное в стога. Тарпанов всюду истребляли. Стерегли у водопоев, у стогов с сеном. Эверсман, один из старых наших натуралистов, который еще видел живых тарпанов в Оренбургском крае, писал: «Тамошние жители ловят их нередко еще молодыми и усмиряют, но, несмотря на то, они всегда остаются дикими и пугливыми. Охотятся на них зимою по глубокому снегу следующим образом: как скоро завидят в окрестности табуны диких лошадей, жители тотчас собираются, садятся верхом на самых лучших и быстрых скакунов и стараются издали окружить тарпанов. Когда это удается, охотники скачут прямо на них. Те бросаются бежать. Верховые долго их преследуют, и наконец маленькие жеребята устают бежать по снегу. Но старые тарпаны скачут так быстро, что всегда спасаются».
Чем больше заселялись наши южные степи, тем в больший конфликт вступали люди с тарпанами. Гептнер пишет: «Тарпан был обречен на гибель самим ходом экономического развития страны». И как всегда бывает, финал наступил гораздо быстрее, чем ожидали даже самые неисправимые пессимисты: еще в начале прошлого века на юге Украины и в Крыму топтали ковыль довольно многочисленные табуны тарпанов, а в 1879 году погиб последний вольный тарпан. Одноглазая кобыла. У нее интересная и неплохо документированная история.
Записана она в семейной хронике Фальц-Фейнов. В конце прошлого века Фридрих Фальц-Фейн приобрел в степи к северу от Крыма большой участок земли с целью сохранить на нем нетронутый резерват первобытной местной фауны и флоры. Позднее в этом уникальном заповеднике, известном и ныне под названием Аскания-Нова, были проведены удачные опыты по акклиматизации многих экзотических животных.
У Фальц-Фейнов был сосед, тоже крупный землевладелец, некий Александр Дурилин. В Рахмановской степи {20} у него паслись большие табуны лошадей. Уже несколько лет в той местности не видели тарпанов (случилось это в семидесятых годах прошлого века). Но вот однажды последняя, как полагает Фальц-Фейн, дикая лошадь прискакала неведомо откуда и, зорко поглядывая по сторонам, направились к табуну {21}. Она, видно, тосковала без лошадиного общества, но боялась приблизиться к «цивилизованным» сородичам. Постепенно, день за днем, набиралась она храбрости и наконец привыкла к домашним лошадям, и те приняли ее, как свою. Когда табунщики были далеко, кобыла-тарпан паслась вместе с другими лошадьми. Но как только они приближались, она, дико всхрапнув, скакала прочь и в сторонке дожидалась, пока люди не отъедут подальше.
Рассказывают, что никогда не видели, чтобы, отдыхая, она ложилась на землю, как домашние лошади: все время стояла. Стоя и спала.
Прошло три года, прежде чем дикая лошадь стала немного более смирной и доверчивой к людям. Она уже не убегала так далеко, как прежде, когда верховые табунщики приближались к ней. А на водопоях и зимних подкормках и вовсе подпускала их близко. За эти три года она дважды жеребилась, и отцом ее жеребят был предводитель дурилинского табуна. Жеребят, когда те выросли, стали запрягать, но они были слабые и плохие работники.
Через три года дикая кобыла решилась вместе с табуном войти в зимний загон, где лошадей кормили. Тогда Дурилин велел ее поймать. Домашних лошадей выгнали из конюшни, а ее заперли там. Тарпаниха как бешеная стала кидаться на стены, буйно металась по конюшне и выбила себе один глаз. Потом забилась в темный угол и застыла, словно в трансе. Несколько дней, пока стояла там, ничего не ела. Но голод и жажда выгнали ее из угла. Постепенно она стала привыкать к людям. Брала сено из рук конюха. Шла на водопой, когда вели ее. Но всякий раз старалась вырваться. И не было никакой возможности оседлать ее.
После того как весной кобыла ожеребилась третий раз и уже в конюшне, ее решили выпустить на вольный выпас вместе с табуном. Думали, она стала совсем ручной. Но она, как видно, свободу ценила больше сытого желудка. Как только открыли ворота и сняли недоуздок, кобыла «с громким ржаньем» умчалась в степь. Позднее вернулась, но ненадолго: подозвала своего жеребенка и ускакала вместе с ним. Больше ее не видели.
Теперь действия переносятся в Асканию-Нова. Там прослышали, что всего в тридцати пяти верстах от Аскании, в Агайманском Поду, что в Таврической степи у села Агайман, видели будто бы дикого тарпана. И крестьяне захотели испытать резвость своих коней. Собрались большой артелью: решили поймать тарпана. По всему Агайманскому Поду расставили конные подставы, на которых лучшие ездоки на лучших лошадях (иные и о-двуконь!) дожидались преследователей, чтобы сменить их, когда в бешеной скачке за тарпаном пройдут они мимо. Дело было зимой, в декабре.
Гнались, меняя лошадей и всадников, весь день и, возможно даже, так бы и не догнали тарпана, но тому не повезло: передней ногой он попал в сурчиную нору и сломал ногу. Упал и лежал беспомощный на снегу, храпя и скаля зубы. Люди окружили, связали его, положили на сани и привезли в Агайман. И тут узнали: это же та самая безглазая кобыла, которая свободу предпочла сытости дурилинской конюшни!
Она заслужила уже такое уважение во всей округе, что даже крестьяне, люди простые и к сентиментам не склонные, очень жалели ее. Захотели спасти тарпаниху, упросили деревенского парикмахера (он же и коновал) сделать ей новое копыто, протез, короче говоря. Но измученное преследованием и болью животное не воспользовалось этой последней любезностью, подаренной врагами: в конце декабря 1879 года последний вольный тарпан умер в ненавистном ему плену у человека.
Последний вольный тарпан. Но в плену жила еще одна дикая лошадь: знаменитый шатиловский тарпан, который, как родился, лишь неделю успел пожить в степи, а остальные двадцать лет провел в неволе.
И.Н. Шатилов был большим любителем лошадей, очень интересовался тарпанами, много писал о них, всеми силами старался спасти их от уничтожения. В конце прошлого века он по просьбе Петербургского общества акклиматизации животных доставил в Москву и Петербург одного за другим двух тарпанов. Это были единственные из тарпанов, тщательно исследованные зоологами, единственные, от которых сохранились кости: череп от шатиловского и скелет от таврического. Череп хранится в Зоологическом музее МГУ, а скелет – в Ленинграде, в Зоологическом институте Академии наук.
Таврического тарпана поймали в Таврических степях, в имении В.А. Оболенского. В 1862 году привезли его в Петербург. Академик И. Брандт, когда увидел дикого коня, тут же и решил, что не стоило его так далеко везти: это не тарпан, сказал он, а «скверная крестьянская лошаденка». Шатилов возражал: конь с первого взгляда поражает типичной для дикаря внешностью, «стоит взглянуть на него, чтобы убедиться, что тарпаны не одичалые лошади, а первобытный дикий вид зверей из семейства лошадиного».
«Позднейшее изучение черепа и скелета этого тарпана,- пишет профессор В.Г. Гептнер в «Заметках о тарпанах»,- показало, что прав был Шатилов, а не академик Брандт».
Но если таврический тарпан похож был на шатиловского, то, я полагаю, и Брандт немного ошибался. Черепа диких лошадей почти не отличаются от черепов домашних, и решить, изучая их, кому принадлежали они: диким или домашним животным – наверное, очень трудно. А вот если судить по экстерьеру, то есть по статям, по внешности, то шатиловский тарпан на дикую лошадь был очень мало похож. Дело в том, что, когда в 1884 году его привезли в Московский зоосад (пойман он был недельным жеребенком под Херсоном), Шатилов его сфотографировал и спереди, и сзади, и сбоку. В распоряжении науки это единственные снимки живого тарпана, но, к сожалению, кажется, не чистокровного!
Так вот, на фотографиях (одну из них я представляю в этой книге на суд читателей) видно, что «дикий зверь из семейства лошадиного» был примитивной лошаденкой (кажется, довольно смирной!) с оленьей шеей, длинной гривой и челкой и со щетками на задних ногах – то есть с такими признаками, которые у настоящих (чистокровных) диких лошадей не бывают.
Шатиловский тарпан прожил в зоосаде года два и умер в конце восьмидесятых годов. Так погиб последний на земле тарпан (или, во всяком случае, конь, в жилах которого текла весьма обильная кровь тарпанов, хотя и смешанная бесспорно с кровью лошадей домашних).
Но действительно ли он был последним? Перед войной в руки наших зоологов попал документ, который заставил их в этом усомниться. Весной 1934 года В.Г. Гептнер получил заверенные несколькими свидетелями показания зоотехника Н.П. Леонтовича.
«В 1914-1918 годах,-сообщал Леонтович,- я имел возможность наблюдать последний экземпляр тарпана. В эти годы животное жило в имении Дубровке, в Миргородском уезде, Полтавской губернии».
Это был старый жеребец. Владельцы конного завода доверили его попечению косяк киргизских кобыл. Он очень ревностно исполнял свои обязанности: был «исключительно злой и дикий». Никого из чужих не подпускал к своему гарему и нападал даже на людей, проезжавших по степи, «если у них в упряжке были кобылы». Мышиной масти жеребец с таким свирепым и решительным видом бросался на повозку, что люди не выдерживали и пускались наутек. Тогда тарпан рвал зубами сбрую, освобождал своих новых возлюбленных от ярма и плена и гнал их, оглашая степь победным ржанием, к своему косяку.
Этого отважного жеребца табунщики купили у немцев-колонистов. А те поймали его в стаде диких лошадей, перебив их всех. Маленьким жеребенком попал он в Дубровку, и здесь «никто им не интересовался».
Гептнер думает, что немцы-колонисты истребили табун диких родичей маленького тарпана где-то тоже в Таврических степях и случилось это, наверное, в начале девяностых годов прошлого века. «Это, вероятно, и есть дата гибели самых последних вольных тарпанов»,- заключает он. А гибель последнего невольного тарпана «таким образом переносится с восьмидесятых годов на 1918-919 годы».
Биологическое чудо – «воскрешение» тарпана
Тут бы и следовало поставить точку, если бы история тарпанов не имела продолжения. Ученые, люди неугомонные, никак не могли примириться с тем, что нет уже на земле тарпана, и решили «воскресить» его.
Тарпаны жили не только в степи, но и в лесах некоторых стран: например, в Литве, Польше, Восточной Пруссии, в Беловежской пуще они встречались еще в конце XVIII века, а в зверинце панов Замойских в Замостье {22} дожили до начала прошлого столетия. В 1808 году двадцать диких лошадей раздали местным крестьянам. Те их приручили и стали на них ездить и пахать. Потомки тарпанов, смешанные, конечно, с домашними лошадьми, донесли до наших дней многие признаки своих диких предков.
Из этих-то тарпановидных коников, как их называют в Польше, генетики решили умелым скрещиванием и отбором вывести новую породу лошадей с внешними признаками тарпана. Работой руководил Т. Ветулани. Дело, начатое в 1936 году, шло очень успешно, несмотря на войну и оккупацию (многих животных, с которыми экспериментировали поляки, вывезли в Германию). Тарпан возрождался на глазах: шаг за шагом, поколение за поколением его потомки, растерявшие в течение полутора веков свои признаки в массе крестьянских полукровок, постепенно вновь «собирали» их. Эти рассеянные в сотнях лошадей фамильные черты дикого мышастого коня удалось сконцентрировать, как в фокусе зеркала, в немногих животных. Некоторые кобылы стали приносить жеребят с короткой стоячей гривой, как у зебры или лошади Пржевальского. А это – наиболее типичный «дикий» признак, закрепить который у потомков домашних лошадей особенно трудно.
«Воскрешенные», или, как говорят зоологи, «восстановленные», беловежские тарпаны живут на воле в лесу и даже зимой, в пургу и морозы, обходятся без стойл и других укрытий. Их и подкармливают зимой очень редко.
Почти в одно время с поляками возродить тарпана решили и немцы. В Германии, в фамильном поместье Липпе-Детмольдов, давно уже, несколько веков, жили на воле в лесах одичавшие лошади. Никто их никогда не беспокоил, кроме нескольких дней в году, когда люди окружали загоном вольный табун и клеймили новорожденных жеребят. Для всей округи это было большим праздником. Как и в прежние века, ловлю диких лошадей отмечали здесь веселыми песнями и попойками еще и в первые годы гитлеровского режима. А потом людям было не до веселья и не до диких лошадей.
Из табуна Липпе-Детмольдов братья Лутц и Гейнц Хек отобрали для своих опытов лошадей с наиболее «дикой» внешностью. Этим биологам, братьям Хек, наука в значительной мере обязана и спасением зубра. Они же провели удачные работы по восстановлению тура. А теперь вот решили «возродить» и тарпана. Оба брата были директорами зоологических садов: Лутц – Берлинского, Гейнц – Мюнхенского. Поэтому тарпана «воскрешали» одновременно в зоосадах этих двух городов.
Лутц Хек в книге «Мои приключения с животными» пишет: «Мы исходили из того принципа, что ни одно существо не может считаться полностью вымершим, пока его наследственные качества еще сохраняются в потомках. Эти качества умелым скрещиванием с другими видами животных можно попытаться выявить более отчетливо в гибридах такого скрещивания. С помощью современных достижений генетики можно даже полностью восстановить наследственность вымершего животного. Если полученные метисы будут размножаться, то постепенно под влиянием искусного отбора их облик от поколения к поколению будет меняться в нужную нам сторону. В результате может вновь возродиться животное, исчезнувшее сотни лет назад. Вымершее животное снова будет жить!»
И он продолжает: «Есть много лошадей, которые происходят непосредственно от лесного тарпана,- нордические низкорослые лошади, так называемые скандинавские пони, исландские пони и лошади Готланда, дикие кони Дартмура, а также коники, крестьянские лошадки Польши, Галиции и соседних стран. Из всех лошадей они наилучшим образом сохранили древний тип лесной лошади.
Мой брат и я выбрали метод, который открыл наш отец в многолетних экспериментах в берлинских садах. Если, например, каменного козла скрестить с домашней козой, то, странное дело, среди их потомков будут не только козлята с мастью каменного козла {23}, домашней козы и всех промежуточных оттенков, но и окрашенные точно так же, как и безоаровый козел, дикий предок домашних коз, хотя уже многие столетия эта его особенность у них и не наблюдалась. Эффект поразительный! Говоря всем понятными словами, это означает, что наследственность каменного козла каким-то образом как бы заставляет домашнюю козу «отрыгнуть» долгие годы скрытые в ее наследственных клетках первобытные качества своего дикого предка.
То же самое мы проделали и с лошадьми, пытаясь заставить их вернуть своим отпрыскам древние черты мышастой дикой лошади лесов, известной под именем тарпана.
Мы свели буланого жеребца, представителя другого типа степных диких лошадей (то есть жеребца лошади Пржевальского), с домашними потомками мышастого тарпана: с кобылами исландских пони и польских коников. И уже во второй серии скрещиваний, в Мюнхене, получили совершенно сказочного жеребенка! Он словно одет был в серую униформу: мастью похожий на мышь, с черной гривой и хвостом и с широким черным ремнем по хребту. А когда он повзрослел, то стал более светлым снизу, а ноги его, наоборот, потемнели, совсем как у старого тевтонского коня,- это была наша первая примитивная лошадь!
Она родилась, когда уже ни один человек не надеялся ее увидеть. Все случилось, как в волшебной сказке!»
Однако восстановление тарпана оказалось делом куда более сложным, чем показалось вначале, после первых успешных опытов. За удачами, как всегда это бывает, пришли неудачи. Ученые испробовали много разных вариантов, комбинировали и так и этак: кровь детмольдовских лошадей «сливали» в разных пропорциях с кровью коников, примитивных пони и джунгарских тарпанов.
И дело пошло на лад. Но тут началась эта проклятая война. Работы были прерваны. Все тарпаноиды Берлинского сада погибли при бомбежках и разрухе. Но мюнхенские уцелели. Их сейчас несколько десятков голов, и они, так о них пишут, «уже приобрели тарпаний вид».
И вот что интересно: генетики не старались вывести лошадей с более крепкими копытами. Но это получилось само собой: вместе с другими примитивными чертами их питомцы обрели и этот атавистический дар своего дикого предка – очень прочные копыта.
Уже после войны, рассказывает Филипп Стрит в книге об исчезающих животных, один мюнхенский «тарпан», запряженный в телегу, около тысячи миль (1600 километров) прошел по нелегким дорогам. «И хотя он не был подкован, копыта его отлично сохранились, когда он закончил свое путешествие».
Так наука совершила еще одно фантастическое чудо.
«Храбор бо бе яко и тур»
«Зверь подобен есть коню, страшен и непобедим, промеж ушию имать рог велик, тело его медяно, в розе имать всю силу. И внегда гоним, взбегнет на высоту и ввержет себя долу, без накости пребывает. Подружия себе не имать, живет 532 лета. И егда скидает свой рог вскрай моря, и от него возрастает червь; а от того бывает зверь единорог. А старый зверь без рога бывает не силен, сиротеет и умирает» – так русские азбуковники, то есть старые наши энциклопедии, писанные еще в XVI-XVII веках, рассказывали о единороге.
Наиболее популярный образ единорога в христианских легендах – однорогий конь. Но как это ни странно, живым натуральным прообразом его был, по-видимому… бык. Археологи, производя раскопки на месте древних городов среднего Востока, нашли ассирийские и вавилонские барельефы и письмена, из которых выяснилось, что древнееврейское слово «реем», переведенное редакторами греческой библии как «единорог», обозначало в действительности дикого быка тура {24}.
Возможно, что переводчиков библии, назвавших тура единорогом, ввели в заблуждение некоторые ассирийские и вавилонские барельефы, на которых туры изображены однорогими. Правда, и колеса у колесниц и ноги у лошадей, преследующих туров, нарисованы (или, вернее, вырублены на камне) тоже в уменьшенном числе, но на это не обратили внимания, а вот однорогого быка реема из-за изящной условности, полюбившейся древним художникам, возвели в высокий сан единорога, наградив его всеми повадками тура: и быстротой, и бесстрашием, и богатырской силой, и даже любовью к болотистым заводям, которой, увидим ниже, отличались черные лесные быки.
Кто ж он, этот тур-единорог, о котором легенды и сказания многих народов Востока и Запада повествуют с таким страхом и уважением?
Дикий бык, очень большой и отважный. Ростом он, говорят, был в холке почти до двух метров (и весил тонну!). Впрочем, в последние столетия тур сильно измельчал.
Мастью черный с белым ремнем вдоль по хребту (коровы и телята рыже-бурые – гнедые), с большими и острыми рогами, быстрый и смелый, он был достойным противником вооруженных копьями людей.
Еще в историческое время жили туры по всей Европе, даже в Англии и южной Швеции; в Северной Африке, Сирии, Палестине, Месопотамии, Турции, а у нас – в Литве и Белоруссии, по всей Украине, на Дону и в Предкавказье. И на севере – вплоть до Новгорода и южного берега Ладожского озера, в нынешних Смоленской, Калининской, Ярославской, Московской, Рязанской и Тульской областях.
Бродили эти быки небольшими стадами и по степям, и по уремам, что растут вдоль русел рек, по глухим заболоченным лесам, любили и даже очень «сырые, ржавые места, изобилующие диким привольем».
По былинам, русским пословицам и летописям можно составить довольно точную характеристику турьих повадок и привычек, или, говоря более профессионально, обрисовать некоторые черты его биологии.
«Выдирай ты там траву со ржавчиной, запивай траву водою болотною»,- говорит Маринка Игнатьевна в одной из былин Добрыне Никитичу. А перед этим эта самая Маринка вот что сделала:
Повела Добрыню на широкий двор,
Обернула Добрыню гнедым туром.
И издевается еще:
Ты поди-ко, поди, гнедый тур,
Ты поди, бежи во чисто поле,
Где ходят гнеды девять туров,
Девять туров, все женихи мои;
Не хватало только тебя, тура десятого,
Удала Добрынюшки Никитича!
А когда наскучило ей одиночество, Маринке, о Добрынюшке вспомнила, не забыла:
Уж ты гой еси десятый тур!
Прибегай ко мне с черных грязей,
Прибегай ко мне с болотных вод.
Тебе чисто поле наскучило
И зыбучие болоты напрокучили.
Видите: «черные грязи», «болотные воды», «зыбучие болота» и т.д. И вот что еще интересно: в былинах туры все гнедыми зовутся, а не черными. Не были же предки наши дальтониками, чтобы черное путать с рыжим? Могло так случиться, что в Приднепровье водились гнедые быки? Ведь североафриканские туры, как утверждает профессор В.Г. Гептнер, были ярко-рыжие.
Загадку эту теперь уже, наверное, никто не разрешит.
Но пойдем дальше, посмотрим, какие еще характеристики дают туру наши былины и летописи. Прежде всего, воспевается здесь его храбрость, сила и быстрота. В Ипатьевской летописи о Романе Мстиславовиче так написано: «Храбор бо бе яко и тур». А в «Слове о полку Игореве» – о Всеволоде, брате Игоря: «Яр-туре Всеволод! Стоиши на борони, прыщеши на вои стрелами, гремлеши о шеломы мечи харалужными». «Буй-тур» и «яр-тур» – эпитеты эти прилагались в похвале только самым храбрым витязям.
Тур настолько проворен и быстр, атаковал с такой стремительностью, что в сказках и былинах часто становился он воплощением самой быстроты: былинные герои иной раз обращались в тура, чтобы догнать или убежать от врага. А в Костромской губернии, писал полвека назад зоотехник и генетик профессор Е.А. Богданов, и по сей день «туриться» значит спешить. Есть старая русская загадка, в которой тура сравнивают с молнией: «Тур ходит по горам, турица-то по долам, тур рявкнет, турица-то блеснет». А в библии (еврейской, не переводной) даже самого бога наделяют качествами тура: «быстрота реема у него».
И еще рев: тур ревел, как видно, очень громко и страшно. Один этот его рев сеял панику среди людей не очень храбрых, таких, например, как «князи бояре».
Помните, что случилось, когда Илья Муромец привел на княжий двор Соловья-Разбойника? И говорит ему:
Посвисти, соловей, по-соловьиному,
Пошипи, змей, по-змеиному,
Взрявкай, зверь, по-туриному,
И потешь князя Владимира.
Соловей-Разбойник все это проделал и «втретье» взрявкнул по-туриному.
А князи бояре испужалися,
На карачках по двору наползалися.
В другой былине от туриного рева «триста жеребцов испугалися, с княжецкого двора разбежалися».
Вот каким был тур. «Был» – потому что сейчас этих быков уже нет. Люди их всех истребили. И хотя случилось это совсем недавно, тура основательно уже забыли почти всюду, где он обитал. Память о нем живет только в былинах, пословицах, некоторых обрядах (например, на святках наряжались туром) да в названии мест и фамилиях: Турово, Туры, Туров Лог, Туржец, Туров. Кантон Ури в Швейцарии тоже обязан именем своим дикому черному быку: урус (по-латыни), ур (по-германски) – название тура.
Одно время даже некоторые натуралисты не верили, что жил на земле такой бык – тур. И все, что древние рассказывали о туре, приписывали зубру. Но потом тура, что называется, реабилитировали, признали. Жорж Кювье, знаменитый французский анатом и палеонтолог, доказал: еще в ледниковый период жил на земле длиннорогий очень крупный бык {25}. Позднее семиты назвали его реемом, раимом или риму, латиняне – урусом, а поляки и русские – туром. От этого быка, так полагал еще и Кювье, произошли все или, по крайней мере, некоторые породы крупного рогатого скота, то есть наши быки и коровы.
Что еще мы о нем знаем?
Знаем – так написано на одном древнем обелиске,- что ассирийский царь Тиглатпалассар I (в конце XII века до нашей эры) «риму, разрушающих, могучих, убивал в городе Арацике, рядом с землею Хатти и при подножии Ливана, живых детенышей диких быков ловил, стада их уничтожал».
А Ассурбанипал «за несколько дней убил пятьдесят могучих риму и двадцать других взял живыми».
Знаем, что и Юлий Цезарь во время германских походов встречал туров. Он рассказал о них в своих «Комментариях».
Герцинский лес, пишет Цезарь, так велик, что только за девять дней можно его пересечь. Начинается он у границ Гельвеции (античной Швейцарии) и тянется до Дуная и дальше по его течению. Это дикие нетронутые дебри, живет в них много зубров, но туров тут еще больше. Ростом звери эти мало уступают слону, но «обликом и мастью напоминают быков… велика их сила и быстрота». И никто, ни человек, ни зверь, пусть лучше не встает на их пути. Ловят туров в ямы. Мясо едят, конечно, а из шкур делают щиты. А турьи рога служат у местных воинов знаком особой доблести. «Их бережно хранят, на концы надевают серебряные наконечники и пьют из этих рогов на торжественных праздниках».
И Владимир Мономах в наставлении детям своим не забыл помянуть про тура, который дважды метал его рогами (да еще с конем): «тура два мятала мя на розех и с конем».
Из всего этого заключить можно, что тур был желанной и почетной добычей для охотников, но недешево продавал свою жизнь, опасный был противник.
Барды Карла Великого, короля франков, сохранили нам описания не только его пиров и боев, но и одной очень образно переданной схватки с туром.
Карл решил потешить арабских послов, которые принесли ему в дар от халифа священный гроб, и устроил для них охоту на туров.
Но на арабов такая потеха нагнала больше страху, чем веселья. «Как завидели они этих страшных животных, испугались и пустились в бег». Но Карл, который, говорят, на конце копья шутя поднимал двух вооруженных мужчин – такой был силач,- смело бросился быкам навстречу и ударил одного в затылок. Но не убил его, а только ранил. Рассвирепевший тур распорол рогом его ногу. Тут один франк, по имени Изенбарт, который был в немилости у короля, кинулся к быку и, пронзив копьем, убил его на месте. Придворные сбежались к королю, но Карл сказал, что рана не велика, и прямо из леса отправился к Ирменгарде, супруге сына своего Людвига. «Он показал ей свою рану и рога чудовищного быка, причинившие ее».
И после Карла, в средние века, в Европе охотились на туров. Монахи и тут не отставали от вельмож. Благо турье мясо сам папа римский рекомендовал им (помните: тарпана есть им не разрешалось, но они все равно его ели). Так что скоро от туров остались в Западной Европе одни воспоминания (уже к 1400 году). Но в Восточной Европе, в Польше и Литве они еще жили. Барон Герберштейн, посол германских императоров Максимилиана I и Карла V, был в Москве дважды: в 1517 и 1526 годах. Все, что видел, слышал и о чем читал в этой стране (и на пути в нее), описал любознательный барон в книге «Московия», которую опубликовал в Базеле в 1556 году. В ней и о туре немало он рассказал.
Так этот бык проворен и ловок, что, резвясь и играя, бросает вверх навоз и снова еще в воздухе подхватывает его на рога и опять кидает. Этому свирепому «жонглеру» ничего не стоит и лошадь поднять на рога и кинуть ее вверх (да еще с седоком в седле!). Один тур может перебить стаю волков. Он и человека «не боится и от встреченного не убегает… Когда он жрет на дороге или стоит в другом месте, его нужно оставить в стороне даже при проезде на телеге, так как он сам не сойдет с дороги».
Итак, пути их сошлись, человека и тура. И человек быстро истребил этого упрямого быка. Всюду в Европе начали сводить леса, туры лишились последних своих убежищ, затем сразу последовало их быстрое вымирание. Еще в XI веке водились они в Вогезах, а в XVI – уцелели только в Польше. Мазовецкие герцоги взяли последних туров под свою защиту. Охраняли их, а зимой подкармливали сеном. Но гордый турий род быстро угасал в ясновельможных заповедных лесах. В 1564 году в Жакторовском лесу, имении панов Мазовецких (под Варшавой), жило уже только тридцать туров. Через тридцать пять лет их осталось двадцать четыре, а в 1602 году – четыре.
Последний представитель турьего рода – дряхлая корова пала в 1627 году. (Правда, доктор Хильцхеймер утверждал, что еще в 1669 году в Кенигсбергском зверинце жил будто бы один тур.)
Тур вымер, но не бесследно: на земле остались его многочисленные потомки. Наилучшим образом черты тура выражены, например, в голландских быках и коровах, еще лучше – у венгерского и украинского степного скота, у английского паркового: некоторые лорды содержат в своих лесных угодьях полудиких коров и быков, очень похожих на тура, но не черных, а белоснежных!
В Англии сейчас пять таких парков. Самый знаменитый из них – Чиллингэмский. Ему скоро исполняется семьсот лет! В конце XIII века старый эрл Тэнкервилл из Нортумберленда приказал огородить часть принадлежащего ему леса вместе со стадами полудиких белых коров и быков, которые появились в округе. Откуда они сюда пришли, неизвестно. С тех пор все Тэнкервилли ревниво оберегали своих белоснежных пленников от постороннего скрещивания. Дважды это стадо чуть не погибло. В 1760 году после какой-то страшной эпидемии в живых осталось только несколько коров и три быка. Но два из них в драке убили друг друга. К счастью, уцелевший бык был очень плодовит, и вскоре его юные отпрыски снова беззаботно резвились под кущами заповедного парка. В суровую зиму 1947 года из тридцати трех животных погибло двадцать. Но через несколько лет стадо опять пополнило свои ряды.
Парковый скот не только внешностью напоминает прародителя тура, но даже и некоторыми чертами своей физиологии: животные эти только лишь на четвертый или пятый год жизни становятся половозрелыми. А ведь домашние коровы уже через год после рождения могут принести теленка.
Но еще больше, чем шотландский парковый скот, на тура похожи, пожалуй, боевые быки Испании, которых разводят здесь для корриды на специальных фермах – ганадериях. У них и масть, и рога, и резвость – все, как у тура. Только ростом они маловаты.
Этих-то быков и выбрал Лутц Хек, уже известный нам директор Берлинского зоопарка, для своих опытов: перед тем как «воскресить» тарпана, он решил методами обратного скрещивания возродить тура. Его брат Гейнц Хек экспериментировал, преследуя ту же цель, главным образом с венгерским степным скотом {26}. Приливали кровь и других пород и очень быстро, «много быстрее, чем я думал», пишет доктор Хек, получили очень типичных «восстановленных» туров. «Задача эта оказалась,- продолжает Хек,- более легкой, чем выведение первоклассной породы молочного скота. Но это и понятно: ведь наши быки и коровы были турами миллионы лет, а теперешний свой «домашний» облик приобрели лишь несколько тысячелетий назад».
Впрочем, слова «быстро» и «легко» следует понимать здесь лишь в их относительном значении: прошло больше десяти лет, прежде чем среди нескольких сотен выращенных учеными телят появился первый отпрыск с типичными фамильными чертами турьего рода.
Берлинское стадо туров погибло во время войны, но мюнхенское сохранилось. У быков теперь совсем турья черная масть с белой полосой вдоль по спине, такие же большие, острые и прямые рога. А коровы и телята гнедые – значит, мюнхенские генетики добились самого трудного: полового и возрастного диморфизма, то есть разной окраски и внешности самок, самцов и детенышей.
Принято считать, пишет профессор В. Г. Гептнер, что «восстановленный» тур лишь чисто внешне копирует вымерший оригинал. Однако, говорит он, этот отсутствующий у всех домашних пород диморфизм не позволяет ли «здесь видеть уже нечто большее?»
Во всяком случае, фотография «восстановленного» тура и изображение аугсбургского оригинала так похожи, что, взглянув на них, каждый скажет, что это два портрета одного и того же животного {27}.
Сумчатая собака с волчьей головой
– Сэр, мы поймали его.
– Кого?
– А тигра или гиену, как хотите, так и называйте. Гаррис вскочил, бросив свои расчеты.
– Гиену?- закричал он.- Тигра?
– Да, гиену или тигра,- спокойно отвечал траппер, теребя шляпу в красных руках.- Она там: попала в капкан. Мы убили кенгуру и положили мясо вокруг. Ну, гиена и пришла. Попалась…
– Так идем же скорей!
– Как будет угодно.
И они зашагали по узкой тропинке. Она вела в горы, в самые джунгли.
«Гиена или тигр» метнулась от них, но железные челюсти капкана удержали ее. Тогда она закричала странным каким-то криком, похожим на сиплый гортанный кашель. Жалобно кричала. И притаилась. Ее ясные карие глаза смотрели на людей без злобы, бесстрастно, словно не видели их. У нее была голова волка с огромной пастью, которая открывалась очень широко. «Как у крокодила», – вспомнил Гаррис, что рассказывали охотники. Тело серо-бурое, тоже вроде бы собачье, но с полосами. Шестнадцать темно-шоколадных полос, и все поперек спины, самые широкие и длинные у хвоста.
Гаррис – он работал в Тасмании топографом – был неплохим натуралистом, но такого зверя еще не встречал, хотя и много слышал о нем: разные слухи ходили о гиенах и тиграх среди местных пастухов и охотников. Ученые же об этом звере еще ничего не знали.
Гаррис, как умел, зарисовал тасманийского «тигра» и в 1808 году описал его в научном журнале под названием Thylacinus cynocephalus, что означает в переводе на русский язык: «сумчатая собака с волчьей головой». Теперь этого зверя называют обычно сумчатым волком, или тилацином.
Многие сумчатые животные Австралии очень напоминают некоторых млекопитающих Старого и Нового Света, хотя и не состоят с ними в слишком близком родстве. В Австралии есть, например, свои белки-летяги и крысы (сумчатые, конечно), свои куницы и хорьки, землеройки, сони, тушканчики, сумчатые кроты, сумчатые барсуки, сумчатые муравьеды. Эти сумчатые двойники настоящих белок, крыс, куниц, кротов очень напоминают заморские «оригиналы». И не только повадками и образом жизни, но нередко и внешностью, вплоть иногда даже до характерных пятен на морде, груди или хвосте.
Так и сумчатый волк, или тилацин, похож на обычного волка. Правда, он полосатый, да и задние ноги у него чересчур «подлыжеватые», как говорят собаководы: плюсна стоит не отвесно, а косо, подогнута вперед, отчего сумчатый волк, когда ходит, часто опирается на пятку (скакательный сустав). Он и «пальцеходяч», как почти все звери, и стопоходяч, как медведь или барсук. Поэтому и следы у него не по росту крупны. Кроме того, у тилацина не шесть резцов, как у собак и волков, а восемь, а в костном небе черепа слишком большая щель. Есть, конечно, у него немало и других отличий от настоящих волков: главное из них, конечно, – сумка на брюхе, в которой полосатые волчицы вынашивают своих детенышей. Сумка открывается не вперед, как у кенгуру, а назад. В ней две пары сосков: это значит, что щенков у тасманийского волка может быть только четыре или меньше. Но не больше, потому что каждый, как родится и доберется до сумки, сейчас же хватает сосок и висит на нем, не отрываясь, пока не подрастет.
Прежде, в доисторическое время, сумчатые волки водились в Австралии, а еще раньше, по-видимому, и в Южной Америке: ископаемые кости похожих на них животных нашли в Патагонии. Теперь же сохранились (сохранились ли?) только в Тасмании. Днем они прячутся в норах и пещерах. Охотятся ночью: парами или в одиночку. Кенгуру, валлаби, крысы, птицы, даже ящерицы и ехидны – их добыча. Бегают эти волки не очень быстро, но чутье у них отличное. Часами, говорят, скачут мелким галопом (кентером!) по следу и загоняют свою жертву до полного изнеможения и тогда хватают ее.
Однажды видели, как кенгуру в большом смятении промчался мимо людей, а минут через десять по его следу проскакал сумчатый волк, «уткнувшись носом в землю и вынюхивая кенгуру». А потом, еще через четверть часа, по тем же следам пробежали два молодых волчонка. Животные были так заняты друг другом, что на людей совсем не обратили внимания.
Рассказывают, что сумчатый волк, спасаясь от погони и потеряв надежду убежать, поднимается вдруг на задние ноги и скачет на них, как кенгуру! Не очень-то это похоже на правду, но Эллис Трофтон, известный знаток австралийских животных, говорит, что задние ноги сумчатого волка устроены так, что он, пожалуй, и в самом деле может скакать на манер кенгуру, хотя, по-видимому, и недолго.
Говорят также, что в драке сумчатый волк побеждал любую собаку, отбивался будто бы даже и от целой своры. Нападал ли он на людей? Раньше, когда волков этих было побольше, такое
иногда случалось. Правда, очень редко. Лет шестьдесят назад, рассказывает доктор Трофтон, некая мисс Мэрри стирала белье на опушке леса. Вдруг из кустов выскочил волк тилацин и схватил ее зубами за руку. Она уперлась в него другой рукой. Отбиваясь, дотянулась до лежащей поблизости мотыги, наступила на длинный волчий хвост и пустила свое оружие в дело. Зверь испугался и убежал. Он был слепой на один глаз и очень старый. Наверное, волк-агрессор не мог уже ловить зверей и птиц, и голод толкнул его на этот отчаянный поступок.
Белые поселенцы в Тасмании невзлюбили «гиен», убивают их при каждом случае. Убивают за то, что те нападают на овец, которых здесь разводят. Правительство Тасмании выдавало премии за каждого убитого сумчатого волка. И вот тилацины к началу нашего века уцелели только в самых глухих горных лесах острова. А после войны их вообще никто здесь не встречал: последнего сумчатого волка застрелили в 1930 году. Следы же их видели два последних раза в 1948 и 1957 годах вблизи Хобарта. Многие зоологи считают, что все сумчатые волки уже вымерли. А жаль: это очень интересные звери! В зоопарках тоже не осталось ни одного сумчатого волка.
Кандидаты в ископаемые – их надо спасти!
Геростратовы рекорды
Увы, велик список мертвых видов: дронты, бескрылая гагарка, великаны-страусы моа и эпиорнис, тур, тарпан, морская корова, квагга, бурчеллева зебра, олень Шомбургка, персидский лев, шилохвостые кенгуру и кенгуру Грэя, занзибарская шелковистая обезьяна, карибский тюлень-монах, фольклендский волк, сумчатый волк и многие, многие другие.
В их гибели повинны люди, прибывшие из Европы. Они не берегли ни местных традиций, ни природных богатств. Они искали только золото и то, что можно продать на золото. И безжалостно истребляли драгоценных птиц и зверей, чтобы выгодно сбыть их за океаном.
Ежегодно вывозили:
– из одной Венесуэлы 1,5 миллиона шкурок белых цапель. Дамы дорого платят за перья к шляпам, и птиц стали избивать ради пучка перьев на спине. Даже необъятные тропические леса не сумели защитить несчастных цапель от алчности бизнеса. Их почти всех здесь перебили;
– с островов Карибского моря в один только Лондон – 400 тысяч шкурок колибри. Природа наделила малюток чудесным оперением, и это стало их проклятием;
– с острова Лисянского (Гавайские острова)-300 тысяч ценных птичьих шкур;
– с острова Лусон (Филиппины) – 200 тысяч альбатросов;
– с островов Полинезии – перья 50 тысяч райских птиц;
– из Австралии – 500 тысяч шкурок «сумчатого медведя»;
– из Африки – бивни 50 тысяч слонов.
А вот имена прославленных «ударников» колониальных промыслов и их чудовищные рекорды.
Абрахам Кин истребил у берегов Северной Африки миллион
тюленей;
Вильям Коди, по прозвищу Буйвол-Билл, убивал в год по четыре тысячи бизонов;
Карамаджо Белл застрелил в Африке больше 2 тысяч слонов;
Жак Картье оглушил дубинкой тысячу бескрылых гагарок в один день.
Спасите «старика из Киву»!
В конце прошлого века путешественник Спик привез из Африки известие о страшном лохматом чудовище, которое живет в горных лесах Руанды. Местные негры называли его «нгила» и говорили, что видом своим это животное похоже на человека, но у него такие длинные руки, что оно легко может схватить слона поперек живота.
Можно ли в это поверить?
Однако в 1901 году зоолог Мачи с удивлением рассматривал исполинскую шкуру обезьяны, которую ему привезли с берегов озера Киву. Это была «нгила», горная горилла.
Обычные, или береговые, гориллы, хорошо известные европейцам с середины прошлого века, водятся в Габоне и Камеруне. Никто и не подозревал, что в Центральной Африке тоже живут гориллы, и более крупные. Рост горной гориллы – около двух метров, а размах рук старого самца около трех метров!
Этого достаточно, чтобы схватить небольшого слона поперек туловища.
Туристы, охотники, ловцы зверей, которые наводнили Центральную Африку после первой мировой войны, мечтали добыть не только рога антилоп, но и скальп «старика из Киву». Горная горилла, предостерегал Карл Экли, стала, как слоны и львы, «модной» дичью, «ее вымирание обеспечено в течение нескольких лет». Но лев и слон опасные противники, говорит он, а гориллы нет, и поэтому охотиться на них предпочитают «спортсмены» вроде шведского наследника, устроившего избиение горилл на горе Микено.
Мало кто изучал горилл на свободе, даже мертвые они редко попадали в руки ученых {28}. Между тем число их быстро сокращается. Правда, теперь появилась надежда, что учрежденные на склонах гор Микено и Карисимбо заповедники спасут жизнь четвероруких гигантов.
Львы тоже вымирают
Старые писатели рассказывали о гориллах: они так свирепы и сильны, что, вооружившись дубинками, убивают слонов и выгоняют львов из их логовищ. Все это, конечно, сказки. И львам и слонам, как и гориллам, опасны только люди, вооруженные автоматическими винтовками. Это они выгоняют зверей из логовищ, оттесняя их все дальше в глубь нетронутых пока дебрей.
Ведь было время, когда львы обитали не только по всей Африке, но и на Аравийском полуострове, в Персии, северо-западной Индии и даже в Турции, Греции, на Кавказе и в низовьях Дона!
Рисунки и кости пещерных львов ученые нашли в гротах Испании, Франции, Англии, Бельгии, Германии, Австрии, Италии, Алжира и Сирии. В нашей стране тоже во многих местах обнаружены следы былого обитания европейского льва: под Одессой, Тирасполем, Киевом и даже на Урале и в Пермской области. Подумать только, несколько тысяч лет назад и в наших лесах водились львы! Тогда климат в Европе был мягче.
Потом с севера подули морозные ветры, поползли ледники (в который уже раз!). Теплолюбивые животные покинули неприветливый край. Но львы задержались. Они охотились в Европе до последнего оледенения, а в Греции, Турции и у нас в Закавказье дожили до античного времени (говорят, что на
Восточном Кавказе львы встречались еще в X и даже XII веках!). Гераклу, чтобы убить немейского льва, не пришлось путешествовать в Африку. Две с половиной тысячи лет спустя знаменитый охотник Тартарен из Тараскона, мечтая повторить его подвиг, даже в Северной Африке не нашел уже ни одного льва.
Но славный киевский князь Владимир Мономах успел сразиться со львом. Он встретил его где-то, по-видимому, в низовьях Дона. «Лютый зверь скочил ко мне на бедры и конь со мною поверже»,- писал Мономах в «Поучении своим детям». Этот «лютый зверь», считает зоолог Н. В. Шарлемань, и есть лев. «Лютом» наши предки называли льва – так сказано в «Лексиконе словеноросском». Кроме того, реставрированная фреска в Софийском соборе в Киеве, иллюстрирующая драматическую сцену, описанную Мономахом, наглядно доказывает, что «лютый зверь» – бесспорно лев и никто другой. На некоторых эмблемах древнего Новгорода тоже был изображен лютый зверь. Он сильно стилизован, но из всех зоологических фигур больше всего напоминает льва.
Античные писатели много рассказывали о могучем черногривом льве, который жил на севере Африки и получил название варварийского. Римляне тысячами привозили этих львов для своих цирков. Теперь львы уже не водятся к северу от Сахары. Последнего варварийского льва убили в Алжире в 1893 году.
Южноафриканский лев ненамного пережил северного собрата: последний капский лев умер в 1942 году. Теперь зоопарки Южной Африки покупают львов в Европе и Америке. Но в Восточной и Центральной Африке, особенно в заповедниках, львов еще много.
По-видимому, в 1923 году исчезли последние персидские львы.
Индийский лев – одно из редчайших животных наших дней. Около двух сотен индийских львов живет сейчас под охраной государства в заповеднике на небольшом полуострове Катхиавар, к северо-западу от Бомбея. Однако, несмотря на охрану, животные вымирают.
В лесах Цейлона обитает сейчас, по приблизительным подсчетам, около тысячи диких слонов. Ежегодно охотники убивают сто слонов, а вновь рождается лишь пятьдесят. Если так будет продолжаться, то в ближайшие двадцать лет на Цейлоне не останется ни одного слона.
Едва ли доживут также до конца нашего столетия олень замбар (сейчас – около трехсот голов), белая антилопа Аравии (сто или даже сорок голов), горная зебра (в 1937 г. – сто, в 1953 г.- только тридцать), дикий осел онагр, почти полностью истребленный, олень Давида (небольшие его стада уцелели лишь в парке летнего дворца в Пекине и некоторых зоопарках Европы {29}.
Под угрозой полного уничтожения также и драгоценные шиншиллы, дикая собака динго, индийский гепард, гривистый волк, северный и обыкновенный киты, гуанако, антилопа вилорог, северотихоокеанский морской слон и лошадь Пржевальского.
Все они – кандидаты в ископаемые завтрашнего дня.
Последняя дикая лошадь!
Когда в 1812 году победоносные русские войска, разгромив Наполеона, вступили в Париж, то событие это, решительно изменившее судьбы Европы, оставило некоторый след и в истории зоологии. В том году английский полковник Гамильтон Смит познакомился в Париже с союзниками своими, казачьими офицерами, и они рассказали ему, что в Монголии, близко от границ России, живут в пустынях дикие лошади.
– Нет, не одичавшие, сэр. А натуральные дикие лошади!
Рассказ этот поразил Смита. Дело в том, что в науке в то время прочно пустила корни весьма пессимистическая, но, слава богу, ложная теория, будто диких предков лошадей не осталось уже на планете. Они все давно вымерли.
Смит, когда вернулся в Англию, опубликовал все, что услышал от казаков. Дикие лошади, или по-татарски тарпаны {30}, писал он, держатся большими табунами. В табуне много разных косяков. Каждый косяк водит и стережет старый жеребец. Самые чистокровные тарпаны живут ближе к границам Китая. Они предпочитают простор степей и пасутся, выстроившись гуськом головой против ветра. Жеребец-предводитель ревниво опекает свой косяк, бегает вокруг: высматривает врагов и гонит прочь молодых жеребцов. Те держатся в стороне, пока не повзрослеют и не обзаведутся собственным стадом.
Итак, Смит со слов своих русских корреспондентов, составил довольно точное описание диких лошадей. Но натуралисты,
кажется, не придали серьезного значения его словам. Все настоящие дикие лошади давно вымерли – таков был вынесенный ими приговор. Более полувека оставался он в силе. До 1877 года.
В том году Николай Михайлович Пржевальский вернулся из Джунгарии и привез шкуру дикой лошади.
Он и раньше, во время первого своего путешествия в Монголию, в 1870-1873 годах, много слышал о диких лошадях, «которых монголы называют «дзерлик-аду» (дикий табун)… По словам рассказчиков, эти лошади… чрезвычайно осторожны, так что, будучи испуганы человеком, бегут без оглядки несколько дней и возвращаются на прежнее место лишь через год или два».
Немного позднее Пржевальский в новых путешествиях в Центральную Азию прошел через пустыни Джунгарии, и там он увидел своими глазами неуловимых дзерлик-аду.
«Мне лично,- пишет он,- удалось встретить только два стада диких лошадей. К одному из них можно было подкрасться на меткий выстрел, но звери почуяли по ветру, по крайней мере, за версту моего товарища и пустились на уход. Жеребец бежал впереди, оттопырив хвост и выгнув шею, вообще с посадкою совершенно лошадиного; за ним следовали семь, вероятно, самок. По временам звери останавливались, толпились, смотрели в мою сторону и иногда лягались друг с другом; затем опять бежали рысью и наконец скрылись в пустыне».
Пржевальскому так и не удалось приблизиться «на меткий выстрел» ни к одной дикой лошади, но череп ее и шкуру он все-таки добыл. Их подарил ему А. К. Тиханов, начальник Зайсанского поста (близкого к русско-китайской границе поселка, в котором Пржевальский закончил свое второе центральноазиатское путешествие). А к Тиханову шкура попала от киргизов-охотников, промышлявших в центральной Джунгарии.
«Хотя Пржевальский и был кавалерийским полковником,- пишет бельгийский зоолог Бернар Эйвельманс,- он принял открытую им лошадь за осла. Полякову, который в 1881 году описал ее, потребовалось все его терпение, чтобы доказать Пржевальскому, что это настоящая лошадь, а не осел». Почти слово в слово он повторяет здесь неудачную шутку одного американского писателя-натуралиста. В этой шутке только то правда, что И. С. Поляков действительно в 1881 году описал,
дав ей латинское название, лошадь Пржевальского. Сам же Пржевальский сообщал именно о диких лошадях, а не ослах.
В 1888 году Николай Михайлович Пржевальский отправился в новую экспедицию в Центральную Азию. Но случилось несчастье: недалеко от Иссык-Куля в поселке Каракол он заболел брюшным тифом и умер. Мир потерял одного из своих величайших путешественников и открывателей. Но ученики и последователи Пржевальского продолжали дело, начатое им. Русские исследователи Козлов, Певцов, Роборовский, Клеменц, братья Грумм-Гржимайло проникли в самый центр азиатского материка по путям, разведанным Пржевальским. Они привезли еще несколько шкур и черепов диких лошадей и интересные рассказы об их повадках и образе жизни.
Дикие лошади, пишет М.В. Певцов, «живут преимущественно в больших песках… покрытых… высоким саксаулом». Встречаются здесь и «плоские впадины, поросшие редким приземистым камышом и немногими солянками, которыми и питаются живущие в тех песках дикие лошади, верблюды, куланы и антилопы». Водоносные слои залегают там неглубоко, и поэтому копытные легко добывают воду: «Они выбивают ногами в наиболее углубленных местах впадин довольно большие ямы, наполняющиеся солоноватой водой, и приходят к ним на водопой. Из песков животные выходят нередко на север, в щебне-древесную пустыню, покрытую местами тощим кипцом, и там пасутся долгое время, если в этой безводной пустыне лежит кое-где снег».
Забегают они из песков и на юг, «в обширный лиственный лес». Пищи и воды в нем вдоволь, но чересчур много комаров и гнуса. Поэтому летом дикие лошади стараются пореже наведываться в леса.
Днем они обычно держатся в глухих пустынных местах, а ночью, чутко принюхиваясь и тревожно всхрапывая, выходят на пастбища и водопои. Ходят они гуськом друг за другом по протоптанным ими же тропинкам.
Кочуют обычно небольшими стадами по пять – двадцать лошадей. Водит косяк всегда старый жеребец. Он очень смел и дик, но предан своему косяку.
«Не успел я отползти шестидесяти шагов,- вспоминает Грумм-Гржимайло о своей встрече с табуном диких лошадей,- как с фырканьем и храпом вылетел из кустов жеребец. Казалось, это сказочная лошадь – так хорош был дикарь! Описав
крутую дугу около меня, он поднялся на дыбы, как бы желая своим свирепым видом и храпом испугать меня. Клубы пара вышли из его ноздрей… Он снова пронесся карьером мимо меня и остановился с подветренной стороны. Тут, поднявшись на дыбы, он с силой втянул воздух и, фыркнув, как-то визгливо заржал. Табун, стоявший цугом, мордами к нам, как по команде, повернулся кругом (причем лошадь, бывшая в голове, снова перебежала вперед) и рысью помчался от озера. Жеребец, дав отбежать табуну шагов на двести, последовал за ним, то и дело описывая направо и налево дуги, становясь на дыбы и фыркая».
Заметив, что погоня приближается, жеребец бросается к табуну, «ржет, понукает отстающих, подталкивает мордой слабеющих жеребят и прикрывает тыл табуна».
Грумм-Гржимайло рассказывает: «Он понукал маленького жеребенка, который не мог поспеть за всеми на своих слабых ножках. Сперва, когда жеребенок начал отставать, кобыла старалась его подбодрить тихим ржанием, но, видя, что ничто не помогает, она отделилась от табуна, не желая, по-видимому, бросить свое детище. Однако же жеребец не допустил подобного беспорядка: сильно лягнув кобылу два раза, он заставил ее догнать табун, а сам принял попечение о жеребенке. Он то подталкивал его мордой, то тащил, ухвативши за холку, то старался подбодрить, налетая и брыкаясь в воздухе».
Но преследователи все ближе, настигают маленькую уставшую лошадку и ее отважного защитника. «На жеребца нападает раздумье»: то полный ярости он скачет к охотникам, то возвращается к отставшим от табуна лошадям. Дальше, о последних актах драмы, расскажет Клеменц, который тоже принимал участие в охоте на диких лошадей и оставил едва ли не самые яркие воспоминания об этой погоне.
«Когда же страшные звери-кони, с сидящими на них двуногими, наседают на табун, жеребец бросается на преследователей и первым попадает под пулю. Табун без вожака теряется, мечется, крутится из стороны в сторону. Охотники стреляют и ловят петлями жеребят».
…Вот жеребята, которых не перестреляли на шашлыки, пойманы, лежат на песке со связанными ногами. Теперь нужно довести их до верблюдов, а «те отстают верст за сотню от преследователей; потом надобно добраться до того места, где оставлена в запасе дойная матка. Этим дело еще не кончается. Немало хлопот приучить жеребенка к матке. Матка должна быть.
непременно мастью похожа на дикую лошадь: к гнедой, вороной или серой дикарь не подойдет. Немало хлопот с дикарями и при переправах через ручьи и реки – они боятся воды».
Так что ловля диких лошадей – нелегкое, как видно, дело. А сохранить едва живых от страха загнанных в дикой скачке пленников и довести их целыми и невредимыми до места – дело еще более трудное. На Всероссийской нижегородской выставке 1896 года устроители ее хотели показать шесть диких лошадей из Джунгарии. Специально посланные за ними в пустыни Центральной Азии отряды после изнурительных трудов и лишений их поймали, но сохранить живыми не смогли. Все лошади пали в пути. Только шкуры и кости попали на выставку, а оттуда в музей.
Так пишет князь Урусов в известной двухтомной монографии о лошадях. Но наши знатоки диких лошадей профессор А.Г. Банников, Н.В. Лобанов и В.Д. Треус в интересной статье «Лошадь Пржевальского и ее восстановление в СССР» говорят, что впервые диких жеребят поймали в Западной Гоби охотники купца Асанова – Власов и Захаров весной 1898 года. Охотились они для уже знакомого нам Фридриха Фальц-Фейна (см.главу о тарпанах).
Итак, жеребят поймали, но «по недосмотру» напоили их не кобыльим, а овечьим молоком, и все четыре жеребенка пали.
Весной следующего года охотники купца Асанова добыли еще семь диких жеребят: шесть кобылок и одного жеребчика. Пятерых кобылок отправили в Бийск, а оттуда – в Асканию-Нова (по дороге одна маленькая лошадка умерла). Это и были первые лошади Пржевальского, доставленные в Европу.
В 1900 году Асанов снова привез в Бийск двух молодых диких лошадей, которых отправили в Царское Село. Кобылка там вскоре погибла, а жеребца Ваську через четыре года отправили в Асканию-Нова, «где к тому времени были одни только кобылы».
В самом начале нашего века все тот же Асанов, который стал по-видимому, монополистом этого дела, доставил еще несколько диких лошадей в Московский зоопарк и в Асканию-Нова.
А в 1901 году герцог Бедфорд уговорил Карла Гагенбека {31}, известного ловца диких зверей, поймать джунгарских тарпанов для знаменитого, основанного Бедфордом парка Веберн-Аббей, в котором жили уже многие редкостные животные (главным образом олени и зубры), но не было еще диких лошадей. Гаген
бек после некоторых раздумий согласился, и снаряженная им вскоре экспедиция вошла в историю как одна из самых скандальных охотничьих эпопей.
«Мы,- рассказывает Гагенбек,- тогда еще очень мало что знали про дикую лошадь и решительно ничего – о месте ее нахождения, ее привычках и способе ловли». Жила эта сказочная лошадь где-то, можно сказать, на краю света, во всяком случае, очень далеко от Германии, в безлюдных и бесплодных песках. Нелегкое дело поручил Гагенбек одному из лучших, как он говорит, своих сотрудников – Вельгельму Григеру.
«Сначала Григер,- продолжает Гагенбек,- отправился в Асканию-Нова к Фальц-Фейну в надежде получить от него сведения о том, где именно можно искать дикую лошадь.
С полным правом ревнивый к своим сокровищам любитель зверей в Крыму отказался дать нужные сведения, и только окольными путями удалось узнать, что дикая лошадь водится в окрестностях Кобдо, у северной подошвы Алтайских гор» {32}. Это был длинный путь!
И вот в один из дней января 1900 года два человека сошли с транссибирского поезда, когда остановился он на полустанке за Обью. Погрузив свой громоздкий багаж на сани, они направились на юг – к Бийску.
Кругом все было занесено снегом, бушевали ледяные ветры, сорокаградусный мороз обжигал, как огнем. Люди везли с собой на санях палатки, консервы, слитки серебра и пятьдесят тюков стерилизованного молока. Серебро предназначалось в дар загонщикам, которые должны были поймать диких жеребят, а молоко – для выкармливания пленников.
В Бийске пересели на верховых лошадей и верблюдов И уже по бездорожью, по глубокому снегу, «при страшном холоде» пробирались на юг еще около тысячи километров. И ранней монгольской весной, когда матки диких лошадей жеребятся, благополучно прибыли в Кобдо.
Григер не скупился на подарки и быстро приобрел расположение предводителей племен. В середине мая, когда нужно было начинать охоту, у его палатки толпились уже целые отряды предлагающих свои услуги наездников.
Прежде всего нужно было узнать, где, у каких водопоев держатся днем дикие кобылицы и много ли у них маленьких жеребят. Когда все это было разведано, «сама ловля уже не представляла особенных трудностей. Животные имеют обыкно-
вение проводить несколько часов у водопоя. Под прикрытием пробираются монголы со своими лошадьми, и по данному сигналу все с гиканьем и криком бросаются на мирно пасущееся стадо, которое испуганно уносится в степь. Виден только столб ныли. Но из этого столба постепенно вырисовываются перед глазами преследователей отдельные точки: это бедные жеребята, которые еще не могут скоро бежать и, обессиленные, остаются позади табуна. С раздувающимися от страха ноздрями и боками они наконец останавливаются, и их ловят петлей, прикрепленной на длинной жерди».
Дикого жеребенка подводят к домашней матке, но не раньше чем через три-четыре дня он привыкнет к ней и начнет сосать. А пока еще жеребята не привыкли, их поят стерилизованным молоком, привезенным в тюках из Европы.
Вскоре в лагере уже тридцать диких жеребят мирно сосали приемных матерей. Это было явное перевыполнение плана: Григер рассчитывал только на шесть! Как быть? Забирать ли весь улов с собой в Европу?
Чтобы узнать мнение Гагенбека, Григер решает послать телеграмму. И он отправляется в путь: две тысячи километров верхом, потом четыре дня на пароходе, двадцать восемь часов на ожидание ответа из Гамбурга на телеграфной станции. Наконец, после двадцатидневного отсутствия он вернулся в Кобдо {33}.
А здесь уже не тридцать, а пятьдесят два диких жеребенка ожидали решения своей судьбы. Григер забрал их всех с собой, и вскоре громадный караван потянулся к северу через степи и горы Монголии. Одиннадцать месяцев он был в пути. Из пятидесяти двух жеребят только двадцать восемь прибыли в Гамбург. Остальные погибли в дороге.
«Все это вранье!» – говорит профессор А. Г. Банников. Ни Григер и никто другой из агентов Гагенбека не был там, где живут дикие лошади, и не ловил их! Все это они сочинили. А потом немецкие зоологи с их слов писали о несуществующих местах обитания диких лошадей, о тысячных их стадах и пр. Григер купил жеребят в Бийске… у кого? Конечно, у Асанова. Пятнадцать жеребчиков и тринадцать кобылок: одна лошадь пала в дороге, двадцать семь привезли в Гамбург, двенадцать продали в Англию, других-во Францию, Голландию, США и в зоопарки Германии. Через год люди Гагенбека снова поехали к Асанову (на этот раз в Кобдо) и купили еще одиннадцать жеребят.
Ни Асанов, ни его охотники не знали, конечно, что спасли от вымирания род диких коней, что лошади, пойманные ими, будут, по существу, последними, которых людям удастся привезти в Европу из Монголии {34}. От них (но не от всех, а только от трех пар) произошли те джунгарские тарпаны, которые живут сейчас в зоопарках всего мира. На воле, в Центральной Азии, возможно, и не осталось уже диких лошадей.
Лет двадцать назад, говорит профессор А. Г. Банников в монографии о зверях Монголии, дикие лошади встречались только к северу от хребтов Байтаг-Богдо и Тахиин Шарануру. Зимой 1959-60 года там жило еще два небольших табуна – в обоих было около двадцати лошадей.
А теперь… а теперь нет у нас уверенности, что дикие лошади еще живут на воле, в Монголии. Если и осталось их там с десяток или два, они все обречены, пишет профессор Гептнер, «на скорую гибель».
В конце прошлого и в начале нашего века в Европу переселили пятьдесят две чистокровные лошади Пржевальского, из них первые одиннадцать – в Асканию-Нова. Но только три (две кобылы и жеребец Васька) дожили здесь до того возраста, когда у лошадей могут родиться жеребята. Больше диких лошадей в Асканию-Нова не привозили. Но от тех, что были здесь, наши зоотехники произвели 37 чистокровных потомков и больше тридцати гибридов.
Потом началась война. Немцы, оккупировав Украину, вывезли в Германию двух лошадей Пржевальского. Остальные погибли. К концу войны в стране у нас не осталось ни одной дикой лошади. Но после войны из Праги и из Германии доставили в Асканию-Нова двух чистокровных джунгарских жеребцов и одну кобылу (из Монголии – Орлицу-III). Бесплодием они не страдали, и к началу 1964 года в просторных загонах в украинской степи паслось уже семь диких лошадей.
В 1950 году два небольших стада диких коней (в каждом по дюжине голов) составляли главную достопримечательность зоопарков в Праге и Мюнхене. Две старые лошади жили также в Уипснейде {35}, в Англии, и один дряхлый жеребец – в парке Воберн-Аббей. Этот последний представитель знаменитого во-бернского табуна, родоначальников которого пятьдесят четыре года назад Григер сосунками привез из Бийска, умер от старости в 1955 году.
А двумя годами раньше Лондонское зоологическое общество, официальный шеф Уипснейдского парка, отчаявшись получить приплод от двух своих престарелых лошадей, решило купить молодых производителей у Пражского зоопарка. Купили жеребца и кобылу, и в следующие два года они принесли двух жеребят. В это же почти время и американцы отправились за океан на поиски диких лошадей. Они нашли их в Праге и Мюнхене. Так что в конце 1958 года во всем мире жило ужо в неволе 56 лошадей Пржевальского: в Праге -13 коней, в Кэтскилле (США) – 10, в Мюнхене – 6, в Уипснейде-6, в некоторых других зоопарках – по 1-3. В январе 1964 года в мире было уже 109, а в 1965 году – 125 лошадей, носящих имя нашего знаменитого соотечественника. Ряды их прибывают – радостно об этом слышать.
В СССР живет девять (а может быть, уже и больше) диких лошадей: восемь в Аскании-Нова и одна в зоопарке Москвы. Кажется, планируется поселение диких лошадей на уединенном острове в Аральском море, где уже отлично прижились куланы и сайгаки. Там будут они пастись на воле в таких же почти условиях, как и у себя на родине, в Монголии.
А в 1959 году Международный симпозиум, собравшийся в Праге, постановил создать интернациональное общество по сохранению лошади Пржевальского с теми же задачами, которые были положены в основу работы общества по спасению зубра {36}.
Пожелаем же больших удач и тому и другому благородному содружеству!
Теперь о носорогах
«В Индии водится дикий осел ростом больше лошади,- писал Ктезиас, древнегреческий историк и лейб-медик персидского царя Артаксеркса II.- Тело у него белое, голова темно-красная, а глаза голубые. На лбу растет рог в полтора фута длиной. Порошок, соскобленный с этого рога, применяют как лекарство против смертоносных ядов. Основание рога чисто белого цвета, острие его ярко-красное, а средняя часть черная».
Ктезиас писал об Индии, которую никогда не видел. Кроме того, по отзывам римских историков, он был «плохим лингвистом, плохим натуралистом и хорошим лгуном». Наверное, поэтому его «однорогий осел» ни на что не похож! Однако как ни фантастично описание Ктезиаса, оно основано все-таки на искаженном молвой образе действительного обитателя Индии. Это, конечно, носорог. Сходство его с «однорогим ослом» царского лейб-медика становится особенно ясным, когда Ктезиас рассказывает о чудодейственных свойствах его рога. Ведь с незапамятных времен рог носорога был на Востоке панацеей от многих бед.
Древнекитайская медицина ценила его на вес золота. В античном Риме бокалы, сделанные из рога этого животного и окрашенные в три упомянутые Ктезиасом цвета – белый, черный и красный, быстро и надежно нейтрализовали отравленные напитки: так верили те, кто из них пил. Богатые люди в Риме, которые, как повествуют историки, жили в постоянном ожидании подсыпанного в пищу яда, всюду носили с собой кубки из носороговых рогов.
Эта странная, ни на чем не основанная вера в магические свойства рога и погубила носорогов. Когда-то их было очень много во всех странах Южной Азии, а теперь осталось лишь несколько сот голов.
И несмотря на охрану, их продолжают уничтожать. Целые отряды хорошо снаряженных охотников прорываются через кордоны заповедников и убивают, убивают рогатых толстокожих, бьют, сколько могут. В 1958 году, например, большая банда браконьеров пришла в долину Рапти, последнее убежище непальских носорогов, и устроила здесь кровопролитную бойню: стреляли всякого носорога, которого только видели, и убили пятьсот животных.
Дело в том, что и в наши дни, которыми человечество открывает космическую эру, еще очень многие люди верят в чудодейственную силу {37} носорогова рога и платят за него громадные деньги. На Суматре, например, за большой рог можно купить первоклассный автомобиль – он стоит (простой рог!) тысячу фунтов стерлингов! Когда речь идет о таких деньгах, некоторые люди теряют голову и покой, пока не раздобудут их, эти деньги, гуляющие в джунглях. Поэтому никакая охрана не помогает.
Кроме рога и другие части тела носорога можно выгодно продать – каждая в суеверном кодексе сулит либо богатство, либо любовный успех, либо избавление от недугов и прочих бед. Даже моча носорога – весьма ходкий на Востоке товар: говорят, что и она избавляет от разных болезней. Поэтому в зоопарках Индии сторожа тщательно ее собирают и продают затем на рынке в Калькутте. Так, во всяком случае, уверяет Филипп Стрит, ссылаясь на авторитет Ли Тэлбота, который на правах сотрудника Международного союза охраны природы изучал условия, в которых находятся редкие животные Азии.
На земле уцелело еще (пока!) пять видов носорогов: два африканских – белый и черный и три азиатских – индийский, яванский и суматранский (или двурогий азиатский). Азиатские носороги отличаются от африканских тем, что у них только по одному рогу на носу, а у африканских – по два. Но у суматранского тоже два. Кроме того, кожа у азиатских носорогов в крупных складках, впечатление такое, будто животное одето в панцирную броню.
Еще несколько столетий назад индийские (или большие азиатские) носороги водились в Индии повсюду, а сейчас уцелели только в Ассаме, Бенгалии и Непале. В начале века в Ассаме (провинция Казиранга) их было только около дюжины, а в Бенгалии и того меньше.
В 1908 году в Казиранге учредили заповедник. Размеры его не велики: тридцать километров в длину и около тринадцати в ширину. Но успех дела превзошел всякие ожидания: число носорогов за двадцать лет увеличилось вдесятеро, а в сороковые годы здесь жило уже четыреста носорогов! Затем они стали гибнуть от каких-то заразных болезней, занесенных домашним скотом. Так что теперь в Казиранге около 260 носорогов, а во всей Индии их больше четырехсот.
Кроме Индии большой азиатский носорог сохранился лишь в Непале: одни специалисты утверждают, что там около тысячи этих животных, другие – только… пятьдесят. Но скорее всего, их триста, так полагают эксперты Международного союза охраны природы.
После того как стало ясно, что в Казиранге вымирание носорогам не грозит, их здесь стали ловить и отсылать в разные зоопарки мира. Первых – молодых самца и самочку- поймали в замаскированную яму в 1947 году. Один край ямы срыли – сделали покатый склон и по нему с помощью ручных слонов вытащили упиравшихся «единорогов». И так, на буксире, их транспортировали в небольшой загон. Самка вскоре умерла, а самец, его назвали Моханом, быстро привык к людям, стал совсем ручным. Потом его отправили в Уипснейд, в Англию. Пять лет он, бедняга, прожил здесь в одиночестве. Потом только привезли ему юную подругу, Мохини. Боялись ее сразу пускать к нему, бывает, что носороги нападают на своих собратьев-новичков, которые появляются в обжитых ими местах. Но Мохан очень дружелюбно встретил Мохини, и вскоре они стали большими друзьями.
Другие зоопарки мира тоже получили молодых носорогов из Казиранги. Они начали размножаться в неволе: первого родила толстокожая парочка в Базеле. Потом в Уипснейде, затем в других зоопарках. До этого времени, по существу, ничего не знали о размножении носорогов, теперь ясно стало: браки они заключают ранней весной и после этого еще восемнадцать месяцев самки носят детенышей в своем чреве.
Яванский носорог внешне похож на индийского, только поменьше его. Есть, правда, некоторые различия в форме передних складок кожи. Его называют яванским, потому что сейчас он живет только на Яве. А когда-то, сотни лет назад, обитал на терриории очень обширной: от северной Индии и южного Китая до Суматры и Явы.
В начале тридцатых годов на маленьком полуострове, которым кончается западная окраина Явы, единственном месте, где уцелели теперь носороги, был учрежден заповедник, в котором кроме носорогов особенно охраняли еще и тигров. Как утверждают, сейчас здесь яванских носорогов либо две дюжины, либо сорок голов. Численность их близка к критическому уровню: слишком мала вероятность их встреч в пору размножения, и поэтому ученые опасаются, что, возможно, животным не удастся пополнить естественную убыль новорожденными и поголовье их стада будет не возрастать, а уменьшаться.
Третий азиатский вид, суматранский двурогий носорог,- самый маленький из всех носорогов: не выше четырех футов, то есть одного метра и двадцати сантиметров. Он тоже обитает не на одном лишь острове, именем которого его назвали. Раньше жил двурогий носорог и в Индии, и в Китае, а сейчас кроме Суматры – в Бирме, Таиланде, Камбодже, Лаосе, Вьетнаме, Малайе и Борнео. Но всюду – только в очень небольшом числе (в Бирме, например, как полагают, в 1959 году было только сорок носорогов этого вида).
В Африке дела с носорогами обстоят несколько лучше. Во всяком случае, с черным носорогом, который здесь еще довольно обычный зверь (во всей Африке их 12-13 тысяч), и на него до недавнего времени разрешали даже охоту.
Белого носорога называют так не потому, что он белый. У него шкура грязно-серая, как и у черного носорога. Одни знатоки утверждают: имя «белый» носит он по той причине, что любит валяться в грязи и когда уходит после «ванны» и грязь на нем подсыхает, то выглядит издали светло-серым, почти белым. Черный же носорог будто бы живет в более лесных районах, и либо цвет грязи там другой, либо он меньше валяется… одним словом, черный носорог не так часто подкрашивается.
Другие говорят – грязь здесь ни при чем: слово «белый» появилось в зоологической литературе о носорогах из-за созвучия английских слов «уайт» (белый) и «вайд» (широкий). Буры, голландские поселенцы, называли белого носорога wijd, что значит широкий: у него верхняя губа очень широкая, оттого и ноздри расставлены значительно шире, чем у черного носорога. Голландское wijd превратилось в английское wide, а затем в white.
В 1900 году зоологи с большим смущением узнали, что белые носороги водятся не только (как думали) в Южной Африке, к югу от Замбези, а и в трех тысячах километров к северу – в болотах верхнего Нила, в Судане. Здесь открыл их капитан Гиббонс. Он привез череп белого носорога из окрестностей Ладо. Второй череп добыл майор Пауэлл-Коттон, в честь которого зоолог Лидеккер и назвал суданский подвид белого носорога.
Белый носорог – второй по величине (после слона) сухопутный зверь: его рост – метр восемьдесят (но бывают и больше!). Один лишь рог у него длиной с невысокого человека!
Но зверь этот очень редкий. Еще в 1920 году на земле жило всего лишь три тысячи белых носорогов: двадцать шесть в Южной Африке, остальные в Судане. Через шесть лет в южном стаде уцелело будто бы только 12-16 животных (так пишет Инго Крумбигель, известный знаток зверей). Сколько их сейчас?
Red Data Book утверждает, что почти 4 тысячи: в Южной Африке – 925, в Конго – 900, в Уганде – 100 и в Судане – 2 тысячи. Если это так, то второй тяжеловес сухопутного мира, пожалуй, спасен. Но надолго ли?
Ванна из золота или шуба?
Нелегкий этот вопрос задавали себе немногие, но зато очень богатые женщины. И шуба из шиншиллы, и ванна из чистого золота стоят одинаково дорого. Многие миллионерши купаются в золоте, но шиншилловые шубки услаждают тщеславие лишь трех из них. Так, во всяком случае, пишут в газетах (например, в «Комсомольской правде» от 16 марта 1965 года).
Шиншилла – маленький серенький грызун – на весь мир прославился мехом, которым природа наделила его. Мех у шиншиллы дороже и ценнее, чем у бобра, норки, выдры, дороже, чем даже у соболя! Этот изумительный мех очень прочный, ноский, мягкий. (Каждый волосок расщеплен на пятьдесят пушинок,- утверждает Филипп Стрит,- и легкий: чуть тяжелее толстого шелка). Цветом – серебристо-серый: светлое маренго. Очень элегантные получаются из шиншиллы шубки, и на каждую требуется приблизительно триста шкурок.
До того как люди распознали превосходные качества их меха, шиншиллы процветали. Их было много в Андах Южной Америки (на высоте от полутора до пяти тысяч метров). Это высокогорные зверьки. Скудная растительность вполне удовлетворяла скромные аппетиты драгоценных грызунов.
Правда, чтобы наполнить желудки сухими грубыми травами, шиншиллы должны постоянно заботиться о том, чтобы их зубы всегда были хорошо отточены {38}. И они их постоянно точат, подгрызая камни из вулканической пемзы, которых много в горах.
Говорят, будто мех у шиншиллы настолько густой и плотный, что в нем не могут жить никакие паразиты. Тем не менее зверьки каждый день купаются в вулканическом пепле, чтобы содержать в чистоте свои шубки.
Горные индейцы племени чинчас тысячу лет назад первыми испытали редкие качества меха шиншилл. А когда несколько сот лет спустя их покорили инки, имя порабощенного народа унаследовали открытые им зверьки. С течением веков, кочуя из одного языка в другой, «чинчас» превратилось в «шиншилла».
Инкам тоже полюбился мех шиншилл, он согревал их в зимнюю стужу и украшал мантии высших жрецов и царедворцев.
А потом пришли другие завоеватели – испанцы, разгромив с нечеловеческой жестокостью государство инков, стали грабить его без всякого стеснения. Отправляли в Европу караваны судов, груженных золотом, драгоценными камнями и… шиншилловыми шкурками. И в Европе шиншилл быстро оценили: спрос на серебристый мех был велик. Королям пришлось издать указы, запрещавшие людям простого звания носить шиншиллу. Шкурки грызунов, в которые индейцы чинчас одевались с ног до головы, стали отныне прерогативой монархов.
В Андах на шиншилл охотились без всякой пощады, но их было так много, что лишь в начале нашего века маленькие серебристые зверьки стали там редкостью. Еще в 1894 году лишь из Чили вывезли 400 тысяч шкурок шиншилл и столько же примерно из Боливии и Перу. Когда в этих странах поняли, что еще немного, и шиншиллы безвозвратно погибнут, то сейчас же запретили на них всякую охоту и экспорт их шкурок был объявлен незаконным.
Американец Мэтьюз Чэпмэн, когда работал в Андах, видел диких шиншилл. Он коротал время, изучая их повадки. И ему пришла идея: а нельзя ли зверюшек разводить на фермах, как норок и лисиц?
Чэпмэн уговорил правительство Чили, и ему разрешили в 1923 году увезти в США несколько пар живых шиншилл. Они хорошо перенесли дорогу и вообще оказались очень непритязательными и выносливыми зверьками (Чэпмэн это понял, наблюдая за ними в Андах). На фермах шиншиллы отлично прижились и быстро стали плодиться. Чуть позже канадцы, а потом и англичане стали разводить у себя шиншилл.
Другие страны тоже заинтересовались этим прибыльным делом. После второй мировой войны на фермах Америки и Европы, говорит Филипп Стрит, жили уже миллионы (?) шиншилл {39} – потомки нескольких зверьков, пойманных в Чили Чэпмэном.
Шиншиллы – никто этого не ожидал – экономически и практически оказались более пригодными для клеточного разведения, чем многие другие ценные пушные звери. Они очень нетребовательны к пище (только слишком свежая зелень может погубить их) и совсем не прожорливы: в год содержание одной шиншиллы обходится всего лишь в один фунт стерлингов (около двух с половиной рублей!). Выносливы. «До сих пор,- пишет Стрит,- никто, по существу, не обнаружил ни одной болезни, к которой бы они были восприимчивы». И плодовиты: самки приносят детенышей два-три раза в год, в каждом помете в среднем по два детеныша.
Беременность, правда, очень длительная (для такого маленького зверька): 110 дней. Но зато самки, разрешившись от бремени, тут же (через двенадцать часов) снова готовы стать матерями. Да и детеныши родятся на свет вполне способными принять все его тяготы на свои плечи. В попечении родителей они почти не нуждаются.
Чтобы шиншиллы хорошо росли в неволе, им нужен свежий песок для купания: каждый день перед едой шиншиллы принимают песочные ванны. Нужны и мягкие камни для точки зубов. Достать все это, конечно, нетрудно.
Наши ученые тоже решили развести в СССР драгоценных зверьков. В октябре 1963 года американских шиншилл привезли в Узбекистан. Чувствуют они себя здесь хорошо и уже обзавелись детенышами. Пожелаем им удачи!
Бессмысленные поиски увенчались успехом
Первые исследователи Новой Зеландии из рассказов маори заключили, что на островах кроме моа водились еще какие-то замечательные птицы. Маори охотились на них. Птицы были ростом с гуся, с развитыми крыльями, но летать не умели. Одно воспоминание о чудесном оперении этих птиц приводило в восторг старых охотников на мого – так называли диковинную птицу на Северном острове. Другое ее имя – такахе – было в обиходе у жителей Южного острова.
Ученые сначала с интересом собирали все сведения о странной птице. Но проходили годы, и никаких следов ее обитания, даже в далеком прошлом, не нашли. От моа остались хотя бы кости и перья. А о существовании такахе – никаких вещественных доказательств… Решили было, что мого-такахе – мифическое существо из маорийских сказаний.
Но вот в 1847 году Уолтер Мэнтелл, неутомимый собиратель редкостных животных Новой Зеландии, случайно приобрел в одной деревне на Северном острове череп, грудную кость и другие части скелета неизвестной крупной птицы. Он тщательно запаковал свою находку и послал в Лондон отцу, известному в то время геологу. Мэнтелл старший обратился за консультацией к палеонтологу Оуэну. Профессор Оуэн определил, что кости принадлежат большой крылатой, но нелетающеп птице. Он назвал ее в честь Мэнтелла – Notornis mantelli, то есть замечательная птица Мэнтелла.
Маори оказались правы: такахе – не миф, а живое существо во плоти и перьях. Такахе принадлежит к пастушковым птицам. Некоторые из них водятся и у нас: это болотные курочки, пастушки, коростели и лысухи – все хорошо известны охотникам. Самая крупная из наших пастушковых птиц- султанская курица – обитает в камышовых зарослях по западному и южному побережью Каспийского моря. Она очень похожа на такахе, хотя мельче ее и менее ярко окрашена. В Новой Зеландии, где султанская курица (по-местному – пуэкко) тоже водится, ее, случалось, путали с такахе {40}.
Через два года после находки Мэнтелла последовал еще более неожиданный сюрприз. Группа охотников на тюленей расположилась на одном из небольших островков у юго-западного побережья Новой Зеландии. Ночью пошел снег. Наутро, когда люди вышли из палаток, они с удивлением увидели на снегу следы крупной птицы. О таких птицах здесь ничего не слышали!
Охотники, забыв о деле, ради которого сюда приехали, пошли с собаками по следу таинственного пернатого.
Пройдя порядочное расстояние, люди увидели впереди большую птицу. Собаки бросились в погоню за ней. Но странное дело: вместо того чтобы полететь, птица с необычной быстротой пустилась бежать по снегу. Наконец собаки ее поймали. Птица пронзительно закричала. И когтями, и толстым клювом она отбивалась так успешно, что собаки не могли ее задушить. Люди спасли отчаянную птицу от разъяренных псов.
Охотники на тюленей не были натуралистами, но и они сразу поняли, что пойманная птица – большая редкость. Какое красивое у нее оперение! Голова и горло – сине-черные. Шея, грудь, бока – фиолетово-голубые, спина – оливково-зеленая, крылья и хвост – синие с металлическим отливом, а низ хвоста (подхвостье) – белоснежный. Толстый клюв и сильные ноги – ярко-красные.
Восхищенные блеском ее оперения, люди не решились убить столь чудесную птицу. Они отнесли ее на корабль. Там жила она несколько дней.
Но что же с ней дальше делать? Охотники не знали. С большим сожалением после четырех дней раздумья они убили прекрасную пленницу, изжарили и съели ее.
Но шкуру птицы все-таки сохранили! Благодаря счастливой случайности шкура попала тоже в руки Уолтера Мэнтелла. Он немедленно послал ее в Лондон.
Позднее с помощью собак было поймано еще несколько живых такахе. Из-за чучела одной из них произошел забавный «коммерческий конфликт» между Британским и Дрезденским музеями.
История эта такова. Один охотник на кроликов расположился лагерем в девяти милях к югу от большого озера Те-Анау (на Южном острове). В настоящее время берега этого озера – главная «резиденция» такахе. Однажды охотничий пес, гордый своей удачей, притащил в пасти еще трепещущую птицу. Хозяин был в восторге от «закуски», которую поймала умная собака. Он подвесил птицу к потолку палатки с намерением съесть ее на следующий день. К счастью, мимо проходил заведующий опытной станцией Коннор. Он «реквизировал» редкую птицу, в которой сразу признал драгоценную для науки такахе. Принес находку домой, снял с нее шкуру и тщательно отпрепарировал все кости скелета. Это был первый полный скелет такахе, посланный в Лондон.
Но в Лондоне он не достался англичанам. Редкостную находку предприимчивый Коннор решил продать с аукциона. Представитель Британского музея получил от своего начальства инструкцию не платить больше ста фунтов стерлингов. А представитель Дрезденского музея прибыл с разрешением заплатить столько, сколько потребуется, но приобрести драгоценный экспонат.
Начался торг. Цена быстро поднялась до ста фунтов, и…Британский музей вышел из игры. Посланец Дрезденского музея прибавил еще пять фунтов, получил покупку и с триумфом вернулся домой.
Здесь немецкие ученые подвергли скелет такахе тщательнейшему исследованию (не обошлось и без микроскопа) и нашли в нем некоторые отличия от самого первого экземпляра этой птицы, добытого Мэнтеллом тридцать два года назад. Значит, на Северном и Южном островах Новой Зеландии обитают два разных вида такахе {41}. Первый вид был описан еще Оуэном и получил название Notornis mantelli. Второй вид назвали Notornis hochstetteri в честь известного австрийского исследователя Австралии и Новой Зеландии профессора Хохштеттера.
За другой пойманный позднее экземпляр такахе коллекционеры заплатили еще дороже, чем на аукционе в Лондоне: двести пятьдесят фунтов стерлингов! Даже по теперешним временам это большая сумма. А шестьдесят лет назад целая семья могла безбедно просуществовать на эти деньги несколько лет.
Такахе, оцененная так дорого, была поймана в 1898 году, и с тех пор она как в воду канула. Проходили десятилетия, но ни одна живая такахе не попадалась больше в руки охотников. А охотились за дорогой птицей, надо полагать, очень активно. Правда, маори рассказывали, что такахе еще водятся в горах около озера Те-Анау, но им не верили. Решили, что птица, пойманная в 1898 году, была последним живым представителем своего вида, и такахе занесли в списки вымерших животных. Там она и пребывала пятьдесят лет.
Но вот в 1947 году Джиофри Орбелл, врач из небольшого новозеландского городка и натуралист-любитель, решил проверить, действительно ли легендарная птица окончательно вымерла. Это была бессмысленная, с точки зрения многих специалистов, попытка. С несколькими товарищами Орбелл проник в густые леса западного побережья Те-Анау, расположенные на высоте около тысячи метров над уровнем моря.
Во время этой экспедиции Орбелл открыл лишь неизвестное картографам озеро. Для начала неплохо! Но такахе он не нашел. Правда, исследователи слышали крики каких-то неведомых птиц и видели странные птичьи следы. Это вселило в них новые надежды.
На следующий год в ноябре Орбелл вернулся в леса Те-Анау, еще лучше оснащенный экспедиционным оборудованием – со всевозможными сетями, телеобъективами и даже с аппаратом для цветной киносъемки. Не забыл он и про кольца для мочения пойманных птиц. На этот раз его ждала удача. Сразу две живые такахе во всей красоте своего чудного оперения попались в сети! Их привязали к столбу, сфотографировали во всех позах, как голливудских кинозвезд, надели на лапы кольца и отпустили на волю.
Через год, во время третьей экспедиции, доктор Орбелл нашел даже гнезда такахе. Исследовав 30 гнезд, он пришел к выводу, что супружеская чета такахе воспитывает в год только но одному черному, как ночь, птенцу {42}.
Орбелл и его спутники подсчитали, что в двух смежных долинах живут 50-100 взрослых такахе. Конечно, где-нибудь по соседству есть и другие поселения этих птиц {43}.
Правительство Новой Зеландии немедленно объявило заповедником места обитания такахе. Орбелл исследовал пространство в 200 гектаров. Современный заповедник такахе у озера Те-Анау охватывает площадь в 160 тысяч гектаров. Этой «жилплощади» вполне достаточно для расселения всего будущего потомства сохранившихся здесь редкостных птиц.
Фотографии, цветные рисунки и подробные описания такахе в изобилии встречаются теперь в каждой книге о птицах Новой Зеландии. Ее красочные изображения мы видим даже на марках этой страны. Еще вчера «вымершая» птица стала сегодня символом надежд всех энтузиастов – искателей неведомых зверей и птиц.
Спасенные животные- рассказ о тех, кому повезло
Зубр в тура нравом не вышел
Экспедиции Беринга и других ученых, последовавших за ним, установили, что Америка отделена от Азии очень узкой полосой воды. Наибольшая ширина Берингова пролива всего 86 километров. В ясный день с мыса Дежнева можно увидеть берега Аляски. И пролив очень неглубок – самое большее 55 метров. Стоит уровню моря опуститься на тридцать метров, и полоса суши свяжет оба материка.
Геологи доказали, что еще совсем недавно, несколько десятков тысяч лет назад, в ледниковую эпоху, оба континента, Азия и Америка, соединены были широким «мостом»: почти вдвое более широким, чем Аляска. Сейчас этот «мост», необозримая равнина, простирающаяся с севера на юг на две тысячи километров, покоится под неглубокими водами Чукотского и Берингова морей.
А еще полсотни тысяч лет назад по этой равнине, обнаженной отступившим морем, кочевали бесчисленные стада диких животных и не менее дикие орды людей. Шло великое переселение с запада на восток: из Азии в Америку (некоторые, конечно, мигрировали и в обратную сторону). В Новый Свет, открытый ими до Колумба, по широкому «мосту» устремились мамонты, лоси, мускусные быки, медведи, горные козлы и бараны, лисицы и волки.
В ледниковую же эпоху и предки бизонов переселились с Чукотки в Северную Америку и сильно там расплодились. С тех пор эволюция двух близких видов диких быков пошла разными путями: эмигранты превратились в современных бизонов, а оставшиеся в Азии и Европе – в зубров.
Зубры жили в тех же лесах и степях, что и туры, бок о бок с ними. Ростом и силой они турам не уступали {44}. Уступали отвагой. Нрав у зубра не тот, что у тура. Если тур, как рассказывают, даже встретив человека, не уходил с дороги, то зубр в таких ситуациях всегда пассовал: увидев двуногого, спешил скрыться. А зубрицы часто бросали телят и убегали. Иногда, правда, и зубры угрожали людям: опустив голову, сопели, бросались даже вперед, «но затем ретировались». Кавказские зубры на людей нападали очень редко. Беловежские более агрессивны.
И между собой зубры дерутся не часто. Даже быки из-за коров. Обычно поединок начинается и кончается лишь демонстрацией силы. После первых затрещин, первых же ударов лбами слабый соперник предпочитает не доводить дело до крайности и дезертирует.
Тур ревел так грозно, что триста жеребцов его рева «испугалися и разбежалися». А какой у зубра рев? Никакого. Животное это совсем не громогласное. Взрослые зубры лишь отрывисто хрюкают, в гневе урчат, а в испуге фыркают. Ревут только раненые зубры и то редко.
Тур – зверь очень быстрый. А зубр? Вот тут он, пожалуй, туру не уступает. Говорят, что зубр легко перепрыгивает трехметровый ров и забор в два метра. По горам ходит по самым крутым, избегает только скал, и в движениях его нет ни вялости, ни грузности. Зоолог Д. Филатов видел зубра на Кавказе: он «переходил с места на место, рвал белокопытник, поворачивался, иногда поднимал голову и прислушивался. Все это в очень быстром темпе и очень легко. Ничего громоздкого, ленивого, напоминающего повадки домашнего скота». Подул ветерок в его сторону, и зубр, почуяв людей, большими прыжками скрылся в чаще, «даже не взглянув в нашу сторону», добавляет Филатов.
Держатся зубры небольшими стадами. И не стадами даже, а, скорее, группами: коровы, молодые бычки и телки по шести-восьми голов. А быки бродят отдельно и тоже обычно компаниями, но по три-четыре быка. Только в августе-сентябре, когда приходит пора отдать дань Гименею, быки возвращаются к покинутым коровам, каждый обычно к своему излюбленному стаду, и изгоняют из него, из этого стада, молодых двухлетних бычков, которые всю жизнь от рождения и до этого злосчастного дня провели в женском обществе.
Телята родятся весной и в начале лета, через час уже встают, покачиваясь, на тоненькие ножки. А еще через полчаса бегут, спотыкаясь, за мамкой.
Чем питались туры, мы можем только догадываться. Но что едят зубры, знаем точно: разные травы, ветки и листья деревьев, гложут и кору грабов, осин, пихт, елей, рябины, сосны, подбирают на земле желуди, дикие груши и яблоки и даже грибы (опята и лисички!).
На заре истории европейских наций зубры обитали повсюду на родине галлов, германцев, шведов, даков, или современных румын, и славян. Только в Греции, северной Испании и Англии зубров истребили уже в доисторическое время.
«Еще в XVI и XVII веках,- пишет зоолог С. В. Кириков, большой знаток этого вопроса,- зубры в нашей стране были распространены в лесостепи от Днестра до Дона. В середине XVI века,- продолжает он,- когда Подолия была малолюдной местностью, в ее степях паслись большие стада зубров. Случалось, что они мешали дозорной службе пограничных отрядов Барского старосты, так как затаптывали следы проскочивших через границу татарских конников».
На Волыни еще лет пятьсот назад зубры были так многочисленны, что, когда литовский князь Витовт в 1430 году созвал соседних князей в Луцк, он мог каждую неделю подавать на пирах, которые продолжались семь недель, по сто диких быков {45}!
«По пятисот яловиц,- пишет летописец.- по пятисот баранов, по пятисот вепров, по сту зубров, по сту лосей, а инших речей личбы нет».
В ту пору зубры жили в нашей стране и в лесах и в степи: на севере начиная примерно от Риги, всюду в Литве и почти всюду в Белоруссии. Южнее и восточнее: в области Курска и Воронежа (под Москвой и Рязанью в историческое время их, по-видимому, не было). По всему бассейну Дона и Днепра тоже водились зубры. На юге доходили они до берегов Азовского и Черного морей. «О пребывании зубра в Крыму,- говорит профессор В.Г. Гептнер,- данных нет». Не было зубров и в Поволжье (в историческое время). Но в каменном веке они обитали и за этой рекой: их кости нашли близ устья Камы и на Южном Урале.
В средние века кавказские зубры не были оторваны от зубров европейских: они, по-видимому, могли «навещать» друг друга, пробираясь через степи нижнего Дона и Предкавказья. Но уже к тому году, когда шведов разбили под Полтавой, они возможности такой лишились. Степных зубров, обитавших на Украине и Дону, к этому времени уже, кажется, всех перебили. И когда царь Петр приказал воронежскому вице-губернатору Колычеву поймать и прислать в Петербург пять-шесть зубров, тот отвечал царю, что зубров видели на Дону в последний раз в 1709 году.
Феодалы, как видно, объедались зубрами (помните: сто зубров в неделю на одном пиру!). Что касается самих зубров, то они пережить этого обжорства, конечно, не могли: всюду стремительно вымирали. Во Франции уже в VI веке не стало зубров. В Румынии последнего убили в 1762 г., в Германии (в Саксонии) – в 1793, а в Прибалтике (в б. Восточной Пруссии) – в 1755 году. Так что к началу нашего века зубры спаслись от людей только в лесах Беловежской пущи и Северного Кавказа (в верховьях Кубани, там, где раскинулся сейчас Кавказский заповедник). Но и сюда за ними скоро пришли.
Последние дни кавказских зубров
Рассказывают, что после польского восстания в середине прошлого века один кавказский офицер, который служил в русских войсках, зашел в Люблинский музей и увидел там чучело зубра. Он и удивился и обрадовался. «Это мой земляк!» – весело сверкая зубами, сказал он служителям музея.
Зоологи этим известием были удивлены и обрадованы не меньше офицера: ведь тогда думали, что лишь в Беловежской пуще сохранились зубры. Но оказывается, живут они еще и на Кавказе!
Действительно ли случилась такая история, или это только легенда – не так уж важно! Важно то, что в самом деле в шестидесятых годах прошлого века в горах Кавказа нашли живых зубров. Как только эта весть дошла до русской столицы, сейчас же под угрозой штрафа в пятьсот рублей была запрещена всякая охота на них. По тем временам деньги были очень большие, но на зубров все равно охотились. Только на территории императорской Кубанской Охоты диких быков неплохо берегли, чтобы царь мог их стрелять.
О том, что на Кавказе живут зубры в России (да и не только в России), знали давно. В богатой всевозможными сведениями о животных книге Н.В. Верещагина «Млекопитающие Кавказа» есть, например, следующее сообщение иранского летописца XIV века Рашид-ад-Дина. «Государь ислама,- пишет он,- Газан-хан зимой 1301 года пришел в долину Куры и Аракса. Поднялся в горы к Талышу и там приказал построить из жердей и хвороста две сходящиеся клином изгороди длиною в один день пути, так чтобы между концами изгородей в широкой части клина расстояние было около одного дня пути… и в тупике их сделать из дерева наподобие загона. После этого воины устроили облаву и гнали дичь, как-то: горных буйволов, джуров, диких коз и ослов, шакалов, лисиц, волков, медведей и других всевозможных диких и хищных зверей – внутрь изгороди до тех пор, пока они все не собрались в том загоне. Государь ислама с Булуган-хатун восседал на помосте, который построили посередине, и любовался на тех животных. Часть их перебили, а часть отпустили на волю».
Горные буйволы – это, бесспорно, зубры. Они в то время, как видно, водились и в Закавказье.
В «Полном собрании законов Российской империи» тоже есть запись, имеющая отношение к кавказским зубрам: «Именной приказ, данный из кабинета Ея Величества императрицы Анны Иоанновны Астраханскому оберкоменданту, о ловле и присылке ко Двору и в Измайловский зверинец ежегодно разных живых зверей… Еще известно нам, что в Кабарде есть дикие быки и кдосы, которые по-тамошнему называются домбаи, того ради имеете вы всячески стараться, не жалея на то употребить несколько из казны нашей денег, чтобы тамошние князья оного рода бычков и телок молодых по пять или десять велели ловить и присылали в Кизлярскую крепость, а там оных несколько времени прикармливать к хлебу, а когда привыкнут, то присылать в Астрахань водою, а из Астрахани отправлять их с прочими зверьми в Москву».
Значит, и в Кабарде водились зубры. Немало их было и в Чечне, и в Осетии. Но к середине прошлого века, как раз к тому времени, когда их вторично «открыли» на Кавказе, зубры сохранились, как уже упоминалось, только на самом западе северного склона Главного Кавказского хребта, в верховьях Кубани. Было их тут около двух тысяч. Но к концу столетия стало вчетверо меньше.
Перед Октябрьской революцией в горных пихтовых лесах в верховьях Белой и Большой Лабы жило еще, по-видимому, пятьсот зубров. После революции царские угодья никто, конечно, не стал охранять. Пастухи, дезертиры, солдаты принялись со спокойной совестью добивать редчайших животных. Для них это были только горные буйволы, домбаи, дикие быки. Никто этим людям не разъяснял, как для науки, для всего человечества дороги домбаи. Думали, что быков берегли только для царя, чтобы он, спасаясь от скуки, мог в них стрелять. А все связанное с ненавистным именем царя очень непопулярно было в народе. Рассказывают, что браконьеры часто, убив зубра, вырезали из шкуры лишь хребтину, которая особенно ценилась у шорников, шкуру же и всю тушу оставляли гнить в лесу. А тут еще какую-то коровью эпидемию занесли на Кавказ. Много от нее пало и домашнего скота и зубров тоже. Так что к 1920 году из пятисот домбаев уцелело только пятьдесят, дни которых тоже были сочтены. Не спас их и Государственный заповедник, учрежденный через четыре года на месте бывшей Кубанской Охоты. У молодой республики тогда было много более неотложных забот, и браконьеры этим пользовались.
В 1926 году на горе Алоусе пастухи-имеретины встретили трех зубров, вероятно последних, и убили их.
Насколько известно зоологам, больше этих животных никто здесь не видел. На том история чистокровных домбаев кончается. В 1940 году зубры снова появились на Кавказе. Но как и откуда, расскажу чуть позже.
История зубров беловежских
Беловежские зубры крупнее кавказских и окрашены светлее. Вид у них более дикий, «берендеистый», борода длинная, косматая и шерсть не курчавая: у кавказского – вся в завитках. Есть и другие отличия, тоже, правда, небольшие, однако достаточно существенные, поэтому зоологи и выделили того и другого зубра в разные подвиды, то есть географические расы.
Кавказские зубры жили в горных лесах, поднимались на хребты выше двух тысяч метров, паслись и на альпийских лугах и забирались иногда так высоко, что даже летом бродили среди не растаявших полностью снегов.
А зубры беловежские, спасаясь от людей, нашли последнее прибежище совсем в иных местах: в заболоченном равнинном лесу. В Беловежской пуще небольшие холмы, поросшие сосняком, разделены ольсами – сырыми низинами с зарослями ольхи, ясеня, дубов. Кочки, топи, бурелом – вот куда люди загнали последних зубров. Будь у них свобода выбора, вряд ли звери предпочли бы эти места. Ведь в прежние времена они любили светлые лиственные рощи с большими полянами, пойменные леса и даже степи.
10 октября 1802 года царь Александр I издал указ (на французском языке!), которым было положено начало охраны зубра в России {46}. «Ввиду особой редкости породы дичи, именуемой зубром,- говорилось в том указе,- запрещается рубить деревья в Беловежской пуще. II никому из смертных не разрешено отныне стрелять зубров и чинить им любой вред». На самого царя, его родственников и гостей такой запрет, разумеется, не распространялся. Беловежская пуща была объявлена царским заказником, охотничьим угодьем особого назначения. Не желая, чтобы убивали «редкую дичь», наш самодержец преследовал, значит, совсем не научные цели.
Но так или иначе, зубров теперь охраняли, и поголовье их стало заметно расти. За год, например с 1829 по 1830, родилось семьдесят зубров, и стало их тогда около тысячи.
В январе 1914 года в Беловежских лесах жило 727 зубров, а в августе того же года началась первая мировая война. Еще через год после кровопролитных жестоких боев русские войска отступили, и Беловежская пуща на три года перешла во владение к немцам. В боях за нее понесли большие потери не только люди, но и зубры: напуганные, рассеянные по окрестным лесам, они часто попадали в полковые котлы по ту и по эту сторону фронта.
Немецкие ученые, которые знали не хуже других, какую ценность представляют зубры, с немалым трудом выхлопотали у германского командования приказ: всех начальников на северо-западном фронте обязывал он защищать зубров. В Пущу направлен был небольшой отряд зоологов и лесников под командованием офицера в высоком ранге специально на помощь зубрам. Они начали с того, что застрелили двадцать старых быков, предводителей стад, так как ясно было, что эти монополисты, утратив способность производить на свет детей, тем не менее к своим гаремам молодых быков но подпускали. После того, утверждают немецкие источники, поголовье зубров в Беловежской пуще будто бы даже возросло: со 120 до 185. Но польские специалисты с этим не согласны: но их данным, число зубров в Пуще закономерно убывало во все годы немецкой оккупации. Если в 1916 году их было здесь еще около двухсот, то через год стало 120, а через два – всего… девять. До конца 1920 года дожила только одна корова. Она как-то ухитрялась еще два месяца не попадаться людям на глаза, но в феврале на следующий год ее выследил Бартоломеус Шпакович. Ирония ли судьбы или просто случайность: этот Шпакович был лесником в Пуще, когда она принадлежала России. Рука его не дрогнула, и совесть в нем не заговорила, когда герострат-самоучка всадил одну за другой несколько винтовочных пуль в испуганное животное, которое долг его прежней службы обязывал охранять.
Так погиб последний вольный беловежский зубр.
В разное время и в разные города и страны из Беловежской пущи вывозили зубров. Но годы войны многим из них принесли гибель. В Гатчинском парке под Петроградом бездумно ожидали решения своей судьбы тридцать шесть зубров. В 1917 году их всех перестреляли казаки, которые были приставлены охранять «царевых быков».
Та же участь постигла и крымских зубров, и тех, что жили в парке под Минском. Так что к середине двадцатых годов в стране у нас не осталось ни одного своего зубра! (А сейчас их вместе с гибридами больше четырехсот! Нашим зоологам, которые добились таких результатов, пришлось начинать работу на пустом месте.)
В Западной Европе в зоопарках и в частных владениях еще жили потомки беловежских зубров. Но немного их было. Одно из самых больших стад гуляло в Пшинском охотничьем парке князя Плесс, в Верхней Силезии: 74 зубра. Они вели свой род от одного быка и трех коров, подаренных этому князю Александром II. Но когда началась война, мародеры расстреляли этих зубров из пулемета. Побили почти всех. Удалось спасти только трех: из каждого извлекли по нескольку пулеметных пуль. Раненые зубры выжили и вскоре даже обзавелись потомством.
История зубров кроме всего прочего поучительна еще вот чем: войны грозят катастрофой даже диким животным! Люди в чаду братоубийственных схваток думали ли о каких-то там быках! А когда залпы отгремели, страсти утихли, головы остыли, тогда поняли, как бессмысленно, безжалостно и глупо перебили редких и красивых животных.
И тогда рупором уязвленной человеческой совести, заговорившей в защиту зубров, стал Ян Штолеман, польский натуралист. На Парижском конгрессе в 1923 году он предложил, пока еще не все потеряно, создать Международное общество сохранения зубра. Предложение его приняли, и такое общество было организовано.
Спасение зубра
Начали с того, что провели «инвентаризацию» своего хозяйства: 56 живых зубров в пятнадцати различных странах, 80 чучел в музеях и 120 черепов. Из живых зубров – больше половины быков, многие из которых давно уже потеряли всякий интерес к вопросам пола и размножения.
Первое время работа подвигалась медленно. Появилась еще какая-то болезнь в германском стаде. Так что, когда в 1932 году была опубликована первая «Племенная книга» зубров, в ней числилось только 30 чистокровных животных и шесть основных племенных центров: в Англии, Германии, Голландии, Швеции, Венгрии и Польше.
Тут на арене, где велась бескровная битва за спасение зубра, появляются братья Лутц и Хейнц Хек. Их энергичному вмешательству зубры обязаны своим возвращением почти с того света. Братья решили, что самым надежным и быстрым методом спасения зубра должно стать поглотительное скрещивание с американским бизоном. Во-первых, гибриды, как известно, более жизнестойки (генетики этот феномен называют гетерозисом). Во-вторых, сразу большое число маток, привезенных из-за океана, может принять участие в продлении рода зубров. Этот метод одно время сильно критиковали, говорили, что таким способом мы не настоящих зубров получаем, а метисов. Но, как показал опыт, гибридов уже первых нескольких поколений, к которым раз от разу приливалась кровь зубра, даже специалисты не могли отличить по внешности от чистокровных зубров.
Вторую мировую войну зубры перенесли с меньшими потерями, чем первую. В новом выпуске «Племенной книги» в 1947 году записано уже 98 животных. Через восемь лет стало их двести (точнее – 194). У поляков дело шло особенно хорошо: в Польше жило больше ста зубров. Разведением зубров занялись и другие страны: СССР, Болгария, Чехословакия, Австрия, Дания.
И вот настал наконец знаменательный день, когда зубры вновь после тринадцатилетнего отсутствия появились на Кавказе. В 1940 году пять зубро-бизонов (но с примесью крови настоящих домбаев) завезли в Кавказский заповедник. Через четыре года их стало одиннадцать, а еще через двенадцать лет – уже сто шесть! (Не все родились здесь, многих привезли из других мест нашей страны и из Польши.) Под охраной конных пастухов звери каждое лето поднимаются высоко в горы, в альпийские луга, а зиму проводят в пихтовых лесах ниже по склонам гор, где для них заготавливают сено.
С 1946 года зубров стали разводить и на нашей территории Беловежской пущи, еще через два года – в Центральном зубровом питомнике, под Серпуховом (первую пару своих питомцев он получил из Польши), в 1955 году – в Хоперском заповеднике, а через год – в Мордовском (В Аскании-Нова первые опыты по спасению уничтоженного войной зубра начаты были уже в 1921 году).
Чтобы избежать вредных последствий инбридинга (то есть близкородственного спаривания) и осуществить наилучший подбор пар и племенных линий, зубров-производителей часто перевозили из одного заповедника в другой. Хлопот с ними было много. Но зато и результаты получились отличные.
По подсчетам зоолога Михаила Заблоцкого, в январе 1958 года в разных зоопарках и заповедниках Союза жило 79 чистокровных зубров, 19 бизонов, 182 зубро-бизона и других зубро-метисов. Всего – 280 редкостных животных, которые еще сорок лет назад, казалось, были безвозвратно потеряны.
Михаил Заблоцкий – это человек, которому зубры больше всех обязаны своим процветанием в нашей стране. История восстановления и разведения зубра в СССР тесно связана с его именем, которое должна знать вся страна, как знает она имена других энтузиастов, обогативших наши знания, природные и хозяйственные ресурсы. Всю жизнь свою, все силы и талант отдал он нелегкому делу – спасению зубра. И я рад здесь сказать ему от всех нас большое спасибо!
Бизон-союзник краснокожих
Теперь оставим зубров и последуем дорогой древних переселенцев на Американский континент, посмотрим, как сложилась здесь жизнь эмигрантов-бизонов.
Поначалу судьба к ним благоволила. Они нашли в Америке широкие просторы, много корма и мало врагов и расплодились до невероятности. В пору их расцвета, до прихода европейцев, бизонов в Америке жило, как полагают, больше, чем людей,- шестьдесят миллионов! Бизоны тогда были, пожалуй, самыми многочисленными копытными на земле.
Бесчисленные, как саранча, стада бизонов топтали землю прерий и лесов от северной Мексики до Большого Невольничьего озера в Канаде: более одной трети Северной Америки занимала обитаемая ими территория.
Педро Кастанедо пересек в XVI веке великую равнину Среднего Запада этой страны. Он был потрясен тем, что увидел: «буйволов (не кроликов, не коз, а буйволов!) паслось на равнине так много, что я не знаю, с чем их можно и сравнить, разве что с рыбами в море!»
И все, кто приходил сюда вслед за Кастанедо, описывая сказочное изобилие бизонов, употребляли такие выражения: «бесчисленное множество», «невероятное число», «кишащие мириады», словно речь шла о насекомых, а не быках.
Даже в середине прошлого века бизонов здесь было так много, что путешественники пробирались местами через их плотно сомкнутые фаланги, как через непроходимую чащу.
«Насколько могли видеть мои глаза, страна чернела бесчисленными стадами»,- вспоминает один. «К вечеру мы поднялись на холм и застыли, пораженные видом, который открылся нам с высоты: вся равнина до горизонта была сплошь покрыта буйволами»,- рассказывает другой. По его словам, бизоны шли вплотную друг к другу, растянувшись на восемь миль в ширину и десять в длину.
И еще в 1871 году полковник Додж повстречал у реки Арканзас колоссальное полчище диких быков. Пять дней проходили они мимо его лагеря. Шли по всей равнине, от горизонта до горизонта, и такими тесными рядами, что можно было бы, наверное, как по мосту, идти по их спинам. От авангарда до арьергарда бычья армия растянулась на восемьдесят километров, а от фланга до фланга – на сорок. Значит, в стаде шло, по самым скромным подсчетам, больше четырех миллионов быков! Каждый бизон в среднем весил полтонны – как только земля их выдерживала!
А лед вот часто не выдерживал…
Зубр – животное оседлое, далеко от приглянувшихся мест обычно не уходит. Но многие бизоны весной и осенью предпринимали далекие путешествия: к зиме уходили к югу, на лето возвращались в более северные страны. Бывало, что когда миллионными армадами переходили они реки, го лед под их тяжестью проваливался. Тогда трупы погибших животных, случалось, запруживали реки, и по этой страшной дамбе переправлялось все стадо. Старожилы тех мест уверяли, будто многие острова на Миссисипи и Миссури образовались вначале из куч бизоньих скелетов, вокруг которых текучие воды намыли песчаные берега.
Тропы, проложенные бизонами, тянулись через весь континент. Говорят, что топографы, прокладывая маршруты для железных дорог, не могли найти более удобных перевалов через горы и кратчайших обходных путей вокруг озер и рек, чем старые бизоньи тропы. По ним в основном и легли первые американские железнодорожные пути.
Они и принесли смерть бизонам. В шестидесятых годах прошлого века началось строительство трансконтинентальной Тихоокеанской железной дороги от Чикаго до Сан-Франциско. Толпы трапперов, рабочих, бродяг, золотоискателей и авантюристов устремились на запад. Вся эта голодная армия кормилась бизонами. Железнодорожные компании держали на службе отряды профессиональных охотников, которые тоннами поставляли им даровое мясо. Тут узнали, что у «буйволов» отличные шкуры и за них неплохо платят там, на востоке. Когда стальные пути добежали до города Додж-Сити, штат Канзас, пять тысяч профессиональных охотников за бизоньими шкурами обосновались в нем и из этого перевалочного центра делали вылазки в окрестные прерии. За два месяца убили здесь двести десять тысяч бизонов! И еще сто тысяч – за зиму 1877 года.
В то время на весь мир прославился Вильям Коди, по прозванию Буйвол-Билл, который за полтора года добыл 4280 бизонов. За день он застрелил как-то 69 быков. Рекорд другого «чемпиона» – 250 бизонов за «рабочие» сутки.
Можно подумать, что охота на бизонов представляла хоть какую-то опасность. Нет, никакой (или почти никакой) опасности не было. Бизон – животное кроткое и пугливое. Он всем готов уступить дорогу, и даже олени, пишет герцог Бэдфордский, третируют бизонов и гоняют, как хотят, этих здоровенных быков. В своем парке Воберн-Аббей, где вольно паслись и те и другие, он не раз наблюдал смешные сцены: «Я сам видел, как огромный матерый бык бизон вместе с его коровой был обращен в поспешное и постыдное бегство второразрядным оленем вапити».
Но мы отвлеклись, вернемся в Америку, где в конце прошлого века продолжалось бессмысленное и чудовищное избиение животных, которого не знала ни одна страна в мире. Часто бизонов убивали лишь затем, чтобы вырезать из туши быка небольшой кусок мяса для жаркого на завтрак. Иногда вырезали только языки, оставляя гнить в степи сотни бычьих трупов. Рассказывают о полутора тысячах бизонов, убитых ради языков, на которые у торговцев было выменяно несколько галлонов водки.
Когда поезд трансконтинентальной линии встречал в дикой равнине стадо бизонов, пасущееся у полотна, все пассажиры бросались к окнам, вылезали на крыши вагонов. Начиналась пальба из всевозможного оружия в несчастных животных, которые толпились столь тесными рядами, что не могли быстро разбежаться. Машинист нарочно замедлял ход, а когда поезд трогался, то по обе стороны полотна валялись сотни бычьих туш, оставленных на съедение шакалам. Некоторые «любители-спортсмены» специально ездили через равнины, чтобы пострелять из поезда бизонов.
Бизоны, кочевавшие к югу от трансконтинентальной железнодорожной магистрали, получили название южного стада, к северу от нее – северного. Подсчитано, что за неполных три года, с 1872 по 1874, в южном и северном стаде было убито 5.373.730 бизонов! К началу 1873 года южное стадо перестало существовать: последние сто тысяч бизонов унавозили ободранными тушами землю прерий. Жалкие остатки некогда бесчисленной армии бежали на юго-запад, в Техас. Но люди, не знавшие другого ремесла, кроме убийства бизонов, нашли их и в этом последнем прибежище. Через десять лет около Таскозы в Техасе застрелили пятьдесят два последних бизона из южного стада – так думали те, кто в них стрелял. Но оказалось, четыре бизона еще спаслись. Недолго они гуляли на воле: в 1889 году охотники выследили их около Буффало-Спрингс и убили.
Уничтожив южное стадо, принялись за северное. Его драматическую историю рассказывают цифры следующей статистики: в 1881 году по железной дороге перекупщики транспортировали на восток пятьдесят тысяч бизоньих шкур, на следующий год – даже двести тысяч, потом – снова сорок тысяч, а в 1884 году – только два вагона!
Когда в американские равнины пришел слух, что в Северной Дакоте видели будто бы большое стадо бизонов (в нем было десять тысяч животных!), сейчас же собрался отряд стрелков и все ринулись туда, в Дакоту.
Охотничье сердце могло ли быть спокойным, когда на воле бродят еще живые бизоны!
В первый же день охотники превратили в трупы тысячу бизонов. Остальных добили позднее: в ноябре, через два месяца после первых выстрелов, их миссия была уже закончена.
Итак, к началу девяностых годов прошлого века американский бизон как вольный зверь перестал существовать. В США были еще, правда, бизоны – 456 голов – в зоопарках, на фермах у некоторых скотоводов и любителей. В 1889 году доктор Вильям Хорнедей, сотрудник Нью-Йоркского зоопарка, подсчитал, сколько в Северной Америке осталось бизонов: 1/60 000 часть былого их множества – 1091 бизон! Больше половины из них – канадские, так называемые лесные бизоны.
Неужели в США не было законов, которые защитили бы избиваемых животных? Говорят, когда в 1875 году штаты Канзас и Колорадо совсем уж было собрались учредить такие
законы, оказалось, что уже поздно, бизонов на территории этих штатов не осталось. В Техасе было еще не поздно. Однако во время обсуждения законопроекта о защите бизонов выступил генерал Шеридан. «Охотники за бизонами,- сказал он,- заслужили не порицания, а награды. Им надо выдать медаль с изображением умиротворенного индейца». Дело в том, что целые индейские племена кормились бизонами, и белые колонисты, отлично зная это, часто для того только и уничтожали бизонов, чтобы заставить краснокожих голодать и смириться. Мир воцарится на нашей земле, разглагольствовал генерал, когда мы перестреляем всех диких быков: «Охотники на буйволов за несколько месяцев сделали больше для умиротворения индейцев, чем вся наша армия за тридцать лет». И закон не прошел!
Федеральное правительство тоже вначале отклоняло все предложенные меры защиты бизонов. В конгрессе США сильна была партия, выражавшая мнение Шеридана, и даже президент Грант, кажется, поддерживал ее.
Инициатива спасения бизонов принадлежит индейцам, которых веками эти животные не только кормили и одевали, но и доставляли почти все необходимое в их скромном обиходе: сухожилия для луков, шкуры для постелей, из бычьих рогов делали они кубки и ложки, из кожи – обувь, крыши и стены своих жилищ. «Джентльмены», заседавшие в законодательных собраниях Техаса, рассудили правильно, зачислив бизонов в союзники краснокожих!
В 1873 году индеец, по имени Бродячий Койот, поймал двух молодых бизонов, бычка и телку. Он ухаживал за ними, прятал от банд голодных бродяг. Через двадцать три года в стаде Койота было уже триста бизонов. В начале века его купило правительство США, животных переселили в Йеллоустонский национальный парк. Были учреждены бизоньи заповедники и в Канаде, в Атабаске например, где бизонов охраняла конная полиция.
Основанное Хорнедеем Общество спасения бизона при поддержке президента Теодора Рузвельта развернуло свою работу, и его успехи обрадовали даже пессимистов. К 1910 году число бизонов увеличилось вдвое, еще через десять лет было их уже 8539, а в 1933 году – 21 701 (4404 – в США, 17 043 – в Канаде, 46 – в Аляске, 3 – в зоосаде в Мехико и 205 – в других зоопарках Южной Америки и Европы).
Сейчас во всем мире бизонов уже больше десяти миллионов – так утверждает британский натуралист Филипп Стрит {47}. Я думаю, он здорово ошибается: еще в 1951 году в списках общества числилось лишь 23 340 бизонов (в Америке и других частях света). Но бесспорно то, что бизоньему роду вымирание уже не грозит. Он спасен!
Спасены также почти истребленные мехопромышленниками сумчатые медведи Австралии, морские выдры Командорских и Алеутских островов, русские бобры, соболи и сайгаки, альпийские безоаровые козлы, калифорнийские морские слоны, мускусные быки Канады.
История восстановления соболя – блестящая победа советской биотехнической науки.
Было время, когда зоологи совсем уже собрались занести соболя в списки вымерших видов. После Октябрьской революции молодая Советская республика начала восстанавливать разрушенное войной и интервенцией хозяйство. Было принято во внимание и плачевное положение соболя.
1927 год – начало массовых мероприятий восстановления соболя по широкому фронту сибирских лесов. Сначала полсотни драгоценных зверьков выпустили в тайге Нижне-Амурской области. Через год «перемещенные» зверюшки обосновались на острове Карагинском (около Камчатки).
Позднее большие партии соболей завезли в Тюменскую, Иркутскую, Читинскую, Кемеровскую, Томскую, Свердловскую области, в Бурятскую АССР, в Якутскую АССР, в Красноярский край и даже в Казахстан.
Еще до Великой Отечественной войны свыше четырех тысяч соболей было расселено по таежным лесам и урочищам нашей страны.
И результаты превзошли самые смелые ожидания! «Теперь в СССР,- пишет профессор В.Н. Скалон,- соболя стало не меньше, а, может быть, больше, чем сто лет назад».
«Живые ископаемые»- сохраним их для науки
Австралия-зачарованный континент
В Новой Зеландии, на скалистых островах, где нет людей, живет знаменитая трехглазая ящерица гаттерия, или туатара. Ящерица крупная, больше кошки, и очень древняя – родная тетушка динозавров.
Много лет назад жили на земле страшные ящеры, похожие на сказочных драконов: динозавры, бронтозавры, ихтиозавры и диплодоки.
А еще раньше, триста миллионов лет назад, не было и динозавров. Только доисторические «лягушки» – стегоцефалы лениво ползали у воды. От стегоцефалов и произошли динозавры.
Но прежде динозавров произошла от них гаттерия.
Все эти страшилища давно вымерли, а гаттерия уцелела, живет и поныне.
В давние времена у предков позвоночных животных было по три глаза. Два больших – по бокам головы, а третий поменьше – на темени. Он в небо смот
рел. Потом этот глаз атрофировался: лишним оказался. Омертвел и совсем исчез, как будто его и не было (впрочем, у многих ящериц и варанов исчез не совсем, остатки третьего глаза у них хорошо различимы).
Иногда рождаются еще рыбьи мальки с тремя глазами – это называется атавизмом, когда у животных и человека появляются вдруг ненужные им органы, которые были у прародителей.
У нас, у людей, тоже сохранился в мозгу крошечный остаток третьего глаза: особая такая шишковидная – так ее и называют – железка, или эпифиз (весит она всего 100-200 миллиграммов) {48}.
Но у гаттерии третий глаз вполне еще в хорошем состоянии, почти как настоящий. Сидит он на темени, в маленькой глазной орбите, и прикрыт сверху тонкой прозрачной пленкой. Видит он, правда, плохо: едва свет от тьмы отличает.
А свет гаттерия не любит, прячется от солнца. Живет она под землей, в норах. Но норы сама не роет: приходит в гости к буревестникам.
На тех же островах, где живут гаттерии, гнездятся тысячи буревестников. Гаттерии залезают в норы к буревестникам и весь день в них сидят. Только ночью выходят на охоту за улитками. Птицы и пресмыкающиеся не ссорятся.
И нередко в одной норе, в глубине хода, на подстилке из листьев живут две семьи – гаттерия и буревестники. Иногда ящерица, раскопав пол, откладывает здесь свои яйца. А в другом углу норы высиживает птенцов самка буревестника. Гаттерия спит рядом, свернувшись дугой. Птиц и птенцов она никогда не обижает.
Про гаттерию биологи говорят: реликтовая это ящерица, живое ископаемое. И в этих словах нет ни иронии, ни осуждения – в них сдержанный крик восторга перед удивительным явлением природы.
Кто они, «живые ископаемые»? Выходцы из давно минувших эпох, пережившие свое время древнейшие существа. Они, вернее очень похожие на них животные, жили еще на заре истории нашей планеты, «когда мир был юным». С тех пор эти закосневшие в своем консерватизме «осколки» давно исчезнувших миров почти не изменились. Их эволюция словно бы остановилась. Живые ископаемые обитают обычно в каких-нибудь очень небольших по площади районах, как, например, гаттерия:
на нескольких островах у берегов Новой Зеландии и нигде больше. И обычно условия жизни в местах их обитания всегда постоянны, в течение миллионов лет почти не менялись. В этом и секрет удивительного консерватизма реликтовых животных, которых люди, более склонные к метафорам, называют «живыми ископаемыми». Не менялись внешние условия – не было причин, следовательно, приспосабливаться, приобретать новые привычки и органы.
«Живые ископаемые» – животные обязательно древние, почти всегда обитатели уединенных островов, плоскогорий, пустынь, озер, морей – так или иначе отрезанных от мира небольших районов.
Небольших? Относительно небольших. Потому что мы знаем даже целый материк, населенный сплошь «живыми ископаемыми». Это – Австралия.
Около ста милилонов лет назад Австралия откололась от других материков мира. С тех пор широкие моря окружают ее со всех сторон. Сумчатые животные (вспомните кенгуру), которые незадолго перед тем расплодились по всей земле, получили пятый континент в полное свое владение. Животные несумчатые появились на свет уже после того, как материк этот стал островом. Они не смогли пробраться в Австралию. Только дикие собаки динго, крысы и мыши приплыли сюда на корягах, а летучие мыши прилетели по воздуху (собак, возможно, привезли и люди).
Австралия – единственная также страна, в которой сохранились утконосы и ехидны, самые первобытные из зверей, «живые ископаемые» среди млекопитающих животных. Они живут еще по традициям своих ящероподобных предков: не родят живых детенышей, а откладывают яйца. Как птицы!
Даже растения в Австралии очень своеобразные: около ста видов из них нигде больше не встречаются. Словом, это – страна-уникум.
Удивительный кенгуру!
Часто говорят и пишут, что одно из самых «эксцентричных» животных – кенгуру было открыто и впервые описано капитаном Джеймсом Куком в 1770 году, когда знаменитый его корабль «Эндевор» бросил якорь у берегов Восточной Австралии.
Но это неверно. За сто пятьдесят лет до Кука голландец Франс Пелсарт при обстоятельствах весьма трагических завел первое знакомство с кенгуру.
В 1629 году его корабль «Батавия» потерпел крушение у берегов Западной Австралии. Капитан Пелсарт отправился за помощью в настоящую Батавию (на острове Ява, ныне Джакарта). А в это время некоторые матросы из тех, что остались на берегу в Австралии, решили воплотить в жизнь давнюю мечту: захотели стать пиратами! Сговорились и перебили около сотни своих товарищей, которые мечтали, по-видимому, о другом.
К счастью, когда Пелсарт вернулся с подкреплением из Батавии, ему удалось перехитрить пиратов-самоучек. Он захватил их в плен и всех казнил, кроме двух, которых оставили на берегу. Это были первые белые «поселенцы» в Австралии.
Кроме приключения с пиратами Пелсарт и его товарищи пережили еще одно волнующее событие, которое к теме нашей книги имеет непосредственное отношение. Они повстречали на равнинах Новой Голландии (так называли тогда Австралию) очень странное существо: оно прыгало, как кузнечик, на двух длинных-предлинных задних ногах. Короткие передние лапки животное прижимало к груди. Хвост у него был тоже «очень длинный, как у длиннохвостой обезьяны».
Когда «попрыгунчика» поймали, на животе у него нашли какую-то странную сумку, вроде большого кармана, а в кармане – малюсенького детеныша. Моряки решили, что детеныш тут же, в сумке, и зарождается – ошибка, которую и сейчас еще делают многие австралийские фермеры.
Полагают, что первый кенгуру, которого увидели европейцы, был небольшим кустарниковым валлаби-дама, или таммар-валлаби (Thylogale eugenii) {49}. Но известие о нем, об этом животном, дошло до Европы… лишь через двести лет. Вернее, дошло-то оно раньше, но затерялось в архивах, его отыскали и вспомнили о нем лишь после того, как слово «кенгуру», привезенное Куком из Австралии, облетело уже весь мир.
Случилось это в 1770 году. «Эндевор» получил повреждение на Большом Барьерном рифе у восточных берегов Австралии. Пока судно ремонтировали, Кук и Джозеф Бенкс, натуралист и меценат, отправились на берег поохотиться. Они много слышали о странных существах, которые здесь водятся: звери эти ростом будто бы с человека, голова у них оленья, хвост длин
ный, а прыгают, как лягушки! «Кроликов», которые прыгали, «как лягушки», Кук уже видел, но больших зверей, ростом с человека, еще не встречал. Правда, нашли однажды помет неведомого животного, «которое питалось травой и ростом было не меньше оленя»,- так заключили знатоки с «Эндевора», изучив следы таинственного незнакомца.
Джозеф Бенкс взял с собой собаку – грэйгаунда, или, иначе говоря, английскую борзую. Она и выследила в высокой траве четырех больших «тушканчиков», которые, спасаясь от нее, «скакали на двух ногах, вместо того чтобы бежать на четырех». Но, прыгая и на двух ногах, они удирали так быстро, что собака на четырех не могла их догнать.
Позднее Кук спросил местных охотников, как называют они зверей, которые скачут на двух ногах.
Говорят, он обратился к ним по-английски:
– Can you tell mе!… (Можете ли Вы мне сказать!…)
– Кэн тэл ю? – ответили австралийцы, повторив на свой лад его вопрос, так как не расслышали его.
– Кэн-гу-ру? – переспросил Кук.
– Да-да,- они согласились с ним, закивав головами.
Так будто бы по методу испорченного телефона из вежливой английской фразы «Кэн ю тел ми» и родилось на свет всем ныне хорошо известное слово «кенгуру».
Другие же утверждают, что все было иначе. Кук, может быть, и спросил: «Кэн ю тэл ми?», но ему в ответ пробурчали что-то похожее на «кенгуру», что означало на австралийском языке: «Я не понимаю».
Наконец, третьи говорят, что все это враки. Слово «кенгуру» (вернее, «гангуру») действительно есть в лексиконе у местных племен, кочевавших вблизи Куктауна, как раз там, где Кук и повстречал этих самых «гангуру».
Каких именно кенгуру видели мореплаватели с «Эндевора» (позднее они даже поймали нескольких из них), с точностью неизвестно. Думают, что, скорее всего, бичехвостых валлаби. Натуралист Муллер дал им в 1776 году латинское название – Wallabia canguru.
Не прошло и двадцати лет, как вслед за Куком к берегам Австралии прибыл первый британский флот во главе с генерал-губернатором всех новооткрытых здесь территорий. И с первыми же кораблями, которые отплыли отсюда в Англию, губерна
тор и его офицеры послали в дар королю Георгу III живого… кенгуру.
В Англии заморского оригинала ждала восторженная встреча. Тысячи лондонцев спешили посмотреть на него. Были напечатаны и расклеены по городу афиши, превозносившие действительные и мнимые достоинства кенгуру. Одна из них, например, была составлена в таких выражениях:
УДИВИТЕЛЬНЫЙ КЕНГУРУ!
Единственный, который живым прибыл в Европу. Показывают ежедневно в Лицеуме на Стрэнде с восьми утра до восьми вечера. Это поразительное, прекрасное и кроткое животное не похоже ни образом, ни сортом, ни симметрией тела на всех других четвероногих! Его многочисленные и исключительные качества превосходят все, что может вообразить широкая публика. Созерцая его, она приходит в восторг и награждает необыкновенное животное аплодисментами.
И так далее, все в том же роде. А в конце маленькая приписка:
«Плата за вход – один шиллинг».
Но среди похвал, щедро расточаемых составителями афиш по адресу кенгуру, не было упомянуто одно самое редкое его качество. Не заметили его и капитан Кук, и сопровождавшие его натуралисты Соландер и Бенкс. Но старый морской волк Франс Пелсарт о нем знал. «Снизу, на животе,- писал он,- самка носит сумку, в нее можно залезть рукой. Мы нашли в сумке детеныша, который висел на соске, вцепившись в него своим ртом. Мы видели нескольких подобных «зародышей», они все были величиной с боб, так что, по-видимому, и вырастают здесь из сосков».
Это убеждение, что детеныши кенгуру не родятся обычным путем, а отпочковываются от сосков, очень широко было распространено прежде. Да и сейчас еще многие фермеры в Австралии верят, что между яблоней и кенгуру есть некоторое сходство: плоды на ветках и детеныши на сосках вырастают у них примерно одинаково. Эллис Трофтон, известный знаток сумчатых животных, описал однажды в австралийской газете, как кенгуру рождают своих детей. И получил письмо, в котором возмущенный читатель заявлял, что, несмотря на рассуждения всяких «трофтонов» и других умников «с Питт- и Джордж-Стрит», он останется при своем мнении на предмет о том, как родятся кенгурята.
Долго об этом «предмете» велись споры и среди натуралистов. Правда, немногие из них сомневались в том, что кенгуру размножаются не вегетативно, как растения, а обычным для зверей путем. Но вот как новорожденные «эмбрионы» попадают к мамашам в сумки, чтобы закончить там свое развитие,- об этом спорили особенно много. И лишь сравнительно недавно истина окончательно была установлена.
Я сказал: окончательно установлена, хотя первые правильные наблюдения (а им не всегда верили) сделаны были очень давно.
Зоологи тогда {50} думали, что новорожденных своих детенышей кенгуру и другие сумчатые переносят в сумки, обхватив их губами. Лапами в это время мамаша открывает будто бы сумку. Это мнение поддерживал и развивал известный английский биолог Ричард Оуэн. И даже когда в начале прошлого века его коллега профессор Бартон из Филадельфии своими глазами увидел, как новорожденные детеныши американского опоссума, похожие больше на червячков, чем зверят, сами ползли по брюху матери в сумку, он не поверил Бартону.
За три года до того, как Ричард Оуэн в 1833 году развил свою неверную, но «живучую» теорию о методе транспортировки новорожденных кенгурят в сумку, лондонский зоологический журнал опубликовал очень интересную статью военного врача Александра Колли. Статья имела непосредственное отношение к теории Оуэна, и очень жаль, что не привлекла его внимания.
Колли писал: он «как только родился, сразу пополз по шерсти на животе у матери к отверстию в сумке. А она, повернув голову к своему отпрыску, внимательно следила за его продвижением, не более быстрым, чем у улитки».
Она – мать-кенгуру, таммар-валлаби. Он – ее малютка детеныш, размером меньше мизинца {51}. Она, полулежа на спине, довольно безучастно наблюдала за героическим маршем крошечного эмбриона, слепого, глухого, но одержимого «великой идеей», одним неистребимым побуждением – ползти и ползти ко входу в сумку. И поскорее нырнуть в нее. А нырнув, найти там сосок и присосаться к нему. Еще до рождения в хромосомных шифрах его наследственности был запрограммирован великий инстинкт, который заставил теперь эмбриона-пилигрима отправиться в нелегкий путь через волосяные джунгли на брюхе породившего его зверя.
Когда детеныш дополз до соска и присосался, Колли отцепил его и положил на дно сумки. Через час пришел проверить, что делает… эмбрион? детеныш? личинка? (не знаешь, как и назвать его!) Он еще ползал «за пазухой» у матери: искал сосок. Через два часа нашел сосок и прочно присосался.
Чтобы добраться до сумки, микродетенышу кенгуру приходится проползать немалый путь. Как он находит дорогу? Почему не собьется с пути? Ведь мать – это подтверждают все наблюдения {52} – ничем ему не помогает. Полулежит себе на спине и равнодушно смотрит на него. Нигде не подтолкнет, не направит {53}.
Впрочем, не совсем так, кое-чем все-таки помогает: вылизывает дорогу!
Перед самыми родами (которые проходят, конечно, безболезненно!) кенгуру-мать начинает лизать свой живот. Вылизывает старательно, но не всюду, а только узкую полоску – дорожку ко входу в сумку! Эта дорожка и стерильна (так как чисто вылизана), и хорошо размечена указателями (так как мокра). По мокрой шерсти детеныш и старается ползти. Если собьется в сторону и попадет на сухую шерсть, сейчас же поворачивает назад.
Ползет он, работая передними лапками, словно веслами. Они у него, как у крота, сильные и толстые, с острыми коготками. А задние еще недоразвитые, на них даже и пальцев нет. (У взрослого же кенгуру совсем наоборот: передние лапы вроде бы недоразвитые!)
Ползет новорожденный кенгуру не быстрее улитки, а все-таки через полчаса добирается до сумки и исчезает в ней.
Пройдет еще немало времени, прежде чем у мамы в «кармане» найдет он сосок. А как найдет, крепко схватит его и повиснет на нем. Губы его прирастут к соску. Теперь висит неподвижно, как плод на ветке. Даже молоко сам не сосет: сосок, сокращаясь, вспрыскивает его в глотку двуутробной «личинке».
И долго еще потом, когда вырастет и научится бегать, большой и длинный кенгуренок при каждой опасности (да и без нее!) прячется у матери в сумке. Он уже не помещается там, ноги-ходули торчат наружу, а прячется.
Кенгуру-мать с детенышем «за пазухой» большими скачками удирает от погони. Но если враги ее настигают, часто выбрасывает живую ношу им на растерзание: тоже своего рода автотомия – самое древнее средство страхования жизни! Ящерица в критических ситуациях расплачивается хвостом, кузнечик – ногой, осьминог – щупальцем, а кенгуру… кенгуренком, своим единственным.
Спасенная такой ценой жизнь тем не менее продолжается.
Яйцекладущий зверь с утиным клювом
Мы не знаем, кто поймал первого утконоса, но, когда и где это случилось, известно точно: Хокесбери, Новый Южный Уэльс, ноябрь 1797 года. Когда шкуру невероятного создания увидели английские натуралисты, многие из них решили, что имеют дело с подделкой. Подумали, что к шкурке какого-то тропического зверюшки шутники пришили утиный клюв. Из Южной Азии не раз привозили такие штуки: то обезьяне пришивают рыбий хвост и выдают ее за русалку, то петушиную голову приделают игуане – в Европе подобные монстры именовались василисками. Кунсткамеры тогда были модны и собирали всякую всячину. «Ученые склонны были,- писал четверть века спустя Роберт Кнокс, знаменитый анатом из Эдинбурга,- зачислить это редкое произведение природы в один разряд с восточными «русалками» и другими самоделками подобного рода».
Прошел, кажется, год, прежде чем доктор Шоу, натуралист из Британского музея, рискнул исследовать шкуру утконосого монстра. Рассмотрев ее внимательно, он не нашел никакой подделки: шкура, бесспорно, создание природы, а не рук человеческих. Он назвал это диковинное создание Platypus anatinus, что в переводе с латинского означает «утиный плосконог».
На шкуру небывалого зверя захотел своими глазами посмотреть известный специалист по классификации животных гЕттингенский профессор Блюменбах (похоже, он не очень-то поверил своему британскому коллеге). Шкуру утконоса послали в Германию. Но и Блюменбах не нашел никаких подделок: шкура и клюв на ней и перепонки на лапах – все натуральное. Однако Блюменбах переименовал зверя: Ornithorhynchus paradoxus (парадоксальный птицеклюв) – получил он новое имя. Дело в том, что латинское название платипус уже было присвоено одному маленькому жуку. Шоу об этом не знал. А по правилам зоологической классификации одним и тем же словом не могут называться два разных рода животных (чтобы не создавать путаницы).
Но дать новому животному имя – не самое сложное дело. Труднее определить его положение среди других созданий животного царства, его родственные связи с ними. Кто он, этот утконос? Зверь с птичьим клювом или птица со звериным телом? Или ящер с шерстью?
Около ста лет длился спор о том, кто такой утконос. Блюменбах отнес его к классу млекопитающих, или зверей, на том законном основании, что шкура утконоса покрыта шерстью. Там бы ему и оставаться. Но тут из Австралии прислали в Англию еще двух заспиртованных утконосых зверюшек. Их исследовал известный анатом Эверард Хом и установил, что один из утконосов – самка. Но, как Хом ни искал, не мог найти у нее… молочных сосков.
Сосков не нашел, но нашел клоаку! То есть общее выводное отверстие мочеполовых органов и кишечника, как у птиц или ящериц. У млекопитающих нет клоаки. Но утконоса нельзя отнести ни к птицам, ни к гадам: ведь кожа его одета не перьями и не чешуей, а шерстью! Как у зверей. Спереди и сзади этот путаник-утконос – птица, а посредине – зверь…
Не видя иного выхода, Эверард Хом предложил создать в системе зоологической классификации специально для утконоса особый отряд. Годом позже это и было сделано: французский биолог Этьен Жоффруа Сент-Илер дал новому отряду название однопроходных, или, иначе говоря, клоачных животных.
Но и тут проблема не была полностью решена. Ведь по-прежнему не ясно, к какому классу причислить этих однопроходных: к гадам или млекопитающим.
Ламарк говорил, что ни к тем, ни к другим, а к особому новому классу первозверей. К тому времени у утконоса объявился родственник: в Австралии открыли еще одного зверя с птичьим клювом – ехидну {54}, странное колючее создание, похожее и на ежа, и на… кикимору (?).
Теперь их было двое, но кто они – вот задача.
Тут еще два новых сообщения, из Австралии и Германии, разделили зоологов Европы на три враждующих лагеря: сэр Джон Джемисон уверял, что утконос откладывает яйца, а немецкий анатом Меккель открыл у самки невероятного создания молочные железы (правда, без сосков). Их не замечали прежде, потому что только ко дню деторождения они увеличивают свои микроскопические размеры.
Поистине чудны дела твои, природа!
«Не может быть!» – решили французы Сент-Илеры (Этьен и его сын Исидор) и немец Блюменбах. Если зверь откладывает яйца, то у него не может быть молочных желез. Это ясно как день! Так они полагали. Да и как новорожденные утконосики будут пить это молоко? С такими-то носами! Меккель, конечно, ошибся, приняв мускусные железы за молочные.
«Нет,- утверждал Меккель,- я не ошибся. А слухи о том, что утконос несет яйца, не больше чем легенда».
Жорж Кювье, его коллеги Бленвилль и Окен (все величайшие имена!) согласились с ним.
А два других больших знатока, Эверард Хом и Ричард Оуэн, проявив норманнскую мудрость, наполовину согласились и с теми и с другими: да, возможно, говорили они, утконос несет яйца, но не откладывает их – еще в яйцеводах их оболочки лопаются, и на свет рождаются живые утконосики, которых мамаша кормит потом молоком.
Ура! Победа! В 1829 году Этьен Жоффруа Сент-Илер, торжествуя, опубликовал письмо из Австралии, автор которого подробно описывал четыре найденных им яйца утконоса. К письму были приложены рисунки яиц. Такие подробные и хорошие, что знатоки, как только взглянули на них, сразу без колебаний решили: это яйца длинношеей черепахи. Итак, триумф Сент-Илсра был недолгим.
А еще через два года новое письмо из Австралии принесло, казалось, победу партии Меккеля и Кювье. Лейтенант Мол собственными глазами увидел, как из желез, открытых Меккелем на брюхе самки утконоса, вытекал не мускус, а молоко! Правда, один «незначительный» факт несколько омрачил радостное торжество: в норе утконоса Мол нашел скорлупки от яиц. Но наверное, это были яйца не утконоса…
– Нет утконоса! – заявили тотчас Сент-Илеры и Блюменбах.
Тридцать лет прошли в таких спорах. В сентябре 1864 года профессор Оуэн получил письмо из Австралии. Один рабочий, писали в письме, поймал утконоса и принес его скупщику золота. Зверька посадили в ящик из-под вина. Наутро в ящике нашли два белых, мягких на ощупь яйца.
Профессор Оуэн не хотел поверить, что самка утконоса разрешилась от бремени естественным путем: наверное, она была напугана и потому, нарушив правило, придуманное им для нее, снесла яйцо, вместо того чтобы родить живых детенышей.
Еще двадцать лет продолжался ученый спор, до самого 1884 года. В том году, 2 сентября, в городе Монреале проходило собрание Британской научной ассоциации. И вот в президиум этого собрания принесли телеграмму. Прямо из Австралии. От Колдуэлла, члена ассоциации: собственными глазами он увидел, как самка утконоса снесла яйцо!
Редкое совпадение: в тот же день в Австралии, в Аделаиде, другой исследователь, Вильгельм Гааке, показал собравшимся ученым яйцо «кузины» утконоса – ехидны. Он нашел его в выводковой сумке у нее на брюхе. «Служитель,- рассказал Гааке,- держал передо мною ехидну-самку за заднюю ногу на весу, а я ощупывал брюхо животного. Здесь я нашел большой мешок, настолько широкий, что в него можно было положить мужские часы. Это была выводковая сумка, образующаяся перед откладыванием яйца для принятия его. Позднее, по мере роста детеныша, она расширяется, а когда он покинет сумку, снова сглаживается. Только зоолог поймет, как я был изумлен, когда вытащил из сумки яйцо. Первое отложенное яйцо млекопитающего, которое я мог показать ученому обществу. Эта неожиданная находка так сбила меня с толку, что я сделал глупость, сильно сжав яйцо между пальцами, и оно треснуло. Длина яйца равнялась приблизительно пятнадцати, а ширина – тринадцати миллиметрам. Скорлупа была жесткая, словно пергаментная, как у многих пресмыкающихся».
Итак, все были неправы: и Сент-Илеры (отец и сын), и Блюменбах, и Кювье, и Оуэн. Утконос и ехидна, оказывается, одновременно и яйцекладущие и млекопитающие звери. В этом редком сочетании мы видим приметы той близкой к сотворению мира эпохи, когда наши дальние предки уже оделись в шерсть и стали кормить детей молоком, но не утратили совсем и некоторые черты прародителей своих – пресмыкающихся: по старой традиции продолжали нести яйца.
Утконос и ехидна в роли наседок
Прежде чем отложить яйца, самка утконоса роет нору длиной так метров в пять – двадцать. Роет у воды, но вход в нее делает не под водой, как часто думают и пишут (например, у Брэма), а над водой. В конце норы устраивает гнездо из сырых листьев (именно сырых, чтобы в гнезде было достаточно влаги и скорлупа яиц не подсыхала), из травы, тростника и древесных ветвей, которые долго мнет и ломает своими беззубыми челюстями {55}. Подхватив все это хвостом (а не клювом!), переносит в нору.
Затем, действуя хвостом же, как каменщик лопаточкой, утконосиха сооружает из земли и глины толстую стенку, которой, как барьером, отделяет комнату с гнездом от других помещений норы. Делает это для того, чтобы сохранить в гнезде нужную температуру и влажность. Замурованную в самодельном термогигростате самку труднее найти и врагам. Врагов у нее, правда, немного, но все-таки они есть: небольшой питон, местный варан и лисицы, завезенные в Австралию из далекой Европы.
Отгородившись от мира глиняной стеной, утконосиха откладывает в гнезде два тускло-белых яйца {56}.
Они мягкие: скорлупа мнется под пальцами. Свернувшись клубком, зверюшка прижимает своих потенциальных отпрысков к груди и согревает их теплом тела {57}. Значит, не только клювом утконос напоминает птицу: как и птица, он высиживает яйца!
Возможно, что и тепло гниющих растений, из которых сложено гнездо, подогревает их. Но доктор Крумбигель говорит, что едва ли это так. Во-первых, подстилка из листьев слишком тонка для этого, а во-вторых, утконосики очень быстро из яиц вылупляются: листья не успевают за это время сгнить. Дней через десять-четырнадцать (а по некоторым наблюдениям – через семь – десять дней), прорвав скорлупу яйцевым зубом, молодые зверьки с клювами появляются на свет божий. Яйцевой зуб (он сидит на межчелюстных костях верхней челюсти) своего рода консервный нож, которым природа наделила всех детенышей, рождающихся из яиц со скорлупой: птичьих птенцов, новорожденных пресмыкающихся и ехидн с утконосами. Единственное его назначение – вспороть скорлупу перед выходом из яйца. Выполнив эту несложную задачу, яйцевой зуб отваливается.
А молодые утконосики еще долго после того, как он отвалится (девять или одиннадцать недель!), лежат слепые и беспомощные на подстилке из листьев. Все это время мать кормит их молоком {58}. Сосков у нее нет, поэтому детеныши слизывают его прямо с шерсти. Утконосиха ложится на спину, молоко из молочных пор стекает в небольшую бороздку у нее на брюхе.
Из этого «корытца» детеныши его и вылизывают, пока не подрастут и не научатся сами ловить и есть червей, улиток и раков.
«Кузина» утконоса ехидна, чтобы отложить и высидеть свое единственное яйцо, нору не роет. Мы уже знаем: она вынашивает его в сумке, такой же почти, как у кенгуру.
Вот только непонятно пока, как это яйцо попадает в сумку. Раньше думали, что самка когтями или клювом закатывает его туда. Но когти и клюв для этого совсем не годятся. Думали, что, может быть, изгибаясь, самка откладывает яйцо прямо в сумку?
А сейчас считают, пишет Эллис Трофтон, что сумка вырастает у ехидны после того, как из яйца выведется детеныш (где-нибудь в укромном местечке). Когда начнет он сосать, прицепившись к шерсти у мамаши на брюхе, сумка сразу быстро-быстро растет и обрастает его со всех сторон, и он, сам того не ведая, оказывается в люльке. Но тогда как же находка Гааке? Ведь Гааке в уже готовой и такой большой сумке, что в нее «можно было положить мужские часы», нашел яйцо, а не детеныша?
Поэтому вернее всего будет, если мы скажем: зоологи еще толком не знают, как яйцо ехидны попадает из клоаки в сумку.
И еще один загадочный вопрос: зачем самцы ехидны и утконосов носят на задних ногах костяные «шпоры»? Они покрыты кожей, словно чехлом, но острые концы торчат наружу и могут больно уколоть. Мутная жидкость вытекает по каналу, пронзающему шпору насквозь. Она ядовита, эта жидкость!
По видимому, шпоры – отравленное оружие. Но странно: ни ехидна, ни утконос никогда и никому не грозят им.
Неизвестно до сих пор, чтобы ехидна поранила кого-нибудь своей шпорой. Утконос тоже сам по воле своей не пускает ее в ход. Правда, некоторые люди и собаки, бесцеремонно обращаясь с безобидным зверьком, натыкались, случалось, на ядовитую шпору. Люди излечивались довольно быстро, но собаки (тоже довольно быстро) умирали. Умирали и кролики (через две минуты!) после того, как экспериментаторы вспрыскивали им под кожу яд утконоса.
Ехидна и утконос – единственные на нашей планете ядовитые млекопитающие. Но все в их поведении, в устройстве и употреблении ядовитого оружия говорит о том, что сохранили они его главным образом как почти ненужный ныне атавизм, сбереженную эволюцией память о далеких предках – ядовитых ящерах.
В наши дни утконосы и ехидны уцелели только в Австралии и на некоторых больших близких к ней островах. Даже ископаемые их остатки (двух видов ехидны и одного утконоса) найдены до сих пор лишь в позднетретичных, плейстоценовых, отложениях пятого континента.
Утконосы живут в быстрых холодных горных ручьях и в теплых мутных реках равнины, в озерах и даже небольших заводях Тасмании и Восточной Австралии (к западу до реки Лейхгарда в Северном Квинсленде).
Ехидны – в лесах и кустарниках почти всей Австралии, Тасмании и в Новой Гвинее. Зоологи различают два вида ехидн (австралийский и тасманийский) и несколько их подвидов. Кроме того, в Новой Гвинее живут еще два вида – так называемые проехидны. У них более длинные, чем у ехидны, ноги и клювы. Животные эти совершенно не изучены.
«Живые ископаемые» в нашем доме
Остров Мадагаскар-второй вариант естественного палеонтологического музея: так часто называют Австралию. И тоже остров этот не очень маленький. Он отделился от Африки, когда на земле обитали очень примитивные, первобытные млекопитающие (правда, уже не сумчатые). Поэтому в его лесах сохранились лучше, чем в других частях света, такие, например, редкостные зверюшки, как лемуры. Из пятидесяти видов лемуров, обитающих на земле, сорок живут на Мадагаскаре.
Но чтобы увидеть живых ископаемых, так сказать, в натуре, совсем не обязательно путешествовать далеко: за порогом нашего дома и даже не за порогом – на чердаке и в погребе сотни живых ископаемых деловито ткут свою паутину. Ведь все пауки – животные древнейшие. За триста миллионов лет, с тех пор как появились они на земле, восьмирукие ткачи почти не изменились.
Часто думают, что живые ископаемые уцелели лишь в небольшом числе и близки к вымиранию, потому что плохо переносят современные условия жизни. Это правило, может быть, и верно по отношению к некоторым из них, но не ко всем. Каждый день миллионы людей моются, например, скелетом живого ископаемого, которое отнюдь не думает вымирать. Живет в море почти всюду. Губка, конечно. Это причудливое создание, пожалуй, самое древнее из всех самых древних многоклеточных обитателей Земли. Еще в докембрийскую эпоху, миллиард лет назад, в морях жили губки, совершенно подобные современным.
Устроена губка очень просто. Нет у нее ни мозга, ни нервов, ни глаз, ни ушей, ни легких, ни желудка, ни мускулов, ни крови…
Что же есть? Есть студенистое тело-мешок и иголки в нем вместо скелета (известковые, кремневые или роговые волокна). Тело все в дырках: это Губкины рты – поры. Их так много, как звезд на небе.
Губка не может ни двигаться, ни даже шевелиться. Но это живое существо! Все время через поры-рты засасывает она воду. Прокачивает ее через себя. С водой в губку заплывают разные мелкие водоросли и рачки. Она их и переваривает в теле-мешке.
Губки очень живучи. Разрежьте губку на пять частей, и каждый ее кусочек вырастет в новую губку. Изрубите ее ножом, просейте через сито – губка рассыплется на клеточки. И каждая клеточка будет жить! Она ползает, добычу ловит. Клетка к клетке ползет, срастается с ней. Подползают другие клетки, складываются вместе – создают новую губку.
Смешайте в баке с морской водой две протертые через сито губки. Клетки каждой из них соберутся вместе: свои приползут к своим! И срастутся в две прежние губки.
Почти все губки живут в море. Одни из них размером с ноготь, другие – с бочку. А окраска у них – всех цветов.
Губку, которой мы моемся, добывают в теплом Средиземном море. Люди ныряют за ней на дно, потом сушат на солнце. Губка сгнивает, остается только ее скелет. Он губчатый и мягкий, похож на шелк, хорошо впитывает воду и пенит мыло.
Другое реликтовое существо, тоже очень древнее, но отнюдь не редкое,- мечехвост – полурак-полускорпион. Четыреста миллионов лет назад (эпоху эту назвали силуром) на суше жили только скорпионы. Не было еще ни пауков, ни насекомых. В море тоже скорпионов ползало немало: ракоскорпионы, большие, иные метра два длиной, бронированные чудовища. Их потомки мечехвосты дожили до наших дней и почти не изменились. Похожи они… трудно даже сказать, на кого: на броненосцев? на танки? на фантастические машины марсиан? Фотография даст вам лучшее представление о внешности этих странных созданий, чем любое описание.
Ныне мечехвосты уцелели только в двух весьма далеких друг от друга районах земного шара: в прибрежных водах Карибского моря (и всего западного побережья США) и на мелководьях индонезийских морей. Отсюда распространяются они вдоль берегов Китая до Японии и на запад – к Индии.
Местами мечехвостов еще так много, что их ловят сетями, сушат, толкут и вывозят на поля как удобрение.
Батискаф, изобретенный природой
Наутилусы, прародители осьминогов, начали свою историю в одно время с мечехвостами. Шесть видов из этого старейшего рода морских патриархов дожили до наших дней. Пережившие свою эпоху наутилусы обитают на юго-западе Тихого океана – у Филиппин, Индонезийских островов и у Северной Австралии. Они похожи на сторуких улиток {59} и живут в раковинах, разделенных перегородками. Когда наутилус хочет опуститься на дно, наполняет раковину водой, она становится тяжелой и легко погружается. Чтобы всплыть на поверхность, наутилус нагнетает в свои гидростатические «баллоны» газ, он вытесняет воду, и раковина всплывает.
Жидкость и газ заполняют раковину под давлением, поэтому перламутровый домик не лопается даже на глубине в семьсот метров, куда наутилусы иногда заплывают. Стальная трубка здесь сплющилась бы, а стекло превратилось в белоснежный порошок. Наутилусу удается избежать гибели только благодаря внутреннему давлению, которое поддерживается в его тканях, и сохранить невредимым свой дом, наполнив его несжимаемой жидкостью. Все происходит, как в современной глубоководной лодке-батискафе, патент на которую природа получила еще пятьсот миллионов лет назад.
У наутилуса нет ни присосок, ни чернильного мешка, как у осьминогов и каракатиц, его родичей. Глаза его примитивны, как камера-обскура, они лишены линзы-хрусталика {60}. Реактивный двигатель тоже еще в стадии конструкторских поисков. Словом, это хотя и головоногий моллюск, но далеко не современный. Он закоснел в своем консерватизме и за полмиллиарда лет не приобрел ни одного полезного приспособления. Поэтому наутилус и занесен в анналы зоологии под малоутешительным именем «живого ископаемого».
А когда-то моря кишели наутилусами и аммонитами. Палеонтологам известны тысячи всевозможных их видов. Были среди них малютки не больше горошины. Другие таскали раковины – блиндажи величиной с небольшой танк. Родной брат наутилуса – эндоцерас жил в раковине, похожей на пятиметровую еловую шишку. В ней свободно могли разместиться три взрослых человека.
Раковина аммонита пахидискуса – чудовищное колесо диаметром в три метра! Если раскрутить все витки, то из нее можно было бы соорудить лестницу до четвертого этажа. Никогда и ни у кого ни прежде, ни теперь не было таких огромных раковин.
Четыреста миллионов лет безмятежно плавали по волнам аммониты и наутилусы. Затем вдруг неожиданно вымерли (все, кроме шести видов). Случилось это восемьдесят миллионов лет назад, в конце мезозойской эры.
Гидра и оригинал из хохлаткиной родни
Жила она, гидра, в болоте около города Лерны и, выползая из своего логовища, пожирала целые стада, опустошала всю округу.
И вот выползла последний раз, «извиваясь покрытым блестящей чешуей телом», поднялась на хвосте, а Геракл наступил ей на туловище и придавил к земле. Как вихрь, засвистела в воздухе его палица. Но тут Геракл заметил, что у гидры на месте каждой сбитой головы вырастают две новые.
– Иолай! – закричал сын Зевса. – Жги огнем ей шеи! Иолай поджег рощу и горящими стволами деревьев стал прижигать гидре шеи, с которых Геракл сбивал палицей головы. Новые головы перестали вырастать у гидры, и пришел ей конец.
Сказка – ложь, но в ней намек…
A если вооружимся мы микроскопом, то этот намек разгадаем.
Пройдем на болото, в «логово» гидры. Зачерпнем воду: вот она, гидра, в стакане!
Простым глазом ее не увидишь – так мала. Комочек слизи на зеленом листочке. Вот комочек вытянулся в столбик. Вот раскинул во все стороны щупальца. Схватили они рачка циклопа, и рачок забился в конвульсиях. Вот щупальца подтянули его ко рту – круглой «дыре» на верху столбика, и… циклоп исчез в ней, словно в пропасть провалился.
Как и фантазия древних греков, сочинивших мифы о Геракле, микроскоп увеличил гидру в тысячу раз.
У нашей гидры определенное сходство со сказочной тезкой: ее так же трудно убить. Можно резать на куски, но из каждого куска вырастет новая гидра!
Можно протереть через терку. Останутся от нее одни крошки. И каждая крошка породит гидру!
Можно вывернуть гидру наизнанку, как чулок, – и гидра будет жить, есть и расти!
Поистине чудеса, которые творит природа, чуднее чудес сказочных!
А теперь – об оригинале.
Чтобы познакомиться с ним, из Европы перенесемся мысленно в Южную Америку.
Вид у него, у оригинала, хищный, но нрав безобидный. Ведь гоацин сродни курице, а не орлу.
Спина допотопной птицы зеленая, а живот красный. На голове желтый хохол. Вроде бы птица как птица, но вот что странно: у птенцов гоацина на крыльях… когти. На двух первых пальцах. Цепляясь когтями за сучья, птенчики лазают по веткам. Забираются на самую макушку дерева. И оттуда ныряют прямо в реку. (Гоацины вьют гнезда на деревьях, нависающих над водой.) Плавают и ныряют молодые гоацины очень ловко. Когда они ловят головастиков или карабкаются по сучьям, то похожи на рептилий, а не птиц. Черты родства с пресмыкающимися у молодых гоацинов особенно заметны. А когти на крыльях – очевидное доказательство древности их рода. Ведь первоптицы, археоптериксы, обитавшие на земле более ста миллионов лет назад, носили на крыльях такие же когти – утраченное ныне наследство, ненужный дар ящероподобных предков. Только молодые гоацины сохранили этот атавизм.
У взрослых гоацинов на крыльях уже нет когтей: лишь небольшие бугорки там, где в юности росли когти. Повзрослев, и плавать они разучились. Всю жизнь прячутся теперь на деревьях, клюют листья. Гоацин – птица несъедобная: как от крокодила, пахнет от нее мускусом. Гоацин и кричит не по-птичьи, а квакает, как лягушка.
От древних эпох сохранились не только реликтовые виды птиц, ящериц, моллюсков, но и целые семейства «живых ископаемых» (новозеландские бескрылые птицы киви, опоссумы), отряды (скорпионы, пауки), подклассы и даже целые классы (сумчатые, утконосы и ехидны, голотурии, морские лилии, панцирные моллюски и кистеперые рыбы).
О последних стоит рассказать подробнее, ибо они, эти рыбы, сделали историю: не политическую, конечно, зоологическую.
Как любознательный фермер обогатил науку
История рыб, «которые сделали историю», началась с того дня, когда Уильям Форстер решил прогуляться по городу. Он был скватером, разводил овец и жил на ферме, далеко от цивилизованного мира, на Бенет-Ривер в Квинсленде. Потом это дело ему надоело, и он приехал в Сидней, чтобы там поселиться. В один из дней 1869 года Форстер решил осмотреть город.
Зашел, конечно, и в музей.
Здесь он встретил Герарда Крефта, куратора музея, и они разговорились. Форстер спросил между прочим:
– Сэр, почему нет в вашем музее ни одной из тех больших рыб, что живут у нас в Бенет-Ривер?
– Больших рыб? Каких больших рыб?
– А баррамунда. Мы зовем их еще бенетскими лососями.
– Где Бенет-Ривер – я не знаю?
– На севере, сэр. В Квинсленде. Там много этих рыб. Они похожи на жирных угрей. Зеленые – футов пять длиной. Чешуя у них толстая, крупная. И представьте себе – у этой баррамунды только четыре плавника. Все на брюхе. Да, только четыре, я хорошо помню: сам не раз ловил.
– Знаете, Форстер: понятия не имею, о какой рыбе вы говорите. Я о вашей баррамунде ничего не слышал. Может быть, это какая-нибудь неизвестная еще науке разновидность. Хорошо бы достать нам для музея парочку таких баррамунд.
– О конечно, – любезно согласился Форстер. – И это можно сделать. Мой кузен еще живет на ферме. Я напишу ему.
И вот через несколько недель в Сиднейский музей почтальон привез бочку, а в бочке были рыбы, очень крепко посоленные.
Крефт буквально остолбенел, когда увидел их. Форстер не ошибся: рыбы совершенно невероятные и плавников у них «только четыре». Все на брюхе. И все похожи скорее на короткие лапы, но без пальцев. И хвост совсем особенный: не вильчатый, как у многих рыб, а словно бы оперенный, как птичье перо. Зоологи хвосты такого типа называют дифицеркальными. Это, пожалуй, наиболее древняя форма из всех рыбьих хвостов.
Но самая большая неожиданность ожидала Крефта во рту у рыбы. Заглянув туда, он увидел на нёбе и нижней челюсти четыре большие пластинки сросшихся между собой зубов, похожие на петушиные гребни.
Такие же вот зубы-терки давно уже попадались палеонтологам среди древних окаменелостей, но ни у одной живой рыбы их еще не нашли. Обладателей этих странных зубов профессор Агассиц, большой знаток ископаемых рыб, назвал цератодами, то есть рогозубами {61}. Бесчисленные их стаи 70 и 100 миллионов лет назад населяли пресные воды нашей планеты.
И вот теперь Крефт держал в руках этого самого цератода! Так он решил, внимательно рассмотрев зубы баррамунды, и потому без колебаний окрестил бенетских лососей цератодами. Но позднее палеонтологи нашли не только зубы, но и кости настоящих ископаемых цератодов, и они оказались не совсем похожи на скелет бенетского цератода. Поэтому некоторые ихтиологи предложили к его научному имени прибавить приставку «нео» (то есть «новый») или «эпи» (что значит «после»).
Но часто баррамунду по-прежнему называют просто цератодом, без всяких приставок.
Исследуя рыб, Крефт разрезал одну из них и нашел в утробе ее еще нечто поразительное… легкое! Настоящее легкое в рыбе! У нее были и жабры, но было и легкое. Значит, баррамунда дышала и жабрами и легким, значит, это двоякодышащая рыба!
До того как Форстер решил посетить музей в Сиднее, зоологи знали только двух двоякодышащих рыб: лепидосирена, или по-местному карамуру, и протоптеруса (он же комток). Первого открыл в 1833 году в Южной Америке (в Бразилии и Парагвае) австрийский исследователь Иоганн Наттерер. Второй несколькими годами позже был описан знаменитым британским палеонтологом Робертом Оуэном. Рыбу поймали в Белом Ниле, но обитает она во многих реках Африки от Сенегала до Нигерии и дальше до озера Чад и Восточной Африки (на юг до Замбези).
У лепидосирена и протоптеруса по два легких, у неоцератода только одно {62}. Лепидосирен крупнее протоптеруса: 1 метр 25 сантиметров – длина самых больших карамуру, а протоптерусов – лишь 65 сантиметров.
Оба, и лепидосирен-карамуру, и протоптерус, похожи на угрей, чешуя у них очень мелкая (у неоцератода – помните? – крупная!), хвост дифицеркальный, а вместо грудных и брюшных плавников – гибкие, тонкие «усы». Оба живут в заросших травой и водорослями болотистых заводях, которые часто наполнены водой только в периоды дождей. Но наступает засуха, и вода уходит. Речные старицы и болота пересыхают, и, чтобы не погибнуть, рыбы, которых природа кроме жабр наделила и легкими, зарываются в ил и впадают в спячку, как медведь в берлоге. Но методы спасительного «консервирования», к которому они прибегают, чтобы уберечь себя от гибели, у двоякодышащих кузенов разные.
Протоптерус, забравшись в норку, вырытую в иле, окружает себя пенной слизью. Из слизи и слипшейся с ней грязи вокруг рыбки образуется скорлупа (с дыркой для воздуха, которым рыба теперь дышит) {63}. Скорлупа плохо пропускает влагу, и протоптерус в этой капсуле, словно под стеклянным колпаком, спокойненько спит себе всю засуху. Когда вновь польют дожди и размокнет ссохшийся камнем ил, протоптерус вылезает из скорлупы. Дожди «размачивают» и саму рыбу, потому что рыба во время спячки сильно высыхает, теряет в весе в… два? три? четыре раза? В десять раз! Напитав свои ткани водой, протоптерус, извиваясь, плывет у самого дна. Проголодался: ищет лягушек и улиток, раков и водяных жуков – свою любимую добычу.
Раньше думали, что и лепидосирен, зарывшись в ил, тоже окружает себя слизью. Но, когда более внимательно исследовали его норки на дне пересохших болот, убедились, что лепидосирен «консервирует» себя совсем иначе, чем его африканский собрат.
Лепидосирен (не забудьте – это всего только рыба!) строит искусную крышу у себя над головой. Скатывает ил в круглые комочки и укладывает их над норкой (как он это делает, никто, кажется, еще не видел). В промежутки между «ядрами» земляного наката в сырое подземелье, где спит в анабиозе {64} чудо-рыба с легкими, легко проникает воздух.
Если земля, иссушенная зноем, теряет последние капли влаги даже и там, в глубине под толстой коркой затвердевшего ила, где лежит, свернувшись, лепидосирен, рыба, пробудившись, зарывается еще глубже. Но прежде чем снова уснуть, строит над головой из шаров-кирпичей еще одну пористую крышу, этажом ниже первой. Если иссушающий зной доберется и туда, рыба с легкими копает ил глубже и снова отгораживает себя от мира решеткой из глиняных ядер.
Самцы двоякодышащих рыб Америки и Африки о потомстве своем заботятся не менее ревниво, чем прославленный морской конек – самый примерный в рыбьем царстве отец. Икру, отложенную самками в ямках на дне (у лепидосирена в норках), они бдительно стерегут, смело кидаясь на врагов. А так как рыбы они злые и крупные, враги предпочитают держаться подальше от двудышащих отцов.
Американец лепидосирен и африканец протоптерус, рыбы-уникумы, разделенные океаном, – близкие родственники. Ихтиологи, исследовав их, объединили и того и другого в одно рыбье семейство. Но двоякодышащий австралиец, открытый Форстером и описанный Крефтом, представляет в системе зоологической классификации другое семейство, потому что и внешностью своей и повадками не совсем похож на заморских сородичей {65}.
Он в большей степени вегетарианец, чем они: верный традициям предков, ест и растения, от которых другие двоякодышащие рыбы теперь отказываются. Свою очень крупную икру неоцератоды откладывают не в норках и ямках на дне, а каждую икринку в толстой студенистой оболочке по отдельности прикрепляют к подводным растениям. И главное – в засуху, когда родные их реки пересыхают, неоцератоды не закапываются в ил. Рыбы просто собираются в лужах и дышат здесь своими легкими, так как в обмелевших ручьях кислорода им всем не хватает. Они ползут туда, где под густым покровом кустов сохранились капли влаги, где тень и не так палит солнце, и лежат там без движения. И дышат, и дышат. И ждут дождей. Но долго, конечно, так продержаться не могут. В большие засухи много неоцератодов погибает. Поэтому (и еще потому, что они очень вкусные) эти рыбы сейчас очень редки, уцелели, лишь в реках Бенет- и Мэри-Ривер.
Филогенез в онтогенезе
К тому времени, когда бочка с солеными неоцератодами попала с Бенет-Ривер в Сиднейский музей, Эрнст Геккель и Фриц Мюллер уже сформулировали свой знаменитый биогенетический закон: филогенез повторяется в онтогенезе. Эти несколько слов значат очень много. Филогенезом биологи называют вековую эволюцию растений и животных. А онтогенезом – эмбриональное и послеэмбриональное развитие каждого отдельного организма.
Так вот, согласно биогенетическому закону, всякое животное, развиваясь от яйца до новорожденного, в ускоренном темпе проходит основные стадии эволюции своего вида, за несколько недель повторяя в общих чертах узловые фазы филогенетического метаморфоза, длившегося сотни миллионов лет. Вот почему зародыши птиц, лягушек, рыб, зверей и людей на определенных этапах развития похожи друг на друга.
Человеческие зародыши в возрасте нескольких недель ясно свидетельствуют о том, что дальние наши предки когда-то были… рыбами. В этом юном возрасте шеи зародышей всех людей наделены жаберными щелями, с которыми акулы до сих пор не желают расстаться.
Нам они совершенно не нужны, эти щели, и, появившись на время, как древний бесполезный атавизм, потом навсегда зарастают (у некоторых, впрочем, остаются незаросшие шейные фистулы). С открытием биогенетического закона теория Дарвина получила мощное подкрепление. Теперь, не забираясь даже далеко в глубь геологических напластований, оставшихся от минувших эпох, можно было по эмбрионам животных судить об их доисторическом прошлом: кто от кого произошел. Кардинальная формула демократов «все произошли от всех» нашла свое реальное выражение и в биологии: все мы, дети Земли, одетые в шерсть, перья и чешую, произошли от одного корня – от рыб.
Но от каких рыб? И кто породил самих рыб?
Это и хотел установить знаменитый немецкий биолог и дарвинист Эрнст Геккель, когда снаряжал экспедицию в Австралию: на охоту за эмбрионами неоцератода. Ведь эта древняя рыба, как тогда решили, наиболее близка по крови к тем загадочным существам, которые триста миллионов лет назад стали нашими предками.
У Геккеля был друг Пауль Риттер, богатый фабрикант из Базеля. Он обычно финансировал исследования Геккеля. Он дал деньги на экспедицию. Ученик Геккеля профессор Рихард Семон согласился возглавить ее.
В августе 1891 года Семон прибыл в Австралию. Доктор Крефт, описывая неоцератода, уверял, что тот живет в солоноватой воде, ест растения и в засуху закапывается в ил. Все это оказалось неверным. И Семон потратил только даром время, поверив Крефту и охотясь за рыбой в устьях рек Бенет- и Мэри-Ривер, где вода была солоноватой. Там никто и не слышал о такой рыбе.
Тогда, покинув побережье, Рихард Семон отправился в глубь страны. Он знал, что неоцератоды откладывают икру на растениях. Икра крупная, почти сантиметр в поперечнике.
Казалось бы, нетрудно ее заметить. Но Семон ее не находил. День за днем, неделю за неделей обшаривал он водоросли и подводные травы, но икры не было. Теперь искал он уже не один: профессор Спенсер, биолог из Мельбурна, решил провести отпуск в охоте на неоцератода. Но прошел месяц, отпуск кончился, и Спенсер вернулся в Мельбурн. А Семон все лазил по тростникам по пояс в воде: искал драгоценную для науки икру.
И наконец – о удача! Три икринки! Вот они – три матовые бусинки на зеленом стебле! Сначала он не поверил своим глазам. Но сомнений не было: это икра баррамунды!
– Баррамунды? Нет, мистер, дйелле.
Австралийцы, которые помогали одержимому чужеземцу искать иголку в стоге сена, дружно качали головами.
– Нет, не баррамунды. Это икра дйелле.
У Семона опустились руки. Но тут он подумал (и не ошибся): может быть, Крефт и здесь все перепутал, может быть, неоцератода на его родине называют не баррамундой, а дйелле.
– А какой он, дйелле?
Ему рассказали какой. Показали и обглоданные его кости, и Семон понял, что нашел то, что искал: дйелле несомненно та рыба, ради которой он приехал так издалека.
Теперь, когда все знали, что их гость ищет икру дйелле, дело сразу пошло на лад. В первый же день выудили из воды двадцать три икринки. Они сейчас же были отправлены в банки со спиртом.
Семон вставал с зарей и бежал на реку. Охота продолжалась. Новые икринки с эмбрионами, таящими тайну нашего филогенеза, тонули в спирте, суля науке большие открытия.
Но вдруг все кончилось: не стало икринок, никто не находил их больше.
Причина их исчезновения открылась Семону, когда однажды вечером он вернулся в деревню. Деревня ликовала: на костре, брызгая жиром, жарилась большая рыба с четырьмя плавниками. Семон понял, что последняя самка из местных дйелле попала в сети к рыбакам. Это ее икрой наполнял он пробирки. А теперь она мертва.
Уже начался сезон дождей, п обитатели деревни, в которой Семон жил, захотели переселиться на новое место. Они ушли, а незадачливый охотник за икрой уехал на небольшой остров между Австралией и Новой Зеландией. Там решил ждать новых инструкций из Европы. Наконец инструкции и деньги прибыли, и на следующий год Семон опять стал частым гостем в камышах Бенет-Ривер. Но теперь он не был так наивен, как прежде. За каждую икринку назначил премию в 25 долларов, но при условии, что никто в деревне не должен ловить и есть дйелле. Дело быстро продвинулось вперед.
Семон заспиртовал и привез в Европу семьсот икринок неоцератода. Эмбрионы, заключенные в них, были разного возраста. И когда Семон стал изучать их, его глазам открылись все фазы онтогенеза древнейшей из рыб.
А онтогенез ведь своего рода краткий конспект филогенеза. Биологи, которые сумели его расшифровать, немало узнали о наших предках до обезьяны.
Кем мы были до обезьяны?
Сначала морскими червями. Зоологи, правда, не без сомнений считают, что древние предки рыб и всех вообще позвоночных (в том числе и человека), так называемые хордовые животные {66}, произошли от каких-то первобытных червей. Ланцетник, маленькая, похожая на лист ландыша «рыбка» без плавников, без костей, без зубов и без челюстей (но с хордой!), которая, зарывшись в песок, процеживает через рот воду, выуживая детрит и планктон, представляет собой, пожалуй, наименее искаженный живой «портрет» наших давно вымерших предков, когда они уже не были червями, но не стали еще и рыбами.
Потом за созданиями, похожими на ланцетника, появились бесчелюстные перворыбы, от которых уцелели ныне одни лишь окаменевшие кожные (!) зубы. Знаменательный момент: природа изобретает зубы! «Зубастым», плакоидным панцирем, кольчугой из мелких острых зубов, одела она с головы до хвоста своих первых позвоночных детей. Потом часть зубов, которым тесно было на коже, переместилась в рот, на челюсти. К тому времени у древних перворыб уже были челюсти.
Мир стал кусаться! Зубы на панцире преобразовались затем в чешую. Но акулы сохранили их и на коже – она у них до сих пор «зубастая» – с плакоидной чешуей.
Тут случилось великое переселение рыб из морей в реки. Возможно, что в пресные воды бежали они от хищных ракоскорпионов, предков и родичей уже известных нам мечехвостов.
Из рек и озер вышли на сушу первые четвероногие. Рыбы, обитавшие здесь триста пятьдесят миллионов лет назад, дышали жабрами и легкими. Без легких они бы задохнулись в затхлой, бедной кислородом воде первобытных озер.
Одни из них зубами-жерновами жевали растения (так называемые настоящие двоякодышащие). Другие, кистеперые, ели всех, кого могли поймать. Нападали из засады и, хватая добычу, отравляли ее ядом. Он стекал из нёбной железы вниз по канальцам на зубах (если только ихтиологи не ошиблись, решив, что межчелюстная железа кистеперых рыб была ядовитой).
Позднее кистеперые рыбы из группы целакантов переселились опять в море. Но там им не повезло: они все неожиданно вымерли (все, кроме знаменитой латимерии, открытие которой недавно наделало столько шуму).
Тех же кистеперых, которые сохранили верность пресным водам, ожидало великое будущее: судьбой суждено им было породить всех четвероногих и пернатых обитателей суши.
У древних рыб с легкими были удивительные лапоподобные плавники с членистым скелетом, похожим на кисть, очень подвижные и мускулистые. На этих плавниках они ползали по дну. Наверное, вылезали и на берег, чтобы здесь спокойно подышать и отдохнуть. Постепенно плавники-ходули превратились в настоящие лапы. Рыбы вышли из воды и стали жить на суше.
Но что же, какая причина побудила рыб, которые, надо полагать, чувствовали себя в воде совсем неплохо, покинуть родную стихию?
Недостаток кислорода? Нет, кислорода хватало. Когда в затхлой воде его становилось мало, они могли подняться на поверхность и подышать чистым воздухом. Может быть, их выгнал на сушу голод? Тоже нет, потому что суша в то время была более пустынна и бедна пищей, чем моря и озера.
Может быть, опасность?
Нет, и не опасность, так как кистеперые рыбы были самыми крупными и сильными хищниками в первобытных озерах той эпохи.
Стремление остаться в воде – вот что побудило рыб покинуть воду! Это звучит парадоксально, но именно к такому заключению пришли ученые, внимательно изучив все возможные причины. Дело в том, что в ту далекую эпоху неглубокие сухопутные водоемы часто пересыхали. Озера превращались в болота, болота – в лужи. Наконец, под палящими лучами солнца высыхали и лужи. Кистеперые рыбы, которые на своих удивительных плавниках умели неплохо ползать по дну, чтобы не погибнуть, должны были искать новых убежищ, новых луж, наполненных водой.
В поисках воды рыбам приходилось переползать по берегу значительные расстояния. И выживали те из них, которые хорошо ползали, которые были лучше приспособлены к сухопутному образу жизни. Так постепенно, благодаря суровому отбору, рыбы, искавшие воду, обрели новую родину. Они стали обитателями двух стихий – и воды, и суши. Произошли земноводные животные, или амфибии, а от них – пресмыкающиеся, затем млекопитающие и птицы. И наконец, по планете зашагал человек!
Самые древние из «живых блиндажей»
«Мы шли по их спинам» – их было тысячи и тысячи. Они ползали всюду: на холмах и в долинах, в густой траве и среди голых камней. Медлительные, безобидные, огромные.
Лего искал на Родригесе дронтов, а нашел черепах. В 1691 году он описал, что увидел: «тысячи и тысячи» черепах, не маленьких – огромных!
И до него, и после него другие мореплаватели, исследователи и пираты рассказывали то же: на далеких островах в тропическом море (на Галапагосах? Сейшелах? на Родригесе? Хуан-Фернандесе? или где-то еще) встречали они «толпы» бронированных голиафов: «по двадцать пудов – не самые большие из них!»
Но натуралисты в Европе не очень-то верили этим рассказам. «Шкиперские побасенки»,- твердили они. В двух больших научных монографиях о черепахах весьма серьезных зоологов Вальбаума-»Хелонография» (то есть «Черепахография») и Шнейдера – «Общая естественная история черепах» о гигантских черепахах ни слова не сказано, хотя книги эти были изданы через сто лет после путешествия Лего на Родригес, в конце XVIII века, когда последние пираты доедали последних черепах на последних не захваченных британцами островах.
Но если зоологи не знали (или не хотели знать) о громадных черепахах, то каждый шкипер корабля, уходящего в далекое плавание, никогда не забывал о них. И часто маршруты судов планировались так, что капитаны предпочитали сделать большой крюк, но зайти по пути на те острова, где, по слухам, водились черепахи. Мореплавателям тех лет они порой были нужнее, чем даже пресная вода.
Это и понятно. Не забывайте, ведь в то время Аппер еще не изобрел консервы и холодильников не было. Трюмы судов, отправлявшихся за моря-океаны, набивали сухарями, сушеными бобами, горохом и бочками с солониной. Но в сухарях и бобах быстро заводились насекомые. Вездесущие и неистребимые крысы тащили все, что могли утащить. А мясо (обычно лошадиное, но иногда и говядина), хотя и плавало в пересыщенном солью растворе, от тропической жары тоже часто портилось. Да и надолго ли его вообще могло хватить? Корабли были перегружены людьми: везли солдат, чтобы обороняться от врагов и пиратов, везли переселенцев и ссыльных. И команды брали больше, чем требовалось. Ведь многие умирали от цинги и других болезней, а в бурю и шторм, чтобы справиться со сложной оснасткой, требовалось много рук.
Плаванье длилось годами. Парусные скорлупки, на которых люди ощупью исследовали земной шар, были во власти ветра и течений. Они часто влекли их туда, куда моряки плыть не хотели, или не влекли никуда. В штиль дрейфовали неделями. В бурю уносились за сотни миль от курса.
Вот почему вкусные, жирные, огромные черепахи, которые бегали чуть быстрее улитки, были для моряков всех стран желаннее пресной воды. Черепахами набивали трюмы, и эти живые консервы, «ниспосланные нам всеблагим господом», месяцами без воды и пищи копошились в трюме и не умирали, а стало быть, и не портились. Никакая солонина не могла с ними сравниться!
Толстая броня, в которой, как в блиндажах, черепахи прятались от врагов, кажется, неплохо защищала их от динозавров. Но от голодных мореплавателей не спасла.
Эти самые «блиндажи», попавшие с кораблей в музеи Европы, окончательно убедили натуралистов, что огромные сухопутные черепахи – не миф. Никто не сомневался теперь, что есть в океанах острова, на которых они живут. Но какие это острова? Гигантские панцири хранились в музеях без этикеток, а если этикетки и были, то часто неверные. В Парижском музее, например, берегли панцирь «индийской» черепахи, но в Индии исполинские черепахи не водятся и никогда не водились (на памяти человека). Неразбериха в музейных каталогах и названиях черепах царила долго. Никто не знал, где еще живут они, эти черепахи, а где жили, но уже вымерли. Где вымирают, а где процветают?
Известный порядок был наведен лишь девяносто лет назад, когда доктор Гюнстер из Британского музея опубликовал книгу «Гигантские сухопутные черепахи (живые и вымершие) в коллекции Британского музея».
Он доказал, что несколько видов и подвидов исполинских черепах еще недавно обитало (и притом в большом изобилии!) на Маскаренских островах (их всех здесь теперь истребили). Несколько видов – на атолле Альдабра (к северу от Мадагаскара). Здесь они еще уцелели. Опасаясь за их судьбу, доктор Гюнтер послал длинное письмо английскому правительству, подписанное многими учеными Британского музея, в котором просил принять необходимые меры для охраны черепах. И меры были приняты. Решили, кроме того, часть черепах переселить с Альдабра на Сейшельские острова. Но оказалось, что переселение такое давно уже совершилось: когда немецкие океанологи с исследовательского судна «Вальдивия» в начале 1899 года прибыли на Сейшельские острова, им подарили здесь несколько больших черепах.
Одну из них дед местного рыбака еще сто лет назад привез с Альдабра. Привозили их и позднее. Полудомашних черепах содержат здесь в просторных, огороженных камнями загонах. Много «диких» ползает и в кустах вокруг полей. Перед большими торжествами черепах забивают, поэтому на Сейшельских островах черепаший суп – обычный деликатес на праздничных обедах.
Четвертая большая группа островов, по которым еще ползают бронированные кузины динозавров, раскинулась в Тихом океане (Маскаренские, Сейшельские острова и атолл Альдабра расположены, как известно, в Индийском океане).
Тихоокеанский архипелаг, населенный черепахами-исполинами, вопреки старой морской традиции назван был не именем его первооткрывателя Диего де Риваденейра, а в честь бронированных животных, которые поразили воображение испанцев, когда те в 1535 году по воле случая попали вместо Перу на Галапагосские острова.
Черепах здесь было так много, что четыреста лет подряд и конкистадоры, и пираты, а позднее китобои и рыбаки, сделав изрядный крюк, приплывали сюда только за тем, чтобы пополнить свой провиант. Подсчитали, исследовав корабельные журналы, хранящиеся в библиотеках США, что лишь с 1831 по 1868 год только 79 китобойцев вывезли с Галапагосских островов 13 013 черепах! Китобойный флот Соединенных Штатов насчитывал в то время семьсот судов. А корабли других стран! А пираты, которые еще до охотников за китами объедались черепахами!
Полагают, что именно черепахам мореходы минувших веков (и открыватели, и завоеватели, и флибустьеры, и китобои) обязаны успехом своих предприятий {67}. Ведь только на Галапагосских островах моряки всех наций и всех времен съели, наверное, несколько миллионов черепах.
Удивительно, как они еще уцелели. Ведь сухопутные черепахи не очень-то плодовиты. В год, говорят, откладывают они лишь около двадцати яиц. Но живут долго, и, конечно, за сто да за двести лет каждая самка много произведет на свет потомков.
Помимо своего великолепного долголетия (которое, бесспорно, поразительный феномен!) черепахи немало и других загадок могут предложить любознательному уму. Как попали они, например, на уединенные острова, отделенные от материков сотнями миль соленой воды?
Плавать черепахи умеют, но, по-видимому, морская вода губит тех из них, которые к ней не приспособились. Вильям Биб, известный американский биолог, видел, как большая сухопутная черепаха плыла по морю, «и плыла хорошо». Но через неделю она умерла. Ее легкие и кишечник наполнены были соленой водой, которой черепаха наглоталась, когда плыла. Биб думает: это ее и погубило.
Возможно, что некоторые острова когда-то очень давно и были связаны с материками перешейками или составляли с ними одно целое. Но Галапагосский архипелаг, как теперь полагают, с материковой сушей никогда не соединялся. Если такой мост существовал, справедливо заметил один биолог, «то почему он так мало использовался?»
В самом деле, почему в таком случае прошли по нему с материка на острова только черепахи, ящерицы, змеи (всего один вид) и белоногие мыши {68}?68 Других нелетающих четвероногих на Галапагосах ведь нет. Также и на атолле Альдабра: живут только птицы и летучие мыши двух видов да… черепахи. (Есть, правда, и мелкие ящерицы – гекконы и сцинки, но они могли приплыть на корягах.)
Если птицы и летучие мыши наверняка прилетали из Африки или с Мадагаскара, то как добрались сюда черепахи, которые летают не лучше топора?
Возможно (это одно из наиболее вероятных объяснений), очень-очень давно их завезли на острова люди. Конечно, черепах ели мореплаватели не только исторических, но и доисторических эпох.
Однажды (еще в прошлом веке) на Маскаренских островах нашли очень старую (ей было около двухсот лет), неведомо как туда попавшую… галапагосскую черепаху.
И на островах Хуан-Фернандес {69} жили еще недавно галапагосские черепахи. Их привезли сюда переселенцы из Чили, чтобы есть, и в конце концов всех съели. А по одному из островов Тонга, в Тихом океане, и сейчас еще, по-видимому, ползает мадагаскарская черепаха, по имени Туи-Малила.
Сначала думали, что она приплыла сюда с капитаном Куком. Он действительно в 1777 году подарил одному из местных вождей большую черепаху. Но то была галапагосская черепаха, а Туи-Малила, как определил несколько лет назад доктор Оливер, мадагаскарская – Testudo radiata.
Так что по воле людей сухопутные черепахи неплохо путешествуют по морю. Наверное, это было и раньше: расселяясь по островам, предки полинезийцев, меланезийцев, мальгашей и других островных народов везли с собой и живых черепах. Покидали острова, которые им не пришлись по душе, а черепах оставляли, чтобы всегда иметь здесь провиант, если судьба снова занесет их ладьи в эти края. Черепахи плодились и расползались по острову во все его концы. Пищи, травы разной, было много, а врагов никаких. Жили они тут, как в раю, пока люди снова сюда не явились.
Наверное, так (а может быть, и не так) попали большие черепахи на маленькие острова.
Рощи, в которых бродили динозавры
В Никитском ботаническом саду, в Крыму, растет дерево гинкго. У него листья похожи на веера и торчат пучками из морщинистого побега, как иглы у сосны. И жилки у листьев не сетчатые, как у всех наших деревьев, а тоже веером разбегаются от черешка, словно лучи от солнца, и нигде друг с другом не переплетаются.
Гинкго в тенистом парке среди магнолий и кленов! Что бы вы почувствовали, если бы в зоопарке в одном вольере со слоном увидели вдруг… живого динозавра?
Когда я смотрю на гинкго, странные картины представляются мне…
Я вижу болото. И туман над ним. Огромная туша, круша хвощи, грузно тащит по трясине многотонное тело. У дракона ноги толстые, как кряжистые дубы. Хвост анаконда извивается: в мутной жиже. Крылатая тень скользнула над топью – дракон проводил ее безразличным взглядом сытого великана.
А посмотреть было на что: ведь над болотом летел крокодил
Много их, разных «крокодилов», больших и малых (иные с дрозда, а иные и с планер!), парило тогда в воздухе. То были первые на земле авиаторы (если не считать стрекоз) – ящеры-птеродактили. Они носились между деревьями на кожистых, словно пергаментных, крыльях. Отдыхали на ветках, жуткие и уродливые, «точно выходцы из преисподней».
Сто и двести миллионов лет назад всюду на земле – и на суше, и в море, и в воздухе – жили страшные ящеры. Никогда прежде мир не видел таких чудовищ и едва ли увидит еще раз. В морях плавали ихтиозавры, мозазавры, плезиозавры. Бронтозавры и диплодоки бродили по болотам. А в небесах парили птеродактили.
И всюду по берегам болот и озер, в которых резвились динозавры, росли гинкго. «Летающие крокодилы» отдыхали на их ветвях. Ящеры-вегетарианцы лениво жевали их листья. Задрав к небу змеиные головы, глотали «орехи» гинкго.
Это чудом дожившее до наших дней изящное дерево росло в ту богатую событиями эпоху во всех странах всех континентов, кроме, по-видимому, только Африки: от Патагонии до Аляски, от Монголии до Гренландии. А теперь… Теперь тоже находим мы его на всех этих континентах и во многих странах, но только везде рядом с человеком: в парках, садах, вдоль дорог и пляжей. Люди вновь рассадили гинкго там, где когда-то зеленели рощи «динозавровых» деревьев, а потом все вымерли.
Уцелели гинкго только в Китае и Японии. Здесь растут они у храмов и гробниц. И здесь увидел их доктор Кемпфер. Он служил врачом при голландском посольстве в Нагасаки. Некоторые из священных деревьев, что росли около царских гробниц в Сендае, были очень почтенного возраста. Одно из них, тридцатиметровое гинкго, посажено было тысячу двести лет назад, когда японский император и его приближенные поменяли религию предков на буддизм. Одна из новообращенных придворных дам, кормилица императора Наихаку-Коджо, умирая, попросила не сооружать на могиле никакого памятника, а посадить гинкго, чтобы душа ее продолжала жить в этом дереве. Говорят, что ее
выбор пал на гинкго только потому, что Наихаку-Коджо была кормилицей, а у гинкго висят с ветвей вниз побеги, похожие на соски. У старых деревьев они дорастают до самой земли и, погружаясь в нее, поддерживают тяжелые сучья, словно подпорки. С тех пор, утверждают легенды, гинкго чтут в Японии как священное дерево храмов и гробниц.
После того как доктор Кемпфер опубликовал в 1712 году описание удивительного дерева, в научной литературе велись долгие споры, сохранились ли где-нибудь в мире «дикие» гинкго, или все деревья, которых немало растет в Японии и Китае, «домашние», то есть посажены и выращены человеком. Спор этот еще окончательно не решен. Кемпфер назвал открытое им на Востоке неведомое европейцам дерево странным словом «гинкго». «Гин» – по-китайски серебро. Кемпфер думал, что гинкго означает «серебряный абрикос»: намек на некоторое сходство плода гинкго с абрикосом. Но, как позднее выяснилось, слово «гинкго» ни в Китае, ни в Японии никому не известно. Дерево это называют здесь по-разному, но только не гинкго {70}.
В 1730 году после долгого отсутствия гингко вновь вернулось в Европу: семена его посадили в Ботаническом саду в Утрехте, в Голландии. Это были первые гинкго, зазеленевшие здесь после того, как на земле вымерли динозавры.
Позднее гинкго стали выращивать в Англии, а отсюда развезли их по всей Европе и Северной Америке, где и растут они сейчас почти в каждом парке.
Гинкго – растение двудомное. Это значит, что на одном дереве развиваются только женские цветки, а на другом только мужские – с тычинками и пыльцой. Поэтому у садоводов первое время было много хлопот с гинкго. В Монпелье, во Франции, росло отличное «динозавровое» дерево, стройное, пышное, цветущее, но, увы, бесплодное. Все садоводы Франции мечтали развести его потомков, но надежды их были тщетны: гинкго в Монпелье было женского пола, а цветущих мужских деревьев того же вида не было еще во Франции. И как, вы думаете, вышли из положения? Привезли из Англии ветку гинкго с мужскими цветками и привили ее на дереве в Монпелье.
Такая же история случилась и в Германии, в Иене. Здесь к мужскому дереву привили цветущую женскую ветку. В то время поэт Вольфганг Гёте был тайным советником при дворе в Иене. Как известно, Гёте увлекался ботаникой. Он еще до Дарвина высказал несколько не понятых его современниками идей об эволюции. Когда, путешествуя по Франции, Гёте увидел в Монпелье зеленеющее в своей первобытной красоте живое-»ископаемое» дерево, он, пораженный, долго стоял перед ним, а позднее написал в честь гинкго поэму, которую в наши дни миллионы немецких школьников учат наизусть (проклиная и динозавров, и их деревья). Предполагают, что гинкго в Иене было посажено по настоянию Гёте. Но это еще не доказано, хотя искусствоведы перерыли горы архивных документов в поисках нужных доказательств. Но доказано другое: гинкго – дерево очень древнее, впервые появилось оно на земле триста пятьдесят миллионов лет назад, в девонский период истории нашей планеты. Произошли гинкго от первобытных хвойных деревьев кордаитов, а те развились из плаунов. В предках сосны и ели тоже числятся кордаиты. Значит, гинкго и хвойные деревья – сосны, пихты, ели – в некотором роде двоюродные братья. Все они голосемянные растения: у них нет цветков и семена не покрыты мякотью плода. И хотя «орех» гинкго похож на морщинистый абрикос, ботаники доказали, что он тоже «голое семя», а не настоящий плод, как у цветковых деревьев – у того же абрикоса, скажем, у яблони или даже у березы.
Цветковые растения своими совершенными формами венчают растительное царство, как человек завершает развитие животного мира. Читателям, может быть, интересно будет узнать, что древнейшим из цветковых растений считается тополь. Его ископаемые остатки найдены в Гренландии в слоях земли, образовавшихся 100-130 миллионов лет назад. Некоторые ботаники оспаривают право тополя называться патриархом всех цветоносов и отдают пальму первенства прекрасной магнолии.
Итак, установлено, что в растительном царстве, так же как и в царстве животном, есть живые ископаемые. Гинкго не единственное из них. Чудо света – дерево-мамонт – секвойя, украшение заповедных лесов Калифорнии, тоже видело динозавров. Первозданные ящеры бродили в тени древних секвой и терлись бронированной шкурой об их стволы. Саговники, полупапоротники-полупальмы, что растут в тропиках, как и мезозойские гинкго, питали динозавров соками своей листвы. А папоротники, хвощи, плауны? Мхи, сине-зеленые водоросли? Все это очень древние растения. Они мало изменились с того времени, как появились на земле, и потому с полным правом могут претендовать на почетное в науке звание «живых ископаемых».
Равновесие природы- все зависят от всех!
Кого же мы истребляем?
Четыре года назад такой вопрос задал читателям писатель, зоолог и главный редактор журнала «Охота и охотничье хозяйство» Олег Гусев. На страницах журнала шла очень нужная дискуссия, значение которой в полной мере будет оценено только потомками.
Все началось со статьи профессора Г.П. Дементьева «Нужно ли истреблять хищных птиц?».
Профессор писал, что во многих странах мира пернатые хищники охраняются законом. В Англии, например, с 1954 года запрещено разорять гнезда и убивать сапсанов, дербников, чеглоков, канюков, беркутов и даже ястребов-тетеревятников. Пустельга и скопа тоже охраняются. Только ястреб-перепелятник, истребитель певчих птиц, объявлен, так сказать, вне закона. Разрешается лишь по особым лицензиям ловить живых соколов и ястребов для соколиной охоты, которая все больше входит в моду на Западе.
И в средние века, и в античное время люди любили и берегли хищных птиц. В Англии и Дании, например, человек, убивший сокола, должен был иметь дело с палачом. Но потом, как это не раз уже случалось в истории, маятник качнулся в обратную сторону: хищных птиц объявили врагами и стали безжалостно истреблять. Принесло ли это пользу?
Нет, только вред! Дичи, которую хотели оградить и умножить, уничтожая ее природных врагов, стало… меньше. Дичи не прибавилось. Первым заметил это норвежец Август Бринкман. С начала века норвежцы без пощады избивали в своих лесах ястребов, соколов, филинов: хотели, чтобы больше было белых куропаток. Но куропаток год от году становилось все меньше. В 1927 году Август Бринкман доказал, что куропатки гибли от болезней, главным образом от кокцидиоза, то есть поражения кишечника паразитами-кокцидами. По-видимому, хищники, уничтожая в немалом числе больных куропаток, исполняют в лесах роль санитаров.
В конце прошлого века и в Англии, в Гэмпшире, перебили почти всех пернатых и четвероногих «хищников» (даже ежей и цапель!). В результате после 1900 года куропаток и фазанов в тех местах стало… вдвое меньше. Даже форель, говорят, и та исчезла из рек.
И в лесах, нам более близких, в России случались подобные же казусы. В Беловежской пуще управители ее решили избавиться от всех ястребов, соколов, орлов, сов и других дневных и ночных хищных птиц. За три года, с 1899 по 1901, «всеми способами» уничтожили 984 хищника. И что же? Результат был нам уже известный: боровой дичи, глухаря в особенности, стало значительно меньше!
Рассказывают также, что в это же примерно время в бывшей Смоленской губернии граф Уваров и фабрикант Хлудов в своих имениях «повели компанию беспощадного истребления хищников силами местных жителей». За убитых ястребов крестьян и егерей награждали деньгами, порохом и дробью. Три года длилось избиение: почти всех хищников всех видов перестреляли, и… сразу же «начался массовый падеж белок, зайцев, тетеревов».
И Уваров, и Хлудов поспешили исправить положение: опять же за деньги стали покупать у крестьян живых хищников, которых ловили в соседних лесах, и выпускать в своих имениях.
Профессор Г.П. Дементьев в своей статье рассказал, что известный соколиный охотник Эйтермозер заметил, что соколы нередко нападают не на ближайшую птицу, а на… ненормальную, которая летит не так, как другие. Он решил проверить, может быть, хищники не хватают всех без разбора, а предпочитают нападать на больных птиц?
Десять своих соколов Эйтермозер стал напускать на ворон.
Ловчие птицы сбили 136 ворон. Их внимательно осмотрели: у восьмидесяти одной вороны не нашли никаких телесных недугов, но другие пятьдесят пять явно неважно себя чувствовали до того, как попали в когти к соколу.
Тогда в той же местности экспериментаторы без помощи соколов сами добыли сто ворон. Стреляли всех без разбора: здоровых было среди сотни 79, а больных – 21, то есть в процентном отношении вдвое меньше, чем у соколов.
Вывод может быть только один: соколы явно предпочитают нападать на больных птиц!
Почему? В последнее время зоологи, наблюдавшие за другими хищниками – четвероногими и морскими, заметили, что и у тех тоже такая склонность – охотиться на больных и раненых животных. Проявляется ли в этом своего рода биоценологический инстинкт, то есть инстинкт, возвышающийся над видовыми интересами и обеспечивающий выживание всего сообщества видов – биоценоза? Или, может быть, просто больных добыть легче?
Последнее бесспорно: ведь ловля птиц – дело нелегкое даже для пернатых асов. Примерно каждые два голубя из трех, на которых пикирует сокол сапсан, уходят невредимыми. Лишь один из трех атакованных голубей падает, рассеченный его когтями {71}.
Зоолог В.М. Гусев наблюдал за разными видами хищных птиц. Он подсчитал, что только 213 атак из 3441, предпринятых на его глазах хищниками, кончались удачно (удачно для хищника, но не для жертвы, конечно).
Понятно, что пернатые пираты предпочитают нападать на больных животных: те не так внимательны, не так быстры. Часто и держатся особняком, в одиночестве. Здоровые собратья, повинуясь инстинкту, обычно изгоняют их из стаи. А известно (это тоже экспериментально доказано), что многие животные, птицы и рыбы в стаях несут меньше потерь от хищников, чем разбитые на пары или одиночки. И дело здесь не только в умноженной бдительности соединенных в стаи животных, но еще и в каком-то особом психологическом свойстве коллектива, которое приводит атакующего врага в замешательство. Это свойство назвали эффектом замешательства.
Охраняйте хищных птиц!
У большого вопроса, который охотничий журнал задал зоологам: истреблять или охранять хищных птиц?- есть еще один очень важный для нас аспект. Уничтожая больных птиц и грызунов, хищники и нас тем самым спасают от страшных недугов и эпидемий.
Многие дикие животные носят в крови и в чреве своем возбудителей чумы, туляремии, энцефалита, лептоспироза, орнитоза и других трудно излечимых или неизлечимых заболеваний. «Известно уже,- писал в защиту хищных птиц зоолог С. Копыткин,- двадцать девять болезней общих для человека и птиц {72} и значительно больше – для человека и млекопитающих». Немало у нас и общих паразитов.
Так правы ли мы, объявляя хищных птиц своими врагами? Разумно ли мы поступали до сих пор, безжалостно их истребляя?
Нет, неразумно.
А между тем избиение хищных птиц продолжается.
От некоторых укоренившихся заблуждений людям очень трудно избавиться.
«Современная система отношения охотников к пернатым хищникам,- писал зоолог А. Чельцов в журнале «Охота и охотничье хозяйство»,- сводится на практике к их повсеместному массовому уничтожению… Могу возразить, что репрессивные меры направлены лишь против «вредных хищников»-ястребов да болотного луня, тогда как хищники полезные подлежат охране. На бумаге как будто и так, на практике же почти каждый охотник стреляет в каждого встреченного им хищника. Стреляет чаще всего не из-за премии, полагающейся за пару сданных лапок, а из самых «чистых» побуждений, из стремления принести, как он думает, искренне заблуждаясь, пользу».
К сожалению, это так. Для многих охотников и сокол, и лунь луговой, и сарыч-мышеед, мирно парящий над лесом,- враг, который не может рассчитывать на пощаду, и мишень для пальбы в цель. Стреляют в любую птицу хищного облика, не разбирая, полезная она или вредная. Многие охотники, я в этом убедился, не умеют, даже взяв в руки, ястреба отличить от коршуна, оставаясь в наивном неведении о том, что кроме ястребов и коршунов есть еще и сарычи, мохноногие канюки, луни (пять разных видов, из которых только один опасен для дичи!), подорлики и разные там осоеды и змееды. Для неискушенных в зоологии людей это слишком академические тонкости.
А ведь из 46 разнообразных видов дневных хищных птиц, обитающих в нашей стране, только два вида – ястреб-тетеревятник и болотный лунь – действительно вредны: истребляют немало дичи, которую охотники и сами не прочь пострелять.
Вот и получается, что среди убитых птиц, за лапки которых в охотсоюзах выплачивали премии по два с половиной рубля за пару, 80-90 процентов составляют полезные или безразличные для хозяйства человека виды.
В 1962 году в нашей стране было уничтожено 1 154 700 «вредных» птиц. А сколько погибло подранков! Сколько убитых птиц вообще не было зарегистрировано.
Соколы и ястребы помимо всего другого «полезны» и тем, что их можно выгодно продать (на валюту). Живых, не мертвых, конечно. Соколиная охота все больше входит в моду – не хватает соколов для охотников. Всюду их осталось мало. А у нас они есть еще и, возможно, скоро станут тем товаром, который найдет большой спрос за границей.
Мы же их бессмысленно уничтожаем.
«Уничтожали!»- возможно, возразят мне. Да, верно: дискуссия журнала «Охота и охотничье хозяйство» дала свои плоды. 1 июня 1964 года ее достойно увенчал приказ № 173 по Главному управлению охотничьего хозяйства и заповедников:
«…Учитывая новые данные о биологии хищных птиц и приносимую ими значительную пользу в сельском, охотничьем, лесном хозяйствах и здравоохранении, приказываю:
Запретить отстрел, отлов и разорение гнезд всех видов хищных птиц и сов в охотничьих угодьях общего пользования на всей территории РСФСР».
Такая быстрая и такая положительная реакция высшей охотничьей администрации на «новые данные» биологии и рекомендации зоологов очень похвальна. Приказ был издан своевременно. Но мне кажется, он еще не дошел до сознания широких масс охотников, колхозников, школьников и тех, кто преподает зоологию в школе. Потому что местами уничтожение хищных птиц еще продолжается. В некоторых школах, кружках и юннатских станциях еще учат детей уничтожать хищных птиц; еще проводятся конкурсы под лозунгом, кто больше разорит их гнезд и сдаст когтистых лапок. Я уже не говорю о нравственном ущербе этих конкурсов, в которых награды выдают за массовые убийства животных: есть у них и важная практическая сторона. Такие конкурсы вредны, а хищные птицы полезны. Помните об этом и охраняйте хищных птиц!
И волки полезны
Исследования последних лет доказали, что наши предки, объявляя всех хищников врагами, сильно ошибались. Жизнь показала, что не всегда и не везде и не все хищники наши враги. Многие из них очень полезны. Необдуманное избиение ястребов, львов, леопардов, волков часто нарушает равновесие в природе и приносит больше вреда, чем пользы. Поэтому сейчас во многих странах в Африке леопард, а местами и крокодил взяты под защиту закона. Леопард полезен тем, что истребляет диких свиней и обезьян, разоряющих поля, а крокодил – полудохлых рыб, разносящих заразу, вредных насекомых и ракообразных. «Но к сожалению,- пишут африканские зоологи,- крокодилы порой нападают также и на людей».
Установлены поразительные вещи: выдра, которая поедает рыбу, оказывается, не враг, а друг рыболовов. В водоемах, где выдр становилось меньше, уловы рыбы сначала ненадолго увеличивались, а потом быстро убывали. Когда выдру снова здесь разводили, рыбы вскоре тоже становилось больше. Выяснилось, что выдры поедают главным образом больных рыб и производят тем самым естественную дезинфекцию рыбьих стай.
С пеликанами такая же история: во Флориде их охраняют, и с тех пор (как стали охранять) рыбы там прибавилось. А в Турции объявили пеликанов врагами, истребили их, и… результат нам известный: рыбы стало меньше.
Оказывается, даже волки полезны! Не везде и не всегда, конечно. Когда волков много, они поедают немало домашней птицы и домашнего скота – в этом их вред. Но когда волков немного, они выступают в другой роли – полезных санитаров, истребителей неполноценных, нежизнеспособных и больных зайцев, лосей, оленей и других обитателей леса. Как и хищные птицы, они, можно сказать, оздоровляют обстановку в лесу. Американский президент Теодор Рузвельт сам, как любят писать в газетах, «заядлый охотник», решил в начале нашего века сохранить для охотников оленей на плато Кайбаб, в Аризоне (США). Перебили здесь всех пум и волков. Казалось, олени должны были теперь процветать. Они и действительно поначалу сильно расплодились, быстро превратив в пустыню цветущий край, а потом тысячами стали дохнуть. И от голода, и от болезней, и от бесплодия, которое, как недавно установили, наступает у некоторых животных, когда их слишком много собирается в одном месте.
Так же и в Канаде: уничтожили волков и ожидали, что северных оленей, карибу, станет больше. Но их стало меньше!
В 1953 году фермеры в штате Колорадо дружно принялись истреблять койотов, мелких степных волков. «Но они немедленно прекратили его,- пишет Жан-Поль Арруа, генеральный секретарь Международного союза охраны природы,- обнаружив, что стоимость ягнят и телят, жизнь которых спасали, не компенсировала ущерба, наносимого их полям и лугам кроликами, наводнившими весь округ».
«Если исследовать,- пишет доктор И.Т. Боуд о степных волках,- рацион нескольких койотов, окажется, что они убили домашней птицы и скота на сумму 500 долларов. В остальном же пища их состояла преимущественно из мышей и крыс, которые, если бы они не были съедены хищниками, уничтожили бы зерна на 700 долларов. Вывод, кажется, ясен: благодаря нескольким койотам мы получили 200 долларов прибыли…»
Многие исследователи заявляют сейчас, что неправильно делить диких животных, как драматических героев классицизма, на хороших и плохих, на полезных и вредных.
В природе между различными видами животных и растений за миллионы лет их совместного существования установилось естественное равновесие. Поэтому безрассудное уничтожение разных зверей и птиц может нарушить это равновесие, и тогда начнут гибнуть и другие животные и даже растения, расплодятся вредители и сорняки. Одним словом, последствия могут быть очень плохие.
Бывает так, что истребление одного из видов ведет к тому, что другие еще более вредные или менее полезные животные расширяют за его счет свои владения, заполняя образовавшийся вакуум.
Пример – история соболя и колонка. Когда в Сибири у нас стало мало соболя, колонок, мех которого, бесспорно, менее ценен, перешел в наступление: сильно расширил свой ареал. Когда же во многих районах вновь восстановили соболя, там почти полностью исчез колонок.
Невидимые нити
Природа – очень сложный «суперорганизм». Все ее элементы, живые и неживые,- почвы, леса, звери, птицы, минералы – одно целое. Комплекс приспособленных друг к другу, взаимодействующих и взаимосвязанных процессов. Они уравновешивают друг друга, пока система не нарушена. Поэтому неумелое вмешательство в жизнь природы может привести к роковым последствиям. Достаточно выдернуть одну карту из карточного домика, чтобы рухнула вся постройка.
Так и человек, не зная или зная плохо архитектуру природного здания и пытаясь, тем не менее, внести в него свои поправки, уподобляется нередко ученику чародея, вызвавшему неумелым колдовством разрушительные силы, с которыми сам не может справиться. Разве злосчастное разведение кроликов в Австралии не достаточно убедительный урок?
Другой пример – акклиматизация мангустов на Ямайке.
Легионы крыс, расплодившихся на этом острове, пожирали много сахарного тростника: пятую часть всего урожая! Плантаторы решили с этим покончить. В 1844 году завезли на Ямайку из Южной Америки множество гигантских жаб, у которых была репутация отчаянных пожирателей молодых крыс. Однако, как пишут в газетах, оказанного им доверия жабы не оправдали: крыс на Ямайке не стало меньше.
Тогда привезли хорьков. Но их тут, что называется, блохи заели: местные насекомые-паразиты совсем замучили хорьков, и те почти все погибли.
Наконец, в 1872 году кому-то пришла идея обратиться за помощью к мангустам. Купили их в Лондоне, в зоопарке, и выпустили в шуршащие тростники на Ямайке. Но полуручные мангусты отказывались ловить крыс: они их боялись, так как никогда не видели.
Пришлось ехать в Индию за дикими мангустами. Привезли четырех самцов и пять самок. Эти крыс не боялись. Быстро прижились и расплодились. Через десять лет съели уже всех крыс и принялись за… поросят, ягнят, кошек, водосвинок, щелезубов, ящериц, птиц. Они грозили истребить большую часть островной фауны. Иммигранты, которых пригласили есть только крыс, оказались куда более прожорливыми, чем крысы, и вскоре стали истинным бичом для всего живого на острове.
Чарлз Дарвин сказал как-то, что благодаря старым девам в Англии не перевелись еще отбивные котлеты. В этой шутке заключен большой биологический смысл. Дело в том, что старые девы, как известно, очень любят кошек. А кошки – враги мышей. Мыши истребляют много шмелей (вернее, их гнезд). Шмели – единственные опылители красного клевера: где их нет, там клевер не растет {73}. Ну а от клевера уже рукой подать до овечьих стад и бараньих отбивных. Значит, там, где много старых дев, много кошек, мало мышей, много шмелей, хорошие урожаи клевера, сытые овцы и много мяса для котлет.
Жизнь иллюстрирует эту биологическую притчу сотнями наглядных примеров.
В Австралию и Новую Зеландию для пропитания многотысячных овечьих стад завезли клевер. Но он плохо там рос, пока не привезли из Европы шмелей.
А чтобы средиземноморские фиги лучше плодоносили в Америке, пришлось развести здесь маленьких ос бластофагов, от которых, как выяснилось, зависят вкусовые качества инжира. Порой самыми неожиданными путями тянутся невидимые нити биологических уз от одного существа к другому, от животного к растению, от дерева к почве, из почвы в облака и опять к зверю и цветку. Все в природе взаимосвязано, и связь эта двусторонняя. Животные и растения жизнедеятельностью своей преобразуют почвы, минералы, ландшафт, климат и атмосферу, а атмосфера, климат и ландшафты влияют на развитие животных.
Животные созидают и уничтожают ландшафты
Грызуны, кроты, насекомые, черви и другие четвероногие, шестиногие, безногие и пернатые создания бессознательно, но постоянно, роясь в земле или поедая в лесах и полях свой излюбленный корм, создают или губят плодородие почв и зеленые одеяния материков.
Одни из самых незаметных тружеников – дождевые черви. Это верные друзья земледельцев. Бесчисленная армия бессловесных, но бесценных «агротехников» и денно и нощно рыхлит почву под нашими ногами.
Немногие люди отдают себе отчет, как полезны дождевые черви. Чарлз Дарвин, одаренный проницательностью гения, одним из первых оценил великое значение непривлекательного дождевого червя в жизни человечества. Несколько лет упорных трудов он посвятил исследованию этих животных. Его труд о дождевых червях – одна из самых интересных и значительных книг по естествознанию.
Дарвин установил, что черви, которые питаются перегноем, «профильтровывая» почву через свои кишечники, за несколько лет пропускают сквозь себя весь пахотный слой земли. Когда червей даже не очень много – 50-150 особей под одним квадратным метром {74}, они и тогда ежегодно выносят на поверхность из нижних богатых перегноем пластов 10-30 тонн почвы на каждом гектаре поля!
Черви обогащают свежим перегноем истощенные земли, рыхлят их, попутно удобряя своими выделениями и унесенными в норки листьями. Роясь в земле и глотая ее без меры, они создают прочную комковатую структуру почвы – воздух и влага лучше проникают в глубину. Бесчисленные норки червей, словно капиллярная сеть живой ткани, обеспечивают идеальный дренаж и вентиляцию почвы.
«Черви, – пишет Ч. Дарвин,- превосходным образом подготавливают землю для роста растений… Эти животные… просеивают почву настолько, что в ней не остается плотных минеральных частиц… Они тщательно перемешивают всю почву, подобно садовнику, готовящему измельченную землю для своих самых изысканных растений».
Но червя в своей полезной работе не одиноки: у них в природе много союзников.
В пустынных местностях вакантные от червей почвы с успехом рыхлят земляные мокрицы, и всюду роют землю средние и тяжелые «культиваторы» – жуки, кроты и грызуны.
Крот, который с рождения и до смерти живет под землей и света белого, можно сказать, не видит, как землекоп не знает себе равных. Наши зоологи подсчитали однажды на двухстах гектарах общую протяженность кротовых тоннелей и объем выброшенной ими на поверхность земли. Оказалось, что подземные ходы, сложенные вместе, протянулись на 87 километров, а земли кроты выкопали 204 тонны!
Другой исследователь раскопал и измерил длину некоторых шахт лишь одного крота (кроты ищут в земле – увы!-дождевых червей). Когда общая длина ходов достигла 158 метров, он бросил эту работу. Вооружившись затем карандашом, зоолог подсчитал, что крот, прорыв в разных направлениях под небольшой площадью земли 158 метров всевозможных тоннелей, соорудил под землей вентиляционную и дренажную систему с рабочей поверхностью в 28,5 квадратных метра.
Суслики, сурки, пищухи и полевки местами пронизывают своими норами буквально всю почву. Сурки там, где их много, выносят на поверхность каждого квадратного километра обитаемой ими страны ежегодно до трехсот, а суслики порой до тридцати тысяч кубометров земли!
Очевидно, ни одна частичка почвы и года не лежит без движения. Как и глубинные течения, которые перемешивают толщи океанских вод от поверхности до дна, так и «течения» жизни, неуловимые реометрами, обновляют, взрыхляют, вентилируют, удобряют, просеивают почвы наших материков.
Иные животные создают даже вокруг своих жилищ особый ландшафт, им наиболее благоприятный. Меняют даже климат. Местный, конечно. Климат своих, так сказать, окрестностей.
Бобры – очень деятельные звери, ни минуты не сидят без дела. Каналы, которые они роют, отводят воду с лесных болот. Болота высыхают, и там, где еще недавно клубились туманы над трясиной, зеленеет луговина. А в других местах, где бобры сооружают плотины, застойные воды заливают лощины, запруженные речки меняют свои течения. Вырастая на лесных протоках, некоторые бобровые плотины стоят по тысяче лет, и, следовательно, изменения, внесенные бобрами в местный ландшафт и климат, носят совсем не временный характер.
Не все, к сожалению, обитатели лесов и степей жизнедеятельностью своей обогащают почвы и помогают расти травам и деревьям. Многие вредят полям, садам, лесам: одни растаскивают плоды, истребляют всходы и молодые побеги, другие вытаптывают луга, подгрызают деревья.
Доказано, что лоси и олени портят молодые сосняки, вредят осине и другим деревьям. Там, где лосей много, ель и береза вытесняют сосну.
Жирафы в Африке тоже так объедают акации, что совсем не дают им расти, и в саваннах немало мест, где из сухой земли торчат только жалкие кустики обглоданных жирафами акации.
Но пожалуй, ни одно животное в мире не страшно так зеленым травам и деревьям, не истребляет их с такой быстротой, как… маленькая козочка. Там, где долго пасутся большие стада коз, леса умирают, всякая растительность исчезает с лица земли, пустыня наступает на цветущий край. Козы съели дочиста леса Северной Африки, Испании, Турции, Сирии, Ливана, Палестины и многих, многих других стран.
Гибель лесов, принесенных в жертву козьему обжорству, – одна из самых печальных страниц в истории цивилизации.
Козы не только начисто уничтожают зеленые побеги, они, пишет один биолог, «буквально грызут землю, чтобы добыть семена трав и других растений, которые могли бы прорасти в ближайший дождливый сезон». Оголенная козами почва, особенно на склонах гор и холмов, остается без защиты, во власти эрозии.
Эрозия разъедает плоскогорья Кастилии. Эрозия превратила в пустоши склоны Атласских гор. Кедровое дерево – большая редкость теперь в Марокко. А где те кедровые рощи Ливана, в которых рабы царя Соломона заготавливали деревья для храма в Иерусалиме? Их нет. Во всем виноваты козы. До того как стада коз были привезены в Африку, до того как марокканцы стали рубить мимозу на корм своим козам,- до этого, две тысячи лет назад… горы Северной Африки, пишет очевидец римский консул Светониус Паулинус, зеленели лесами. Климат был влажным, земля плодородной. В лесах водились медведи, олени и (представьте себе!) слоны.
Теперь ничего этого и в помине нет.
Стада коз наводнили Сахару и саванну южнее Сахары, и пустыня пошла в наступление: она продвигается сейчас в глубь Африки со скоростью одного километра в год. За последние триста лет пески отвоевали у саванны полосу в триста километров шириной. С саванной отступили звери и птицы, населявшие ее.
В Турции коз невероятно много – 60 миллионов! Почти на каждом гектаре по козе! Причем большинство стад бродит без присмотра. В античное время Малая Азия была цветущей страной, утопавшей в рощах и садах. (Составители библии ведь даже рай земной – сады Эдемские – поместили где-то на ее восточных окраинах.) Теперь это почти сплошь полупустыня. Козы продолжают пожирать последнюю зелень. Ежегодно уничтожают они в Турции 300 тысяч гектаров леса.
Зато там, где антикозьи законы удалось провести в жизнь со всей строгостью, результаты этих мероприятий с избытком вознаградили жителей за потери, понесенные их стадами.
Примером могут служить Кипр, Венесуэла и Новая Зеландия, где борьба за сохранение плодородных земель велась под лозунгом: «Даже одна-единственная коза, оставшаяся на свободе, представляет национальную опасность!»
Теперь в этих странах вновь зеленеют молодые рощи, отступают пустоши, а лесные звери и птицы возвращаются в родные края, из которых изгнали их человек и его козы.
Зоологи точно подсчитали, сколько пищи съедает в день индийский слон среднего размера – сто килограммов. Из этого можно заключить, что стадо мамонтов в сто голов каждый день уничтожало около десяти тонн всевозможной растительности. Быстро опустошив какой-нибудь перелесок, мамонты должны были идти дальше в поисках свежей зелени. Нигде они не оставались подолгу. Легионы лохматых слонов бродили по древней тундре, раскинувшей свои заснеженные топи у подножия отступавших ледников.
Насколько многочисленны были стада мамонтов, мы можем судить по обилию их костей, бивней, зубов, которые люди тоннами находят в земле.
Ловцы устриц, например, лишь за тринадцать лет выловили на дне Доггер-Банки более двух тысяч коренных зубов мамонтов. В одной только Швабии – небольшой германской провинции – раскопали кости трех тысяч мамонтов. Палеонтологи предполагают, что в земле этой страны скрывается еще по крайней мере сто тысяч скелетов доисторических слонов.
Но поистине неистощимый «склад» мамонтовых костей – это наша Сибирь. Новосибирские острова – самое крупное в мире кладбище мамонтов. Русский исследователь Яков Санников, один из первых побывавших там европейцев, писал, что почва некоторых из Новосибирских островов состоит почти сплошь из полуразложившихся костей мамонтов. Даже морское дно у берегов усыпано мамонтовыми клыками.
За последние двести лет Сибирь поставила на мировой рынок около шестидесяти тысяч полновесных мамонтовых бивней – так много жило когда-то в наших лесах лохматых слонов. Сколько съедали они трав, кустарников и древесных ветвей – сказать трудно. Наверное, не меньше двух миллионов тонн в день – почти миллиард тонн в год, то есть гору зелени высотой, длиной и шириной в километр {75}.
Некоторые специалисты считают, что мамонты своей прожорливостью поддерживали в тундре ее специфический ландшафт: истребляя молодые деревца, не давали лесу расти. Теперь, когда они все вымерли, тайга должна будто бы более быстрыми темпами начать наступление на тундру.
В 1788 году первые поселенцы привезли с собой в Австралию пять пушистых зверьков. Их очень берегли. Через семьдесят лет один человек был приговорен местными властями к штрафу в десять фунтов стерлингов за то, что застрелил кролика на земле некоего Робертсона. А еще несколько лет спустя тот же Робертсон истратил пять тысяч фунтов стерлингов, безуспешно пытаясь истребить кроликов в своих владениях.
Расплодившись, кролики стали национальным бедствием Австралии (ведь в этой стране мало хищников!). Они пожирают ее, опустошая луга и поля. Жители Австралии ведут с кроликами настоящую войну с применением авиации, отравляющих газов и воинских подразделений. Но кролики не сдаются, их удалось лишь несколько оттеснить во внутренние пустынные районы страны, отгородившись от них китайской стеной новейшего образца – хитроумными изгородями из колючей проволоки, которые оплели весь восток и юго-восток континента, протянувшись на тысячи километров (7 тысяч миль изгородей в одном лишь Квинсленде!).
Ежегодно Австралия экспортирует 70 миллионов кроличьих шкурок и около 16 миллионов их замороженных тушек. Но не заметно что-то, чтобы кроликов здесь стало меньше…
Некоторые исследователи считают, однако, что еще за несколько тысячелетий до нашествия настоящих кроликов «кролики» гигантские превратили большую часть пятого континента в пустыню. Плодовитые грызуны доедают теперь в ее сухих степях последние остатки зелени.
Несколько десятков тысяч лет назад в Австралии на месте каменистых пустынь росли ведь роскошные рощи, перелески и сочные травы в бескрайних степях. Тогда в Австралии еще не было людей, но по ее изумрудным лугам бродили бесчисленные стада гигантских «кроликов» – дипротодонтов.
Дипротодонты – сумчатые травоядные животные величиной с… носорога. Внешне они несколько напоминали бегемотов, но спереди на их морде, выступая из-за рассеченной, как у кролика, губы, торчали два огромных «заячьих» резца. Отсюда и название животного: дипротодонт – «тот, у которого спереди два зуба».
В 1953 году профессор Калифорнийского университета Стиртон вернулся из экспедиции в пустынные области северо-запада Южной Австралии. Он оповестил научный мир о редком открытии. Стиртон нашел в пустыне целое кладбище дипротодонтов. Около тысячи превосходно сохранившихся скелетов!
Видимо, дипротодонты бродили по землям Австралии табунами, не менее многочисленными, чем стада мамонтов или бизонов (в Австралии ведь совсем нет опасных для них хищников). И аппетиты у них были отличные. Возможно, именно дипротодонты повинны в исчезновении зеленой растительности на большей территории современной Австралии.
Истребив растительность, дипротодонты тем самым и себе подписали смертный приговор: обрекли свой род на вымирание. Им стало нечего есть, голод – самая страшная из эпидемий – губил гигантских «кроликов» тысячами. И вот умер последиий дипротодонт. Случилось это совсем еще недавно, несколько тысяч лет назад, по-видимому, уже на памяти первых людей, заселивших Австралию. Кадикамара-тжукурит – герой австралийских мифов – очень похож на дипротодонта, каким представляют его себе палеонтологи.
Здесь каждый пульс бьется в унисон с другим
Да, связь двусторонняя: живая природа, меняя лик земли, сама преобразует свои формы и свойства под действием всемогущих сил природы неживой.
Многие животные в условиях одинакового климата и ландшафта приобретают сходные изменения в окраске и телосложении. Зоологи, внимательно к этому присмотревшись, составили несколько экологических законов, или правил.
Например, правило Бергмана (названо оно так в честь его первого исследователя): животные быстрее и лучше растут в северных, холодных, областях своего обитания {76}. На юге, в странах теплого климата, водятся мелкие разновидности тех же видов. На севере, в тайге и тундре, живут самые большие – волки, лисы, зайцы, медведи, лоси.
Некоторые из них, олени и медведи например, увеличивают свой рост и с запада на восток. Бурые медведи Западной Европы просто карлики в сравнении с медведями Сибири, а те еще мельче медведей Камчатки и Аляски. Владыка лесов Аляски бурый медведь кадьяк весит около 700 килограммов, а длина его – три метра. Когда он стоит на четырех лапах, то его рост в плечах – 135 сантиметров, а европейского медведя – только один метр.
Второе экологическое правило (правило Аллена) утверждает, что в холодных местностях, на севере или в горах, у птиц и зверей уши, клювы, хвосты и ноги (то есть выступающие части тела) короче, чем у тех же животных в теплых краях. На островах у птиц клювы более длинные, чем на континентах.
Правило Глогера: во влажном климате животные более темно окрашены, чем в засушливом. Даже черный как ночь ворон, который обитает и во льдах Гренладии, и в пустынях Сахары, на юге, то есть в знойной Африке, светлеет – он здесь с каким-то коричневым оттенком {77}. Кроме того, мельче ростом и более длинноносый, чем на севере.
Птицы, которые живут в холодном климате, утверждает известный орнитолог Эрнст Майр, откладывают больше яиц, чем их южные собратья. И у зверей на севере больше детенышей в помете.
У северных (и высокогорных) птиц более длинные крылья (и сами они крупнее), чем у южных и равнинных разновидностей. Зато южные птицы ярче окрашены.
Мыши и полевки – обитатели равнин – крупнее своих высокогорных соплеменников, потому что в горах слой почвы тоньше, это и ограничивает рост роющих норы грызунов. (Это правило не все зоологи считают вполне доказанным).
Размер рыбы в прямой пропорции зависит от величины водоема, в котором она живет. Это доказано опытом: две рыбки одного возраста и вида по-разному растут в аквариумах разной величины, если даже их одинаково кормить. Рыбка в маленькой банке сильно отстает в росте от той, что плавает на просторе в большом бассейне.
Давно известно также, что олени и косули в болотистых лесах, где почва бедна кальцием, плохо растут.
Коневоды заметили также, что лучших скаковых и рысистых лошадей выращивают конные заводы юго-востока Европейской России: здесь почва богаче известью и, следовательно, кальцием.
Можно без конца продолжать эту серию примеров: их очень много. Но есть ли в том необходимость? Ведь и тех, о которых уже сказано, достаточно, чтобы показать, как тесно переплетены живые и неживые нити в незримых, но прочных тканях биосферы, где пульс каждого дыхания бьется в унисон с другим.
Итак, в двух словах подведем итог: почему диких животных, даже непромысловых, казалось бы, совсем ненужных нам, необходимо беречь и охранять.
РАВНОВЕСИЕ! Помните о равновесии в природе. Мы еще не знаем, к каким вредным и далеко идущим последствиям, к каким неожиданным экологическим «взрывам» может привести полное или почти полное уничтожение некоторых видов животных. Ведь нити жизни так тесно переплетены, и, выдернув одну из них, мы рискуем разрушить (может быть, не сразу, но когда-то!) всю ткань биологического сообщества. За первым взрывом, вполне возможно, последует второй, третий и в конце цепной реакции – эрозия и оскудение края.
Многие ныне ненужные для ХОЗЯЙСТВА человека виды в будущем могут очень пригодиться. (Вспомните о стеллеровых коровах!) Уже сейчас ясно, что дикие копытные (антилопы, лоси, олени, кабаны, которых ведь кормить не надо!) дают более дешевое товарное мясо, чем домашний скот.
Есть и еще одна важная, хотя и не каждому понятная, сторона у этой проблемы: исчезновение жизнеспособных (не деградировавших!) видов обедняет ЭВОЛЮЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ нашей планеты и сужает горизонты будущего порожденной матерью-землей жизни (если брать эту жизнь в целом как сложный комплекс конкурирующих, но кровно сопряженных в едином развитии существ). Чем меньше в наши дни останется на земле видов, тем меньше цветущих «ветвей» будет у древа жизни грядущих тысячелетий. Ведь каждый исчезнувший без следа в живом потомстве вид уносит в ничто и свой генный фонд, то есть наследственный код всей филогенетической ветви, – невосполнимый источник, питающий эволюцию.
НАУКА, изучающая жизнь, тоже много теряет, когда навсегда исчезают бесценные для нее образцы и модели этой жизни.
Наконец, ЭСТЕТИЗМ – чувство красоты! Опустошительные выстрелы бьют в самое его сердце, обедняя мир, в котором люди работают и живут. Истинно сказано: кто не чувствует красоты цветов, зелени трав, кто не видит красоты дикого зверя, тот болен, того лечить надо.
И наш НРАВСТВЕННЫЙ ДОЛГ перед собственной совестью, перед поколениями грядущих потомков – сохранить на земле травы зелеными, а зверей живыми.
Послесловие
Мы привыкли к мысли, что природа вечна, что богатства ее неистощимы. Книга И. Акимушкина «Трагедия диких животных» возвращает нас к реальной действительности – к действительности тем более неприглядной, так как для многих она открывается впервые. Катастрофическое оскудение фауны и все вытекающие отсюда последствия пока волнуют у нас лишь сравнительно немногих энтузиастов-любителей природы да специалистов-биологов. Многочисленные статьи, подчас очень тревожные, которые то и дело появляются на страницах газет и журналов, не могут надолго разбить равнодушия к судьбам диких животных, по-настоящему обеспокоить, не дают представления о бедствии в целом. Как это ни странно, но книг об этом на русском языке практически нет. «Трагедия диких животных» – очень полезная и очень своевременная книга, многих она заставит задуматься.
Кое-кому может показаться: И. Акимушкин несколько сгустил краски. Нет! Я бы сказал даже, что он их, скорее, «разбавил». Конечно, рассуждения о «нейлоновых зайцах» – преувеличение. Но хотя его книга несколько больше направлена в прошлое, действительно позорное для человека и трагичное для животных, однако завтрашний день встает в ней тоже в самом мрачном свете, как канун исчезновения еще многих и многих видов животных.
В Нью-йоркском зоопарке в конце экспозиции за клетками львов и тигров расположено приземистое каменное здание. Прочная толстая решетка бронирует застекленную витрину. Надпись над ней гласит: «Самое опасное животное на земле!» И когда заинтригованный посетитель с опаской приближает лицо к решетке, в полутемной нише он видит… самого себя: задняя стенка клетки – зеркало! Конечно, это шутка, но шутка горькая, и в ней заключен глубокий смысл и упрек. Да, именно человек, венец развития живой материи на земле, хозяин земли, в своей поступи по земле сметает не отдельных животных, а целые виды. История трех последних столетий знает много таких примеров. И все-таки…
Подождем пока с пессимистическими прогнозами. Попробуем по возможности объективно разобраться в причинах вымирания, исчезновения животных, попробуем заглянуть вперед и представить себе, как же сложится судьба их дальше.
Прежде всего нужно вспомнить, что вымирание одних и появление других животных, то есть смена одних видов другими,- основной постулат эволюции жизни на земле. Поэтому вымирание определенных групп животных само по себе еще не внушает тревоги. Тревожные сигналы зазвучали тогда, когда темпы этого вымирания стали прогрессировать с катастрофической скоростью, а никакой компенсации не последовало. Фауна земли стала оскудевать, естественные процессы эволюции нарушались. Родились новые термины: вместо «вымирающие животные» все чаще и чаще стали говорить «исчезающие животные».
Влияние человека на диких животных проявляется двояко: прямое воздействие (истребление или, наоборот, охрана, сбережение) и косвенное, через изменения условий их существования. Остановимся сначала на втором.
Человек на земле создает новый ландшафт. Это необратимый и закономерный процесс. И не только необратимый, но и неизбежный, так как является следствием развития человеческого общества. Поэтому вопрос, будут или не будут в дальнейшем существовать на земле дикие животные, для большинства из них решается в «первой инстанции» в зависимости от того, смогут они или не смогут приспособиться к новому ландшафту, найти в нем все необходимое для жизни. Одни изменения ландшафта грубы, очевидны. Это – распашка степей, вырубание лесов, обводнение, опустынивание в связи с перевыпасом и другие перестройки земной поверхности, коренным образом меняющие ее облик. В результате целые комплексы животных начинают исчезать просто из-за того, что им некуда деваться, как это случилось, например, с дикими копытными в некоторых районах Африки. Однако эти изменения ландшафта в известной степени локальны, и всегда остаются естественные (или искусственные) резерваты, где какая-то часть животных сохраняется. Именно поэтому подобные перестройки ландшафта не сопровождаются чаще всего полным вымиранием животного населения, а приводят лишь к количественному обеднению его и замене одних видов другими, лучше приспособленными к новым условиям. Иногда вновь создающийся ландшафт по набору таких условий оказывается даже богаче, и это приводит не только к количественному, но и качественному обогащению фауны.
Однако наряду с крупными перестройками ландшафта существуют другие, казалось бы, мелкие, подчас не сразу бросающиеся в глаза изменения (скорее даже нарушения), которые тем не менее могут стать причиной полного вымирания некоторых видов. Как правило, влияние таких изменений сказывается на каком-либо узком участке жизни. Очень наглядна в этом отношении судьба белоклювого дятла (Campephilus principalis).
Еще два-три десятка лет назад этот крупный и необычайно красивый дятел, обитатель тропических лесов, был сравнительно обычен во Флориде и на некоторых островах Карибского моря. А в 1960 году орнитологам удалось обнаружить только шесть птиц этого вида! Дело в том, что, как показали специальные исследования, белоклювому дятлу для гнездования нужны старые леса с очень большими деревьями. А за последнее десятилетие такие деревья были вырублены, лес искусственно омоложен, и дятлу стало негде гнездиться – в молодых деревьях он не может долбить дупло!
Или, например, другой катастрофически исчезающий вид – коршун-слизнеед Rostrhamus sociabilis, распространенный во Флориде, в Центральной и Южной Америке. Он питается пресноводными моллюсками (Pomacea), и никакая другая пища ему; не подходит. Местности же, где он обитает, за последнее время подверглись интенсивному осушению, влаголюбивые моллюски стали исчезать – и резко пошла на снижение численность коршуна-слизнееда.
Подобных примеров можно было бы привести много, но, мне кажется, и этих двух довольно, чтобы представить себе значение некоторых мелких перестроек ландшафта. К сожалению, уже не во власти человека сделать эти перестройки обратимыми, и, по всей вероятности, таким животным, как белоклювый дятел, на земле не удержаться. Здесь ничего не поделаешь. Более того, нет никаких гарантий, что история их гибели не повторится по отношению к каким-либо другим видам, ибо деятельность человека многообразна, и пока нельзя предсказать, на какой жертве, как и когда она скажется.
Но это лишь одна сторона вопроса. Как уже говорилось, само по себе изменение ландшафта в «чистом виде» – окультуривание (даже очень глубокое) не приводит (хотя это и парадоксально!) к гибели основной массы животных. К сожалению, приходится констатировать, что почти всегда любому изменению ландшафта сопутствует заметное изменение видов животных и усиление прямого преследования их человеком. Вот от количественного соотношения этих двух категорий явлений, от степени их баланса и зависит окончательное решение судьбы основной массы видов животных.
Прямое воздействие человека – страшный бич для животных. Оно начинается почти всегда задолго до изменения ландшафта, на начальных стадиях его использования. Пионеры крупнейших перестроек земной поверхности оказывались и оказываются главными палачами животных. Достаточно вспомнить грандиозное истребление слонов, антилоп, львов и других животных первооткрывателями Африки, гибель таких птиц, как дронтов или странствующих голубей, трагедию стеллеровой коровы или североамериканских бизонов. При «цивилизации» новых земель в удивительно короткие сроки, исчисляемые немногими десятками лет, полностью исчезли целые виды! А сейчас? За примерами не нужно далеко ходить: редкостью стал джейран в песках наших среднеазиатских республик и снежный баран Чукотки, и истребили их не волки, а главным образом геологи-поисковики. Сказочно быстро исчезает степной орел – прекрасное украшение необозримых просторов равнинного Казахстана, полезнейшая птица, истребляющая сусликов. И причина его исчезновения не степные пожары и не другие стихийные бедствия, а хорошие дороги, проложенные при распашке степей, да лихие шоферы-целинники, любители пострелять.
Как-то мне пришлось стать свидетелем одной печальной картины. Вдоль дороги в степи тянулась линия телеграфных столбов и почти под каждым десятым столбом останки орла: перья с обрывками кожи или разложившийся труп. Почему, зачем их убили? Ответ получил от шофера: «Просто так, сидит на столбе – ну как ружья не попробовать!» Я невольно вспомнил тогда строки из книги известного орнитолога Г.П. Горбунова, описавшего разгром гнездовой колонии кайр на Новой Земле: «А промышленник все поднимался и поднимался, все зверел и зверел. Он бил и сидящих, и летящих, и больших, и птенцов. Когда же мы приблизились к таким местам, где ни сверху птиц не достать, ни снизу, он стал сбрасывать в обрыв громадные плиты сланца, и, если такая плита придавливала сразу нескольких птиц и расплющивала птенцов, он в восторге смеялся. Птиц этих он все равно достать не мог. При виде такой бесполезной веселящейся жестокости хотелось сбросить человека с обрыва вслед за его каменными глыбами. Промысел кончился, и это уже была дикая оргия убийства». Избиение кайр и расстрел орлов разделены десятками лет и тысячами километров, но как много в них общего! Какой невежественный цинизм и безответственность лежат в их основе!
Но было бы неверно предполагать, что прямое истребление животных характерно исключительно для первых этапов становления культурного ландшафта. Меняются формы и интенсивность использования земной поверхности, меняется и «пресс» на животных. Браконьеры, вооруженные дальнобойными ружьями, быстроходными моторными лодками, петлями из стального троса, фарами-прожекторами и автомашинами, уничтожают сотни тысяч птиц и зверей. На помощь им приходят нерадивые хозяйственники, загрязняющие моря, озера и реки нефтью или сточными водами: только на Каспийском море от «нефтевания» гибнет такая масса зимующих лысух и уток, что местами вдоль берегов образуются сплошные валы из их трупов. А какой непоправимый ущерб нанесли в свое время законы, объявляющие вне закона любую хищную птицу, регламентирующие даже премии за их отстрел. Недавно происходило гонение на так называемых рыбоядных птиц: чаек, крачек, цапель, которые, по сути дела, приносят гораздо больше пользы, чем вреда. Кроме как варварством, ничем это не назовешь!
В последнее время на животных обрушилась новая напасть: для борьбы с насекомыми-вредителями начали применять различные инсектициды, опыляя ими огромные пространства. Некоторые из этих химикатов, в частности всем известный ДДТ, обладают способностью аккумулироваться, накапливаться в организме. И вот через сложную цепочку как бы промежуточных хозяев – земляных червей, водных беспозвоночных и даже рыб – ДДТ уже во вредных, часто смертельных дозах стал поступать к теплокровным животным – птицам и зверям. Отсюда массовая гибель дроздов, питающихся земляными червями, массовая гибель поганок, которые кормятся рыбой. А некоторые хищные птицы, например беркуты Шотландии или соколы сапсаны, если и не погибают, то в значительной мере теряют плодовитость, что в конечном итоге приводит к тем же результатам.
Много животных гибнет на автомобильных дорогах. Гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Датский биолог Л. Гансен доказал, что на дорогах Дании ежегодно погибает под колесами автомашин более миллиона разных птиц. В ФРГ число погибших таким образом птиц доходит до миллиона, да, кроме того, находят смерть около 300 тысяч зайцев и 720 тысяч ежей. В Швеции жертвами автомобилистов в 1963 году стали 1700 косуль и 1000 лосей.
Нарушение технологии посева протравленного зерна, неразумное планирование добычи промысловых животных без учета состояния их численности, непродуманная акклиматизация, капризы моды, стимулирующие внезапное увеличение спроса (а стало быть, и добычи) на какое-нибудь животное (то «в цене» эгретки белых цапель, то леопардовые шкуры или крокодиловая кожа и т.д.), нелепые суеверия – да разве перечислить все те причины, которые имеют общее следствие: уничтожение, гибель животных.
Особенно туго приходится тем животным, для которых несчастливым образом сочетаются неблагоприятные изменения ландшафта с активным прямым преследованием со стороны человека. Например, стрепет исчез на значительной части ареала, потому что степи, где он жил, распаханы, а на посевах он не гнездится. Уже одно это произвело сдвиг в численности стрепета. Одновременно усилилось преследование его «охотниками» на зимовках, площадь которых тоже резко сократилась. В результате стрепет буквально на глазах стал исчезать: сейчас можно проехать по казахстанским степям тысячи километров и ни разу не увидеть этой красивой птицы, не услышать характерного звона ее крыльев. И стрепет отнюдь не одинок в своем несчастье.
Говорить о всех животных, которые попали в бедственное положение, сейчас не ко времени и не к месту. Мне хочется только отметить два обстоятельства.
Во-первых, все животные по-разному относятся к соприкосновению с человеком, к его деятельности, по-разному реагируют и на изменения ландшафта, и на прямое преследование. Одни из них совершенно не мирятся с культурным ландшафтом, вступают в неразрешимый конфликт с человеком. Такие виды в большинстве своем уже исчезли, а те, которые еще сохранились, несомненно, обречены. Другие, более пластичные экологически, находят новые возможности для жизни, перестраивают свою биологию, приспосабливаются к соседству человека и даже могут увеличиваться в числе, благоденствовать в рамках культурного ландшафта. Таких видов большинство, и для их сохранения необходимо только исключить перепромысел, предотвратить прямое истребление. Тогда они заселяют культурный ландшафт, создавая очень высокую плотность животного населения. Например, в такой небольшой стране, как Венгрия, обитает 20 тысяч благородных оленей, 80 тысяч косуль, миллион зайцев, 600 тысяч фазанов, 650 тысяч серых куропаток. Это – много, очень много!
Наконец, для третьих животных культурный ландшафт представляет собой наиболее благоприятную среду обитания, создает новые возможности для расселения. Такие виды вне культурного ландшафта практически не встречаются. Излишне говорить, что фауна будущего будет состоять из представителей двух последних групп.
Второе, на чем я хотел бы остановить внимание,- это сам процесс вымирания вида, его последовательность, его стадии. Если речь идет не о катастрофе, то обычно он начинается задолго до появления резких симптомов тревожного положения, исподволь. Исходным моментом этого процесса всегда бывает сокращение численности вида под влиянием прямых причин. Затем как следствие вступает в действие другой механизм: снижение плодовитости из-за того, что в массе животные не доживают до зрелого возраста, жизнь их становится короче, нарушается соотношение полов, увеличивается смертность от случайных причин и т.д. И тогда смертность начинает преобладать над рождаемостью. В итоге численность падает до какого-то критического уровня, когда обратный процесс уже невозможен, и тогда вид обречен, его уже нельзя спасти от вымирания, даже взяв под полную охрану. Печальный пример тому судьба американского белого журавля (Grus americana). В середине прошлого века эта удивительная птица гнездилась на пространстве от Маккензи и Гудзонова залива до Небраски и Айовы, хотя численность ее была уже тогда невысокой (всего около 1300-1400 особей). В 1963 году, когда американский журавль уже давно был взят под защиту закона, общая численность его составляла всего 33 птицы. Американские орнитологи и любители природы предприняли чрезвычайные меры: каждый журавль теперь охраняется «персонально» как в гнездовом районе (гнезд его, правда, не видели с 1922 года), так и на местах зимовок (на морских побережьях Луизианы, в Техасе и Мексике). Мало того, во время перелета птиц сопровождают специальные патрульные самолеты. Одним словом, браконьерское убийство журавля полностью исключено. И тем не менее в 1965 году их было уже всего 20. А главное: среди них уже нет молодых птиц! Видимо, размножение американского журавля прекратилось. Раз так, то через несколько лет эта птица пополнит «черный список» – перечень исчезнувших видов. Правда, несколько особей (всего 7) еще имеется в зоопарках мира, но связывать с ними надежды на воскрешение белого журавля решительно нет никаких оснований.
Я привел этот пример для того, чтобы показать: животное нужно брать под охрану, под неустанную опеку задолго до того, как численность его достигнет критического уровня. Собственно, уже само последовательное снижение численности (если оно не укладывается в рамки естественных колебаний) служит тревожным сигналом. Только на ранних стадиях можно остановить процесс вымирания, и правильное определение этого момента, своевременность принятых мер – залог сохранения вида. К сожалению, этим часто пренебрегают, этого не учитывают.
Необходимо трезво оценить, что мы можем спасти, а что нет. Мы много (и порой беспредметно) говорим о спасении редких видов, а судьба степного орла, стрепета, журавля-красавки, джейрана, снежного барана и десятков других видов нас пока не волнует: ведь их еще много, они не достигли лимита низкой численности, определенного в 2000 особей. А между тем дымят фабрики, перерабатывающие уток в консервы, гремят выстрелы браконьеров, рыщут по пескам автомашины с фарами-прожекторами, рвутся прыгающие мины среди севших на ночевку гусиных стай, низвергаются в море потоки нефти. Дожидаясь того момента, пока животное станет редким, мы тем самым полностью теряем возможность спасти его в будущем.
Каковы же, однако, перспективы сохранения животных на земле? Каковы те силы, которые должны предотвратить (и предотвратят!) возникновение «лунного ландшафта» на земле, и каковы средства для достижения этой цели?
Прежде всего о перспективах. Мы прочли только что о многочисленных случаях истребления животных человеком. Но нельзя забывать и о примерах успешного, почти волшебного восстановления, казалось бы, обреченных животных. Здесь можно назвать несколько видов, которые особенно дороги нам, так как это по-настоящему наши животные: соболь, сайга, котик, калан, бобр. Эти примеры говорят об одном: человек может сохранить на земле животных, если возьмется за дело с энтузиазмом, вооружась знанием и твердо веря в необходимость своей работы. А работа эта действительно полезна, так как и экономическая ценность животных, и морально-эстетическое значение сохранения природы (в том числе и животных) не нуждаются в разъяснении. Пусть мы потеряем еще несколько видов, пусть не всегда и не сразу наши усилия принесут плоды, но наши потомки должны принять от нас землю полноценной, цветущей, радостной.
Борьба за сохранение животных лишь одна из сторон борьбы за сохранение природы вообще. Во главе ее стоит Международный союз охраны природы и природных ресурсов (JUCN), объединяющий работу бесчисленных национальных и местных обществ, союзов, ассоциаций (Советский Союз – активный член JUCN). Несмотря на то что сами эти объединения административной власти не имеют, они оказывают существенное влияние как на законодательные и исполнительные органы, так и на общественное мнение. Они ведут огромную воспитательную работу, привлекая разнообразные формы воздействия на сознание людей (печать, радио, телевидение и др). В значительной мере эти общества, и в первую очередь сам Международный союз охраны природы, направляют работу многих научных учреждений соответствующего профиля, которые разрабатывают конкретные меры по предотвращению гибели тех или иных животных. По инициативе и при прямом участии JUCN были заключены международные конвенции по охране китов, белого медведя, котика, некоторых перелетных птиц, предложены (и в настоящее время приняты в ряде стран) законы по ограничению применения особенно вредных инсектицидов, создана широкая сеть национальных и даже интернациональных заповедников и парков. Огромное значение в деле охраны природы имеет выпуск соответствующей литературы, плакатов, почтовых марок, открыток, спичечных этикеток, организация выставок и лекций. Из литературы, посвященной исчезающим или уже исчезнувшим животным, нельзя упомянуть превосходные книги Ф. Харпера (F. Harper «Extinct and vanishing mammals of the old world», 1945), Д. Гриавейя (F. Greenway «Extinct and vanishing birds of the world», 1958), Л. Тальбота (L. Talbot «A look at Threatened species», 1959), Б. Гржимека (В. Grzimek «Serengeti darf nicht sterben», 1952), Ж. Дорста (J. Dorst «Avant que nature meure», 1965). (Две последние книги переводятся сейчас на русский язык.)
Особо следует отметить совершенно необычную книгу – знаменитую Красную книгу «Animals and plant threatened with extinction» (Data Book). Красной она называется потому, что сигнализирует об опасности (именно поэтому переплет ее ярко-красный). Это список видов, численность которых катастрофически мала, видов, которые стоят на грани исчезновения. Но эта книга не просто перечень, это своего рода программа борьбы за их спасение. В ней собраны все имеющиеся сведения о прошлом и современном распространении этих видов, приведены данные об общей численности, об интенсивности размножения, о причинах сокращения численности, о проводимых в настоящее время охранных мероприятиях. Кроме того, в Красной книге приведены сведения о количестве животных редких видов, содержащихся в зоопарках, и о потенциале размножения в неволе. Последнее, как оказалось, имеет большое значение для определения возможностей «воскрешения» вида при переводе его на положение «узника» (конечно, понятие это в данном случае весьма относительно!). Так было, например, с гавайской казаркой Branta sandviscensis. На родине, на Гавайских островах, дни ее были сочтены: там оставалось лишь около сотни птиц. Тогда часть их была отловлена и переведена в прекрасный специализированный зоопарк в Слимбридже (Англия). Здесь гавайская казарка успешно прижилась, начала размножаться, и сейчас ее насчитывают уже около 500 особей. Поднят вопрос об обратном переселении ее на Гавайи.
Всего в Красную книгу занесено 211 видов млекопитающих (из 3000) и 312 видов птиц (из 10 000), численность которых ниже 2000 особей. Кстати, из птиц фауны СССР в нее попали стерх, черный журавль, уссурийский журавль и красноногий ибис. Однако ежегодно Международный союз охраны природы дополнительно рассылает новые листы с новыми видами или с уточнением старых данных (книга сделана по принципу скоросшивателя, в продажу она не поступала, а распространялась среди специалистов).
Огромное значение в деле сохранения фауны имеют заповедники. Общее число их на всех континентах и площадь очень велики. Только в Советском Союзе насчитывается около тысячи заповедников с площадью свыше 2,5 миллиона гектаров. Несмотря на то что в ряде стран (особенно в Африке) заповедники служат источником государственного дохода, они все-таки в первую очередь островки нетронутой природы, прибежища животных, которым грозит гибель. Без преувеличения, именно заповедникам обязаны своим существованием такие животные, как североамериканский бизон, многие антилопы Африки, индийский носорог и другие.
В заповедниках широко поставлена научная работа. В последнее время начато даже переселение в заповедники животных из местностей, где им грозит опасность, где они не могли бы выжить. Таких случаев известно много, но особого упоминания заслуживает предпринятая недавно попытка перевезти катастрофически исчезающего аравийского орикса в заповедники Кении и Танзании.
Многочисленные члены различных обществ охраны природы и животных принимают непосредственное участие в спасении, в сохранении птиц и зверей. Они помогают вскрывать случаи браконьерства, с энтузиазмом оказывают помощь животным, попавшим в бедственное положение, всегда самоотверженно стоят на страже природы. Но усилий энтузиастов недостаточно. Население всех стран должно принять в этом участие.
Итак, подведем итог. Положение многих животных сейчас угрожающее. Однако для сохранения диких животных на земле имеются совершенно объективные предпосылки. Есть на земле и силы, могущие превратить эти предпосылки в реальную действительность. Но для этого нужна большая работа, работа всего человечества, которое только сейчас начинает понимать свою ответственность перед последующими поколениями, перед своими потомками. Хочется верить, что работа эта принесет свои плоды.
Кандидат биологических наук В.Е. ФЛИНТ
Список иллюстраций
01 Портрет автора.
02 Бескрылая гагарка.Несуществующая птица, истребление которой завершилось фантастическим триумфом: за ее чучело коллекционеры платят теперь больше, чем за двадцать первоклассных автомобилей!
03 Птица во вкусе сюрреалистов: дронт.
04 Некоторые моа, новозеландские страусы, были ростом выше слона. Но они тоже, увы, мертвы, как дронты.
05 Птичьи яйца четырех разных калибров:
А – вымершего гигантского страуса эпиорниса;
В – африканского страуса;
С – индюка и Д – колибри.
06 Африканские страусы у гнезда. Самец в черном фраке, самка серая.
Десять тысяч лет назад страусы водились у нас в степях под Одессой.
07 Последний странствующий голубь, по кличке Восьмое Марта. Он умер в сентябре 1914 года в зоопарке города Цинциннати.
08 Легкая охота на странствующих голубей. Старая гравюра.
09 Первая и последняя фотография квагги.
010 Знаменитый шатиловский тарпан.
Обратите внимание на щётки над копытами, оленью (выгнутую вниз) шею, вислую гриву и чёлку – всё это говорит о значительной дозе генов домашней лошади в наследственности этого тарпана.
011 В таком виде представил тура барон Герберштейн в своей книге «Московия».
012 Сумчатый волк тоже, по-видимому, животное, навсегда исчезнувшее с нашей планеты. Последний раз следы сумчатого волка видели в Тасмании в 1957 году.
013 Большая белая цапля. Ради пучка перьев на спине перебили миллионы этих всюду теперь редких птиц.
014 Горная горилла. До 1903 года ученые ничего не знали об этих обезьянах. И ничего бы не узнали, если бы не заповедники, в которых сейчас охраняют горных горилл.
015 Живой «ковер-самолет»: редчайшее животное наших лесов – белка-летяга.
016 А это – редчайшее животное мира: индийский лев. Две сотни таких львов доживают свой век в заповеднике под Бомбеем.
017 Редкостная подруга редкостного льва.
018 Скелет стеллеровой коровы из Московского зоологического музея. Фото проф. В.Гептнера.
019 Различные рисунки и реконструкция (внизу) стеллеровой коровы.
020 Лучшее из дошедших до нас изображений тура. Английский натуралист Смит нашел эту картину неизвестного польского художника в антикварной лавке Аугсбурга.
021 Познакомьтесь: наш новый родственник бонобо! До недавнего времени считали, что человекообразных обезьян только три вида (не считая гиббонов): горилла, шимпанзе и орангутанг. Многие зоологи теперь утверждают, что есть и четвертый вид – бонобо. Его считали прежде карликовой разновидностью шимпанзе.
022 Тити (Cebuella pygmaea) – самая крошечная из обезьян. Живет она в лесах Эквадора.
023 Большая панда, или бамбуковый медведь, который совсем не медведь, а енот. А может быть, и не енот… Тогда кто? Наука этого еще не решила.
024 Лошадь Пржевальского.
025 Индийский носорог. Обратите внимание на складки кожи -впечатление такое будто носорог одет в панцирь. У африканских носорогов нет такого панциря.
026 Белый африканский носорог – самый крупный после слона обитатель суши.
027 Тоже из семьи толстокожих – карликовый бегемот. Еще лет пятьдесят наука не знала о его существовании.
028 Зверек с самым дорогим мехом – малая шиншилла!
029 Большая шиншилла.
030 Последние бизоны нашли наконец убежище в заповедниках США и Канады.
031 «Гигантский тушканчик» – кенгуру.
032 Американский родственник кенгуру – опоссум.
033 Сумчатый медведь, или коала. Мать таскает на спине сразу несколько своих разновозрастных детенышей.
034 Лемуры.
035 Невероятный яйцекладущий зверь с птичьим клювом – утконос.
036 Его родственник – ехидна.
037 Животное еще более редкостное – проехидна.
038 Родная «тетушка» динозавров – гаттерия. Самое древнее сухопутное позвоночное.
039 «Летающие тарелки» приземлились? Не правда ли, мечехвосты, древнейшие из древнейших обитателей нашей планеты, похожи на фантастические машины марсиан?
040 Патриарх среди птиц – гоацин. У его птенцов когти на крыльях, как у археоптерикса!
041 Рыба с легкими – цератод.
042 Эмбрион индюка. Стрелками показаны жаберные щели, атавистический дар древних предков всех позвоночных – рыб.
043 Такими они рождаются. Такими вырастают.
044 Ястреб-тетеревятник.
045 Скопа пикирует!
046 Атака удалась.
047 Совы спасают наши урожаи, истребляя миллиарды грызунов.