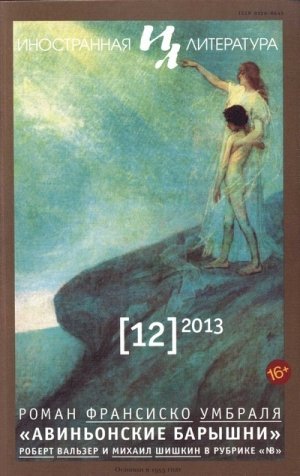
Роберт Вальзер
Прогулка
Рассказ
Настоящим сообщаю, что одним прекрасным утром, не упомню уже, в котором точно часу, охваченный внезапным желанием прогуляться, я надел шляпу и, оставив писательскую каморку, полную призраков, слетел вниз по лестнице, чтобы поскорее очутиться на улице. В дополнение к вышесказанному мог бы добавить, что на лестнице я столкнулся с женщиной, которая выглядела как испанка, перуанка или креолка. Она излучала какое-то увядающее величие. Однако должен строжайшим образом запретить себе даже пару секунд задержаться на описании этой бразильянки или кем бы она ни была — ведь я не в праве бросать на ветер ни пространство, ни время. Насколько вспоминается мне сегодня, когда пишу все это, тогда я пребывал в авантюрно-романтическом настроении и, выйдя на светлый и веселый уличный простор, испытал приступ счастья. Утренний свежий мир, открывшийся моим глазам, показался мне столь чудесным, будто я увидел его впервые. На что бы я ни бросил взгляд, все приятно удивляло приветливостью, добротой и юностью. Сразу забыл я, как только что угрюмо корпел над пустым листом бумаги наверху в моей комнатенке. Вмиг растаяли и тоска, и боль, и все тяжелые мысли, хотя я все еще живо слышал и впереди, и за спиной какое-то торжественное гудение. С радостным ожиданием я устремился навстречу всему, что могло встретиться и случиться на прогулке. Шаг мой был ровным и легким, и, смею думать, ступая таким образом, я производил впечатление персоны, исполненной достоинства. Я не большой любитель выставлять напоказ окружающим мои чувства, но и стараться с болезненной суетливостью прятать их тоже считаю ошибкой и порядочной глупостью. Не успел я пройти и двадцати или тридцати шагов по оживленной шумной площади, как сразу столкнулся с профессором Майли, светилом первого разряда. Герр Майли шествовал как непререкаемый авторитет — сосредоточенно, торжественно и величаво. Негнущаяся ученая палка в его руке внушала мне благоговейный ужас, трепет и почтение. Нос профессора Майли изгибался строгим, властным, острым клювом орла или ястреба, а губы были сжаты плотно, будто стиснуты скрепкой юриста. Поступь ученой знаменитости напоминала о неумолимости закона. В суровых глазах профессора Майли, скрытых под кустистыми бровями, сверкали отблески мировой истории и давних героических деяний. Его шляпа казалась несвергаемым властителем. Тайные властители — самые горделивые и безжалостные. В целом же профессор Майли держался скорее мягко, ведь ему излишне было особо демонстрировать окружающим свое могущество и вес в обществе, и эта личность, несмотря на всю свою непреклонность и суровость, была мне скорее симпатична, поскольку, смею утверждать, далеко не все люди, чарующие вас сладкой улыбкой, честны и надежны. Известно ведь, что негодяи любят рядиться в положительных героев и совершать злодеяния под покровом отвратительного таланта — улыбаться учтиво и вкрадчиво.
Я чую приближение книгопродавца и книжной лавки. И уже скоро, как я предчувствую и замечаю, появится и будет упомянута кондитерская с хвастливыми золотыми буквами. Но прежде еще нужно записать священника или пастора. С радостным, важным лицом проезжает на велосипеде городской аптекарь, он же штабной или полковой доктор, рулит прямо на пешехода, то бишь на меня. Не должен остаться незамеченным и незаписанным некий скромный прохожий, который так просится на эту страницу. Вот этот разбогатевший старьевщик и тряпичник. Мальчишки и девчонки носятся друг за дружкой бесшабашно и необузданно в лучах солнца. «Резвитесь! — подумал я. — Годы вас охладят и обуздают. Жаль только, что это произойдет слишком рано». Собака лакает из фонтана. В голубизне неба щебечут, кажется, ласточки. Так и лезут в глаза одна-две дамы в столь коротких юбках, что застают врасплох, и невозможно оторвать взгляд от их ботиков, удивительно изящных, высоких, разноцветных. Затем внимание мое привлекают две летние соломенные шляпы. Собственно, вот какая история с этими шляпами: вдруг вижу как две мужские соломенные шляпы ловят нежный ветерок, а под шляпами стоят вполне порядочные господа и посредством учтивого проветривания шляп желают другу другу приятного утра. Шляпы в этой церемонии явно поважнее будут своих носителей и владельцев. Тут автора покорнейше просят воздержаться от излишних насмешек и держать себя в руках. Ему надлежит оставаться серьезным, и надеемся, что он намотал это себе на ус.
Поскольку внимание мое приятным образом привлек большой и известный своим отменным выбором книжный магазин, я поддался искушению и не замедлил нанести краткий и беглый визит, прикинувшись человеком с хорошими манерами, причем отдавал себе отчет в том, что способен лишь скорее на роль инспектора и ревизора, собирателя справок или утонченного библиофила, а вовсе не обожаемого долгожданного богатого покупателя и хорошего клиента. Вежливым, предельно осторожным голосом и, понятное дело, в самых изысканных выражениях, я осведомился о последних и лучших новинках изящной словесности. «Не позволите ли, — застенчиво спросил я, — взглянуть на самое-пресамое из заслуживающего внимания в области наисерьезного чтения и потому, разумеется, наиболее читаемое, и сразу почитаемое, и вмиг раскупаемое? Буду вам премного и необычайно благодарен, если окажете особую любезность и соблаговолите показать мне ту книгу, которая завоевала рьяную любовь не только у читающей публики — кому как не вам об этом лучше знать, — но и у внушающей страх и оттого несомненно столь улещиваемой критики, и которая будет почитаема и потомством. Вы просто не поверите, до какой степени мне не терпится узнать, какое из творений пера, затерявшихся в этих стопках, является той самой искомой любимой книгой, один вид которой, скорее всего, как я живейшим образом предполагаю, заставит меня тут же раскошелиться и превратиться в восторженного покупателя. Меня всего пробирает до костей от нетерпения узнать, кто же этот любимец просвещенной публики, сочинивший сей заласканный и захваленный шедевр и, как сказано, может быть даже таковой и приобрести. Позвольте же обратиться к вам с просьбой указать мне на сию прославленную книгу, чтобы я мог утолить эту жажду, охватившую все мое существо, и на том успокоиться.» — «Извольте», — ответил книгопродавец. Он стрелой исчез из поля моего зрения с тем лишь, чтобы через мгновение вновь предстать перед алчущим клиентом с книгой, пользующейся наивысшим спросом и обладающей поистине непреходящей ценностью. Этот драгоценный результат духовной работы он держал столь бережно и торжественно, будто нес священную реликвию. С благоговением, с блаженнейшей улыбкой, которая может осенить лишь уста верующих и просветленных, явил он мне призывающе свое подношение. Взглянул я на книгу и спросил: «Клянетесь, что это и есть самая-пресамая книга года?»
— Без сомнения.
— Но вы уверены, что это именно та книга, которую обязательно нужно прочитать?
— Безусловно.
— И это правда хорошая книга?
— Что за совершенно излишний и неуместный вопрос?
— Сердечно благодарю, — произнес я холодным тоном, оставил книгу, которую все покупают, потому что ее обязательно нужно прочитать, лежать себе там, где она лежала, и тихо удалился, не произнеся больше ни слова.
— Темнота! Невежа! — долетели до меня слова по праву раздосадованного книгопродавца, брошенные мне в спину. Не обращая внимания на эти речи, я неторопливо отправился дальше, как сейчас станет ясно из нижеследующего, прямиком в ближайший весьма солидный банк.
По-хорошему нужно было бы зайти туда, чтобы получить доверительные надежные сведения о некоторых ценных бумагах. «Как мило и благопристойно заскочить по дороге в банк, — подумал или сказал я себе, — чтобы поговорить о финансах и коснуться вопросов, при обсуждении которых как-то невольно переходишь на шепот».
— Как хорошо и удачно, что вы к нам сами заглянули, — услышал я из окошка ответственного управляющего, и он совсем свойским тоном добавил, чуть лукаво, но весьма дружелюбно:
— Удачно, повторюсь, что вы сами зашли! Только что собирались писать вам, а теперь вот можно обойтись и устным уведомлением, весьма для вас радостным, что по поручению общества или кружка очевидно неравнодушных к вам добросердечных и человеколюбивых женщин на ваш счет переведена сумма в размере — прописью:
одна тысяча франков —
да-да, не дебет, а кредит, что мы настоящим и подтверждаем и просим вас почтеннейше принять к сведению, а еще лучше записать где-нибудь в подходящем месте, как вам угодно. Предполагаем, что известие это придется вам по душе. Ибо производите вы на нас такое, честно говоря, впечатление, что без должного попечения и нежной заботы вам, тут уж не удержимся и скажем без экивоков, никак. С сегодняшнего дня деньги находятся в полном вашем распоряжении. Поглядите только, как тут же радостно засияло ваше лицо! Ваши глаза озарились. Рот в это мгновение растянулся в улыбке, давно не посещавшей вас, поскольку назойливые ежедневные заботы самого неприятного свойства ее беспрестанно прогоняли, ведь вас давно уже не покидало скверное расположение духа, а лоб ваш без конца морщился от всяких досадных и тоскливых мыслей. А теперь потирайте ручки от удовольствия и радуйтесь, что некие благородные добросердечные благотворительницы, сподвигнутые возвышенной идеей приносить добро, утишая скорбь и облегчая нужду, подумали о том, что следует поддержать одного поэта, бедняка и неудачника (это ведь вы, не так ли?). Вот нашлись люди, пожелавшие снизойти до вас и вспомнившие о вашем существовании, так что не всем еще наплевать на презренного поэта, с чем вас и поздравляем.
— Эти деньги, пожертвованные мягкими и добрыми руками фей или дам и свалившиеся на меня столь неожиданно, — сказал я, — я предпочел бы оставить у вас, ведь здесь им самое место, в полной сохранности, раз вы располагаете несгораемыми надежными сейфами для сбережения ценностей от всякой порчи, кражи и прочей напасти. Да к тому же еще и проценты начисляете. Позвольте попросить о расписке в получении? Насколько понимаю, я свободен снимать по своему усмотрению в любое время с моего счета маленькие суммы. Смею обратить ваше внимание на то, что я бережлив. И смогу распорядиться этим даром как солидный целеустремленный человек, то бишь с крайней осторожностью, а любезным благодетельницам я выражу мою благодарность в учтивом и рассудительном послании, каковое напишу, пожалуй, завтрашним утром, не откладывая, а то еще забуду. Ваша догадка, выраженная прямо, без обиняков, что я беден, основана на верном и очень тонком наблюдении. Однако совершенно достаточно того, что я сам знаю, что я знаю, и никто лучше меня не осведомлен о моей персоне. Видимость подчас обманчива, мой любезный, и судить о человеке предоставьте лучше всего ему самому. Никто не знает человека, достаточно на своем веку повидавшего и пережившего, лучше, чем он сам. Конечно, и я временами блуждал в тумане, колебался, метался, терялся в сомнениях, чувствовал себя жалким и всеми покинутым. Но считаю, что красота — в борьбе. Гордость достойного не в радостях и удовольствиях. Лишь стойко перенесенные лишения и мужественно встреченные трудности вызывают в глубине души радостное чувство гордости. Но не пристало говорить об этом. Какой достойный муж не чувствовал себя хоть раз в жизни беспомощным? И какое человеческое существо не изменило на своем долгом пути юным надеждам, планам, мечтам? Где та душа, которая не смирилась с потерями в борьбе за претворение своих дерзновенных замыслов и заветных стремлений, не отступилась от высоких и сладостных представлений о счастье?
Получив квитанцию о внесении на текущий счет суммы в размере одной тысячи франков, солидный вкладчик и хозяин текущего счета, никто иной, как я, почел за благо поскорее раскланяться и удалиться. С душой, исполненной радостью от целого состояния, волшебным образом свалившегося с неба, я выскочил из высокого, красивого кассового зала на свежий воздух, чтобы продолжить прогулку.
Добавить к вышесказанному хочу, и могу, и имею на то, надеюсь, полное право (поскольку ничего нового и умного в настоящую минуту все равно не приходит в голову), что в кармане моем лежало вежливое и чарующее приглашение от фрау Эби. Пригласительная открытка покорнейше звала меня и побуждала пожаловать ровно в половине первого на скромный обед. Я твердо решил последовать этому призыву и появиться у сей достопочтенной особы в точно назначенное время.
Раз уж ты, благосклонный читатель, взял на себя труд этим сияющим радостным утром исправно, шаг в шаг следовать за пишущим и сочиняющим эти строки, без спешки, несуетно, легко, уютно, полегоньку, степенно и размеренно, то вот мы с тобой и пришагали к уже упомянутой кондитерской с золотой надписью, перед которой нас так и подмывает остановиться в ужасе, чтобы до глубины души опечалиться и возмутиться этим результатом грубого хвастовства и, как следствие, печальным искажением чудесного вида.
Из груди моей невольно вырвался вопль: «Как же не ужаснуться, прости Господи, добропорядочному человеку при виде этого варварства, золоченой вывески, что накладывает на окружающую сельскую невинность отпечаток алчности, корысти, оголтелого огрубления души. Неужели уважающему себя простому пекарю так необходимо затмить солнце сиянием этих дурацких золоченых и серебряных букв, заявляя о себе с тщеславием, присущим скорее князьям или модным дамам сомнительной репутации? Да месит он тесто свое и печет хлеб свой в честной и разумной скромности! В какой же пропащий мир катимся мы, а может, уже и докатились, если местные власти, соседи и общественное мнение не только терпят, но, к несчастью, еще и явно поощряют того, кто оскорбляет хороший вкус и законы красоты, кто попирает здравый смысл и проявляет неуважение к окружающим, а также теряет всякое чувство меры и становится просто смешон, заявляя во всеуслышанье о своем болезненном самомнении подобными вывесками, за версту орущими: ‘Это я, такой-то и такой-то! Раздобыл деньжат и вот могу теперь позволить себе заставить вас обратить на себя внимание. Ну и пусть я остолоп и увалень, и вкуса у меня ни на грош со всей моей тошнотворной позолотой, но никто не может мне запретить быть собой, болваном и олухом’. Имеют ли эти золотые буквы, мерзко сверкающие издалека, хоть какое-то внятное, хоть как-то оправданное и мало-мальски объяснимое отношение — к хлебу? Ничего подобного! Но где-то когда-то, неизвестно в каком уголке мира это гадкое хвастовство, эта кичливость расплодились и пошли лавиной, неся с собой нечистоты, грязь и глупость, прискорбно наводняя ими весь свет, и волна эта захватила и моего добропочтенного пекаря, отчего у него испортился врожденный вкус и пострадала присущая ему благовоспитанность. Готов пожертвовать многим, отдал бы левую руку или левую ногу, если только подобной жертвой мог бы вернуть стране и людям старое доброе чувство благопристойности, былую благородную неприхотливость, восстановить понятия о честности и скромности, которые, увы, уходят, к великому сожалению всякого благомыслящего человека. К черту подлую болезненную страсть казаться важнее, чем ты есть. Гордыня натягивает всему сущему проклятую маску злонравия и уродства и является подлинной катастрофой, причиной войн, смерти, нищеты, ненависти и всех бедствий на земле. По мне, так не может мастеровой быть месье, а торговка строить из себя мадам. Нынешние норовят лишь бросить пыль в глаза, сверкать и ослеплять модной новизной, элегантностью и шиком, все лезут в месье и мадамы, так что с души воротит. Но, может, еще наступит время, когда все снова будет по-другому. Хочу на это надеяться».
Впрочем, что касается барских замашек и испорченных манер, то у вашего покорного, как вам еще предстоит скоро убедиться, у самого рыльце в пушку. Вот увидите. Это уж совсем никуда не годится, если бы я только других немилосердно критиковал, а с самим собой обходился бы деликатно и до крайности бережно. Поступающий так критик не смеет более таковым называться, а писатели не должны злоупотреблять своим писательством. Надеюсь, последняя фраза, как и сформулированные в ней принципы, придется всем по душе, вызовет глубокое чувство удовлетворения и горячие аплодисменты.
Слева от проселочной дороги — литейные мастерские, переполненные рабочими, оттуда доносится вызывающий грохот. Вот тут меня охватывает стыд, что, пока я прогуливаюсь в свое удовольствие, другие трудятся в поте лица. Хотя, с другой стороны, я ведь тружусь в тот поздний час, когда все эти работяги уже закончили смену и отдыхают.
Мимоходом меня окликает с велосипеда монтер, мой армейский товарищ по третьей роте 134-го батальона: «Разгар рабочего дня, а ты, как погляжу, опять гуляешь?» Смеясь приветствую его и с радостью соглашаюсь, что он прав в своем мнении, что я гуляю.
«Ну ведь видят же, что гуляю, — подумал я и зашагал себе мирно дальше, нисколько не сердясь на то, что меня поймали с поличным, — вот уж совсем глупо было бы еще и сердиться».
В светло-желтом английском пиджаке с чужого плеча я казался себе, признаюсь откровенно, чуть ли не лордом, грансеньором, маркизом, фланирующим по аллеям парка, хотя на самом деле я шел по проселку в полусельской полупригородной местности, скромной, простой, бедной и ничем не напоминающей изысканный парк, о котором лишь осмелился намекнуть, но тут же осекся, так как всякое сходство с парком взято с потолка и совершенно неуместно. Среди зелени там и сям виднелись небольшие фабрики и механические мастерские. Крепкое, добродушное сельское хозяйство будто бы по-свойски поддерживало под руку стучащую и грохочущую индустрию, в которой всегда есть что-то тощее, изнуренное. Ореховые деревья, вишни и сливы придавали мягкой, слегка закруглявшейся дороге что-то привлекательное, зовущее, живописное. Поперек столь полюбившейся мне чудесной дороги лежала собака. Вообще я мгновенно влюблялся почти во все, что открывалось моим глазам. Вот чудесная сценка с собакой и ребенком: огромный, но совершенно потешный, добродушный безобидный пес уставился на мальчонку, съежившегося на корточках на ступеньках крыльца. Заметив, что тишайший, но грозный зверюга не сводит с него глаз, кроха от страха разревелся и зашелся в пронзительном детском плаче. Сценка разыграна была восхитительно. Но следующий детский выход в этом проселочном театре показался мне еще прелестней и восхитительней. Двое ребятишек разлеглись прямо в уличной пыли, как в саду. Один сказал другому: «Поцелуй меня!» Тот исполнил требуемое. Тогда первый ему заявил: «Так, теперь можешь встать». Скорее всего, без поцелуя ему и вовсе не позволили бы то, что милостиво разрешили теперь. «Как же эта наивная сценка гармонирует с прекрасным голубым небом, что божественно улыбается сверху этой легкой светлой земле! — сказал я себе. — Дети — небесные существа, потому что они всегда словно пребывают на небе. А когда они становятся старше и вырастают, неба вокруг них становится все меньше, они выпадают из детства и превращаются в сухие расчетливые существа с тоскливыми принципами взрослых. Детям бедняков летний проселок заменяет игровую. И где же им еще быть, если сады для них закрыты. Посылаю проклятия пролетающим здесь автомобилям, что вторгаются хладнокровно и злобно в детскую игру, попирают колесами детские небеса и подвергуют опасности быть раздавленными эти крошечные невинные человеческие существа. Гоню от себя чудовищную мысль, что какое-нибудь дитя и вправду может погибнуть, попав под эту убогую триумфаторскую колесницу, иначе в гневе вырвутся из меня грубые выражения, от которых, как известно, толку все равно никакого не бывает».
К людям, сидящим в мчащемся автомобиле, взбивающем клубы пыли, всегда обращено мое злое лицо с суровым взглядом, лучшего они не заслуживают. Они, верно, думают, что я назначенный высшим начальством соглядатай, полицейский в штатском, стоящий на посту, чтобы наблюдать за уличным движением и записывать номера автомашин для последующего рапорта в соответствующие инстанции. И я всегда с мрачным видом гляжу на колеса, на автомобиль в целом и никогда не удостаиваю взглядом тех, кто сидит внутри, ведь я их презираю, не лично, конечно, из чистого принципа, потому что не понимаю и никогда не смогу понять, что за радость проноситься мимо всех творений и вещей, которыми столь обильна наша чудесная Земля, будто только тем и можно спастись от отчаяния и безумия, что носиться как угорелый. В самом деле я люблю покой и все, что покоится. Люблю бережливость и умеренность и, видит Бог, терпеть не могу спешку и гонку. Больше того, что есть истина, и говорить незачем. И из-за сказанного не прекратят люди ездить на автомобилях, ни отравлять воздух выхлопными газами с отвратительным запахом, который наверняка никому не может понравиться. Это было бы противоестественно, если чей-то нос мог полюбить и вожделенно втягивать в себя то, что для правильного человеческого носа является, в зависимости от настроения, то возмутительным, то тошнотворным. Вот и все, хватит об этом, не в обиду будет сказано. И дальше в путь. Ходить пешком упоительно прекрасно, и полезно, и естественно просто. Если, конечно, башмаки или сапоги в полном порядке.
Да позволят мне высокочтимые господа доброжелатели и читатели, коль скоро они благосклонно принимают и прощают мне этот слишком напыщенный и торжественно шествующий стиль, привлечь должным образом их внимание к двум особенно значительным особам, образам или персонажам, причем сперва, или лучше во-первых, к предположительно бывшей актрисе и, во-вторых, к юной, по-видимому начинающей, певице. Обеих я считаю весьма важными лицами, потому и счел своим долгом представить их надлежащим образом и объявить о них еще до того, как они появятся и покажут себя, с тем чтобы аромат их значительности и славы, подобно запаху духов, предшествовал сим нежным созданиям и чтобы их встретили и приняли со всем достойным вниманием и заботливой любовью, какими следует, на мой скромный взгляд, непременно отличать подобных людей. А в половине первого господин сочинитель, как известно, в награду за множество перенесенных мучений, будет наслаждаться, вкушать яства и утолять жажду в палаццо, то бишь в доме фрау Эби. До этого ему, однако, предстоит прошагать еще достаточно, а также написать изрядное количество строк. Впрочем, хорошо известно, что гулять он любит так же, как и писать. Хотя последнее, быть может, все-таки чуть меньше, чем первое.
Перед чудесным опрятным домиком у края красивой улицы сидела женщина на скамейке и, едва увидев ее, я дерзновенно заговорил, рассыпавшись в самых изысканных и вежливых выражениях:
— Простите великодушно незнакомцу слишком прямой вопрос, который при взгляде на вас так и просится на язык, скажите, не были ли вы прежде актрисой? Дело в том, что вы выглядите точь-в-точь как избалованная прошедшей славой великая актриса и артистка сцены. Конечно, вы справедливо удивлены столь отчаянному и дерзкому обращению. Но ваше лицо так прекрасно и, не могу не добавить, весь ваш образ так притягателен, ваша благородная фигура так изящна, ваши глаза смотрят на меня и на весь мир так прямо, гордо, спокойно, что я никак не мог заставить себя пройти мимо, не отважившись сказать вам что-нибудь приятное и доброе, на что вы, тешу себя надеждой, не обидитесь, хотя и боюсь, что заслуживаю за мое легкомыслие если не наказания, то порицания. Как только увидел вас, меня вмиг осенило, что вы не иначе как были актрисой, а ныне, так я подумал, вот сидите у этой незначительной, пусть и красивой дороги, перед чудесной крошечной лавкой, владелицей который вы, кажется мне, и являетесь. До сегодняшнего дня с вами, наверно, никто так бесцеремонно не заговаривал. Ваша приветливость и привлекательность, ваш милый облик, ваше спокойствие, ваше изящество, ваша благородная осанка и удивительная бодрость для преклонного, если позволите мне это упоминание, возраста — все это придало мне смелости завести разговор с вами так запросто прямо на улице. Да и чудесный день с его веселым привольем так переполнил меня счастьем, что я на радостях позволил себе, возможно, чуть лишнего по отношению к незнакомой даме. Вы улыбаетесь! Значит, нисколько не сердитесь на мои безалаберные речи. Мне кажется, если могу так выразиться, просто восхитительным, что две незнакомые души могут порой свободно и невинно вступить в беседу, ведь для этого нам, обитателям этой блуждающей странной планеты, так и оставшейся для нас загадкой, и даны в конце концов уста, и язык, и способность говорить, что само по себе чудесно и удивительно. Так или иначе, только увидел вас, сразу почувствовал близкую душу. Однако должен теперь почтеннейше извиниться и прошу вас поверить мне, что испытываю к вам глубокое благоговение. Может ли откровенное признание, что вы одним своим видом сделали меня счастливым, дать вам повод на меня рассердиться?
— Мне приятно было слушать, — весело ответила моя красавица, — но вот что касается вашей догадки, тут разочарую вас. Я никогда не была актрисой.
Я почувствовал необходимость сказать ей:
— Я недавно приехал в этот край и жил до этого в весьма стесненных обстоятельствах, в недобром холодном окружении, с больной душой, совсем потеряв веру, без уверенности в будущем, без доверия к людям, без какой-либо надежды, чужой и враждебный миру и самому себе. Страх и подозрительность преследовали меня на каждом шагу. И понемногу это тяжелое отвратительное чувство стало рассеиваться. Даже дыхание мое здесь сделалось спокойнее и свободней, и я стал красивее, мягче, чувствую себя счастливым человеком. Постепенно исчез страх, изводивший мою душу. Тоска и пустота в сердце, безнадежность уступили место радостному ощущению полноты, я заново научился испытывать приятное живое чувство соучастия. Я был мертв, а теперь будто кто-то поднял меня из гроба, и я чувствую во всем его поддержку. Там, где меня, как я думал, ждет много безобразного, жестокого и тревожного, я встречаю очарование и доброту, нахожу покой, доверчивость и благо.
— Тем лучше, — сказала женщина с доброй улыбкой.
Тут мне показалось, что настал момент закончить эту изрядно игриво начатую беседу и удалиться, так что я раскланялся с женщиной, которую принял за актрису и которая, к сожалению, больше не была великой и знаменитой актрисой, потому что сама сочла за лучшее это отрицать, и распрощался с ней, позволю себе отметить, с изысканной, подчеркнутой обходительностью, отвесив ей поклон, и мирно зашагал дальше, будто вообще ничего не произошло.
Робкий вопрос: может ли изящная модная лавка, выглянувшая из-за зелени, вызвать столь разительный интерес и даже, возможно, скромные аплодисменты?
Я в этом убежден и потому беру на себя смелость нижайше донести до сведения, что ваш покорный, вышагивая по сей прекраснейшей в мире дороге, испустил глуповатый мальчишеский крик радости, удививший даже издавшую его глотку, не думавшую, что способна на такое. Что же узрел я такого нового, небывалого и прекрасного? Да говорю же вам, всего лишь прелестный салон модных шляп. Париж и Петербург, Бухарест и Милан, Лондон и Берлин, все, что только есть элегантного, распутного и столичного, вынырнуло, нахлынуло на меня, чтобы ослепить и очаровать. Однако столицам мира не хватает главного украшения — сочной зелени деревьев, покрова и благодати ласковых лугов, нежности листьев и, не в последнюю очередь, дурманящего запаха цветов, а все это у меня здесь было. «Все это я обязательно запишу, — твердо решил я, остановившись, — в рассказе или в какой-нибудь фантазии, и озаглавлю ‘Прогулка’. И этот магазин дамских шляп обязательно там будет. Иначе это произведение могло бы лишиться таких очаровательных прелестей, без которых совершенно невозможно обойтись». Перья, ленты, искусно сотворенные ягоды и цветы на славных забавных шляпках притягивали и звали меня, как сама природа, которая своей естественной зеленью и живыми красками нежно обрамляла рукотворные краски и порождения фантазии модельеров, будто витрина шляпного салона была лишь прекрасной картиной. Здесь я очень рассчитываю, как уже говорилось, на чуткость и понимание читателя, которого я искренне боюсь. Это жалкое признание в трусости вполне объяснимо. Такое случалось и с другими, несравненно более смелыми авторами.
Господи, а это что такое я вижу, опять же под сенью листвы, — какая восхитительная, чудесная, несравненная мясная лавка, а в ней розовые и алые куски свинины, говядины, телятины! В глубине возится мясник, и покупатели ждут. Разве не стоит прокричать ура и этой мясной лавке, подобно салону шляп? В-третьих, можно и бакалею заодно упомянуть. Трактиров и пивных я коснусь чуть позже, еще успеется. С подобных заведений никогда не поздно начинать, но чем позднее, тем лучше, это ведь каждый по себе знает, чем все, увы, может кончиться. И самый благонравный из благонравных не станет спорить, что и ему не под силу справиться с некоторыми пороками. К счастью, мы всего лишь люди-человеки и потому нам простительно. Всему виной слабость человеческой натуры.
И вот теперь мне придется заново провести ориентировку на местности. Предполагаю, что переориентация и перегруппировка удаются мне ничуть не хуже, чем какому-нибудь генерал-фельдмаршалу, который учитывает все возможные обстоятельства и включает в свой, да позволят мне сказать, гениальный расчет все случайности и неудачи. В нынешние времена каждый прилежный читатель газет становится стратегом и запоминает такие выражения, как «фланговый удар». Я в последнее время пришел к убеждению, что искусство ведения войны и боевых действий по трудности и необходимости выдержки сравнимо с писательским искусством, и наоборот. Писатели ведь, подобно генералам, подолгу готовят свои действия, прежде чем отважатся на решающее наступление и сражение, другими словами, прежде чем бросят в бой на захват книжного рынка какую-нибудь халтуру или книгу, что является вызовом и приводит к яростным и мощным контратакам. Книги попадают в засаду рецензий, и их огонь бывает таким безжалостным, что книга погибает, а ее автор впадает в беспросветное отчаяние!
И пусть не покажется странным, что я вывожу эти, надеюсь, изящные приятные строчки пером германского Имперского верховного суда. Отсюда краткость, выразительность и острота, которые особенно ощутимы в некоторых местах, чему теперь никто не будет удивляться.
Но когда же наконец доберусь я до более чем заслуженного угощения у моей доброй фрау Эби? Боюсь только, что произойдет это еще не скоро, поскольку мне предстоит разобраться еще с некоторыми обстоятельствами. А аппетит уже разыгрался не на шутку.
Пока я как последний бродяга, перекати-поле, лодырь и расточитель времени, мот и бездельник шагал своей дорогой мимо огородов, битком набитых всевозможными лоснящимися от довольства овощами, мимо цветников и густых ароматов, мимо плодоносящих деревьев и высокой фасоли на подпорках, усыпанной стручками, мимо поднявшихся тучных злаков, а именно ржи, овса и пшеницы, мимо дровяного склада с рассыпанными кругом дровами и стружками, мимо сочного луга и славного плеска речки или ручья, мимо разных людей, вроде веселых торговок с рынка, мимо дома какого-то ферейна, украшенного яркими радостными флагами, и еще мимо много всего чудесного и полезного, мимо удивительной яблоньки-феи и еще Бог знает мимо чего только я не проходил, вот, к примеру, мимо земляники прошел благовоспитанно, хотя там были не только цветочки, но и спелые красные ягоды, а в голове у меня теснились тем временем всякие мысли, приятные и не очень, ведь на прогулке осеняют идеи и озаряют гениальные проблески, которые потом нужно тщательно обработать, и вот, пока я шагал себе таким манером, мне навстречу вышел человек, чудовище, огромный урод, от которого потемнело на улице, зловещий тип, необъятный ввысь и вширь, которого я, к несчастью, слишком хорошо знал, существо страннее странного, великан
Томцак.
Я скорее бы ожидал его увидеть где угодно, на любой другой дороге, но только не здесь, на этом милом безобидном проселке. Его скорбный зловещий вид, вся его трагичная кошмарная сущность привели меня в ужас, вмиг лишили чудесных светлых надежд и прогнали веселье и радость. Томцак! Не правда ли, любезный читатель, уже в самом имени звучит что-то ужасное и мрачное. «Зачем преследуешь ты меня, — воскликнул я, — что за нужда тебе повстречаться со мной здесь, на половине моего пути, о злосчастный!» Но Томцак не давал ответа. Он уставился на меня, выкатив глаза, то бишь с высоты своего роста вглядывался в меня, ведь он значительно превосходил меня своими размерами. Рядом с ним я казался себе карликом или жалким слабым ребенком. Этот великан мог бы растоптать или раздавить меня с величайшей легкостью. Ах, я знал, кто он! Ему не было нигде покоя. Неприкаянно бродил он по свету. Не спал в нежной постели, не жил в уютном родном доме. Его угол был везде и нигде. У него не было родины, и не было никаких прав на проживание где бы то ни было. Он был лишен отечества и счастья, и вынужден был жить совсем без любви и радости от общения с людьми. Он не проявлял ни к кому сочувствия и никто не проявлял сочувствия к нему и его житью-бытью. Прошлое, настоящее и будущее были для него безжизненной пустыней, а жизнь слишком ничтожной, слишком маленькой, слишком тесной. Для него ничто не имело значения, и он сам не имел ни для кого никакого значения. Из его глазищ исходила извечная тоска и надземных, и подземных миров. Бесконечная боль пронзала каждое его усталое, вялое движение. Он был не жив и не мертв, не стар и не молод. Мне казалось, ему сто тысяч лет, и еще казалось, будто он должен жить вечно, чтобы вечно оставаться неживым. Каждое мгновение он умирал, но умереть все не мог. Ему не суждено было упокоиться в могиле с цветами. Я уступил ему дорогу и пробормотал себе под нос: «Прощай, дружище Томцак, и пусть тебе все-таки живется хорошо!»
Не оборачиваясь на этот призрак, на этого достойного сожаления колосса и сверхчеловека, к чему у меня поистине не было ни малейшей охоты, я зашагал дальше, вдыхая нежный теплый воздух и стараясь избавиться от мрачного впечатления, произведенного отталкивающим исполинским обликом, и скоро оказался в еловом лесу, в который уводила, лукаво извиваясь, приветливая дорожка, по которой я с удовольствием и последовал. Дорога и земля под деревьями расстилались как ковер, и здесь, в глубине леса, стояла тишина, как в душе счастливого человека, как в храме, как во дворце, как в заколдованном сказочном замке, зачарованном замке Спящей красавицы, в котором все уснуло и замерло много столетий назад. Я углублялся все дальше в лес и, возможно, позволю себе красивость, если скажу, что казался себе златоволосым принцем в бранных доспехах. В лесу было так торжественно, что причудливые и торжественные фантазии охватывали воображение впечатлительного путника. Какое счастье я испытал в дивной лесной тишине! Время от времени издалека в эту отрешенность и чарующий мрак проникал слабый гул, далекий стук, или свист, или еще какой-то шум, и эти отдаленные звуки только усиливали царящее кругом безмолвие, и я вдыхал его полной грудью, буквально впивал его, захлебываясь. Молчание это прерывалось там и сям звонкими голосами птиц, невидимых за чудесным священным покровом. Так я стоял и прислушивался, и вдруг меня пронзило острое невыразимое ощущение единства со всем мирозданием и охватило рожденное им чувство благодарности, рвущейся из души. Ели поднимались вокруг прямые, как колонны, все замерло и боялось шелохнуться в огромном нежном лесу, который весь был пронизан и наполнен неслышимыми голосами. До моего уха невесть откуда доносились отзвуки прошедших миров. «О, вот и я хотел бы так встретить смерть, коли суждено. Счастливое воспоминание сделает меня счастливым и в могиле, и благодарность оживит меня в смерти. Слова благодарности за наслаждение, за радость, за восхищение. Слова благодарности за эту жизнь и упоение радостью». Высоко в верхушках елей послышался легкий шелест. Мне подумалось: «Любить и целовать здесь было бы божественно прекрасно. Ступать босыми ногами по этой дивной почве — наслаждение, а тишина пробуждает в чувствующей душе потребность в молитве. Как, должно быть, сладостно умереть и покоиться неприметно в этой прохладной лесной земле. Ах, если бы можно было чувствовать смерть после смерти и наслаждаться ею! Может, это так и есть. Как чудесно было бы лежать в маленькой тихой могиле в лесу. Может, я мог бы слышать пение птиц и шелест деревьев надо мной? Мне бы этого так хотелось». Солнечный луч восхитительно стоят между дубами, как сияющая колонна, и лес казался мне милой зеленеющей могилой. Но скоро я снова вышел на светлый простор и вернулся в жизнь.
Сейчас самое время появиться трактиру, чудесному, уютному, приветливому заведению на самом краю леса, из которого я только что вышел, загородному ресторанчику с тенистым садом, дарующим живительную прохладу. Вот бы этому саду быть на изящном холме, откуда открываются потрясающие виды, и впритык к нему был бы еще один холм повыше, насыпной, с обзорной площадкой или ротондой, чтобы можно было стоять подолгу и наслаждаться живописными окрестностями. Кружка пива или бокал вина точно бы не помешали. Однако человек, совершающий эту прогулку, напоминает себе своевременно, что не такой уж это изнурительный марш. Это ведь не утомительный переход по горам, что виднеются вдали, в голубой переливающейся дымке, будто окутанные белым дыханием. Ему следует честно признаться себе в том, что жажда его еще не смертельна и не столь мучительна, поскольку пройденный им путь был не таким уж и долгим. Речь ведь идет скорее о легкой непринужденной прогулке, чем об утомительном путешествии или походе, скорее о променаде, чем о бешеной скачке или марше, а потому он осмотрительно и справедливо отказывается от идеи зайти освежиться в сие отрадное заведение и ретируется. Благонамеренные читатели этих строк обязательно наградят аплодисментами его прекрасное решение и добрую волю. Но разве я не воспользовался случаем уже час назад объявить юную певицу? Вот ее выступление.
Причем в низком окне первого этажа.
Дело в том, что, дав крюк по лесу, я выбрался теперь снова на большую дорогу и услыхал…
Но стоп! Чувство такта требует здесь небольшой паузы. Писатели, кое-что смыслящие в своей профессии, отнесутся к этому с полнейшим пониманием. Они с радостью время от времени откладывают перо. От долгого писания устаешь, как от земляных работ.
Из низкого окошка я услыхал народные напевы и мелодии из опер, исполняемые премилым свежайшим голосом, который лился в мои изумленные уши совершенно бесплатно, как утренняя услада для моего слуха, как предобеденный концерт. Юная девушка в светлом платье, еще школьница, но уже высокая и стройная, стояла в окне убогого пригородного домика и просто восхитительно пела голубому небу. Приятнейшим образом пораженный и очарованный этим неожиданным пением, я остановился в сторонке, чтобы не мешать певице и не лишить себя этого наслаждения. Песня, которую пела девушка, была счастливой и радостной. Мелодия звучала, как само юное, невинное счастье жизни и любви. Звуки устремлялись в небо, подобно ангелам с белоснежными крыльями, а оттуда падали вниз и, казалось, умирали с улыбкой. Это казалось умиранием от печали, и еще умиранием от избытка нежной радости, быть может, от безмерно счастливой любви и жизни, а еще от невозможности жить из-за слишком насыщенного и прекрасного ожидания от жизни, ибо это нежное, переполненное до краев любовью и счастьем ожидание, безоглядно вторгаясь в бытие, летит кувырком, будто разбивается о себя самое. Когда замолкло простое и в то же время полное очарования пение, тающая мелодия Моцарта или песенка пастушки, я подошел к девушке, поздоровался и попросил позволения поздравить ее с прекрасным голосом и похвалил за необыкновенно задушевное исполнение. Юная дива, напоминавшая газель или антилопу в девичьем образе, обратила на меня свои красивые карие глаза с удивлением и недоумением. У нее было нежное лицо с тонкими чертами, и улыбалась она любезно и пленительно. «Вам суждено, — сказал я, — блистательное будущее и великая карьера, если вы только сумеете сберечь и заботливо развить ваш прекрасный, юный, богатый голос, для чего потребуется и ваше старание, и участие других. Я вижу в вас, признаюсь честно и откровенно, великую оперную певицу будущего! Несомненно, вы наделены острым умом, ваш характер мягок и податлив, и, если мои догадки справедливы, в вас определенно есть душевная отвага. Вам присущи сердечный пламень и явное благородство души — я почувствовал это в вашем дивном и поистине прекрасном пении. У вас талант, и более того — вы несомненно гениальны. И я не просто так вам говорю тут пустые слова или неправду. Очень прошу вас отнестись к вашему возвышенному дарованию с должной заботой, не растратить его преждевременно и попусту и стараться следить, чтобы его вам не изуродовали, не искалечили. Покамест могу только сказать вам откровенно, что вы поете просто восхитительно и что в этом кроется что-то очень серьезное и значительное. И прежде всего это значит, что вы должны посвящать себя усердным занятиям пением изо дня в день. Упражняйтесь и пойте, но соблюдая должную меру. Убежден, что вы еще сами толком не знаете силы и размеров сокровища, которым вы обладаете. В вашем пении уже звучит природа, вашим голосом простодушно поет живое естество и сама жизнь, избыток поэзии и человечности. Похоже, именно это дает право сказать вам и даже уверить вас в том, что вы обещаете стать во всех смыслах настоящей певицей, потому что вы, кажется, именно тот человек, который может петь только всем своим внутренним существом, который только в пении начинает по-настоящему жить и находить радость жизни, который всю свою жадность счастья до такой степени переносит в искусство пения, что все человеческое и лично значимое, все, что наполняет душу, все сокровенное возводится в нечто высшее, к идеалу. В красивом пении всегда сливается прожитое, сконцентрированное и спрессованное ощущение, чувство, перенасыщенная, готовая к взрыву страстность стесненной жизни и растроганной души, и с таким искусством пения женщина, если она сумеет воспользоваться благоприятными обстоятельствами и подняться по лестнице, ступеньки которой образуют чудесные случайности, способна стать звездой на музыкальном небосклоне и завоевать сердца, приобрести большие богатства, вызывать у публики приступы восторга и бури оваций, снискать искреннюю любовь и восхищение королей и королев».
Девушка прислушивалась к моим словам серьезно и удивленно, а я произносил их скорее для моего собственного удовольствия, ибо крошка была еще слишком мала и незрела, чтобы понять и оценить эту речь.
Уже издалека я вижу железнодорожный переезд, через который мне предстоит перейти, но это еще ждет меня впереди, а пока, и это обязательно нужно сообщить читателю, мне необходимо исполнить еще два-три важных задания и покончить с некоторыми, требующими особого внимания, делами. Об этих обстоятельствах я должен буду отчитаться с предельной точностью и как нельзя подробнее. С вашего благосклонного дозволения смею заметить, что собираюсь мимоходом заглянуть в элегантное ателье мужского платья, то бишь в портновскую мастерскую, по поводу нового костюма, который мне нужно примерить и при необходимости вернуть на переделку. Во-вторых, я должен платить непосильные налоги городской управе, и в-третьих, мне нужно отнести одно весьма примечательное письмо на почту и бросить его там в почтовый ящик. Сами видите, сколько мне всего нужно переделать и насколько это с виду бесцельная и приятная во всех отношениях прогулка на поверку выходит хлопотной и битком набитой практическими делами. Так что будьте добры простить мне все задержки, промедления и опоздания, а также занудные разбирательства с мастерами и канцеляристами, да к тому же, вас, быть может, даже развлекут и обрадуют эти отступления и вставки. Заранее спешу учтиво принести мои извинения за все вытекающие отсюда длинноты, долготы и широты. Представал ли когда-нибудь хоть один провинциальный или столичный писатель более робким и вежливым перед своими читателями? Думаю, что вряд ли, и потому продолжаю с абсолютно спокойной совестью мои рассказы и болтовню и сообщаю нижеследующее.
Господи помилуй, да ведь уже самая пора заскочить к фрау Эби на званый обед и откушать. Вот как раз бьет половину первого. К счастью, эта дама проживает совсем близко, рукой подать. Остается только изворотливым угрем проскользнуть к ней в дом, как в нору, в приют для голодающих бедняков и одичалых опустившихся типов.
Фрау Эби
приняла меня наилюбезнейшим образом. Моя пунктуальность была шедевром. Известно, как редки настоящие шедевры. Фрау Эби, увидев меня, улыбнулась чрезвычайно учтиво. Она протянула мне свою милую ручку так сердечно и приветливо, что совершенно меня, так сказать, очаровала, и сразу провела в столовую, где пригласила сесть за стол, что я, конечно же, исполнил с величайшим удовольствием и абсолютно непринужденно. Без всяких глупых церемоний я принялся простодушно за дело, уплетая за обе щеки и даже отдаленно не подозревая, что мне предстоит пережить. Итак, я живо набросился на еду и начал отважно вкушать. Такого рода отвага, как известно, не требует особых усилий. Тем временем я с некоторым изумлением обратил внимание на то, что фрау Эби смотрит на меня чуть ли не с благоговением. Это показалось мне немного странным. Очевидно ее растрогало то, как я хватал куски и глотал. Это необычное явление меня удивило, но я не придал этому большого значения. Когда я вознамерился вступить с ней в беседу и поболтать немного, фрау Эби воздержалась от разговора, заявив, что с величайшей радостью помолчит со мной. Эти странные слова озадачили, и мне стало как-то тревожно. В глубине души я начал побаиваться фрау Эби. Когда я уже перестал отрезать куски и засовывать их в рот, поскольку почувствовал, что уже так сыт, что не могу больше, она сказала мне почти нежным голосом, в котором слышался материнский упрек: «Ну что же вы ничего не едите. Подождите, я отрежу вам сейчас действительно сочный большой кусок». Меня охватил ужас, но я нашел в себе силы вежливо и учтиво возразить, что пришел в основном за тем, чтобы искрить мыслями и блистать остроумием, на что фрау Эби с обворожительной улыбкой ответила, что вовсе не считает это необходимым. «Я больше не в состоянии ничего съесть», — выдавил я из себя глухо. Я был уже так набит, что почти задыхался, и к тому же вспотел от страха. Фрау Эби сказала: «Но я никак не могу позволить вам остановиться, перестать отрезать куски и засовывать их в рот, я ни за что не поверю, что вы действительно наелись. Вы определенно говорите неправду, когда утверждаете, будто так набили живот, что вот-вот задохнетесь. Вынуждена объяснять себе это вашей вежливостью. И отказываюсь от всяких остроумных бесед, как уже сказала вам, с удовольствием. Уверена, что вы пришли ко мне главным образом за тем, чтобы показать, какой у вас отменный аппетит, и доказать, какой вы первоклассный едок. Ничто не сможет переубедить меня. Сердечно хотела бы вас попросить по доброй воле смириться с неизбежным. Поверьте, у вас нет никакой иной возможности выйти из-за стола, кроме как доев подчистую все, что я вам уже положила на тарелку и еще положу. Боюсь, что вы безвозвратно пропали, ведь вы должны знать, что на свете еще есть такие домашние хозяйки, которые будут потчевать гостей и заставлять их есть и пить, пока те не лопнут. Вас ждет жалкая плачевная участь, но вы найдете в себе мужество достойно принять ее. Нам всем однажды предстоит принести какую-то большую жертву. Повинуйтесь и ешьте. В повиновении есть особая сладость. Что за беда, если вы при этом погибнете. Вот этот нежный, аппетитный кусище вы, конечно, еще осилите, я знаю. Мужайтесь, мой милый друг! Нам всем нужно побольше смелости. Грош нам цена, если мы всегда утверждаем лишь собственную волю. Соберитесь с силами и заставьте себя совершить невозможное, вынести невыносимое и стерпеть нестерпимое. Вы даже не поверите, какую радость доставляет мне смотреть, как вы будете есть до потери сознания. Вы даже не можете себе представить до какой степени огорчите меня, если откажетесь. Но вы же так не поступите, правда? Правда же? Кусайте, глотайте, даже если кусок уже не лезет больше в горло».
— Ужасная женщина, чего вы от меня хотите? — закричал я, выскочив из-за стола с намерением стремглав броситься прочь. Однако фрау Эби меня удержала, громко и сердечно расхохоталась и призналась мне, что позволила себе надо мной пошутить, за что просит меня на нее не обижаться. «Я хотела лишь показать вам, что бывает, когда некоторые хозяйки не знают меры в угождении своих гостей».
Тут и я, разумеется, расхохотался, и должен признать, что шалость фрау Эби мне пришлась по душе. Она хотела, чтобы я остался у нее до самого вечера и даже рассердилась, когда я сказал ей, что, к сожалению, для меня совершенно не представляется возможным составить ей компанию, поскольку меня ждут всякие важные неотложные дела. Мне было чрезвычайно лестно услышать, как фрау Эби сожалела о моем вынужденном скором уходе. Она спросила, действительно ли мне так необходимо срочно удрать и улизнуть, на что я заверил ее всеми святыми, что лишь самая крайняя необходимость в силе заставить меня так спешно покинуть столь приятное место и расстаться с такой привлекательной и почтенной особой. С этими словами я с нею и распрощался.
Теперь мне предстояло сразить, ошеломить, обуздать и победить строптивого упрямца, очевидно, безгранично уверенного в непогрешимости своего бесспорно виртуозного мастерства и всецело проникнутого сознанием своей значительности и своих выдающихся способностей, и в этой своей уверенности совершенно непоколебимого портного, или Marchand Tailleur.
Поколебать портновскую самоуверенность — задача из самых трудных и головоломных, требующих отваги и отчаянной решимости не отступать. Портные с их мировоззрением всегда вызывают у меня чувство сильного страха, но я нисколько не стыжусь в этом признаться, ибо сей страх понятен и объясним. Вот и теперь я приготовился к неприятному, даже, быть может, к наинеприятнейшему и даже еще более худшему, и вооружился для этой опасной наступательной операции такими свойствами, как мужество, упорство, гнев, негодование, презрение, вплоть до презрения к смерти, и с этим без сомнения весьма достойным оружием я надеялся успешно и победоносно выступить против язвительной иронии и насмешки, скрытой за лицемерным чистосердечием. Но все вышло по-другому. Но пока я об этом умолчу, тем более что мне ведь еще нужно сперва отправить письмо. Я ведь только что решил сперва зайти на почту, оттуда к портному и только потом отправиться платить налоги. Почта, миленькое строение, оказалось у меня прямо под носом. Я бодро вошел туда и попросил у почтового служащего марку, которую наклеил на конверт. Опуская его бережно в ящик, я еще раз мысленно пробежал написанное, взвешивая и проверяя каждое слово. Я прекрасно помнил, что письмо содержало нижеследующее:
Требующий глубокого уважения господин!
Сие своеобразное обращение имеет целью заверить Вас, что отправитель настоящего послания относится к Вам весьма неприязненно. Знаю, что мне никогда не дождаться уважения от Вас и Вам подобных, поскольку Вы и Вам подобные слишком высокого мнения о себе, что мешает Вам понимать других и испытывать к ним чувство уважения. Мне определенно известно, что Вы принадлежите к типу людей, которые мнят о своем величии, поскольку они бесцеремонны и невежливы, которые кажутся себе всемогущими лишь оттого, что пользуются протекцией, и которые считают себя мудрыми, потому что им приходит в голову словечко «мудрый». Люди, подобные Вам, проявляют отвагу в том, чтобы бессердечно, нагло, грубо и жестоко обращаться с бедными и беззащитными. Люди, подобные Вам, от чрезвычайно большого ума полагают, что им необходимо везде быть первыми, во всем быть правыми и денно и нощно торжествовать над всеми. Люди, подобные Вам, даже не замечают, как это глупо, и не только недостижимо вообще, но и не может быть желаемо. Люди, подобные Вам, чванливые спесивцы и всегда готовы с усердием служить жестокому насилию. Люди, подобные Вам, проявляют незаурядное мужество в том, чтобы старательно избегать проявления настоящего мужества, потому что они знают, что всякое истинное мужество ведет к потерям, зато они мужественны в своем непомерном желании и непомерном усердии притворяться добрыми и славными. Люди, подобные Вам, не уважают ни возраст, ни заслуги и меньше всего труд. Люди, подобные Вам, уважают деньги, и это уважение к деньгам не дает им ценить что-либо еще. Тот, кто честно зарабатывает свой хлеб в поте лица, в глазах людей, подобных Вам, просто осел. Я не ошибаюсь, потому что всем своим нутром чувствую, что прав. Не боюсь заявить Вам прямо в лицо, что Вы злоупотребляете своим служебным положением, потому что Вам прекрасно известно, какие осложнения и неприятности повлекла бы за собой попытка дать Вам по рукам. Но и те милости покровителей, которыми Вы прикрываетесь, и те благоприятные условия, которые Вас окружают, не спасут Вас, ведь Вы и сами несомненно чувствуете всю шаткость Вашего положения. Вы злоупотребляете доверием, не держите слова, с легкостью унижаете честь и достоинство тех, кто встречается Вам на пути, прикрываете благотворительностью нещадную эксплуатацию, предаете дело и клевещите на того, кто честно служит, Вы в высшей степени нерешительны и ненадежны и проявляете качества, которые можно простить девице, но никак не мужчине. Приношу извинения, что разрешаю себе считать Вас слабаком, и позвольте искренне заверить Вас, что почту за благо впредь не иметь с Вами никаких дел, чем отдаю должное необходимой мере вежливости и заданной степени уважения, которое Вы заслужили со стороны человека, которому выпало весьма скромное удовольствие быть с Вами знакомым.
Я уже почти раскаивался, что доверил почте доставку этого послания разбойника с большой дороги, каким оно мне показалось теперь, ибо в нем я объявлял беспощадную войну и разрыв дипломатических, вернее, экономических отношений не кому-нибудь, а одному начальственному влиятельному лицу. Так или иначе, я дал ход драчливому письму и утешал себя тем, что этот человек, то бишь сей требующий глубокого уважения к себе господин, быть может, вообще не прочтет мое послание, так как споткнется уже о второе или третье слово, и чтение ему сразу наскучит, и он, не теряя времени и сил, швырнет мои пламенные излияния в корзину для бумаг, поглощающую и скрывающую все неугодное. «К тому же подобные вещи забываются очень скоро, в течение пары месяцев или полугода», — философски заключил я и бесстрашно зашагал к портному.
Таковой сидел себе в прекрасном расположении духа и, казалось, с самой чистой совестью на свете, в своем изящном модном салоне или мастерской, битком набитой благоухающими рулонами сукна и обрезками материй. Идиллию дополняла верещавшая в клетке птичка, а в углу плут-подмастерье усердно что-то кроил. Владелец мастерской господин Дюнн, увидев меня, вежливо поднялся со своего места, где старательно орудовал иголкой, дабы учтиво поприветствовать посетителя. «Вы пришли за новым костюмом, сшитым для вас нашей фирмой, он готов и, без всякого сомнения, будет сидеть на вас безупречно», — заявил он, протянув мне руку слишком уж по-свойски, на что я не побоялся стиснуть ее в ответ. «Я пришел, — ответил я, — чтобы бесстрашно и с надеждой приступить к примерке, хотя меня переполняет недоброе предчувствие».
Господин Дюнн заявил, что все мои опасения напрасны, поскольку он гарантирует качество покроя и пошива. С этими словами он провел меня в боковую комнату, откуда тотчас же смылся. Его заверения и гарантии только усиливали мои плохие предчувствия. Скорая примерка повергла меня в самое угнетенное состояние. С трудом скрывая переполнявшую меня досаду, я резко и твердо потребовал к себе господина Дюнна, которому бросил в лицо с предельным спокойствием и благородным негодованием уничтожающее восклицание: «Так я и знал!»
— Дражайший, хороший мой, ну зачем так волноваться по пустякам?
Я с трудом выдавил из себя: «Уж чего-чего, а поводов для волнения и досады тут предостаточно. Оставьте ваши неуместные увещевания при себе и, будьте любезны, перестаньте меня успокаивать. То, что вы сделали вместо обещанного безупречного костюма, внушает крайнюю тревогу. Оправдались все мои смутные и явные опасения и подтвердились все наихудшие предчувствия. Как вы смеете ручаться за безупречность покроя и пошива и откуда у вас берется самонадеянность заверять меня, будто вы мастер своего дела, если вы даже при мало-мальской честности и при самых последних остатках правдивости и внимательности должны без обиняков признать, что все кончилось полным крахом и что гарантированный вашей уважаемой и замечательной фирмой безупречный костюм безнадежно испорчен?»
— Покорнейше прошу вас воздержаться от таких выражений, как «испорчен».
— Постараюсь держать себя в руках, господин Дюнн.
— Благодарю вас и сердечно рад столь любезному намерению.
— С вашего позволения, я требую, чтобы вы основательно переделали этот костюм, в котором, как только что показала тщательная примерка, нашлась масса ошибок, дефектов и недостатков.
— Это можно.
— Недовольство, досада и боль, переполняющие меня, заставляют заявить вам, что вы сильно огорчили меня.
— Клянусь, что сожалею об этом.
— Ваша готовность поклясться, будто сожалеете, что огорчили меня и вконец испортили мне настроение, абсолютно ничего не меняет в этом бракованном костюме, и я наотрез отказываюсь принять его и хоть в какой-то мере признать ваши старания, поскольку здесь и речи не может быть об одобрении и похвалах. Взгляните на пиджак, я остро чувствую, как он превращает меня в горбуна и урода, с этим безобразием я не смогу смириться ни при каких обстоятельствах. Я просто вынужден протестовать против такого злонамеренного обезображивания моей фигуры. Рукава страдают весьма сомнительной длиной, а жилетка прямо будто идеально создана для того, чтобы производить скверное впечатление и наводить на малоприятную мысль, что у ее обладателя толстый живот. Брюки просто вызывают отвращение. От их фасона и покроя волосы встают дыбом. Там, где этот жалкий, убогий и нелепый шедевр портновского искусства, претендующий быть брюками, должен быть достаточно широким, он оказывается узким и тянет, а там, где должен быть узким, наоборот, все слишком просторно. Эта ваша работа, господин Дюнн, вообще начисто лишена фантазии, и результат вашего труда свидетельствует о нехватке интеллекта. От вашего костюма так и веет чем-то жалким, ничтожным, глупым, доморощенным, смешным и боязливым. Того, кто это изготовил, уж никак нельзя причислить к одаренным натурам. Подобное полное отсутствие таланта просто прискорбно.
У господина Дюнна однако хватило наглости мне заявить:
— Право, не понимаю вашего возмущения и никогда ничто меня не сподвигнет это понять. Все ваши бесконечные упреки, высказанные вами в столь резкой форме, для меня непостижимая загадка и так, скорее всего, загадкой и останутся. Костюм сидит великолепно. Никто не сможет меня в этом переубедить. Вы выглядите в нем просто неотразимо, и моя уверенность в этом непоколебима. К некоторым отличающим его особенностям и своеобразию вы в самом скором времени привыкнете. У меня заказывают гардероб высшие государственные чиновники, а также к моим благосклонным клиентам относятся и господа председатели судейской коллегии. Этого безусловно неопровержимого доказательства моего мастерства вам разве не достаточно? Я не собираюсь удовлетворять чрезмерные запросы и неоправданные ожидания, а на наглые требования мастер Дюнн не обращает никакого внимания. Люди более высокого положения и господа поблагороднее вас были во всех отношениях довольны моим мастерством и искусством. Теперь вам и возразить-то нечего.
Поскольку я был вынужден признать, что ничего не поделаешь и что моя отчаянная и, возможно, слишком пылкая атака обернулась болезненным и позорным поражением, то я решил вывести мои войска из этой злосчастной баталии, протрубил отбой и сконфуженно обратился в бегство. Вот так и окончилась моя бесшабашная авантюра с портным. Стараясь не глядеть по сторонам, я прямиком поспешил в кассу налоговой инспекции. Однако тут придется исправить одну грубейшую ошибку.
Как теперь, по прошествии некоторого времени, стало очевидно, речь шла не об уплате налогов, а пока что лишь о беседе с президентом достопочтенной налоговой комиссии, а также о произнесении или вручении торжественной декларации. Пусть читатель извинит мне ошибку и любезно выслушает, что я собираюсь ему на сей счет сообщить. Подобно тому, как стойкий и непоколебимый портной Дюнн обещал и гарантировал безупречность своего шедевра, так и я обещаю и гарантирую точность и подробность, а также краткость и лаконичность требуемой налоговой декларации.
Сразу же, как в полынью, ныряю в эту весьма пикантную ситуацию.
— Позвольте объяснить вам, — открыто и прямо обратился я к налоговому инспектору, а возможно, и какому-то высокому налоговому начальнику, преклонившему ко мне свое царственное ухо, дабы выслушать с должным вниманием мое сообщение, — что я бедный писатель и сочинитель, так сказать Homme de Lettres и располагаю весьма ненадежным доходом. О каком-либо накоплении капитала в моем случае, конечно, не может быть и речи. Констатирую это к моему великому сожалению, но не впадаю по такому плачевному поводу в отчаяние и не лью слезы. Как говорится, выкручиваюсь, свожу концы с концами. В роскоши мне не утонуть, это вам с первого взгляда ясно. Питаюсь я просто и скудно. Может, вам и пришла в голову мысль, что я хозяин-барин и обладатель всяких постоянных доходов, однако вынужден вежливо, но решительно отвергнуть такую идею и все подобные предположения, дабы заявить вам нехитрую голую правду, которая, как ни крути, гласит: я абсолютно свободен от богатства, зато обременен всеми видами бедности, и будьте добры это учесть. По воскресным дням я носа не кажу на улицу, потому что не могу позволить себе выходного платья. Мой умеренный бережливый образ жизни роднит меня с полевой мышкой. У воробья и то больше шансов разбогатеть, нежели у вашего челобитчика и налогоплательщика. Я написал книги, которые, к сожалению, не нравятся публике, и вот гнетущие последствия. Не сомневаюсь ни единой секунды в том, что вы все сами видите и, вследствие вышесказанного, понимаете мою финансовую ситуацию. У меня нет никакого положения в обществе, ни авторитета, это ясно как день. Никаких обязательств по отношению к такому человеку, как я, ни у кого и быть, похоже, не может. Мало кто проявляет живой интерес к художественной литературе, к тому же безжалостная критика, которой каждый считает своим долгом подвергнуть произведения нашего брата, является еще одной причиной моих бедствий и, как тормозная колодка, препятствует достижению хоть какого-нибудь скромного благополучия. Правда, существуют добросердечные покровители и милые покровительницы, которые время от времени благородно оказывают мне поддержку, но подаяние — это отнюдь не доход, а вспоможение — не состояние. По этим внятным и убедительным причинам, мой глубокоуважаемый господин инспектор, я бы осмелился просить вас отказаться в отношении меня от какого-либо повышения налоговой ставки, о котором вы уведомили, и я должен вас просить, если не умолять, оценить мою платежеспособность елико возможно низко.
Господин начальник, или таксатор, сказал:
— Да вас только и видно всегда гуляющим!
— Гулять, — отвечал я, — я должен непременно, чтобы ощущать себя живым и поддерживать связь с живым миром, ибо, потеряв это ощущение, я не смогу написать больше ни единой буквы, не смогу сочинить ни крошечного стихотворения, ни рассказа. Без прогулок я бы просто умер, и дело, которое я страстно люблю, погибло бы. Без прогулок и сбора впечатлений мне бы не о чем было писать, я бы не смог сочинить даже небольшой очерк, не говоря уже о большой новелле. Без прогулок я был бы лишен возможности наблюдать и проводить мои исследования. Такой разумный и смышленый человек, как вы, сразу это понимает. Во время моих чудесных беспутных прогулок мне приходят в голову тысячи дельных мыслей. А дома, взаперти, я бы жалким образом засох и зачах. Гулять для меня не только полезно для здоровья и приятно, но важно и необходимо для дела. Прогулка является моей работой и в то же время приносит удовольствие и радость, освежает, утешает, бодрит, доставляет наслаждение, при этом у нее есть свойство подстегивать, побуждать к писанию, одаривая меня огромным количеством больших и малых вещей и событий, материалом, который я потом дома обрабатываю старательно и дотошно. Любая прогулка просто битком набита значительными явлениями, достойными, чтобы их увидеть и прочувствовать. Даже на самой маленькой чудесной прогулке тебя обступают образы и ожившие стихи, волшебство и чудеса природы. Зрению и чувствам внимательного наблюдателя, который должен гулять, разумеется, не глядя себе под ноги, а вглядываясь в мир широко распахнутыми незамутненными глазами, открывается возможность познать природу и край во всей прелести и очаровании, если только ему важно, чтобы прогулка не потеряла свой прекрасный смысл и свою радостную благородную суть. Подумайте о том, каким жалким был бы крах поэта, если природа, соединившая в себе все материнское, отцовское и восхитительно детское, не питала бы его снова и снова из источника добра и красоты. Подумайте о том, какое неизмеримое значение для поэта приобретают снова и снова уроки и священные бесценные заветы, которые он черпает на вольных просторах. Без прогулок и связанного с ними созерцания природы, без этого сколь отрадного, столь и предостерегающего сбора ощущений я чувствую себя погибшим и действительно погибаю. С высочайшим вниманием и любовью гуляющий должен наблюдать и изучать всякое, пусть самое маленькое, живое существо, будь то ребенок, собака, комар, мотылек, воробей, червяк, цветок, человек, дом, дерево, изгородь, улитка, мышь, облако, гора, лист, даже если это всего лишь жалкий скомканный клочок писчей бумаги, на котором, быть может, какой-нибудь славный школьник вывел свои первые неуклюжие буквы. Ему равно важны и дороги, и милы вещи, самые возвышенные и самые низкие, самые серьезные и самые забавные. Ему ни в коем случае нельзя брать с собой в путь его уязвимое самолюбие и легкую душевную ранимость. Бескорыстно и без тени эгоизма должен он пытливыми глазами все видеть и все замечать. Ему нужно научиться растворяться в созерцании и запоминании, а самого себя, свои собственные жалобы, заботы, горечи, нужды, нужно просто забыть или пренебречь ими, подобно бравому, исправному, самоотверженному, бывалому солдату. Иначе он будет гулять невнимательно, рассеянно, а это ничего не принесет. Он должен всегда быть готовым проявить сострадание, отзывчивость, воодушевление, и надо надеяться, что он на это способен. Он должен воспарять в душевном подъеме и снисходить до самых земных обыденных мелочей, и, наверно, он это умеет. Но при этом преданное, жертвенное саморастворение и проникновение в суть вещей и страстная любовь ко всему окружающему делают его счастливым точно так же, как всякое чувство исполненного долга делает счастливым и духовно богатым того, кто этот долг осознает. Высокие помыслы, увлеченность, преданность делу одухотворяют его, возносят над собственной невзрачной персоной фланера, о котором слишком часто презрительно отзываются как о бездельнике, что шатается по округе, попусту растрачивая свою жизнь. Многообразные наблюдения обогащают и развлекают, смягчают и облагораживают, и такие штудии, как бы это ни могло показаться невероятным, в чем-то перекликаются с точной наукой, в занятии которой никто не заподозрит кажущегося столь легкомысленным праздношатающегося гуляку. Известно ли вам, что у меня в голове идет упорная и напряженная работа и я занимаюсь важным делом именно в тот момент, когда со стороны может показаться, что я бездумно и беспечно витаю в облаках или брожу по зеленым просторам, потерянный, нерадивый, мечтательный и вялый, производя малоприятное впечатление отъявленного лодыря, потерявшего какое-либо чувство ответственности. Гуляющего преследуют тайком по пятам самые разные прекрасные и причудливые идеи, которые могут прийти только на прогулке, да так, что он останавливается как вкопанный, прервав свое прилежное внимательное хождение, и прислушивается к себе: его, всецело охваченного странными впечатлениями и околдованного фантазиями, внезапно пронизывает ощущение, будто он проваливается, земля уходит из-под ног и перед ослепленными и растерянными глазами мыслителя и поэта разверзается бездна. Голова перестает служить, руки и ноги, обычно столь живые, немеют. Местность и люди, звуки и краски, лица и вещи, облака и солнечные лучи — все начинает вертеться вокруг него, подобно хороводу призраков, и он спрашивает себя: «Где я?» Земля и небо расплываются и сливаются в зыбкий, мерцающий, туманный мираж. Порядок вещей упраздняется, возникает хаос. Он настолько потрясен, что с большим усилием пытается сохранить здравый рассудок. Это ему удается, и он уверенно продолжает свою прогулку. Вам кажется совершенно невозможным, чтобы во время моей неспешной прогулки я встречал великанов, имел честь раскланяться с профессорами, заглянул поболтать с книгопродавцами и банковскими служащими, беседовал с юными будущими певицами и бывшими актрисами, обедал у остроумных дам, бродил по лесам, отправлял опасные письма и пускался в бой с коварными язвительными портными? Но все это вполне могло бы произойти, и я верю, что так все на самом деле и было. Гуляющему всегда сопутствует что-нибудь диковинное, значительное, фантастическое, и он был бы глупцом, если бы оставлял без внимания или вовсе отталкивал эти порождения творческого духа. И он этого вовсе не делает. Наоборот, он приветствует все эти удивительные необычайные явления, роднится, братается с ними, потому что они его восхищают, он придает им осязаемые, сущностные тела, наделяет их душой и образом, как и они, в свою очередь, одушевляют и образуют его самого. Короче говоря, я зарабатываю мой насущный хлеб тем, что думаю, размышляю, вникаю, корплю, постигаю, сочиняю, исследую, изучаю и гуляю, и этот хлеб достается мне, как любому другому, тяжким трудом. По моей, быть может, расплывшейся от удовольствия физиономии нельзя понять, что я в высшей степени серьезен и ответственен, и пусть я могу показаться погруженным в трогательные мечты, на самом деле я опытный мастер своего дела. Надеюсь, что все эти исчерпывающие объяснения полностью убедили вас в очевидной добросовестности моих стремлений.
— Хорошо, — сказал чиновник и добавил: — Мы рассмотрим ваше ходатайство о максимальном снижении налоговой ставки, и в ближайшее время вы получите сообщение о принятии положительного или отрицательного решения. От лица налогового ведомства выражаю вам благодарность за любезно предоставленную достоверную информацию, а также за пламенные искренние излияния. А пока что можете идти и продолжать вашу прогулку.
Получив временную пощаду, я на радостях поспешил прочь и снова очутился на свежем воздухе. Меня охватил восторг и захлестнуло упоение свободой. Наконец, после всех стойко перенесенных приключений и более менее успешно преодоленных препятствий, я подхожу к уже давно заявленному и предсказанному железнодорожному переезду, перед которым я вынужден остановиться и хорошенько подождать, пока его величество поезд не соизволит проехать мимо. Вместе со мной у шлагбаума дожидались люди всякого возраста и вида, мужчины и женщины. Полнотелая миловидная жена путевого обходчика стояла, как статуя, и внимательно рассматривала всех, кто стоял и ждал. Проносившийся мимо эшелон был полон военных. Глядевшие из окон солдаты, посвятившие себя службе любимому, дорогому отечеству, с одной стороны, и бесполезная цивильная публика, с другой, восторженно и патриотично приветствовали друг друга, этот душевный порыв вызвал у всех приподнятое настроение. Когда шлагбаум подняли, я пошел со всеми дальше, радостно и спокойно, и теперь все кругом мне казалось еще в тысячу раз прекрасней, чем раньше. Моя прогулка становилась все прекрасней, насыщенней, значительней. Эта остановка перед железнодорожным переездом показалась мне чем-то вроде пика, центра, откуда все снова тихо начнет склоняться к концу. Я уже предощутил это начинающееся мягкое вечернее снисхождение. Я будто почувствовал тихое божественное дыхание, вдруг повеяло упоением печали, сладостной волшебной тоской. «Здесь сейчас небесно прекрасно», — сказал я себе. Моя нежная земля с ее милыми, скромными лугами, садами, домами окружала меня, как чарующая, до слез трогающая прощальная песня. Со всех сторон долетали до меня тихие звуки вековечных жалобных народных напевов. Всплывали величественно и мягко причудливые призраки в восхитительных облачениях. Старая добрая проселочная дорога светилась переливами небесного, белого, золотого. Будто спорхнувшие с неба ангелы развеяли умиление и восхищение над домиками бедноты, золотистыми и розовыми от нежного объятия закатного солнца. Любовь, бедность и серебристо-золотое дыхание парили в воздухе, взявшись за руки. Меня охватило такое чувство, будто кто-то очень близкий окликает меня по имени, целует и утешает меня. Сам Господь Всемогущий, владыка сущего, вышел на эту дорогу, чтобы сделать ее чарующей и неземной. Все мысли и чувства внушали мне откровение, что пришествие Иисуса Христа состоялось, и Он теперь здесь, среди людей, странствует, прогуливается по этим чудесным окрестностям. Дома, сады и люди становились звуками, все предметное, плотское будто превращалось в душу и в нежность. Душа, окутанная в серебристую дымку, в туман, будто растворялась во всем и впитывала в себя все. Душа мироздания распахнулась, и казалось, что все горе, все человеческие разочарования, все зло, вся скорбь исчезают, чтобы никогда больше не вернуться. Все мои прежние прогулки представились моим глазам, но все это было ничто по сравнению с тем, что я испытывал теперь, в настоящем. Будущее поблекло и прошлое рассеялось. Мгновение пылало и заполняло своим пламенем весь мир, и я пылал в этом мгновении. Со всех сторон и со всех концов подступало ко мне царственным шагом все Великое и Доброе, щедро одаривая счастьем. Я стоял посреди прекрасного края и ни о чем больше не думал. Все прочие мысли улетучились, исчезли в своей незначительности. Передо мной простиралась вся богатейшая земля, а я всматривался только в самое малое и неприметное. Небо то припадало к земле в любовном исступлении, то взмывало вверх. Я весь стал внутренней сущностью, и прогулка моя совершалась внутри этой сущности. Все внешнее превратилось в сон, все прежде понятное — в непостижимое. С поверхности я ринулся в бездонную глубину, в которой я мгновенно распознал Добро. То, что мы понимаем и любим, понимает и любит нас. Я больше не был самим собой, кем-то другим, и только благодаря этому снова ощутил себя по-настоящему самим собой. В сокровенном свете любви я смог постичь, или, мне казалось, могу постичь, что, быть может, этот внутренний человек — единственный, кто действительно существует. Меня пронзила мысль: «Где были бы мы, жалкие люди, если бы не существовало этой преданной нам земли? Что бы нам оставалось, если бы у нас не было Прекрасного и Доброго? Где бы я был, если не здесь? Здесь у меня есть все, а где-то еще у меня бы не было ничего».
То, что я увидел, было столь же ничтожным и жалким, сколь великим и значительным, столь же скромным, сколь очаровательным, столь же близким, сколь добрым, и столь же милым, сколь теплым. Я испытал большую радость при виде двух домов, которые притулились на солнышке, подобно хорошим старым соседям. Одна радость подгоняла другую, и в мягком доверчивом воздухе разливалась отрада, и все трепетало, словно от тихого удовольствия. Один чудесный домик был трактир «У медведя», медведь был изображен на вывеске восхитительно и забавно. Каштаны укрывали своей тенью нарядный добродушный дом, в котором наверняка жили милые, славные, приветливые люди, ведь этот дом не казался заносчивым, как некоторые здания, а будто олицетворял собой надежность и верность. Повсюду, куда ни кинь взгляд, раскинулись густые роскошные сады, парила облаками густая зеленая листва. Второй дом, а скорее домик, уютный, крошечный, казалось, будто сошел со страницы из детской книжки с картинками, таким он был очаровательным и необычным. И мир вокруг такого домика мог быть только исполнен красоты и добра. В этот хорошенький домик я сразу по уши влюбился и с восторгом сразу бы туда вошел, чтобы снять там себе уголок, свить гнездо, остаться в этом чудо-домике, в этой жемчужине навсегда, жить-поживать и блаженствовать. Но, увы, как раз почему-то самые лучшие квартиры, как правило, уже заняты. И не везет именно тому, кто ищет себе квартиру, отвечающую его взыскательному вкусу, потому что то, что еще пустует и доступно, чаще всего оказывается безобразным и вызывает отвращение. В сказочном домике наверняка жила какая-нибудь одинокая маленькая женщина, а может старушка, именно так он и выглядел и именно такой шел от него дух. Да позволено мне будет заметить, продолжаю я мое сообщение, что стены домика изобиловали живописными картинами, возвышенными фресками, на которых изящно и затейливо был изображен швейцарский альпийский ландшафт с горной хижиной, какие строят в Бернском Оберланде. Великим произведением искусства это точно не было. Утверждать подобное было бы слишком дерзко. Но мне эта живопись показалась прекрасной, не смотря ни на что. Она восхитила меня своей простотой и наивностью. В сущности, меня восхищает любая живопись, даже самая глупая и неумелая, потому что всякое живописное произведение напоминает о затраченном на него труде и усердии, а еще о Голландии. Разве не кажется прекрасной любая музыка, даже самая убогая, тому, кто влюблен в саму сущность музыки и в само ее существование? Разве для друга человечества не достоин любви любой другой человек, пусть самый злобный и отвратительный? Намалеванный пейзаж на фоне пейзажа живого выглядит аляповато, вычурно. С этим никто спорить не будет. Однако то, что в домике проживает одна добрая старушка, я еще не запротоколировал, так что это еще не является установленным фактом. Написал и сам себе удивился, как это я позволяю себе произносить такие слова, как «запротоколировать», когда все кругом наполнено нежностью и человеческим теплом, словно чаяния и переживания материнского сердца. Кстати говоря, домик был выкрашен в серо-голубой цвет, а ставни — золотисто-зеленые и улыбчивые, и заколдованный сад кругом благоухал ароматом прекраснейших цветов. Розовый куст, усыпанный великолепными бутонами, склонившись, грациозно обвил садовую беседку.
И раз я не болен, а жив и здоров, на что хочу надеяться и в чем не хочу сомневаться, дошел я, спокойно шагая себе дальше, до сельской цирюльни, с содержателем и содержимым которой у меня, пожалуй, еще нет причин связываться, поскольку, на мой взгляд, я могу еще подождать со стрижкой, хотя, возможно, это было бы весьма приятно и забавно. Далее прошел я мимо сапожной мастерской, напомнившей мне о гениальном несчастном поэте Ленце, который во время своего умопомрачения и душевного расстройства выучился тачать башмаки и этим занимался. Не заглянул ли я мимоходом в школу, где в приветливом школьном классе строгая учительница как раз спрашивала учеников и покрикивала на них? Вот представилась возможность обратить внимание читателя на то, до какой степени вашему покорному гуляке вдруг неудержимо захотелось снова вернуться в ребенка, стать непослушным сорванцом, опять ходить в школу и вполне заслуженно получать в наказание за проказы и дурачества хорошенькую взбучку. Раз уж речь зашла о наказаниях, то следует к этому присовокупить, что, на наш взгляд, тот селянин заслуживает хорошенькую порку, у которого не дрогнет рука срубить украшение пейзажа, красу его собственной усадьбы, высокое старое ореховое дерево, чтобы выручить за него презренные, гнусные, дурацкие деньги. Собственно, я проходил мимо крестьянского дома, прямо как с картинки, а рядом рос могучий великолепный орех, тут мне и пришли в голову мысли о порке и деньгах. «Это высоченное величественное дерево, — воскликнул я во весь голос, — так чудесно оберегает и украшает сей дом, придает ему столько настоящего радостного уюта, задушевности, окутывает чувством родного, сокровенного, это дерево, утверждаю я, есть божество, святыня, и тысяча ударов плетью заслужит бессердечный и бездушный хозяин, коли посмеет уничтожить эту крону, это золотое и небесно-зеленое чудо, ради того лишь, чтобы удовлетворить свою алчность, подлейшее и гнуснейшее из всего, что есть на свете. Таких болванов нужно просто исключать из общины. В Сибирь или на Огненную землю таких осквернителей и губителей красоты! Однако сохранились еще на свете, слава Богу, крестьяне, которые не утратили еще чувствительности и открыты красоте и добру».
Положим, что касается дерева, алчности хозяина усадьбы, высылки его в Сибирь и порки, которой он заслужил бы, срубив дерево, меня несколько занесло, и должен признаться, я сам себя так раззадорил, что весь вскипел. Между тем уверен, что друзья прекрасных деревьев вполне разделят мое возмущение и присоединятся к столь горячо выраженному негодованию. Тысячу ударов плетью, так уж и быть, возьму обратно. За «болвана» заступаться тоже не стану. Грубые выражения заслуживают порицания, и посему прошу прощения у читателя. Причем мне уже столько раз пришлось извиняться перед читателем, что я уже изрядно поднаторел в этом искусстве вежливости. Совершенно не к чему было говорить про хозяина «бессердечный и бездушный». Это все заскоки, воспаления ума, которых следует избегать. Это понятно. Но вот боль за гибель прекрасного, огромного, старого дерева остается, и никто не посмеет запретить мне зло нахмуриться. «Исключить из общины» — сказано неосторожно, а что касается алчности, которую я назвал подлейшей, то допускаю, что и сам я на этот счет не без греха, нарушал и преступал, и мне самому приходилось совершать некоторые низости и подлости. Подобными фразами я занимаюсь самоуничижением, так сказать, веду игру на понижение в чистом виде, но такая политика необходима. Чувство приличия обязывает нас следить за тем, чтобы с самим собой мы поступали столь же строго, как с другими, и чтобы других судили столь же мягко и снисходительно, как самих себя, а уж к последнему мы, как известно, всегда невольно готовы. Ну разве это не трогательно, как я тут провожу работу над ошибками и заглаживаю свои грехи? Делая добровольные признания, я стараюсь показать себя смиренным, а закругляя углы и смягчая жесткое, я выступаю в роли деликатного и кроткого утешителя, проявляю умение найти правильный тон и быть тонким дипломатом. Осрамился-то я в любом случае, но зато теперь смею надеяться на то, что мне не откажут в наличии доброй воли.
И если теперь еще кто-то заявит, что я бесцеремонный хам и прущий напролом властолюбец, то я утверждаю, то бишь смею надеяться, что имею право утверждать: человек, заявивший такое, жестоко заблуждается. С такой нежностью и заботой, как я, не думал о своем читателе еще ни один автор.
Так, а теперь могу прелюбезно угостить вас дворцами и знатными поместьями и вот каким манером: хожу прямо с козырного туза — подобным полуразвалившимся замком и домом патрициев, который уже замаячил впереди, подобными горделивыми рыцарскими чертогами, поседевшими от времени и затерянными в разросшемся парке, можно бросать пыль в глаза, притягивать внимание, пробуждать зависть, вызывать восхищение и стяжать почет. Иной бедный, но достойный писатель не прочь был бы с радостным сердцем и превеликим удовольствием поселиться в подобном дворце или замке с внутренним двором и парадным въездом для вельможных, украшенных гербами, карет. Иной бедный художник, сибарит в душе, мечтает о том, чтобы пожить в роскошной старинной усадьбе. Какая-нибудь образованная, скрывающая свою нищету городская барышня самозабвенно грезит с упоением и грустью о прудах, гротах, высоких покоях, паланкинах, видит себя в окружении придворной челяди, благородных рыцарей. На господском доме, который я разглядывал, на фронтоне, можно было заметить дату постройки — 1709, что, разумеется, весьма подогрело мой интерес. С восхищением, присущим мне как естествоведу и любителю древностей, заглянул я в старый, удивительный, заколдованный сад, где в бассейне с чарующе журчащим фонтаном я сразу обнаружил и констатировал диковеннейшую рыбу метровой длины — одинокого сома. Также видел я, и открыл, и с романтическим блаженством засвидетельствовал садовый павильон в мавританском или арабском стиле, красиво и богато расписанный лазурью, таинственным звездным серебром, золотом, каштаном и благородной глубокой смолью. Я сделал предположение и с тончайшим знанием дела доверился своему чутью, подсказавшему, что павильон мог быть сооружен приблизительно в 1858 году — подобное умение расследовать, угадать и вынюхать, быть может, дает мне право с гордым взглядом и самоуверенной миной выступить при случае с докладом или лекцией на эту тему в зале ратуши перед многочисленной восторженной публикой. Мое выступление, весьма вероятно, будет отмечено прессой, что доставит мне, само собой разумеется, радость, ибо бывает, что она и словечком не удостоит. Пока я тщательно обследовал арабский, а может, и персидский садовый павильон, мысли мои приняли такой оборот: «Как чудесно должно быть здесь ночью, когда все окутано почти непроницаемой тьмой, все кругом мирно, черно, безмолвно, из мрака подкрадываются ели, одинокий полуночный путник замирает от какого-то неясного предчувствия, и вот с лампой, отбрасывающей мягкий желтоватый свет, в павильон входит красивая, изящно одетая благородная дама и, повинуясь странному желанию и нечаянному душевному порыву, начинает играть на фортепьяно, которое в таком случае обязательно будет стоять в нашем садовом домике, а потом она принимается петь — мечтать, так уж мечтать — божественным чистым голосом. С каким наслаждением слушал бы ее путник, как замирало бы его мечтающее сердце, каким счастьем переполняла бы его эта ночная музыка!»
Увы, кругом была отнюдь не полночь, не рыцарское средневековье, не пятнадцатое столетье или семнадцатое, а светлый день, причем даже не выходной, и целая компания в одном из самых хамских, нерыцарственных, беспардонных и невыносимых автомобилей, какие мне только попадались, оторвала меня от моих ученых наблюдений и романтических созерцаний и так резко разрушила всю гармонию замковой поэзии и мечтаний о прошлом, что я невольно воскликнул: «Какое хамство отрывать меня от созерцательных занятий и от погружения в благородные глубины духа!» Но вместо негодования сдержусь и проявлю кротость и смирение, и благовоспитанно все стерплю. Как ни пленительны мысли об ушедшей красоте и прелести, как ни обольстительна благородная поблекшая картина исчезнувшего, утонувшего в прошлом прекрасного, это вовсе не причина, чтобы повернуться спиной к современности и современникам, и нельзя думать, будто ты вправе негодовать на людей и устройства за то, что они не замечают, в каком настроении находится тот, кто углубился в туман истории и мыслей.
— Вот бы грянула гроза, — думал я, зашагав дальше. — Какая тут была бы красота! Может, еще выпадет когда-нибудь возможность пережить такое.
Увидев славного, честного, черного, как уголь, пса, лежавшего на дороге, я обратился к нему со следующей шутейной тирадой:
— Эх ты, неотесанный бескультурный увалень, тебе ведь и в голову не придет встать и протянуть мне твою черную лапу, чтобы поприветствовать, хотя мог бы заметить по моему виду и по походке, что перед тобой человек, целых семь лет живший в столицах, где он ни на минуту, а не то чтобы на час, или неделю, или месяц, не прерывал своего общения с людьми наиобразованнейшими. В какой школе тебя обучали, шелудивый ты деревенщина? Что? Даже ответом не хочешь удостоить? Лежишь себе спокойненько, таращишься на меня и даже ухом не поведешь — прямо монумент! И не стыдно?
Псина мне эта ужасно пришлась по душе своим простодушным вниманием, комичным спокойствием и невозмутимостью, и поскольку пес весело уставился на меня, ни слова, разумеется, не понимая, то я принялся его бранить, но без всякой злобы, конечно, что можно легко заметить по стилю моих элоквенций.
При виде холеного чопорного господина, важной поступью вразвалочку несущего свою чванливость, у меня родилась невеселая мысль: «А как же обездоленные маленькие бедные дети в лохмотьях?» Неужели этот одетый с иголочки господин, расфуфыренный и расфранченный, с перстнями и украшениями, лощеный, напомаженный и выутюженный, ни на миг не задумался о бедных юных созданиях, донашивающих отрепья, страдающих от горестного недостатка заботы и ухода, жалких в своей беспризорности. Неужели этому павлину нисколько не совестно? Неужели этого господина Взрослого совершенно не трогает вид грязных, запущенных малюток? Мне сдается, ни один взрослый не может получать удовольствие от своих нарядов и украшений, пока есть дети, которым нечего одеть.
С другой стороны, можно было бы с тем же правом утверждать, что никто не должен посещать концерты и театральные представления или какие-либо другие увеселения, пока на свете существуют тюрьмы и каторга с несчастными заключенными. Но это уже, конечно, слишком. И если бы кто-то вздумал отложить все удовольствия и радости жизни до тех пор, пока в мире не останется больше несчастных и бедных, то ему пришлось бы ждать до беспросветных немыслимых последних дней, до леденящего безлюдного конца света, и тем временем у него бы основательно прошла вся охота поразвлечься, да и жизнь тоже.
Мне встретилась растрепанная, изнуренная, измученная работница, она еле держалась на ногах, но торопилась куда-то, несмотря на свою явную усталость и слабость, ее ждали неотложные дела, и эта встреча напомнила мне дочерей благородных семейств, ухоженных избалованных девочек и девиц, которые целыми днями маются, не зная каким бы аристократическим занятием или развлечением себя занять, которые, быть может, никогда не узнают, что такое трудовая усталость, но зато сутками и неделями ломают голову над вопросом, во что одеться, как придать себе больше блеску, к каким ухищрениям еще прибегнуть, чтобы разукрасить подиковенней свою фигуру, чтобы стала она сладкой и привлекательной, как в витрине у кондитера, и времени у них для этого хоть отбавляй.
Да ведь я и сам первый любитель и поклонник подобных утонченных, ухоженных, будто рожденных из лунного света, нежных оранжерейных созданий. Прикажи мне такая юная чаровница что угодно, я бы ей слепо повиновался. До чего же прекрасно прекрасное и пленительно пленительное!
Снова возвращаюсь к разговору об архитектуре и зодчестве, но не забуду искусство и литературу.
Сперва одно замечание: это крайне дурной вкус отделывать старинные почтенные здания, исторические памятники и сооружения орнаментами из цветочков. Кто поступает так или заставляет делать это других, грешит против духа достоинства и красоты, оскорбляет память наших столь же храбрых, сколь и достойных предков. Во-вторых, никогда не украшай и не увивай цветами статуи фонтанов. Цветы сами по себе, понятное дело, прекрасны, но они не для того, чтобы зацветочить и опошлить благородную строгость и строгую красоту скульптур. Вообще пристрастие к цветочкам может выродиться в глупую навязчивую идею, цветочную болезнь. Ответственные лица, магистраты могут обратиться в авторитетные инстанции и поинтересоваться, прав ли я, и после этого вести себя в этом отношении самым надлежащим образом.
Хотел упомянуть еще две прекрасные и интересные постройки, приковавшие мое внимание необычайным образом, и потому следует сообщить, что, продолжая далее свой путь, я подошел к восхитительной странной часовне, которую я тут же окрестил часовней Брентано, поскольку заметил, что она относится к эпохе романтиков, овеянной фантазиями, позолоченной, наполовину светлой, наполовину мрачной. Мне вспомнился дикий, бурный, темный роман Брентано «Годви». Высокие и узкие стрельчатые окна придавали оригинальнейшему странному зданию нежный привлекательный вид и сообщали ему дух волшебного, обаяние проникновенности и духовной жизни. На память пришли пылкие проникновенные пейзажные зарисовки, вышедшие из-под пера упомянутого поэта, а именно описания немецких дубрав. Вскоре я остановился перед виллой «Терраса», напомнившей мне о художнике Карле Штауффер-Берне, который иногда живал здесь, и в то же время о некоторых импозантных благородных зданиях на Тиргаргенштрассе в Берлине, симпатичных и достойных внимания благодаря воплощенному в них строгому величественному классическому стилю. Дом Штауффера и часовня Брентано представились мне памятниками двух совершенно разных миров, оба по-своему привлекательны, занимательны и значительны. Здесь размеренная холодная элегантность, там дерзновенная задушевная мечта, здесь нечто утонченное и прекрасное и там нечто утонченное и прекрасное, но суть и воплощение их так разнятся, хотя по времени создания они близки. Прогулка моя постепенно приближается к сумеркам, и тихий конец, сдается мне, уже не так далек.
Еще найдется, быть может, место для нескольких будничных мимолетностей и технических средств передвижения, вот все по порядку: представительная фортепьянная фабрика посреди других фабрик и заведений; тополиная аллея у чернеющей реки; мужчины, женщины, дети; электрический трамвай, вагонный скрежет, высунувшийся из окна вагоновожатый или водитель; отряд роскошно пестрых и пятнистых пыльных коров; крестьянки на повозках, а с ними неизбежный грохот колес и щелканье кнута; тяжелые подводы, нагруженные пивными бочками; рабочие возвращаются домой, вываливая толпой из фабричных ворот — вид на эту массу людей с массового производства угнетает и наводит на странные мысли; товарные вагоны с товарами тянутся с товарной станции; проезжает целый странствующий цирк со слонами, лошадьми, собаками, зебрами, жирафами, с запертыми в клетках свирепыми львами, с сингалами, индейцами, тиграми, обезьянами и подползающими крокодилами, канатными плясуньями и белыми медведями, и все это с подобающей свитой, цирковыми служителями и прихлебателями со всем скарбом и реквизитом; затем: мальчики с деревянными ружьями подражают европейской войне и играют в убийство до исступления; маленький сорванец горланит песню «Сто тысяч лягушек» и страшно гордится собой; дальше: дровосеки и лесорубы с телегами дров; две-три бесподобных свиньи, при виде которых живая фантазия созерцателя жадно обжаривает свиное жаркое, божественно пахнущее, аппетитное, соблазнительное, да это и понятно; крестьянская усадьба с изречением над воротами; две чешки, галичанки, славянки, лужичанки, а то и вовсе цыганки в красных сапожках, с черными как смоль глазами и волосами, чей чужеродный облик приводит на память, быть может, «Цыганскую княгиню», роман для легкого чтения из журнала «Гартенлаубе», действие которого, правда, происходит в Венгрии, но какая в конце концов разница, или «Жеманницу», которая пусть и испанского происхождения, но это не стоит принимать так уж буквально. Далее, мимо магазинов: канцелярский, мясо, часы, обувь, шляпы, скобяные изделия, мануфактура, колониальные товары, бакалея, галантерея, булочная, кондитерская. И повсюду, на всем этом, — закатное солнце. А еще дальше: шум и гомон, школы и учителя, последние — с выражением важности и значения на лице, пейзаж, и воздух, и множество живописных картин. Далее никак нельзя пропустить или забыть надписи и объявления: «Персил», или «Непревзойденные бульонные кубики ‘Магги’», или «Резиновые каблуки ‘Континенталь’ век не износишь», или «Продается участок», или «Лучший молочный шоколад», или еще не знаю, чего только не бывает. Начнешь такое перечислять и конца этому не будет. Люди благоразумные чувствуют это и понимают. Один плакат или вывеска бросилась мне в глаза, следующего содержания:
или домашняя кухня приглашает порядочных или, по крайней мере, приличных господ отведать блюда, о которых мы с чистой совестью можем сказать, что они удовлетворят самый изысканный вкус и вызовут самый жгучий аппетит. Тех, у кого слишком голодные желудки, просим не беспокоиться. Предлагаемое нами кулинарное искусство отвечает наилучшему воспитанию, этим мы намекаем на то, что будем рады видеть лишь действительно образованных господ, чревоугодничающих за нашим столом. С типами, которые пропивают свое недельное или месячное жалованье и потому не в состоянии расплатиться на месте, мы никаких дел иметь не желаем. Наоборот, ожидаем от наших высокочтимых клиентов изысканные манеры и учтивое обхождение. Обслуживают у нас очаровательные, воспитанные девицы, столы нарядно и аппетитно накрыты и украшены всяческими цветочками. Мы для того все это излагаем, чтобы до заинтересованных господ дошло, как это важно держаться наиприличнейшим образом, вести себя опрятно и безукоризненно с той самой минуты, как вероятный господин пансионер переступит порог нашего почтенного респектабельного заведения. Развратникам, буянам, бахвалам и задавалам здесь у нас не место. Субъектов, полагающих, что у них есть причины принадлежать к вышеназванным категориям, мы любезно просим держаться подальше от нашего первоклассного пансиона и избавить нас от своего неприятного присутствия. Напротив, всякий милый, деликатный, вежливый, обходительный, учтивый, предупредительный, приветливый, жизнерадостный, веселый, но не чересчур веселый, а скорее тихий, и прежде всего платежеспособный, солидный, не делающий долгов господин будет принят у нас с распростертыми объятиями, его обслужат по высшему разряду и обойдутся с ним самым наивежливым и приятнейшим образом, это мы обещаем со всей искренностью и надеемся, что так оно и будет, ведь это для нас является высочайшим наслаждением. Такой разлюбезный восхитительный господин увидит за нашим столом самые изысканные яства и лакомые кусочки, какие и днем с огнем не найдет где-либо еще. Ибо из нашей кухни воистину исходят эксклюзивные шедевры кулинарного искусства, и возможность подтвердить это представится каждому, кто захочет воспользоваться услугами нашего почтенного пансиона, к чему мы и призываем и всегда настоятельно приглашаем. Еда, которую мы подаем, превосходит все здравые представления как по качеству, так и по количеству. Никакой самой буйной фантазии и никакой силы человеческого воображения не хватит, чтобы хоть отчасти представить себе те смачные и соблазнительные деликатесы, которые мы обычно приносим один за другим и ставим на стол перед рядами наших господ едоков с радостно изумленными лицами. Однако, как уже неоднократно подчеркивалось, приглашение касается лишь исключительно порядочных господ, и потому, во избежание недоразумений и для устранения всяческих сомнений, да позволено нам будет кратко изложить наше мнение на сей счет. В наших глазах лишь тот господин достоин называться порядочным, которого просто распирает от утонченности и порядочности, тот, кто во всех отношениях просто на порядок порядочнее всех прочих смертных. Простые смертные нам совершенно не подходят. Порядочным господином мы считаем того, у кого голова забита всяким тщеславным вздором и кто первым делом смог убедить себя в том, что его нос порядочнее носа любого другого доброго и разумного человека. Эта своеобразная особенность предопределяет поведение порядочного господина, и мы на это можем положиться. А потому человека доброго, прямого и честного и ничем больше не выдающегося, мы попросту просим к нам не соваться, ибо он для нас не является утонченным и порядочным господином. На господ преутонченных и препорядочных у нас прямо особый нюх. Нам сразу видно, принадлежит господин к порядочным или нет — по походке, по тону, по манере говорить, по физиономии, по движениям и особенно по костюму, шляпе, трости, по цветку в петлице — есть цветок или нет. Наша проницательность в этом отношении граничит с ведовством, и мы смеем утверждать, что в этом деле нам в определенной гениальности не откажешь. Так-то вот, теперь вам ясно, на какой сорт клиентов мы рассчитываем, а придет к нам человек, которого мы уже издалека раскусили, что он нам и нашему пансиону никак не годится, мы ему так и скажем: «Очень сожалеем и весьма скорбим».
Иной читатель, возможно, усомнится в достоверности подобного объявления и скажет, что в такое не очень-то верится.
Допустим, там и сям случались повторения. Но я хотел бы заявить, что рассматриваю природу и человеческую жизнь как прекрасную и очаровательную вереницу повторений, и, кроме того, признаюсь, что именно это явление воспринимаю за красоту и благо. Разумеется, кое-где находятся развращенные от пресыщенности охотники до новых острых ощущений, смакователи еще неизведанного, падкие на сенсации люди, которые каждую минуту стремятся найти небывалые наслаждения. Не для подобного толка людей сочиняет поэт, исполняет музыку музыкант и пишет свои картины художник. По большому счету постоянная потребность в наслаждении и потреблении исключительно новинок кажется мне проявлением душевной бедности, недостатка внутренней жизни, отчуждения от природы и посредственного или недостаточного умственного восприятия. Это малым дитятям нужно все время показывать что-то новенькое, чтобы они были хоть чем-то заняты и не плакали. Настоящий писатель никоим образом не чувствует себя призванным собирать горы материала, быть прытким слугой болезненного накопительства, а потому он не страшится некоторых естественных повторений, хотя, само собой разумеется, всегда старается избежать чрезмерной схожести.
Тем временем наступил вечер, и по приятной тихой боковой дорожке, осененной деревьями, я вышел к озеру, и здесь заканчивалась моя прогулка. В ольховой рощице, у самой воды, столпились школьники, мальчики и девочки, и то ли священник, то ли учитель давал урок природоведения и миросозерцания прямо посреди вечереющей природы. Я побрел дальше, и на меня нахлынули воспоминания о двух разных людях. Быть может, из-за охватившей меня усталости я стал думать об одной красивой девушке, а еще о том, как одинок я на этом свете и как это неправильно и нехорошо. Упреки, которыми я осыпал себя, толкали меня в спину и преграждали дорогу вперед, мне нужно было бороться. Меня охватили неприятные воспоминания. Я обвинял во всем самого себя, и вдруг у меня защемило сердце. По дороге я искал и собирал цветы по обочине, и в лесу, и в поле. Мягко и тихо стал накрапывать дождь, отчего нежное окружение стало еще нежнее и тише. Собирая цветы, я прислушивался в шуршанию мокрой листвы, и казалось, будто кто-то плачет. Как люблю я этот теплый, несильный летний дождь! «Зачем я собираю эти цветы?» — спрашивал я себя, задумчиво глядя под ноги, от нежного дождя мне становилось грустнее, меня охватила печаль. Все неприятное из прошлого вспомнилось мне — измена, ненависть, упрямство, ложь, предательство, злоба, все безобразные поступки, которые я совершил. Необузданные страсти, дикие желания и та боль, которую я причинил некоторым людям, как я был несправедлив к ним. Вся прежняя жизнь предстала передо мной как спектакль, полный драматичных сцен, и я невольно приходил в недоумение от того, сколько раз я проявлял слабость, недружелюбие и черствость к другим людям. Тут перед моими глазами возник второй образ, и я вдруг вспомнил обессиленного, бедного, заброшенного старика, которого видел за несколько дней до этого в лесу, валявшегося на земле, и вид его был такой убогий, бледный, смертельно жалкий, изможденный, полный страдания, что меня охватил ужас от этого странного и гнетущего зрелища. Того изнуренного старика я увидел сейчас моим внутренним зрением, и мне стало дурно. Мне нужно было где-то сразу прилечь, и я устроился там, где был, на мягкой земле, под укрытием простодушных ветвей какого-то дерева, в уютном местечке на берегу, так я выдохся.
Пока разглядывал землю, воздух и небо, меня захватила горькая неизбежная мысль, что я несчастный пленник между небом и землей, что все люди вот так жалким образом взяты в плен, что для всех есть отсюда только один скорбный путь — прямо в яму, в землю, что нет никакой другой дороги в иной мир, кроме как через могилу. «И все это, все кругом, эта огромная щедрая жизнь, веселые, мудрые краски, это восхищение, это жизнелюбие, эта полнокровность, все, что имеет значение для человека, семья, друг, любимая, этот светлый, нежный воздух, битком набитый божественно прекрасными образами, отчий дом, милые добрые улицы — все это однажды исчезает и умрет, высокое солнце, луна, и сердца, и глаза людей». Я долго был погружен в эти мысли и тихо просил прощения у тех людей, которым причинил боль. Я долго лежал там, будто в забытьи, пока снова перед моими глазами не возникла та девушка, такая красивая и юная, с такими чудесными, хорошими, чистыми глазами. Я ясно видел ее зовущие еще совсем детские губы, ее нежные щеки, все ее тело, околдовавшее меня своей певучей мягкостью, я вспомнил, как спросил ее тогда, верит ли она искренности моей любви, моей преданности и нежности, и как она в сомнении и неверии опустила свои красивые глаза и ответила «нет». Обстоятельства вынудили ее уехать, и она исчезла. Возможно, я мог бы еще ее уговорить остаться, убедить, что я действительно люблю ее, что она как близкий человек мне очень важна и что мне по тысяче самых разных прекрасных причин необходимо сделать ее счастливой, а значит, и меня самого. Но я ничего не сделал для того, чтобы она осталась, и ее больше нет. Зачем тогда цветы? «Я собирал цветы, чтобы возложить их на мое несчастье?» — спросил я самого себя, и букет выпал у меня из рук. Я поднялся, чтобы идти домой, потому что было уже поздно и совсем стемнело.