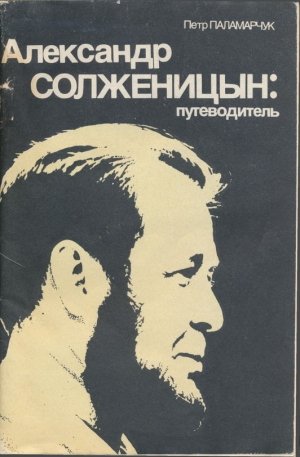
Паламарчук П. Г.
Александр Солженицын: Путеводитель
Вот верный брат его, герой Архипелага...
А. С. Пушкин. Воспоминания в Царском Селе
НАПУТСТВИЕ В ДОРОГУ[1]
Лет за пятнадцать — двадцать до наших дней получила широкое хождение такая байка: человек 2000 года берет в руки энциклопедический словарь и в статье под титлою «Брежнев» читает следующее определение: «Мелкий политический деятель эпохи Солженицына». Ещё лет пять тому рассказ сей продолжал числиться по разряду побасёнок. Три года назад в части, относящейся к Брежневу, предсказание осуществилось. Нужно надеяться, приходит наконец час и полного его воплощения.
Между тем оно получило доказательство «от противного» — из другого мира, ещё недавно нам совершенно обратного. В начале 1980–х президент Рейган пригласил на завтрак наиболее видных советских диссидентов, проживающих на Западе[2]. Из всего сонма званых отказался один А. И. Солженицын, заметив, что он не «диссидент», а русский писатель, которому не с руки беседовать с главой государства, чьи генералы по совету учёных (это поимённо были: командовавший объединённой группой начальников штабов Тейлор с подачи профессора Гертнера) всерьёз разрабатывают идею избирательного уничтожения русского народа посредством направленных ядерных ударов. Выразив вежливый отвод, Солженицын, однако, ответно пригласил Рейгана, когда истечёт срок его полномочий, посетить свой дом в Вермонте и там в спокойной обстановке побеседовать о насущных вопросах отношений двух наших стран — ненавязчиво выявив, что президентская должность занимается одним лицом максимально на восемь лет, призвание же российского писателя пожизненно (журнал «Посев». 1982. XV. С. 57–58).
…Краткое жизнеописание Александра Исаевича таково: он появился на свет в декабре 1918 года в Кисловодске. Отец происходил из крестьян, затем стал студентом, добровольцем ушёл на первую мировую войну и был награждён Георгиевским крестом. Он погиб от несчастного случая на охоте за шесть месяцев до рождения своего единственного ребёнка.
Как удалось выяснить самому писателю: «Деды мои были не казаки, и тот и другой — мужики. Совершенно случайно мужицкий род Солженицыных зафиксирован даже документами 1698 года, когда предок мой Филипп пострадал от гнева Петра I… А прапрадеда за бунт сослали из Воронежской губернии на землю Кавказского войска. Здесь, видимо, как бунтаря, в казаки не поверстали, а дали жить на пустующих землях. Были Солженицыны обыкновенные ставропольские крестьяне: в Ставрополье до революции несколько пар быков и лошадей, десяток коров да двести овец никак не считались богатством. Большая семья, и работали все своими руками» (книга литературнообщественных воспоминаний «Бодался телёнок с дубом», Париж, 1975. С. 570; далее ссылки в тексте сокращённо — Т, с указанием страницы).
Мать Александра Исаевича, Таисия, была дочерью Захара Щербака, пришедшего пастушить на Кубань из Таврии и ставшего здесь зажиточным хуторянином; после революции бывшие рабочие безмездно кормили его ещё двенадцать лет, покуда он не был арестован и погиб в годы коллективизации.
После средней школы Солженицын оканчивает в Ростове–на–Дону физико–математический факультет университета; с четвёртого курса одновременно учится заочно в Московском институте философии и литературы. Не довершив в последнем обучения, уходит на войну, с 1943 по 1945 год командует на фронте батареей, награждён орденами и медалями. В феврале 1945 года в звании капитана арестован из‑за отслеженной в переписке критики Сталина и осуждён на восемь лет, из которых полгода провёл на следствии и пересылках, почти год—в лагере на Калужской заставе в Москве, около четырёх — в тюремном НИИ и два с половиной самых трудных года — на общих работах в политическом Особлаге. Затем был сослан в Казахстан «навечно»; однако рукотворная вечность продолжалась «лишь» три года, после чего определением Военной коллегии Верховного суда СССР от 6 февраля 1957 года последовала реабилитация.
По реабилитации работал школьным учителем в Рязани. Вслед за публикацией в 11–м номере «Нового мира» за 1962 год произведения «Один день Ивана Денисовича» принят в Союз писателей, но кроме ещё нескольких рассказов и одной статьи все написанное вынужден был отдавать в Самиздат или печатать в зарубежье. В 1969 году из СП исключён, в 1970 году удостоен Нобелевской премии по литературе. В 1974 году в связи с выходом 1–го тома «Архипелага ГУЛАГ» насильственно изгнан на Запад. До 1976 года жил в Цюрихе, затем перебрался в американский штат Вермонт, природою напоминающий среднюю полосу России.
Женат вторым браком на Наталье Светловой, у них трое детей — Ермолай, Игнат и Степан, в настоящее время уже юноши, вместе с матерью помогающие отцу в историческом и издательском труде.
Таков внешний перечень «личного дела»; но есть ещё и стоящий за ним внутренний, сокрытый от поверхностного взгляда путь.
«Хотя знакомство с русской историей могло бы давно отбить охоту искать какую‑то руку справедливости, какой‑то высший вселенский смысл в цепи русских бед, — я в своей жизни эту направляющую руку, этот очень светлый, не от меня зависящий смысл привык с тюремных лет ощущать. Броски моей жизни я не всегда управлялся понять вовремя, часто по слабости тела и духа понимал обратно их истинному и далеко рассчитанному значению. Но позже непременно разъяснялся мне истинный разум происшедшего — и я только немел от удивления. Многое в жизни я делал противоположно моей же главной поставленной цели, не понимая истинного пути, — и всегда меня поправляло Нечто. Это стало для меня так привычно, так надёжно, что только и оставалось у меня задачи: правильней и быстрей понять каждое крупное событие моей жизни… Давно оправдался и мой арест, и моя смертельная болезнь, и многие личные события…» (Т, 126)
Главная работа писателя, повествование о революции, начата была более полувека назад с описания катастрофы армии Самсонова в 1914 году — и вот «неожиданным» подарком судеб боевая дорога капитана Солженицына в 1944 году проходит в точности по тем же местам Восточной Пруссии.
Вместо творческого труда в самом конце пережитой войны его постигают арест, тюрьма и лагерь — но: «Страшно подумать, что б я стал за писатель (а стал бы), если б меня не посадили» (Т, 7).
Он был освобождён в день смерти Сталина, 5 марта 1953 года— и тут же наваливается лютый рак, когда по приговору врачей остаётся жизни не больше трёх недель. «Это был страшный момент моей жизни: смерть на пороге освобождения и гибель всего написанного, всего смысла прожитого до тех пор» (Т, 8). Первая жена в последние годы его заключения вышла замуж за другого, и некому даже перед кончиной отдать рукописи; Солженицын едет умирать в ташкентскую клинику. «Однако я не умер (при моей безнадёжно запущенной острозлокачественной опухоли это было Божье чудо, я никак иначе не понимал. Вся возвращённая мне жизнь с тех пор — не моя в полном смысле, она имеет вложенную цель)» (Т, 9).
Излечась, писатель пытался собрать по крохам историю Архипелага, но вскоре понял, что одному это невподъем и тогда «случайная», почти чудесная публикация «Ивана Денисовича» приносит со всей страны сотни свидетельств очевидцев, на основе которых в несколько лет выполнена художественноисторическая работа, до сих пор непосильная многорукому полку Академии наук и Союза писателей.
Человеческие предположения о направлении хода путеводительной судьбы, впрочем, редко непогрешительны, ибо сиюминутному разуму высшие цели часто неисповедимы и непостижны. Об этом замечательно сказано, например, в безымянной надписи на могиле старовера Ковылина в Москве: «Не забудь, о человек, что состояние твоё на земли определено вечною премудростию, которая знает сердце твоё, видит суету желаний твоих и часто отвращает ухо от прошения твоего из единаго милосердия». Зарытый в прямом смысле слова в землю «Архипелаг» — ему предназначалось отлежаться там, покуда будет идти работа над главным повествованием о революции, получившим теперь окончательное имя «Красного Колеса», — без разрешения автора сохранён в ходе работы одной из помощниц, затем вырван у неё враждебною силой, поневоле печатается раньше срока за границей, и вот в самом разгаре работа над заветною эпопеей прерывается.
Но незваная встреча с Западом даёт писателю замечательную возможность взглянуть на расколотый мир с другой стороны, принося художественному зрению наконец вожделенный объём. И вот уже в 1987–1988 годах появляется переработанный четырехтомный «Март Семнадцатого» о сокрушительном падении Февральской революции — как раз когда на Родине вновь с последнею остротой встаёт вопрос: оттепель или выздоровление?
…Путь духовного роста невозможно, однако, проследить без временных и вещественных вех. Последуем же за волей их создателя: десять лет назад, в преддверии своего 60–летия, Солженицын начал издавать Собрание сочинений с подзаголовком «Восстановлены подлинные доцензурные тексты, заново проверенные и исправленные автором. Иные произведения печатаются впервые». К 1988, году 70–летия, вышло в свет уже 18 томов. «Техника нынешняя позволяет набирать самим, в нашей глуши, — тоже как бы Самиздат, в изгнании», — сказано в предисловии к первому тому; набранный таким образом текст последний раз правится и отправляется для напечатания в Париж. А оттуда дорога ведёт прямо на Москву — по ней мы и тронемся.
I–II. В КРУГЕ ПЕРВОМ
Хотя сам писатель и утверждал, что «наиболее влекущая меня литературная форма — «полифонический» роман (без главного героя, где самым важным персонажем является тот, кого в данной главе «застигло» повествование) и с точными приметами времени и места действия» (Т, 484) — из пяти его крупных вещей, как это ни удивительно, романом в тесном смысле является лишь первая, ибо «Архипелаг ГУЛАГ» согласно подзаголовку— «Опыт художественного исследования», эпопея «Красное Колесо» — «Повествованье в отмеренных сроках», «Раковый корпус», по авторской воле, «повесть», а «Один день Ивана Денисовича» — даже «рассказ».
Роман «В круге первом» писался всего 13 лет, с 1955 по 1968 год, и имеет целых семь редакций. Тем, кому довелось читать его по машинописным копиям или западным «пиратским» изданиям, странно будет услышать, что перед ними было во многом иное произведение. «Истинный роман, оконченный мною много лет назад, имел настолько взрывчатое содержание, его совершенно невозможно было даже пустить в Самиздат… и тем более предложить Твардовскому и «Новому миру». Так и лежал у меня роман, и вот я видел, что часть глав можно было бы предложить, а часть — невозможно. Тогда я должен был разбить готовое здание на кирпичи и начать перебирать по кирпичам, как бы снова сложить другой роман. Для этого я должен был сменить основной сюжет. В основе моего романа лежит совершенно истинное и притом, я бы сказал, довольно-таки историческое происшествие. Но я не мог его дать. Мне нужно было его чем‑нибудь заменить. И я открыто заменил его расхожим советским сюжетом того времени, 1949 года, времени действия романа. Как раз в 49–м году у нас, в Советском Союзе, шёл фильм, серьёзно обвинявший в измене родине врача, который дал французским врачам лекарство от рака. Шёл фильм, и все смотрели, серьёзно кивали головами. И так я подставил в замену своего истинного сюжета этот открытый сюжет, всем известный» (Солженицын А. И. Собрание сочинений. Вермонт — Париж, 1983. Т. X, С. 166 — далее ссылки в тексте сокращённо, с обозначением римскою цифрой тома и арабской — страницы).
«Но даже и его не рискнули целиком показать рецензенту Хрущёва, а уж самому Хрущёву — ни главы» (X, 480). Этот‑то, пятый по счёту вариант и попал в свободное обращение в 1965 году. «Облегчённый» сюжет состоял в том, что прознавший про то, чем грозит доброхоту–врачу невинная встреча с французом, советский дипломат звонит ему с предупреждением по телефону–автомату. Подслушанный и записанный на плёнку разговор доставляют на «шарашку» — научно–исследовательское учреждение системы МГБ, в котором заключённые учёные среди прочих потребных власти технических разработок создают методику распознавания голосов по тембру и частоте. Здесь из возможных «кандидатов» выделяют два наиболее вероятных голоса, а нетерпеливое карательное ведомство обоих и тащит в застенок.
В окончательном же, седьмом варианте, впервые полностью появившемся в начальных 1–2 томах Собрания сочинений, «совершенно другой стержень сюжета. Этот дипломат Володин звонит не относительно какого‑то лекарства, он звонит в американское посольство о том, что через три дня в Нью–Йорке будет украдена атомная бомба, секрет атомной бомбы, и называет человека, который возьмёт этот секрет. А американское посольство никак это не использует, не способно воспринять даже этой информации. Так на самом деле было, это истинная история, и секрет был украден благополучно, а дипломат погиб. Но поскольку я был на этой шарашке, где обрабатывалась его лента, вот значит я и знаю эту историю» (X, 554).
Здесь, как и в дальнейших своих вещах, писатель ревниво настаивает на своём почти дотошном следовании действительности: «И сама «шарашка Марфино», и почти все обитатели её списаны с натуры» (II, 403). Любопытно, что здание, в котором происходит действие романа, сохранилось до наших дней — это дом бывшего Александро–Мариинского приюта для бедных сирот— мальчиков духовного звания, находившегося в подмосковной деревеньке Марфино близ Останкинского дворца — «музея творчества крепостных». Нынешний его адрес — ул. Комарова, 2 (бывшее Владыкинское шоссе).
Смысл названия романа дважды разъяснён в начале и конце «зэками»: «Шарашку придумал, если хотите, Данте. Он разрывался — куда ему поместить античных мудрецов? Долг христианина повелевал кинуть этих язычников в ад. Но совесть возрожденца не могла примириться, чтобы светлоумных мужей смешать с прочими грешниками и обречь телесным пыткам. И Данте придумал для них в аду особое место» (I, 24). «Шарашка— высший, лучший, первый круг ада» (II, 397). Третье и несколько иное толкование даёт покуда ещё вольный дипломат Володин, вычерчивая для наглядности на сырой подмосковной земле круг: «Вот видишь — круг? Это — отечество. Это — первый круг. А вот — второй. — Он захватил шире. — Это — человечество. И кажется, что первый входит во второй? Нич–чего подобного! Тут заборы предрассудков. Тут даже — колючая проволока с пулемётами. Тут ни телом, ни сердцем почти нельзя прорваться. И выходит, что никакого человечества — нет. А только отечества, отечества, и разные у всех. » (I 349)
В первом своём романе Солженицын применил и излюбленный приём чрезвычайного сжатия действия во времени для создания «критической» массы: «Вот захватывает какая‑то новая вещь, например «Круг первый». Захватывает. Ну, как описывать такую вещь? Я там жил три года. Описывать эти три года? Вяло, надо уплотнять. Очевидно, страсть к такому уплотнению сидит и во мне, не только в материале. Я уплотнил — там, пишут, четыре дня или даже пять, — ничего подобного, там даже нет трёх полных суток, от вечера субботы до дня вторника. Мне потом неуютно, если у меня просторно слишком. Да может быть, и привычка к камерной жизни такова. В романе я не могу, если у меня материал слишком свободно располагается» (X, 516).
Судьбе ещё угодно было распорядиться так, чтобы все три главных прообраза основных действующих лиц «Круга» оставили свои печатные о нем свидетельства. Если за инженером Нержиным, ищущим смысла жизни и революции, стоит сам автор романа, то за «очищенным марксистом» Львом Рубиным явственно проступают черты его со–сидельца литератора Льва Копелева, живущего сейчас в ФРГ, — третий том своих мемуаров он даже назвал по имени домовой церкви марфинского приюта, в помещении которой была их общая спальня: «Утоли моя печали». Третий персонаж, «аристократ тела и духа» Сологдин — художественное отражение чрезвычайно самобытного инженера–любомудра Димитрия Михайловича Панина, скончавшегося в 1987 году во Франции; его «Записки Сологдина» вышли в переводе на нескольких языках.
Поставленные в положение почти запредельное, и заключённые, и многие жители «большой зоны» — воли принуждены решать самые «крайние» вопросы бытия. Дипломат Иннокентий (его имя в переводе с латыни — «невинный», оно обречено уже изначально «играть» смыслами прямым и обратным) решил для себя так: «Надчеловеческое оружие преступно допускать в руки шального режима», потому что, полагает он вслед за Герценом, «не надо путать отечества и правительства» (II, 161).
Выбирать судьбу приходится, однако, не только за себя, но и за тех близких и родных, кого человек способен начисто погубить своим лично честным проступком. Наиболее открытая ошибка мнений, почти невозможная в те времена на свободе, происходит парадоксальным образом в границах неволи — среди заключённых «шарашки». В обстоятельствах, открыто трагических по размаху, поверяются опыт, история народа и его литература; не случайно возникают здесь имена великих писателей прошлого. Но резко сменившиеся обстоятельства задают им строжайшую поверку: «Когда читаешь описание мнимых ужасов каторжной жизни у Достоевского, — поражаешься: как покойно им было отбывать срок! ведь за десять лет у них не бывало ни одного этапа!» (II, 371)
/Однако на довольно бестактный вопрос в Мадриде: «Кто испытал больше страданий — Достоевский или Вы?» — Солженицын отрезал: «…ГУЛАГ несравнимо страшней царской каторги. Но мера внутренних страданий человека не всегда соответствует внешне пережитому» (X, 338)/.
Другой классик былых времён поминается косвенно: «Очищенный от греха собственности, от наклонности к оседлой жизни, от тяготения к мещанскому уюту (справедливо заклеймённому ещё Чеховым.), от друзей и от прошлого, зэк берет руки за спину и в колонне по четыре… идёт к вагону» (II, 372).
Три героя разводят свои пути у развилки с вопросом, гласящим: совестно ли выполнять любое задание «шарашки»? Делать подслушивающие устройства для домашних телефонов, как в соседней спецтюрьме МГБ поступил инженер Бобёр, схлопотавший за беды сотен людей досрочное освобождение и Сталинскую премию? Нет, как будто бы это не стоит. А скрытые фотоаппараты для слежки за своими согражданами в квартирах и на ночных улицах? Тоже вроде не годится. Но как же насчёт атомного оружия — для Родины око или для Сталина?..
За ответом Нержин отправляется по–толстовски к незамысловатому внешне мужику Спиридону, перетерпевшему не просто все беды, выпавшие в его век народу, но и принявшему в них самоличное участие как на стороне страдальческой, так и в стае насильников. «Это мыслимо разве — человеку на земле разобраться: кто прав? кто виноват? Кто это может сказать?» — вопрошает скептический интеллигент у старика–калеки. И получает в ответ пословичное: «Да я тебе скажу!., волкодав — прав, а людоед — нет!» (II, 148).
Нержин наконец от сотрудничества с мучителями отказывается, Рубин соглашается и становится вольным виновником гибели Володина; Сологдин ищет своего обходного, «бокового» хода… При этом Нержин провидит в будущем совсем другое предназначение для себя: «Пройдут годы, и все эти люди… сейчас омрачённые, негодующие, упавшие ли духом, клокочущие от ярости — одни лягут в могилы, другие смягчатся, отсыреют, третьи все забудут, отрекутся, облегчённо затопчут своё тюремное прошлое, четвёртые вывернут и даже скажут, что это было разумно, а не безжалостно, — и, может быть, никто из них не соберётся напомнить сегодняшним палачам, что они делали с человеческим сердцем!.. Но тем сильнее за всех за них Нержин чувствовал свой долг и своё призвание. Он знал в себе дотошную способность никогда не сбиться, никогда не остыть, никогда не забыть» (II, 195).
Здесь, в «окружении» Нержина, завязываются художественные и жизненные узелки, которым предстоит ещё вырасти в узлы, определяющие основные пути творчества самого Солженицына. Их можно проследить от борьбы с «птичьими словами» (то есть употребляемой без нужды иностранщиной) Сологдина, от способности «припечатать» единым неожиданным, но созданным в традиции русским словом — как «многонольные» тиражи у сталинских лауреатов (II, 99) — вплоть до интереса к судьбе забытого и забитого рабочего вожака Шляпникова и тамбовского крестьянского восстания 1921 года, «антоновщины». Двум последним приведётся встать во весь рост в «Красном Колесе» — и там же будет воплощён знаменитый метод узлов, о котором в применении к Ленину, опять‑таки одной из главных фигур «Колеса», ещё на нарах «шарашки» рассуждают Сологдин с Нержиным:
«Будь же достоин своей… исчислительной науки. Примени способ узловых точек. Как исследуется всякое неведомое явление? Как нащупывается всякая неначерченная кривая? Сплошь? Или по особым точкам?» — спрашивает первый. А второй в ответ: «Мы ищем точки разрыва, точки возврата, экстремальные и наконец нолевые. И кривая — вся в наших руках» (I, 204).
Следует отметить и две главы, чрезвычайно показательные для солженицынского дара трагической иронии. Это «Улыбка Будды» (59–я), повествующая о посещении госпожой Рузвельт Бутырской тюрьмы и устроенной в связи с этим начальством «чернухой» (показным благополучием), и глава 55–я — жутковатая пародия на современный суд, разыгранный самими зэками процесс над «изменником» князем Игорем. Заканчивается он мрачной угадкой, «попавшей» впоследствии в самого автора: выступающий в роли казённого адвоката тайный доносчик Исаак Каган, по традиции тех времён, не удовлетворён запрошенным для его подзащитного «прокурором» максимумом — 25 годами заключения, или «четвертной» — и требует ещё пущего наказания по статье 20 пункт «а»: объявить врагом трудящихся и изгнать из пределов страны. «Пусть там, на Западе, хоть подохнет!» (И, 26).
Есть в романе главы и просто страшные — описывающие выворачивающие душу свидания заключённых с «вольными» родственниками, где на миг выныривающие из пучины Архипелага зэки порою выглядят лучше, чем загнанные в тупик их жены и близкие, которым предлагается на выбор отречение или голодная смерть (гл. 40–42).
Особо скажем о сугубо спорных страницах, посвящённых жизни «кремлёвского отшельника». В них, по наблюдениям немногочисленных «допущенных» знатоков, было немало фактических неточностей. Ещё веря в возможную публикацию, против них возражал и Твардовский. Как вспоминает сам автор, он находил нужным «убрать главу «Этюд о великой жизни» (где я излагал и старался психологически и внешними фактами доказать версию, что Сталин сотрудничал с царской охранкой); и не делать такими уверенно–точными детали быта монарха, в которых я уверен быть не мог. А я считал: пусть пожнёт Сталин посев своей секретности. Он тайно жил — теперь каждый имеет право писать о нем все по своему представлению. В этом право и в этом задача художника: дать свою картину, заразить читателей» (Т, 89). Далёкий от внешней похожести, Сталин предстаёт в романе таким, каким его представлял средний советский зэк.
Предсказанию отвлечённого от прочей жизни, но въедливого в своей технической страсти инженера, трезво оценившего всю систему управления наукой при Сталине — «Первыми на Луну полетят — американцы!» — суждено будет сбыться (II, 37). Затаённую веру и вольного Володина, и узника Нержина в далёкую ООН и пользу «мирового правительства» (I, 378; II, 77) ожидает, напротив, горькое разочарование.
Но покуда герой, автор и вслед за ним мы идём вниз: из «первого круга» — в самый пеклый «ад мы едем. В ад мы возвращаемся» (II, 397). Там, в Особом лагере для «политических», ожидает нас бывший крестьянин и воин Иван Денисович Шухов.
III. РАССКАЗЫ
Жанр рассказа привлекает Солженицына: «В малой форме можно очень много поместить, и это для художника большое наслаждение, работать над малой формой. Потому что в маленькой форме можно оттачивать грани с большим наслаждением для себя» (X, 519). Но внешние обстоятельства не позволили ему подробно заняться им — в третьем томе собрания, включившем в себя все «малые» художественные произведения, насчитывается всего восемь рассказов и цикл из 17 «крохоток» (одну из которых, о духовной красоте русской природы и колокольном звоне, зачёл недавно в Данилозом монастыре президент Рейган).
Головной из них — «Один день Ивана Денисовича»; и это именно рассказ — переназвать его заставили автора в «Новом мире»: «Предложили мне «для весу» назвать рассказ повестью— ну и пусть будет повесть, — вспоминает он и поясняет: — Зря я уступил. У нас смываются границы между жанрами и происходит обесценение форм. «Иван Денисович» — конечно, рассказ, хотя и большой, нагруженный. Мельче рассказа я бы выделял новеллу — лёгкую в построении, чёткую в сюжете и мысли. Повесть — это то, что чаще всего у нас гонятся называть романом: где несколько сюжетных линий и даже почти обязательна протяжённость во времени. А роман (мерзкое слово! нельзя ли иначе?) отличается от повести не столько объёмом и не столько протяжённостью во времени (ему даже пристала сжатость и динамичность), сколько — захватом множества судеб, горизонтом огляда и вертикалью мысли» (Т, 31).
«Один день…» «задуман автором на общих работах в Экибастузском Особом лагере зимой 1950/51 года. Осуществлён в 1959 году сперва как «Щ-854 (Один день одного зэка)», более острый политически» (III, 327). Это была попытка «что‑нибудь такое написать, чего пусть нельзя будет печатать — но хоть показывать людям можно! хоть не надо прятать!» (Т, 18). А затем уже — «Я не знал, для чего, у меня не было никакого замысла, просто взял «Щ-854» и перепечатал облегчённо, опуская наиболее резкие места и суждения и длинный рассказ кавторанга Цезарю о том, как дурили американцев в Севастополе 45–го года нашим подставным благополучием. Сделал зачем‑то — и положил» (Т, 19).
После XXII съезда писатель впервые решился предложить что‑то в открытую печать. Выбрал «Новый мир» Твардовского — однако сам туда не пошёл: «Просто ноги не тянулись, не предвидя успеха. Мне было 43 года, и достаточно я уже колотился на свете, чтоб идти в редакцию начинающим мальчиком. Мой тюремный друг Лев Копелев взялся передать рукопись. Хотя шесть авторских листов, но это было совсем тонко: ведь с двух сторон, без полей и строка вплотную к строке» (Т, 22).
Далее все происходящее было похоже на чудо, но только чудо «заслуженное»: рукопись удалось через голову редколлегии передать самому Твардовскому при точных словах: «Лагерь глазами мужика, очень народная вещь» (Т, 26). Тот, легши вечером с ней «почитать», через две–три страницы встал, оделся, перечёл за бессонную ночь дважды — и тотчас же начал борьбу за издание. Наконец «решение о напечатании рассказа принято на Политбюро в октябре 1962 года под личным давлением Хрущёва» (III, 327). Он появился в 11–м номере журнала за тот же год, а в следующем переиздан в «Роман–газете» и «Советском писателе». Изменений внесено было немного: «В уступку требованиям печатности, фигура кавторанга освобождена от юмористических черт и введено единственное упоминание Сталина, которого не было» (III. 327).
Замысел автор объясняет так: «Как это родилось? Просто был такой лагерный день, тяжёлая работа, я таскал носилки с напарником и подумал, как нужно бы описать весь лагерный мир — одним днём. Конечно, можно описать вот свои десять лет лагеря, там, всю историю лагерей, — а достаточно в одном дне все собрать, как по осколочкам, достаточно описать только один день одного среднего, ничем не примечательного человека с утра и до вечера. И будет все. Это родилась у меня мысль в 52–м году. В лагере. Ну конечно, тогда было безумно об этом думать. А потом прошли годы. Я писал роман, болел, умирал от рака. И вот уже.., в 59–м году, однажды я думаю: кажется, я уже мог бы сейчас эту идею применить. Семь лет она так лежала просто. Попробую‑ка я написать один день одного зэка. Сел, и как полилось! со страшным напряжением! Потому что в тебе концентрируется сразу много этих дней. И только чтоб чего‑нибудь не пропустить. Я невероятно быстро написал «Один день Ивана Денисовича» и долго это скрывал. Я пришёл в «Новый мир», меня спрашивают: «Сколько времени вы писали?» Сказать, что я его написал за месяц с небольшим, — невозможно, ибо тогда: «Позвольте, а что вы писали остальные годы?»
Я скрывал, скрывал, вообще уклонялся, уклонялся, а на самом деле — месяц с небольшим» (X, 518).
«Образ Ивана Денисовича сложился из солдата Шухова, воевавшего с автором в советско–германскую войну (и никогда не сидевшего), общего опыта пленников и личного опыта автора в Особом лагере каменщиком. Остальные лица — все из лагерной жизни, с их подлинными биографиями» (III, 327).
Кратко и точно о рассказе выразился сам Твардовский, сказавший, что уровень правды в нем такой, что после этого писать, будто «Ивана Денисовича» не было, стало невозможно.
Развёрнутый разбор «Одного дня» напечатал тогдашний заместитель главного редактора «Нового мира» В. Лакшин (1964, № 1) под названием «Иван Денисович, его друзья и недруги». Особенно примечателен анализ различия между крестьянином Шуховым и заключённым кинорежиссёром Цезарем Марковичем, из которого следует такой вывод: «Хотелось бы, конечно, чтобы Иван Денисович стоял на более высокой ступени культуры и чтобы Цезарь Маркович, таким образом, мог бы говорить с ним решительно обо всем, что его интересует, но, думается, и тогда взгляды на многое были бы у них различны, потому что различен сам подход к жизни, само её восприятие» (с. 243). Выдержала испытание временем и основная мысль статьи: «Чем дальше будет жить эта книга среди читателей, тем резче будет выясняться её значение в нашей литературе, тем глубже будем мы сознавать, как необходимо было ей появиться. Повести об Иване Денисовиче Шухове суждена долгая жизнь» (с. 245).
Однако в статье сделано и одно чрезвычайно ошибочное заключение, ставшее впоследствии источником решительного расхождения взглядов автора и его критика. Возражая на статью в «Октябре» (1963, № 4), в которой рецензент Н. Сергозанцев в задоре новомировско–октябристской полемики случайно–нехотя выговорил правду — что черты характера Шухова унаследованы не от «людей 30–40–х годов», а от «патриархального мужичка» — В. Лакшин, что называется, попадает мимо цели прямо в «молоко»: «У Шухова — такая внутренняя устойчивость, вера в себя, в свои руки и свой разум, что и Бог не нужен ему. И тут уже несомненно, что эти черты безрелигиозности в широком смысле слова — вопреки мнению критиков, твердящих о патриархальности Шухова, — не из тех, что бытовали в народе от века, а из тех, что сформировались и укрепились в годы советской власти» (с. 233).
«Один день…» возобновил как раз высокую традицию русской классики, что хорошо заметно и по его языку — это несомненное обновление, ибо «вино новое следует вливать в мехи новые», но обновление через предание и корень, а не посредством выворота наизнанку.
Рассказ был выдвинут на Ленинскую премию, но дружными стараниями противников вскоре «задвинут» обратно — чтобы получить несколько лет спустя другую премию, Нобелевскую.
Судьба одного из недоброхотов Ивана Денисовича тесно переплеталась с судьбою самого произведения и в этом смысле чрезвычайно показательна. Вскоре после выхода «Одного дня…», в «Звезде» (1963, № 3; отдельное издание с исправлениями — Москва, 1966) была напечатана «Повесть о пережитом» литератора Б. А. Дьякова — как справедливо указывает В. Лакшин, подражательная по стилю, но не по духу созданию Солженицына. В ней сделана попытка поставить все с ног на голову: главный герой здесь не рядовой русский человек, а сам автор — лагерный «придурок», то есть устроившийся на хозяйственную либо канцелярскую работу бывший аппаратчик, почитающий «западло» якшаться с «кулаками» и прочими, «справедливо» (по сравнению с ним) посаженными. Со временем Б. Дьяков стал прибирать единоличное право единственно верно представлять лагерный мир; он с нескрываемой радостью приветствовал изгнание Солженицына за границу («Ползком на чужой берег» — в сб.: В круге последнем. М., 1974. С. 56–61). «Повесть» его вновь переиздана была в 1988 году в чрезвычайно распухшем виде, но тут неожиданно появились материалы, неопровержимо свидетельствующие, что сам Б. Дьяков ещё с 30–х годов добровольно служил сексотом и отправил в лагеря десятки людей («Огонёк». 1988. № 20, статья «Хамелеон меняет окраску»). Однако — во многом благодаря нравственному влиянию произведений Солженицына — в адрес перевертня раздались не призывы к мести, но голоса о том, что «надо как‑то призывать его к покаянию. Нельзя это так оставить. Вы знаете, ранее в таких случаях уходили в монастырь и замаливали свои грехи. Атеисту монастырь не поможет. Но раскаяние, чистосердечное раскаяние в содеянном помогло бы человеку если не уважение, то хотя бы место найти среди людей» («Книжное обозрение». 1988. № 36, письмо читателя В. Третьякова, с. 4).
…«Новый мир» напечатал ещё четыре рассказа Солженицына: «Матренин двор», «Случай на станции Кочетовка» (1963, № 1 — имя станции в публикации по курьёзу было сменено на «Кречетовка», чтобы оно не отзванивало фамилией тогдашнего редактора «Октября» В. Кочетова), «Для пользы дела» (1963, № 7) и «Захар–Калита» (1966. № 1). Остальные три рассказа, как и «крохотки», ещё на родине писателя не выходили: это примыкающий к «Раковому корпусу» этюд «Правая кисть»; «Как жаль» — описание подлинного случая, изложенного затем в «Архипелаге» (ч. VI); «Пасхальный крёстный ход» — словесная картина подлинного происшествия в 1966 году в подмосковном Переделкине.
Рассказом о неправедной передаче вычиненного молодёжью здания под закрытый институт — «Для пользы дела» — сам автор остался недоволен: «Весной 1963–го я написал для журнала рассказ, которого внутренне мог бы и не писать: «Для пользы дела»; он писался трудновато (верный признак неудачи) и взял неглубоко… Противный осадок остался у меня от напечатания этого рассказа, хотя при нашей всеобщей запретности даже он вызвал много возбуждённых откликов. В этом рассказе я начинал сползать со своей позиции, появились струйки приспособления» (Т, 77).
«Кочетовка», как хитроумно объяснял писатель высокопосаженному наблюдателю за культурой П. Демичеву, написана была «с заведомой целью показать, что не какое‑то ограниченное число закоренелых злодеев совершали злодейства, но их могут совершить самые чистые и лучшие люди, и надо бороться со злом в себе» (Т, 107).
Большая судьба оказалась в двух других рассказов, как бы продолжающих лесковские повествования о русских праведниках. «Матренин двор» так и назывался исходно — «Не стоит село без праведника». В нем показано жестокое разорение русской деревни, среди которого все‑таки устояла духом почти что нищая крестьянка Матрёна. «Рассказ полностью автобиографичен и достоверен. Жизнь Матрёны Васильевны Захаровой и смерть её воспроизведены как были. Истинное название деревни— Мильцево Курловского района Владимирской области… При напечатании по требованию редакции год действия — 1956–й подменялся 1953–м, то есть дохрущевским временем» (III, 327). С этого рассказа ведёт своё происхождение знаменитая ныне «деревенская проза» (хотя впоследствии обнаружилось несколько вещей более ранних, однако не обративших на себя внимания, — сходный случай произошёл и с «Архипелагом»).
Второй праведник открыл ряд произведений об охране памятников Отечества и, шире, отечественной памяти. Это Захар–Калита, предстающий вначале как «Смотритель Куликова Поля! —тот муж, которому и довелось хранить нашу славу», и в конце рассказа вырастающий до образа символического: «Он был уже не Смотритель, а как бы Дух этого Поля, стерегущий, не покидавший его никогда» (III, 304, 313).
С той поры рассказы более не выходили из‑под пера Солженицына: «Я не то что отбросил малую форму. Я с удовольствием бы иногда отдыхал на малой форме, для художественного удовольствия» — но «не могу. Несчастным образом наша история так сложилась, что прошло 60 лет от тех событий, а настоящего связного большого рассказа о них в художественной литературе, да и в документальной, нет…
Я думаю, что последняя возможность моему поколению написать…» (X, 524).
IV. РАКОВЫЙ КОРПУС
Это повесть: «И повестью‑то я её назвал сперва для одного того, чтоб не путали с конфискованным романом… Лишь потом прояснилось, что и по сути ей приличнее называться повестью» (Т, 148).
«Повесть задумана весной[3] 1955 года в Ташкенте в день выписки из ракового корпуса» (IV, 503). «Когда задумаешь — этот момент внезапен. Раз я шёл, выйдя из диспансера, шёл по Ташкенту в комендатуру, и вдруг меня стукнуло; вот почти все из «Ракового корпуса» (X, 518).
«Однако замысел лежал без всякого движения до января 1963 года, когда повесть начата, но и тут оттеснена началом работы над «Красным Колесом». В 1964 году автором предпринята поездка в ташкентский онкодиспансер для встречи со своими бывшими лечащими врачами и для уточнения некоторых медицинских обстоятельств. С осени 1965 года, после ареста авторского архива, когда материалы «Архипелага» дорабатывались в Укрывище, — в местах открытой жизни только и можно было продолжать эту повесть. Весной 1966 года закончена 1–я часть, предложена «Новому миру», отвергнута им — и пущена автором в самиздат. В течение 1966 года закончена и 2–я часть, с такой же судьбой. Осенью того года состоялось обсуждение 1–й части в секции прозы московского отделения Союза писателей — и это был верхний предел достигнутой легальности. Осенью 1967 года «Новый мир» легализовал принятие повести к печатанию, но дальше сделать ничего не мог» (IV, 503). Первые издания повести вышли в 1968 году в Париже и Франкфурте.
Здесь снова применён излюбленный писателем приём временного сжатия: «Раковый корпус» я разделил на две части почти исключительно из того соображения, что ход болезни не допускает дать ей три дня. Болезнь требует показать её хотя бы за пять, шесть недель, а повествование хочет сжаться. Я разделил на две части только для того, чтобы в первой части разрешить себе все в три дня поместить, там, в несколько дней, а вторую часть вынужденно растянул, не потому что я хотел плавно повествовать, а потому что ход болезни требовал правдоподобного лечения, то есть пять–шесть недель» (X, 516).
В «Раковом корпусе» сталкиваются и расходятся два главных действующих лица. Один, прообразом которого отчасти служит сам автор, — Олег Филимонович Костоглотов, бывший фронтовой сержант, а нынче административно–ссыльный, приехавший в онкодиспансер умирать и почти «случайно» спасённый. Он навсегда ранен увиденным на войне и каторге, так что даже прочтя в зоопарке на клетке барсука надпись: «Барсук живёт в глубоких и сложных норах» — тотчас соображает: «Вот это по–нашему! Молодец, барсук, а что остаётся? И морда у него матраснополосатая, чистый каторжник» (IV, 474).
Другой — Павел Николаевич Русанов, весь свой век прослуживший «по анкетному хозяйству» да по «кадрам» и кое на кого столь успешно «сигнализировавший», что они отправились на один с Костоглотовым Архипелаг. Фамилия у него подчёркнуто русская, и вся семья вышла из народа, а потом доросла вот до какого мировоззрения: «Русановы любили народ — свой великий народ, и служили этому народу, и готовы были жизнь отдать за народ. Но с годами они все больше терпеть не могли — населения. Этого строптивого, вечно уклоняющегося, упирающегося да ещё чего‑то требующего себе населения» (IV, 189).
Все их споры и борьба за выживание перед лицом личной, а не коллективной смерти происходят в самую краеугольную пору, когда только начинается слом сталинской машины — то есть, так сказать, во время «протоперестройки», для одного означающей проблеск света, а для другого — крушение кропотливо созданного мира.
Не последнюю роль в осмыслении происходящего играет литература. Костоглотов и сам задумывается над отечественной слозесностью; к Русанову же приезжает дочь — журналистка и начинающая поэтесса, только что наведавшаяся в Москву: «Я там сейчас насмотрелась! Я побывала в писательской среде, и немало, — ты думаешь, писателям легко перестраиваться, вот за эти два года? Оч–чень сложно! Но какой это опытный, какой это тактичный народ, как многому у них научишься!» (IV, 274)
О том же, но с точки зрения обратной говорит и старая больничная сиделка из ссыльнопоселенцев, отказывающаяся читать что‑либо кроме французских романов: «Близко я не знаю книг, какие бы не раздражали. В одних — читателя за дурачка считают. В других — лжи нет, и авторы поэтому очень собой гордятся. Они глубокомысленно исследуют, какой просёлочной дорогой проехал великий поэт в тысяча восемьсот таком‑то году, о какой даме упоминает он на странице такой‑то. Да может, это им и нелегко было выяснить, но как безопасно! Они выбрали участь благую! И только до живых, до страдающих сегодня— дела им нет… Где мне о нас прочесть, о нас? Только через сто лет?» (IV, 449–450)
Между двумя главными героями помещается ещё «промежуточный» третий — проповедник «нравственного социализма».
Шулубин, не имеющий, согласно автору, точного «частного» прототипа (IV, 503). Кое‑кто из первых читателей счёл было, что он‑то и выражает мечты самого писателя — однако теория эта измышлена как раз в годы тихого предательства и именно ему служит оправданием. Умирая, он от неё отрекается, моля хотя бы «осколочком» зацепиться за бессмертный Мировой Дух. Впоследствии Солженицын сказал о нем прямо: «Шулубин, который всю жизнь отступал и гнул спину… совершенно противоположен автору и не выражет ни с какой стороны автора» (X, 149).
Куда ближе писателю чета старичков — Николай Иванович и Елена Александровна Кадмины, своего рода Филемон и Бавкида или, скорее, старосветские помещики Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна — но только прошедшие через лагерь и обретшие там для своей любви «запредельный» опыт и глубину, неведомую прообразам иных эпох.
В конце повести Костоглотов, лишённый возможности завести семью (его кололи гормонными лекарствами), выходит, исцелённый телесно, из тринадцатого ракового корпуса; родные увозят на машине ложно надеющегося на выздоровление Русанова. Сам же автор, излечившийся тогда начисто, выковал свою собственную теорию о раке — её он кратко выразил позднее в «Телёнке». Узнав о скоротечной смерти именно от этой болезни своего доброго новомирозского «ангела» Твардовского после того, как его заставили покинуть любимый журнал, Солженицын записывает: «Рак — это рок всех отдающихся жгучему, жёлчному, обиженному, подавленному настроению. В тесноте люди живут, а в обиде гибнут. Так погибли многие уже у нас: после общественного разгрома, смотришь — и умер. Есть такая точка зрения у онкологов: раковые клетки всю жизнь сидят в каждом из нас, а в рост идут, как только пошатнётся… — скажем, дух» (Т, 309).
Замечательно выразительна финальная сцена — перед отъездом назад в ссылку Костоглотов заходит по просьбе тяжелобольного соседа–мальчишки в зоопарк, в коем пережитые страдания заставляют его видеть прообраз окружающего замордованного общества. Вокруг, правда, уже слышатся первые признаки «потепления» — но и в них он прозревает новую, ещё большую опасность: «Самое запутанное в заключении зверей было то, что, приняв их сторону и, допустим, силу бы имея, Олег не мог бы приступить взламывать клетки и освобождать их. Потому что потеряна была ими вместе с родиной и идея разумной свободы. И от внезапного их освобождения могло стать только страшней» (IV, 475).
Это одна из главных, проходных тем писателя, которая найдёт наиболее полное воплощение в «Красном Колесе». Но прежде чем до него дойти, нужно миновать ещё несколько важных ступеней.
V‑VI‑VII. АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ
Обобщающее произведение о лагерном мире Солженицын задумал весной 1958 года; выработанный тогда план сохранился в основном до конца: главы о тюремной системе и законодательстве, следствии, судах, этапах, лагерях «исправительно-трудовых», каторжных, ссылке и душевных изменениях за арестантские годы. «Однако работа прервалась, так как материала— событий, случаев, лиц — на основе одного лишь личного опыта автора и его друзей явно не доставало» (VII, 573).
Затем, после напечатания «Одного дня Ивана Денисовича», хлынул целый поток писем, благодаря которым в течение 1963–1964 годов отобран опыт 227 свидетелей, со многими из которых писатель встречался и беседовал лично. С 1964 по 1968 год созданы три редакции произведения, теперь уже состоявшего из 64 глав в трёх томах. Зимой 1967–1968 годов, вспоминает Солженицын», за декабрь — февраль я сделал последнюю редакцию «Архипелага» — с переделкой и перепечаткой 70 авторских листов за 73 дня — ещё и болея, и печи топя, и готовя сам. Это — не я сделал, это — ведено было моею рукой!» (Т, 164).
Сперва предполагалось отложить печатание «Архипелага» до 1975 года, чтобы дать возможность писателю спокойно поработать над возобновлённым наконец «Колесом». Однако в августе 1973–го после многодневных допросов 67–летней Е. Д. Воронянской в Ленинграде она выдала тайну хранившегося ею без разрешения автора одного из неокончательных вариантов книги, и та была изъята. Немного спустя старая женщина была найдена повешенной в своей комнате при невыясненных обстоятельствах. И тогда была дана команда к изданию, которое предварялось такими словами: «Со стеснением в сердце я годами воздерживался от печатания этой уже готовой книги: долг перед ещё живыми перевешивал долг перед умершими. Но теперь… мне ничего не остаётся, как немедленно публиковать её» (X, 441).
В последнем издании для Собрания сочинений в 1980 году автор исправил ошибки, однако перерабатывать заново труд не стал: «Тут, на Западе, я имел несравненные с прежним возможности использовать печатную литературу, новые иллюстрации. Но книга отказывается принять в себя ещё и все это. Созданная во тьме… толчками и огнём зэческих памятей, она должна остаться на том, на чем выросла» (VII, 551).
Название трехтомника писатель упрощённо объяснял для иностранных читателей так: «Лагеря рассыпаны по всему Советскому Союзу маленькими островками и побольше. Все это вместе нельзя представить себе иначе, сравнить с чем‑то другим, как с архипелагом. Они разорваны друг от друга как бы другой средой — волей, то есть не лагерным миром. И вместе с тем эти островки во множестве составляют как бы архипелаг» (X, 299). Слово, следующее после «Архипелага», имеет в книге двойное написание: «ГУЛаг» — для сокращения Главного управления лагерей МВД; «ГУЛАГ» — как обозначение лагерной страны, Архипелага (VII, 566).
Непосредственно в предисловии к самой книге речью уже не пояснительной, а художественной автор повествует об «этой удивительной стране ГУЛАГ» — «географией разодранной в архипелаг, но психологией скованной в континент, — почти невидимой, почти неосязаемой стране, которую и населял народ зэков. Архипелаг этот чересполосицей иссёк и испестрил другую, включающую страну, он врезался в её города, навис над её улицами — и все ж иные совсем не догадывались, очень многие слышали что‑то смутно, только побывавшие знали все. Но будто лишившись речи на островах Архипелага, они хранили молчание…
Свои одиннадцать лет, проведённые там, усвоив не как позор, не как проклятый сон, но почти полюбив тот уродливый мир, а теперь ещё, по счастливому обороту, став доверенным многих поздних рассказов и писем, — может быть, сумею я донести что‑нибудь из косточек и мяса? — ещё, впрочем, живого мяса…» (V, 8).
Подзаголовок книги — «Опыт художественного исследования» — автор раскрывал впоследствии вот как: «Это нечто иное, чем рациональное исследование. Для рационального исследования уничтожено почти все: свидетели погибли, документы уничтожены. То, что мне удалось сделать в «Архипелаге», который, к счастью, имеет влияние во всем мире, выполнено методом качественно другим, нежели метод рациональный и интеллектуальный» (X, 177). «Художественное исследование, как и вообще художественный метод познания действительности, даёт возможности, которых не может дать наука. Известно, что интуиция обеспечивает так называемый «туннельный эффект», другими словами, интуиция проникает в действительность как туннель в гору. В литературе так всегда было. Когда я работал над «Архипелагом ГУЛАГом», именно этот принцип послужил мне основанием для возведения здания там, где не смогла бы этого сделать наука. Я собрал существующие документы. Обследовал свидетельства двухсот двадцати семи человек. К этому нужно прибавить мой собственный опыт в концентрационных лагерях и опыт моих товарищей и друзей, с которыми я был в заключении. Там, где науке недостаёт статистических данных, таблиц и документов, художественный метод позволяет сделать обобщение на основе частных случаев. С этой точки зрения художественное исследование не только не подменяет собой научного, но и превосходит его по своим возможностям» (X, 331–2). «Художественное исследование — это такое использование фактического (не преображённого) жизненного материала, чтобы из отдельных фактов, фрагментов, соединённых, однако, возможностями художника, — общая мысль выступала бы с полной доказательностью, никак не слабей, чем в исследовании научном» (X, 515–516).
«Архипелаг ГУЛАГ» и «Красное Колесо» — две вершины творчества Солженицына, в которых с наибольшею полнотой воплотились его творческий дар и труд. В отличие от более «традиционных» романа, повести и, как увидим ниже, пьес, здесь все ново — язык, строение, размах, но новаторство это идёт в самом русле отечественной словесности; образно говоря, вещи эти написаны уже не «в традиции», а «в предании». Вместе с тем следует особо подчеркнуть, что «Архипелаг» представляет собой произведение по преимуществу художественное — для пущей наглядности стоит сравнить его с такой близкой по букве, но далёкой по духу, нарочито отстраненно и нехудожественно написанной книгой, как «Остров Сахалин» Чехова.
Неохватная, казалось бы, работа, оказавшаяся доселе невподъем никакому институту, удалась одиночке–подвижнику, не имевшему по опасности темы даже возможности хотя бы единожды держать её целиком на своём письменном столе. Совершённое им дело сродни подвижничеству людей, сумевших объять, казалось бы, необъятное: «Толковому словарю» Владимира Даля (недаром ведь Солженицын изучал его насквозь, по странице в день, с карандашом в руке) или устанавливавшему происхождение всех(!) русских слов «Этимологическому словарю» немца Фасмера, созданному в годы войны в национал-социалистской Германии — в то время как когорте «своих» специалистов не удалось ничего большего, как перевести его текст и издать с комментариями. И здесь как раз уместно сказать о собственно солженицынском языке — ибо он сумел доказать своё право на такое название.
Сам писатель говорил в беседе со швейцарскими студентами–славистами: «Я для себя представляю так, что язык — это душа не только национальной жизни, но, в частности, и литературы. Если не владеешь тем языком, на котором пишешь, — вообще никакая литература настоящая невозможна… Не то что знаешь его, а сливаешься с ним — только так должно быть… Нельзя не опираться на язык. «Архипелаг» в этом отношении имеет очень глубокие языковые корни… там множество пословиц, причём пословиц, почти не употребляемых в обычной жизни, ушедших из обычного употребления…».
Однако в отличие от такого пословичного ряда в работе непосредственно словесной Солженицын не считает нужным выхватывать далёкие от всеобщего обихода, хотя и сверкающие как алмазы слова, не имеющие уже, к сожалению, надежды вновь войти в общее пользование, — «я обычно пользуюсь все время, в каждой вещи, тем, что я называю «лексическое расширение». Ну, грубо говоря, вот я вычерчиваю область языка, в которой сегодня говорят русские. Большинство людей пользуются словами, взятыми из этой лексической области, изнутри её… Веками эта область не менялась, веками — в России, во всяком случае, — язык стоял богатый, обширный и не терял своих краёв. А сейчас все время идёт сужение, как шагреневая кожа, уменьшается вот эта вся область… И я стараюсь во всех книгах производить лексическое расширение этой области за счёт ближайшего слоя. Я стараюсь употреблять слова — вот отсюда. Они совсем близки к употреблению, к границам области, они всем понятны. Когда их употребил — все понимают, ну иногда некоторые поспорят: какое‑то слово не хорошо, может быть, оно чуть дальше стоит, а может быть, этому человеку не нравится, тут много споров было. А некоторые слова — даже не замечают, что никто их не употребляет, а просто принимают: съели и не заметили. Потому что это законное расширение. Тут много есть самых простых приёмов — такой, например: почти все приставки почти со всеми глагольными основами соединяются… Также и в синтаксисе, я считаю, русский язык требует и допускает очень большое облегчение. Наш синтаксис может стать ещё более свободным. Он и так свободен, он и так просторен.., но можно ещё свободнее его сделать, ещё более гибким. Ну вот, все это входит в то, что я называю «связь с языком». Язык сам знает, как сокращать и чего он хочет» (X, 487–489).
Приведём в качестве наглядного образца начало главы «Тюрзак»: «Ах, доброе русское слово — острог — и крепкое‑то какое! и сколочено как! В нем, кажется, — сама крепость этих стен, из которых не вырвешься. И все тут стянуто в этих шести звуках — и строгость, и острога, и острота (ежовая острота, когда иглами в морду, когда мёрзлой роже метель в глаза, острота затесанных кольев предзонника и опять же проволоки колючей острота), и осторожность (арестантская) где‑то рядышком тут прилегает, — а рог? Да рог прямо торчит, выпирает! прямо в нас и наставлен!» (V, 441)
Этот язык оказывается достойным средством, подходящим для описания трагедии, которую Россия ещё не знала в своей истории ни по глубине, ни по размеру. Счёт ведь шёл уже не на миллионы, а на десятки миллионов погубленных жизней — а затем он перевалил и за сотню. Достоевский ещё в прошлом веке предсказал, что революционные опыты станут стране в сто миллионов душ. Менделеев на заре нынешнего столетия вычислил, что к его середине населения в государстве будет на сто миллионов больше, чем оказалось на деле. Наконец, как просчитал ленинградский профессор статистики И. А. Курганов— Солженицын приводит эти вызывающие оторопь цифры во втором томе «Архипелага» (VI, 12), — с 1917 по 1959 год потери на внешнем фронте составили 44, а на «внутреннем» (включая дефицит от пониженной рождаемости) — 66,7 миллиона человек; то есть всего 110!
Недаром М. П. Лобанов начинает свою знаменитую статью «Освобождение» такими словами: «Сам исторический опыт, пережитый нашим народом в XX веке, опыт ни с чем не сравнимый по испытаниям и потерям, перевернул многие предшествующие представления о ценностях, в том числе и о литературе. Этот опыт превзошёл все, что только могло быть предсказано в прошлом, в том числе и все произведения Достоевского… Герои самого Достоевского типа умника Ивана Карамазова быстро бы образумились, оказавшись рядом.., и задумались бы о таких глубинах, в сравнении с которыми все их философские разглагольствования показались бы просто ребячеством» («Волга». 1982. № 10. С. 145).
Народная трагедия вырастает во всемирную, и поэтому за образами говорящего о ней писателя встают вечные прототипы, единые для всей христианской культуры. Вот сам автор, заключённый на «шарашке», слышит через забор, как в смежном общем лагере плачет поставленная околевать перед вахтой на морозе — за выраженное вслух человеческое сочувствие беглянке — молодая девчонка: «Простите меня, гражданин начальник!.. Пустите в лагерь, я не буду!..» В бессилии хоть как‑то помочь, писатель глядит в костёр перед собою и клянётся: «Этому огню и тебе, девушка, я обещаю: прочтёт о том весь свет» (VI, 135). И за этими словами перед умственным взором читателя возникает сохранённый всеми четырьмя евангелистами рассказ о том, как перед скорой смертью Иисуса апостолы вознегодовали на Марию, которая «даром» потратила драгоценное миро, возливши его на ноги Христа — а он ответил ослеплённым сиюминутной заботой ученикам вещею речью: «Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память её и о том, что она сделала» (Мф. 26:13).
На страницах «Архипелага» вновь появляются образы русской классики XIX столетия, которым жестокая действительность века XX задаёт свои новые, неслыханные прежде вопросы и уроки. Вот речь заходит о доныне сохранившемся здании тюремной церкви в Бутырках — старое строение «губернского тюремного замка», воздвигнутое ещё в XVIII веке М. Казаковым, и по сей день, кстати, числится в списке «памятников архитектуры», продолжая между тем использоваться по своему прямому назначению: «Мечта Толстого сбылась: арестантов больше не заставляют присутствовать при порочной церковной службе. Тюремные церкви закрыты. Правда, сохранились их здания, но они удачно приспособлены под расширение самих тюрем. В Бутырской церкви помещается таким образом лишних две тысячи человек, — а за год пройдёт и лишних пятьдесят тысяч, если на каждую партию класть по две недели» (V, 570).
Задача для героев Чехова ещё жёстче: «Если бы чеховским интеллигентам, все гадавшим, что будет через двадцать–тридцать–сорок лет, ответили бы, что через сорок лет на Руси будет пыточное следствие, будут сжимать череп железным кольцом, опускать человека в ванну с кислотами, голого и привязанного пытать муравьями, клопами, загонять раскалённый на примусе шомпол в анальное отверстие («секретное тавро»), медленно раздавливать сапогом половые части, а в виде самого лёгкого— пытать по неделе бессонницей, жаждой и избивать в кровавое мясо, — ни одна бы чеховская пьеса не дошла до конца, все герои пошли бы в сумасшедший дом» (V, 99).
Оценка литературы в таком пронизывающем насквозь свете доходит и до писателей более близких к нам времён. Вот сидящие на пересылке зэки знатоцки оценивают сравнительные «достоинства» лагерей — куйбышевских, кировских, горьковских, — а автор неожиданно приглядывается к исходному смыслу имён: «Так попадают плевелы в жатву славы. Но — плевелы ли? Ведь нет же лагерей пушкинских, гоголевских, толстовских — а горьковские есть, да какое гнездо! А ещё отдельно каторжный прииск «имени Максима Горького» (40 км от Эльгена)! Да, Алексей Максимыч… «вашим, товарищ, сердцем и именем»… Если враг не сдаётся… Скажешь лихое словечко, глядь — а ты ведь уже не в литературе…» (V, 489).
Есть в книге диалог и с современной автору лагерной литературой: не только отповедь «придурочным» сочинениям наподобие поминавшегося выше Б. Дьякова, но и откровенный спор с Варламом Шаламовым, чьи «Колымские рассказы» действительно выдерживают сравнение с «Архипелагом» (ч. 4, гл. 2). Шаламову автор даже предлагал в своё время приняться за этот труд совместно — но тот отказался.
Шаламовская лагерная эпопея есть своего рода «трагедия без катарсиса», жуткое повествование о неисследимой и безвыходной бездне человеческого падения. Достаточно вспомнить хотя бы сюжет его короткого рассказа про то, кок на отдалённом лагпункте охранники застрелили беглого зэка, а чтобы не тащить далеко в удостоверение труп, отрубили кисти рук и завалились пить. Ночью же ко гревшимся в соседней комнате заключённым стал стучаться воскресший от холода безрукий недобиток. Его впустили, перевязали культи, а очухавшаяся солдатня, опасаясь последствий, опять забрала и долго добивала на стороне.
«Архипелаг», по объёму близкий к шаламовским колымским томам, представляет собой в отличие от них не только образ падения, но и образ восстания — в прямом и высокосимзолическом смысле (сравнительному рассмотрению двух этих произведений было посвящено несколько статей в русском зарубежье).
Три тома (семь частей) «Архипелага» — это не подобие триады дантовских «Ада», «Чистилища» и «Рая», которую мечтал и не успел воплотить на русской почве Гоголь в своих «Мёртвых душах». Здесь точней было бы назвать три другие ступени: падение — жизнь на дне — и воскресение из мёртвых.
В первом томе две части: «Тюремная промышленность» и «Вечное движение». Здесь представлено долгое и мучительное скольжение страны по наклонной кривой террора; но и в ходе этого драматически–скорбного повествования, когда душа читателя постепенно как бы стекленеет от вида разверзающихся перед нею страданий, находится место для отмеченной уже выше трагической иронии. Солженицын встречает у вырвавшегося во время войны на Запад литературоведа Иванова–Разумника воспоминание о том, как тот в 1938 году оказался в Бутырках в одной камере с бывшим генеральным прокурором страны Крыленко, немало потрудившимся ядовитым языком над отправлением в ГУЛАГ сотен себе подобных, а теперь вынужденным ютиться с ними под нарами. И у писателя вырывается невольное: «Я очень живо это себе представляю (сам лазил): там такие низкие нары, что только по–пластунски можно подползти по грязному асфальтовому полу, но новичок сразу никак не приноровится и ползёт на карачках. Голову‑то он подсунет, а выпяченный зад так и останется снаружи. Я думаю, верховному прокурору было особенно трудно приноровиться, и его ещё не исхудавший зад подолгу торчал во славу советской юстиции. Грешный человек, со злорадством представляю этот застрявший зад, и во все долгое описание этих процессов он меня как‑то успокаивает» (V, 386). И этот образ напечатлевается в памяти дольше и хлеще, нежели тугие ляжки Наполеона из «Войны и мира».
Во втором томе тоже две части: 3–я — «Истребительно–трудовые» и 4–я — «Душа и колючая проволока». Из них часть об «исправительных» лагерях самая длинная в книге (22 главы) и самая угнетающе–безысходная, особенно страницы о женщинах, политических, малолетках, повторниках, прилагерном мире и местах особо строгого заключения. Здесь, на кромешном дне мрака, проверяются доселе казавшиеся незыблемыми человеческие понятия и ценности. Прошедши через подобное горнило, они становятся поистине дороже золота. Вот хотя бы определение интеллигенции, которое автор даёт именно в этой части — оговорившись, впрочем, что, достанься ему пробыть «на общих» подольше, вряд ли выжило бы и оно, и его создатель: «С годами мне пришлось задуматься над этим словом — интеллигенция. Мы все очень любим относить себя к ней — а ведь не все относимся… К интеллигенции стали относить всех, кто не работает (и боится работать) руками». Между тем, «если мы не хотим потерять это понятие, мы не должны его разменивать. Интеллигент не определяется профессиональной принадлежностью и родом занятий. Хорошее воспитание и хорошая семья тоже ещё не обязательно выращивают интеллигента. Интеллигент— это тот, чьи интересы и воля к духовной стороне жизни настойчивы и постоянны, не понуждаемы внешними обстоятельствами и даже вопреки им. Интеллигент — это тот, чья мысль не подражательна» (VI, 259).
Проблеск надежды впервые появляется, как это ни удивительно, в начале третьего тома, в истории «особых» политических лагерей (часть 5 «Каторга»). Объяснить такое можно лишь тем, что книга Солженицына являет собою образец реализма в исконном, средневеково–платоновском смысле понятия, утверждавшего верховенство высокого духа над косной материей. Попадающие на Архипелаг после войны вдруг начинают явственно ощущать воздух свободы — не внешней, до которой путь крайне далёк, но неотъемлемой и победительной внутренней воли. Провозвестником её служит безмолвная русская старуха, встреченная писателем на тихой станции Торбеево, когда их вагон–зак ненадолго замер у перрона: «Крестьянка старая остановилась против нашего окна со спущенною рамой и через решётку окна и через внутреннюю решётку долго, неподвижно смотрела на нас, тесно сжатых на верхней полке. Она смотрела тем извечным взглядом, каким на «несчастненьких» всегда смотрел наш народ. По щекам её стекали редкие слезы. Так стояла корявая, и так смотрела, будто сын её лежал промеж нас. «Нельзя смотреть, мамаша», — негрубо сказал ей конвоир. Она даже головой не повела. А рядом с ней стояла девочка лет десяти с белыми ленточками в косичках. Та смотрела очень строго, даже скорбно не по летам, широко–широко открыв и не мигая глазёнками. Так смотрела, что, думаю, засняла нас навек. Поезд мягко тронулся — старуха подняла чёрные персты и истово, неторопливо перекрестила нас» (VII, 41–42).
Внутреннее освобождение влечёт за собою и внешнее. Сперва в лагере отбирают власть у блатных, фронтовые офицеры возглавляют отчаянные попытки бежать; приходит «рубиловка» для предателей–стукачей. Наконец, восстаёт весь лагерь— начиная от забастовки, как в Экибастузе в 1952 году, в которой довелось участвовать и самому писателю (из её наибольшего разгара его забрали в больницу делать первую, ещё лагерную операцию раковой опухоли), и заканчивая полным восстанием в 1954 году, уже после Сталина, в Кенгире (главы «Когда в зоне пылает земля», «Цепи рвём на ощупь», «Сорок дней Кенгира», оканчивающие пятую часть книги).
Часть 6–я, «Ссылка», посвящена скорбной повести об этом своего рода девятом вале репрессий; наиболее впечатляющие в ней главы о коллективизации — «Мужичья дума» и «Ссылка народов». Седьмая часть — «Сталина нет» рассказывает о недолгом последиктаторском «потеплении» и вновь наступивших слякотных брежневских холодах.
Здесь следует особо сказать ещё и о двух сквозных темах всего трехтомника — одной, с точки зрения составителя «Путеводителя», великой, другой, скорее, преувеличенной. Первая — это отношение Солженицына к коммунизму. Слово это, означающее в переводе с латыни «общежитие», по–гречески звучит как «киновйя». На добровольном духовном единстве и самоотречении в жизни и житии были основаны ещё первые христианские монастыри, именно «киновиями» — общежительными— и называвшиеся. На это не раз указывал отечественный философ священник Павел Флоренский (краткой его биографией заканчивается 2–й том «Архипелага»). Он получил огромный опыт как здорового воплощения идеи, так и больного, «ракового» — окончил свои дни в 1937 году с формулировкой «десять лет без права переписки». Погубив его телесно, «вторая» система невольно сделала одновременно в координатах «первой» святым мучеником.
Идея насильственно навязанного равенства всех по нижнему пределу древняя как мир — её исследованию посвящена книга соратника Солженицына по сборнику статей «Из‑под глыб» члена–корреспондента Академии наук И. Р. Шафаревича, вышедшая в 1977 году с предисловием писателя в Париже.
Наконец, появившийся впервые, по Солженицыну, в XX веке тоталитаризм попытался провести её в жизнь с «пассионарной», пользуясь определением Льва Гумилёва, а по–русски говоря, «одержимой» ревностью. Наглядный пример такого сумасшедшего рвения к уравнению представляет собой коллективизация (не забудем, что «коллектив» — третий синоним «коммуны» и «киновии»). Проводников такого общинобесия точнее всего было бы назвать появившимся не так давно в нашем языке словом «коммуноиды» — оно удачно соединяет в себе идеальное начало с параноидальным окончанием.
Объяснившись со смыслом определений, выскажем теперь общее заключение: судьба, дар и прилежание сделали Солженицына смертельным и опаснейшим противником подобного рода «коммуноидности», а книга его «Архипелаг ГУЛАГ», по веским суждениям многих проницательных людей, явилась осиновым колом в могилу этого насосавшегося народной крови упыря.
…Другая идея свойства гораздо более частного, однако старанием определённого, неизменно озабоченного возбуждением её круга лиц сделалась весьма навязчивой. Во втором томе «Архипелага» были приведены фотографии создателей каторжного Беломорканала, а вместе с тем и всей системы ГУЛАГа: Г. Г. Ягоды, Н. А. Френкеля, Я. Д. Раппопорта, М. Д. Бермана, Л. И. Когана, С. Фирина, С. Жука. Тотчас же не замедлил появлением «национальный вопрос», на который писатель ответил с достоинством и спокойно: «Я просто привёл всех, кто руководил в те годы всем ГУЛАГом и Беломорканалом, производством работ. Не моя вина, что они оказались евреи. Здесь нет никакой искусственной подборки моей, так показала история. В своём споре с коммунистической властью я всякий раз им отвечал: не тогда надо стыдиться преступлений, когда о них пишут, а — когда их делают, и дело историка привести то, как оно было… Дело каждого человека рассказывать о своей вине, и дело каждой нации рассказывать о своём участии в грехах. И поэтому если здесь было повышенное участие евреев, то я думаю, что сами евреи напишут об этом и правильно сделают» (X, 181).
В этой связи можно также вспомнить главы 71 и 73 из «Круга первого», где засасываемый в кампанию по борьбе с космополитами инженер–эмгебист Ройтман вдруг вспоминает, что «ведь в революцию и ещё долго после неё слово «еврей» было куда благонадежнее, чем «русский». Русского ещё проверяли дальше.. Еврея не надо было проверять: евреи все были за революцию». Ему приходит на память и то, как он в пионерском детстве участвовал в общешкольном суде над одноклассником, обвиняемым в «антисемитизме» за посещение церкви. В свой черёд заключённый Лев Рубин припоминает, что, «заглаживая вину перед комсомолом и спеша доказать свою полезность», он — бывший «уклонист» — «с маузером на боку поехал коллективизировать село». — «С кого начинать исправлять мир? С других? Или с себя?» — поздновато задумывается Ройтман. А невольный философ Рубин догадывается за них обоих уже в заключении: «Раны тебе — за это! Тюрьма тебе — за это! Болезни тебе — за это!»
(Желающие ещё больше углубиться в эту достаточно узкую по сравнению с прочими российскими бедами тему благоволят обратиться к диалогу между Д. Штурман и А. Каценеленбойгеном «Спор о Солженицыне» в еврейском русскоязычном журнале «Время и мы». 1988. № 100, изд. в Леонии, Нью–Джерси, глава 3–я — «Солженицын и евреи».)
В отличие от вселенской безнадёжности Шаламова, Солженицыным на всем пути через адские пропасти Архипелага движет надежда на воскресение. Ещё в первом томе, слушая обсуждение «Ивана Денисовича» в Верховном суде, он мысленно восклицает: «Я сижу и думаю: если первая крохотная капля правды разорвалась как психологическая бомба — что же будет в нашей стране, когда Правда обрушится водопадами?
А — обрушится, ведь не миновать» (V, 291).
Именно этот свой труд он хочет увидеть первым в числе вновь издаваемых на родине, обоснованно утверждая: «Если бы «Архипелаг ГУЛАГ» был напечатан в Советском Союзе, совершенно открытым тиражом и в неограниченном количестве, — я всегда считал, что Советский Союз бы изменился. Потому что после этой книги… жизнь не может продолжаться так же» (X, 486).
Ещё совсем недавно трудно было поверить в осуществимость этого предсказания. Но разве не выглядело невероятным и такое уже сбывшееся пророчество из третьего тома «Архипелага»: «Скоро, скоро наступит в России эра гласности!» (VII, 500)
…Автор как бы «пронизал» своею подлинной историей все другие жизненные повести своей книги. И здесь составитель «Путеводителя» единственный раз позволяет себе высказаться о его герое в первом лице. Нарушая покой поколений литературоведов, он берет на себя смелость утверждать, что, по его личному мнению, «Архипелаг ГУЛАГ» представляет собой величайшее, первое произведение отечественной художественной словесности. Потому что никогда более в нашей истории не происходило другой такой трагедии. И воплощения опыта народного горя через одного человека, сумевшего собрать и свести все его нити воедино, тоже. А «художественность» — она ведь не в придуманных «Иванах Ивановичах», которых ещё зрелый Толстой совестился сочинять; корень её — в глубине дыхания, размахе видения и высоте веры и любви. Только они и могли решить, казалось бы, непосильную задачу преображения моря живого фактического материала в могучий художественный эпос без единого вымышленного лица.
Собиратель «Путеводителя» должен также признаться, что ему довелось прочесть первый том «Архипелага» будучи студентом первого курса правового факультета Института международных отношений. И это был единственный в его недетских летах случай, когда он плакал над книгой. А она в ответ из вполне вероятного международного хлыща извлекла понятие о долге в первую голову стать гражданином своего Отечества.
«Архипелаг ГУЛАГ» принял немалую долю участия и в судьбе собственного автора: именно в связи с появлением в печати того же первого тома он был Указом Верховного Совета лишён гражданства и насильственно вывезен в Западную Германию.
Что касается критических откликов, то ассоциация американских издателей предлагала даже напечатать на свой счёт материалы, которые могли бы опровергнуть «ГУЛАГ», — но ответа никакого не получила. Взамен вышло несколько довольно куцых брошюр, метящих не в произведение, а в личную жизнь писателя. АПН ротаторным способом выпустило 170–страничный заморыш «В круге последнем» ценою в 20 коп. и без указания тиража. Тут собрался обычный букет брани — и «так называемые произведения» (с. 166), и «бешеная ненависть международной империалистической реакции и её идеологических наёмников» (с. 21), и «эпигон кадетской идеологии» (с. 22). Любопытно, что из множества писателей, которым предлагали прочесть книгу с условием казённого охаивания, выразили согласие всего лишь восьмеро: помимо обязательного Б. Дьякова среди них находим, например, дальновидного Г. Боровика, уверенно предсказавшего: «Пройдёт время, и его забудут», как В. Тарсиса. Ещё один до оголенности искренне назвал свою статью «Г–н Солженицын нам надоел».
Вдогон этому первому «опыту официального самиздата» направился ещё и второй. Потом, после безуспешных попыток навязать западным издательствам, АПН напечатало также воспоминания первой жены писателя Н. Решетовской «В споре со временем» — исключительно для продажи «на зарубеж». В том же направлении последовала и книга двойного чешского перебежчика Т. Ржезача «Спираль измены Солженицына» (Прогресс, 1978), представлявшегося читателю «другом» создателя «Архипелага», но, как выяснилось, не состоявшего с ним даже в знакомстве (см. опровержение Александра Исаевича в его книге «Сквозь чад». Париж, 1979). Из числа сотен людей, давших лёгшие в основу «Архипелага» показания, «добыть» опровержения удалось лишь из двух–трёх, поэтому широкой огласки они не получили.
Была ещё хитроумная попытка использовать против автора его собственное творение: вычитав в книге историю о том, как Солженицына в лагере пытались завербовать, некие «спецы» изготовили пачку поддельных «доносов», якобы им написанных— но за свою излишнюю юркость поплатились разоблачением в журнале «Тайм» от 27 мая 1974 года и в газете «Лос-Анджелес тайме» от 24 мая 1976 года.
Количественную оценку действенности всей этой некрасивой возни дала возможность оценить публикация 5 августа 1988 года в газете «Книжное обозрение» статьи Елены Чуковской «Вернуть Солженицыну гражданство СССР». На неё, как сообщалось в одном из следующих номеров (от 2 сентября), пришло более двухсот откликов, из числа коих отрицательных было 15. Таким образом, с немалой долею вероятия можно заключить, что эффективность «пропагадины» составила что‑то около 7 процентов.
История насильственного изгнания великого русского писателя с Родины в общих чертах известна большинству её сознательных современников. Но со временем выясняются и сокрытые доселе примечательные подробности. Так, оказалось, что погано–славный агент–двойник Виктор Луи — коего Солженицын с мужицкой лукавиной склоняет вопреки общему правилу языка: Лую, Луя, Луем, — провокаторски всучивавший западным «пиратским» издательствам произведения писателя, выкраденные из его архива, чтобы наверняка перекрыть им возможность печатания в России, на самом деле даже агент не парный, а тройной. В вышедшем в 1986 году в Нью–Йорке тщательном архивном исследовании писательницы Нины Берберовой (вдовы поэта Вл. Ходасевича) «Люди и ложи. Русские масоны XX столетия» сей деятель помянут трижды и значится «вольным каменщиком» начиная с 1945 года (С. 90, 102, 137).
Остаётся ещё добавить для завершения краткой истории «Архипелага ГУЛАГ», что все мировые гонорары от него писатель передаёт в основанный им Русский общественный фонд, помогающий политзаключённым и их семьям, действуя строго в рамках существующих законов (X, 71).
VIII. ПЬЕСЫ И КИНОСЦЕНАРИИ
Когда Солженицын не своею волей очутился на Западе, первыми его книгами, вышедшими там, стали совместный сборник статей «Из‑под глыб» (1974), литературная автобиография «Бодался телёнок с дубом» (1975) и сплотка глав из «Красного Колеса» — «Ленин в Цюрихе» (1975 — все три: Париж). Речь о них пойдёт ниже в соответствующих разделах; здесь, впрочем, следует отметить не вошедшие впоследствии в «Колесо» биографические справки, приложенные к «сплотке». Даже в столь «учёной» материи писатель остаётся самим собой — например, когда уровень художественного вкуса будущего наркома культуры связывает с его псевдонимом, позаимствованным от «лунных чар»…
Писатель немало путешествовал и выступал сперва в Европе, затем в Америке и Азии. Работал над эпопеей о революции, но публиковать её стал во второй десятитомной серии Собрания сочинений; первые десять томов составили окончательные редакции ранее написанного и по различным стеснительным обстоятельствам ходившего по свету в неисправных копиях. Самыми незнакомыми из вышедших таким образом на свет произведений стали работы драматические.
И если, как выше было сказано, «Архипелаг» и «Колесо» — это «наиболее» Солженицын, то содержание восьмого тома — Солженицын «наименее». Он и сам откровенно признался в этом: «Из‑за полного своего невежества я особенного маху дал в пьесах. Когда стал писать пьесы в лагере, потом в ссылке, я держал в представлении единственно виденные мною театральные спектакли провинциального Ростова 30–х годов, которые уже тогда никак не соответствовали мировому театральному уровню. Уверенный, что главное в творчестве — правда и жизненный опыт, я недооценил, что формы подвержены старению, вкусы XX века резко меняются и не могут быть оставлены автором в пренебрежении. Теперь‑то, походив в московские театры 60–х годов (театры, увы, уже не артистов и даже не драматургов, театры режиссёров как почти единственных творцов спектакля), я жалею, что писал пьесы» (Т, 17).
Тем не менее и в этой неудаче заключён существенный урок — о нем следует рассказать хотя бы вкратце. Половину тома составляет драматическая трилогия «1945 год»: комедия «Пир победителей», действие которой происходит 25 января 1945 года в той самой Восточной Пруссии, где в 1914 году погиб со своей армией генерал Самсонов, а в 1945–м воевал сам автор.
За нею следует трагедия «Пленники», происходящая в одной из контрразведок «СМЕРШ» (сокращение от: смерть шпионам) «9 июля 1945 года от полуночи до полуночи» (VIII, 128). Наконец, третья часть — драма «Республика труда», запечатлевшая несколько дней жизни лагеря ИТЛ в октябре 1945 же года. Как видно, и здесь применён излюбленный автором приём сгущения времени; кроме того, все части трилогии объединены проходным персонажем — прообразом писателя, знакомым уже по роману «В круге первом» капитаном Глебом Нержиным (а в «Пленниках» появляется ещё и «романный» Рубин). Язык и стиль трёх пьес проходят путь от чисто рифмованного текста, через текст, пополам прозаический и поэтический, до чистой, откровенной прозы.
Обстоятельства сочинения были для русской словесности ещё невиданны: первая пьеса «написана полностью в Экибастузском лагере в течение 1951 года (большую часть времени — на общих работах, каменщиком). Некоторые места составлялись только в уме (в переходной колонне, на проверках, во время работы) и никогда не были на бумаге. Другие записывались мелкими отрывками, и после доработки и заучивания клочки бумаги сжигались. Весь написанный текст автор повторял ежемесячно, чтобы сохранить в памяти» (VIII, 591). Это выучивание ещё сослужило добрую службу: записанный впервые в ссылке в 1953 году, единственный экземпляр пьесы был изъят в 1965–м на обыске у доброхота писателя и издан «закрытым» тиражом для его дискредитации. Тут‑то автор по памяти и восстановил его вновь.
Первоначально пьеса представляла собою 10–ю главу стихотворной повести «Дороженька», следовавшую после главы 9–й — «Прусские ночи». Стихотворения Солженицын писал вынужденно, о чем сам впоследствии вспоминал так: «Ясно было, что продолжать ту свою историческую работу я не могу, и потому что я не могу записать ничего, и потому что я лишён общения с источниками. В лагере что‑то надо было делать другое, чтобы не погибнуть душевно, творчески. И я придумал писать в стихах и пытаться их запоминать. Я их писал очень маленькими кусками, ну не больше 20 строк, заучивал и сжигал. Но накопилось их постепенно к концу моего срока 12 тысяч строк. Это уже огромный объём, и мне приходилось, дважды в месяц повторяя, почти что десять дней в месяце повторять, не писать, а повторять. Для этого у меня было так, как вот у католиков чётки, маленькое ожерелье, и он перебирает, значит, каждая следующая бусинка ему предписывает новую молитву. И я так перебирал, и у меня по счёту шло: десятая, двадцатая, тридца–Зек. 2054 тая строка… так до сотой. Я носил чётки в рукавице. Если во время обыска находили у меня, я говорил, что я молюсь, ну и так, уж ладно, мол, пусть молится» (X, 188).
С течением времени Солженицын свои стихи подверг строгой переоценке и всего лишь два из них поместил в тексте Собрания «внутри» «Архипелага ГУЛАГ»; поэтому, следуя авторской воле, мы о них речь здесь вести не будем.
Во второй пьесе история сводит в застенке контрразведки чрезвычайно разноликий собор заключённых, преимущественно русских по крови: вот какая среди них происходит необычная перекличка — «Полковник русской императорской армии Воротынцев! Поручик Русской освободительной армии Болоснин!
Капитан Красной Армии Холуденев!
Солдат американской армии Климов!
Капитан королевской югославской армии Темиров! Обер–лейтенант вермахта Хальберау!
Подпоручик Войска Польского Вжесник!
Капрал итальянской армии Фьяченте!
Борец бельгийского движения Сопротивления Прянчиков! Профессор Мостовщиков!
Кузьма Кулыбышев, председатель колхоза «Ивана Сусанина» (VIII, 172).
Начатая также в лагере, пьеса дописывалась уже в ссылке. В ней для последующего изложения чрезвычайно любопытен один побочный эпизод — это картина 11–я. Тут вместо персонажа первого романа является впервые один из сквозных героев последнего и главного — полковник Воротынцев из «Августа Четырнадцатого». Картина представляет собой последний поединок двух полковников: 69–летний Воротынцев, прошедший пять войн начиная ещё с японской, приговорён к повешению; вызвавший его на допрос 55–летний полковник НКГБ Рублёв смертельно болен. Обоим жить осталось считанные дни, и вот они на пороге смерти затевают извечный русский спор — «чья же взяла». У обоих отрицание звучит убедительней утверждения, но сходятся они только в одном — что прошедшая фронт молодёжь, говоря словами Рублёва, «не наша. Но и не ваша» (VIII, 231). «Вам, чтобы победить, нужно было быть беспощадными», — наставляет он своего противника. «Но тогда чем же бы мы отличались от вас?» — возражает тот. Под конец Рублёв предлагает третий выход из взаимно тупикового положения: вместо позорной Воротынцева и страшно–больной своей принять тотчас третью, лёгкую смерть от яда. Воротынцев, сперва смущённый, затем решительно отрекается.
Третья пьеса уже целиком написана в среднеазиатской ссылке в 1954 году. «В декабре 1962 года после напечатания «Ивана Денисовича» автор «облегчил» пьесу в цензурном отношении (вариант «Олень и шалашовка») для постановки московским театром «Современник» (VIII, 592). Одновременно он показал её и Твардовскому, но ему не понравилось: «искусства не получилось», «это не драматургия», а «перепахивание того же лагерного материала, что и в «Иване Денисовиче», ничего нового», — сказал он писателю. На что тот замечает в «Телёнке»: «Ну как самому защищать свою вещь? Допускаю, что не драматургия. Но уж и не перепахивание, потому что пахать как следует и не начинали! Здесь не Особлаг, а ИТЛ; смесь полов, статей, господство блатных и их психологии; производственное надувательство. Ну, после «Ивана Денисовича» выглядит слабовато. Легко, что Твардовскому эта вещь и не понравилась» (Т, 62). Постановку же в театре запретила цензура — «Современник» не решился приступить даже к репетициям (Т, 63).
Четвёртая и последняя пьеса — «Свет, который в тебе (Свеча на ветру)» создана в 1960 году в Рязани «как попытка сказать об общих пороках современного цивилизованного мира, отвлекшись от частных особенностей Запада или Востока. Для этого, в частности, состав действующих лиц денационализирован — и оттого утеряны выразительные свойства русского языка и диалога» (VIII, 592).
«У меня был опыт написания одного произведения без языка, это «Свеча на ветру», — жёстко сказал об этом сам Солженицын впоследствии. — Я написал эту пьесу, в предположении, для некоего международного общества, для некоей неизвестной страны — описать нечто общее, что присуще высокоразвитым нынешним странам. Для этого я там отказался от всех национальных признаков, дал интернациональные имена, непонятные, и в том числе, конечно, я сразу потерял русский язык, потому что я написал на каком‑то, не знаю, эсперанто не эсперанто… И я почувствовал, что не хватает силы эту вещь взять: нет яркости, нет силы — а в чем дело? — языка нет! Нельзя не опираться на язык» (X, 487).
«Эта пьеса — самое неудачное из всего, что я написал, далась мне и труднее всего. Верней: первый раз я узнал, как трудно и долго может не получаться вещь, хоть переписывай её 4–5 раз; и можно целые сцены выбрасывать и заменять другими, и все это — сочиненность. Много я на неё потратил труда, думал, кончил — а нет, не получилась. А ведь я взял в основу подлинную историю одной московской семьи, и нигде душой не покривил, все мысли писал только искренние и даже излюбленные, с первого акта отказавшись угождать цензуре — почему ж не удалось? Неужели только потому, что я отказался от российской конкретности (не для маскировки вовсе и не только для «открытости» вещи, но и для большей общности изложения: ведь о сытом Западе это ещё верней, чем о нас) — а без русской почвы должен был я и русский язык потерять? Но другие же свободно пишут в этой безликой безъязыкой ма–нере — и получается, почему ж у меня?.. Значит, и абстрактная форма так же не всякому дана, как и конкретная. Нельзя в абстракции сделать полтора шага, а все остальное писать конкретно» (Т, 18–19).
Как и другие пьесы, «Свечу» не удалось ни издать, ни поставить на Родине — но по странному стечению обстоятельств она стала единственным из солженицынских драматических произведений, которому довелось‑таки увидеть сцену и пройти не только по театрам разных стран, но и быть даже экранизированным французским телевидением (VIII, 592).
Завершают том два киносценария. Написанный осенью 1959 года в Рязани «Знают истину танки» — «сгущенно отображает ход лагерных волнений сперва в Экибастузе с 1951 на 1952 год.., затем в Кенгире в июне 1954–го… Первые написаны по личным впечатлениям автора, вторые — по рассказам знакомых зэков… Не рассчитывая, что когда‑либо при его жизни фильм будет поставлен, автор применил повышенную наглядность и детальность указаний — с тем, чтобы сценарий непосредственно мог «смотреться» в чтении» (VIII, 592).
Поскольку этот приём стал основой для «маленьких киноэкранов» в «Красном Колесе», автор в интервью 1976 года с Н. А. Струве должен был особо пояснить, чем его содержание отлично от «киноглаза», применявшегося американским романистом 1920–х годов Дос Пассосом: «Его киноглаз — это не сценарий. Если Вы посмотрите Дос Пассоса — снимать фильма по киноглазу нельзя. Почему он так его назвал? Это скорей лирические отрывки. Лирические — а я ставлю задачу именно, как если бы происходила киносъёмка. Перед этим у меня был опыт, я написал сценарий «Знают истину танки». Без всякой надежды, что его когда‑либо при моей жизни снимут. Я должен был изобрести такую форму, чтобы читатель, читая киносценарий, уже увидел фильм. Фильма пусть не будет, а он уже его видел. И такую я изобрёл форму расположения там, чтобы было читателю легче, не труднее, а легче было видеть, где звук, где кадр, как снимается, где говорят. И эту форму я потом повторил в своих маленьких киноэкранах» (X, 527).
Наконец, сценарий кинокомедии «Тунеядец» был создан по заказу «Мосфильма» — хотя заранее «ясно было, что поставлен не будет», что и подтвердилось: «Едва сценарий сдан в «Мосфильм» в ноябре 1968 года — тотчас же остановлен «сверху» (VIII, 593). В «Телёнке» о нем сказано следующее: «Выполняя договор, благородно навязанный мне.., я тужился подать им сценарий… (о наших «выборах»)… наверх, к Демичеву, он подавался тотчас и получал абсолютно запретную визу… Твардовский с редакторским сладострастием выпрашивал у меня тот сценарий в тайной надежде: а вдруг можно печатать? — и возвращал с добродушной улыбкой: «Нет, сажать вас надо, и как можно быстрей!» (Т, 244). Прообразом одного из героев «комедии» послужил незадолго до своей смерти лагерный знакомец Солженицына, боевой офицер–моряк Георгий Тэнно — настоящий герой потрясающих глав «Архипелага» о побегах.
IX‑X. ПУБЛИЦИСТИКА
Два тома солженицынской публицистики занимают почти тысячу страниц убористой печати. Девятый — «Статьи и речи» — разделён на две части: «В Советском Союзе (1969–1974)» и «На Западе (1974–1980)».
Советская часть открывается Нобелевской лекцией, не так давно чуть было не появившейся наконец в отечественном издании, но в последний момент 12–й номер «Нового мира» за 1988 год с её текстом был доблестно раскидан по указанию Старой площади — хотя она и посвящена исключительно литературно–нравственным вопросам (лекция все‑таки вышла в 1989 году, № 7).
Затем следуют три статьи из замечательного сборника «Из‑под глыб» (Москва — Париж, 1974). Формальным поводом для его возникновения была публикация в 97–м номере выходящего в Париже, Нью–Йорке и Москве ежеквартальника «Вестник Русского христианского студенческого движения» (впоследствии определение «студенческого» было снято; начиная со 111–го номера в этом журнале почти неизменно появляются произведения самого Солженицына вот уже больше полутора десятилетий, почему далее ссылки на него в тексте сокращено: ВРХД) трёх анонимных статей живущих в России авторов, поносивших на чем свет стоит свою Родину. «В «Вестнике РСХД» № 97, — рассказывает писатель, — проявилось несколько лет назад такое целое направление — уроженцы России, живущие в России, обвиняют её так, будто сами они в этой грязи не варятся и чисты, ни к чему отношения не имеют… антипод раскаяния — очень сейчас распространено это в советской общественности и в советской так называемой третьей эмиграции. Это — обвинять Россию и даже поносить Россию — без чувства совиновности, без признания своей собственной доли в этой вине. Чрезвычайно характерно недавно это прорвалось в первом номере «Континента» — Синявский в своей статье буквально написал следующее: «Россия–сука, ты ещё ответишь и за это!» В данном случае речь идёт о еврейской эмиграции в наше время. Но это частный пример. А все выражение — сын говорит матери: «Россия–сука, ты ещё ответишь и за это!» И за это, значит, и ещё за многое другое ты ответишь! Даже во всей истории русского самооплевания такого выражения я не помнию» (X, 100).
Явившись непосредственной отповедью подобному отношению, сборник «Из‑под глыб» в более глубокой перспективе продолжил собою ряд историософских альманахов «Проблемы идеализма» (М., 1902): «Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции» (М., 1909) и «Из глубины. Сборник статей о русской революции» (М., 1918). Суть названия раскрывается в предисловии, принадлежащем перу Солженицына: «Много десятилетий ни один вопрос, ни одно крупное событие нашей жизни не было обсуждено свободно и всесторонне, так чтобы мочь нам произнести истинную оценку происшедшего и путей выхода из него. Но все подавлялось при начале же, все покидалось неосмысленным хаотическим хламом, без заботы о прошлом, а значит и о будущем. А там валились новые, новые события, грудились такими же давящими глыбами, так что потеряны были и интерес и силы к разбору… Из той темноты и сырости, из‑под глыб, мы и трогаем теперь первыми слабыми всходами. Ожидая от истории дара свободы и других даров, мы рискуем никогда их не дождаться. История — это сами мы, и не минуть нам самим взволочить на себя и вынести из глубин ожидаемое так жадно» (X, 442).
Кроме самого Солженицына, в книге приняли участие Игорь Шафарезич, В. Борисов, Е. Барабанов, М. Агурский; две статьи подписаны псевдонимами. Более других близок писателю И. Р. Шафаревич, о котором он вспоминал, сравнивая свою дружбу с ним и отношения с А. Д. Сахаровым: «С Игорем Шафаревичем мы действительно были вместе, плечо о плечо, уже три года к тому времени готовя «Из‑под глыб». Соединяли нас не прошлые воспоминания (их не было) и даже не нынешнее стояние против Дракона — нет, более прочная связь: соединяли нас общие взгляды на будущее русское (это будущее очень не едино скоро раскроется в нашей стране)» (Т, 432).
В первой части девятого тома помещены все три статьи Солженицына из сборника, главная мысль которых достаточно чётко видна из самих названий: «На возврате дыхания и сознания (По поводу трактата А. Д. Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе»)— спор, уже не столько с самим Сахаровым затеянный, сколько «потому, что в нашей стране на тех мыслях, которые Сахаров прошёл, миновал, ещё коснеет массивный слой образованного общества» (IX, 24); «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни» и «Образованщина». За ними следуют великопостное «Письмо Патриарху» Пимену, «Письмо вождям Советского Союза» — попытка найти общеприемлемое понимание с тогдашними руководителями государства на основе их предполагаемой общей любви к Родине (они не откликнулись ни словом единым) и — «Жить не по лжи», прощальный призыв к кампании «идеологического неповиновения» развращающей общество лжи, перепечатанный через 15 лет в газете киевских железнодорожников «Рабочее слово» (18 октября, 1988 г.).
Часть «На Западе» включает в основном выступления в Европе и Америке, среди которых выделяется речь на годичном акте в Гарвардском университете в 1978 году, а также статья «Чем грозит Америке плохое понимание России», напечатанная в 1980–м в американском журнале внешней политики «Форин афферс», и ответ на полученные по ней отклики — «Иметь мужество видеть».
Следует, впрочем, оговориться, что любви к публичным выступлениям сам Солженицын не питает, прерывая их порою на долгие годы как в России, так и за её рубежом. «Интервью — дурная форма для писателя, — говорил он ещё на Родине, — ты теряешь перо, строение фраз, язык, попадаешь в руки корреспондентов, чужих тому, что тебя волнует… я вынужден был избрать эту невыгодную форму из‑за необходимости защищаться по разрозненным мелким поводам» (Т, 371). И в другой раз добавил: «Интервью — не дело писателя. Девять лет я воздерживался от интервью и нисколько не жалею» (Т, 574).
Тем не менее весь том десятый почти что полностью им посвящён: как говорил в беседе по поводу пятилетия своего изгнания, помещённой здесь, сам Солженицын: «От сегодняшней действительности не очень‑то отойдёшь, потому что она жжёт, со всех сторон припекает. Как Вы знаете, я немало поездил по странам, выступал, — но просто от страсти: не могу спокойно смотреть, как они сдают весь мир и самих себя. А 8 общем — это не моя задача, в нашей стране дела ждут» (X, 354). Первые две части тома, названного «Общественные заязления, интервью, пресс–конференции», озаглавлены почти идентично соответствующим частям 9–го: «В Советском Союзе (1966–1974)», и «На Западе (1974–1981)».
Третья часть представляет собой «Предисловия» к собственным изданиям, а также к таким книгам, как «Стремя Тихого Дона» литератора «Д.», исследование профессора В. В. Леонтовича «История либерализма в России», упоминавшийся выше труд И. Шафаревича «Социализм». В части четвёртой — «О литературе и языке» — находятся среди прочего единственная напечатанная в 1960–е годы на Родине статья «Не обычай дёгтем щи белить» из «Литературки»; любопытнейшие соображения о состоянии современной русской грамматики, вызванные непосредственно личным наблюдением за набором Собрания сочинений.
Солженицын продолжал выступать и после выхода в 1981 — 1983 годах двухтомника своей публицистики: впервые за нессколько лет покинув Америку, он побывал (сперва инкогнито) в Японии и Китайской республике на Тайване («Три узловых точки японской новой истории» и «Свободному Китаю». ВРХД, 1982, № 137), давал интервью Д. Рондо и Б. Пиво для французской печати и телевидения (ВРХД, 1984, № 142), прочёл лауреатскую лекцию при вручении ему премии фонда Темплтона «За прогресс в развитии религии» за 1983 год (ВРХД, 1983, № 139). Новая статья писателя появилась в 153–м выпуске «Вестника РХД» в 1988 году, она посвящена сравнению двух грозных революций — Французской и Российской (написана ещё в 1984–м).
Следует ещё учитывать, что, как сказано в примечании к тому, «часть общественных заявлений, писем, интервью за 1966–1981 годы не включена в 10–й том, поскольку будет напечатана в качестве приложений к двум томам «Очерков литературной жизни» позднее в этом собрании сочинений» (X, 573). Любопытно также, что выполняющая работу целого штата помощников Александра Исаевича Наталья Солженицына сама выступает иногда с заявлениями, на которых явственно лежит отблеск художественного дара её супруга (напр.: ВРХД, 1978, № 127).
Поскольку солженицынская публицистика представляет собой хотя и раздроблённое на множество произведений, но несомненно единое целое, постараемся показать её в связной системе цитат через наиболее обобщающие высказывания — позволив себе лишь выделить прописными буквами их главные темы. А в первый черёд заметим, что ставшие нынче до неприличия ходовыми два русских слова были употреблены писателем задолго до того, как их приняли на казённую службу, и поминались они отнюдь не всуе:
«Весь «бесконечный прогресс» оказался безумным, напряжённым, нерассчитанным рывком человечества в тупик. Жадная цивилизация «вечного прогресса» захлебнулась и находится при конце. И не «конвергенция» ждёт нас с западным миром, но — полное обновление и ПЕРЕСТРОЙКА и Запада, и Востока, потому что оба в тупике» (IX, 144). Так было сказано ещё в 1973 году в «Письме вождям Советского Союза». А это — из открытого письма секретариату Союза писателей России от года 1969–го:
«ГЛАСНОСТЬ — честная и полная гласность — вот первое условие здоровья всякого общества и нашего тоже. И кто не хочет нашей стране гласности — тот равнодушен к отечеству, тот думает лишь о своей корысти. Кто не хочет отечеству гласности— тот не хочет очистить его от болезней, а загнать их внутрь, чтоб они гнили там» (X, 13).
«За последнее время можно говорить о нивелировке НАЦИЙ, об исчезновении народов в котле современной цивилизации. Я не согласен с тем… Исчезновение наций обеднило бы нас не меньше, чем если бы все люди уподобились в один характер, в одно лицо. Нации — это богатство человечества, это обобщённые личности его; самая малая из них несёт свои особые краски, таит в себе особую грань Божьего замысла» (IX, 15). «Явил нам XX век неистощимую силу и жизненность национальных чувств и склоняет нас глубже задуматься над загадкой: почему человечество так отчётливо квантуется нациями не в меньшей степени, чем личностями? И в этом граненьи на нации — не одно ль из лучших богатств человечества? И — надо ли это стирать? И — можно ли это стереть?» (IX, 35).
«За РУССКИМИ не предполагается возможности любить свой народ, не ненавидя других. Нам, русским, запрещено заикаться не только о национальном возрождении, но даже — о «национальном самосознании», даже оно объявляется опасной гидрой» (IX, 197). «Сегодня русский порыв к национальному самосознанию— есть оборонительный вопль тонущего народа. Не смотрите на внешние успехи государственной силы: как нация мы, русские, находимся в пучине гибели и ищем — есть ли ещё за что уцепиться и выбраться» (IX, 198). Писатель приводит такой страшный пример, как первенство в стране русских по числу абортов: на одного живого рождённого приходится пятеро убитых во чреве матери с её согласия — и делает вывод: «А русский народ пострадал и численно, и по глубине больше всех» (X, 305).
«Напомню, что СОВЕТЫ, давшие название нашему строю и просуществовавшие до 6 июля 1918 года, никак не зависели от Идеологии — будет она или не будет, но обязательно предполагали широчайший совет всех, кто трудится…
Не должны мы руководиться соображениями политического гигантизма, не должны замышлять о судьбах других полушарий, от этого надо отказаться навек, это наверняка все лопнет, другие полушария и тёплые океаны будут развиваться все равно без нас, по–сзоему, и тем никто из Москвы не упразит, и того никто не предскажет даже в 1973 году, а тем более Маркс из 1848–го. РУКОВОДИТЬ НАШЕЙ СТРАНОЙ должны соображения внутреннего, нравственного, здорового развития народа, освобождения женщины от каторги заработков, особенно от лома и лопаты, исправления школы, детского воспитания, спасения почвы, вод, всей русской природы, восстановления здоровых городов, освоения Северо–Востока — и никакого Космоса, и никаких всемирно–исторических завоеваний и придуманных интернациональных задач: другие народы ничуть не глупее нас, а есть у Китая лишние деньги и дивизии — пусть пробует…
Чтобы не задохнулись страна и народ, чтобы они имели возможность развиваться и обогащать вас же идеями, свободно допустите к честному соревнованию — не за власть! за истину! — все идеологические и все нравственные течения, в частности все религии… Допустите свободное искусство, литературу, свободное книгопечатание — не политических книг, Боже упаси! не воззваний! не предвыборных листовок — но философских, нравственных, экономических и социальных исследований, ведь это все будет давать богатый урожай, плодоносить — з пользу России. Такая свободная колосьба мыслей быстро избавит вас от необходимости все новые идеи с запозданием переводить с западных языков, как это происходит все полвека, вы же знаете» (IX, 164–166).
«К счастью, дом такой у нас есть, ещё сохранён нам историей, неизгаженный просторный дом — РУССКИЙ СЕВЕРО–ВОСТОК. И отказавшись наводить порядки за океанами, и перестав пригребать державною рукой соседей, желающих жить вольно и сами по себе, — обратим своё национальное и государственное усердие на неосвоенные пространства Северо–Востока, чья пустынность уже нетерпима становится для соседей по нынешней плотности земной жизни… Северо–Восток — более звучания своего и глубже географии будет означать, что Россия предпримет решительный выбор самоограничения, выбор вглубь, а не вширь, внутрь, а не вовне; все развитие своё — национальное, общественное, воспитательное, семейное и личное развитие граждан, направит к расцвету внутреннему, а не внешнему» (IX, 76–77).
А для того есть на потребу «ЕДИНЫЙ ВЫХОД: отбросить мёртвую идеологию, которая грозит нам гибелью и на путях войны и на путях экономики, отбросить все её чуждые мировые фантастические задачи, а сосредоточиться на освоении (в принципах стабильной, непрогрессирующей экономики) русского Северо–Востока — северо–востока Европейской нашей части, севера Азиатской и главного массива Сибири» (IX, 148).
В 1979 году писатель пояснил, что «ГЛАВНОЕ В «ПИСЬМЕ ВОЖДЯМ» НЕ НАЗВАНО, А ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ: …я обращался, собственно, не к этим вождям. Я пытался прометить путь, который бы мог быть принят другими вождями, вместо этих. Которые внезапно бы пришли вместо них» (X, 370).
«Я хотел бы сказать ещё немного о принципе самоограничения. ПРИНЦИП САМООГРАНИЧЕНИЯ не только мой творческий принцип, но я его распространяю… я считаю его одним из самых основных принципов вообще человеческой жизни, который совершенно — особенно в XX веке — упускается» (X, 550).
«ОПЫТ МЫ ПРОШЛИ, РАВНОГО КОТОРОМУ НА ЗАПАДЕ НЕ ПРОШЁЛ НИКТО. И мы теперь смотрим с сожалением на Запад. Это странное чувство: мы смотрим как будто бы на наше прошлое. А по отношению к Западу можно сказать так: мы смотрим на вас из вашего будущего. Все то, что у вас происходит сегодня, у нас уже было, было давно. Это такая фантастическая картина: как будто и сегодня происходит, как будто современность, а мы вспоминаем, что все это было…
В 60–е годы прошлого века император Александр II начал программу больших, основательных и медленных реформ. Он хотел постепенно преобразовать Россию к свободе и к развитию. Но кучка революционеров в 1861 году выпустила прокламацию, листовку, там было сказано: мы не можем ждать реформ, мы не хотим их ждать, мы хотим немедленного полного освобождения, без постепенности. А так как правительство не хочет его дать, то мы начинаем террор. И когда Александр II в 1861 году провёл освобождение крестьян от крепостной зависимости, когда он в 1864 году дал стране великую судебную реформу, то в ответ на это — с 1866 года революционеры начали в него стрелять. Было семь покушений на царя. За царём охотились как за зверем. И в 1881 году его убили, а после этого начали убивать премьер–министров, министров внутренних дел, крупных губернаторов, администраторов, и так началась война между революционерами и правящими кругами, правительством. И вся свободная, либеральная общественность России не отнеслась трезво к этому, не остановила революционеров — она аплодировала им. Каждое убийство видного политического деятеля России вызывало восторг, вызывало аплодисменты. Общество помогало революционерам скрываться, террористам помогало бежать. И крупные общественные деятели России защищали террористов как самых главных своих любимцев, как невинных людей. Я повторяю, что рассказываю… эту историю из XIX века, это все было у нас почти век назад. А сегодня это происходит по всей Европе и во всем мире. Мы были свидетелями осенью прошлого года (1975. — П. П.), как западная общественность была взволнована судьбой испанских террористов гораздо больше, чем когда‑либо гибелью шестидесяти миллионов человек в Советском Союзе. Мы видим сегодня, как общественность, прогрессивная общественность, требует немедленных реформ от своих правительств и приветствует и радуется террористическим актам. Это было у нас сто лет назад, и из вашего будущего я могу вам сказать, чем это кончилось: обе стороны ожесточились, правительство стало ненавидеть либеральные круги, либеральные круги стали ненавидеть правительство, и больше никто уже не шёл ни на какие уступки. Реформы прекратились. То, что правительство и правящие круги могли дать, они уже в озлоблении не давали. Либеральная общественность не хотела уступить малого, а получить хотела все сразу. В результате мы получили революцию 1905–1907 года, потом революцию 1917–го, и были уничтожены обе стороны, были уничтожены все правящие круги России, дворянство, купечество, и была уничтожена вся либеральная общественность, вся интеллигенция — её всю вырезали и уничтожили, и остатки её бежали за границу. И после этого начался вот тот террор, о котором говорит моя книга «Архипелаг ГУЛАГ», террор, который унёс 66 миллионов жизней» (X, 325–327).
Подобный страстный призыв к Западу опамятоваться стал весомым вкладом в поворот общественного мнения к новому консерватизму. Однако главным направлением мысли и заботы Солженицына был, конечно, все‑таки не Запад, а родная страна. Во многом его занимал в связи с этим вопрос о наилучшей форме правления в ней — не отвлечённой, а насущно необходимой сейчас: «СРЕДИ… ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОРМ БЫЛО МНОГО И АВТОРИТАРНЫХ, то есть основанных на подчинении авторитету, с разным происхождением и качеством его (понимая термин наиболее широко: от власти, оснозанной на несомненном авторитете, до авторитета, основанного на несомненной власти). И Россия тоже много веков просуществовала под авторитарной властью нескольких форм — и тоже сохраняла себя и своё здоровье, и не испытала таких самоуничтожений, как в XX веке, и миллионы наших крестьянских предков за десять веков, умирая, не считали, что прожили слишком невыносимую жизнь. Функционирование таких систем во многих государствах целыми веками допускает считать, что в каком‑то диапазоне власти они тоже могут быть сносными для жизни людей, не только демократическая республика.
У авторитарных государственных систем при достоинствах устойчивости, преемственности, независимости от политической трясучки, само собой есть свои большие опасности и пороки: опасность ложных авторитетов, насильственное поддержание их, опасность произвольных решений, трудность исправить такие решения, опасность сползания в тиранию. Страшны не авторитарные режимы, но режимы, не отвечающие ни перед кем, ни перед чем. Самодержцы прошлых, религиозных веков при видимой неограниченности власти ощущали свою ответственность перед Богом и собственной совестью. Самодержцы нашего времени опасны тем, что трудно найти обязательные для них высшие ценности…
И если Россия веками привычно жила в авторитарных системах, а в демократической за 8 месяцев 1917 года потерпела такое крушение, то может быть — я не утверждаю это, лишь спрашиваю — может быть, следует признать, что эволюционное развитие нашей страны от одной авторитарной формы к другой будет для неё естественней, плавнее, безболезненней? Возразят: эти пути совсем не видны, и новые формы тем более. Но и реальных путей перехода от нашей сегодняшней формы к демократической республике западного типа тоже нам никто ещё не указал. А по меньшей затрате необходимой народной энергии первый переход представляется более вероятным» (IX, 42).
Подробнее писатель пояснял предполагаемым новым вождям: «У нас в России, по полной непривычке, демократия просуществовала всего 8 месяцев — с февраля по октябрь 1917 года. Эмигрантские группы к–д и с–д, кто ещё жив, до сих пор гордятся ею, говорят, что им её загубили посторонние силы. На самом деле та демократия была именно их позором: они так амбициозно кликали и обещали её, а осуществили сумбурную и даже карикатурную, оказались не подготовлены к ней прежде всего сами, тем более была не подготовлена к ней Россия. А за последние полвека подготовленность России к демократии, к многопартийной парламентской системе могла ещё только снизиться. Пожалуй, внезапное введение её сейчас было бы лишь новым горевым повторением 1917 года» (IX, 162–163). «И я напомню, что страшный тоталитаризм, родившийся на земле, скажем, четырежды, ни один раз не родился из авторитарной системы, но всегда — из слабых демократий: Февральской, Веймарской, итальянской, чанкайшистской. А ведь большей частью государства человеческой истории были авторитарными, — а вот тоталитаризма никогда не рождали» (IX, 338).
Поэтому он предлагает, если уж менять «однопартийную» систему, то не в сторону увеличения, а обратно в направлении упразднения всякой рассекающей общество «партийности». И, кроме того, утверждая, что «классовые» — то есть сословные— различия в обществе за последние десятилетия окончательно стёрты, ещё за несколько лет до современности предсказал, что та новая раскачка, которой писатель более всего опасается для своей Родины, пойдёт по линии обострения межнациональных отношений.
Теперь приведём его суждения о том мире, где он против воли оказался в 1974 году, о том, что нас с ним разделяет — и что неразрывно связывает. «ПРИЕХАВ НА ЗАПАД, Я ОБНАРУЖИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ… У меня есть такое наблюдение: у нас в обществе отношения между людьми, может быть, вам удивительно будет… — сердечнее, душевнее, бескорыстнее, чем здесь. И тут есть, очевидно, закономерность. Я думаю, здесь вот отчасти в чем дело: на Западе существует всеобщая свобода устраивать свою жизнь. И при падении религиозных принципов, на которых было основано западное общество несколько столетий назад, это приводит к усиленной активной деятельности каждого человека в свою пользу… люди иногда слишком много занимаются материальными делами, слишком много думают о своих узких интересах, а не обо всех… не об обществе. Существует всеобщая поверхностная высшая любезность, но под этой любезностью часто, не всегда, кроется большая сухость. У нас же в обществе ситуация такая. Забастовок не устроишь. Зарплаты себе не повысишь, хоть бы ты разбил лоб о стенку… мала роль человека… в своей собственной жизни. Гораздо меньше возможностей, и нет этой тревоги, что ты… из‑за того, что слабо деятелен, упускаешь что‑то. Как‑то течёт эта жизнь через твою голову и можно от неё даже наполовину отключиться. И от этого создаётся пространство времени и души для каких‑то других совсем нематериальных забот» (X, 147–148).
«НЫНЕШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЗАПАДА — не только политический кризис, гораздо глубже. Это духовный кризис давностью лет в 300. Этот кризис оттого, что мы в позднем Средневековье бросились в материю, мы захотели иметь много предметов, вещей, жить для всего этого телесного, а нравственные задачи забыли, и поздним, поздним ударом это нам отозвалось» (X, 315).
«Падение мужества — может быть, самое разительное, что видно в сегодняшнем Западе постороннему взгляду. Западный мир потерял общественное мужество и весь в целом и даже отдельно по каждой стране, каждому правительству, каждой партии, и уж конечно — в Организации Объединённых Наций. Этот упадок мужества особенно сказывается в прослойках правящей и интеллектуально–ведущей, отчего и создаётся ощущение, что мужество потеряло целиком все общество. Конечно, сохраняется множество индивидуально–мужественных людей, но не им доводится направлять жизнь общества» (IX, 282–283).
«Защита прав личности доведена до той крайности, что уже становится беззащитным само общество… от иных личностей, — и на Западе приспела пора отстаивать уже не столько права людей, сколько их обязанности» (IX, 285–286 — эти слова дважды вызвали в Гарварде прерывавшие их рукоплескания).
«Безудержная свобода существует для самой прессы, но не для читателей (аплодисменты): достаточно выпукло и звучно газеты передают только те мнения, которые не слишком противоречат их собственному и этому общему направлению. Безо всякой цензуры на Западе осуществляется придирчивый отбор мыслей модных от мыслей немодных — и последние, хотя никем не запрещены, не имеют реального пути ни в периодической прессе, ни через книги, ни с университетских кафедр (аплодисменты)» (IX, 288). Последнему утверждению не замедлило появлением и доказательство: в то время как печать в основном осудила «чужака» за гарвардское выступление, к нему пробилось множество писем из американской «глубинки», на девять десятых выражавших согласие, благодарность и похвалу (ВРХД, 1979, № 128, с. 380).
«Несомненный факт: расслабление человеческих характеров на Западе и укрепление их на Востоке… Поэтому для нашего общества обращение в ваше означало бы в чем повышение, а в чем и понижение, — и в очень дорогом. Да, невозможно оставаться обществу в такой бездне беззакония, как у нас, но и ничтожно ему оставаться на такой бездушевной юридической гладкости, как у вас» (IX, 290).
«Если не к гибели, то МИР ПОДОШЁЛ СЕЙЧАС К ПОВОРОТУ ИСТОРИИ, по значению равному повороту от Средних веков к Возрождению, — и потребует от нас духовной вспышки, подъёма на новую высоту обзора, на новый уровень жизни, где не будет, как в Средние века, предана проклятью наша физическая природа, но и тем более не будет, как в Новейшее время, растоптана наша духовная. Этот подъем подобен восхождению на следующую антропологическую ступень. И ни у кого на Земле не осталось другого выхода, как — вверх» (IX, 297).
«Какой путь я действительно предлагаю—я закончил этим гарвардскую речь и могу повторить: путь вверх. Я считаю, что роскошно–материальный XX век слишком передержал нас в полуживотном состоянии — кого от избытка, кого от голода. Гарвардская речь вознаградила меня потоком сочувственных откликов простых американцев (кое–кому из них удалось напечататься и в газетах), поэтому я спокойно относился к потоку упрёков, который сыпала на меня рассерженная пресса (я ждал от неё большей восприимчивости к критике): фанатик, одержимый, расколотый разум, циник, мстительный поджигатель войны, наконец и просто «убирайся вон из страны!» …А самое распространённое обвинение было: будто я «призываю Запад идти освобождать» наш народ… Это — совершённое нежелание читать и понимать текст добросовестно. Но не только в гарвардской речи, но и никогда прежде я не призывал ни к чему подобному и даже за все годы моей публичной деятельности не обратился за помощью ни к одному западному правительству, ни к одному западному парламенту. Я всегда говорил: МЫ ОСВОБОДИМСЯ — САМИ, это — наша задача, как бы она ни была трудна, а к Западу только одна просьба и один совет: пожалуйста, не заталкивайте нас под диктатуру… И совет: в вашем безграничном отступлении — поберегите сами себя, не отступайте в ту последнюю яму, из которой вам уже нельзя будет выбраться» (IX, 340–341).
Эти выступления вызвали широкий отклик (см. обзор по гарвардской речи: ВРХД, 1979, № 128; по «Чем грозит Америке…» — журнал «Русское возрождение», Нью–Йорк — Париж — Москва, 1980, № 12 и др.). Точнее всего кратко позицию писателя отразил Н. А. Струве:
«Критика Солженицыным демократических форм правления сводится к трём следующим пунктам: 1. Демократия уязвима, бессильна, особенно перед лицом тоталитаризма; 2. Она несправедлива и случайна, поскольку заменяет общее согласие законом математического большинства; 3. Она — бессодержательна, ибо лишена всякого трансцендентного идеала» («О демократии и авторитаризме» — ВРХД, 1979, № 130, с. 250).
Отметим также недавно вышедшую книгу Доры Штурман, нарочно посвящённую публицистике Солженицына, — «Городу и миру», Париж, 1988 (430 с.). В ней пять глав: «Жить не по лжи», «Солженицын и демократия», «Солженицын и Запад»! «Солженицын и национальный вопрос», «Солженицын и «плюралисты». Рекламная «выжимка» книги гласит, что здесь «доказывается беспочвенность обвинений Солженицына во враждебности к демократии, Западу и плюрализму», а заключение её таково: «Солженицына сплошь и рядом изображают реакционером, ретроградом и шовинистом–ксенофобом, в то время как перед нами религиозный моралист, либерал в классическом смысле этого слова и убеждённый центрист в политике» («Русская мысль», 1988).
Оглядев мир объёмно, с двух его главных сторон, писатель сделал следующий вывод — хотя он обращён в первую голову к различным зарубежным православным «деноминациям», обобщённо это подходит и для всего человеческого «рассеяния»: «КАКАЯ ОПАСНОСТЬ СТРАШНЕЙ: ВНЕШНИЙ ЛИ ГНЁТ ПО ЗАХВАТУ ИЛИ ВНУТРЕННИЙ РАСПАД ПО НЕСОГЛАСИЮ? О себе скажу: под первым я никогда не терял бодрости, второй привёл меня здесь в уныние» (IX, 186).
И далее сказал, столь же объёмно рассматривая судьбы соотечественников на Родине и за её рубежом: «СМЫСЛ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОЦЕССА В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ СКРЫТ И ПОДМЕНЁН ВОПРОСОМ ОБ ЭМИГРАЦИИ; как будто бы главный вопрос, это: скольким людям удастся или не удастся уехать из этой страны? А мне кажется, главный вопрос: как жить тем двумстам пятидесяти миллионам, которые остаются на месте? …Андрей Дмитриевич Сахаров недавно сказал, что эмиграция есть первая среди равных свобод… Я никогда с этим не соглашусь. Я просто не понимаю, почему право уехать или бежать важнее права стоять, иметь свободу совести, свободу слова и свободу печати у себя на месте?» (X, 112).
«Эмиграция — всегда и везде слабость, отдача родной земли насильникам, — и не будем выставлять это подвигом. Суть не в том, чтобы ревностно оправдывать перед Западом на всех языках свой уход в эмиграцию, и стыдно тратить упасенные годы на толчею и пересуды, — но неразгибной работой, но незабывчивым служением помочь бы нашей стране вернуть больше, чем политическую свободу, — духовное выздоровление, и влиться в него самим. Нас может поддержать опыт первой эмиграции, встреченной на чужбине пренебрежительно, а то и презрительно, не так, как встречают третью, — и через 40 чернорабочих и беспросветных лет вынесшей для России немало духовных ценностей» (X, 161).
Для запечатления навек опыта этих людей Солженицын предпринял на свои средства два благих начинания: Всероссийскую мемуарную библиотеку, принимающую на хранение рукописи воспоминаний, архивы и материалы по русской истории XX века, издавая наиболее яркие из них в серии «Наше недавнее» и имея в виду в благоспешное время передать их все на Родину; а также серию «Исследования новейшей русской истории» (X, 341, 359, 459).
Глядя из такой глубокой исторической перспективы, Солженицын обращает внимание на тот «перекос, что главная проблема сегодняшнего СССР — это проблема эмиграции. Как вообще проблемы большой страны могут свестись к отъезду из неё кого бы то ни было?.. Губительный для существования русского народа процесс, уже идущий и рассчитанный лет на 10–15, — процесс окончательного уничтожения русского крестьянства — физического уничтожения изб, деревень, сгона крестьян в многоэтажные посёлки индустриального типа, конца связи с землёю, последнего конца национальных традиций, быта, очевидно — и народного характера, конца русского пейзажа… вообще не заметили!.. И в этот момент смертельного уничтожения русского национального существования — информаторы Запада вопят о самой большой угрозе для всего мира: русского национального сознания… Фальшивым «объяснением» СССР и России занялась активная группа новейших эмигрантов оттуда. Среди них нет крупных имён, но они быстро признаются тут профессорами и специалистами по России, оттого что быстро ориентируются, какое направление свидетельства желательно. Они настойчивы, громки, повторительны в прессе разных стран, статьями, интервью, уже и книгами — все вместе довольно дружно проводят сходную линию… Как правило, они, будучи в СССР, служили коммунизму в советских институтах и даже активно и многолетне участвовали в лживой коммунистической печати и никогда не высказывались оппозиционно. Затем они выехали из СССР по израильской визе, но не поехали в Израиль.., а в странах Запада объявили себя тотчас истолкователями России, её исторического духа и нынешней жизни русского народа (который они и не наблюдали по своему привилегированному положению в Москве)» (IX, 319–320, 316).
Разрабатывая нравственные вопросы эмиграции, писатель продолжает: «Я бы так сказал: если уезжает человек, который чувствует себя чужеземцем, который не считает эту страну своею, то это — совершенно естественный поступок… Он хочет уехать и жить в другом месте. И я никогда этого не осужу… И не буду говорить о тех, кто просто бежит куда‑нибудь, спасаясь: восхищения это не вызывает, но и не упрекнёшь людей, что они измучены, устали, боятся. Но мне кажется диким, когда уехав начинают рецепты давать, как нам быть там. Говорят так: вот это моя страна, это моя родина, Советский Союз или Россия. Но здесь плохо, поэтому я сейчас уеду; уеду, с вами не буду, а оттуда, с Запада, буду объяснять, что вам делать; потом, если будет лучше, я вернусь. Нет. Когда в доме плохо, болезни, несчастья, — из дома не уезжают. Из дома можно уехать, когда все хорошо» (X, 65–66).
Наглядный образец таких неродных беглецов представляет собою пара братьев Медведевых, один из которых «затаился» — заметно для всего света — в СССР, другой же «отсиамился», выражаясь удачным солженицынским словом, в зарубеж: «У нас в СССР по отношению к тем, кто высказывается не в официальной прессе, принят термин «инакомыслящие» или «диссиденты». Так вот, надо быть осторожным в употреблении этого термина, более точно употреблять его. Рой Медведев в более точном смысле слова не относится к инакомыслящим а СССР, ему ничто не угрожает лично, потому что он, в общем, наилучшим образом защищает режим — более умно и более гибко, чем это может сделать официальная печать. Так же, когда мы читаем выступление Жореса Медведева в сенате Соединённых Штатов, в Иностранной комиссии у Фулбрайта, то мы видим, что никакой советский пропагандист и агитатор не мог бы так смело оправдывать репрессии в СССР или говорить, что их нет, как это делает Жорес Медведев» (X, 136).
Столь же резко высказывается Солженицын и про ЗАРУБЕЖНОЕ РАДИОВЕЩАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Так: «русская секция» радиостанции «Свобода», несмотря на многолетнюю работу, из‑за своей принципиальной чужести и даже враждебности русскому национальному сознанию катастрофически утеряла контакт с русским населением и русскими интересами» (IX, 364). Это выразилось хотя бы в том, что только русская редакция станции проходит предварительную цензуру; а прочтение главы о Столыпине из «Красного Колеса» немедленно вызвало донос о «вспышке антисемитизма» (см.: Хроника одной полемики. О Солженицыне, Радио «Свобода» и кое о чем другом.//Литературный курьер. США. 1985. № 11. С. 57–67. № 12. С. 51–61).
На «Голосе Америки» запретили чтение «Архипелага ГУЛАГ», а пустившего по своему почину один отрывок в эфир диктора попросту уволили (X, 413). Затем прикрыли и передачу к 70–летию убийства Столыпина, между тем исправно транслируя еженедельно три разных программы джаза и ещё отдельно серии танц- и поп–музыки, а к ним вдобавок передачу «хобби» про бездельников, собирающих пустые пивные бутылки или этикетки. Помимо того, «непомерно широко передаются новости о еврейской эмиграции из Советского Союза. То есть целыми получасами передаются интервью с новыми эмигрантами: как им нравится Америка, как они устроились, сколько они зарабатывают, как они обставляют свой дом. В этом всем плохого нет, кроме того, что это непомерно раздуто и заменяет собой внутреннюю информацию о Советском Союзе. И какие чувства это может возбудить у советских слушателей? — раздражение. Никто из советского населения не может уехать на Запад. Уехать на Запад может только некоторое количество евреев. Зачем же хвастаться, как они хорошо устроились, зачем раздражать тех, кто там остался?» (X, 416–417).
…Говоря о влияниях на его духовный мир других писателей, Солженицын замечает: «Вообще над каждым русским писателем довлеет ТРАДИЦИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ… Но, конечно, есть писатели особенно любимые, кто особенно влияет. Наибольшее влияние на меня, определяющее, оказали Пушкин, Толстой и Достоевский. Каждый по–своему… Пушкин — явление огромного мирового значения, и более всего поразительна в нем гармония в восприятии мира, гармония, в которой противоборствуют, сталкиваются зло и добро, все горя, несчастья, они как‑то находят в Пушкине высший синтез и примирение» (X, 543).
«А из писателей XX века — Евгений Замятин… очень повлиял на меня» (X, 499). «Замятин во многих отношениях поражает. Главным образом вот синтаксисом. Если я кого считаю своим предшественником по синтаксису, то — Замятина. И потом невероятная яркость и сила портретов у него. Иногда одним–двумя словами он даёт целое лицо» (X, 538).
Сложные творческие отношения сложились у Солженицына с Набоковым. В 1972 году Солженицын выдвинул его на Нобелевскую премию, утверждая: «Это писатель ослепительного литературного дарования, именно такого, которое мы зовём гениальностью. Он достиг вершин в тончайших психологических наблюдениях, в изощрённой игре языка (двух выдающихся языков мира!), в блистательной композиции. Он совершенно своеобразен, узнается с одного абзаца — признак истинной яркости, неповторимости таланта. В развитой литературе XX века он занимает особое, высокое и несравнимое положение» (X, 477–478). Тем не менее совершенно непонятны причины, по которым этому классику нашего столетия Нобелевская премия все‑таки не была присуждена. Столь же загадочными остаются обстоятельства, в силу которых два самых вершинных писателя России нашего времени, живучи почти что рядом в Швейцарии, так и не сговорились повидаться.
Между тем вместе с преклонением Солженицын не убоялся высказать высокому старшему современнику и упрёки: «Я его считаю гением. Когда он оказался в эмиграции, он написал ряд блестящих романов на русском языке. Надо сказать, что русским языком он владел очень хорошо. Но те книги его, даже потом переведённые, настоящего успеха на Западе не имели. Затем Набоков, поняв, что он не найдёт пути к западным читателям, и пользуясь своим блистательным знанием английского языка, совершил ломку своего писательского пути, невероятный в истории литературы случай! Сменил язык! Это как бы человеку переродиться и душу себе сменить. И он действительно имел мировой успех. Но уже потеряв всю особенность и сочность русских корней» (X, 548).
И ещё: «Набоков — гениальный писатель. Однако, уехав из России, он постепенно, к сожалению, оставил русскую тему. По своему возрасту он относится к поколению, которое великолепно могло бы рассказать о нашей революции. Он этого не сделал. И теперь получается, что люди более молодого поколения, моего, например, обязаны выполнить эту задачу. Другими словами, перипетии его жизни или, может быть, его собственное решение помешали ему поставить на службу родине свой гениальный, повторяю, гениальный талант» (X, 338).
О СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ Солженицын определённо высказывался ещё на Родине в 1973 году: «Одни авторы, как Ю. Казаков, необъяснимо вдруг уклоняются от большой работы.., к другим, как Залыгин, чья повесть о Степане Чаузове — из лучших вещей советской литературы за 50 лет, могу оказаться необъективным, испытывая чужесть из‑за разного понимания путей, как может служить сегодняшняя наша литература сегодняшнему нашему обществу; третьи — несомненно и ярко талантливы, но творчество их сторонне или поверхностно по отношению к главным течениям нашей жизни. Со всеми этими оговорками вот ядро современной русской прозы, как я его вижу: Абрамов, Астафьев, Белов, Быков, Владимов, Войнович[4], Максимов, Можаев, Носов, Окуджава, Солоухин, Тендряков, Трифонов, Шукшин» (Т, 592).
За границей в 1979–м писатель говорил более осторожно: «Русская литература всего больше меня поразила и порадовала именно в эти годы, когда я выслан. И не в свободной эмиграции она имела успех, не в раздольи так называемого са–мо-вы–ра–жения, — а у нас на родине, под мозжащим прессом. И создался этот успех даже именно на главном стержне русской литературы, который в советской критике полупрезрительно называют «деревенской литературой», — а на самом деле это труднейшее направление работы наших классиков. Так вот оно в последние годы имело замечательные результаты, несмотря на все притеснения. Я рад был бы сейчас назвать — 5, нет, 6 имён, вот я берусь их назвать, и книги каждого, даже и по две книги, и разобрать, что в них так удалось, но отсюда — туда я… не имею права это делать, начнут к этим авторам придираться, что, мол, недаром Солженицын их хвалил. Но я думаю: они сами поймут, что речь идёт о них, и читатели тоже разберутся.
Нам бывает трудно оценить уровень современной нам литературы. А вот: такого уровня во внутреннем изображении крестьянства, как крестьянин чувствует окружающую свою землю, природу, свой труд; такой ненадуманной, органической образности, вырастающей из самого народного быта; такого поэтического и щедрого народного языка… — к такому уровню стремились русские классики, но не достигли никогда: ни Тургенев, ни Некрасов, ни даже Толстой. Потому что — они не были крестьянами. Впервые крестьяне пишут о себе сами. И сейчас читатели могут наслаждаться тончайшими страницами у этих авторов.
…Может быть, и эти мои слова услышат молодые авторы, кто в будущем подвижут нашу литературу. Я бы хотел им сказать, что не надо гнаться за поверхностной политической сатирой— это самый низший вид литературы. И дело совсем не в формальных поисках, никакого «авангардизма» не существует, это придумка пустых людей. Надо чувствовать родной язык, родную почву, родную историю — и они с избытком дадут материал. А материал подскажет и форму, взаимодействуя с автором» (X, 359–360). И тут же, пользуясь случаем, писатель поведал ещё грустный анекдот о том, как во время американской книжной выстазки в Москве заокеанские издатели затеяли почтить обедом главных представителей русской литературы. Позвали по принципу‑кто числится в диссидентах, а собственно стержневая словесность не была представлена ни одним человеком.
Есть у Солженицына и более жёсткие суждения о братьях по цеху: «Бродский — очень талантливый поэт, но характерно у него следующее: лексика его замкнута городским интеллигентским употреблением, литературным и интеллигентским. Слой глубокого народного языка в его лексике отсутствует. Это облегчает его перевод на иностранные языки и облегчает ему самому быть как бы поэтом интернациональным. И естественно, что он пользуется на Западе таким большим успехом» (X, 548).
Наконец, находятся оценки и вовсе крутые: «Сказал я Вознесенскому когда‑то: «Нет у вас русской боли». Вот нет — так и нет. Не страдает его сердце ни прошлыми бедами России, ни нынешними… Деревянное сердце, деревянное ухо» (X, 361).
«МОЁ БУДУЩЕЕ тесно связано с судьбой моей страны. Я работаю и всегда работал только для неё. Наша история скрыта, изолгана вся, я пытаюсь восстановить эту историю прежде всего для моей страны, ну в какой‑то мере это будет полезно и для Запада. Моё будущее зависит от того, что будет с моей страной» (X, 264). «А насчёт моего возвращения… Конечно, никто не знает часа своей смерти, и мы не можем рассчитывать даже на год вперёд никогда, ни один человек. Но если мне суждено какое‑то время ещё пожить, у меня — да, вопреки всяким логическим доводам, вопреки тому реальному ужасному положению в Советском Союзе и в мире (1 ноября 1983 г. — П. П.), какое сегодня есть, у меня какая‑то убеждённость, что я ещё вернусь туда, не только книги мои вернутся, а я живым туда вернусь. Почему‑то мне кажется, что я умру у себя ка родине» (ВРХД, 1984, № 142, с. 165). А на вопрос французского журналиста «Есть ли риск, что Ваши три сына — позже, когда станут мужчинами — потеряют стремление и охоту вернуться на русскую землю?» — Солженицын ответил: «Ну есть риск, конечно, — что я буду похоронен в этой земле, хотя мне этого не хочется. Есть риск, что мы все здесь умрём, никогда не увидим Россию. Но мы живём надеждой. Живём надеждой на возврат, и сегодня я ещё твёрдо уверен, что эти мальчики вернутся в Россию охотно, и очень будут России нужны и полезны» (ВРХД, 1984, № 142, с. 168).
Интервью в 1979 году оканчивалось коротким ответом на заданную русским работником ВВС загадку: «И КАКОЙ ЖЕ ВЫ ВИДИТЕ БУДУЩУЮ РОССИЮ?» — «Я вижу её—в вы–здо–ров–лении. Отказаться от всех захватных международных бредней— и начать мирное, долгое, долгое, долгое — выздоровление» (Х.372).
А пятью годами позднее Солженицын нашёл нужным ещё раз повторить один из своих сокровеннейших выводов: «Да, ОСВОБОЖДЕНИЕ РОССИИ НЕ МОЖЕТ ПРИЙТИ НИКАК ИНАЧЕ, КАК ИЗНУТРИ» (ВРХД, 1984, № 142, с. 169)[5]
КРАСНОЕ КОЛЕСО
Повествованье в отмеренных сроках Действие первое. Революция
«В 18 лет я точно помню день и обстоятельства, когда вдруг мною овладел этот замысел. Это пришло буквально вот в какие‑то пять минут. Я знаю точно место и точно время, когда это произошло… Это было 18 ноября 1936 года. Тогда в Советском Союзе не было воскресений, а был свободный день каждое число, которое на шесть делится. Это был свободный от учения день, и стояла погода… такая солнечная, с низким солнцем. Я пошёл один, в каком‑то смутном состоянии, какое‑то тяготение во мне, пошёл по ростовскому Пушкинскому бульвару, и в одном месте этого бульвара, под уже оголёнными ветвями, вдруг как будто меня прямо настигло: надо такой роман написать. Я кончил уже к этому времени советскую школу, это было в первые месяцы студенчества на физмате, и я тогда считал… что главное — октябрьская революция. Но, конечно, нельзя начинать прямо с неё, надо как‑то отступить, начать раньше. Я понимал, что нужно будет описать Семнадцатый год, понимал, что нужно будет описать и Четырнадцатый год, потому что без первой мировой войны нельзя никак объяснить нашу революцию, она бы не произошла. Но тогда я ещё это все понимал как прелюдии, отступление для прелюдий. Вот тогда же я и решил, что мне надо начинать с первой мировой войны, — мне сама война, я думал, не была нужна, а только что‑то из неё показать перед революцией. Ну, я засел за книжки по первой мировой войне. Обратил внимание сразу на самсоновскую катастрофу. Самсоковская катастрофа поразительна во многих отношениях, типична, характерна, как бы репрезентативна для этой войны. Я решил так: описывать всю войну, конечно, не буду, а только одну битву, буду описывать очень подробно. И занялся детальной разработкой самсоновской катастрофы. Поразительное дело, я, конечно, тогда не представлял, изучая карты военные, что мне самому придётся повторить весь путь армии Самсонова. Во время второй войны я точно по этим местам прошёл. Точно в эти места попал» (ВРХД, 1984, № 142, с. 154— 155).
«Вот рок! наши войска шли совершенно мимо, вдруг повернули и пошли точно по следам самсоновской армии, — наша армия. И я попал в те самые места, которые я уже знал по своим учебникам. Ну это на меня подействовало как перст судьбы, значит, действительно, правильно, надо писать! — почему меня Бог привёл в это самое место в эту войну? Прямо в те деревни, в те города, в этот Найденбург горящий…» (X, 490).
«Итак, я начал писать в 1937–м, и так как у меня довольно острое чувство композиции, то надо сказать, что композиционно я многое решил из самсоновской катастрофы уже тогда, то есть как последовательно идут главы и из чего состоят. И хотя текст, фактуру, конечно, я переписал всю заново теперь, но построение глав, почти десятка военных глав, взято прежнее, из 37–го года. Ну а потом, после студенчества, я пошёл на войну, потом в тюрьму, и много десятилетий не мог работать, а мог только думать, расспрашивать, с кем сидел в тюрьме, об этих временах, иногда читать редкие книги, но я не мог вести конспектов в заключении, я сразу бы был схвачен. Так что держал все это в голове. Ну а потом я занялся лагерной темой, и так только в 1969–м пробился к своему главному замыслу» (ВРХД, 1984, № 142, с. 155).
«То есть 33 года я своей этой темой жил, но по–настоящему над ней не работал. И только мог в 69–м отдаться полностью вот этой своей главной работе»(X,513).
«А вот недавно, всего–навсего лет 6–7 назад (считая от 1983 г. — П. П.) я вдруг понял, что мои отступления для прелюдий оказались недостаточными, потому что и с войны ещё нельзя начинать, надо начать раньше, надо начать с истории революционного движения и особенно революционного террора в России. Итак, я должен был в уже написанный «Август» вставить ещё один том, ретроспекцию на террор и то, что произошло задолго до войны. Но когда я это сделал, я обнаружил для себя необыкновенную актуальность «Августа», актуальность для сегодняшнего Запада, а не только для России. Для нашей страны это история, для нашей страны надо это знать, чтобы понять, как у нас все получилось, и о будущем думать, а для Запада в «Августе» есть одна уже прямая актуальность — течение революционного террора. Я, конечно, не мог подробно писать историю террора, я проследил только по «женской линии». Чтобы из большой массы выделить сколько‑нибудь. Но даже по этой женской линии можно увидеть черты совершенно сегодняшнего террора на Западе. А дальше-—это уже относится не к «Августу», а к «Марту Семнадцатого» и позже — удивительно актуально для Запада и дальше. Должен сказать, что этот наш путь, от февральской революции до октябрьской, восемь месяцев, это как бы сжатый конспект, который потом Европа будет прокручивать несколько десятилетий. Каким‑то образом нам было послано вот так, в восемь месяцев это сжать (тут явственно проглядывает исток солженицынского метода «временного сжатия» произведений. — П. П.). Вообще, конечно, история Запада тоже сломалась в Четырнадцатом году. Я испытываю к первой мировой войне чувство современника. Вот такая судьба: я воевал на этой войне, на второй мировой, но из‑за моей работы я больше обращён к первой мировой войне. И я невольно, изучая материалы, почувствовал и всю Европу в то время, почувствовал, как Европа погубила сама себя — войною, вступивши в войну… Весь XIX век, считая его — есть такой счёт XIX века: от Французской революции до первой мировой войны, — весь XIX век Европа шла к этому… утерей высших мерок жизни и, так сказать, отдаваясь благам и материальному процветанию. Да, она подготавливала весь XIX век эту войну. А так как всегда внутреннее развитие опережает внешнее, то в начале XX века Европа, будучи на вершине материального могущества и процветания, уже катилась в бездну, которая её ждала, внутренне. И внутренне все руководители Европы в Четырнадцатом году оказались не на уровне своём, все не понимали того, что за эпоха наступила и как надо себя вести. Мне безумно жалко Европу, что она влезла в этот Четырнадцатый год. Хотя у нас это сразу сказалось революцией, моментально. А Европа с тех пор все время медленно сползает, вот уже семьдесят лет… И внешний технический прогресс ничего не изменяет в этом отношении» (ВРХД, 1984, № 142, с. 155–156).
На вопрос: «Как объяснить весь ход «Красного Колеса»? Каковы прошлое и будущее Вашей эпопеи?» — Солженицын ответил: «Это развёрнутое повествование о революции в России, которое захватывает сотни действительных исторических лиц, от высокопоставленных, на виду у истории, до совершенно никому не известных, но давших мне свидетельские показания. Оно захватывает десятки мест в России, захватывает многие годы» (ВРХД, 1984, № 142, с. 153).
«Всегда было моей задачей — вертикаль дать всю, по возможности дать всю вертикаль, как только можно. Без участия масс и низов нет истории, нет исторического повествования» (X, 530). Данное обещание писатель сдержал: в напечатанных к концу 1988 года восьми томах на почти пяти тысячах страниц действует более двухсот героев.
«Такую грандиозную вещь невозможно написать «в лоб» — это был бы бесчисленный ряд томов. Уже давно, лет пятнадцать назад, я пришёл к выводу, что надо писать эту эпопею методом узлов. В математике есть такое понятие узловых точек: для того чтобы вычерчивать кривую, не надо обязательно все точки её находить, надо найти только особые точки изломов, поворотов и повторов, где кривая сама себя снова пересекает, — вот это и есть узловые точки. И когда эти точки поставлены, то вид кривой уже ясен. И вот я сосредоточился на узлах, на коротких промежутках, никогда не больше трёх недель, иногда — две недели, десять дней. Вот «Август», примерно, — это одиннадцать дней всего. А в промежутке между узлами я ничего не даю. Я получаю только точки, которые в восприятии читателя соединятся потом в кривую. «Август Четырнадцатого» — как раз такая первая точка, первый узел» — «А последний? До какого года доходит эта эпопея?» — «Должна бы она дойти до 1922 года, когда все последствия революции уже закованы в железные колеи, когда социальная динамика кончилась и начинается уже качение по этим жестоким рельсам. Но боюсь, что мне жизни не хватит довести до конца.
…Вот я работаю четырнадцать лет (к 1983 г. —П. П.). И годы идут. Мне уже нужно было бы быть в середине пути хотя бы, а я ещё далеко не дошёл. Поэтому я думаю, что эпопею всю не окончу, но по крайней мере хочу как можно дальше продвинуться, чтобы выяснить ход… То, что я сейчас реально уже кончил, это так называемое «Действие первое. Революция». В него входит три узла: «Август Четырнадцатого», «Ок–ябрь Шестнадцатого» и «Март Семнадцатого»… Это я почти кончил. Вот здесь вокруг нас разложены заготовки «Апреля». Это четвёртый узел. Надо сказать, что Семнадцатый год в России необыкновенно динамичен, каждый месяц — это новая эпоха, буквально, даже от марта к апрелю вся ситуация меняется. И так приходится только в промежутке между Февралём и Октябрём дать четыре узла. Собственно — все то, что победило в Февральской революции, прожило восемь месяцев и само упало, и уже отозрело, кончило свою жизнь» (ВРХД, 1984, № 142, с. 153–154).
«Колесо» написано с применением множества необычных повествовательных приёмов; расскажем о них собственными словами автора, опять‑таки позволив себе лишь выделить прописными названия каждого в отдельности:
«Сейчас у меня самые превосходные условия для работы. Практически у меня есть 98% тех материалов, которые мне нужны. А 2% я получаю через библиотеки. В течение многих лет я собирал свидетельства стариков. У меня более трехсот личных показаний людей, которые теперь большей частью умерли. Я успел их собрать, частично в Советском Союзе, а больше всего за границей, это уникальная библиотека. Затем у меня много книг, вот эти вот растрёпанные книги, я даже их не успел начать искать, мне стали эмигранты присылать со всех сторон. И когда я огляделся — так у меня почти все есть. Потом я имею из американских библиотек, из Гувера, набор газет того времени. О русских газетах 17–го года можно отдельно поговорить, так это интересно. Затем у меня много документов, напечатанных в Советском Союзе, касающихся Февраля. Начиная с Октября они уже скрывались, не печатались или искажались, а до Октября — очень обильны, и у меня все это есть. Моя работа упирается лишь в то, сколько мне времени отпущено.
Газеты Семнадцатого года—необычайно интересны. У меня до 15 разных газет, и ни одна не повторяет другую. Это был момент такого взрыва, когда все говорили и писали. Эти газеты живут. И вот: как эту жизнь выловить? Можно: брать из газет фрагменты самих событий. Можно: разрабатывать настроение и мысли, которые там поданы как публицистика, а я даю своим персонажам, иногда тому самоАлу, который пишет статью, я могу перевести газетную статью в диалог, в разговор. Но иногда бывает неповторимо привести цитату из газеты так, как она есть. И из этого у меня рождаются ГАЗЕТНЫЕ МОНТАЖИ. Первую идею газетных монтажей я получил от Дос Пассоса, на Лубянке, в тюрьме, я впервые читал его книгу там. Мне очень понравилась эта идея. Но Дос Пассос и я используем её прямо противоположно. Дос Пассос берет набор бессмысленной газетной болтовни как не имеющей отношения к жизни, а я использую газетный текст как реальные кирпичи, из которых завтра… сегодня и завтра растут события. Ибо газеты Семнадцатого года были сигналом к действию, особенно у социалистического крыла… Поэтому мой монтаж имеет совсем другой смысл: сгущённого действия и предупреждения.
Документы приходится использовать двояко. У меня, среди других, есть форма ПРЯМОГО ДОКУМЕНТА, но её надо применять очень осторожно. Нельзя давать документ длиннее нескольких фраз, и нельзя давать много документов, — потому что большая часть их написана языком не плотным, избыточным, не ярким, с повторениями, это засушит читателя. Но когда я эти документы прорабатываю для себя, я восстанавливаю психологический рельеф человека, который его писал, и рельеф события. Например, по февральской резолюции — гора документов. Я их использую в «Марте» в повествовательных главах, описывая, как этот документ рождался, я не выхожу за пределы документа, но даю психологическое обоснование: что могло толкнуть человека к такому решению, к таким фразам. И потом, с другой стороны: когда этот документ, телеграмма или письмо куда‑то пришли — как они воспринимаются адресатом? что там будят?
Потом у меня есть форма ОБЗОРНЫХ ГЛАВ. Хотя я и в обычных повествовательных главах стараюсь не удаляться от действительности, даже большая часть их — это совершенно точные события, но все‑таки это главы, где я даю больше личного от персонажей. А некоторые периоды или некоторые линии надо проследить с большей исторической высоты, и тогда я пишу петитом обзорную главу. В первом томе «Августа» такие главы довольно простенькие, это маленькие обзоры военных действий, чтоб человек не потерялся. Но уже во втором томе приходится дать всю жизнь и деятельность Столыпина обзорной главой. В следующих томах мне приходится таким петитом давать историю некоторых партий и некоторые события, но тем самым я их, собственно говоря, не навязываю читателю. Я их выделяю так, чтобы более нетерпеливый читатель мог через них перескочить.
В работе над «Красным Колесом» я столкнулся с очень важным вопросом: какова должна быть пропорция исторических личностей, конкретно существовавших, не обязательно на вершинах, — и тех, что придуманы мною. Я бы считал пустой забавой дать большую пропорцию придуманных персонажей, как будто я с историческими событиями бы играл и нарочно подставлял туда персонажа, чтобы он там наблюдал. Нет, я главное внимание уделяю персонажам реально существовавшим, и я занят только истолкованием их психологии и поступков. Но тогда возникает обратный вопрос: может быть, вообще выбросить вымышленных персонажей? — нет, нет, художественное произведение нуждается в них. Они — как бы смазка или соединительная ткань, и они дают маленькие оазисы совсем простой жизни, совсем простого воздуха, как‑то даже забыть об истории. Вот, например, в «Марте Семнадцатого», в февральской революции, я бы грубо определил, что сочинённые персонажи сведены до минимума… А вот, скажем, перед этим будет «Октябрь Шестнадцатого», который не содержит такого напряжения исторических событий, там вымышленных персонажей гораздо больше, больше личного.
От темпа исторических событий зависит, например, длина глав. В «Августе» у меня довольно длинные главы, и даже есть очень длинные, как о царе Николае Втором. В «Октябре» они ещё тоже длинные, потому что медленные события. В «Марте» начинается такая динамика, я стараюсь успеть за событиями… Изобразить революцию — это, между прочим, совершенно особая задача для литературы. Это не то, что изобразить войну или отдельные политические события. Революция имеет такой бешеный темп, столько сотен участников! Мне приходится главы стягивать до крошечного объёма, но делать их много. Главы следуют с бешеной быстротой друг за другом, все в хронологической последовательности, не только дни за днями, а часы за часами, минуты за минутами. Я слежу, стараюсь давать главу так, чтобы если событие на пятнадцать минут раньше, так и её дать раньше. Совершенно строго этого выдержать нельзя, потому что когда главы короткие и много их, тогда сильно работает стык, очень важно, что после чего идёт, что с чем рядом стоит. Это срабатывает. Я ничего не добавляю от себя, ничего не говорю при переходе от главы к главе. Но стык глав работает… Или контраст, или продолжение.
Но и этого недостаточно. Динамизация требует не только маленьких глав, а время от времени вводить ЧИСТО ФРАГМЕНТНЫЕ ГЛАВЫ. Это так: вся глава состоит из коротких фрагментов. Это — фрагменты реальных событий, никакой отдельно не составил бы главы, но вместе они дают мелькание, и тоже у них свои сокосновения, они усиливают динамику ещё.
Иногда нужно применить КИНОЭКРАН для ещё большей «динамизации» (ВРХД, 1984, № 142, с. 160–162). «Человек утомляется, читая долго, непрерывно изложение от автора. А некоторые места сами… настолько зрительно я их вижу, очень ясно вижу в деталях, что просто показываю их, как на киноэкране. У того же Дос Пассоса называется «киноглаз», но там никакого кино нет. Дайте кинооператору, и он не может снять по этому сценарию, по «киноглазу»… ничего снять нельзя, это лирические отступления. А мои сценарные главы, экранные, так сделаны, что просто можно или снимать или видеть, без экрана. Это самое настоящее кино, но написанное на бумаге. Я его применяю в тех местах, где уж очень ярко и не хочется обременять лишними деталями, если начнёшь писать это простой прозой, будет нужно собрать и передать автору больше информации ненужной, а вот если картинку показать — все передаёт! Я себе на будущее представляю, что, скажем, была у нас такая полоса: солдаты бросали фронт и ехали на забитых поездах, на крышах. Маленький экран дать, только вот как ногами они друг по другу лезут на крышу, как они туда взбираются и как на крыше сидят. Это передаёт гораздо больше.., чем это описывать прозой» (X, 492).
«Этот приём у меня есть в «Августе», но он бывает ещё нужнее в момент революционный. Массовая сцена, матросы убивают адмирала или солдаты штурмуют гостиницу — это написано так, чтобы можно было увидеть, как на экране, читая книгу, без съёмки» (ВРХД, 1984, № 142, с. 162).
Приведём один пример такого экрана, к тому же раскрывающего символический смысл названия эпопеи. При чтении его нужно учитывать, что согласно авторской воле знак = «означает монтажный стык, то есть внезапную полную смену кадра» (VIII, 520). Итак, видение горящей мельницы из «Августа Четырнадцатого», вырастающее как бы до размеров скорбного пророчества о судьбах, ожидающих Россию:
«Огонь так работает: сперва съедает тесовую обшивку, а каркас держится дольше, каркас все светлей, все золотистей — а держится! ещё скрепы есть!
Огненны все ребра — и основания, и крыльев!
= И почему‑то крылья — от струй ли горячего воздуха? — ещё не развалясь, начинают медленно, медленно, медленно кружиться! Без ветра, что за чудо?
Странным обращением движутся красно–золотистые радиусы из одних рёбер, — как катится по воздуху огненное колесо.
И — разваливается, разваливается на куски, на огненные обломки» (XI, 264).
Несколько ранее тот же образ является во внутреннем монологе Ленина, размышляющего на Краковском вокзале о смысле начавшейся войны: «…момент пришёл! Крутится тяжёлое разгонистое колесо — как красное колесо паровоза, — и надо не потерять его могучего кручения… какими ремнями от этого колеса, от своего крутящегося сердца, их всех завертеть, но — не как увлекает их сейчас, а — в обратную сторону?» (XI, 228).
Далее образ из повествовательной главы опять возвращается в «экранную», чтобы стать предсказанием в ещё более глубокой исторической перспективе. Он возникает во время панического ночного бегства русского войска:
«И лазаретная линейка — во весь дух!
и вдруг — колесо от неё отскочило! отскочило на ходу — и само! обгоняя! покатило вперёд! колесо!! все больше почему‑то делается,
Оно все больше!!
Оно во весь экран!!!
КОЛЕСО! —катится, озарённое пожаром!
самостийное!
неудержимое!
все давящее!
Безумная, надрывная ружейная пальба! пулемётная!! пушечные выстрелы!!
Катится колесо, окрашенное пожаром!
Радостным пожаром!!
Багряное колесо!!
= И — лица маленьких испуганных людей: почему оно катится само? почему такое большое?
= Нет, уже нет. Оно уменьшается.
Вот, оно уменьшается.
Это — нормальное колесо от лазаретной линейки, и вот оно уже на издохе. Свалилось» (XI, 322).
«…Ну и потом ещё есть несколько других жанров в узлах… есть ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ПОСЛОВИЦЫ. Я не имею в виду те, которые употребляют персонажи, а: отдельно стоящая пословица между главами. Обычно так можно понять: какой‑то дед как бы слушает мой рассказ и вдруг даёт реплику. Он предыдущую главу как‑то комментирует, под каким‑то новым углом, что даёт ещё новый объём восприятия.
И, наконец, между узлами.., я сказал, что между узлами ничего нет, но это пока не началась революция. А вот уже после «Марта» между узлами вставляется КАЛЕНДАРЬ РЕВОЛЮЦИИ. Это, может быть, одна страничка между узлами, где перечислен десяток событий. Я выбираю из множества событий того времени те, которые мне кажутся наиболее знаменательными, и огромное историческое событие, всем известное, может стоять рядом с маленьким, ничтожным, которого никто не знает. Но когда они выстраиваются в ряд, они дают тонкую соединительную веточку–ниточку между двумя узлами» (ВРХД, 1984, № 142, с. 163).
XI‑XII. УЗЕЛ I. АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО
(10–21 августа ст. ст.)
Первые главы «Августа», в том числе описание приезда полковника из Ставки в штаб Самсонова, были написаны ещё в 1937 году в Ростове–на–Дону. «В той первой стадии работы много глав отводилось Саше Ленартовичу (мобилизованный интеллигент, уходящий затем в революцию. — П. П.), но эти главы с годами отпали. Были также главы об экономии Щербаков (дед автора по матери), где уже тогда задевался вопрос о деятельности Столыпина и значении убийства его. Затем в работе над романом наступил перерыв до 1963 года (все заготовки сохранились через годы войны и тюрьмы), когда автор снова стал усиленно собирать материалы. В 1965 году определяется название «Красное Колесо», с 1967 года — принцип узлов… С марта 1969 года начинается непрерывная работа над «Красным Колесом»; сперва главы поздних узлов (1919–1920 годы, особенно тамбовские и ленинские главы)» (XII, 545).
Оконченная в полтора года (к октябрю 1970) первая редакция была впервые опубликована в 1971 году в Париже и затем переведена на основные мировые языки. Однако тем, кто именно её принимает за подлинный «Август», следует учитывать, что она представляет собою чуть более половины окончательного текста. «После высылки писателя в изгнание он углубил написанные ещё в СССР ленинские главы, в том числе и 22–ю из «Августа», намеренно не опубликованную при первом издании… Весной 1976 года писатель собрал в Гуверовском институте в Калифорнии обширные материалы об истории убийства Столыпина. Летом — осенью 1976 года в Вермонте были написаны все относящиеся к этому циклу главы (ныне 8–я и 60–73). В начале 1977 года написана глава «Этюд о монархе» (ныне 74–я…) — после чего узел первый окончательно стал двухтомным». Последняя его редакция «сделана уже в процессе набора, в 1981 году в Вермонте. Все заметные исторические лица, все крупные военачальники, упоминаемые революционеры, как и весь материал обзорных и царских глав, вся история убийства Столыпина Богровым, все детали военных действий, до судьбы каждого полка и многих батальонов, — подлинные. Отец автора выведен почти под собственным именем Исаакий Лаженицын. — П. П.), и семья матери доподлинно» (XII, 545–546).
Начало эпопеи, приходящееся на первые дни ещё «нераскачавшейся» войны, протяженно–медленное — сделано это, по позднейшему признанию автора, намеренно, ибо никогда уже более в XX столетии не досталось России такого покоя. Любопытен метод создания, а точнее воссоздания, применённый в этом первом в солженицынском творчестве произведении, время действия и события которого не имеют с авторской судьбой прямого пересечения. «Когда я начал над «Августом» работать, после всего, что я писал о лагерях, о современной советской жизни, о «раковом корпусе», об Архипелаге[6], — что увидеть гораздо легче, боевой опыт помог. А тут, действительно[7], разглядеть очень тяжело) робость брала много раз. Вот такое впечатление — как будто бы темно, и ты всматриваешься, вот всматриваешься… всматриваешься… вдруг рука становится видна, плечо, голова, — так постепенно–постепенно проступает что‑то из тумана. Большое напряжение зрения художественного, вначале очень тяжело, просто руки опускаются, ну невозможно, кажется, взять эту задачу. А потом постепенно как‑то привык и стало легче, легче, легче, — и я их увидел! Да в общем, в русской эмигрантской печати много обсуждался мой «Август», и в основном военные люди, которые должны верней всего судить, — потому что большинство глав военные, — говорят: «схвачено верно, было так». Но задача, конечно, очень трудная, и она будет все время трудна. Когда пишется исторический роман через 50 лет спокойной жизни (как, например, «Война и мир» писался), то многое–многое в быту осталось — людские обычаи, представления, среда… Но когда пишется роман через 50 лет советской жизни, когда сотряслось все, перевернулась Россия, новая вселенная создалась, как в Советском Союзе, — очень тяжело. Ну не так трудно, как о Карфагене, но, в общем, это задача очень тяжёлая» (X, 491).
В зачинных главах эпопеи Саня Лаженицын, студент, прежде бывший толстовцем и даже ездивший на поклон в Ясную Поляну, где имел беседу с гуляющим «великим старцем» (подлинное происшествие из жизни отца писателя), принимает необычное для тогдашней левонастроенной молодёжи решение идти добровольцем на фронт. Прощаясь с Москвою, он вдвоём с приятелем встречает на улице знакомого книгочея из Румянцевской библиотеки Варсонофьева, которого зовёт про себя Звездочётом, — и между ними происходит историософическая беседа, во многом задающая тон всей книге. Саня признается, что от толстовства оттолкнула его… телега: «Это, знаете, какой‑то грамотный крестьянин послал Толстому письмо. Что, мол, государство наше — перекувырнутая телега, а такую телегу очень трудно, неудобно тянуть, так — доколе рабочему народу её тянуть? не пора ли её на колеса поставить? И Толстой отве–тил: на колеса поставите — и сразу в неё переворачиватели же и налезут, и заставят себя везти, и легче вам не станет. Ну, что ж тогда делать?.. А вот, мол, что: бросайте вы к шутам эту телегу, не заботьтесь о ней вовсе! А — распрягайтесь и идите каждый сам по себе, свободно. И будет всем легко… — И вот этого толстовского совета я, как тоже крестьянин, принять решительно не могу. В хозяйстве моего отца самую последнюю телегу я б ни за что так не бросил, непременно б её на колеса поставил. И вытянул бы хоть без волов, без лошадей, на себе… А если телега эта означает русское государство — как же такую телегу можно бросить перепрокинутой? Получается: спасай каждый сам себя? Уйти — легче всего. Гораздо трудней— поставить на колеса. И покатить. И сброду пришатному — не дать налезть в кузов. Толстовское решение—не ответственно. И даже, боюсь, по–моему… не честно» (XI, 403).
Вместо этого Саня приходит к неопределённому «народничеству», полагая, что, жертвуя собой «для народа», можно верней всего и свою душу спасти. — «А вдруг эта жертва — не та? — пытает его Звездочёт. — А скажите — у народа обязанности есть? Или только одни права? Сидит и ждёт, пока мы ему подадим счастье, потом вечные интересы? А что если он сам‑то не готов? Тогда ни сытость, ни просвещение, ни смена учреждений— не помогут?..
— Не готов — в отношении чего же? Нравственной высоты? Но тогда — кто ж?..
— А вот — кто ж?.. Это, может, до монголов было — нравственная высота, а мы как зачли, так и храним. А как стали народ чёртовой мешалкой мешать — хоть с Грозного считайте, хоть с Петра, хоть с Пугачёва — но до наших кабатчиков непременно, и Пятый год не упустите, — так что теперь на лике его незримом? что там в сокрытом сердце? Вот кельнер наш — довольно неприятная физиономия. А над нами — «Унион», кино, этот антихрист искусства, там тапёр играет в темноте — а что у него в душе? какая ещё харя высунется из этого «Униона»? И почему же надо все время для них жертвовать собой?
— Тапёр и кельнер… это не строго народ.
— А где же?.. До каких же пор непременно обязательно один мужик? Уж миллионы из него утекли — и где ж они?.. И нельзя ж интеллигенцию отдельно от народа считать.
— И интеллигенцию определить!
— И этого тоже никто не умеет. Например, духовные лица у нас никак не интеллигенция, да?.. И всякий, кто имеет ретроградные взгляды, — тоже у нас не интеллигент, хоть будь он первый философ. Но уж студенты — непременно интеллигенты, даже двоечники, второгодники и по шпаргалкам кто…»
И Варсонофьев даёт молодёжи совет: «Вот почему, молясь на народ и для блага народа всем жертвуя, ах, не затопчите собственную душу: а вдруг из вас кому‑то и суждено что‑то расслышать в сокровенном порядке мира?» Дальше он заводит речь о смысле истории: «История растёт как дерево живое. И разум для неё топор, разумом вы её не вырастите. Или, если хотите, история — река, у неё свои законы течений, поворотов, завихрений. Но приходят умники и говорят, что она — загнивающий пруд и надо перепустить её в другую, лучшую яму, только правильно выбрать место, где канаву прокопать. Но реку, но струю прервать нельзя, её только на вершок разорви — уже нет струи. А нам предлагают рвать её на тысячу саженей. Связь поколений, учреждений, традиций, обычаев — это и есть связь струи…
— А где же законы струи искать?
— Законы лучшего человеческого строя могут лежать только в порядке мировых вещей. В замысле мироздания. И в назначении человека… Слово «строй» имеет применение ещё лучшее и первое — строй души. И для человека нет нич–чего дороже строя его души, даже благо через–будущих поколений…
— А на войну идти — правильно?..
— Должен сказать, что — да!.. Доказать не могу. Но чувствую. Когда трубит труба — мужчина должен быть мужчиной. Хотя бы — для самого себя. Это тоже неисповедимо. Зачем‑то надо, чтобы России не перешибли хребет. И для этого молодые люди должны идти на войну» (гл. 42).
Две основные темы собственно «Августа» — катастрофа в Восточной Пруссии и судьба Столыпина. Военные главы являют собою как бы продолжение толстовской традиции, только отображают они далеко от времён девятнадцатого столетия ушедшую «предельную» действительность века двадцатого. Например, вот такая жуткая параллель сцене купания «пушечного мяса» в «Войне и мире» — измученные переходом русские войска входят в оставленный противником, но не мирными жителями немецкий городок, и тут парикмахеры врага «запросто принимаются их брить и стричь, принимая в оплату царские деньги по курсу». Давно ли ловили цивильных сигнальщиков, военизированных велосипедистов, — а вот немецкая бритва мягко ходила по шее русского офицера. И кончилось двоение, как поворотом бинокленного винта приходя в свой правильный объём и вид: воюют мундиры, но было бы за пределом человечности воевать всем против всех. На большом доме была вывешена простыня с надписью по–русски: «Дом умалишённых. Просят не входить и не беспокоить больных», — не входили и не беспокоили. Немецкий военный санитар в форме отдавал честь русским офицерам. А заметив в проходящем офицере знание немецкого языка, останавливали его женщины и спорили: «На что вы надеетесь? Разве можете вы победить культурный народ?» Но приглашали выпить кофе с бутербродами» (X!, 286). Подобный же проблеск нравственной истины среди военного безумия — ставшая уже почти классической сцена встречи по воле случая русского полковника Воротынцева и немецкого генерала Франсуа, которые, любезно побеседовав, не нашли возможным стрелять друг другу ни в спину, ни в лицо (гл. 37).
Русская армия показана во всех своих ипостасях. Среди её генералов деятельный Нечволодов, совмещавший военную службу с работой историка, оказывается, к сожалению, скорее исключением; а вот бездеятельный Благовещенский, «проверяющий» на себе толстовскую теорию о том, что война идёт сама собой, — куда более часто попадающийся образ. Есть офицеры кадровые, прирождённые вояки — и сомневающиеся в «оправданности» защиты родины призванные студенты. Ближе всего крестьянскому сердцу Солженицына солдаты, и среди них замечательно выписан случайный ординарец Воротынцева Арсений Благодарев, которому, судя по всему, суждено пройти до конца эпопеи: в «Октябре» есть главы о его поездке домой в тамбовскую деревню и общении с будущими руководителями «антоновского» восстания 1921 года.
Вершина трагедии — поражение армии генерала Самсонова и его самоубийство; в том искренне потерявшемся русском человеке Солженицын неожиданно увидал подобие «генерала от литературы» своего времени. Вспоминая уход главного редактора из «Нового мира», он записывает: «Мне рассказали об этой сцене в тех днях, когда я готовился описывать прощание Самсонова с войсками — и сходство этих сцен, а сразу и сильное сходство характеров открылось мне! —тот же психологический и национальный тип, те же внутреннее величие, крупность, чистота — и практическая беспомощность, и непоспеванье за веком. Ещё и — аристократичность, естественная в Самсонове, противоречивая в Твардовском. Стал я себе объяснять Самсонова через Твардовского и наоборот — и лучше понял каждого из них» (Т, 303).
Главы о Столыпине имеют подзаголовок «Из узлов предыдущих», которые тут же и перечислены в виде лесенки, опускающейся из верхнего левого угла страницы в правый нижний, как бы отступая в даль времени: «Сентябрь 1911, Июнь 1907, Июль 1906, Октябрь 1905, Январь 1905, Осень 1904, Лето 1903, 1901, 1899». История государственной деятельности знаменитого председателя правительства переплетена здесь с дотошнейшим образом восстановленной и несмотря на обилие фактов запоем читающейся хроникой его убийства, впервые по подлинным документам изложенной писателем. Показывая метания сына киевского адвоката М. Богрова, осуществившего этот «теракт», Солженицын описывает и его пребывание среди революционеров, и работу одновременно тайным осведомителем охранки; эта двуликость проявилась и в резкой перемене дававшихся им на следствии показаний, так что сам автор не удерживается от восклицания: «Достоевский много душевных пропастей излазил, много фантазий выклубил, — а не все» (XII, 320).
В итоге своего расследования писатель приходит к выводу, что Богров не был участником заговора и действовал он единолично во имя своей идеи, которую мыслил примерно так: «Столыпин ничего не сделал прямо против евреев и даже провёл некоторые помягчения, но все это — не от сердца. Врага евреев надо уметь рассмотреть глубже, чем на поверхности. Он слишком назойливо, открыто, вызывающе выставляет русские национальные интересы, русское представительство в Думе, русское государство. Он строит не всеобще–свободную страну, но — национальную монархию. Так еврейское будущее в России зависит не от дружественной воли, столыпинское развитие не обещает расцвета евреям» (XII, 126).
Это соображение и подвигнуло Богрова на убийство; он сам признался — подлинный факт — перед казнью допущенному к нему раввину: «Передайте евреям, что я не желал причинить им зла. Наоборот, я боролся за благо и счастье еврейского народа». И это было — единственное несмененное изо всех его показаний» (XII, 320).
Последствия ранней гибели премьера кратко определены словами: «Всего два года прошло от смерти Столыпина, — почти вся российская публичность и печатность открыто насмехалась над его памятью и его нелепой затеей русского национального строительства. Выстрел Богрова оказался — бронебойный и навылет» (XII, 344).
Искреннее сочувствие столыпинскому делу, на наш взгляд, исказило обычно выверенную объективность писателя–историка в первой главе о Николае II (74–й, названной при первой отдельной публикации в «Вестнике РХД» № 124, 1978 — «Этюд о монархе»), Обстоятельное изложение и спокойная оценка расхождений, которые имел Столыпин не только с «левыми», но и с царём — сам признавая в конце жизни и собственную долю ошибок, — даны в 15–й главе замечательной, но, к сожалению, ещё малоизвестной исторической монографии С. С. Ольденбурга «Царствование императора Николая II» (Мюнхен, 1949 переизд.: Вашингтон, 1981).
«Царские» главы, в особенности начальные, у многих читателей «Красного Колеса» вызвали огорчение и несогласие. Пользуясь своим методом «вживания изнутри» в героя, писатель как бы не сделал различия и для лица, которое испокон века почиталось народным сознанием как воплощение души и воли нации. Если душа замутилась, а воля поражена — то это не вина, а беда олицетворяющего верховную власть человека. И единственное, что для него тогда остаётся, — это жертвенная гибель, которую он в конце концов и избрал сознательно, отказавшись за себя и семью покинуть Родину. С какой бы точки зрения ни смотреть на трагедию царской семьи — событие это все‑таки остаётся трагедией, далеко для соотечественников не безразличной. И глядя в её свете на 74–ю главу «Августа», нельзя не признать — вслед за автором, кстати, — что это не лишённое лихости и лёгкости творение есть действительно лишь «этюд».
Последний русский царь был человек чрезвычайно воспитанный, в чем ему не могли отказать даже такие заклятые враги, как С. Ю. Витте. Между тем писатель не избег соблазна иронически преподнести домашний дневник и переписку царя, чтобы читатель удивился, как тот в самые крайние государственные мгновения находит время для описания скромных семейных событий. Но крайне щепетильный к своему долгу Николай II никогда бы и не позволил себе поверять бумаге важные вопросы и тем более тайны управления. Ещё более горько читать в «Октябре» главы об Александре Федоровне, как‑никак в отличие от всех ненавидевших её «либеральных деятелей» положившей на алтарь своего второго отечества себя самое и пятерых любимых детей.
Однако здесь поправку вносит сам «материал повествования», что особенно заметно уже в «Марте Семнадцатого». На фоне преступно–праздной болтовни быстро лопающихся «освободительных вождей» стояние не за себя, а за страну царя превращает и ревниво–взыскательное отношение писателя к одному из своих главных героев в отношение уже ревниво–сочувственное. Тут чрезвычайно показательны главы, где с двух сторон увиден акт отречения Николая II, вырванный у него приехавшими из Петербурга Гучковым и Шульгиным при помощи заговорщика — командующего Западным фронтом генерала Рузского.
После долгой внутренней борьбы царь вручает им вместо составленного чужим умом текста свой собственный манифест об отречении; а перед тем Гучков, глядя на его спокойное лицо, глумливо–снисходительно советовал своему государю помолиться.
Затем Гучков присутствует на скромной пирушке у Рузского по поводу вырванной «победы» — и негодует в беседе с соратниками: «Одно, чем Александр Иванович не мог не поделиться, что уж слишком было въявь: «Но какой деревянный человек, господа! Такой акт! такой шаг! — видели вы в нем серьёзное волнение? Мне кажется, он даже не сознавал. Какое‑то роковое скольжение по поверхности всю жизнь. Отчего и все наши беды».
А оставленный всеми монарх, теперь уже бывший, один размышляет под иконой Спасителя, что «пошёл на все отказы, только не внести бы рознь в страну. Лишь спасена была бы Россия…» И, вспомнив поведение Гучкова, думает: «А ведь — подлый человек. Сегодня — ждал признаков унижения царя и хотел ими насладиться. И как дёрнул его наставнический снисходительный тон: помолитесь! От человека, который сам забыл, как молиться. А ещё — старообрядец… А император, все годы, сколько случаев имел ему отомстить — ведь не мстил же». И заносит в тот самый дневник, над которым долгие годы было принято трунить, вещее: «Кругом измена и трусость… и обман!» (XVI, 741–749).
…Сам же «Август» оканчивается заседанием в Ставке, где верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич отказывается согласиться с чрезвычайно резкой оценкой причин самсоновской катастрофы, данной лично Воротынцевым, и в итоге даже выставляет его вон — чтобы лучше восхититься приятным известием о взятии Львова. Последние же слова книги— произносимая «народным дедом» пословица: «НЕ НАМИ НЕПРАВДА СТАЛАСЬ, НЕ НАМИ И КОНЧИТСЯ».
XIII‑XIV. УЗЕЛ II. ОКТЯБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО (14 октября — 4 ноября)
«Временной отрезок «Октября Шестнадцатого», от середины октября до 4 ноября, беден историческими событиями (волнения на Выборгской стороне 17 октября, заседания Государственной думы с 1 ноября с известной речью Милюкова («Глупость или измена?», голословно обвинявшей правительство в сепаратных переговорах с Германией. — П. 77.), ещё несколько эпизодов). Но он избран автором в качестве последнего перед революцией узла, как сгусток тяжёлой и малоподвижной атмосферы тех месяцев. Автор долго колебался, строить ли между «Августом Четырнадцатого» и «Октябрём Шестнадцатого» ещё один, промежуточный по войне, узел «Август Пятнадцатого», богатый событиями. От этого замысла он отказался, остатки же вошли в нынешний второй узел: обзорной по 1915 году главой 19' и другими ретроспективами двух лет войны, которые все теперь нашли место в «Октябре Шестнадцатого», как и ретроспективы всего кадетского движения (глава 7')». Узел начат в 1971 году, причём архивная работа по нему была необычайно тщательной: достаточно сказать, что Гренадерская бригада описана по сохранившейся в Центральном государственном военно–историческом архиве боевой и административной документации, полевым книжкам офицеров, приказам, спискам личного и даже конного состава; материалы по Каменской волости Тамбовского уезда и другим местам Тамбовской губернии собраны в тайных поездках туда 1965 и 1972 годов летом, и т. п. В 1975 году в Цюрихе перепроверены и расширены ленинские главы. Впоследствии велись доработка и уточнения, написаны три главы (64, 69 и 72) о царской семье. Узел получил окончательный вид при наборе в 1982–1983 годах (XIV, 589).
Он снабжён особым «Замечанием», в частности сообщающим: «Близкая история нашей страны так неизвестна или так искажённо учена, что ради молодых моих соотечественников я вынужден был во втором узле превзойти ожидаемую для литературного произведения долю исторического материала. Но передавая подлинные стенограммы заседаний, речи, письма, я решался обременить свою книгу и читателя тем многословием, даже пустословием, повторами, побочностями, рыхлостями, невыразительностями, которыми многие из тех речей изобилуют. Поэтому я разрешил себе выиграть действенность через сжатие всего текста, иногда и отдельных фраз, — без малейшего, однако, искажения их смысла. Все цитаты истинны, но не все дословны, концентрация действия есть требование искусства.
…Почти все исторические лица я вывожу под их собственными именами и со всеми точными подробностями их биографий. Это относится и к малоизвестным, но реальным лицам того времени — как легендарный возглавитель самоуправления восставших тамбовских крестьян Г. Н. Плужников…
Для фрагментарной главы «Из записных книжек Федора Ковынева» использованы спрессованные отрывки из опубликованных рассказов Ф. Крюкова и личный архив — его неопубликованные письма, дневники и письма к нему его бывшей орловской гимназистки Зинаиды Румницкой…
Но есть три лица — писатель Федор Дмитриевич Крюков (которого Солженицын вслед за своим знакомым, ныне покойным советским литературоведом, взявшим себе псевдоним «Д» в книге «Стремя Тихого Дона», считает наиболее вероятным автором протографа этого романа. — П. П.), инженер Пётр Акимович Пальчинский, генерал Александр Андреевич Свечин (первый погиб в гражданскую войну, последние два расстреляны…), при описании которых я нуждался в большей свободе угадываемых, предполагаемых личных деталей, некотором их (небольшом) перемещении, либо собранный материал не давал достаточно данных на последующие узлы, — и чтоб открыть себе нужный простор, я изменил двум из них фамилии, а последнему имя. Тем не менее большинство подробностей с ними исторично» (XIV, 587–588).
Наиболее захватывающи в «Октябре», как это ни странно, не «сочинённые», а обзорные главы, для отличия которых от прочих после порядкового номера ставится апостроф: 7’ «Кадетские истоки» с интереснейшей биографией полузабытого деятеля Дмитрия Шипова, 19' «Обш. ество, правительство и царь», 41' «Александр Гучков», 62' «Прогрессивный блок», 65' и 71' — «Государственная дума» 1 и 3–4 ноября. Здесь умение Солженицына делать суконный документ произведением искусства посредством смыслозого сжатия доходит до виртуозности, так что люди словно сами секут себя собственными словами. В особенности это касается обозрения громозвучной и пустозвонной работы Думы, историю которой писатель проследит в «Марте» до последнего заседания, подведя в конце такой итог: «Страшно не то, что на трибуну Думы во всякое время может вырваться любой демагог и лопотать любую чушь. Страшно то, что ни выкрика возмущения, ни ропота ниоткуда в думском зале — так ушиблены все и робеют перед левой стороной. Страшно то, что таким ничтожным лопотаньем заканчиваются 11 лет четырёх Государственных дум.
Это все — почти сплошь выписано мною из думских стенограмм последних недель русской монархии. Это все до такой степени лежит на поверхности, что одному удивляюсь: почему никто не показал прежде меня?
Эта Дума никогда более не соберётся.
И я сегодня, прочтя её стенограммы с ноября 1916 насквозь, а ранее многие, многие, так ощущаю: и не жаль» (XV, 157).
Столь же язвительно–разоблачающа и глава о «ресторанном перевороте» А. Гучкова (40–я). Здесь ещё вот что следует отметить: Гучков в «Октябре» (как впоследствии в «Марте» Милюков) заводят среди прочего речь о масонстве, истинная роль коего в революции ещё только начинает выплывать наружу. Милюков в нем действительно не участвовал, но отрекающийся в «Октябре» Гучков лжёт: не так давно уже упоминавшаяся выше Н. Н. Берберова по масонским архивам доказала его прямое участие в масонстве и направленном на свержение царя сговоре с командующими фронтами (не всеми — Цит. соч., с. 198–208).
Второй узел включает также очень насыщенные главы о вожаках петроградских рабочих — главе Рабочей группы при Военно–промышленном комитете Кузьме Гвоздеве (31–я) и руководителе большевиков в России Александре Шляпникове (63–я). Шляпников стал главным деятелем, когда партийные теоретики почти что все оказались в эмиграции, отрезанные войной от связей с Россией. После революции, «в двадцать первом году он возглавил рабочую оппозицию, которая доказывала, что коммунистическая верхушка изменила, предала рабочие интересы, попирает пролетариат, угнетает пролетариат и переродилась в бюрократию. Шляпников исчез и канул. Он был арестован потом, позже, а так как он держался стойко — расстрелян в тюрьме, и имя его может быть многим сегодня… даже неизвестно» (IX, 207). А меж тем «образ Ленина был бы больше понят, если бы показать Шляпникова по контрасту. Потому что Шляпников — это тот коммунист, который был истинный рабочий, всегда старался им быть, истинно связан с подпольем и рабочим классом, истинный деятель истории… Такое благоприятное обстоятельство. Он, будучи профессиональным революционером, сам не переставал быть прекрасным токарем и великолепным рабочим. Он гордился тем, что все время работал, как никто из вождей…» (X, 534–535).
В «Октябре» во всю силу появляется и сам Ленин, представленный в «Августе» одной лишь главой. Здесь ленинских глав целых семь: 37, 43, 44 и 47–50. Солженицын не раз утверждал: «Ленин — одна из центральных фигур моей эпопеи и центральная фигура нашей истории. О Ленине я думал просто с того момента, как задумал эпопею, вот уже 40 лет, я собирал о нем по кусочкам, по крохоткам все, решительно все (вспомним, что разговор о «принципе узлов» в «Круге» два заключённых вели именно с целью уразумения жизни Ленина. — П. П.). В ходе лет я постепенно его понимал, я составлял даже каталоги отдельных случаев его жизни по тому, какие черты характера из того вытекали. Все, что я о нем узнавал, читал в его книгах, в воспоминаниях. Я ещё специально каталогизировал, что вот эти события дают такую черту характера, те события — другую черту характера. Я не использую этого непосредственно в момент работы, но это все систематизируется в голове и складывается. Теперь, когда я счёл, что я уже созрел для того, чтобы Ленина писать, я пишу его конкретные годы, цюрихские, естественно ретроспективно туда же помещаются происшествия его партийной и личной жизни. Я не имею задачи никакой другой, кроме создать живого Ленина, какой он был, отказываясь от всех казённых ореолов и казённых легенд» (X, 521–522).
Писатель даже вступил со своим героем в определённый род отношений. Он вспоминает, что впервые решил приступить к ленинским главам в Рязани в 1969 году: «И ведь так сложилось — целый 69–й год меня в Рязани не было, а тут я как раз приехал: слякотный месяцок дома поработать, с помощью читальни— над острейшим персонажем моего романа. Как раз и портрет Персонажа утвердили (навеки) — на улице, прямо перед моим окном. И хорошо пошло! так хорошо; в ночь под 4 ноября проснулся, а мысли сами текут, скорей записывай, утром их не поймаешь. С утра навалился работать — с наслаждением, и чувствую: получается!! Наконец‑то! — ведь 33 года замыслу, треть столетия — и вот лишь когда… Но Персонаж мой драться умеет, никогда не дремал», — ибо в это самое утро Солженицына вызвали «исключать из Союза писателей», и затем сразу закрутились такие заботы, что работа застряла на годы.
На следующее утро: «Рассвело, раздернул занавеси — и с уличного щита мой затаённый Персонаж бойко, бодро глянул на меня из‑под кепочки. Да не писалось мне больше о нем, и в том была главная боль — от таких оторвали страниц! (С тех пор полтора года прошло — а все не вернусь. Персонаж мой за себя постоять сумел)» (Т, 279, 286).
Но на Западе Солженицын первым делом попадает именно в Цюрих, где протекла почти вся ленинская эмигрантская жизнь во время мировой войны. Дом Ленина на Шпигельгассе в Цюрихе писатель посетил на следующий же день по приезде. Написанные ранее главы подверглись «на натуре» коренной переработке.
Итог ей подвёл в нарочно об этих главах написанной критической статье Н. А. Струве: «Рассказ ведётся почти сплошь как бы от самого Ленина в виде внутреннего монолога, иногда переходящего в диалог через призму воспоминания… Авторская речь почти не слышна: она сливается с речью Ленина, воспроизводит её интонацию, особенности, характерные словечки… Автор выступает лишь на краткие мгновенья, чтобы не создавалось иллюзии полной субъективности, перебивает ленинский монолог несколькими объективными штрихами, фиксирующими наружность или обстановку. Благодаря этой единой тяге, единой тональности — накал языка достигает предела, ещё не виданного в книгах Солженицына. Такой стремительности, сжатости, выразительности, пожалуй, Солженицын ещё не достигал» (Струве Н. А. Солженицын о Ленине. ВРХД, 1975, № 116, с. 1).
В ленинском окружении Солженицын ещё выделяет феерическую фигуру, в своё время крайне широко известную в международной социал–демократии, но со сталинских лет почти что вычеркнутую из анналов резолюции. Это беседующий с Лениным в главах 47–50 Израиль Лазаревич Гельфанд, одесский уроженец, социалист и миллионер — второе потому, что, по меткому определению, даваемому в «Октябре» Лениным, у него «порывы гешефта» были «не планомерным программным, а почти биологическим действием» (XIV, с. 188). Он является подлинным создателем теории перманентной революции, лишь позаимствованной затем «приятельски» Троцким; с Троцким же Гельфанд, взявший партийный псевдоним «Парвус» (то есть по–латыни «малый» — под этим именем он выпустил множество различных брошюр) руководил за спиной взятого для представительности Носаря первым Петроградским Советом в 1905 году и написал известный его «Финансовый манифест». Разойдясь впоследствии с учеником, Парвус не порвал окончательно с Лениным — когда‑то они вместе основывали ещё «Искру». И вот он приезжает в Цюрих со сногсшибательным «Планом»…
«План был: собрать под единое руководство все возможности, все силы и все средства, вести из единого штаба — действия центральных держав, русских революционеров и окраинных народностей… План убеждал настойчиво, что никская германская победа не окончательна без революции в России: неразрезанная Россия останется неугасающей постоянной угрозой. Но и никакая отдельная сила не может разрушить русскую крепость, а только единонаправленный их союз: совместный взрыв революции социальной и революции национальной при германской денежной и материальной поддержке…» (XIV, 180) Беседа, в которой излагается план и предлагаются германские миллионы, явственно напоминает собою соблазнение Ивана Карамазова чёртом, тут даже и впрямую произнесено слово «сатана» (XIV, 185) — но опять‑таки по изменившимся жестоким условиям двадцатого века реальный человек оказывается и беса страшнее. Словесная схватка–прикидка с ним кончается тем, что Парвус… рассеивается в воздухе, оставляя после себя только присланное через посредника письмо. Мы его ещё не раз встретим в дальнейшем.
В «Октябре» есть много описаний личных «драм», порою даже кажется, что их взято с перебором. Чересчур положительный по «Августу» Воротынцев, отправленный после скандала в Ставке на фронт, приезжает в отпуск, чтобы оглядеться — что же делается в тылу. Он уже считает войну главной политической ошибкой и не прочь высказаться в пользу частного перемирия с Германией. Но тут его поджидает встреча с профессоршей Ольдой Орестовной Андозерской (кажется, прообразом её послужила историк О. А. Добиаш–Рождественская). «Через Андозерскую, — указывает автор, — частью изложена система взглядов на монархию профессора Ивана Александровича Ильина» (XIV, 587). Беда только в том, что излагаются эти теории Воротынцеву… в постели. Он, однако, пытается замириться с женой, — но для того лишь, чтобы в «Марте» опять сойтись с «Ольдой», а затем бежать от хищности обеих к замоскворецкой вдове–купчихе Калисе как раз в дни падения царской власти в Москве.
В конечной главе возлюбленная Ковынева (Крюкова), которая страстно бросилась к нему, покинув дома ребёнка, и тот неожиданно умер, — приходит на исповедь к священнику. А он, разрешая ей грехи, произносит такие слова, заключающие весь узел: «Нет в мире болей больнее семейных, струпья от них — на самом сердце. Пока мы живы — наш удел земной. Редко можно за другого определить: «вот так — делай, вот так — не делай». Как велеть тебе «не люби», если сказал Христос: ничего нет выше любви. И не исключил любви — никакой» (XIV, 576).
Однако более мощный, раскрывающий смысл книги вывод делает вновь появляющийся ненадолго Варсонофьев–Звездочёт. Его тоже мучают семейные боли и разрывы, но дух его парит высоко: «Время, в котором мы живём, имеет бездонную глубину. Современность—только плёнка на времени» (XIV, 551).
XV‑XVI‑XVII‑XVIII. УЗЕЛ III. МАРТ СЕМНАДЦАТОГО (23 февраля — 18 марта)
В 1982 году в нашумевшей статье «Наши плюралисты» Солженицын так объяснял своё пристальнейшее внимание именно к Февралю: «И как ни обтрагивают мёртвое тело старой России равнодушные пальцы наших исследователей — все вот так, одно омерзение к ней. А потому — вперёд! к перспективе! к октябрьской революции!
Рвут к Октябрю, объяснить нам скоренько и Октябрь — но я умоляю остановиться: а Февраль?? Разрешите же хронологически: а что с Февралём?
Вот удивительно! Столько отвращения к этой стране, такая решительность в суждениях, в осуждениях порочного народа — а слона‑то и не приметили! Самая крупная революция XX века, взорвавшая Россию, а затем и весь мир, и так недалеко ходить во времени, это ж не Филофей с «Третьим Римом», и единственная истинная революция в России (ибо 1905 год — только неудавшаяся раскачка, а Октябрь — лёгкий переворот уже сдавшегося режима), — такая революция никем из наших оппонентов не упоминается, не то что уж исследуется. Да почему же так?
Да откровенно: нечего сказать. Трудно объяснить в благоприятном смысле для либералов, радикалов и интеллигенции. А во–вторых, не менее главное, снижу голос: не знают. Вот так, все учли, до, и после, и вокруг, и XVI век, а Февраля — не знают…
А между тем, господа, вот тут‑то и был взрыв! Вот тут‑то и выхвачен бомбовый чёрный ров — а вы как легко облетаете его на крылышках.
А я — взялся напомнить. Я годами копил, копил — не цитаты из чьих‑то обзоров, а самые первичные факты: в каком городе, на какой улице, в каком доме, в какой день и в котором часу, и несколько сотен важнейших деятелей всех направлений, всех видов общественной жизни, и каждого жизнь осматривается, когда доходит до описания его действий, и повествование без главного героя, ибо не бывает их в истории миллионных передвижений. И начал из тех узлов публиковать главы, обильные фактами и цитатами из жизни, сгущённый, объективный исторический материал, открытый для суждения всем, дюжина глав, страниц уже до 400, и петита (они в основном помещались в не раз уже цитированном «Вестнике РХД». — П. П.)».
Но работу эту шустрые «плюралисты» предпочли завалить молчанием, на что писатель обоснованно замечает: «Так тем опаснее станет для нас Февраль в будущем, если его не вспомнить в прошлом. И тем легче будет забросать Россию ^ её новый роковой час — пустословием. Вам — не надо вспоминать? А нам — надо! —ибо мы не хотим повторения в России этого бушующего кабака, за 8 месяцев развалившего страну. Мы предпочитаем ответственность перед её судьбой, человеческому существованию — не расхлябанную тряску, а устойчивость.
О Семнадцатом годе потому и судят так невежественно и с такой лёгкостью, что года этого не представляют. (Кто дерзает и на фантастические выкладки, почти вроде марсианского десанта: а вдруг бы «черносотенцы взяли в свои руки?»..) Народную распущенность, возбуждённую ещё до большевиков всеми образованскими подстрекательствами Февраля, — теперь изображают коренно–народным порывом векового классового гнева, для которого большевики оказались лишь послушными удобными выразителями» (ВРХД, 1983, № 139, с. 138–140).
И ещё в 1979 году он развивал эти мысли так: «Только с переездом в Америку… я серьёзно взялся за Февральскую революцию. Но вник я в Февральскую революцию — и все мне переосветилось. Я‑то рвался к Октябрьской, Февраль казался только по дороге — а тут я понял, что несчастный опыт Февраля, вот, его осознание — это и есть самое нужное сейчас нашему народу. Именно опыта Февраля мы — не поняли, забыли и во внимание его не принимаем.
Тут — клубок легенд. Вся наша новейшая история представлена нам выдумками да легендами — конечно, пристрастными, не случайными.
Легенда, что царь вёл с немцами переговоры о сепаратном мире — никогда ни малейших. Николай II потому и потерял трон, что был слишком верен Англии и Франции, слишком верен этой бессмысленной войне, которая России не была нужна ни на волос. Он именно дал увлечь себя тому воинственному безумию, которое владело либеральными кругами. А либеральные круги очень стремились выручить западных союзников жизнями русских крестьян. Боялись получить плохую оценку у союзников.
Потом — легенда, что в Феврале был избран Совет рабочих депутатов. Совет, больше 1000 человек, значенья не имел, принимать практически решений не мог, а все повёл узкий Исполнительный комитет — а туда верхушка избрала сама себя. Второстепенные затруханные партийные социалисты — сами себя избрали и повели Россию в пропасть.
Потом — само Временное правительство, легендарное навыворот. Это были те самые либеральные деятели, которые годами кричали, что они — доверенные люди России, и несравненно умны, и все знают, как вести Россию, и, конечно, будут лучше царских министров, — а оказались паноптикумом безвольных бездарностей, и быстро все спустили…
Да разобраться: они не только упустили власть — они её и взять‑то не смогли. Временное правительство существовало, математически выражаясь, минус два дня: то есть оно полностью лишилось власти за два дня до своего создания.
Да и сам Февраль‑то был делом двух столиц. И вся крестьянская страна, и вся Действующая армия с недоумением узнали об уже готовом перевороте.
Потом: никогда не было никакого корниловского мятежа, все это — ложь и истерика Керенского, он сочинил весь кризис. Сам вызвал фронтовые войска в Петроград, но из боязни левых отрёкся от этих войск по пути и изобразил мятежом. То‑то и Корнилов никуда не бежал, и Крымов доверчиво пришёл к Керенскому на свою смерть. Мятежа — никакого не было, но этой истерикой Керенский и утвердил окончательно большевиков».
Тут писателю последовал вопрос: «Но ведь все наше понятие об истории России — по крайней мере на Западе — построено на предпосылке, что Февральская революция была явлением положительным и что, не будь октябрьского переворота, Россия пошла бы по пути мирного общественного развития?» — Он ответил решительно:
«Вот это и есть — одна из центральных легенд. Если вникнуть в повседневное течение февральских дней, то сразу становится ясно: никуда, кроме анархии, она не шла. Она заключала противоречие в каждом своём пункте. Поразительная история 17–го года — это история самопадения Февраля. Либерально–социалистические тогдашние правители промотали Россию в полгода до полного упадка. И уже с начала сентября 1917 большевики могли взять упавшую власть — голыми руками, без всякого труда. Только по избыточной осторожности Ленина и Троцкого они ещё медлили. Лёгкое взятие упавшей власти совсем не было даже и переворотом. Так что не только не было никакой Октябрьской революции — но даже не было и настоящего переворота. Февраль—упал сам.
И легенды — продолжаются дальше. И гражданскую войну совсем неправильно сводят только к войне красных и белых. А главное было — народное сопротивление красным, с 18–го по 22–й. И в этой войне оказалось потерь — несколько миллионов! Это уже — изменение состава народа, и вот это есть первая настоящая бесповоротная революция — когда из народа выбивают миллионы, да с выбором.
И дальше легенды… Что Октябрь будто землю крестьянам дал — а он и ту отобрал, которую Столыпин дал, общинную…
Что на Западе меня много читают — я рад. Но мои основные читатели — конечно, ка родине, и именно для них я пишу. И книги мои достигнут их, да уже и сейчас достигают изрядно. Книгами — я непременно и скоро вернусь. Да надеюсь и сам.
А уроки Февраля — они имеют и всемирное значение, это и Западу невредно. Самопадение наших либералов и социалистов… с тех пор повторилось в мировом масштабе, только растянулось на несколько десятилетий: грандиозно повторяется тот же процесс самоослабления и капитуляции.
Но бесценное значение опыт Февраля, всего 17–го года, имеет, конечно, для нашей страны. А о нем — почти не прин по думать. Прежде чем горячо спорить о будущем пути России, предлагать проекты, рецепты — надо бы основательно знать наше прошлое. А наши спорящие, как правило, его не знают, — именно историю нашего последнего столетия от нас скрыли почти до неграмотности — а мы поддались… давление приучило всех уходить вдаль — к эпохе Николая I и назад. А кто официально занимался последним столетием — тот все искажал.
Февраль — нам надо знать и остерегаться, потому что повторение Февраля было бы уже непоправимой катастрофой. И важно, чтоб это поняли все, прежде чем у нас начнутся какие‑нибудь государственные изменения.
Так вот и получилось, что моя историческая работа о Феврале— она в 4–х томах — настолько опоздала, что уже снова стала актуальной… Мы должны думать об опасностях будущего перехода. При следующем историческом переходе нам грозит новое испытание — и вот к нему мы совсем не готовы. Это — совсем новые для нас виды опасностей, и чтобы против них устоять, надо по крайней мере хорошо знать наш прежний русский опыт» (X, 355–358).
«Нельзя всю философию, всю деятельность сводить: дайте нам права! то есть отпустите защемлённую руку! Ну, отпустят, или вырвем — а дальше? Вот тут… и сказывается незнакомство с новой русской историей… по сути, обходят все уроки нашей истории как небывшие — и по общей теории либерализма просто хотят повторения Февраля. А это — гибель» (X, 364).
Как и обещал писатель, в вышедших в 1986–1988 годах четырёх томах «Марта Семнадцатого» — почти семь сотен главок— отражена чрезвычайная до болезненности динамика тех поворотных дней. Это была пора, когда «пассионарная» одержимость захватывала сперва отдельных личностей, а затем через их посредство заражала громадные скопления людей.
Обзорная главка 3' «Хлебная петля» раскрывает истинный смысл искусственной «недостачи» чёрного хлеба в Петрограде. 26', как уже поминалось выше, показывает бездарность рассуждений справедливо издохшей Думы, избранники которой опрометчиво шатали потолок над собственными головами. А чуть раньше заговорила о себе история малоизвестного нынче унтера Тимофея Кирпичникова, послужившего «спусковым крючком» первого успешного солдатского возмущения в Волынском полку, когда повязанным кровью — они застрелили командовавшего ротой офицера — дальше уже некуда было деваться, кроме как «подымать» соседние части. Части же эти, как справедливо показал Солженицын, хотя и звались часто «гвардейскими», на деле были учебными командами, состоявшими из новобранцев — в то время когда подлинные гвардейцы воевали на фронте. Зато известие о «восстании гвардии» во многом поспособствовало вовлечению в анархию столичного гарнизона.
С солженицынской исторической добросовестностью, но вместе с тем и с присущей ему силой «сжатия» до самого яркого перед читателем проходит сперва в биографиях, а затем и живьём гулкий и праздный сонм деятелей «освободительного движения» всех оттенков — от переметчивого безумца Протопопова и отставного министра Кривошеина до председателя Думы Родзянко, славного разве своим внушительным видом и голосом, а затем ещё, все левее захватывая, Милюкова, Шингарева, Винавера, будущего незадачливого премьера Георгия Львова и вплоть до «правых» разбора Шульгина: «И знаменитый монархист Шульгин сам не заметил, как поехал под красным флагом брать Петропавловскую крепость» (XVI, 32).
Параллельно показаны заседающие по соседству в том же Таврическом дворце, с волшебною быстротою загаженном до предела, крикуны первого состава Совета вроде двух оборотистых псевдонимщиков Суханова–Гиммера и Стеклова–Нахамкеса.
…Армия страдает от потери выбитого за первые годы войны кадрового состава. Её верховным руководителем теперь состоит сам царь, но его первейшие подчинённые — как командующий Балтийским флотом адмирал Непенин, «Главкозап» Рузский и даже «наштаверх» генерал Алексеев сами не прочь поддержать идею переворота, не рассчитывая дальних его последствий. Непосредственно ответственные за поддержание порядка или его установление начальники бездеятельны и трусят перед «передовым общественным мнением» — вроде посланного на усмирение Петрограда видного собою, но тёмного душой и происхождением генерала Николая Иудовича Иванова или бездарного военного министра Беляева, которому под стать и командующий Петроградским военным округом генерал Хабалов. Но вот что ещё чрезвычайно важно отметить: самые проницательные из их противников знают и боятся, — а Солженицын спокойно доказывает это на фактах, — что и с этими горе–командирами победа в войне с Германией уже фактически предрешена. И спасти немцев может только внезапная революция в русском тылу.
Наконец, тут завязываются судьбы деятелей «новейшего типа», наподобие ротмистра Вороновича. Этот «высокий ражий кавалерист, очень подобранный, отличная выправка… смоляные приглаженные волосы, холёные пушистые усики — а лицо совсем закрытое» — «свободно среди мятежных солдат и тотчас после убийства своих однополчан–офицеров… себя чувствовал». Поприще своё на ниве революции он начинает в захолустной Луге, где благодаря хитрой уловке успевает разоружить посланный установить порядок в столице образцовый Лейб–Бородинский полк, а затем почти тотчас вслед «с какой (осторожной, однако) свободой и (осторожной) уверенностью» рассуждает с проезжающим за царским отречением Гучковым, «находя ещё и тонкие способы дать понять» ему, «что он его поддерживает, конечно». Тут и Гучков соображает, что сей тип деятеля «легко поскользит по волнам революции…». Он прав — тот же Воронович в звании самоприсвоенного полковника» станет во главе «зелёных» на Черноморском побережье во время гражданской войны и успеет всадить нож в спину Деникину, чтобы потом почти без боя сдаться Красной Армии (начало этой истории излагает Солженицын — XVI, 688; окончание см. в воспоминаниях самого «героя»: Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев. Т. 5. М, 1931, с. 159–207).
Всему этому разгулу противостоит лишь кучка сохранивших достоинство людей, принадлежащих ко всем «цветам» общественного спектра. Но они, как бывший министр внутренних дел и брат кадетского вожака Николай Маклаков или бывший премьер Горемыкин, в силах лишь независимо вести себя под арестом. И наибольшее, что удаётся совершить, выпадает на долю фронтового полковника Кутепова, случайно задержавшегося в столице (это тот самый будущий знаменитый генерал гражданской). Лишённый всякой поддержки, он почти целый день сохраняет порядок на нескольких улицах, но его одинокое стояние не завершается все‑таки победой — хотя личное мужество препятствует озверелой толпе разорвать на куски боевого офицера.
В 1987–1988 годах, в преддверии 70–летия писателя «Голос Америки» наконец вновь предоставил ему право выступления, и те, кому удавалось не засыпать до половины второго ночи, смогли услыхать в авторском чтении главы из «Марта». Тут следует ещё подчеркнуть, что Солженицын наделён редким для писателя даром мастерски исполнять свои вещи. И навряд ли забудут слышавшие его живую речь этот голос — хотя бы когда он читал главы, исполненные горькой, трагической иронии. Отрывком одной из них мы закончим разговор о «Марте Семнадцатого», ибо этот эпизод для узла символичен. Рядом с как будто бы победившей Думой раздаётся шальная пулемётная очередь, вызывающая всеобщую панику—вдруг выясняется, что «народную избранницу» никто защищать не может и не хочет.
«И неизвестно, чем бы кончилось все тут, в Военной комиссии, если бы среди них не было Керенского.
Но он был — тут! И все те же опасения, и все те же мысли, но только с ещё большей быстротой, решительностью и ответственностью за всю судьбу революции, а не только за себя, пронеслись и в его голове — и он тут же принял решение, а верней — исполнил его, потому что у него исполнение всегда было быстрей самого решения: Керенский взлетел от пола, как на невидимых крыльях, и вот уже стоял на подоконнике, одной рукой держась за ручку шпингалета, другою распахнув форточку, впившись в обрез её рамки, а узкую прямоугольную голову свою — втискивая туда, туда, в саму форточку, она вполне входила.
И глядя на водовертное безумие сквера — он кричал туда в форточку своим голосом, таким прославленно звонким, резким на трибуне — а сейчас несколько осипшим:
— Все — по местам! Все — по боевым постам!.. Защищайте Государственную думу!.. Это говорит вам — Керенский! Государственную думу — расстреливают!!!
…Но — неизвестны были каждому свои места, и оружие не у каждого, и не каждый знал, как с ним обращаться. Да в той суматошной панике, криках, мате, фырчанье и рёве вообще никто не слышал и не заметил, что какой‑то человек кричал из какой‑то форточки» (XVI, 139–140).
XIX‑XX. УЗЕЛ IV. АПРЕЛЬ СЕМНАДЦАТОГО
Возобновляя работу над эпопеей в конце 1960–х, писатель считал, что на выполнение всего замысла понадобится 7–10 лет (Т, 168). В 1971 году он уже засомневался в столь коротком сроке: «20 узлов, если каждый по году — 20 лет. А вот «Август» два года писался — значит, 40 лет? Или 50?» (Т, 339). В 1980 году колебания ещё больше усилились: «Как я задумал и всю жизнь шёл, я готовил 20 узлов, но я думал, что каждый узел будет в одном томе. Годы уходили, а работа расширялась. И у меня «Август» получился в двух томах, «Октябрь» в двух томах и «Март» в четырёх, таким образом все вместе уже составляет 8 томов. Ещё несколько лет мне нужно на эту работу. А поэтому я не рассчитываю, теперь уже не уверен, смогу ли я продолжить дальше или не смогу. И потом я не уверен: читателю, если он охватит так вот Февральскую — может быть и хватит? Просто читатель тоже утомится» (X, 553).
Выше мы приводили высказывание, что «Действие первое», посвящённое революции, оканчивается III узлом. Но и о находящемся сейчас в наборе IV узле — «Апрель Семнадцатого», тоже двухтомном, автор однажды утверждал: «Четвёртый узел заканчивает собой… первое действие моего исторического исследования» (X, 481). Согласно нынешним его намерениям, «Апрель» все‑таки начинает собой действие второе.
Вопросы о конце работы стало даже принято задавать, и поэтому Солженицын — не как отчаявшийся человек, а как человек искренне православный, когда его пытают: «Сможете ли Вы закончить столь гигантскую фреску?» — обычно теперь ответствует так: «Не могу сказать. По особенностям жизни я потерял много времени. Бог укажет» (X, 245).
Однако, как всякий истинный художник, он наверняка уже наперёд знает последние слова эпопеи. Нам о них остаётся лишь гадать — но неложный прообраз тех слов видится в этих мыслях «Телёнка»:
«Изучение русской истории, которое сегодня уже увело меня в конец прошлого века, показало мне, как дороги для страны мирные выходы, как важно, чтобы власть, как ни будь она самодержавна и неограниченна, доброжелательна прислушивалась бы к обществу, а общество входило бы в реальное положение власти; как важно, чтобы не сила и насилие вели бы страну, а правота…
Нельзя согласиться, что гибельный ход истории непопразим, и на самую могущественную в мире Силу не может воздействовать уверенный в себе Дух» (Т, 576, 603).
«ТЕЛЁНОК»
Количество томов, в которые суждено воплотиться «Красному Колесу» в Собрании сочинений, неведомо покуда ни нам, ни самому автору, — но название следующей книги собрания, как это ни звучит странно, уже известно: это том (а точнее уже — три тома) под именем «бодался телёнок с дубом». Он носит иронический подзаголовок «Очерки литературной жизни» — потому что описанное здесь есть все что угодно — детектив, подпольщина, житие, политические страсти, борьба на два, три и более фронтов, наконец ясное свидетельство о победе того самого «уверенного в себе Духа» над могучей безнравственной Силой, но только не мирная «литературная жизнь».
Иностранным читателям писатель пояснил название книги так: «Есть такая пословица русская: бодался телёнок с дубом. Как многие пословицы, она иронична по замыслу. Бедный, слабый, глупый телёнок, тебе ли с твоим слабым лбом и с малыми рожками бодаться с могучим дубом, ничего из этого не выйдет. Я взял эту пословицу названием своей книги для того, чтобы выразить то истинное соотношение сил, которое было в моем невольном, навязанном мне поединке с властью за мою литературную работу. Ну, соответственно, если проводить аналогию к этой давнишней пословице, которая существует уже много сотен лет, мы, очевидно, должны представить «дубом» ту могучую власть, которая своими разбросанными ветвями нас давит, покрывает и лишает нас возможности свободно действовать, а «телёнок» — всякий, кто осмеливается, вот, сопротивляться этой силе, пытается сопротивляться ей» (X, 186).
В самой книге её заглавный образ проходит своё собственное и знаменательное развитие. Оно задано уже самой структурой произведения: «Тем и странна эта вещь, что для всякой другой создаёшь архитектурный план.., эта же… подобна нагромождению пристроек… Во всякую минуту книга столь же кончена, сколь и не кончена, можно кинуть её, можно продолжать, пока жизнь идёт, или пока телёнок шею свернёт о дуб, или пока дуб затрещит и свалится. Случай невероятный, но я очень его допускаю» (Т, 210). Писатель действительно не теряет никогда надежды на чудо — ибо: «Уж сколько шагов за эти годы я делал, и каждый казался отчаянным… — изумляла слабость, неупругость той стены или той непомерной дубины, незаслуженно названной дубом лишь вподгон к пословице» (Т, 411).
Дуб коснеет по мере того, как резвый бычок взрослеет, превращаясь в зрелую особь, восклицающую в негодовании: «Городили… хлипкую загородочку против разнёсшегося быка.., думали остановить «Архипелаг»!» (Т, 412) К нему приходит осознание своего особого предназначения, даже посланничества: «Ещё многое мне и вблизи не видно, ещё во многом поправит меня Высшая Рука. Но это не затемняет мне груди. То и веселит меня, то и удерживает, что не я все задумываю и провожу, что я — только меч, хорошо отточенный на нечистую силу, заговорённый рубить её и разгонять. О, дай мне, Господи, не переломиться при ударах! Не выпасть из руки Твоей!» (Т, 407).
У самого порога изгнания, впрочем, итоги подведены вполне трезво: «Бодался телёнок с дубом — кажется, бесплодная затея. Дуб не упал — но как будто отогнулся? но как будто малость подался? А у телёнка — лоб цел, и даже рожки, ну — отлетел, отлетит куда‑то» (Т, 466). А это уже, «как ни понимай — победа. Телёнок оказался не слабее дуба» (Т, 472)
Начиналась же книга на главном творческом переломе — её основная часть написана между 7 апреля и 7 мая 1967 года в Рождестве–на–Истье под Нарой, когда Солженицын окончил почти все прочие труды и готовился приступить к «Колесу». Отправив смелое письмо к съезду Союза писателей[8], он и принялся в выдавшемся промежутке за свою литературную историю, чтобы в случае «чего худого» оставить потомкам не испоганенную ложью и цензурой истину.
Но книга продолжает писаться и по сей день, увеличиваясь посредством «Дополнений»: «Вот, оказывается, какое липучее это тесто — мемуары: пока ножки не съежишь — и не кончишь. Ведь все время новые события — и нужны дополнения» (Т, 181). Первые четыре из них—1–е от ноября 1967 года, 2–е — от февраля 1971 года, 3–е, написанное в декабре 1973 года, и 4–е, родившееся уже в июне 1974 года в нагорье Цюриха, — успели войти вместе с основной частью в первый том «Очерков», изданный в 1975 году в Париже.
Пятое дополнение имеет отличную от прочих, как прошлых, так и будущих собратьев, судьбу: «Я писал в «Телёнке», что я вовсе не одинок, а держусь на подпоре невидимых помощников. Когда я писал «Телёнка», я должен был скрывать всех людей, которые мне тайно помогали… Но у меня давно уже написано дополнение к «Телёнку» — ещё одно, пятое, — оно, наоборот, описывает всех тех людей и все секреты, но вот этого сейчас невозможно напечатать… Не только потому, что люди находятся в Советском Союзе, — очень многие и на Западе, но все равно им почему‑нибудь, по каким‑нибудь соображениям неудобно, чтоб это было объявлено. Я думаю, что это будет увлекательное чтение и многих даже поразит…» (X, 555—556).
Отрывок из шестого дополнения — небольшая книжка «Сквозь чад», написанная в сентябре 1978–го в Вермонте и напечатанная в следующем году в Париже. Это в основном вынужденная защита от мелкой клеветы на семейное происхождение и личную жизнь, время от времени подбрасываемой на западный рынок. Самые сильные страницы — открытое письмо другу юности К. Симоняну, сломавшемуся в старости и сочинившему один из таких позорных опусов; письмо это направлено уже в загробный мир — ибо во время его написания автору пришло известие, что накануне своего 60–летия и не дождавшись выхода зарубежного пасквиля бывший друг–враг неожиданно скончался. И оканчивается это необычное послание — прощением.
Другой отрывок из шестого дополнения, о Швейцарии, помещён в 137–м номере «Вестника РХД» (1982 год). Здесь же рядом находится отрывок «Ещё о «Новом мире» — ответ на появление в самиздате статьи В. Лакшина «Друзьям «Нового мира» (о «Телёнке»); статья была отдана автором в медведевский журнал «XX век» (1977, № 2), который составляется в Москве братом Роем, а печатается в Лондоне братом Жоресом. В своём отклике Солженицын признает правильность некоторых фактических замечаний, сделанных более близким ко внутренней издательской кухне новомировцев В. Лакшиным, — но никак не может согласиться со своим оппонентом о главном. Лакшин о трагедии России в XX веке пишет следующее: «Всякая крупная идея может быть искажена в исторической практике… Виной ли тому «дурная природа» людей, генетическая незрелость их как рода, неподготовленность нравственного сознания… или скверная, изгаженная почва предшествующих социальных влияний и традиций… А может, все беды и неудачи нашей страны оттого как раз, что социализм понят по–старому, по–монархически…» — «Вот эти «вершинные» суждения Лакшина, — говорит в своём возражении Солженицын, — и показывают рельефно, насколько невозможно было между нами понимание» (ВРХД, 1982, № 137, с. 126).
Рядом с возражением находится отрывок из седьмого дополнения (май 1982) о Твардовском. К тому же седьмому дополнению относится и цитировавшаяся выше статья «Наши плюралисты» (ВРХД, 1983, № 139).
Существует ещё и не так давно начатый третий том «Телёнка» (впрочем, точка зрения на него автора теперь пересматривается). В него входит, например, написанная в апреле 1984 года статья «Колеблет твой треножник» о книге А. Синявского «Прогулки с Пушкиным» и поносительных статьях о Пушкине в редактируемом Синявским журнале «Синтаксис» (ВРХД, 1984, № 142). К этому же роду можно отнести резко отрицательное суждение о фильме А. Тарковского «Андрей Рублёв» в одном из соседних номеров «Вестника», в котором Солженицын осуждает использование высочайших отечественных духовных ценностей для сиюминутных «киношных» целей.
Выход «Очерков» с последующими дополнениями вызвал самые различные отклики. Среди них есть полностью положительные — как статья сотрудника писателя ещё по «Новому миру» Ф. Светова «Разделение» (ВРХД, 1977, № 121). С другой стороны, помимо Лакшина, свои возражения в газете «Унита» поместила и дочь поэта В. Твардовская. На «Плюралистов» отрицательно отозвался один из героев — Гр. Померанц, — его текст вместе с ответным возражением Н. А. Струве «Не стыдно ли?» и библиографической справкой Натальи Солженицыной вышли в 142–м номере «Вестника» в 1984 году; там же можно найти и сводку откликов французских писателей и печати.
…Переходя к самой книге «Очерков», нужно в первую очередь сказать не о её пристрастности — а много ли было беспристрастных воспоминаний о литературных и житейских битвах? — но точней просто о страстности. Благодаря чему «Телёнок», по общему признанию, читается в один присест и запоем.
Перед нами предстаёт отнюдь не «лишний человек» и не избалованный всеобщим передовым поклонением сочинитель прошлого столетия, «…мне работалось все равно хорошо, плотно, даже при скудности свободного времени, даже без подлинной тишины. Мне странно было слушать, как объясняли по радио обеспеченные досужие именитые писатели: какие бывают способы сосредоточиться в начале рабочего дня и как важно устранить все помехи, и как важно окружиться настраивающими предметами. А я ещё в лагере научился складывать и писать на ходу в конвоируемой колонне, в степи морозной, в литейном цеху и в гудящем бараке. Как солдат засыпает, едва присев на землю, как собаке в мороз вместо печи служит своекожная шерсть, так и я был естественно приспособлен писать всюду. И хотя теперь на воле (закон сжатия и разжатия человеческой души!) я стал попривередливее, мешали мне и радио, и разговоры, — но даже под постоянный рёв грузовиков, наезжающих на рязанское окно, я одолел… Лишь бы выдался свободный часик–два подряд! Обминул меня Бог творческими кризисами, приступами отчаяния и бесплодия» (Т, 12–13).
Потому‑то, когда высочайший «завкульт» Демичев, побеседовав снисходительно с писателем, заметил ему: «Я вижу, вы действительно — очень скромный человек. С Ремарком у вас— ничего общего», — Солженицын думает про себя такую думу: «Ах, вот, оказывается, чего они боялись — с Ремарком!.. А русской литературы уже отучились бояться. Сумеем ли вернуть им этот навык?» Но вслух она не выплёскивается, опыт богатый, вслух автор лишь: «радостно подтвердил: «С Ремарком — ничего общего» (Т, 110).
И был глубоко верен в этом, ибо «я не имел права считаться с личной точкой зрения и что обо мне подумают.., а лишь из того исходить постоянно, что я — не я, и моя литературная судьба — не моя, а всех тех миллионов, кто не доцарапал, не дошептал, не дохрипел…» (Т, 60).
Сперва он и писал‑то без всякой надежды издать это прижизненно, в единой надежде, что когда‑то потом «вздрогнет и даже обновится общество от других причин, так появится щель, пролом свободы и туда‑то сразу двинется наша подпольная литература— объяснить потерянным и смятенным умам: почему все это непременно должно было так случиться и как это с 17–го года вьётся и вяжется» (Т, 14).
Однако судьба сделала некоторый подарок раньше — «ещё при нашей жизни начался наш первый выход из бездны тёмных вод. Мне пришлось дожить до этого счастья — высунуть голову и первые камешки швырнуть в тупую лбину Голиафа. Лоб оставался цел, отскакивали камешки, но, упаз на землю, зацветали разрыв–травой, и встречали их ликованием или ненавистью, никто не проходил просто так» (Т, 15).
В книге до беззащитности открыто изложены и первые размышления подталкиваемого к рубежу и потерявшего всякую надежду на подцензурное печатание писателя: а может, уехать‑таки достойно в «свободный мир», а уж оттуда… И последовавший после мучительных колебаний отказ, порождённый во многом вот какой мыслью–сравнением: «Наша страна подобна густой, вязкой среде: даже малые движения произвести здесь невероятно трудно, зато эти движения тотчас увлекают за собой среду. Демократический Запад подобен разреженному газу или почти пустоте: легко можно размахивать руками, прыгать, бегать, кувыркаться, — но это ни ка кого не действует, все остальные хаотически делают то же» (Т, 593).
Помимо авторской судьбы, в «Телёнке» немало и других историй жизни — приятелей, противников и ещё людей «третьих». Вот референт Хрущёва Лебедев, выбравший счастливый час, когда прочтённый временщику «Иван Денисович» смог вызвать довольно смелое решение «Никиты» его немедленно напечатать. «После свержения Хрущёва Лебедев, по новой круговой поруке верхов, только должность потерял, но не свергнут был из знатности и не впал в нищету. К. И. Чуковский встречал его в 1965 году в барвихском санатории. Бывший «ближний боярин» писал какие‑то мемуары и говорил Чуковскому, что опровергает все мои неточности о сталинском быте (задели‑таки его мои главы). Ещё с новым 1966 годом он меня поздравил письмом — и это поразило меня, так как я был на краю ареста… До него дошли слухи, что мы поссорились с Твардовским, и он призывал меня к примирению. Мне было очень тошно в то время, и я не оценил, может быть, самого бескорыстного душевного движения его. А потом и с Твардовским у меня целый почти год касаний не было. Недавно же я узнал: именно в тот год, 1966–й, Лебедев умер, не старше лет пятидесяти. На похороны бывшего всесильного советника не пришёл никто из ЦК, никто из партии, никто из литературы — один Твардовский. Представляю его дюжую широкоспинную фигуру, понурившуюся над гробом маленького Лебедева». И вся эта горькая русская судьба поместилась в одном подстрочном примечании на 99–й странице «Телёнка».
Из всех встреченных Солженицыным в мире литературы людей главным героем первого тома может быть смело назван Твардовский. Разговоры и споры с ним занимают добрую часть всего объёма, причём со временем они принимают «последнюю» остроту. Так, на замечание по поводу «Ракового корпуса», сделанное поэтом: «Вы ничего не хотите простить советской власти» — тут же следует в ответ: «А. Т.! Этот термин «советская власть» стал неточно употребляться. Он означает: власть депутатов трудящихся, только их одних, свободно ими избранную и свободно ими контролируемую. Я— руками и ногами за такую власть!.. А то вот секретариат СП, с которым вы на одном поле не сели бы … —тоже советская власть?» (Т, 174–175).
Трагичнейшая фигура Твардовского, принуждённого воевать не только меж двух огней в обществе, но и переживать столкновение двух разных вер в собственной душе, показана в книге с беспощадною прямотой. Но вот что, отойдя на достаточное для спокойной оценки расстояние, глядя уже с другого берега, сказал о нем Солженицын впоследствии: «После годов глубокого одиночества — вне родины и вне эмиграции — я увидел Твардовского ещё по–новому, то есть разглядел, чего не видел рядом с ним и в пылу борьбы.
Теперь, когда эмигрантская литература поскользила в самолюбование, в капризы, в распущенность, — тем более можно вполне оценить высокий такт Твардовского в ведении «Нового мира», его вкус, чувство ответственности и меры. У Твардовского был спокойный иммунитет к «авангардизму», к фальшивой, безответственной новизне. Только сейчас я с возросшим пониманием вижу, как много мы потеряли в Твардовском, как нам не хватает его сейчас, какая это была бы сегодня для нас фигура! Как он нужен был бы сегодня русской литературе при новом определении лица её. Нашей больной литературе, встающей на ноги, как бы помогли его крупные руки, его подсадка.
Он и тогда видел, что цензура — не единственная опасность для литературы, как и показало все позднейшее. Трифоныч — верно чувствовал правильный дух, он был насторожён ранее меня» (ВРХД, 1982, № 137, с. 130).
Есть и ещё один чрезвычайно важный герой в «Телёнке», но это не единая личность, а как бы собирательная. Солженицын одним из первых по достоинству оценил, как в ходе искристой, но неглубокой полемики октябристов и новомировцев постепенно возрос на стороне и подал наконец живой голос третий, гораздо более важный участник будущих российских споров. Его первые речи появились в ряде статей журнала «Молодая гвардия», которые, при множестве своих недостатков, «все же не зря обратили на себя много гнева и с разных сторон: изо рта, загороженного догматическими вставными зубами, вырывалась не речь—мычанье немого, отвыкшего от речи, но мычанье тоски по смутно вспомненной национальной идее». Писатель внимательнейшим образом следил за становлением этого «голоса»; в «Телёнке» приведён даже подробный разбор одиннадцати главных пунктов, которые явились для тогдашней мелкоплавающей критической мысли почти что откровением. И основываясь на них, он заключает: «Одним словом, в 20–е — 30–е годы авторов таких статей сейчас же бы сунули в ГПУ, да вскоре и расстреляли. Года до 33–го за дуновение русского (сиречь тогда «белогвардейского», а ругательно на мужиков — «русопятского») чувства казнили, травили, ссылали (вспомним хотя бы доносительские статьи О. Бескина против Клюева и Клычкова). Исподволь чувство это разрешали, но — красноперемазанным, в пеленах кумача и с непременным тавром жгучего атеизма. Однако уцелевших подросших крестьянских (и купеческих? а то и священских?) детей, испоганенных, пролгавшихся и продавшихся за красные книжечки, — иногда, как тоска об утерянном рае, посещало все‑таки неуничтоженное истинное национальное чувство. Кого‑то из них оно и подвинуло эти статьи составить, провести через редакцию и цензуру, напечатать».
И когда «Новый мир» угоднически «ударил» по «Молодой гвардии» поносительной статьёй А. Дементьева, Солженицын прямо назвал это сделанное незадолго до конца «твардовской» редакции выступление «позорным» (Т, 269–271).
Волею судеб писателю и в зарубежье пришлось более всего сталкиваться с продолжателями этих «могильщиков национальной идеи». Сгущённую, «сжатую» по–солженицынски и уничтожающую оценку получили они в седьмом дополнении к «Очеркам», вызвавшем наибольшую ярость определённой части эмиграции внешней и внутренней.
«О ком я собрался тут — большей частью выехали, иные остались, одни были участниками привилегированного… существования, а кто отведал и лагерей. Объединяет их уже довольно длительное общественное движение, напряжённое к прошлому и будущему нашей страны, которое не имеет общего названия, но среди своих идеологических признаков чаще и охотнее всего выделяет «плюрализм». Следуя тому, называю и я их плюралистами.
«Плюрализм» они считают как бы высшим достижением ис–тории, высшим благом мысли и высшим качеством нынешней западной жизни. Принцип этот они нередко формулируют: «как можно больше разных мнений», — и главное, чтобы никто серьёзно не настаивал на истинности своего.
Но может ли плюрализм фигурировать отдельным принципом и притом среди высших? Странно, чтобы простое множественное число возвысилось в такой сан. Плюрализм может быть лишь напоминанием о множестве форм, да, охотно признаем, — однако же цельного движения человечества? Во всех науках строгих, то есть опёртых на математику, — истина одна, и этот всеобщий естественный порядок никого не оскорбляет. Если истина вдруг двоится, как в некоторых областях новейшей физики, то это — оттоки одной реки, они друг друга лишь поддерживают и утверждают, так и понимается всеми. А множественность истин в общественных науках есть показатель нашего несовершенства, а вовсе не нашего избыточного богатства, — и зачем из этого несовершенства делать культ «плюразлизма»? Однажды, в отклик на мою гарвардскую речь, было напечатано в «Вашингтон пост» такое письмо американца: «Трудно поверить, чтобы разнообразие само по себе было высшей целью человечества. Уважение к разнообразию бессмысленно, если разнообразие не помогает нам достичь высшей цели…»
Все говоримое тут о плюралистах отнюдь не относится к основной массе третьей, еврейской эмиграции в Штаты. В их газетах на русском языке круг авторов, а значит и читателей, далеко обогнал наших плюралистов в понимании Запада. Приехав в эту страну, эти люди хотели бы прежде всего не теоретизировать о демократии, а видеть тут элементарный государственный порядок. Но тем вопиюще обнажается тыл плюралистов, в котором они были уверены!..
Увы, и ещё я должен отличить: иные авторы эмигрантских еврейских газет и журналов не скрывают, что навек пронзены русской культурой, литературой, и нападки на Россию в целом у них заметно реже, они открыли в себе глубину сродства с Россией, какого раньше не предполагали. Не то плюралисты, «Выбрав свободу», они спешат выплеснуть в океан самовыражения, что русские — со всей их культурой — рабы и навсегда рабами останутся…
Нераздумчивым американцам как угодно выворачивают нашу старую историю, чтобы состроить эстакаду Грозный — Пётр — Сталин, а все века русской жизни потопить в болотной невыразимости. А чего стоит нечестное, неосмысленное употребление термина «неославянофилы» (как и в XIX веке, «славянофилы» изобретено оппонентами, кличкой–дразнилкой) — вот уже ни одного живого «славянофила» сейчас в России не знаю. Есть патриоты умирающей Родины — так так и надо говорить, не юля…
Отчасти по московско–ленинградской нечувствительности к страданиям деревни и провинции (эти два города полвека были усыплены и подкуплены за счёт ограбления остальной страны), наша образованщина слепа и глуха к национальному бытию, не научилась видеть и не тянется видеть процессы истинные, грандиозные: вода, воздух, земля, еда, отравленные продукты, семья, вымирание, нозое брежневское наступление на деревню, уничтожение последних остатков крестьянского уклада; что 270–миллионный народ мучается на уровне африканской страны, с неоплаченной работой, в болезнях, при кошмарном уровне здравоохранения, при уродлизом образовании, сиротстве детей и юношества, оголтелой распродаже недр за границу, — но читайте журналы и сборники плюралистов: об этом ли они пекутся? Если бы действительно заботились о России — то почему ни о ч е м об этом?..
Для доверчивого Запада переписывают нашу новейшую историю по вехам диссидентских выступлений. Преувеличением столичного диссидентства и эмиграционного движения отвратили внимание мира от коренных условий народного бытия в нашей стране… После своевременной эмиграции их заботы теперь: возликует ли неограниченная свобода слова на другой день после того, как кто‑то (кто??) сбросит нанешний режим. Их забота — над какими просторами будет завтра порхать их свободная мысль. Даже не одумаются предусмотрительное как же устроить дом для этой мысли? А будет ли крыша над головой?..
Ни одного реального предложения, кроме «всеобщих прав человека». А — переходный период? Любую из западных систем— как именно перенять? через какую процедуру? — так, чтоб страна не перевернулась, не утонула? А если начнутся (как с марта 1917 года, а теперь‑то ещё скорей начнутся) разбои и убийства — то надо ли будет разбойников останавливать? (или — оберегать права бандитов? может, они невменяемы?) и — кто это будет делать? с чьей санкции? и какими силами? А шире того — будут вспыхивать стихийные волнения, массовые столкновения? как и кто успокоит их и спасёт людей от резни? (Напоминаю, что это нас Солженицын в 1990–м предупреждает— из 1982–го! — П. П.)
Ни о чем об этом наши плюралисты не выражают забот.
Ну, скажут, и пусть их? Там, в России, их здешний гулок не воспринимается как имеющий значение, а тем более как угроза нашему реальному будущему.
Если бы опыт Семнадцатого года не пылал у меня под пальцами— вероятно, и я не придал бы значения. Но что‑то становится— весьма похоже. Уже основательно мы испытали один раз, как нас заболтали и проторили «стране рабов» дорогу в светлое будущее. Наворачивают, наворачивают — а как бы опять не вокруг нашей головы, как бы опять не затмить нам глаза. Прежде чем Россия придёт в сознание — уже направить это сознание. И уже сейчас, где могут, наталкивают по русскоязычному радио, чтобы правильно повести оставшееся там население…
Вдруг открылась возможность некоторым двинуться на Запад, и они двинулись, где‑то по пути тихо роняя свои партийные билеты. И по другую сторону Атлантического океана вдруг стали исключительно смелы в суждениях о советской жизни, вчера успевали там, сегодня здесь, и громко рассказывают, как они, чистые и неподкупные, тяжело страдали в грязных гнёздах пропаганды ЦК, или прокуратуры, или Союза писателей и журналистов, опубликовавши в СССР кто по три, а кто и по десятку книг и множество газетных статей, и записывают себе в послужной список поставленные в СССР пьесы, фильмы, — а что это все было, если не ложь, ложь и ложь? И никто из них — ни один! — не раскаялся, не заявил публично, что это он и заплевывал наши глаза ложью, не рассказал ни в каком своём соучастии… Их философия: это — скотская народная масса виновата в режиме, а не я. Им и в голову не приходит, что настоящее творчество начинается не с безопасного (или даже опасного) сатирического разоблачения других, а с поисков своей собственной вины и с раскаяния.
…Чем крупней народ, тем свободней он сам над собой смеётся. И русские всегда, русская литература и все мы, — свою страну высмеивали, бранили беспощадно, почитали у нас все на свете худшим, но, как и классики наши, — Россией болея, любя. А вот — открывают нам, как это делается ненавидя. И по открывшимся антипатиям и напряжениям, по этим, вот здесь осмотренным, мы можем судить и о многих, копящихся там. В Союзе все пока вынуждены лишь в кармане показывать фигу начальственной политучёбе, но вдруг отвались завтра партийная бюрократия — эти культурные силы тоже выйдут на поверхность — и не о народных нуждах, не о земле, не о вымираньи мы услышим их тысячекратный рёв, не об ответственности и обязанностях каждого, а о правах, правах… — и разгрохают наши останки в ещё одном Феврале, в ещё одном развале.
И в последней надежде я это все написал и взываю и к этим, и к тем, и к открывшимся, и к скрытым: господа, товарищи, очнитесь же! Россия — не просто же географическое пространство, колоритный фон для вашего «самовыражения». Если вы продолжаете изъясняться на русском языке, то народу, создавшему этот язык, несите же и что‑нибудь доброе, сочувственное, хоть сколько‑нибудь любви и попытки понять, а не только возвышайте образ, как («Синтаксис», № 3, с. 73) «у пивной, размазывая сопли по небритым щекам, мычит»… — а мат оставляю докончить вашим авангардным бестрепетным перьям» (ВРХД, 1983, № 139, с. 133–154).
И для сопоставления приведём уже другой, возвышающий душу образ из шестого приложения. Речь в нем идёт о том, как русский писатель приглашён на торжество выборов в горный кантон Швейцарии Аппенцель, в католической части страны. На действо избрания приходить от века положено пешком, причём имеющие голоса — мужчины — являются с холодным оружием при бедре, знаком совершеннолетия и права участия в гражданской жизни. Все начинается с мессы, а от неё из храма следует торжественный ход со знамёнами на городскую ратушную площадь. Здесь все присутствующие выслушивают речь уходящего главы местного правительства — ландамана: «Вот уже больше полутысячелетия, — говорил он, — наша община не меняет существенно форм, в которых она правит сама собою. Нас ведёт убеждение, что не бывает «свободы вообще», но лишь отдельные частные свободы, каждая связанная с нашими обязательствами и нашим самосдерживанием. Насилие нашего времени доказывает почти ежедневно, что не может быть обеспеченной свободы ни у личности, ни у государства без дисциплины и честности, и именно на этих основаниях наша община могла пронести через столетия свою невероятную жизнеспособность: она никогда не предавалась безумию тотальной свободы и никогда не присягала бесчеловечности, которая сделала бы государство всемогущим. Не может существовать разумно функционирующее государство без примеси элементов аристократического и даже монархического…
Бесхарактерная демократия, раздающая право всем и каждому, вырождается в «демократию услужливости». Прочность государственной формы зависит не от прекрасных статей конституции, но от качества несущих сил…»
С этим старый голова уходит, но затем его предлагают избрать заново — и дружным открытым поднятием рук выбирают; причём русский наблюдатель ехидно замечает про себя: «Хотя я не большой страдатель демократии, но тут… подсмехнулся: ну, демократия как у нас». Вслед за тем вновь появляющийся ландаман читает государственную клятву, а присутствующие повторяют: «клялся сам народ себе!». Затем он называет состав своего правительства, спрашивая — кто против; и снова «никого». Вновь молчаливый русский свидетель мыслит: «Я про себя продолжал посмеиваться: опять как у нас».
И почти тотчас получает изрядное вразумление. Ландаман предлагает первый новый закон — повысить налоги, денег у коммуны не хватает. Толпа не согласна, почти вся голосует против. Тот требует вторичной баллотировки, приводя уже сам новые доводы — «и так же подавительно проголосовали налогов не повышать.
Глас народа. Вопрос решён бесповоротно — без газетных статей, без телекомментаторов, без сенатских комиссий, в 10 минут и бесповоротно на год».
Второе желание правительства: повысить пособия по безработице. Но на них в ответ «кричали: «А пусть работают!» С три–буны: «Не могут найти». Из толпы: «Пусть ищут!» Прений — не было. Проголосовали опять подавительно: отказать».
Третья же просьба новой администрации была: принять в члены кантона уже живущих в Аппенцеле иностранцев, особенно итальянцев, застрявших тут на несколько лет. «Кандидатов было с десяток, голосовали по каждому в отдельности и отклонили, кажется, всех. Недостойны, не хотим».
«Нет, это было совсем не как у нас. Без спора переизбрав любимого ландамана, доверив ему составить правительство, как он желает, — тут же отказали ему во всех основных законопроектах. И — правь. Такую демократию я ещё никогда не видывал, не слыхивал — и такая… вызывает уважение.
Швейцарский Союз заключён в 1291 году, это действительно самая старая демократия Земли. Она родилась не из идей просветительства — но прямо из древних форм общинной жизни. Однако кантоны богатые, промышленные, многолюдные все это утеряли, давно обстриглись под Европу. А в Аппенцеле — вот, сохранялось как встарь.
Как же разнообразна Земля, и сколько на ней вполне открытых возможностей, не известных, не видимых нам! В будущей России ещё много нам придётся подумать — если дадут подумать» (ВРХД, 1982, № 137, с. 120–124).
ВОДИТЕЛЬ ПУТИ
Четверть века назад явился на суд отечественных читателей писатель, который сумел с тех пор создать художественную историю всего, что прошла его Родина в переломный нынешний век. Это была дорога от напутствующего XX столетие в «Красном Колесе» 1899 года, через «Действие первое. Революция», «Архипелаг ГУЛАГ», послевоенный «Круг Первый», Особлаг «Ивана Денисовича» и разделяющий волю с неволей «Раковый корпус» — вплоть до связывающего недавно прошедшее, мимотекущее и грядущее «Телёнка».
И если в зачинательном «Напутствии в дорогу» упоминалось безымянное «Нечто», исправляющее должность ведущего, то, приближаясь к цели, можно отчётливо видеть, как «Нечто» обращается в «Что» и даже «Кто». Притом и «путеводитель» со строчной вырастает до «Путеводителя» с прописной, ибо им оказывается не кто иной, как сказавший всем, следующим по его стопам: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин., 14:6).
1988; 1990
БИБЛИОГРАФИЯ КНИГ О СОЛЖЕНИЦЫНЕ В РУССКОЯЗЫЧНОМ ЗАРУБЕЖЬЕ
Ржевский, Леонид. Творец и подвиг / Очерки по творчеству Солженицына.
1972. 168 с.
Панин Д. Записки Сологдииа. Посев. 1973. 576 с.
Медведев, Жорес. Десять лет после «Одного дня Ивана Денисовича». 1973. 224 с.
«Август Четырнадцатого» читают на Родине. Сборник самиздатовских статей.
1973. 139 с.
Плетнёв, Ростислав. А. И. Солженицын. Изд. 2–е, доп. 1973. 170 с.
Две пресс–конференции к сборнику «Из‑под глыб». 1974.
Лопухина–Родзянко, Татьяна. Духовные основы творчества Солженицына.
1974. 180 с.
Жить не по лжи. Сборник самиздатовских материалов с авг. 1973 по февр.
1974. 1975. 203 с.
Шмеман А., прот. О Солженицыне. Монреаль, 1975.
Зильберберг, Илья. Необходимый разговор с Солженицыным. 1976. 188 с. Гуль, Роман. Солженицын. Статьи. Нью–Йорк, 1976. 96 с.
Карпович, Вера. Трудные слова у Солженицына / Русско–английский толковый словарь на 4000 слов. 1976. 335 с.
Копелев, Лев. Утоли мои печали: Воспоминания. 1981. 320 с.
Солженицын в Гарварде. Сборник статей (пер. с англ.). 1981. 207 с.
Коган, Эмиль. Соляной столп: Политическая психология Солженицына. 1982. 228 с.
Фельштинский Ю. Солженицын и социалисты. 1983. 47 с.
Бракман, Рита. Выбор в аду / Жизнеутверждение солженицынского героя. 1983. 144 с.
Краснов–Левитин, Анатолий. Два писателя: Книга о Солженицыне и Максимове. 1983. 294 с.
Шнеерсон, Мария. Александр Солженицын: Очерк творчества. 1984. 300 с. Нига, Жорж. Солженицын. 1984. 244 с. (Автор — профессор Женевского университета и один из основных переводчиков книг Солженицына.) Илл.
Штурман, Дора. Городу и миру. 1988. 430 с.
См. также подборки к 70–летию в журналах:
а) Вестник русского христианского движения. Париж—Нью–Йорк — Москва. 1988. № 154; б) Выбор. Литературно–философский журнал русской христианской культуры. Москва. 1988. № 4, 5; 1989. № 6, 7 и газете «Русская мысль».
Париж, декабрь 1988 — январь 1989 гг.
Материалы конференции «А. И. Солженицын и его творчество». Париж — Нью–Йорк. 1988. 96 с.
Геллер М. Александр Солженицын. Лондон. 1989. 118 с.