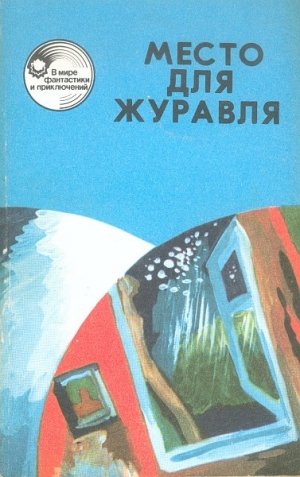
Леонид Панасенко
Место для журавля
Алешин вышел из метро, заскочил в булочную и обрадовался: есть свежие рогалики. Он взял сразу восемь штук, чтобы дома тонко нарезать и на двух листах напечь в духовке целую гору золотистых сухарей. Нина Алексеевна, приходящая домработница, дважды в неделю готовила ему что-нибудь мясное. Кроме того, она регулярно набивала холодильник маслом, сыром, яйцами, ветчиной. Профессор Алешин любил завтракать и ужинать дома. Мог даже удивить гостя или гостью — весело и красиво накрыть стол.
О женитьбе и четырех годах суетной, все время как бы вдогонку жизни философ Алешин вспоминать не любил. После развода он ушел в науку, как в подполье.
Золотое лето кончалось: сентябрь приглашает в дом, а сердце, которое он уберег от всех искусов юга (лето Алешин провел в Крымской обсерватории), наоборот, начинает томиться.
Сквозь побитую желтизной листву в свете дальнего фонаря смутно проглядывали фигуры ребят, они частенько играли на гитаре возле подъезда. Сегодня рядом с ребятами философ увидел девушку. Она пела под гитару. Он остановился и прислушался.
Воображение, очарованное голосом, рисовало ее профессору таинственной и прекрасной.
«Подойти? — подумал Алешин. — Нет, неудобно. Я для них уже „предок“».
Дома он не стал заниматься кухней. Бесцельно побродил по комнатам, посидел у письменного стола.
«Смешно! — Алешин поворошил страницы наполовину готовой монографии. Многие годы занимаюсь космогонией и космологией. Меня волнуют глобальные, бесконечно высокие вопросы. Как и когда все возникло, как развивалось, из чего и по каким законам развился наш мир, Вселенная? Наконец, я верю и доказываю с математическими выкладками в руках: космос населен, Эго значит, что я осознал одиночество нашей цивилизации в целом, что через меня реализуется тоска по общению всего человечества, огромной совокупности индивидуумов. А с другой стороны — я сам одинок. Чисто по-человечески. И возвышенная тоска по общению на уровне миров пропадает, затмевается земной тоской по прекрасному, по женской руке, которая снимет все пустые боли…»
Чтоб не травить себе лишний раз душу, Алешин разделся и лег, с удовольствием ощущая всем телом свежесть постельного белья. Читать тоже не хотелось, и он выключил лампу. Комната сразу окунулась в ночь. На улице шел дождь. Ветер раскачивал фонарь возле котельной, и тусклые пятна света ходили по стенам, а то возвращались через открытую дверь на лоджию, где толклись тени мокрых тополей. Под одеялом было тепло и уютно. Алешин включил транзистор и улыбнулся: передавали знакомую мелодию в исполнении ансамбля «Каравели». Мелодия упруго пульсировала, рассыпалась будто бенгальский огонь. Слушая музыку, Алешин любил думать о женщинах. Не вообще, а о ком-нибудь из тех, кто был в его жизни и не оставил хлопот. Таких после развода было немного, без обязательств и сцен, и потому, наверное, запомнившихся. «Память тоже делает приемы, — пошутил однажды знакомый дипломат. Пошутил и прикрыл глаза, смеясь. — Ах, какое это великолепное зрелище, сударь! На этих приемах никогда не бывает случайных гостей».
Алешин тоже прикрыл глаза. А когда открыл, испуганно вздрогнул и подтянул одеяло под подбородок.
В проеме двери, что вела на лоджию, за голубоватой тюлевой занавеской, метавшейся на границе света и тени, стояла… нагая девушка. Будто сполох неведомого огня осветил комнату. Алешин увидел ее всю сразу — капли дождя на молодом теле, мокрые волосы, улыбку. Зажженные светом уличного фонаря, капли обтекали холмики груди, ползли по животу, пропадали внизу — на краю золотистой опушки.
Девушка была такая реальная, такая несчастная, замерзшая даже на вид, что Алешин тут же сорвался с кровати, не раздумывая, схватил махровое ванное полотенце. Он вытирал мокрое тело, тонкие руки незнакомки скорее не помогали, а пугали своими прикосновениями.
«Только не спрашивай! — приказывал сам себе Алешин. — Ни о чем не спрашивай. И не удивляйся. Прими это как подарок судьбы. Обыкновенное чудо».
Он набросил на девушку свой халат — она дрожала от холода. Не зная, как быть и что делать, Алешин посадил ночную гостью на кровать.
— Сейчас, минутку, — сказал он. Алешин вспомнил, что тем, кто сильно замерз, дают выпить. Он принес из комнаты бутылку коньяку, на ощупь, натыкаясь на вещи, так как боялся включить свет: вдруг это только сон, и все исчезнет.
Девушка взяла стакан, но тут же брезгливо отставила.
— Что же с тобой делать? — обескураженно пробормотал Алешин. — Укройся. Ложись и укройся. Ты же закоченела вся.
Он закутал гостью в одеяло. Философ чувствовал — его тоже начинает бить озноб.
Замирая от собственной храбрости, Алешин обнял незнакомку, нашел во тьме ее губы. Девушка тихо вскрикнула, как бы обретя наконец голос. Он понимал, что ему надо бы узнать, как она очутилась здесь, но неистовое желание поцеловать вздрагивающие неумелые губы, раствориться, уйти без остатка в упругое, скованное то ли страхом, то ли холодом тело было сильнее его. Чувства его не подчинялись рассудку…
После пришли благодарность и растерянность.
«Я ее совсем не знаю! — ужаснулся Алешин. — Кто она? Откуда? Почему оказалась у меня на лоджии?»
— Как тебя зовут? — тихонько спросил он.
— Не знаю, — ответила девушка. Приподнявшись на локте, она с улыбкой разглядывала своего нежданного возлюбленного. — Называй меня как хочешь. Как тебе нравится.
— Ага, — согласился Алешин, принимая предложенную ему игру. — Ты для меня божий дар, не меньше. Посему я так и буду тебя называть.
— Не надо «божий», — серьезно попросила девушка. — Не звучит. Без смысла. Короче как-нибудь.
— Тогда Дар, — засмеялся Алешин. — Просто Дар. Небес, богов, чертей все равно.
К нему на смену растерянности пришла веселая уверенность в том, что все будет хорошо, что с появлением… Дар все, буквально все образуется, что это и есть счастье. И все же, как она попала на лоджию?
У Алешина на миг защемило сердце — он боялся вопросов, потому что знал: ответы часто не совпадают с выдуманным нами или предугаданным, и тогда распадается связь явлений и всем становится плохо.
— Тебя нигде не ждут? — осторожно спросил он. — Уже поздно.
— Нет, — ответила Дар. — Не бойся за меня. Я здесь чужая. Условно говоря, приезжая.
— Условно? — переспросил удивленно Алешин. — Откуда же ты условно приехала?
— Ты не поймешь. — Девушка зевнула. — У нас другая система координат. В общем, я из ГИДЗа — Галактического института добра и зла.
— Ага, — Алешин засмеялся. — Добрая фея. Купалась в подпространстве и услышала вдруг, как одиноко одному из землян.
— Да, ты генерировал мощный поток дискомфорта, — как ни в чем не бывало согласилась Дар. — Жажда общения, застой в работе над монографией плюс обыкновенный сенсорный голод…
«Нахваталась словечек… — саркастично подумал Алешин. — Даже о монографий знает. В самом деле, шестая глава что-то не клеится… Откуда только знает? Ну, что ж, игра так игра».
— И звездная девочка решила помочь? — Он ласково привлек Дар к себе. От пережитого, от странного разговора чуть-чуть кружилась голова.
— Я побуду несколько месяцев и помогу, — согласилась Дар. — Но не дольше второго декабря. И не целуй меня так часто — мне непривычны земные ласки.
— Я с ума сойду! — Алешин сел на край кровати. — Ты, девочка, невозможная фантазерка. Может, вернемся на землю? Хочешь, я расскажу о тебе? Зовут тебя, значит, Дар. Фамилия и отчество? Скажем так: Климова. Дар Сергеевна. Среднеспециальное образование. Скажем, библиотекарь. Приехала из Пскова или Воронежа. Похоже?
— Пусть будет так, — согласилась Дар и прикоснулась к нему легкой рукой. — Если тебе удобно, пусть будет так.
— Смешно! — покачал головой Алешин. — Послушать тебя, так все нарочно. Услышала, пришла… утешила. Все по заданию института?
Дар не заметила насмешки, ответила вполне серьезно:
— Нет, что ты. Я все сама! Никто в институте не знает… А наша близость… Понимаешь, раз я почувствовала твою душу, значит, мы чем-то близки. Это странно. Вечная разобщенность, невозможность полного слияния индивидуальностей…
Алешин закрыл рот Дар поцелуем, затем тихо попросил:
— Давай прекратим этот разговор. Мне он неприятен. Наука есть наука, пусть и умозрительная, а жизнь есть жизнь. Я философ и не люблю вымышленных миров. Давай просто, без всяких там сказок…
Дар долго молчала, вздохнула, соглашаясь:
— Ты, наверное, прав. Нельзя соединять несоединимое. Меня тоже так учили. Но я никогда не верила… Пожалуй, лучше оставаться извне или полностью подчиниться чужому миру, раствориться в нем. Я подумаю милый. Если ты так хочешь, я подумаю.
Посланец прибыл точно в назначенное время.
Это был маленький седой старичок в горбатом пальто и заячьей шапке. Не вытерев ног и даже не поздоровавшись, он прошел в комнату, сел в кресло. Шапку Посланец положил на колени, всем своим видом показывая, что разговор будет коротким.
— Сегодня шестое декабря, — недовольным тоном сообщил он. — Что вы себе думаете? Мы и так перерасходовали здесь уйму энергии. Если каждый…
— Переход строить не придется, — перебила его Дар. — Я остаюсь на Земле.
— В каком смысле? — опешил старичок.
— В прямом. Я полюбила человека. То есть объект исследования.
Старичок пожал плечами, откинулся в кресле.
— Час от часу не легче, — проворчал он. — Теоретически, конечно, возможно. По институту было несколько случаев… И все-таки не понимаю: как можно полюбить дикаря?!
— Он не дикарь, — возразила Дар. — Напротив, крупный ученый, философ. С ним интересно.
— Бывает, — вяло кивнул Посланец и достал блокнот. — На сколько продлить ваш въезд? Учтите: плотская любовь всего лишь подобие Великого Слияния. Вам придется потом долго очищать душу. Если вы остаетесь, эксперимент переходит в ведомство отдела эмоций. Полгода вам хватит за глаза.
Дар покраснела, досадливо повела плечом.
— Вы не поняли. Я остаюсь насовсем.
Посланец от неожиданности даже привстал. Заячья шапка упала на пол.
— Девочка моя, — сказал он, беря Дар за руку и вглядываясь в ее глаза. — Вы, наверное, больны. Я сейчас исследую вашу психику и постараюсь помочь. Вы не ведаете, что творите.
— Да нет же! — Дар высвободилась. — Я все обдумала. Это не по мне — отрешенно наблюдать, экспериментировать… Люди близки нам. Чтобы их познать, надо с ними жить. Стать такими же, как они.
— Это невозможно, — жестко возразил Посланец. — Разницу в развитии, в ступенях мировосприятия нельзя ни уничтожить, ни проигнорировать. Как бы вы, девочка, ни пытались раствориться в этом мире, вы всегда останетесь инородным телом. Дело не в знаниях: их можно приобрести, передать. Вы будете постоянно ощущать разность духовных потенциалов. Это убьет вас.
— Я привыкну, — возразила Дар. — Лучше дать счастье одному умному землянину, чем гадать о судьбах всей цивилизации людей. Кроме того, Геннадий самостоятельно нащупал интересные космологические закономерности, я исподволь помогу ему осознать их.
— Но не такой же ценой! — вскричал Посланец, забыв земную форму вежливого обращения. — Ты же все потеряешь! Семьсот-восемьсот лет нашей жизни — это по земным меркам бессмертие. Затем биоформа. Ты глянь на меня, глянь! На эту мерзкую, полумертвую плоть. Но ведь я вернусь в ГИДЗ и стану опять молодым, практически всемогущим. Ты же, приняв их жизнь, через тридцать-сорок лет разрушишься, превратишься в тлен. У тебя заберут все, девочка моя, даже крылья. Останется память и запрет вспоминать. И это самое страшное… Когда ты поймешь всю глубину несоответствия, когда осознаешь бессмысленность жертвы…
Дар заплакала.
— Не надо пугать меня, — тихо попросила она. — Я не хочу быть богом холодным и равнодушным. По-видимому, мне досталось чересчур отзывчивое сердце, а здесь столько беды и невежества. Не надо меня пугать. Мне самой страшно. Но я знаю: раньше и у нас, и здесь, на Земле, сильные всегда шли на помощь к слабым, гордые помогали малодушным повзрослеть. Нас учили: добро должно быть активным. Значит, надо рисковать и жертвовать. Мы разучились жертвовать.
— Есть разные жертвы, девочка моя, — грустно сказал Посланец, поднимаясь из кресла. — Необходимые и, как бы тебе сказать… восторженные. За которыми, кроме порыва и благих намерений, ничего нет.
Посланец подобрал шапку и из умного, властного собеседника вновь превратился в седого старичка в горбатом пальто. Он снова перешел на «вы».
— Мне жаль вас, — сказал он, глядя на богатые «королевские» обои. — Живите как знаете. Но я попытаюсь уговорить руководство института не выпускать вас из виду, не принимать всерьез вашу жертву и ваше отречение.
Посланец впервые за время разговора скептически улыбнулся.
— Может, мы еще и заберем вас. Когда произойдет полное отторжение. Может, удастся. А пока — прощайте.
Он зажег глаза в зеленом спектре, что на универсальном галактическом языке означало пожелание удачи, шагнул на середину комнаты и растворился в воздухе.
Дар несколько минут тупо разглядывала обои, пока не спохватилась: в дверь настойчиво звонили. Два длинных, три коротких. Значит, Геннадий не один, а с гостем.
Аспирант Овчаренко заходил к ним почти каждую субботу. Обворожительно улыбаясь Дар, еще в прихожей незаметным движением доставал из «дипломата» бутылку пива.
— Знаю, знаю, Дар Сергеевна, — говорил он, полупряча бутылку за спину. — Вы презираете огненную воду. Но нам, хилым интеллигентам третьего поколения, и так почти недоступны пороки. Нам запрещают, но мы философы…
Михаил говорил много и охотно, однако умел мгновенно «выключиться» и стать преданнейшим слушателем. Перед завкафедрой излишне не заискивал: предпочитаю, говорил он, научные заслуги, а не должностные звания. Заслуги Алешина интеллигент третьего поколения знал настолько хорошо, что мог в нужный момент процитировать что-нибудь из его статьи десятилетней давности. Алешин называл Михаила «без пяти минут кандидат» и пророчил своему аспиранту блестящее будущее.
Разговоры их, покрутившись немного возле науки, как правило, сворачивали на загадочную для Дар личность какого-то Меликова, проректора института, в котором работал Алешин. Получалось, что Меликов — подлец и хищник, душитель любой живой мысли, да к тому же еще и завистник.
— Почему вы его не исправите? — не выдержала однажды Дар.
— Кто «вы»? — опешил аспирант Овчаренко.
— Вы, люди! — объяснила Дар.
Алешин рассмеялся.
— Моя жена слабо разбирается в реальной жизни, — пояснил он. — Воспитательная функция коллектива годится только для мелких особей, из которых он состоит. Меликов хотя и болван, а все-таки над нами. Плюс его связи, умение ориентироваться…
— Но ведь и им кто-то руководит, — возразила Дар. — Пусть они его исправят.
— Горбатого могила исправит, — заметил вполголоса Овчаренко, вопросительно глядя на шефа.
— Милая, ты все упрощаешь, — раздраженно сказал Алешин. — Это у вас… там… гармония да эфирные создания. Меликов любит поесть и не любит ездить в метро. Он, как и все мы, лучше любого пса охраняет завоеванные им блага и жизненное пространство. Это звучит немного вульгарно, зато верно. И вина Меликова не в том, что он живет как хочет, а в том, что он не дает жить другим. Он боится за свой кусок пирога, потому что единственное, что он умеет — есть и спать. А я еще умею думать и нахожу в этом определенное удовольствие. И Михаил умеет. Такие, как мы, крайне опасны для «просто жующих»…
— Где это там, Геннадий Матвеевич? — некстати удивился аспирант. — О каких эфирных созданиях вы упоминали?
— Там? — переспросил Алешин, прерывая свою речь; небрежно кивнул в сторону жены. — На Марсе, дружище, на Марсе. Там и гармония, и эфирные создания. И такие, как… Дар Сергеевна. Жена космолога тоже должна быть немножко не от мира сего.
Он вдруг вспомнил день, когда они решили сходить в загс, и внутренне содрогнулся. Вечером он спросил: «Где твои документы?» Дар безмятежно ответила встречным вопросом: «А что это?» Он разозлился, попросил ее прекратить «звездные штучки». «Но у меня в самом деле нет никаких документов», — возразила Дар. Она подошла к нему, заглянула в ящик, где он хранил ценные бумаги и из которого только что достал паспорт. Затем на минуту вышла на кухню. Вернулась Дар с улыбкой на лице и паспортом в руках. Он раскрыл документ и чуть не уронил его. Все, все, как он говорил тогда, насмешничая. Климова Дар Сергеевна, год рождения 1948, место рождения… Псков. Напомни он ей сейчас — и принесет из кухни… диплом библиотекаря… Да и приход ее! Ночью, голая, под дождем, на лоджии пятого этажа! Эти бредни о Галактическом институте!.. Можно ли жить с таким человеком? У него, помнится, задрожали руки. Дар словно почуяла его испуг и смятение. Прижалась к нему, тихо засмеялась, растворяя в журчании смеха его внезапные страхи. «Ты сам говорил, — шепнула, — что все надо воспринимать с юмором. Ничего ведь не случилось». — «Ничего», — облегченно выдохнул он. «И мы любим друг друга, — убеждала его Дар. — А это самое главное! Во всех мирах и галактиках». — «Во всех мирах», — согласился он.
— Я вам лучше приготовлю обед, — перебила воспоминания Дар.
— Ты умница! — обрадованно зашумел Алешин. — Михаил, вы не представляете, какая Дар Сергеевна фантазерка от кулинарии… Нет, нет, не спорьте. Вы обедали у нас, Михаил, но вы не представляете… Но мы спешим, Дарьюшка. Поджарь нам по-быстрому ветчины… Да, и сухарики, пожалуйста, не забудь. С маслом…
Работа Алешина преображала.
Он погружался в нее не сразу. Сначала перебирал записи, затем на какой-нибудь «спотыкался», начинал проверять мысль: углублялся в источник, мог зачитаться на полчаса и больше, обращался к работам других ученых, как бы сравнивая свои представления с утверждениями предшественников и коллег.
На письменном столе, диване, даже на подоконнике накапливались десятки книг и журналов. Алешин начинал писать и мог углубиться в работу, а то бросал ручку, расхаживал по кабинету, снова хватался за чью-нибудь монографию, пораженный внезапной мыслью, бросал книгу и бежал к столу, чтобы сделать пару пометок на листе ватмана, которым накрывал стол.
— Посиди у меня, — всякий раз просил он Дар, приступая к работе.
Дар забиралась с ногами в кресло, читала что-нибудь или слушала отрывки из монографии, которые Алешин оглашал с радостью полководца, одержавшего победу и объявляющего о ней своему народу. Народ в лице Дар частенько устраивал «полководцу» разносы, которые Алешин тоже подчинил работе. Дар подметила: муж, как философ, моментально схватывает любую ценную мысль или критику, тут же сам развивает их, подчиняет своей идее или отбрасывает, но обязательно сам. Когда ему работалось, от Алешина исходили сила и уверенность. Он как бы начинал светиться изнутри, и от этого в их доме становилось теплее.
Уходил в институт — и свет мерк. Алешин будто выключал его, покидая кабинет. Дар как-то сказала ему об этом. Геннадий пожал плечами.
— Здесь я летаю, хоть иногда, изредка… А там… — Он неопределенно махнул рукой. — Там я, Дарьюшка, функционирую и заставляю других функционировать. Часто без особой пользы. А это удручает. Словом, жизнь есть жизнь. В ней приходится быть разным.
В тот вечер Алешину не работалось. Он выпил кофе, полистал неоконченную монографию и еще больше скис.
— Ты чего загрустил? — осторожно спросила Дар.
Она не понимала и потому пугалась людской неуравновешенности, эмоциональных перепадов, которые у них дома означали бы тяжелое заболевание психики. Да, люди другие! Они быстрее живут. Короткая биологическая жизнь, по-видимому, активизирует духовно-эмоциональную. Люди неистовы. Они мало чего достигли конкретно, но о многом знают или догадываются, а еще большего хотят. Желания их, увы, несоизмеримы с возможностями, но в этом что-то есть…
— Тебе мою грусть не понять, малыш, — ответил Алешин. — Многие мудрости — многие печали, — пошутил он, и голос его дрогнул: — Понимаешь, Дарьюшка, я иногда теряю смысл происходящего… Мне уже сорок семь. Научные отличия — пустое. Я достаточно умен, чтобы самому судить о сделанном. Да, были отдельные мысли, озарения… Однако своей концепции, своей убедительной модели Вселенной я так и не создал. Впрочем, и это пустое! Самое страшное, что каждая моя маленькая победа в области мысли отзывалась сокрушительными поражениями на фронтах жизни.
Алешин вздохнул, ласково взял Дар за руку:
— Понимаешь… Я стал профессором и попутно испортил характер: из веселого парня превратился в зануду и неврастеника. Написал книгу — потерял жену. Ради чего все это? Все эти потери? Мне больно, когда представлю, сколько мной не сказано ласковых слов, не выпито ключевой воды на привале, не замечено красоты. Я космолог, но звезды, увы, вижу чаще на коньячных этикетках, чем в небе… Я стал бояться открытий, ибо за все приходится расплачиваться. Я не хочу, Дарьюшка, написать эту проклятую монографию и потерять тебя.
— Мне трудно с тобой, — неожиданно для Алешина согласилась жена. — Ты чересчур неровный. Непредсказуемый. То добрый и нежный, а то язвительный и вспыльчивый. Я знаю — это не со зла. Я знаю также, что крупные личности часто бывают импульсивными. Поэтому я многое прощаю тебе. Однако мне от этого не легче. Я не знала, что любить человека так непросто.
Алешин порывисто привлек ее к себе, виновато попросил:
— Не казни меня так, Дарьюшка. Я не хуже и не лучше других. Ты увидела во мне лучшее — тогда, ночью, когда пришла… Но во мне, кроме света, живет и мрак. А сколько привносит в нас жизнь?! Сколько во мне чужого? Не только мудрых мыслей и возвышенных слов, но и чужого мусора, грязи, обид, усталости?
Дар поцеловала мужа.
— Я вовсе не казню тебя, — улыбнулась она. — Поэтому я сейчас иду спать, а ты можешь еще поработать.
Дар показалось, что она только легла и закрыла глаза, как ее позвал Геннадий:
— Проснись, милая.
Она краем глаза глянула в окно — там стояла ночь.
— Такси ждет, — сказал Алешин и пощекотал губами у нее за ухом. — Я заказал… Только ни о чем не спрашивай. Уговор?! Я помогу тебе одеться…
Она пробормотала что-то, соглашаясь, однако до конца не проснулась. Если к телу, своей земной оболочке, Дар привыкла очень быстро и даже полюбила его (сама ведь выбирала), то вот образ жизни людей, масса алогичных обстоятельств и ситуаций, на которые приходилось тратить нервную энергию, все это очень утомляло. В бытность эфирным существом, Дар считала сон анахронизмом. Теперь же только он и приносил кратковременное избавление от забот и постоянного напряжения. Первые дни Дар вообще спала напропалую. Алешин называл ее «спящей красавицей», тревожился о здоровье, но потом привык и смирился, как с данностью.
Проурчал лифт. На улице Дар стеганула ноябрьская стынь, но машина стояла возле самого подъезда, и через несколько секунд она снова очутилась в теплой полутьме.
Такси рванулось в ночную пустоту улиц.
— Подремли, малыш, — прошептал Алешин, привлекая ее голову к своему плечу. — Ехать долго, подремли.
Дар не видела, как выбиралась машина из переплетения проспектов и улиц большого города. Она дремала до самых Пулковских высот. Затем среди холодных звезд возникли купола обсерватории, и такси остановилось. Алешин заскочил к дежурному, вышел с ключами.
— Сегодня на Большом не работают, — пояснил он, увлекая Дар в высокое гулкое помещение. — Это наша гордость — шестидесятипятисантиметровый рефрактор.
Алешин замолчал, так как слова под сводами купола казались лишними и никчемными. Он подвел жену к окуляру телескопа, отрегулировал высоту сиденья.
…На нее буквально упали знакомые созвездия!
Дар всем естеством ощутила их близость, потому что знала их не по звездным атласам, а лично, именно естеством — тем, полузабытым, эфирным, которое переносило ее сознание в неизмеримых далях Галактики. Впервые боль утраты — огромной, невосполнимой! — пронзила ее, оглушила, заставила сжаться на холодном поворотном кресле.
В один из выходных Алешина, когда он отправился на дачу, Дар решила повидать «это чудовище — Меликова». Она знала, что вместе с бессмертием потеряла после «отречения» и все свои необычные для людей способности. Но она также знала, насколько выше ее мозг и психика, насколько тоньше их устройство по сравнению с земными. Хоть что-нибудь она увидит. Эманация зла обычно бывает ярко выраженной. Если постараться, то заглянуть в душу проректора, о котором столько толкует муж, будет не так уж сложно. В конце концов, Меликов — объективная преграда на пути Алешина. Даже по условиям эксперимента ГИДЗа, прими она их, опекун обязан устранить преграду. Алешин должен как можно скорее закончить монографию и опубликовать ее.
Она долго ходила возле института. Слева от здания, возле стоянки машин, позвякивая, разворачивались трамваи. Пассажиры то набегали гурьбой, то исчезали в вагонах, и на остановке вновь становилось пустынно.
Она сразу узнала черную «Волгу» Меликова. Хромированные подфарники, красные чехлы сидений. Все, как говорил Геннадий.
Молниеносно и точно Дар определила ход последующих событий. Трамваи выходят на круг через три-четыре минуты. Путь проректора к машине в любом случае пересекает трамвайную колею. Во время разворота Меликов должен стоять здесь — ни на сантиметр в сторону. Она заговорит с ним, затем сделает вид, что обозналась, начнет шутить, незаметно увлечет и выведет его в нужную точку. Задний вагон лишь краем заденет его голову. Но этого окажется достаточно, чтобы «чудовище» месяца три-четыре провалялось в больнице и вышло на волю с частичной амнезией. Для жизни такая потеря памяти не помешает, а вот из института придется уйти…
Дар поежилась. Алешин купил ей теплую шубу, а вот сапожки по недомыслию взял осенние. Крещенский мороз пробрался к ногам, и Дар постукивала ими. Материальное тело теперь казалось ей нелепым и крайне не приспособленным к жизни. Эти жилища, одежда, бесчисленные болезни и опасности… То ли дело мчаться среди звезд в виде яростного сгустка систем силовых полей, быть и неотъемлемой частицей Вселенной, и ее хозяином.
Высокая дверь института открылась, наверное, в сотый раз за последние часы и выпустила Меликова на улицу. Дар шагнула ему навстречу.
«Опекун обязан устранить преграду…»
Она сосредоточилась и без труда заглянула в душу проректора. Там оказалось крайне тоскливо и еще холодней, чем на улице. Мысли Меликова шли бессвязно, толчками, натыкаясь одна на другую:
«…Боль вроде непостоянная, приходящая, но если лопнет сосуд, эта язва меня доконает. На операцию не согласился. Каждый раз есть две опасности: потерять много крови, а в случае операции… Да что об этом думать… Мы предполагаем, а случай решает…»
«Цветы… Не забыть купить цветы. И конфеты. И спрятать дома вермут. Если Лялька приведет своих „динозавров“, они опустошат холодильник, везде нагадят своими сигаретами — кучки пепла находишь потом даже в платяном шкафу».
«Опять звонили из журнала. А я все тяну и тяну со статьей. Погружаюсь в сотни нелепых и никому не нужных бумаг, дремлю на совещаниях и заседаниях. Проклятое „некогда“! Некогда просто сесть за письменный стол, разложить записи и выписки, подумать… Это так сладко — думать. Если только я не разучился. За четыре года ни одной статьи. Конечно, можно было бы завести „негров“. Как Алешин, например. На него вся кафедра пашет, а он их за это презирает и держит в черном теле. Овчаренко еще в прошлом году мог защититься — нет, придержал. Тихонько, незаметно. И главное, гад, моими руками. Сам же, наверное, все вывернул наизнанку: мол, Меликов палки в колеса вставляет. Не хочется ему терять такого адъютанта, это понятно. Кому хочется что-либо терять…»
И тут Дар буквально оглушила волна липкого страха:
«Не удержаться, нет! Он молодой, напористый, его знают в президиуме академии. Он умеет блеснуть, показать свою незаменимость в любом деле. А что умею я? Копаться в рутине административных дел, нести все на своем горбу… Кому это нужно? Во всяком случае, Алешин, заняв мое место, не станет утруждать себя заботами. При желании всегда найдется какой-нибудь Овчаренко, который станет преданной тенью, роботом-исполнителем…»
«Опять боль! Мне нельзя волноваться — лопнет язва. А не лопнет, так придет Алешин… Придет и растопчет! Я представляюсь, ему анахронизмом, знахарем в сверкающем храме науки. И что с того, что алешины превратили этот храм в рынок? Да, они имеют „товар“. Но они не живут мыслями, а продают их. И философия из диалогов мудрых превращается в соперничество знающих, из обмена возвышенным в возвышенный обман… Кроме того, Меликов, ты уже стар, хоть и не сед. А Алешин не придет… Он уже пришел в храм, ты его сам привел, за руку, было дело. И он не растопчет. Он уже растоптал и пошел дальше, не заметив то, что было тобой, Меликов…»
Дар вдруг услышала панический звон трамвая, лихо вылетевшего на поворот, и мгновенно очнулась.
Проректор шел трамваю наперерез, точнее, стоял уже на рельсах, ничего не замечая и не слыша голоса гибели. Сейчас огромная красная машина ударит его в бок, сомнет и бросит под колеса…
Дар кинулась вперед, рванула Меликова за отворот пальто. Он отлетел в сторону, грузно упал на спину, в снег, но тут же повернул к обидчику широкое дряблое лицо. Только теперь Меликов услышал душераздирающий звон трамвая, увидел вагоновожатую, закрывшую лицо руками, и понял, где он уже почти был и откуда чудом вернулся.
— Простите, ради бога, простите… — бормотал он, нашаривая в снегу то ли очки, то ли отлетевшую при падении шапку.
Дар потянулась к Меликову, чтобы помочь ему подняться. Он схватил ее руку, стал тыкаться в нее холодными мокрыми губами.
— Я так обязан, так обязан, — приговаривал он. — Вы спасли… Скажите свое имя! Как вас отблагодарить?..
Дар вырвала руку, затерялась в толпе любопытных, тотчас же собравшихся на месте происшествия.
Ужас былых намерений гнал Дар домой. Неоднозначность этого примитивно-сложного мира поразила ее. Как они живут? Где у них критерии правды, в чем они? Как отличают черное от белого и кто в конце концов прав в данном случае: ее возлюбленный или этот тучный и, наверное, несчастный человек, который только что чуть не погиб? И можно ли в этом мире кому-нибудь безоговорочно доверяться, как это принято у них? Как опекать людей, чьи правды так не похожи?!
Впервые Дар захотелось все бросить и улететь.
Муж — чудо из чудес! — повязавшись фартуком, чистил картошку.
— Где ты так долго была? Я уже начал волноваться, — упрекнул он.
Алешин помог Дар раздеться и, не заметив ее подавленности, повел на кухню.
— Я сегодня делаю прием в честь моей звездной девочки! — заявил он, показывая уже приготовленный их любимый салат из вареных яиц и лосося. — А вот свежайшие золотистые сухарики. Еще горячие. И великолепные отбивные.
— Что с тобой? — удивилась Дар. — Что-нибудь случилось?
— Случилось! Что-то случилось — чувствуем мы… — пропел Алешин, привлекая ее к себе. — Сегодня первый день весны — раз. Я тебя очень-очень люблю — два. Кроме того, я сегодня славно поработал. Дописал седьмую главу, начал новую. Хочу поразмышлять о стабильности гипотетических цивилизаций, их жизнеспособности и долговечности. Понимаешь, от этих факторов зависит уровень развития цивилизации.
— Понимаю, — улыбнулась Дар. — Дай-ка я сниму шубу и надену теплые носки. Ноги прямо окоченели.
Алешин бросил нож, стал помогать жене снимать сапожки.
— Учти, — сказала вдруг она. — Развитие цивилизаций даже при благоприятных условиях не всегда идет по экспоненте. Стремление к познанию тоже зависит от многих факторов. Например, от природной интенсивности разума или от того, входит ли познание в исторически выработанную систему социальных стереотипов ценностей…
— Откуда такая мудрость? — удивился Алешин и тут же вспомнил: — Ага, все ясно. Как говорится, сама видела. Дай я тебя за это расцелую.
Он усадил Дар в кресло, укутал ей ноги пуховым платком. Затем быстро сервировал журнальный столик, включил телевизор.
— За тебя! — Алешин с удовольствием выпил, закусил долькой лимона. — Ты в самом деле Дар! Понимаешь, с твоим появлением мне стало работаться. Столько новых мыслей… Ведь в сущности проблема Контакта сводится к двум кардинальным вопросам: есть ли иной разум вообще, и если есть, то почему он не входит с нами в контакт.
— Ага, — передразнивая мужа, сказала Дар. — Попробуй с вами войди… Вы же догматики. Вот ты придумал какие-то модели и закольцевал, замкнул на них свое воображение. Сигналы подавай тебе только в радиодиапазоне, пришельцев — в ракетах. Все это так примитивно…
— Конечно, — засмеялся Алешин. — Лучше нагишом — и прямо на лоджию. Контакт гарантирован.
— Гена, — Дар устало откинулась в кресле. — Почему ты не можешь быть серьезным? Или не хочешь? Почему ты каждодневно испытываешь мое, и без того достаточно безумное, чувство к тебе? Откуда в тебе этот постоянный скептицизм? Эти сарказм и неприязнь к людям? К тому же Меликову, например?
— К Петру Петровичу?! — возмутился муж. — Знаешь, это уже твои фантазии. Меликов, конечно, ретроград, но как человек… Он мне сегодня Болгарию предложил! Понимаешь? Две недели. Симпозиум не ахти какой, но сам факт…
И вновь Дар на миг задохнулась от чувства, что все здесь, в этом мире, зыбкое и неопределенное: понятия, чувства, эмоции, что ей, наверное, никогда не разобраться в хаосе, где практически нет однозначности. Ведь раньше муж говорил о Меликове совершенно противоположное. И с нею, своим звездным даром, был постоянно невнимателен и неласков. Что же изменилось? И как надолго? Есть ли что-нибудь вообще стабильное в этом изменяющемся, плывущем под взглядом и рукой мире?
— Ну разве ты не понимаешь, — пробормотал муж, наклоняясь и горячо дыша ей в лицо. — Дарьюшка! Сегодня счастливый день, и я люблю весь мир, а в нем больше всех — тебя. Это так логично. Мои студенты говорят: «Это и ежу понятно»…
— Ты как-то очень прозорливо написал о несоответствии уровней развития разных цивилизаций, — осторожно заметила Дар.
Алешин стал целовать ее щеки, шею, ложбинку, которая уходила к холмикам груди.
— Это не страшно, мой найденыш, — прошептал он. По его лицу бродила улыбка, которую Дар не поняла бы, проживи она на Земле еще тысячу лет. То ли униженная, то ли глумливая, то ли и вовсе сатанинская. — Несовпадения преодолеваются. Да, да, все несоответствия и несовпадения преодолеваются… терпением и жертвенностью.
Алешин засмеялся, с хитрецой захмелевшего человека погрозил Дар пальцем.
— На то вы и старшие… А мы что? Мы — дети. Вот и нянчитесь с нами. Нас такой расклад вполне устраивает.
Он будил Дар поцелуями, шептал ей бессвязные и в общем-то глупые слова, в которые вдруг, как и тогда, осенью, вплелись просящие интонации: «ты только будь со мной», «только не исчезай, фея моя», будто Алешин в глубине души всегда верил в звездное происхождение жены, но притворялся, а сегодня его ужаснула мысль о случайности и непрочности его счастья, заставила бормотать повинные слова и неистово искать близости, будто в ней, и только в ней — в кратком слиянии, восторге тел — была гарантия их отношений, обещание, что все останется, как и прежде.
Успокоенный, почти засыпающий Алешин, после полуночи уткнулся головой под мышку Дар, попросил:
— Расскажи, как там, на звездах.
И вновь на его губах сложилась во тьме непонятная улыбка.
Монография разрасталась.
Алешин днями не выходил из дому, заполняя страницы стремительным четким почерком. Раз зашел Овчаренко: без традиционного подарка, зато с полным дипломатом литературы и каких-то расчетов, которые затребовал шеф.
— Вот эту главку я прочту им в Болгарии, — многозначительно сказал Геннадий Матвеевич аспиранту и, повертев перед его носом бумажной трубкой, с хитрой улыбкой спрятал ее за спину. Слово «им» в устах профессора прозвучало даже грозно, словно речь шла не о выступлении на международном симпозиуме, а о решающей битве умов, в которой он непременно хотел победить.
В эти дни Алешин как бы забыл о существовании Дар. Механически съедал обеды, как должное воспринял умение жены печатать на машинке и тут же засадил ее за работу.
— Я ради тебя научилась, — похвасталась Дар, когда принесла мужу первую кипу перепечатанных страниц. — Всего за полдня научилась.
Алешин рассеянно улыбнулся.
— Раз ты фея, то должна и все уметь, — сказал он, целуя Дар в шею. — Скажи спасибо, что я даю расчеты знакомому программисту и не использую тебя вместо компьютера. Ведь ты смогла бы?
— Конечно, — радостно ответила Дар. — И гораздо быстрее ваших ЭВМ.
Алешин изменился в лице.
— Не надо, — попросил он. — Пусть сказки остаются для спальни, Дарьюшка. Жизнь и твои фантазии несовместимы. Ты чересчур хорошая хозяйка для феи.
Дар пожала плечами, отстранилась.
— Это так просто, — печально промолвила она. — Другое сложно. Мне кажется, ты не понимаешь меня. Не веришь мне.
— Ну что ты, — Алешин направился к своему кабинету. — Я понимаю твою любовь. Я без тебя жить не могу. Разве этого мало?
— Разве этого мало? — будто эхо повторила Дар.
«Если бы я знала, — подумала она с непонятной тоской. — Я искала любовь и нашла ее. Странную, непохожую на рассудочно-возвышенное объединение духовных субстанций у нас. Я вернулась в непрочный мир, в котором мало гармонии и много страстей. Мне он нравится. Может, потому, что в родном мире у меня не было прочных привязанностей. Но и здесь все так зыбко. И тоже непрочно. Геннадий, конечно, любит меня, но больше тело, чем душу. У нас одна крайность, у них — другая. А где же золотая середина? И есть ли она вообще под звездами?»
Дар тихо заплакала (ей понравилась эта особенность человеческого организма — слезы как будто смывали горестные мысли) и пошла в гостиную допечатывать главу.
«Непостижимо! — мучилось ее сердце. — И Посланец, и теперь вот Геннадий говорили о жертвенности. Почему у них, на Земле, любить — значит жертвовать? Должно все быть наоборот. Я всегда полагала, что это чувство сродни вдохновению: обогащает светом и радостью. Но даже если и так… Почему Геннадия бесит, когда я обнаруживаю, что живу для него. Он же хочет этого и в то же время хмурится, когда я говорю: „если ты хочешь“, „если так нужно“. Что это? Проявление совести или обычное лицемерие?»
Это было во вторник.
А в пятницу, когда Алешин уехал в институт, в дверь робко позвонили. Дар, не заглядывая в глазок, открыла. На площадке стояла незнакомая женщина в черной косынке.
— Извините, — сказала она, — я со второго подъезда. Вы знаете, вчера Паша умер, дворник наш. Павел Потапович, — поправилась она.
Дар не знала дворника, но на всякий случай кивнула.
— Я соседка их, — объяснила женщина. — Решили собрать, кто что может. На похороны. Паша выпивал, а теперь вот трое сирот оставил. Старшая только в седьмой класс пошла.
— Нужны деньги? — спросила Дар, с трудом вникая в логическую связь, которая соединяла смерть выпивохи-дворника, эту женщину с энергичным лицом и ее, жену профессора Алешина.
— Кто сколько может, — подтвердила гостья.
— Обождите минутку.
Дар зашла в кабинет, открыла шкатулку, в которой хранились деньги. «Сколько же дать? — подумала растерянно она. Вспомнила о детях. — Трое это много…»
Она вынесла три четвертных, подала женщине через порог. Та механически взяла, затем, рассмотрев купюры, удивилась, даже испугалась.
— Что вы — такие деньги! Ну, рубль там или три. Не надо, что вы!
— Берите, берите, — сказала Дар. — Это сиротам.
Вечером, за ужином, она рассказала о несчастье Геннадию. Тот слушал невнимательно, допивал чай.
— Знаю я этого алкоголика, — жестко заметил о покойном.
Дар сказала о соседке, которая собирала на похороны, о детях. Алешин кивнул головой: надо, мол. Дар вскользь назвала сумму и беззаботно сообщила, что она сегодня открыла для себя музыку Грига — передавали по радио.
— Даже заплакала, — похвалилась она. — Я уже научилась плакать, представляешь?!
Алешин поперхнулся чаем, поднял на нее бессмысленные глаза.
— Сколько? — переспросил он. — Сколько ты ей дала?
— Семьдесят пять, — ответила Дар. — А что? У нас же есть еще.
Алешин отставил недопитый чай, криво улыбнулся.
— Глупо, конечно, ссориться из-за денег. — Он помолчал. — Но в нашем громадном городе тысячи алкоголиков и каждый день кто-нибудь умирает. Каждый час. А может, и чаще. Я не могу содержать всех сирот. Не понимать этого не может даже… инопланетянин, из какого бы института он ни был. Прости, Дар, но ты просто ненормальная. И болезнь прогрессирует…
Он ушел в кабинет, но работал мало — ходил, даже закурил, что бывало с ним крайне редко.
Дар попробовала почитать газету. Она опять остро почувствовала, что, несмотря на колоссальный объем информации, которую усвоила перед отбытием на Землю, ей катастрофически не хватает знаний о людях, их привычках, частной жизни. Попробовала, но читать не смогла. От жгучей обиды наворачивались слезы, газетные строки дрожали и расплывались. Вот тебе и жертвенность, и опекунство… Вот любовь по-земному.
Дар разделась, выключила свет. Через полчаса в спальню пришел Алешин и тоже лег. Помолчал, затем неловко попытался обнять:
— Хватит дуться. Расскажи лучше, как там на звездах.
Дар судорожно вздохнула, будто всхлипнула.
— Чисто там, — сказала она и отвернулась.
Алешин прислушался: жена чем-то стучала на кухне. Он тихонько прошел в гостиную, открыл бар. Хотелось холодного — фужера два-три «эрети» со льдом, чтобы снять липкую тяжесть дневной жары, разом погасить заботы дня, которых сегодня было как никогда много. Но лед на кухне, а там Дар со своим дурацким отношением к спиртному: всякий раз, когда ему ну просто необходимо выпить, замирает и смотрит так, будто он по меньшей мере пьет серную кислоту.
Алешин поморщился, налил полфужера минеральной и залпом выпил. Тут же закурил сигарету и отправился на кухню.
Жена стояла возле окна и резала на доске овощи.
«Опять рагу, — тоскливо подумал Алешин. — Нет, она в самом деле ненормальная — брезговать мясом… Сказать? Нет, от ее „если надо“… и так тошно».
Дар улыбнулась мужу:
— Я купила два арбуза. Они в холодильнике.
Алешин немного оттаял душой, присел на скамеечку возле раковины мойки.
— Ты знаешь, — сказал он, разглядывая гирлянды освещенных окон соседнего дома. — Меня этот Меликов доводит до белого каления. Он все-таки копает под меня. Его бесит мое профессорство. Бездарность любой прогресс, любое продвижение воспринимает как отклонение от нормы. Да, да! Бездарность всегда считает себя нормой. Эталоном! Больше того государственным стандартом…
— Опять ты кричишь, — заметила Дар. — Я же тебе говорила: не обращай внимания. Твое дело — заниматься наукой. А у вас поединок самолюбии.
— Много ты понимаешь, — озлился Алешин. — Я сегодня зашел к нему насчет своей монографии. А он мне с ухмылочкой: «Трудную стезю вы себе выбрали, Геннадий Матвеевич. Массы нынче обольщены идеей профессора Шкловского об уникальности нашей цивилизации. Ваша же концепция…» Тут я ему: «Концепция не моя, дорогой коллега. Она Джордано Бруно принадлежит».
— Можно было Анаксагора назвать. Или школу Эпикура, — сказала Дар. — Они ведь раньше провидели.
— Эпикур, — фыркнул Алешин. — Да Меликов и о Гомере в жизни не слыхал. Он знает только, что такое свинья и как ее подложить.
— Если хочешь, я помогу тебе, — сказала жена, нарезая кубиками картошку.
Чтобы не выругаться, Алешин выскочил из кухни. Уже не таясь, открыл бар и выпил еще полфужера коньяку. Захотелось что-нибудь съесть. Он опять пошел на кухню, мысленно постанывая, как от зубной боли: «Сколько можно повторять эти унизительные „если надо“, „если хочешь“… С одной стороны, собачья преданность, с другом — осточертевшая игра в „звездную девочку“, высшее существо. Как я только терплю…»
— Хочешь, я позвоню Шкловскому? — спросила Дар, когда он выудил из банки маслину и бросил ее в рот. — Прямо сейчас позвоню и все ему объясню. Ну, в общем, что ты прав.
Алешин от неожиданности чуть не подавился.
— Бред! Чушь собачья! Паранойя! — закричал он, выплюнув косточку. — Твои сказки хороши только для постели! Для по-сте-ли! Уже сто раз говорено: не вмешивай в серьезные дела свой бредни. Что ты ему скажешь?! Где доказательства в конце концов? Ты можешь хоть что-нибудь доказать? Ему, мне?
Дар побледнела, отложила картошку. Лицо ее исказилось.
— Не могу, — тихо ответила она. — Нельзя. Я же говорила тебе — почему нельзя. Я могу только объяснить. Я много раз пробовала тебе объяснить, помочь. Но ты ни разу не выслушал меня до конца. Не воспринял мои слова даже за фантазии.
— Психиатру расскажешь, — зло отрезал Алешин. — Я уже консультировался: типичная паранойя, стойкий систематизированный бред. Черт побери, только этого не хватало! Вся страна обхохочется. Профессор Алешин довел рассуждениями о множестве обитаемых миров свою жену до помешательства.
— Зачем ты так, Гена? — Глаза Дар расширились, наполнились слезами. — Почему ты так боишься правды, Гена?
— Ах, правда! — съязвил Алешин, жадно раскуривая вторую сигарету. — Правда, которая живет на пятом этаже и варит паршивые борщи! И заодно знает истинную космологию?
Он даже встал, чтобы при этом окончательном моральном разгроме ему помогали и рост, и умение держаться перед аудиторией.
— Хорошо, — сказал он. — Предположим — ты тайна. Я кое-что помню о твоем появлении, документах и придуманной мной биографии… Предположим ты его Величество Журавль. Но ведь любое зеркало скажет обратное, обычная мещанка, клуха. Прости, по ты доступная тайна. Домашняя, земная. Ты журавль в руках. А место журавля — в небе. Только там! Какая же ты тайна — на этой вонючей кухне? Почему ты здесь?
Нож выпал из рук Дар.
— Почему? — будто эхо повторила она.
И тут на Алешина пахнуло холодом. Ему вдруг почудилось, что Дар одним неуловимым движением сбросила одежду. Он вновь на миг увидел ее всю, как тогда, в дождь. Затем свет мигнул — погас, но не совсем. Дар схватила что-то белое, метнулась к окну. Зазвенело разбитое стекло.
— Дар!!! — страшно закричал Алешин и бросился к двери.
Он перепрыгивал по пол лестничных пролета, рискуя сломать себе шею, что-то кричал — безысходное, непонятное для себя и понятное каждому, кто хоть раз видел смерть. Он бежал так, будто надеялся опередить падение тела, подхватить, смягчить своим телом страшный удар об землю.
Алешин слепо ползал по асфальту. Куски стекла ранили ему руки, но он не замечал этого.
— Где? Где она? — повторял он как безумный. — Где ее тело? Где ты, Дар?!
Люди, подошедшие на крики и звон разбившегося стекла, осмотрели клумбу палисадника. Кто-то поднял профессора на ноги.
— Иди домой, друг, — строго сказал парень в сине-красном тренировочном костюме. Он жил, кажется, на шестом этаже и иногда при встречах здоровался с Алешиным. — Померещилось тебе. Или выпил лишнего. Жена небось картошку жарит, а ты тут людей пугаешь.
Не замечая насмешливых и любопытных взглядов, Алешин на негнущихся ногах доковылял до соседнего подъезда, присел на скамью.
Он понял. Он определенно уже знал, что жены в квартире нет. То белое, что мелькнуло в ее руках, когда погас свет… Эфирное и упругое… Конечно же, это были крылья! Дар как-то рассказала о них, а он посмеялся: ага, мол, шестикрылые, как у серафима… Улетела! Улетела его ненаглядная. Нет ее ни в квартире, ни в городе, ни на всей Земле.
Улетел Журавль!
Михаил Емцев, Еремей Парнов
Оружие твоих глаз
Неповторимый запах железной дороги. Властный запах. Он уводит назад, назад. Заставляет припомнить давно пережитое, отшумевшее. С каждым днем оно уходило все дальше. И всегда возвращалось. Еще вчера он стоял у вагонного окна. Убегали столбы, и параллели проводов то подымались, то опускались. Уносились деревья, стога сена и белые хатки. Только горизонт оставался неподвижен. Будто он не подвластен ни времени, ни движению, этот далекий и чистый горизонт.
Сергей Александрович Мохов еще раз прошелся вдоль путей, взглянул на часы и не очень уверенно направился к вокзалу. Поравнявшись с причудливым кирпичным строением, на котором было написано «Кипяток», он остановился, опять посмотрел на черный циферблат своих часов и долго глядел на смутное свое отражение. Он никуда не спешил. И если бы его спросили, зачем он пришел сюда, не смог бы дать ясного ответа.
Когда-то он жил в этом городе. Помнил разрушенные его дома и пыльную листву высоких южных тополей. Здесь закончил школу, и воспоминание о выпускном вечере все еще грустно и ласково сжимало сердце. Они пришли на вокзал тогда прямо из школы. Разгоряченные, чуточку хмельные. Куда-то звали уходящие в ночь рельсы, чуть мерцали фиолетово-синие огоньки на путях.
Родился он в Херсоне, эвакуирован был в Свердловск. Может быть, поэтому и покинул без сожаления тихий украинский городок, в котором прожил три года. Уехал учиться в Москву.
Переписка с друзьями по школе быстро оборвалась — мальчишкам не до писем. Увлекли, закружили новые привязанности, Растерял, позабыл адреса. Шутка ли! Почти два десятилетия… Целая жизнь.
Он никого не нашел здесь из тех, с кем хотел повидаться. Все разъехались, разлетелись по огромной стране Исчезли руины. Появились кварталы новых домов. Сгинула толкучка, на пустыре построили стадион (товарищеская встреча между футбольными командами «Шинник» — «СКА» сегодня в 18:30). Карлов замок превратился в краеведческий музей.
А Юрка? Юрка уехал неизвестно куда. Что поделаешь?..
Пора домой. К трудам и заботам.
Но как тревожит душу этот догорающий день! Все ли он сделал для того, чтобы отыскать стертые временем следы?
Сладковато пахнет разогретый на солнце битум, ослепительный блик чуть дрожит на горячем рельсе и ревет маневровый паровоз на запасном пути.
Нужно взять билет, съездить в гостиницу за чемоданом, а не ходить тут неведомо зачем. Поезд отправляется в 19:03. Можно успеть перекусить на дорогу… Взять в вагон бутылку минералочки, купить керамическую свистульку сынишке…
В воздухе уже летает прилипчатый тополиный пух. Пыльный закат пламенеет в стеклах. Время почти не движется. Только в черном циферблате часов появляется и исчезает слегка искаженное отражение немолодого уже человека.
Сергей Александрович чуть наклонил голову и решительно зашагал к вокзалу. Но у буфета остановился, помедлил немного и толкнул обшарпанную дверь.
Он взял кружку пива и два бутерброда — с колбасой и сыром. Присел за круглый мраморный столик. На холодной кружке туманный налет. Медленно тает пена. Сергей Александрович немного отпил и отодвинул кружку.
На холодной кружке туманный налет. Медленно тает пена. Сергей немного отпил и отодвинул кружку.
— Твой Шкелетик снова загудел в больницу, — сказал Юрка.
Они сидели в привокзальном буфете. Для Сережи это была первая в жизни кружка пива. Горьковатый, терпко пахнущий хмелем напиток не нравился ему, но он не подавал виду. Пил и попыхивал сигаретой совсем как взрослый.
— Что с ним?
— Все то же. Голова, приступы.
Они помолчали и приложились к кружкам.
— И охота тебе с ним возиться, — лениво сказал Юрка.
Охота? При чем тут охота? Но как объяснить это Юрке! Как объяснить…
— Месяц проваляется, придет к концу четверти. Отстанет по всем предметам, — глядя в окно, сказал Сережа. Там медленно двигался тяжелый состав. На открытых платформах матово поблескивали груды угля.
— Он не отстанет, — криво улыбнулся Юрка. — Вундеркинд.
Да, вундеркинд. Ну и что? Это ему не даром дается.
— Каждый из нас по-своему вундеркинд, — философски сказал Сережа. Просто другой он. Понимаешь? Другой. — Сережа с трудом находил нужные слова.
Почему ты его не любишь? Почему вы все его не любите? За что? С самого начала настроились против парня. Почему, спрашивается?
— А чем он, по-твоему, хорош? — вспылил Юрка. — Почему ты один из всего класса с ним дружишь? Больше никто, только ты.
Сейчас у Юрки противные нахальные глаза. Они и вообще-то не очень скромны, эти голубые бусинки, но сейчас особенно. Неохота откровенничать с человеком, когда у него такой взгляд. Все же пиво крепкое. Забирает. У Сережи слегка шумело в ушах. Он улыбнулся. Не очень-то весело улыбнулся.
— Пойдем отсюда, здорово паровозами воняет.
Они поднялись. Вокзальный буфет помещался в вагончике, вкопанном в землю. Там же были касса и диспетчерская. Разрушенный прямым попаданием фугаски вокзал представлял собой аккуратно прибранные развалины. По ту сторону железнодорожного полотна работала камнедробилка. Водопад мелких камней грохотал по металлическому желобу.
Сошли с перрона и зашагали по мощеной дороге, обсаженной с двух сторон липами. Апрельское солнце и мартовское пиво размаривали. Юра сломал ветку и, ободрав с нее листья, получил длинную и тонкую хворостину. Он щелкал ею себя по ногам и рассматривал небо.
Не в настроении. Он всегда молчит, когда ему что-то не нравится. И чего он злится?
— Слушай, Юрко, — нерешительно начал Сережа.
— Ну? — Юрка встрепенулся.
Не злится, а ревнует. Ведь он тоже мой друг. Он хороший парень и… умеет держать язык за зубами.
— Я тебе кое-что расскажу, Юрко, только… Это история сложная… Одним словом, надо молчать, понимаешь?
Юрка кивнул. У него даже вспыхнули уши от любопытства.
Сережа некоторой время шел молча. Обдумал, что он может рассказать Юрке. Пожалуй, все… Только об одном придется молчать.
— Ты помнишь, как его к нам в класс привели? — спросил он.
Юра улыбнулся. Как не помнить?
— У нас над ним любят подшучивать, — сказал Сережа, — наши мужички не очень-то народ соображающий. А зря. Сашка интересный человек. — И опять замолк.
Они шли сначала по булыжнику, затем по асфальту. Аллея лип кончилась, потянулись городские развалины. По обеим сторонам дороги торчали холмы щебня и голые стены, сквозь которые был виден горизонт, скрученная проволока, смятые, как вареные макаронины, рельсы. Время вершило свой однообразный уравнивающий суд. Лес наступал на развалины — и побеждал. Первая зелень распустилась именно здесь, на щербатых холмах войны.
Весна только еще начиналась, но все деревья уже были усеяны крохотными листочками. А через месяц городок утонет в пыльной листве. В степных краях, где родился Сережа, такого не было, листва там редкая, с восковым налетом, будто искусственная.
— Так что ты хотел сказать о Сашке? — нетерпеливо спросил Юра.
— Несправедливы мы к нему. Когда Алексей Иванович его привел, он сразу не понравился нашим. И с тех пор пошло…
Когда Алексей Иванович ввел в класс нового ученика, тот поразил всех своей худобой и бледностью. Мальчишки настороженно молчали, и Алексей Иванович сказал:
— Вот ваш новый товарищ, его зовут Саша.
Зашумели, загалдели, и вдруг кто-то сказал:
— Шкелетик прибыл.
Алексей Иванович, очевидно, не расслышал, на лице Саши тоже ничего не отразилось. Было непонятно, видит ли он то, что находится перед ним. Было непонятно, слышит ли он то, что произносится рядом с ним. Это был непонятный мальчик. Отсутствующее выражение его лица беспокоило учителей и вызывало насмешки учеников. «Шкелетик» — это не самое худшее прозвище, придуманное изобретательными ребятами.
— А ты знаешь, что Саша с отцом был в концлагере у фашистов? Отец погиб, а он выжил. Чудом выжил.
— Вот как? — сказал Юрка. — Ну и что?
— Ну, знаешь!
«Для него это ничего не значит. Тек, пустячок. Был или не был, неважно. Посмотрел бы я на тебя, каким бы ты стал после Освенцима».
— Поэтому он и стал такой, — заключил Сережа.
— Какой такой? — ухмыльнулся Юра.
— Ну… больной и странный немножко. А наши этого не понимают. Даже учителя некоторые. Не любят его. А за что?
— Слишком умничает. Много из себя воображает. Генчик прямо ему сказал, что он выскочка. Разве неправда?
— Неправда. Сашка и впрямь умный. Он хочет до всего сам докопаться, он не такой, как все остальные, он… — Сережа подумал и заключил: — А Генчик сволочь. Фашист.
— Нет. Генчик самый умный. Он еще при панской Польше в университете преподавал. Его работы и за границей известны.
— Что же он сейчас школьным учителем стал? — насмешливо спросил Сережа. — Не признают его талантов? Или с немцами путался?
— Он сам не хочет. Он дома работает.
Сережа недоверчиво покачал головой. Юрка загорячился.
— Не веришь? Я сам видел. Мы прошлый год в Карловом замке яблоки воровали, и я заглянул в окно на втором этаже…
— Генчик живет в Карловом замке?
— Ну да. И в комнате у него я видел приборы какие-то, колбы, ну чисто наш физический кабинет.
— Все равно он сволочь, — твердо заключил Сережа. — И, наверное, с бандеровцами связан. В таком месте живет, не может быть, чтобы лесные гости к нему не захаживали.
— Ну, об этом оперативники лучше знают, чем мы с тобой. Во всяком случае до сих пор его не забрали.
— Потому что не накрыли. Может, он нужен им как приманка. Посмотришь, еще накроют. Генчик фашист, помяни мое слово. Я фашиста за сто шагов чую. Недаром мой отец четыре года в плену провел. А Сашку Генчик ненавидит за то, что еврей. Вот почему Генчик не любит Сашку.
— Нет, — сухо сказал Юрка. — Генчик настоящий ученый. Он показухи и хвастовства не любит. А Сашка, неважно, еврей он или нет, всегда на первое место лезет. Поэтому Генчик его осаживает. Не понимаю, почему ты со своим Сашкой, как с писаной торбой, носишься?
Сережа насупился.
— Он мой товарищ, да и твой тоже. С ним интересно. А Генчик… С девяти до трех он учитель физики средней школы, а вот хотел бы я знать, чем он занимается с пяти вечера и до девяти утра.
— Что ты хочешь сказать?
— Ничего. Я уверен, что этот фашист связан с бандеровцами. И места лучше, чем Карлов замок, для этого вряд ли найдешь.
Юра нахмурился. Он отвернулся и сплюнул.
— Ерунда! Но если хочешь, мы можем проверить. Подсмотрим, что делает Генчик по вечерам и даже ночью. Не сробеешь? Я Карлов замок знаю.
У Сережи перехватило дыхание.
Вот оно что! Это интересно. Скучноватый субботний день наполнился гремящими звуками. Ревели сирены, взрывались гранаты, рассыпались пулеметные очереди.
— Что ж, давай. Можно попробовать.
Юра испытующе посмотрел на него.
— Ты не бойся, мы не с пустыми руками пойдем. У меня есть «вальтер».
У него есть «вальтер»! Да, конечно, Сережа сам сколько раз держал в руках эту замечательную штуку. Темная вороненая сталь с голубыми дымящимися разводами, рифленая рукоятка — именное оружие какого-то фрица. Юрка откопал его возле сгоревшего «Тигра».
— А патроны есть? У тебя же не было патронов?
— Достанем.
Они помолчали.
— Зачем нам это нужно? Ведь никто спасибо не скажет, а если узнают про оружие, здорово погореть можно, — Сережа задумчиво чертил на земле замысловатые узоры.
— Как знаешь, — Юрка встал со скамейки. — Я пойду, мне отец велел быть дома, дрова рубить надо. А ты куда сейчас?
— Зайду Сашку проведаю. Как он и что. Может, ему чего надо.
— Ладно. Бывай. — Юра ушел, насвистывая песенку.
Сережа долго смотрел ему вслед. «И пока за туманами видеть мог паренек, — подпевал он про себя уходящей мелодии, — на окошке на девичьем все горел огонек…»
В больнице Саши не было. Сестра сказала, что он провел у них всю ночь, утром ему сделали укол и он ушел домой.
Сережа пошел на Здолунивскую, где в маленьком полуразвалившемся от старости домике жил Саша со своей теткой Зосей. Впрочем, какая она ему тетка? Так, старая знакомая отца, которая из жалости приютила сироту. Приют этот был для Саши тяжелым испытанием. Тетка Зося пила. В свободное от работы время она заливала неудавшуюся жизнь самогоном.
Саша спал, накрыв лицо «Занимательной арифметикой» Перельмана.
Сережа присел на краешек колченогого венского стула и огляделся. Ну и конура! Маленькое окошко выходит в огород, сквозь пыльные стекла видны скучные небрежно вскопанные грядки.
В комнате всего и мебели, что никелированная кровать с отвинченными шариками, стол, кухонный шкаф да два стула. Рисованные обои давно стерлись, и на Сережу глядели угрожающие лиловые пятна. Воздух затхлый, нежилой.
Сережа прошелся по комнате. На столе аккуратной стопкой лежат учебники. В открытой тетрадке размашистым Сашиным почерком написано: «Упражнение № …»
Ящик стола выдвинут, и в нем Сережа увидел темную старинную шкатулку. Интересно! Сашка никогда не показывал ее. Сережа знал все Сашкино барахло: коллекцию карманных фонарей, набор радиоламп к немецкому приемнику, оккупационные марки, цветные фотографии прибалтийского курорта, серую монету в 10 пфеннигов и несколько автоматных гильз. Но шкатулки раньше не было. Никогда Сережа не видел у него шкатулки. Или он до сих пор ее прятал, или недавно достал. Вряд ли он мог ее купить: на тети Зосины гроши не развернешься. Скорей всего кто-то подарил ему эту красивую штуковину.
Сережа приподнял крышку. Изнутри на ней была наклеена фотография немолодого мужчины с печальными глазами, на дне лежало… Что это может быть? Два черных полированных диска, скрепленных дужкой посредине и с проволочками по бокам.
Сережа извлек странную штуковину. Похоже на очки. Очки для слепых.
Сережа повертел их в руках, посмотрел на свет и поднес к глазам. Самые обычные темные очки! Он отвернулся от окна и уставился в темный угол. И тогда ему показалось, что он смотрит сквозь темное стекло на ярко освещенный киноэкран, где только что демонстрировался интересный фильм и внезапно оборвалась лента. Яркие точки и полосы прыгали, образуя причудливые узоры и разгорались все сильнее, сильнее… Грязные обои едва проглядывали сквозь это неожиданное сияние.
— Ты что, обалдел!
Разъяренный Саша сорвал диски с Сережиного носа и спрятал их в шкатулку. Руки у него тряслись.
Сережа смущенно потер переносицу.
— Что это за штука, Саша?
— Что! Что! Не твоего ума дело. Как ты вошел?
Он постепенно успокоился и аккуратно уложил очки в шкатулку. Сережа недоуменно глядел на его худую спину с острыми лопатками и тонкие голые ноги.
«Чего он так разволновался? Что-то здесь неладно…»
— Дверь не заперта, вот я и вошел.
— У этой пьяной дурехи все нараспашку. И душа, и двери, — сердито сказал Саша. Он забрался под одеяло и сурово посмотрел на Сережу. Потом улыбнулся.
— Садись. Не обижайся, что я так… Ты меня напугал. Эта штука опасная… Что делал?
— С Юркой ходил на вокзал пиво пить… Как здоровье?
— Да ничего. Как обычно. Думал, будет хуже, но сразу после укола очухался и отпросился домой. Не люблю больницу. Что нового в школе?
— Ничего особенного. Алексей Иванович велел узнать, что с тобой…
Они перекинулись еще несколькими фразами, но разговор явно не клеился. Сережа через силу выдавливал из себя слова. Саша внимательно посмотрел на него. Сережа хорошо знал этот взгляд. Еще тогда, в первый раз, он поразил Сережу своей неподвижной безучастностью к внешнему миру. Только позже Сережа понял, что поверхностное равнодушие скрывало крайнюю уязвимость.
— Слишком много хочешь знать, дружище, — сказал Саша.
И Сережа вспомнил, что в первый же день Саша подошел к нему и сказал что-то очень похожее. Он сказал: «Хочешь поговорить со мной, дружище?» И Сережа ответил тогда так же, как и сейчас.
— Да, хочу.
Саша улыбнулся и, заложив руки под голову, сказал:
— Притащи-ка из кухни чайник и чашку для себя.
Сережа прихлебывал холодный чай из кружки с обломанным краем, Саша пил из помутневшего от времени граненого стакана.
Сереже показалось, что он не хочет рассказывать.
Но когда они покончили с чаем, Саша подобрал колени, уставился на лиловое пятно обоев и вдруг рассмеялся.
— Ты знаешь, с этой штукой, которую ты только что держал в руках, у меня связано очень многое… Если все рассказать…
Он снова замолк.
— Я об этом ни с кем не говорил. Почти ни с кем. Один раз пытался, но мне не поверили, и я с тех пор — ни-ко-му. Ни слова. А хочется… Только смотри — молчание. Даже Юрке. Понимаешь?
— Ну?! — сказал Сережа.
— Да, молчать ты умеешь. Я знаю, что ты умеешь молчать. А я вот не умею. Мне бы и сейчас помолчать… ну да все равно. Расскажу-ка я тебе одну сказочку…
— Сказку я тебе сам расскажу, — сердито сказал Сережа.
— Это будет очень страшная сказка, — улыбнулся Саша.
— Мы сегодня с Юркой повешенного бандеровца видели.
— Э-э, — махнул рукой Саша, — я видел сотни повешенных.
— Юрка в первый раз увидел.
— Юрка хороший парень, — сказал Саша, — но ему еще до многого придется доходить. Ну ладно. Так хочешь слушать сказку-быль?
— Сам знаешь, что хочу. Чего спрашивать?
Саша опять улыбнулся, совсем как мудрый старик.
— Время. Что есть время? По метрике я старше тебя на три года. А по-настоящему — на тридцать три. Ну так вот…
Лицо его стало серьезным и печальным. Сереже вдруг вспомнилась фотография внутри шкатулки.
— Дело было так. В одной каменоломне, где работали заключенные концлагеря, упал человек.
— Разве в Освенциме были каменоломни? — удивился Сережа. — Я читал, что…
— Кто тебе сказал, что это было в Освенциме? В великой Германии было много разных хороших мест, куда могли упрятать неарийцев. Итак, человек упал. Упал и скатился по склону. Так бывает, когда человек слаб, как ребенок, когда его часто бьют и он живет в напряженном ожидании смерти. Когда он уже почти потерял все человеческое, он фактически труп, который едва способен переставлять ноги, а его принуждают делать работу большого крепкого здорового мужчины. Кстати, большинство входящих в газовые камеры были именно такие, потерявшие человеческий облик полутрупы-полулюди. Для многих смерть стала избавлением от страданий. Ну ладно… Человек упал, и капо не забил его до смерти, и начальник команды не заметил, и часовой не выстрелил. Человек получил возможность пролежать несколько минут на куче щебня, в углублении скалы, скрытый от лучей палящего солнца. Потом он мне рассказывал, что, открыв глаза, сразу увидел это.
— Что это?..
Саша посмотрел на него.
— Не перебивай. Я рассказываю сказку-быль. Догадывайся сам. Сходи-ка на кухню. Еще чайку хочется.
Сережа быстро поставил чайник и вернулся. Саша продолжал свой рассказ.
— Оно ослепило его. Ему показалось, что он смотрит на солнце. В действительности он лежал, уткнувшись носом в черный блестящий кусок породы. Человек ощупал его и отодвинул от себя, перевернулся на бок и снова посмотрел. Теперь оно не ослепляло его. Порода эта выглядела, как антрацит. Холодный металлический блеск, тонкая радужная пленка, сложная паутина поверхностных трещин. И в то же время она походила на друзу плотно сросшихся кристаллов, на их гранях сверкало солнце, далекое безжалостное солнце сорок четвертого года… Человек рассматривал неведомый минерал и ждал, когда прозвучит выстрел. Впрочем, он знал, что не услышит, как прозвучит смертный выстрел.
Но выстрела не было, и человек встал. Он подтянул ноги, опираясь на локти, приподнялся. А потом и выпрямился во весь рост, как и подобает человеку. И, пошатываясь, пополз вверх, туда, где его ждала смерть.
А вечером, когда рабочая команда вернулась в свои бараки и после проверки разошлась по блокам, человек обнаружил, что нашел удивительный минерал. Он сразу понял это. Человек этот был геолог, и не существовало для него немых камней. Каждый камень сверкал и звучал для него по-своему. Он умел различать немую музыку камня. Но мелодия черных кристаллов была ему незнакома. Он услышал сильные красивые звуки, он услышал большую, как мир, музыку, но инструментовка ее была ему непонятна. Голод, страх смерти, болезни и надругательства не убили в нем желания знать. Желание знать в нем было всегда не меньше желания жить. Он и жил для того, чтобы знать.
Человек нашел себе игрушку, и она согревала его душу, как греет душу мальчишки выигранный в расшибалочку пятак. В долгие безрадостные вечера и ночи, лежа на голых неструганых нарах, человек ощупывал минерал руками и вспоминал… Он вспоминал те сотни и тысячи образцов, которые когда-то ощупывали его пальцы. Тупая тоска и безысходное отчаяние отступали под натиском воспоминаний, разгорался тусклый огонек надежды и веры… Минерал расслоился на несколько пластинок, и однажды человек заметил странное явление. Минерал начинал светиться, если его приближали к глазам! Накрыв глаза пластинками, человек лежал в темноте, где ворочались, кашляли, хрипели и умирали люди, а перед его глазами сверкал ослепительный солнечный свет. Просто свет в его чистом виде, свет и больше ничего, но и это было чудо!
Еще одно удивительное свойство черного минерала обнаружил человек. Он светился только в темноте или в тени, на ярком солнце свечение меркло, и человек видел окружавший его печальный мир, как в темном стекле.
Человек не разгадал тайны черных пластинок. Он решил их использовать. От яркого летнего солнца, от страшной известковой пыли каменоломен у заключенных гноились глаза, они слепли и попадали в газовую камеру. Человек сделал себе очки и надел их. К нему подошел капо и остановился напротив него, закрыв собой солнце. У этого убийцы была увесистая дубинка, которой он заколотил насмерть не одного заключенного. Человек стоял и ждал удара. Возможно, последнего удара. И тогда к нему в сердце хлынула лютая ненависть. Ненависть к палачам, истязателям детей и старцев. Ненависть ко всему, что обозначалось словом «фашист». Ненависть ко всем тем, о ком знал, читал и чьи портреты видел в газетах и журналах. Человека душила ненависть. Она была стопроцентная, чистая, освобожденная от нерешительности или колебаний.
Но человек стоял неподвижно и ждал удара. Он не мог даже пошевелиться и уж, конечно, не мог нанести смертельного удара своему истязателю. Ярость бушевала только в его голове и сердце.
Сквозь черные пластины, как через толщу океанской воды, он видел темную фигуру капо. Рука с палкой взлетела вверх… сейчас! смерть! Но неожиданно удар получился слабый, нерешительный. Очки слетели с носа, упали на камень, от них откололся кусочек, это и теперь заметно… а человек остался стоять. Зато капо схватился за грудь, задохнулся и выронил палку. Несколько секунд этот зверь, эта горилла, тряс головой, словно избавляясь от навязчивого кошмара, потом повернулся и, пошатываясь, поплелся прочь.
А на другой день человек узнал, что капо умер. Конечно, этот капо был маловажной фигурой в блоке, он мог умереть от чего угодно и как угодно, но, когда за несколько часов скончался и штурмфюрер войск СС Отто Шромм, человек задумался. Дело в том, что человек и на Отто Шромма посмотрел сквозь черные очки. Штурмфюрер выходил из блока, и человек увидел его жирный затылок в нескольких шагах от себя. Секунды ненависти было достаточно, чтобы, охнув, эсэсовец схватился за затылок и застыл как вкопанный. Сопровождавший Шромма холуй отволок эсэсовца в штаб. К вечеру штурмфюрер испустил дух.
Тогда человек понял, что у него есть оружие. Он мог убивать ненавистью. Ненавистью, которая стала целью и смыслом его существования…
Саша откинулся на подушку и вяло улыбнулся:
— Ну, как сказочка?
— Жаль, что это только сказочка, — тихо сказал Сережа. — Что же дальше?
— Да, жаль. Человек, то есть… впрочем, пусть будет человек. Человек начал мстить. Не было для эсэсовцев страшнее лагеря, чем тот, где находился этот человек. Фашисты умирали от мгновенного кровоизлияния в мозг, паралича, менингита. К сожалению, это не могло долго продолжаться. Очки действовали на близком расстоянии, и для каждого «выстрела» человеку приходилось неимоверно напрягаться. Его силы были на исходе, он чувствовал, что малейшая неосторожность выдаст его и погубит чудесную находку. На выручку пришел случай, и человеку удалось связаться с подпольной группой сопротивления, действовавшей в лагере. Одним словом, с помощью черных очков семь человек бежали и скрылись в предгорьях Карпат. Среди них был и этот человек.
— А как очки оказались у тебя?
— Очень просто. Мой отец был один из семерых беглецов.
— И что же дальше? — нетерпеливо спросил Сережа.
Саша молчал, на бледное лицо легли голубые тени. Оно казалось прозрачным и чистым, как фарфоровое.
— Я очень устал, Сережа, доскажу в другой раз, — он закрыл глаза.
Сережа осторожно встал. Что ж, надо уходить. Больняга этот Сашка… Какой у него жалкий, несчастный вид. Сережа покачал головой и выскользнул из комнаты.
На улице он вдохнул чистого весеннего воздуха. А что если у Сашки и впрямь те очки, которые убивали фашистов? Было бы здорово…
Этот Карлов замок так похож на замок, как я на средневекового рыцаря.
Сережа стоял на валу и смотрел вниз. Перед ним лежало болотистое поле, поросшее молодой травой. По ту сторону луга тянулась развалившаяся каменная ограда. За оградой — сад и двухэтажный старый домик. «Замком» его прозвали за островерхую черепичную крышу, увенчанную тонким высоким шпилем.
Сережа видел стеклянную веранду, выходящую в сад. Окна заколочены фанерой. Между деревьями бродили куры с выводками цыплят.
Над оградой появилась Юркина голова. Он замахал рукой: давай, дескать, живее сюда. Сережа неохотно спустился с вала и направился к замку. Под ногами жадно чавкала мокрая трава.
«Глупости все это. Просто игра в сыщиков. Юрка любит такую чепуху. Ничего не получится. Попадемся… И пистолета нет. Юркин отец нашел его в тайнике и забрал, Юрке влетело».
— Давай, — зашептал Юрка. Он был возбужден, глаза горели. — Хозяев нет, на рынок уехали. Сегодня воскресенье. А Генчик на конференции учителей, раньше вечера не придет.
Сережа перелез через забор и спрыгнул в сад. Земля липкая, как тесто. Сделав несколько шагов, он остановился.
— Слушай, Юр, может не стоит, а?
— Брось ты! Мы ж только посмотрим и сразу уйдем.
— Так ведь двери заперты.
— Э! На веранде все доски болтаются, я уже одну оторвал. А с веранды дверь ведет в комнаты нашего Ярослава. Мы только посмотрим, что у него там, и сразу уйдем, ей-ей, ты не волнуйся.
Они с трудом протиснулись в щель и оказались на веранде, заставленной грудой пустых банок и битыми горшками. Садовая земля была насыпана прямо на дощатый пол.
— Хе, не очень-то хозяйновитый наш преподобный пан профессор, — насмешливо сказал Юрка, озираясь по сторонам.
— А что ему? Это дело хозяев уборкой заниматься. Смотри, какой смешной цветок!
Сережа показал на ярко-красный, очевидно, недавно распустившийся цветок с одним непомерно большим лепестком. Остальные три почему-то не успели развиться. Вырванный с корнем цветок валялся в углу, его выдавал только яркий цвет.
— А вон какая уродина! — Юра показал на толстый ствол без листьев, торчавший из старого горшка. Голубые и розовые прожилки напоминали рисунок кровеносной системы из атласа анатомии.
— А вот какой!
— И здесь тоже…
Мальчики осмотрелись и поняли, что это не простая свалка.
— Больные растения. Наверное, хозяева… — предположил Юрка.
Выходившая из комнат дверь вдруг скрипнула и стала отворяться. Мальчики застыли. От страха Сережа даже вспотел.
Влипли! В дырку двоим не пролезть, дверь в сад на замке.
Юрка, с серым лицом, независимо заложил руки за спину. Сережа шмыгнул носом. Стояла глубокая тишина, только поскрипывала медленно открывающаяся дверь.
Из нее вышел кот. Мальчики дружно вздохнули. Кот был страшен на вид. С чудовищно раздутой головой, облезлой шерстью, затекшими глазами. Он поднял голову и жалобно мяукнул.
Юрка оттолкнул его ногой и просунул голову в щель. Затем, осмелев, вошел. Сережа послушно двинулся следом.
Комната чем-то походила на веранду. Заставленная невообразимой рухлядью, она напоминала мебельный склад, где хранят вещи, обреченные на сожжение. Лестница в углу прихожей вела на второй этаж. Под лестницей стоял массивный кованый сундук.
Из прихожей раскрытые стеклянные двери вели в гостиную. Виднелся лишь край стола, покрытого темно-красной бархатной скатертью, и старенький диван с бугристым сиденьем.
Мальчики переглянулись. Затаив дыхание, Сережа сделал шаг вперед. Он так и не понял, что произошло. Очевидно, он за что-то зацепился и предмет с грохотом покатился на пол.
В гостиной раздались шаркающие шаги.
— Кто здесь?
Как гром оглушил оцепеневших мальчиков. Шаги приближались. Сережа бросился к лестнице. Сзади раздавалось прерывистое Юркино дыхание. Они вознеслись на второй этаж, как духи, гонимые петушиным криком.
Внизу голос сказал несколько слов по-польски. Послышалось мяуканье, затем грубая брань по-русски. Дверь на веранду хлопнула, щелкнул засов. Человек внизу прошаркал, что-то бормоча, и все стихло.
Мальчики огляделись. Комната на втором этаже походила и на лабораторию и на кабинет. Здесь было много книг, некоторые валялись прямо на полу. Большой письменный стол загроможден приборами. Перед письменным столом огромное венецианское окно, за ним сад, зеленый луг и вал, приведший их к Карлову замку.
— Что делать? — прошептал Сережа.
— Тсс, — Юра прижал палец к губам. Они стояли, боясь пошевелиться, взволнованные, сознавая, что попали в скверную историю. Они забрались в чужой дом, как воришки, и каждую минуту их могли поймать.
На цыпочках они подошли к письменному столу. Меньше всего он напоминал стол школьного учителя. Скорее это было рабочее место радиолюбителя. Электрический паяльник, канифоль, олово, раствор кислоты в бюксе, старые радиолампы и батареи. Несколько мудреных радиосхем с надписями на немецком языке. Изорванные, закапанные иностранные журналы, чертежи, расчеты.
Ох, и упрямый этот Юрка. Ведь могли же просто прийти к своему учителю. Задача трудная, никак решить не можем, объясните, пожалуйста. Сережа зябко поежился.
— Юрко, давай тикать.
Юрка сердито посмотрел на него.
— Накроют нас. Тикать надо, пока Генчик не вернулся.
— Зачем? — горячо зашептал Юра. — Зачем тикать? Мы сейчас спрячемся, а когда придет Генчик, все подслушаем. Даром мы что ли сюда залезли?
— Куда спрячешься?
— Да хоть сюда! — Юрка указал на массивный темный шкаф.
— А Генчик придет да откроет?
— Он только посмеется над нами, — убежденно прошептал Юрка.
Вдруг снова раздались шаркающие шаги.
Мальчики бросились к большому платяному шкафу. К счастью, дверца не заперта. Она скрипнула только один разик и, может, не было слышно, так как лестница уже потрескивала под тяжестью грузного теле. В шкафу одежды оказалось немного, и два друга поместились там между сильно пронафталиненными костюмами. Дверцы остались приоткрыты ровно на Юркин палец. Сережины ноги топтали мягкие податливые узлы с бельем. Юра почти вплотную придвинул лицо к щели. В комнате щелкнула зажигалка и запахло табачным дымом.
Сережа попытался придвинуться ближе, но потерял равновесие и с ужасом подумал, что сейчас упадет. Оперся рукой о заднюю стенку шкафа и… провалился в пустоту. В шкафу не было задней стенки, ее заменяла черная плотная штора. Сережа попал в чуланчик, из которого можно было подняться на чердак. Он просунул руку в шкаф, нащупал Юрку и потянул к себе.
На чердаке они отдышались.
— Ну и ну, — прошептал Сережа.
Юрка ткнул пальцем вниз.
— Бандит, — сказал он, прижавшись к самому уху Сережи.
— Тикать надо, — тоскливо сказал Сережа.
Юрка согласно кивнул головой.
Они направились было к слуховому окну, но их внимание привлек странный предмет возле одного окошка. Накрытый темным покрывалом, он напоминал алтарь. Спутанные провода уходили от него в пол чердака и к шпилю Карлова замка. Юрка не утерпел, подошел и сдернул покрывало.
Ребята ахнули. Блестящая штука на колесиках походила на огромный фотоаппарат. Ее объектив смотрел на городок, который громоздился своими развалинами сразу же за бывшим крепостным валом.
Сережа прищурился и увидел вдали тонкую ленточку Главной улицы, зеленый пух городского парка, готический остов костела.
— Съемки ведет, — прошептал Сережа.
Юрка скептически пожал плечами.
— А чего там фотографировать? — прошептал он в ответ. — Развалины? Аэродром все равно сюда не попадает. Нет, тут что-то другое. Пошли. Накрой, а то заметит.
Они высунули головы в слуховое окно и тотчас отпрянули. К Карлову замку подъезжала машина. В виллисе сидели Генчик и трое военных с малиновыми погонами. Они оживленно переговаривались, пока машина въезжала во двор. Сережа успел хорошо рассмотреть белокурый чуб Генчика, его крепкие белые зубы. Он рассказывал что-то веселое. Военные смеялись. Голосов не было слышно.
Внизу, в кабинете Генчика послышались польские и русские проклятия, упал стул. Человек тяжело затопал вниз.
— Испугался энкаведешников, — сказал Юрка.
— А как же нам?..
— Погодим малость. Посмотрим, что будет. Может, этот бандит сам забрался к Генчику.
Сережа был здорово напуган, но сейчас ухмыльнулся.
— Сам! Держи карман шире. Он Генчика поджидает.
Двое военных вошли в дом. Третий остался за рулем. До ребят доносились глухие голоса и раскаты смеха. Никогда в школе не видели они своего учителя таким веселым. На уроках и на переменах он был ужас какой постный и серьезный.
Сидели долго. Солнце склонилось к закату. Тени на лугу стали острыми и глубокими. Похолодало. У Сережи по спине побежали мурашки, руки заледенели; Юра развлекался, ощупывая и разглядывая «фотоаппарат».
Солдат в виллисе дремал, развалившись на сиденье. Внизу кто-то пытался запеть.
— Выпивают, должно быть, — заметил Юрка. — Им сейчас не до нас. Давай двигать, уже стемнело.
— Только бы на глаза солдату не попасться, — сказал Сережа.
— А мы спустимся с другой стороны, там я видел водосточную трубу.
Путешествие по крутому скату крыши оказалось нелегким делом. Хорошо, что многие черепицы лежали неровно и было куда поставить ногу. Юра первым скользнул вниз. Ржавая труба загромыхала. Сережа несколько мгновений болтал в воздухе ногами, затем нащупал трубу и, обдирая ладони, стал спускаться. Жесть вибрировала и дрожала, издавая ухающие звуки. Сережа спрыгнул и притаился. Рядом на корточках сидел Юрка.
— Тихо!
Несколько секунд, задержав дыхание, они прислушивались. Вокруг них стояла тишина, только из дома доносились приглушенные возгласы гостей. Пригибаясь, чтобы их не могли увидеть из окон, они обогнули дом.
И тут что-то заставило ребят обернуться. Прямо за их спиной из окошка подвала смотрел человек. Стремясь разглядеть их получше, он буквально прилип к грязному стеклу. Ребята увидели широкий белый расплющенный нос и черные усы. И до того был страшен этот безмолвный испытующий взгляд, шедший, казалось, из глубины земли, что Сережа, вскрикнув, бросился в сад Юрка затопал вслед за ним.
Они перемахнули через ограду и побежали к валу, не разбирая дороги. Уже совсем стемнело, и они порядком забрали в сторону. До вала добежали, вымокнув по пояс, усталые, с дрожащими коленями.
Погони не было. В Карловом замке зажглись огни.
Юрка сел на землю, снял ботинки и вылил из них воду. Сережа проделал то же самое.
— Чтобы я еще раз играл в сыщики-разбойники… — раздраженно сказал он, очищая со штанин комья грязи. — Что я скажу матери?
— А я что скажу батьке и матери? — философски заметил Юре. — Что-нибудь скажу. И ты что-нибудь скажешь. Придумаем. А наведаться в Карлов замок еще придется.
— Ты что?
— А как же? Ничего не доказано.
— Вот те раз! Как так не доказано? Ты видел бандита? Кстати, почему ты решил, что он бандит?
— Ты на меня положись. Если я говорю, это уж точно.
Они шагали по аллейке, ведущей к городу.
— Это тот самый, что смотрел?
— Не знаю, у того, наверху, я видел только спину. А лица не видел. Может, и тот, а может, и другой.
— Ну, хорошо, — рассудительно сказал Сережа, — если это бандит, тогда нужно пойти заявить на Генчика, и все в порядке.
— Ты пойдешь?
— Нет.
— То-то. Надо же проверить, что и как. Видишь, у Генчика и среди военных есть друзья. Может, он для наших работает? А мы тут заявимся, вот выискались какие умные, умнее всех на свете, скрытого фашиста, дескать, обнаружили. Да нам, если что не так, потом на край света придется бежать. Ведь засмеют. В школе пальцами будут показывать. Нет, я за самодеятельность. Давай понаблюдаем. Что страшного? Ну руки поцарапали, ноги промочили. Эка невидаль!
— Ладно, — сказал Сережа, — занимайся самодеятельностью. Только без меня.
— Как так?
— А так! Я тебе не помощник.
— Э, — сказал Юра, — я знаю, ты меня одного не бросишь.
Сережа поморщился. Юрка был прав.
— Как ты думаешь, что у него за аппарат? — спросил вдруг Сережа.
— Не знаю. Но, по-моему, — сказал Юрка, — преступник не станет заниматься наукой. Ему не до радиосхем.
— А может, у него шпионский радиопередатчик?
— Давно бы засекли.
Они вошли в город и, стараясь держаться подальше от света, направились по домам…
Сережа принес для Саши домашние задания, чтобы он не отстал от класса. Тетя Зося, завитая, нарядная, даже красивая, встретила Сережу радостно:
— Наш гарный хлопчик пийшов на шпацир! Йому покращало.
— Где ж он шпацирует? — улыбнулся Сережа. Ему нравилась эта веселая женщина. Как-то не верилось тому, что о ней говорили.
— Так где завжды. На валах.
Сережа нашел Сашу на скамейке под старым вязом.
— Ожил?
Саша сидел, запрокинув лицо к солнцу.
— Греюсь, как видишь. Солнце меня не берет, зато я его беру терпением. Принес задания?
«Странное дело, почему с Сашкой всегда так тревожно? Может быть, за это его и не любят ребята. Их раздражает его внутреннее напряжение. Сидит, молчит, а чем-то волнует. Что-то такое в нем происходит, невидимое для глаза, но… Они его не понимают; они не понимают, а человек мучится у них на глазах, и никто не хочет замечать. А я понимаю? Понимаю, поэтому я с ним, хотя и не знаю, как могу ему помочь. Может быть, это только любопытство? Может быть… Ну и что? Это хорошее любопытство. Если пойму, сделаю что нужно. Он молчит, значит, так надо, пусть помолчит».
Сережа вытянул ноги, теплые солнечные лучи навевали лень и покой. Если закрыть глаза, можно услышать, как поют деревья, земля и небо. Особенно небо. Песня неба была далекая и ласковая. Может, там поют птицы? Нет, так поет само небо. Облака и бездонная синяя глубина звучали, как далекие скрипки.
— Как Юрка? — И в вопросе, простом и естественном, все то же скрытое напряжение.
Почему он заинтересовался Юркой? Он никогда ни о ком не расспрашивал.
— Ничего.
— Не знаю, чего ты с ним водишься?
— Он хороший парень. Надежный друг и… в общем, мне с ним нравится.
— Он неплохой, — заметил Саша.
Чего в нем Сережа терпеть не мог, так вот этого снисходительного тона. Тоже мне, бывалый человек.
— Он не неплохой, он просто хороший, — сердито сказал Сережа.
Саша чуть улыбнулся.
И улыбка у него бывает иногда не очень приятная.
— Пусть будет по-твоему. Юрка хороший. Только… он еще очень сырой, ему еще ой-ой сколько головой работать надо, пока он поймет, что это за штука жизнь.
— Ну и пусть, — возразил Сережа, — у него еще есть время. А кто из нас не сырой? Я? Ты?
— Ты не сырой, — засмеялся Саша, — ты мягкий, теплый и сухой. Об тебя можно греться. И я не сырой.
Он помолчал и добавил:
— Я злой, Сережа, я очень злой. Потому, что у меня есть одна заветная мечта и нету сил эту мечту исполнить.
— Наговариваешь на себя, Сашок…
— Брось ты! Не наговариваю, а недоговариваю. Ты меня не знаешь. Ты ребенок, мальчишка, а я старик. Мне с вами на одной парте сидеть смешно. Все эти игры и забавы для меня так, тьфу! Да и сил у меня для них нет. Я свои силы для другого берегу.
— Поэтому на тебя ребята зуб имеют, что ты перед всеми заносишься и самым умным себя считаешь.
— Не заношусь я, просто мне не до них. А на уроках я занимаюсь делом. Мне нужно получить четкие правильные знания. Мне некогда в морской бой играть, я из-за своей головы да нервов месяцами в школу не заглядываю, сам знаешь. У меня все рассчитано, у меня цель в жизни есть. А что у вас? Ну что с вас спрашивать? Вам пятнадцать лет, а мне тридцать, сто тридцать!
Саша замолчал, закрыл сверкающие черные глаза и подставил лицо солнцу. Они молчали, и молчание длилось бесконечно долго, время текло медленной и густой медовой струей. И не было конца вязкому молчанию, льющемуся теплу из синих небес, назойливому жужжанию невидимых мух.
— Саша, — робко попросил Сережа, — ты обещал досказать мне про черные очки. Это те самые? Неужели они могут убивать? Ты пробовал?
— Ишь ты какой… А впрочем, сказавший «а», да скажет «б».
Он нахмурил брови.
— Так получилось, что я был в другом лагере, не там, где отец. И, как ни странно, ближе, чем он, к гибели. Я не изнывал от непосильного труда в каменоломнях, меня везли прямо в газовые камеры. Это был Освенцим, будь он проклят отныне и навсегда! Спасло меня чудо — меня не сожгли сразу, а дали возможность умереть от дизентерии и голода, ну, а если бы я это выдержал, тогда бы, конечно, сожгли. Потом немцы ударились в бегство, не забыв прихватить с собой и уцелевших узников. Начались мои скитания по лагерям. Но до окончательной ликвидации дело не дошло. В одно прекрасное утро немецкая охрана исчезла. А вскоре подошли американцы. Я тогда уже был очень болен. А месяцы, проведенные в Западной зоне, меня окончательно доконали. Нервы стали совсем никудышные. Я не буду рассказывать, что мне пришлось вынести потом, это слишком много, да и вредно слушать детям. Одним словом, я выбрался оттуда и вернулся сюда, подо Львов, в родные места. Я знал, что не найду своей матери, она погибла в газовой камере. Но я не знал, что сталось с отцом. Он скрывался у чужих людей, он был блондин с голубыми глазами, и его не могли схватить на улице. В концлагерь его привело предательство. Вот так…
Саша замолк.
— Дай сигарету, Сережа.
— У меня с собой нет.
— Ладно, черт с ними, с сигаретами. Да, дома меня ожидала огромная радость. Это даже не радость, а счастье. Меня встречал живой и почти здоровый отец. Что тут было! Я узнал, что своим вызволением из Западной зоны обязан в значительной мере усилиям отца. Он разыскал меня… Мы попытались жить заново. Ведь мы были не только родственники, но и товарищи по страданию. Все шло отлично. Отец с головой влез в работу, он хорошо, знал людей и наши условия. Выезжая в село, он не клал в коляску мотоцикла автомат, как это делает наш уполномоченный, что живет напротив, но… в кармане его лежали черные очки.
— Как? Они же были у геолога?
— Из семерых, покинувших концлагерь, в живых остался только отец. Остальные погибли. Кто в партизанах, кто умер в дороге от истощения. Геолог передал отцу очки как память о славном побеге.
— Они ими пользовались?
— Отец говорил, что пуля в тех обстоятельствах была вернее, чем стреляющие очки. Тем более, что только у геолога все получалось очень здорово. Наверное, он был какой-то особенный. Так или иначе, отец возил с собой очки, как талисман. Но заклинания бессильны перед коварством. Отец получил письменное приглашение от старого знакомого из одного села. Однажды он как раз проезжал мимо по райкомовским делам и решил навестить своего бывшего приятеля. Он пошел один. Его уже там ждали «лесные братья». Три часа они мучали…
— Не рассказывай.
— Нет, не думай, я уже прошел через это. Предатель потом рассказывал, что слышал все, сидя в каморке, рядом с горницей, где бандеровцы истязали моего отца. Он слышал, как его били, как накачивали водой, как ломали ребра, раздавливали досками органы, он слышал все. Он поседел, потому что бандиты угрозой вынудили его написать записку и ему было жалко моего отца. Но еще больше ему было жалко своих детей и жену, которым грозила в случае отказа смерть. Итак, однажды домой привезли тело моего отца, которого не смог убить Гитлер и которого убили свои, а в кармане у него лежали черные очки. Я думаю, он просто не успел ими воспользоваться.
Саша отвернулся. Сережа молчал.
— Вот какой грустный конец у этой истории, — сказал Саша. — Ты не горюй, Сержик. Теперь уж ничему не поможешь. А очки я тоже ношу с собой. В нагрудном кармане. Вот здесь.
Он хлопнул себя по груди.
— Они… работают? — тихо спросил Сережа.
— Нет, никогда я не замечал, чтобы они работали. Впрочем, сам понимаешь, я не могу проверить их на людях.
— На плохих можно, — убежденно сказал Сережа.
— И на плохих нельзя. Только когда я встречу тех… я надену очки.
— А что, очки ни разу не стреляли?
— Нет, Сержик, может, они вообще никогда не будут стрелять, может, в них должен смотреть особый человек, как тот геолог, не знаю. Сколько я на кошек и собак ни смотрел, ничего с этой живностью не происходило. У нашего Кабысдоха, по-моему, после выстрела из очков только аппетит прибавился. Жрать стал раза в полтора больше.
— Слушай! — заволновался Сережа. — Нужно показать учителям, ученым, это ж интересная штука!
— Не надо, — жестко сказал Саша, — никому ничего не надо показывать. Сначала я посчитаюсь с отцовыми убийцами, а потом будем показывать.
Они опять замолчали. И было в этом молчании какое-то затаенное кипение.
— Я, Сережа, мечтаю быть прокурором. Большим прокурором. Как, скажем, Руденко. Выступать на международных судах, там, где судят страшных преступников, которых судили, например, на Нюрнбергском процессе. Я мстить хочу, Сережа. Не только за отца, а вообще за всех убитых, замученных. Я вот думаю, поймают тех, кто истязал отца, и что будет? Что? Ну, может, расстрел или там двадцать лет, если найдется какой-то оправдательный повод. Пуля для убийцы? Это что? Мгновенная смерть, почти незаметное избавление от страданий. У нас в лагерях люди мечтали о пуле! На совести у преступников годы, не часы, а годы мучения людей, и мгновенная смерть — в расплату. Годы преступлений — и миг наказания. Тысячи, десятки тысяч часов насилий и зверств — и секунда возмездия. Несправедливо это, Сережа! Наказание должно быть соизмеримо с преступлением! Преступник должен знать, что возмездие — это всего лишь обмен ролями, и чем страшнее мучения жертвы, тем страшнее кара. Подумаешь, приговорили Геринга к виселице!
— Он отравился, — тихо сказал Сережа.
— Да. Это что? Насмешка над всеми павшими по воле этого выродка! Когда я найду отцовых убийц, они у меня пройдут все ступени, которые прошел отец. Три года постоянного страха смерти и три часа нечеловеческих мучений. Они у меня узнают…
Саша говорил отрывисто, взволнованно. Было странно, что белое лицо его даже не порозовело под солнцем.
— Ты не прав, Саша, — тихо сказал Сережа, — мы не фашисты. Мы не можем мучить человека, даже если он большой преступник. А убийцам всегда дорога своя шкура, поэтому смерть для них — самое большое наказание.
— Нет! — Саша отчаянно замотал головой. — Это мы так думаем. И это неправильно. Для того, чтобы скончался Гитлер, пришлось смерти скосить пятьдесят миллионов человек. За одну жизнь сумасшедшего пятьдесят миллионов невинных? Нет, ты это понимаешь, Сережа?
Он повернулся к Сереже, его широко распахнутые, как окна, глаза излучали недоумение и боль.
— Я этого не понимаю, — говорил Саша уже глухо, устало, почти безнадежно, — я думаю, думаю и не понимаю. Но знаю, что если б Гитлер… знаешь, смерть от пули, от цианистого калия для таких убийц все равно что палочка-выручалочка. Нагадил, накровянил, наследил и… на тот свет.
Саша стукнул кулаком по колену. «Словно кастаньетами щелкнул», — подумал Сережа.
— Теперь понял, почему я хочу выучиться на прокурора?
— Почему? — наивно заметил Сережа.
— Эх ты, детеныш. Я сделаю боль наказания равной боли преступления. Вот тогда убийцы всех мастей и масштабов будут долго чесать затылок, прежде чем решиться на что-либо. Я их…
Внезапно он задохнулся и схватился за виски. Лицо его помертвело.
— Что с тобой?
— Пойдем отсюда, — он медленно приподнялся, — немного перегрелся.
Сережа проводил его домой. Руки у Саши были холодные и липкие, он держался за Сережино плечо, тяжело дышал.
В своей кровати он быстро успокоился и подмигнул Сереже:
— Вот такой я, старик. Не гожусь ни к черту.
— Чего там. Ты еще ничего, — неуверенно отозвался Сережа.
Саша улыбнулся и закрыл глаза. Они молчали.
Вот он, оказывается, какой, Сашка. Что ж, так оно и должно быть. Если человек страдает, он быстро становится взрослым. Вот почему он так зол. И черные очки…
Сережа взглянул на друга. У того по-прежнему веки были опущены, но глаза под ними шевелились, значит, не спит.
— Саша, — тихо сказал Сережа, — дай мне посмотреть в очки.
— Только на меня не смотри, гляди в окно, на солнце, в угол, чтоб блестело, куда хочешь, — улыбнулся он. Это была странная улыбка с закрытыми глазами. Странная и немного жуткая.
Сережа взял очки. Теперь он хорошо рассмотрел их. Диски шлифовались вручную, края их в нескольких местах были отбиты. Сережа приблизил очки к глазам.
— Слушай, а почему они светятся? Это тоже от солнца?
— Нет, они светятся и ночью. И вечером, и утром. Если только не глядеть прямо на солнце. Такое уж у них свойство. Я не знаю, почему они светятся. Свечение остается, даже если закрыть глаза. Попробуй, если хочешь.
— Да, правда! Вот здорово! — воскликнул Сережа, прижимая диски к векам. — Это необыкновенные очки!
— Еще бы! Я часто так… смотрю в них с закрытыми глазами. Похоже, словно смотришь из-под воды на солнце. Правда?
— Да, вроде того, — согласился Сережа, — только ярче. Какие-то маленькие молнии пробегают, и точки, и круги. Вот интересно!
— Ты только не очень увлекайся, — сказал Саша, — а то голова начнет болеть. У меня уже был приступ из-за них.
Повертев еще очки, Сережа спрятал их в шкатулку.
— Когда ты выйдешь?
— Не знаю. Думаю, к майским праздникам. Ты уже пошел? Передавай привет своему Юрке.
— Ладно.
Маленькая трибуна и маленькая площадь перед нею были заполнены народом. Шествие праздничных колонн еще не началось, знамена и транспаранты лениво покачивались, люди громко говорили, пели песни, смеялись. Школьники в ожидании парада бродили по улице, выходящей на площадь.
Сережу кто-то дернул за рукав. Он резко обернулся.
— А, это ты, Юрко? Чего тебе?
У Юрки был загадочный вид.
— Слухай, пошли отсюда, погуляем. Нас пропустят часа через два, не раньше.
— Идет.
Шли молча. Сначала вверх по Главной улице, затем у ресторана «Бристоль» повернули направо и вышли на валы.
— Куда мы идем?
— К Генчику в гости.
— Я не хочу! — Сережа остановился.
— Ну что ты? — горячо заговорил Юрка. — Генчика нет дома, он на демонстрацию пошел. Я видел, он на мотоцикле к школе подъезжал. Хозяева тоже, наверное, пошли посмотреть, так что…
— А тот? Бандит с усами? Ты же сам говорил, что видел у него автомат, когда подглядывал из шкафа. Загудим к нему прямо в лапы. Пристрелит, как щенят.
— Брось ты! Этого бандита там уже давно нет. Я думаю, он не имеет никакого отношения к нашему Генчику. Он, должно быть, приходил к хозяевам.
— Выгораживаешь ты своего Генчика!
— Не похож Генчик на человека, у которого связь с бандеровцами. У него много знакомых среди военных, даже среди оперативников.
— Генчик ведет двойную игру, — сердито сказал Сережа. — И нашим, и вашим. Хитрый он. А военные тоже, наверное, переодетые бандеровцы. — Ему пришла в голову здравая мысль: — Юрка. А что нам делать в Карловом замке, если там никого нет? За кем следить?
— Э! — махнул Юрка. — Нам не надо следить. Мы стащим ту штуку, что на чердаке, и узнаем, передатчик это или нет.
— Да ты в своем уме? Она полтонны весит, ее с места не сдвинуть!
— Ну-ну, не полтонны, от силы центнер. Но мы ее трогать не будем. Мы вывернем кое-какие детали и покажем специалистам.
— Ерунда это, — сказал Сережа, — я тебе без специалистов скажу, что ничего мы не узнаем. Пустая это затея. Ребячество.
— Ты что, боишься?
Сережа помолчал. Потом тряхнул головой. Знала б мама…
— Ладно, пошли.
В Карлов замок они проникли уже опробованным путем: через пролом в каменной ограде. Юрка заметил возле одного дерева небрежно присыпанный землей труп кошки.
— Смотри, Сережа, это тот кот, что был в прошлый раз.
— Да. Ну и страшилище. Кто мог его так замордовать?
На этот раз они не полезли на веранду, а обошли замок со всех сторон. Все двери были закрыты. Юрка присаживался и осторожно заглядывал в окошки подвала.
— Ну, что?
— Ничего не видно. Дрова да уголь.
Сережа взобрался на дерево и заглянул в окно второго этажа.
— Кто-нибудь есть?
— Ничего. Никого.
Они потоптались перед парадной дверью. Постучали. Позвонили. Снова постучали, снова позвонили. Молчание.
— Ну, ладно, пошли на веранду.
На веранде оказалось, что дверь в комнаты заперта. Ребята переглянулись.
— Что делать?
— Пошли домой, — сказал Сережа.
— Я придумал. — Юрка подошел к водосточной трубе. — Полезли?
— Соседи увидят…
— Где те соседи? За километр? Увидят, если будут смотреть в бинокль. Полезли.
Труба скрипела и стонала, но выдержала. Через несколько минут они уже были на крыше и, распластавшись, поползли к слуховому окну.
— Юрко, окно закрыто!
— А, сто чертей ихней маме! Разбей стекло, только осторожно, локтем, не поранься.
Дзень!.. Черная звезда вела в пыльную темноту чердака. Юрка легонько обломал острые края.
После солнечного дня чердак показался им черным подземельем. Некоторое время они приглядывались. Ничего не изменилось, возле одного из окошек темнела массивная установка.
— Ну, давай, — шепнул Юра, — нужно действовать быстро.
Они начали стаскивать чехол. Вдруг сзади раздался голос:
— Осторожно! Поломаете аппарат. Не оборачиваться! Стреляю.
Затем голос скомандовал:
— Поднимите руки вверх и сделайте шаг назад! Еще шаг, еще, так, ложитесь.
На головы ребят упала черная тряпка. Кто-то прошел рядом с ними и сказал:
— Будете так лежать. При попытке двинуться стреляю без предупреждения. Молчать, не переговариваться, отвечать на мои вопросы. Отвечайте: фамилия, имя?
Они сказали.
— Учитесь, работаете?
На это ответил только Юра, Сережа не мог, он задыхался под тяжелой накидкой.
Юра начал врать. Сереже показалось, что он врет довольно складно. Забежала, дескать, любимая мамина кошка, и они отправились ее искать. Им сказали, что ее видели рядом с Карловым замком, и они решили…
— Врешь, — прервал голос, — лежи, молчи и постарайся придумать что-нибудь поинтереснее. А правду я из тебя все равно добуду.
Сережа лежал, уткнувшись носом в пол, и слышал, как рядом посапывает Юра.
— Я задыхаюсь, — сказал Сережа. — Можно лечь удобнее?
— Ложись, — ответил голос, — но не пытайся бежать или подсмотреть, пристрелю.
Сереже казалось, что уши у него заложены ватой. Голос едва проникал сквозь сукно. Бу-бу-бу.
На кого он похож? Говорит по-украински с едва уловимым акцентом, скорее немецким, чем польским. Но это не тот, с усами. У того голос был хриплый и акцент чисто местный, галицкий…
Сережа повертел головой, освобождаясь от тяжести тряпки. Юркино сопение резко усилилось, и Сережа понял, что он находится совсем рядом под одним воздушным колоколом со своим испытанным другом. Страшная слабость, которая владела его телом с той минуты, как они услышали голос, стала уходить, на смену ей пришло напряженное нервное возбуждение.
Он почувствовал удар по ногам.
— Ты что, не слышишь? Я сказал тебе, вытяни руки по швам!
Сережа вытянул, и от этого лежать стало еще неудобнее. Щека упиралась в какой-то колючий предмет, который вонзался в тело, как нож.
«Почему я не услышал, что сказал бандит? Это тряпка… Она мешает, она изолирует голос, вот в чем дело. Недослышишь, в он тебя пристрелит, с него станется. Нужно было сказать ему, что я не слышу, а то всадит пулю. Но раз так, можно говорить тихо, и он тоже не услышит…»
— Юрко… Юрко, ты меня слышишь?
— Да…
— Что нам делать?
— Не знаю.
Они замолчали. Раздался шум, на чердаке появился еще кто-то. Два голоса забубнили по-польски. Сережа услышал, как назвали его и Юркину фамилии. Топот ног. Ругань. Опять шаги. Кто-то бегал по чердаку.
— Это Генчик, — зашептал Юрка, — тот ему сказал, что задержал нас при очень странных обстоятельствах. Генчик ругается. Говорит, не до нас, уже началась демонстрация. Сейчас пойдут летчики. Нужно начинать…
Сережа слышал, как двое мужчин, переговариваясь, суетились где-то совсем рядом. Послышался скрип открываемого окна. Генчик (теперь Сережа узнал его голос) бросал короткие фразы на немецком языке. Второй отвечал на смеси украинского и польского.
— Ну, что они говорят, Юрка?
— Сейчас… плохо слышно, я немецкий хуже знаю, чем польский. Вот… второй хочет нас пристрелить, а Генчик говорит, что сейчас нельзя привлекать внимания и времени нет, пусть лежат… После опыта… Волна пройдет по Главной улице до площади, трибуны тоже захватит… Это все же не луч, а волна… Конечно, жертвы будут и среди населения… Это посильнее атомной бомбы, за нее там руками и ногами ухватятся… Но мы должны навести сначала порядок здесь… Первый опыт на такое расстояние может и не удасться. Он что-то включил.
Ребята услышали гудение высоковольтного трансформатора, Генчик крикнул, и его помощник бросился в дальний угол чердака. Пробегая мимо ребят на обратном пути, он наступил на тряпку, покрывавшую их головы. Завеса сползла с их глаз, и они увидели…
Ярослав Генчик без пиджака, в праздничной рубашке и новых брюках яростно вертел сверкающий штурвал установки. Окно на крыше было открыто, и никелированный ствол аппарата смотрел на город. Помогавший Генчику бандеровец был в форме сержанта войск НКВД. Он присел возле аппарата на корточки и смотрел в бинокль.
Генчик снова сказал что-то непонятное, гудение усилилось. Сережа видел только напряженные спины людей, возившихся у аппарата.
— Они там и не подозревают, что уже умерли, — сказал человек с биноклем.
— Бесшумная и невидимая, — отрывисто бросил Генчик.
Гудение в аппарате усилилось, оно постепенно перешло в вой.
Генчик только пожимал плечами, его слов уже не было слышно. Аппарат визжал, как пила на лесопильном заводе. Визг вздымался выше, выше, чердак наполнялся воем, воздух густел и сотрясался, на головы мальчишек сыпалась пыль и куски черепицы.
Генчик рявкнул и взмахнул рукой. Из аппарата вырвалась короткая белая молния и ударила учителя физики в грудь. Корпус аппарата краснел, краснел, словно наливался кровью, и вдруг лопнул. Вспыхнуло яркое пламя, и Сережа закрыл глаза. А когда открыл, увидел над собой Юрку в клубах дыма.
— Давай, давай. Дом горит…
Мальчишки кубарем скатились с крыши. Они бежали еще быстрее, чем в прошлый раз.
— Проклятый замок, все время из него драпать приходится, — прокричал Сережа на бегу. На валах они впервые перевели дух. Тонкие струйки дыма соединялись над домом в большое синеватое облако.
К замку уже мчалась пожарная машина.
Дойдя до дома, Сережа спросил:
— Так кто, по-твоему, Генчик?
— Фашист, — убежденно сказал Юра.
Дома Сережу ждала неприятная новость. Мать сказала ему, что с Сашей случилось несчастье…
— Когда? — удивился Сережа. — Он же все время лежал дома?
— А сегодня взял и вышел на демонстрацию, и с ним там случился приступ, не то еще что-то, какой-то взрыв… Я точно не знаю, но он очень плох сейчас. Ты сходил бы, проведал его, как-никак без отца и матери.
— Меня все же впустили в палату к Саше, — рассказывал потом Сережа Юрке. — Тетя Зося поплакала и ушла. Я долго сидел у него. Голова вся забинтована, он ничего не видел, но говорил довольно внятно, только голос был глухой и слабый.
Говорил он очень медленно. Слова падали, как капли из закрытого крана. Я и сейчас помню каждое слово. Я держал его за руку и чувствовал неровный пульс.
В тот день Саша очень хорошо себя чувствовал и решил пойти на демонстрацию.
Из дому он вышел часов около десяти. Захотелось побродить по праздничному городу, потолкаться среди людей, смотреть, смеяться. Был он еще очень слаб, голова кружилась от крепкого воздуха.
На Главной улице было еще шумнее, еще веселее и теснее, изредка его окликали знакомые. От света и гама у него кружилась голова, заболели глаза. Он достал черные очки и надел. Сразу стало легче.
Парад уже начался, шли летчики. Торжественно играл духовой оркестр. Он повернулся и посмотрел вверх, туда, где Главная улица переходила в разрушенный пригород. Деревья над далекими домами казались похожими на темные облака. Оттуда, из-за города, веяло душистой прохладой весенней земли.
Он стоял, наслаждаясь теплым весенним днем и близкой человеческой радостью.
Внезапно все изменилось. На горизонте, куда он смотрел, возникла ярко-красная точка, от нее побежали концентрические кольца, они становились все больше, больше… Вскоре он очутился внутри огромной трубы из плотных разноцветных колец. Все вокруг — люди, дома, мостовая, небо, деревья, машины — пришло в движение и, сплющиваясь, деформируясь, вытягивалось в виде колец, превращалось в стенки этой трубы.
Он сорвал очки в испуге. Рядом бурлил людской поток. Никому не было дела до его странной галлюцинации.
Он опять надел очки. Видение повторилось. Он встревожился, потом его охватил настоящий страх. Он понимал, что происходит что-то ужасное. Опасное для людей, которые беззаботно смеялись и весело шли, взявшись за руки. Ведь этого раньше не было. А потом оно возникло. И оно менялось.
Он видел, как концентрические круги пришли в движение. Они перемещались с бешеной скоростью. Наслаивались друг на друга, уменьшались, уменьшались, пока не обратились в дьявольскую красную точку. Труба, в которой он стоял, вертелась, ввинчивалась в горизонт. Его затошнило, и он вновь снял очки, а потом вновь их надел и вновь попал в гигантский водоворот, в котором уже ничего нельзя было различить: ни земли, ни неба. Перед ним была суживающаяся воронка, и он стоял внутри нее.
Тогда он решил, что мираж рожден его больным мозгом. Он подумал, что так начинается безумие и он сейчас сойдет с ума.
Стиснув зубы, он заставил себя бороться с миражем. «Тебя нет, тебя нет», — твердил он, уставившись в точку, откуда ползли кольца. Он собрал всю волю, он напряг все силы. Он неистово желал исчезновения дьявольского видения. Он заклинал и молил его исчезнуть. Но труба не исчезала. Она становилась плотнее и уже.
Его охватило отчаяние и злость, что он не может справиться с собственной слабостью.
И вдруг из центральной точки вырвался тонкий, как игла, луч и ужалил его. Больше он ничего не помнил. А люди потом говорили, что у него вдруг взорвались черные очки.
Юра слушал, не перебивая. Они только что похоронили Сашу и подавленные, суровые возвращались домой. День угасал. Ржавое небо и багровый осколок солнца только подчеркивали немоту и неподвижность черных станционных столбов…
День угасал. Ржавое небо и багровый осколок солнца только подчеркивали немоту и неподвижность черных станционных столбов. Сергей Александрович невидящим взглядом уставился в окно. Недопитое пиво осело. В нем угасал последний свет дня.
Что же тогда произошло? Какая битва состоялась не глазах ничего не подозревающих зрителей?
После смерти Саши он долго ломал над этим голову, но, увы, наука в те дни еще не занималась подобными вещами. Да и где им с Юркой было разобраться во всем! А потом было недосуг, и все постепенно забылось, сгладилось, быльем поросло.
Но однажды совершенно случайно Сергею Александровичу попалась статья видного советского биолога. В ней шла речь о взаимодействии радиоволн и живого организма. Сначала Сергей Александрович лениво пролистал ее, потом заинтересовался. Даже сделал некоторые выписки:
«…В биологической активности электронных полей главную роль играет не энергетическое взаимодействие (преобразование энергии в другие формы), а какое-то иное.
…Мы сталкиваемся здесь со взаимодействием электромагнитных полей и химической информации живых организмов, то есть с влиянием полей на преобразование, передачу, кодирование и хранение биологической информации, ответственной за воспроизводство белковых структур.
…Периодически изменяющиеся электромагнитные поля различных частот могут навязывать биологическим процессам несвойственный им ритм или, иначе говоря, вводить в организм вредную информацию. Она искажает нормальные информационные процессы. Вместе с тем периодически изменяющиеся электромагнитные поля определенных частот могут служить источником полезной для организма информации (такими, наверное, являются природные поля).
…Сантиметровые же волны вызывают колебания частиц в едином ритме, а следовательно, не только увеличивают общее тепловое движение частиц, но и навязывают им несвойственный режим движения. А это может привести к нарушению нормального порядка перемещений ионов и молекул, которыми обусловливаются информационные процессы (например, возникновение и распространение биотоков в нерве).
…дают основание полагать, что периодически изменяющиеся электромагнитные волны в большей степени влияют на информационные процессы в живых организмах, чем поля, хаотически изменяющиеся…»
И события двадцатилетней давности ожили и предстали перед внутренним оком Сергея Александровича, будто все случилось вчера.
Прошлое выросло вдруг и вытеснило и привычные заботы, и тот несколько ленивый скептицизм, который приходит вместе с жизненным опытом.
Строй его мыслей был прост. Он подумал тогда, что аппарат Генчика мог быть именно таким электромагнитным излучателем, обладающим вредным, смертельно опасным для человека действием. Может, Генчик и не сам его придумал, ведь он во время войны, как потом выяснилось, работал в Яновском концлагере, а там нацисты ставили опыты на людях. Какие опыты, это и до сих пор не известно, но Генчик имел к ним отношение. После разгрома фашизма он притаился и решил совершенствовать новый вид оружия.
Очевидно, он продолжил эти опыты на растениях, животных, на том самом несчастном коте, который сначала напугал их, а потом, уже мертвый и полузасыпанный землей, вызвал смутное чувство страха и отвращения. Конечно, Генчик мог бы работать и на Западе. Но он был ярый националист, ему нужна была победа дома.
Черные очки тоже могли быть своего рода излучателями, созданными самой природой. Они усиливали радиоизлучение мозга и превращали его в пучок направленных радиоволн.
Если это действительно так, то становились понятны все чудеса, которые геолог проделывал с нацистами в лагере. У него был своеобразный гиперболоид инженера Гарина, только работающий не в световом, а в радиодиапазоне.
Что же произошло тогда, 1 Мая, в тихом закарпатском городке?
Странное, почти невероятное совпадение. Но сколько в жизни бывает еще более странных и невероятных совпадений? Итак, поединок между двумя излучателями. Генчик направил на первомайскую демонстрацию искусственно генерируемый пучок радиоволн, который встретился с волной, идущей от черных очков. Саша победил ценой колоссального нервного напряжения, ценой жизни…
Конечно, рассуждения Сергея Александровича могли быть ошибочными. Он не ученый. И все же на чердаке Карлова замка не мог взорваться просто какой-нибудь миномет неизвестной конструкции или сверхдальний огнемет, по тем или иным причинам оказавшийся у бандеровцев. Конечно, насчет «невидимой или бесшумной смерти» они с Юркой могли ослышаться. Слишком перепугались. Но вот все остальное… И эти больные растения, и несчастный покалеченный кот…
Сергей Александрович взял отпуск на несколько дней, простился с женой и семилетним сынишкой и сел в поезд Москва — Ужгород, отходящий с Киевского вокзала в 17:36.
Вот и сидит он теперь за кружкой пива, смотрит в окно, за которым садится солнце, и думает, как быть дальше. По лицу его пробежал оранжевый отсвет, потом опять тень и снова свет. Все быстрее, быстрее… Это отошел поезд 19:03 на Москву.
Буфетчик отворил дверь и придержал ее, чтобы дать пройти помощнику, согнувшемуся под тяжестью металлических сеток с бутылками. С последними прямыми лучами; солнца в дверь ворвался запах железной дороги.
И, как живой, встал перед ним Сашка! Худой нервный «шкелетик» с черными очками — последним оружием обреченных.
Вспомнил он Зосю, ее соседей, Юркиных родителей… Не может быть, чтобы не осталось никаких следов! Не может быть. Надо задержаться хотя бы еще на один день. Может, кто и отыщется…
Последнее оружие обреченных, последнее оружие твоих глаз, Саша.
Борис Майнаев
Сын дельфина
Двигатели «Весты» не развивали нужной тяги. Обшивка покрылась оспинами метеоритных ударов. После аварии вблизи Соана вышел из строя Большой позитронный мозг. Сегодня, через десять лет почти слепого полета, Риф и сам не мог бы объяснить, как ему удалось вывести корабль к родной звезде. Она встречала своих сыновей молча. И только когда «Веста» прошла внешнее галактическое кольцо спутников наблюдения, внутренняя связь ожила.
— Высший Совет приветствует экипаж «Весты», — зазвучал бесстрастный голос автомата. — Диспетчер дальней космической связи просит командира отключить ручное управление. Дальше корабль поведут с Центрального навигационного пункта.
Риф пробежал пальцами по пульту и откинулся на спинку кресла. Командир волновался и не знал куда деть руки: впервые за много лет звездолет вел кто-то другой. Космонавт повернул кресло внутрь отсека и увидел, что весь экипаж впился в обзорный экран. В верхнем углу его сверкала голубая капелька.
«Как-то встретит нас дом после стольких лет полета?» Общее нетерпение охватило и командира. Он с трудом заставил себя отвернуться от экрана. Надо было отвлечь и успокоить экипаж.
— До чего прекрасна наша планета, — широко улыбнулся Риф. — Но лучше всего — океан… — Он помолчал. — А вы знаете, что меня в молодости звали Сын дельфина?
Космонавты недоуменно переглянулись.
— Я сейчас покажу вам небольшой отрывок из семейной хроники. — Риф вставил в гипногог шарик памяти.
— Надеть шлемы, — привычный командирский голос заставил экипаж выполнить распоряжение…
Какой-то посторонний звук нарушил утреннюю тишину, и Джон Стэнли проснулся. Но прежде чем он открыл глаза, на лицо легла мягкая ладонь, от которой исходил едва уловимый аромат роз.
«Дороти», — теплая волна поднялась в груди, и Стэнли несколько раз моргнул.
— Ой, ой, щекотно, — зазвенел в комнате голос жены.
Стэнли протянул руки и крепко обнял жену.
— Колокольчик ты мой, утренняя зорька, — зашептал он, ласково целуя маленькое ушко Доротеи.
Она уперлась руками в широкую грудь мужа и, имитируя его рокочущий бас, сказала:
— Капитан, уже утро, и вам пора приступить к своим служебным обязанностям, а не нежиться в кровати жены.
— К черту службу, к черту весь белый свет, никого не хочу видеть, кроме тебя.
Он сжал ее сильнее. Руки Доротеи подломились, и Джон зарылся лицом в складки шелкового пеньюара на ее груди.
— Милый, единственный мой, — прошептала женщина, — я бы никуда не отпустила тебя, но звонят из штаба — сам министр хочет говорить с тобой.
Стэнли еще раз прикоснулся губами к бархатной коже и вскочил.
— Что там могло случиться? Бешеный Майк никогда не звонит своим офицерам, — сказал он, поспешно запахивая халат.
— Ты не прав, Джон, называя его так, — возразила Доротея. — К тебе адмирал относится с уважением.
— Министр хочет вас видеть сейчас же, — прозвучал в трубке голос дежурного офицера.
— Буду через двадцать минут.
— Вам, как всегда, везет, капитан, — встретил Стэнли адъютант министра и открыл перед ним дверь кабинета главы военно-морского ведомства Виолии.
В слегка затемненной глубине комнаты, кроме хозяина, сидел небольшой человечек в штатском. Стэнли это удивило.
Адмирал всегда принимал своих офицеров без посторонних.
«Так легче делать из этих интеллигентов настоящих пиратов», — ходила среди моряков-его присказка.
— Доктор Бидли, — буркнул министр, представляя своего гостя.
Стэнли понял, что Бешеный Майк сам несколько стеснен его присутствием в кабинете.
— На первый взгляд, задание, которое я решил поручить вам, — начал, откашлявшись, адмирал, — покажется легким. Да так оно и есть, но вот степень секретности делает его чрезвычайным. Ведь, если хотя бы намек просочится в прессу, или, не дай бог, о нем узнает противник, в мире поднимется такой шум, который может стоить шефу президентского кресла. Мы здесь решили, что о самом задании вас проинформируют в море. В этот поход вместе с вами идет доктор Бидли, он и расскажет обо всем. — Министр опять поморщился, и Стэнли понял, что это решение принял не он и самому министру не нравится такая постановка вопроса. Весь флот знал, что адмирал делит человечество на две части. Людьми в его понятии были только моряки.
— Кстати, — продолжал хозяин кабинета, — в этот раз вы идете не на своем крейсере, а на «Дафне». Я приказал установить на нее несколько пушек и пулеметов.
Стэнли вспомнил небольшое океанографическое судно, ходившее под военно-морским флагом, и представил себе, как нелепо будет выглядеть на нем вооружение.
— Вам потребуется команда из двадцати человек, — адмирал протянул Стэнли лист бумаги. — Прошу внести в список тех моряков, которые умеют держать язык за зубами. Дополнительные инструкции здесь, — он вручил офицеру пакет. — Вы вскроете его только после выполнения задания. Через два часа корабль должен выйти в море. Мой вертолет доставит вас на «Дафну».
Большие, не по возрасту ярко-голубые глаза адмирала внимательно осмотрели лицо Стэнли.
— Я знаю, что уже несколько лет этот день вы проводите вместе с женой, — виновато загудел его голос. — Поэтому нынешний поход будет для нее несколько неожидан. Вы можете воспользоваться моим телефоном, чтобы успокоить супругу.
— Благодарю. Она всегда помнит, что я — моряк, — Стэнли не хотел говорить с женой при посторонних. Он решил, что позвонит ей с корабля.
— У меня одна просьба, — сказал он после некоторой паузы. — Ровно на пять минут мне необходимо выйти из здания, чтобы купить цветы. Уже шесть лет я… — Стэнли замолчал, подыскивая нужные слова.
— Да, я знаю, — министр нажал кнопку вызова адъютанта. Когда дверь открылась, резко бросил: — Немедленно достаньте венок из живых цветов и принесите сюда.
Ровно через три часа мощные двигатели вынесли «Дафну» на океанские просторы.
В кают-компании собрались офицеры. Стэнли коротко представил доктора и сел, приготовившись, как и все, выслушать столь необычное и секретное задание.
— Мы идем на ловлю дельфинов, — едва слышно прошелестел голос Бидли.
Стэнли задохнулся от ярости. Использовать военных моряков в такой роли — это мог придумать только идиот.
Офицеры стали недоуменно переглядываться. Кают-компания наполнилась шумом. Стэнли строго сдвинул брови. Чтобы там ни придумали в министерстве, он не потерпит, чтобы на его корабле обсуждали приказы командования. Моряки стихли.
— Я понимаю ваше недоумение, — невозмутимо продолжал доктор, — лучшие моряки флота — на рыбной ловле. На первый взгляд, такое мог придумать только сумасшедшей. Но это не так. Командование решило доверить вам это задание как раз потому, что вы считаетесь самыми дисциплинированными офицерами Виолии. Министр заверил президента, что только вы в состоянии сохранить тайну похода. Мы решили отловить несколько десятков дельфинов, чтобы обучить их способам опознания и уничтожения подводных лодок противника. Вы знаете, что современные средства борьбы с субмаринами малоэффективны, если не сказать — отвратительны. Мы швыряем сотни миллионов на систему оповещания и обнаруживания, а противник преспокойно рассматривает в перископы ножки наших девчонок на океанских пляжах. — Бидли раскраснелся. Его голос приобрел твердость, глаза засверкали.
«Смотри, какой увлекающийся человек, — подумал Стэнли, — а с виду бескостная рыба».
— И только дельфин, умный и неуловимый, стремительный и бесстрашный, может распознать чужую лодку, приложить к ее борту мощную магнитную мину и уничтожить противника, — продолжал доктор. — Если добавить, что вся наша программа стоит намного меньше одного ракетного залпа крейсера, то вы поймете, какие перспективы открывает это живое оружие.
Бидли замолчал. Склонив голову, он изучал лица офицеров и как будто ждал аплодисментов. Моряки не проронили ни звука.
Одни, как и капитан Стэнли, смотрели с нескрываемым презрением на тщедушного человека, предлагавшего им заменить честный мужской бой крысиной возней. Другие еще не до конца поняли, в каком деле им предлагают участвовать.
Доктор еще раз внимательно осмотрел аудиторию. Он не понимал офицеров корабля. До этого, где бы он ни рассказывал о своих планах, его встречали восторженность, удивление, зависть, а здесь, сейчас, он не видел ни того, ни другого, ни третьего. Тогда доктор повернулся к командиру.
Стэнли воспринял это движение как конец сообщения.
— Итак, — начал он, поднявшись.
— Я не закончил, — резко прервал капитана гость. Подобного никогда не случалось на борту корабля, которым командовал Стэнли. Командир вспыхнул от ярости, но, вспомнив, что перед ним сугубо гражданский человек, сдержался и снова сел. Напряженная тишина повисла в воздухе.
— От вас требуется только одно, — продолжил свою странную речь доктор, — помогите мне поймать несколько десятков дельфинов, поместить их в две специальные клетки и доставить на нашу островную базу. За участие в операции и молчание каждый из вас будет произведен в следующий чин. Приказ об этом уже подписан министром.
«Вот что имел в виду адъютант, когда говорил о моем везении, — подумал Стэнли. — Итак, я почти адмирал. Почему почти, ведь он сказал, что приказ уже подписан. Странно, я почему-то не ощущаю радости».
— Капитан, — услышал Стэнли. Перед ним с листом бумаги в руках стоял доктор Бидли. — Я тут обозначил координаты мест, где чаще всего обитают дельфины.
— Штурман, проложите курс через эту точку, — и капитан черкнул на листе пару цифр.
— Все свободны, — отпустил своих офицеров Стэнли. Он стоя наблюдал, как они, тихо разговаривая, выходили из кают-компании.
«Как хорошо информирован этот доктор, — подумал вдруг Стэнли, — он даже знает, что я требую, чтобы в море ко мне обращались „капитан“, а не „командир“».
Едва заметная дрожь трясла стальное тело корабля. «Дафна» мчалась к намеченному месту. Стэнли стоял в боевой рубке.
Заходило солнце, крепчал ветер, срывая пенные брызги с верхушек волн. Океан потемнел и глухо бормотал что-то.
— Капитан, место, — доложил штурман, выбираясь из тесной конуры своего стола.
— В машине, стоп! — скомандовал Стэнли.
Дважды звякнул под рукой вахтенного офицера телеграф, и высокий бурун исчез за кормой корабля.
Стэнли вдруг почувствовал тяжесть в теле и, едва поднимая ноги, вышел на мостик. Потом вернулся в рубку и протянул руку к сирене. Два скорбных вскрика нарушили предвечернюю тишину. Командир взял венок и медленно прошел на бак. Держась за леер, он низко свесился за борт и выпустил из рук цветы. В этот момент океан судорожно вздохнул и приподнял нос корабля. Венок, кувыркаясь, полетел с высоты двухэтажного дома в море. Всхлипнула, истекая слезами на борту корабля, океанская волна и отнесла цветы в сторону.
Капитан пристально смотрел в серую воду. В ней, покачиваясь, как падающий лист, медленно исчезал венок. Неожиданно его парение приостановилось. Стэнли вздрогнул и наклонился ниже. Ему показалось, что из глубины кто-то внимательно всматривается в его лицо. Непонятный страх шевельнулся в груди моряка. Он отпрянул от борта, но тут же опомнился, резко повернулся, поднялся на мостик и, приказав вахтенному вести корабль по курсу, ушел в свою каюту.
Экипаж знал, что уже несколько лет в этот день командир вместе с женой выходит в море и, поминая кого-то, по морскому обычаю опускает в воду цветы. Разные высказывались предположения, но никто из моряков не знал истинной причины семейной скорби.
Когда Стэнли проходил по палубе, старпом случайно поймал его взгляд, и такая боль полыхала в глазах капитана, что, потоптавшись с минуту на мостике, старший офицер решил спуститься к командиру.
Тот сидел в глубоком кресле и держал в руках старинную оловянную кружку.
— Спасибо, Дик, что пришел разделить со мной мое горе, чуть слышно прозвучал хрипловатый голос капитана. — Хочешь? — и он пододвинул к помощнику чайник. Помолчали.
Стэнли отхлебнул несколько глотков из своей тяжелой кружки и, словно продолжая прерванный разговор, неожиданно начал:
— С пяти лет все в семье звали меня «счастливчик Джон». Это прозвище прилипло ко мне после того, как мы с братом на пари забрались на крышу старого курятника. А он возьми и развались. Брат сильно разбился. Кур погибло множество, а меня хоть бы поцарапало. Я и сейчас помню дрожащие пальцы отца, который долго ощупывал мои руки и ноги, потом передал плачущей матери. И, успокаивая ее, засмеялся: «Счастливчик»!
С тех пор, уже тридцать пять лет, я ношу это прозвище.
Чем-то мрачноватым веяло от капитана, и Дик Лесли решил, что его надо отвлечь от воспоминаний.
— Джон, — сказал он, — вашей судьбе можно позавидовать. Ведь с сегодняшнего дня вы единственный сорокалетний адмирал флота Виолии. Недаром в коридорах штаба поговаривают, что министр давно хочет видеть вас главой военно-морских сил.
— Флот, — задумчиво произнес Стэнли. — Уже триста лет все мужчины нашего рода носят морскую форму. В доме деда собрался целый арсенал шпаг и старинных пистолетов, при помощи которых разные Стэнли утверждали флаг Виолии на морях и океанах планеты. Не думаю, что все они были добрыми людьми. Но сколько надо было всадить ядер в корабль, чтобы он пошел ко дну? Не одну сотню. Да и то, если стреляют меткие канониры, а сейчас — один ракетный залп и…
Когда я поднимался на борт нашего крейсера, дед пригласил трех редакторов своих газет и заявил им, что Джон Стэнли-пятый, то есть я, непременно будет командовать всем флотом страны. А я с каждым днем начинаю тяготиться своей принадлежностью к военно-морским силам Виолии. Мне иногда кажется, что все мы — сборище сумасшедших, которых кто-то запер в пороховом погребе. Вы видели, с каким удовольствием этот сморчок говорил о том, как дельфины будут топить лодки противника. А ведь в них такие же люди, как мы. Люди, которых он жаждет убить. Вы знаете, что такое тонуть?! Я дважды оставался один на один, с океаном. Человек перед ним, как маленькая капелька воды, наделенная разумом. Играя, океан медленно вылизывает ее своим холодным соленым языком. В ярости — глотает в одно мгновенье, как это случилось с моим сыном. — Стэнли судорожно сглотнул комок, застрявший в горле, и перевел дыхание. — На земле хоть остается камень, к которому можно припасть щекой, а здесь…
«О каком сыне он говорит?» — подумал старпом. Он, как и весь флот знал, что «счастливчик Джон» не имеет детей. Красавица Доротея, чья фигура потрясала воображение всех мужчин, которые хотя бы раз видели ее, не рожала. Злые языки офицерских жен и репортеров скандальной хроники не переставали молоть о том, что на деньги, истраченные Стэнли на безуспешное лечение жены, можно было купить целый гарем.
— Это было семь лет назад, в первый день зимы, — уставясь в чайную гущу, задумчиво продолжал капитан. — После боев в заливе меня отпустили домой, и мы с женой полетели в горы, на старое ранчо деда. Этот день я запомнил на всю жизнь. Тихо падал снег. Огромные пушистые снежинки дрожали на ресницах Доротеи и светились в ее волосах. «Ты похожа на сказочную принцессу», — сказал я. Она засмеялась. Ее губы щекотали мое ухо, а горячее дыхание туманило сознание. От счастья я ничего не слышал. Тогда она взяла меня за руку, подвела к огромной деревянной скамейке, усадила и стала что-то писать на снегу. Я с трудом оторвал взгляд от маленькой голубой перчатки и к своему изумлению прочел: «Джон, у нас будет ребенок!»
На какое-то мгновенье мне показалось, что от радости я теряю сознание. Дик, у вас их трое, вы можете понять мое состояние в тот миг…
На следующий день я позвонил в штаб и попросил отпуск на год. В музыке и счастливом ожидании летели дни, недели. Чем меньше оставалось времени до того дня, когда я должен был стать отцом, тем мрачнее становилась Доротея. Она вбила себе в голову, что или с ней, или с малышом произойдет что-то ужасное. Врачи объясняли это слишком долгим ожиданием ребенка. Мы делали все, но успокоить ее было невозможно. Вдруг, когда до родов оставалось меньше месяца, она захотела в море. Я пытался отговорить жену — бушевали весенние штормы — но врач сказал, что несколько дней морской прогулки не повредят, только посоветовал взять с собой акушерку.
Капитан замолчал. Его обычно невозмутимое лицо исказила гримаса боли. Хрупкая тишина опустилась в каюту. Лишь едва уловимая дрожь могучего корабля говорила о том, что совсем рядом, за стальными переборками, работают люди.
— Моя яхта полностью автоматизирована, и я легко справлялся с ней один, — опять заговорил Стэнли, — поэтому мы вышли в море втроем. Я, Доротея и миссис Кэрол — акушерка.
На второй день нас настиг шторм. Океану хватило трех часов, чтобы превратить красавицу-яхту в развалину. Кое-как мне удалось выбросить плавучий якорь и спасти корабль. Когда ветер стих, я спустился вниз.
В каюте творилось что-то невообразимое. Разболтанная обшивка пропускала воду. Ее уже набралось столько, что небольшие волны плескались в углах.
Два широких кожаных ремня удерживали Доротею на кровати. Ее голова запрокинулась. По бледному лицу катились крупные капли пота. Губы вспухли и почернели. В страхе и ярости я проклял тот час, когда согласился с беременной женой выйти в море.
Акушерка сказала мне, что вот-вот начнутся роды и поэтому нужно вызывать помощь.
Я кинулся к рации. Эта патентованная дрянь работала, но так, что меня никто не слышал. Оставалось только одно — идти в сторону берега и уповать на господа бога. На огрызке мачты я укрепил полотнище запасного паруса. Свежий ветер лихо погнал нас в сторону суши. Разошлись тучи, и я определил свое место. До берега было миль сто, но мы находились на самом перекрестке морских дорог, и во мне шевельнулась надежда.
Вдруг внизу дико закричала Доротея. Я кинулся в каюту.
— Похоже, сын капитана Стэнли родится прямо в море, — встретила меня миссис Кэрол. — Идите наверх, когда понадобится, я позову вас.
Я вернулся на палубу и стал пускать в небо ракеты, но вокруг было пусто. До рассвета оставалось часа четыре. Ветер стих, и легкий туман опустился на море.
…Капитан прервал свой рассказ, откусил кончик сигары и долго раскуривал ее.
— Она почти беспрерывно кричала, — выдохнул облако дыма капитан, — и вдруг стихла. Я бросился вниз, но не сделал и двух шагов, как услышал детский крик. Это был сын. Мой сын. Понимаешь, маленький Стэнли! Старушка обтирала его какими-то тряпками, а он орал что было сил. Я толком даже не рассмотрел его, сверху послышался вой турбин корвета.
В густой предрассветной синеве сторожевик несся на мою яхту, как слепой, ошалелый бык. Я успел дважды выстрелить из ракетницы, прежде чем понял, что на корвете все спят, доверившись автоматам.
«Раздавит», — сообразил я и бросился к Доротее.
Едва слетели пряжки ремней, удерживавших жену, как страшный удар потряс наше суденышко. Острый таран боевого корабля с хрустом развалил яхту на две части. Эти скоты не могли не почувствовать удар, но даже не замедлили ход…
— Вы нашли их, капитан?
— Зачем? — устало произнес рассказчик. — Это мог сделать любой корабль нашего флота. Ведь каждый день и час нам вбивают в головы, что завтра — война, что прибрежные воды буквально кишат подводными лодками противника. Эта истерия довела до того, что большая часть наших моряков в любом незнакомом предмете на воде готова видеть врага. Вспомните случай с беднягой Смитом, который «нашел» подводную лодку противника в бассейне своей загородной виллы. Мы тогда много смеялись, а сейчас я думаю, что через несколько лет сам стану глубинными бомбами очищать от субмарин собственную ванну.
— Вы правы, капитан, — в раздумье произнес Лесли, — во время боев в заливе я видел, как быстро наши парни теряют все человеческое. Мне даже пришлось пристрелить одного, чтобы остановить резню раненых пленных.
Моряки замолчали. Стэнли вспомнил, что говорил ему о Дике командующий: «Он прекрасный моряк, знающий и толковый офицер, но слишком добр, поэтому может быть лишь исполнителем. Значит, вот в чем дело. Если бы Лесли не вмешался или, наоборот, сам начал бы стрелять в раненых, ему бы доверили корабль, а так — нет…»
— Похоже, меня немного контузило во время крушения, — вновь начал Стэнли, — потому что я пришел в себя уже в воде. Первое, что я услышал, был голос Доротеи. Она звала меня. В непроглядной синеве я едва рассмотрел обломок какой-то доски, за который, видимо, схватился при столкновении. Кружилась голова, и временами пропадал слух, но Доротея была где-то рядом, и я поплыл на звук ее голоса. Через несколько метров я буквально наткнулся на нее. Жена держалась за большой квадрат палубного настила, который вполне мог служить спасательным плотиком для нас двоих.
Но только я вытащил ее из воды, как Доротея бросилась назад, и я едва удержал ее.
— Джон, ты слышишь? — закричала она. — Там наш мальчик, — и стала рваться из моих рук.
Откуда взялась сила в ее тонких руках? Она чуть не сбросила меня в море.
— Джон, — тормошила меня Доротея, — Джон, поверь мне, он совсем близко.
Похоже, я хорошо ударился головой, потому что только тогда вспомнил о сыне и акушерке.
— Ого-го-го, — закричал я во всю мощь своих легких, — миссис Кэрол, отзовитесь! — но ответа не было.
Доротея тоже затихла. Тело ее дрожало от напряжения.
Вытянув шею, она вглядывалась в пустынные волны.
— Послушай, — вцепилась в мою руку жена, — его голос удаляется от нас, надо плыть за ним.
Кроме всхлипывания волн у низкого бортика нашего плотика, я ничего не слышал. Но, чтобы не волновать Доротею, я достал из воды обломок доски и стал грести в сторону, куда указывала ее дрожащая рука. Стоя на коленях, жена помогала мне.
— Быстрее, быстрее, милый, — лихорадочно шептала она, взбивая ладонями воду, — там, там наш сын!
Я греб изо всех сил, шепча про себя молитвы, которым меня научила в детстве кормилица. У бога я просил одного — чтобы он сохранил рассудок моей Доротеи. Ведь в море, кроме меня и ее, никого не было…
Рассвет Стэнли встретил как всегда на мостике. Он стоял, глубоко вдыхая чистый морской воздух.
Едва первый золотистый луч упал на воду, океан вздохнул и радостно улыбнулся свету. Тысячи веселых солнечных зайчиков заиграли на его широкой груди, разбегаясь в стороны от тяжелой громады корабля.
Стэнли любил море. Широкая, бескрайняя гладь воспринималась им как огромное живое существо.
— Его невозможно смирить или загнать в клетку, — говорил Стэнли. — Даже венец природы — человек, и тот вышел из океана. Вышел, чтобы тут же загнать себя в тесноту пещер, домов и городов. Да и не только себя. Все, к чему прикоснулась человеческая рука, попадает в вечную кабалу. Только небо и море остались свободными. Я бы поднялся в небо, но не люблю его тишины и пустоты. Остается только одно — плавать в океане. Здесь, на утлом суденышке или на стальном корабле, ты все равно чувствуешь себя частицей этой громады…
Стэнли снял фуражку. Пригладил волосы и негромко сказал свое неизменное:
— Доброе утро, Океан!
В это время сзади что-то загрохотало по палубе. Капитан оглянулся и увидел спешащего на мостик старпома.
— Извините, капитан, доктор Бидли с самого утра просил разрешить установить на корме приспособления для ловли дельфинов. Я распорядился выделить для этого матросов. Вот они и шумят.
— Правильно сделали, — сказал Стэнли и надел фуражку.
— Капитан, — вытянулся в струнку помощник, — вчера я не решился обсудить с вами некоторые аспекты нашего задания, но доктор спешит, поэтому откладывать разговор нельзя.
— Я слушаю вас, Дик.
— Вы читали что-нибудь о работах профессора Ли?
— Нет.
— Он — мой друг и уже много лет изучает дельфинов. Нет в море существа умнее и добрее их. Да что там в море — вообще на земле. И самое, на мой взгляд, странное — никто из дельфинов никогда не причинял зла людям. Заметьте, и это при том, что их ловят и уничтожают все, кому не лень. Собака в ответ на удар может укусить, кошка — поцарапать, даже тишайшая корова и та, если ее разозлить, боднет рогами. И только дельфин уже многие сотни лет добр и терпелив, как бывает добр умный старший брат.
Ли считает, что биополе дельфина спокойно проникает в наше сознание. Я плавал вместе с ними в бассейне и с первого раза ощутил какое-то дружеское отношение. Мне даже показалось, что кто-то прошептал на ухо: «Ты наш брат, ничего не бойся, мы защитим тебя от любой опасности, как уже защищали многих людей».
Лесли замолчал и посмотрел на корму, где среди моряков суетился доктор Бидли.
— А мы? — с горечью спросил он. — Хотим сделать из них живое оружие. Стою иногда на мостике и думаю — неужели мы рождены только для того, чтобы сеять страх, смерть и разрушения? И сегодня вместе со всей командой будем участвовать в новом преступлении против человечества? Ведь есть же и другие люди на земле…
— Вы предлагаете мне предать Родину?!
— Да нет же, я хочу спасти вашу честь и защитить дельфинов.
Стэнли молча шагнул к рубке и потянул на себя ручку двери.
— Еще минуту, капитан. Год назад Ли начал эксперимент, который пока держит в секрете. Он пустил в дельфинарий грудных детей.
— Что?! — остановился Стэнли.
— Да, да, грудных детей, — продолжал старпом. — И произошло чудо. Младенцы сразу же поплыли и теперь спокойно держатся в воде рядом с дельфинами. Здесь же едят и спят. Причем сон их в морской воде, как говорит профессор, глубже и спокойнее, чем на земле. Он считает, что вода защищает детей от тяжести земного свода, а мощное биополе животных снимает чувство опасности перед морем.
И это не все. Несколько месяцев назад Ли уговорил принять участие в эксперименте одну свою беременную лаборантку. Она прошла специальную подготовку, включающую в себя гипноз. Женщине удалось преодолеть страх перед водной опасностью и переключить подсознание на то, что роды будут проходить в воде.
— Да вы с ума сошли! — вскричал Стэнли. — Ребенок тут же захлебнется и утонет. После родов ребенок отключается от материнской системы жизнеобеспечения. Он начинает дышать своими легкими. Неужели ваш профессор об этом не знает?
— И тем не менее. Ребенок родился в море. Он появился на свет на глазах большой группы дельфинов. У одного из них в это же время родилось свое дитя. Надо сказать, что дельфиньи роды похожи на человеческие. Сам Ли был потрясен тем, что едва освободившись от связи с матерью, ребенок поплыл. Через несколько секунд дельфины бросились к нему и на какое-то мгновенье подняли из воды, потом снова опустили.
Профессор объяснял мне, что мозг дельфинов воспринял сигнал тревоги, когда стало не хватать кислорода. Животные помогли мальчику перевести дыхание. С того дня прошло уже два месяца. Все это время малыш почти не выходил из воды.
— Что же он ест? — недоверчиво спросил Стэнли.
— Молоко двух матерей. Своей и дельфиньей. Причем Ли делал анализ. Ребенок прекрасно переваривает молоко животного. И еще, с первого же дня малыш научился ездить на дельфине.
— Верхом? — насмешливо дернул щекой Стэнли.
— Нет, зачем же. Сработал хватательный рефлекс. Когда дельфины в очередной раз поднимали ребенка на поверхность, он ухватился за спинной плавник. И долго держался за него. Теперь это стало обычным способом передвижения. Ли потом проверил все в гидродинамической трубе. И нашел, что встречный водно-воздушный поток включил на чувствительном теле младенца тысячи микрорефлекторов, которые помогли новорожденному автоматически принять самую оптимальную позу. То есть сделали ребенка предельно обтекаемым.
Профессор надеется, что такое смешанное воспитание даст мальчику возможность овладеть двумя языками и стать первым переводчиком между человеком и дельфином. Вы слышите, капитан, это первая тропа в океан. А наши военные хотят взорвать ее. Сейчас еще есть время остановить их. И вы можете сделать это…
По бескрайней лазурной глади мчался корабль. На его мостике стояли два моряка. Один из них прятал глаза от другого.
Наконец, он тихо сказал:
— Извините, Дик, я — офицер и должен выполнять приказ.
Лесли опустил голову и сошел с мостика.
— Дельфины, — встретил командира вахтенный офицер.
Через несколько часов клетки, закрепленные по обоим бортам «Дафны», были полны, и корабль двинулся к секретной островной базе флота.
Стэнли проснулся в липком поту. Ему приснилось, что в клетках тонут маленькие дети, а он стоит на мостике и не может сдвинуться с места. Капитан нащупал в темноте зажигалку и закурил. Не успел он сделать и двух затяжек, как в коридоре раздались шаги бегущего человека, и в каюту ворвался полуодетый доктор Бидли.
— Капитан, — лихорадочно выкрикнул он, — клетки пусты, кто-то выпустил дельфинов.
— Может быть, замки ослабли?
— Нет. Все дверцы широко распахнуты. Это мог сделать только человек.
— Старпома ко мне, — распорядился Стэнли, едва за доктором Бидли закрылась дверь.
— Кто-то открыл дельфиньи загоны, — встретил своего помощника Стэнли.
— Значит, на борту есть еще один хороший человек, — глядя прямо в глаза капитану, ответил Лесли. — Хороший, но недалекий. Их ведь можно снова поймать. Или поручить это дело кому-нибудь другому. Нет, капитан, это не выход.
— Хорошо, пойдемте посмотрим, может быть, доктор сам допустил промах, а теперь пытается на кого-то свалить свою оплошность…
Мощные прожекторы высвечивали полупогруженные в воду овалы загонов. На каждом из них было по две сплетенные из толстой стальной проволоки дверцы. И все они были широко распахнуты.
— Капитан, чтобы добраться до этих защелок, нужно или пользоваться парадным трапом, или быть фокусником, — высказал мысль помощник. — Смотрите, между нами и клеткой расстояние метра четыре. Добавьте к этому высоту борта и скорость корабля. Нет, наши моряки этого сделать не могли.
— Тогда кто же открыл клетки, сами дельфины? Но они внутри, а замки — снаружи. Может быть, в экипаже есть ловкий человек, который набросил веревку на шпингалет защелки и открыл ее?
— С такой высоты на двухдюймовый выступ? Вы шутите, капитан.
— Тогда как же они выбрались оттуда?
— Может быть, другие дельфины постарались? Хотя нет. Ли утверждает, что им сначала надо несколько раз показать какое-то действие, только тогда они могут повторить его.
— Не хотите же вы сказать, что это проделки экипажа подводной лодки противника?
— Что вы, капитан!
— И тем не менее, дельфины из загонов выбрались. Дик, завтра, когда доктор Бидли снова наполнит клетки, проследите сами за тем, как он будет закрывать свои замки и выставьте часовых.
— У каждой клетки?
— Зачем? Один матрос вполне справится с наблюдением за обоими бортами. И пусть время от времени поглядывает на клетки.
Весь следующий день корабль метался по морю в поисках дельфинов, но их не было.
— У меня такое ощущение, — сказал появившийся в рубке доктор Бидли, — что кто-то специально распугал их. Неужели в главном штабе есть агенты противника?
— Которые открыли перед морскими обитателями перспективы своего строя и увели всю живность в свои территориальные воды, — пошутил Лесли.
Доктор зло сверкнул глазами, прошептал что-то про себя и выскочил на крыло мостика.
Только перед самым закатом моряки опоясали сетями большую стаю дельфинов и в течение двух часов наполнили клетки.
Лесли убедился, что Бидли лично закрыл каждый замок загона.
Освещенные мощными прожекторами дельфины шумно плескались за решетчатыми бортами своих новых домов. Время от времени то один, то другой поднимал голову из воды, и тогда над морем раздавались скрипы, свист, повизгивания.
— Первый раз слышу их речь, — обратился капитан к Лесли.
— Большую часть ее мы не воспринимаем, — ответил тот. Они разговаривают при помощи ультразвука, источником и приемником которого служит сонар — небольшой локатор.
— Сонар и биополе вместо нашего языка?
— В море это лучше. Так же, как плавники и хвост. Я смотрел рентгенограмму передних плавников дельфина. Она напоминает кисть человеческой руки. Ли говорит, что специалисты считают грудной плавник атрофированной конечностью, видоизменившейся с того времени, когда дельфины жили на суше.
Руки ему в море не нужны, а при необходимости их с успехом заменяет длинное узкое рыло. Им дельфин нажимает на клавиши, рукоятки, играет с мячом, удерживает и передает различные мелкие предметы. Это животное рождено, чтобы быть верным другом и помощником человеку, а мы, — Лесли с ненавистью посмотрел на прохаживающегося по палубе доктора Бидли, — хотим сделать из него убийцу.
— Идите отдыхать, Дик, — устало поднес руку к козырьку фуражки Стенли.
Разбудил Лесли звук автоматной очереди.
«Часовой», — подумал офицер, лихорадочно облачаясь в мундир. У входа на палубу он догнал капитана.
Поднятый по тревоге экипаж в считанные секунды занял места по боевому расписанию. Маленькая «Дафна» погрузилась в темноту и приготовилась к бою.
— Человек. Из моря вышел человек, — дрожащим голосом докладывал часовой. — Маленький, голый человек. Он раскрыл клетку и выпустил дельфинов. Я испугался, закричал. Он увидел меня и прыгнул в море. Тогда я начал стрелять.
— Попал?
— Не знаю.
— Вахтенный, — резко бросил Стэнли, — что горизонт?
— Чист.
— Акустик?
— В воде только рыбы и дельфины.
Стэнли повернулся к часовому и впился глазами в его лицо.
Матрос стоял, вытянувшись в струнку, и смотрел на своего командира.
— Отбой боевой тревоги! Свет на палубу!
Одна клетка был пуста.
— Черт знает что, — в сердцах воскликнул Стэнли. — Маленький. Голый. Прыгнул в море. А горизонт чист. Непонятно. Еще одного часового к борту. Смотреть в оба. Стрелять без предупреждения.
Он еще раз внимательно всмотрелся в дельфинов, плавающих в клетке. Они явно были взволнованы. Стэнли готов был поклясться, что прочел это в их глазах. Животные то и дело разглядывали людей на палубе корабля.
— Удивительно, какой умный взгляд у этих животных, — сказал Стэнли, отходя от борта. — Лесли, я на мостик, смените меня в три часа.
Ночь прошла спокойно.
С первыми лучами солнца моряки увидели дельфинов. Их гибкие светло-серые тела мелькали по обеим сторонам корабля.
Поведение животных было необычно. Они не прыгали и не резвились. Вдруг один из них, резко изменив путь, направился к клетке. В бинокль было хорошо видно, как стремительное веретенообразное тело, с каждой минутой увеличивая скорость, несется к кораблю.
— Смотрите, капитан, — обратился к командиру Лесли, — при такой скорости дельфин не оставляет ни малейшего следа на воде. Многие специалисты связывают эту суперобтекаемость со свойством дельфиньей кожи.
— Что он собирается делать, — вскричал Стэнли, — не таранить же нас?
— Не знаю, все это совсем не похоже на обычное поведение животных.
Мощный удар головы дельфина потряс загон. Его пленники засвистели на разные лады. Но храбрый освободитель, похоже, их не слышал. Он замер вблизи борта, едва шевеля плавниками.
— Удар, наверное, оглушил его, — взволнованно предположил Лесли, — и не удивительно. Взрослые дельфины развивают скорость до 30 узлов в час.
— Дверца выдержала, но проволока сильно погнулась, — отнял бинокль от глаз Стэнли, — Еще удар, другой…
В ту же секунду, словно услышав человека, к клетке понесся другой дельфин.
— Капитан, — взлетел на мостик доктор Бидли, — меня удивляет ваша позиция стороннего наблюдателя. Они ведь вышибут дверь. Прикажите открыть огонь.
Стэнли кивнул вахтенному офицеру. Потом, взглянув на Лесли, добавил:
— Только в воздух.
Глухо залаял крупнокалиберный пулемет, выглядевший посторонним предметом на исследовательском судне, и дельфины отплыли от корабля.
— Я много лет работаю с ними, — задумчиво сказал доктор. — Ежегодно их отлавливают тысячами и не было случая, чтобы животные пытались освободить своих товарищей. Странно…
Бидли спустился на палубу и отдал распоряжение закинуть сети. Он во что бы то ни стало хотел заполнить вторую клетку.
Но как только разноцветные поплавки запрыгали по воде, дельфины отошли дальше. Трижды по просьбе Бидли «Дафна» давала полный ход, пытаясь окружить стаю, и трижды животные легко выходили из западни.
— Остался единственный выход, адмирал, — обратился доктор к Стэнли.
Тот не любил, чтобы в море его называли по званию, но в этот раз только поморщился.
— Я понимаю вас, — продолжал Бидли, — но предлагаю вашей артиллерии взять на себя лишь роль загонщиков. Дайте залп перед стаей. Дельфины непременно попытаются выйти из-под огня. Так пусть ваши стрелки загонят их в сети.
Стэнли какое-то время раздумывал, потом решительно надвинул фуражку на глаза и приказал вызвать на мостик начальника артиллерии. Сжав зубы, капитан в двух словах объяснил офицеру задачу и вышел из рубки на крыло мостика.
Зазвенели колокола, и через мгновенье загрохотали пушки. Лес водяных столбов вырос на пути дельфинов. Они заметались, но выход был один — плыть в спокойную воду, окруженную с трех сторон разноцветными поплавками.
Лесли смотрел на море. Он стоял в рубке, уперев взгляд в штурманский стол. Старпом не мог видеть разгоряченные азартом охоты лица начальника артиллерии и доктора Бидли. Артиллеристу так понравилась роль загонщика, что он командовал, отложив в сторону бинокль, прикидывая расстояние на глаз. Лесли неожиданно увидел это и в ярости крикнул:
— Вам приказали стрелять по воде, а не по дельфинам.
— Я так и делаю, — молодой офицер схватился за бинокль.
— А я говорю — вы не туда стреляете, — не снижая голоса, продолжал Лесли. Он поднес к глазам окуляры, и штурман, внимательно следивший за старшим офицером, вдруг увидел, как тот побледнел.
— Человек за бортом, — прошептал Лесли и выхватил из рук артиллериста микрофон.
Но едва он успел раскрыть рот, чтобы произнести слова команды, как в рубке раздался мощный командирский бас:
— Прекратить стрельбу! В машине — стоп!
Напряженная тишина повисла над кораблем.
— Где вы видели человека, Дик?
— Там, капитан, прямо среди разрывов.
Многократно приближенная оптикой, перед глазами Стэнли текла вспененная взрывами морская гладь. Неожиданно какая-то тень мелькнула в окулярах. Капитан повел биноклем в ее сторону и замер. Прямо в центре недавнего разрыва из воды показалась человеческая голова.
— Вот он, вы видите, капитан? — взволнованный голос Лесли нарушил тишину.
— Вижу.
Вода обнажила шею, плечи, грудь.
— Боже, как он там оказался? — растерянно забормотал артиллерист.
Человек повернул голову в сторону корабля.
— Доротея! — вскрикнул Стэнли и, шагнув вперед, ударился биноклем о стекло боевой рубки. — Нос, подбородок, родинка на верхней губе, — лихорадочно забормотал он.
— Мальчик верхом на дельфине, — удивился Лесли.
— Сын, — выдохнул Стэнли. — И тут же рявкнул: — Полный вперед!
— Лесли! Лесли! Ты помнишь, я тебе рассказывал… Шесть лет назад. Это вылитая Доротея. До чего похож, даже страшно. И волосы — черные, блестящие. Боже мой, неужели такое возможно?! Сын. А где он жил эти годы? Лесли, я схожу с ума. Может быть, дельфины? Ты говорил, они могут выкормить ребенка?
— В машине, самый полный!
Дельфин, на котором сидел мальчик, плыл как-то неровно, рывками. Ребенок качался, клонясь то в одну, то в другую сторону. Неожиданно животное изменило курс, и все увидели, что из правого плеча мальчика алой лентой струится кровь.
— Он ранен! — закричал Стэнли и в ярости повернулся к артиллеристу. — Ты убил его!
— Я выполнял ваш приказ, — твердо ответил офицер.
Дельфин вдруг выпрыгнул из воды. Моряки увидели широкую рваную рану на него спине. Животное плыть больше не могло. Его хвост едва шевелился.
Стэнли рванул с шеи галстук.
— Быстрее!
Но корабль словно замер среди бескрайнего океанского простора.
Неожиданно мальчик всплеснул руками и упал в воду.
Капитан вскрикнул.
Едва черноволосая головка коснулась воды, как из глубины вынырнули два дельфина и, приподняв мальчика на своих спинах, понеслись к горизонту. Они спешили к месту, где целебная вода быстро лечила различные болезни и раны стаи.
Стэнли, вытянувшись, следил за ними.
— Ну же, сын, подними голову, подними, — как заклятье шептал капитан. — Живи, где хочешь, — в море, на суше, но только живи. Слышишь, сын, живи!
Мальчик не шевелился. Дельфиньи хвосты со страшной силой рубили воду. Она струилась сквозь тонкие пальцы и омывала поднятое к небу лицо.
Корабль дрожал от напряжения, но расстояние между ним и стаей как будто не сокращалось.
Лесли искоса взглянул на Стэнли. Губы его шевелились.
«Может быть, молится?» — подумал офицер. Но неожиданно услышал:
— Будь проклят тот день и час, когда я надел военную форму, превратившую меня в зверя, — говорил капитан. — Я во второй раз убил своего сына…
Ночь стремительно опускалась на море. Расстояние между животными и кораблем медленно сокращалось. Оранжевый солнечный диск тонул в океане. Минута, другая, третья. Золотистые лучи в последний раз обняли мальчишескую головку, лежащую на гибкой дельфиньей спине, и ночь упала на море.
Стэнли, не отрываясь, вглядывался в чернильную темноту, но ни ребенка, ни стаи не было видно…
Тишину рубки решился нарушить штурман, выделявшийся из всего экипажа своим педантизмом.
— Извините, капитан, вы не задали курс.
Стэнли с трудом оторвал бинокль от лица и повернулся к говорившему.
Лесли поразила перемена, происшедшая с командиром за этот час. Гладкое до сих пор лицо его было покрыто морщинами, а голубые глаза потеряли свой блеск.
— Курс? Домой.
— Капитан, — шагнул вперед доктор Бидли, — я разделяю ваше горе, но вы забыли, что выполняете правительственное задание.
— Задание? — тихо повторил Стэнли. И вдруг привычный бас командира заставил всех выпрямиться. — Помощник, отдайте распоряжение выпустить дельфинов. Радист, соедините меня со столичным пресс-центром. Я не хочу больше участвовать в этом преступлении.
— Да как вы смеете? — завизжал доктор. — Сумасшедший! Властью, данной мне правительством, я отстраняю вас от командования судном. Вы арестованы, — выхватил он из кармана пиджака маленький пистолет.
Лесли удовлетворенно крякнул, широко размахнулся и с удовольствием ударил в челюсть доктора Бидли. Тот выронил оружие и опрокинулся навзничь.
— Пресс-центр? — зарокотал в эфире капитанский голос. — Говорит адмирал Джон Стэнли-пятый. Я хочу сделать заявление.
…Легкий туман пробежал перед глазами, в ушах зазвучала ласковая мелодия, и гипногог отключился.
Звездолетчики увидели перед собой обзорный экран, в центре которого весело помаргивал голубой шар. Земля.
— Так отец потерял меня второй раз, — голос Рифа звенел от волнения. — Опять встретились мы с ним только через пять лет, когда Ли расшифровал язык дельфинов. За это время в стране произошли важные события. Пал кабинет министров. Страна подписала Всемирную Хартию о разоружении…
Я в это время учился. Мне понадобилось несколько лет, чтобы заново стать человеком, — командир помолчал. — Потом был объединенный космофлот. Высшая школа астронавтики. Я успел ко второму выпуску… Теперь вернусь туда преподавателем.
На пульте управления вспыхнула зеленая панель.
— Есть причаливание, — бесцветным голосом доложил автомат.
— Вот мы и дома, — Риф Стэнли встал. Голубое небо заглядывало в иллюминаторы и отражалось в ясных блестящих глазах космонавта.
Борис Майнаев
Взлет
Самолеты улетели.
Разбитый прямым попаданием первой же бомбы деревянный вокзал сгорел еще до окончания бомбежки. Взлохмаченное рыжее пламя перебросилось на высушенный июньским зноем небольшой станционный поселок. Люди не успели опомниться, а по свежему пепелищу горячий ветер уже гонял тонкие струйки дыма.
В наступившей тишине со стороны большака послышался гул автомобильных моторов.
— Пожарные!
— Поздно, — махнул рукой железнодорожник в обгоревшем кителе. — Что тушить?..
Из знойного марева, смешанного с дымом, вынырнули две машины. Один грузовик был с длинным прицепом. Он проехал вперед и, скрипнув тормозами, остановился на краю привокзальной площади. Вдоль бортов, у тщательно прикрытого брезентом странного громоздкого — с какими-то крыльями — груза стояли бойцы с винтовками, торчали стволы ручных пулеметов. Из кабины грузовика вышел командир в синей летной форме.
— Старший есть? — громко спросил он.
— Так точно, — железнодорожник шагнул вперед и поправил козырек фуражки. — Я начальник станции.
— Полковник Иволгин, — офицер устало бросил руку к виску. — Раненых много?
— Пятеро. — За начальника станции ответила подошедшая женщина в закопченном белом халате. — И еще восьмерых, — она судорожно дернула головой, сглотнула комок, — мы положили в сквере около вокзала. А сколько не успели выскочить из хат… — женщина безнадежно махнула рукой.
— Та-ак! — Полковник сумрачно огляделся вокруг. — Когда ближайший поезд на Москву?
— Не знаю. Вы же видите, все сгорело, связи нет. — Железнодорожник помолчал, потом чуть слышно спросил: — Что это? Война?!
— Да, — коротко и жестко бросил летчик.
— С немцами?
— Да. Пойдем посмотрим, что с путями. Поезда непременно пойдут, мы должны уехать сегодня, немедленно.
На привокзальную площадь сходились люди. Они группами собирались в сторонке, не решаясь подойти ближе, и только издали смотрели на машины. Но слова полковника они услышали. Тонко вскрикнула какая-то женщина, другая, рядом с ней, зарыдала в голос, что-то приговаривая. Пробиваясь сквозь толпу, Иволгин слышал:
— Немцы, господи… Опять!
— Мало мы им в восемнадцатом накостыляли!
— Гитлер — сволочь известная, ему б только крови напиться!
— Но на нас, гад, зубы сломает!
— В район надо идти, в военкомат…
Иволгин постоял на перроне, прошел до выходной стрелки и назад. Начальник станции неотступно следовал за ним.
— Во сколько должен прийти поезд? По мирному расписанию?
— Утреннего не было, товарищ полковник. Следующий — в тринадцать двадцать, но связи нет, поэтому точно сказать трудно.
— Мобилизуйте людей, пусть восстановят хотя бы один путь. А со связью… — Он повернулся к грузовикам и громко крикнул:
— Механик!
Быстрым шагом к ним подошел высокий человек, единственный среди приехавших одетый в штатское — простые серые брюки и кожаную куртку.
— Направь двух бойцов, пусть проверят линию. Нужна связь. И еще, — Иволгин помедлил, потом сказал решительно: — Оставь за себя старшину, сам сходи в поселок. Предупреди всех: женщины и дети эвакуируются. С ними раненые. Первым же поездом.
Начальник станции быстро собрал ремонтников. Не прошло и получаса, как на путях закипела работа. К площади стали подходить притихшие женщины с ребятишками.
Иволгин еще раз прошелся по перрону, несколько раз внимательно осмотрел затянутый маревом небосвод. В ожидании связи он сел на вросшую в землю чугунную скамейку, снял фуражку, положил рядом. Усталые глаза смыкались. Резко пахло свежим пепелищем. Это напомнило летчику день, когда он проиграл бой в далекой теперь Испании.
…С утра по полудни капитан Иволгин сделал четыре вылета, добавив к своему счету еще один «Юнкерс» — третий — и уже предвкушал веселый праздничный ужин, как в небо взлетела сигнальная ракета. Эскадрилья бомбардировщиков врага шла на Мадрид. Ее прикрывали девять «мессершмиттов».
Поначалу все складывалось удачно. Республиканские самолеты зашли со стороны заходящего солнца, и после первой атаки немцы потеряли сразу три машины. Развернулись для второго захода. Вдруг очередь с фашистского истребителя разбила фонарь машины Алексея. Стреляли сзади. Он не видел, кто — встречным курсом на него шел другой фашист. Иволгин бросил самолет вниз, но «ишачок», словно наткнувшись на что-то, клюнул носом, замер на мгновенье и, уже не слушаясь летчика, понесся к земле. Алексей выломал остатки фонаря и вывалился из кабины. К распустившемуся куполу парашюта со всех сторон потянулись огненные трассы. Вдруг из круговерти боя вынырнул родной «И-16». Он прикрыл собой парашютиста.
Вечером Иволгин с товарищами поехал в Мадрид. Улицы города были изуродованы бомбами. Ночь опускалась дымом свежих пожаров. В густеющей темноте стучали моторы, скрежетали лопаты и чуть слышно переговаривались люди, разбиравшие завалы. Алексей думал о том, что если бы его сегодня не сбили, если бы он летал лучше, на город упало бы меньше бомб…
Но летать в испанском небе ему больше не пришлось. Через день пришел приказ: ближайшим пароходом вернуться на родину.
Все время пути до Одессы Иволгин перебирал в памяти каждое мгновенье последнего боя… Едва корабль успел пришвартоваться, на палубу стремительно поднялся молодой человек в сером костюме. Быстро обведя взглядом немногочисленных пассажиров, он направился прямо к Алексею.
— Капитан Иволгин?
— Так точно.
— Прошу следовать за мной. Вас ждет самолет.
А еще через несколько часов, прямо с аэродрома, наглухо зашторенная «эмка» доставила его к небольшому двухэтажному дому в Подмосковье, похожему на дачу. Встретивший Алексея старший лейтенант распахнул дверь автомобиля и, провожая к крыльцу, сказал:
— Для вас все приготовлено. Приведите себя в порядок, переоденьтесь. Если хотите, можете поужинать. Через полтора часа вас ждут в Наркомате.
В вестибюле Наркомата Иволгина встретил другой сопровождающий. Они поднялись на третий этаж. Новенькая форма хотя и пришлась впору, но еще не обмялась по фигуре и несколько стесняла Алексея. Легкое поскрипывание неразношенных сапог нарушало тишину длинных, полутемных и пустынных в этот поздний час коридоров.
Сопровождающий открыл высокую, тяжелую дверь.
— Прошу.
Иволгин шагнул через порог. В глубине кабинета, освещенного лишь настольной лампой, около стола сидели три человека: полковник авиации и двое гражданских.
— Майор Иволгин по вашему приказанию прибыл. — Алексей чуть запнулся на первом слове. Он не успел еще привыкнуть к новому званию, о котором узнал всего час с небольшим назад.
— Здравствуйте, майор, проходите, садитесь, — полковник указал на стул рядом с собой. — Уходя на командирскую должность, майор Николаев рекомендовал вместо себя вас. Летать будете вот на такой машине.
Полковник повернулся к столу. Иволгин присмотрелся: на темном зеленом сукне яркими блеснами сверкала модель самолета.
«Авиаетка типа „У-2“, — подумал он, — только моноплан».
На таких машинах Алексей летал еще в аэроклубе.
— Перед вами первый в мире невидимый самолет, — тихо проговорил один из гражданских.
Иволгин невольно бросил на него взгляд, но лицо человека терялось в тени абажура. Он снова повернулся к столу, присмотрелся повнимательнее. Модель хорошо знакомого аппарата была выполнена не из металла или дерева, а из чего-то другого, и в полумраке казалась зыбкой, полупрозрачной. Ее контуры едва намечались, скорее, угадывались. Сравнительно отчетливо был виден лишь мотор да шасси.
Гражданский чуть наклонил абажур лампы, направляя свет на самолетик. В центре стола сверкнула яркая горсть солнечных зайчиков — и модель исчезла. Алексей протянул было руку к тому месту, где только что она стояла, но вовремя удержался. Опять разбежались веселые искорки — абажур встал на место — и на сукне появился самолет.
— Особенность нашей конструкции прежде всего в обшивке, — так же негромко продолжал гражданский. — Вся она выполнена из очень легкого и прозрачного материала родоида, или оргстекла. Силовые балки лонжеронов и некоторые другие элементы конструкции, разумеется, металлические, но покрыты зеркальной амальгамой и оклеены родоидом. Капот, кабина, колеса окрашены белой краской и отлакированы. — Он кашлянул. — Н-ну, есть еще и другие особенности, но о них потом.
— Да, вы еще успеете поговорить. — Полковник протянул руку, щелкнул выключателем. Загорелся верхний свет. — Командование предлагает вам, майор, перейти на испытательную работу. Будете доводить до ума вот эту конструкцию.
Иволгин встал.
— Я готов, товарищ полковник.
— Вот и прекрасно, — лицо офицера разгладилось. — А то все рвутся в Испанию, как будто в нашем небе уже делать нечего. Желаю удачи!
…Кто-то осторожно тронул Иволгина за плечо. Он обернулся и увидел механика.
— Связь, товарищ полковник. На проводе — начальник соседней станции.
— Полковник Иволгин, — резко бросил в микрофон Алексей. — Хорошо. Да. Меня интересует, когда на станцию придет поезд? Пути? Восстанавливаем. — Он вопросительно посмотрел на подбежавшего железнодорожника. Тот все понял без слов и тихо зашептал, словно чего-то опасаясь:
— Через час сможем принять.
— Часа нам хватит, — произнес в трубку полковник. — Да. Да. Ждем. Конец.
Летчик встал, поправил фуражку и направился к своим грузовикам. Старшина, завидя его, отдал команду. Бойцы поднялись с земли, поправили гимнастерки. Иволгин прошел вокруг автомобилей и, подтянувшись на руках, заглянул в кузов одного из них.
— Через час отправка. Всем быть предельно внимательными.
Летчик вернулся на платформу и сел на уже знакомую скамейку…
Вчера поздно вечером его вызвали к прямому проводу. Дежурный по Наркомату передал приказ «Самолет разобрать, упаковать и отправить железной дорогой в Москву. Груз сопровождать самому». Офицер почему-то волновался и несколько раз повторил; «Первым же, вы слышите, первым же эшелоном».
— Давно пора, — удовлетворенно сказал Николаев, командир авиационного полка, на чьем аэродроме базировался сейчас Иволгин со своей «невидимкой». — Время, брат, такое, что тебе бы порхать над Сибирью, а не над Украиной.
— Летал я там, ты же знаешь. — Алексей не скрывал своей озадаченности странным приказом. — А что такое полевые испытания — не мне тебе говорить. Машина должна показать себя в самых различных условиях.
— Только не здесь и не сейчас. Порохом пахнет, Алексей.
— Это точно.
— Так что, в случае чего, ты, извини, только обузой будешь.
— Вот ты как?! — взметнулся Иволгин. — Ну, знаешь!..
— Спокойно, спокойно, не горячись. Ты вот был в Испании, скажи, что решает в конце концов исход воздушного боя?
Испытатель угрюмо молчал, а Николаев, не дождавшись ответа, продолжил их старый спор.
— Скорость, вооружение и мастерство пилота. Как летун — ты вне конкуренции, знаю. Но какая у тебя скорость? Двести в час. А у «мессершмитта» почти в три раза больше. Да и против твоего пулеметика у него кое-что получше есть.
— А моя невидимость? — Не выдержал Иволгин. — Ты сам гонялся за мной на своей «чайке» — и что? Увидел лишь, когда я сел.
— Э-э, что с того? Я тебе в сотый раз могу повторить: пока твой «невидимка» годится только для разведки и связи. Тут — да, он незаменим. Вы со своими конструкторами дайте нам невидимый истребитель — любой летчик спасибо скажет… Так что, приказ получил — поезжай. Работать над твоей машиной еще много надо. У нее хвост теряет невидимость, заметил?
Иволгин кивнул. Из-за плохого качества оргстекла фюзеляж постепенно покрывался сеткой мелких трещин.
Николаев ушел. Было уже поздно, и Алексей решил отложить все вопросы, связанные с отправкой самолета, на утро.
На рассвете он проснулся от прерывистого гула тяжелых самолетов. Едва он успел натянуть гимнастерку, как за открытым окном раздался знакомый по Испании свист падающих бомб. Дом содрогнулся от близких взрывов.
«Война!» Это Иволгин понял сразу. Одним движением он перемахнул через подоконник в палисад. По светлеющему небу плыли черные силуэты самолетов. Два десятка «Хейнкель-III» густо сыпали бомбы на дома командирского состава и казармы батальона аэродромного обслуживания. Иволгин прислушался. Со стороны находившегося неподалеку маленького городка тоже доносились глухие взрывы.
Алексей, пригибаясь, побежал к воротам. Его мотоцикл валялся на боку рядом с поваленным взрывной волной забором, но завелся сразу. Иволгин прыгнул на сиденье и понесся к аэродрому. На всем пятикилометровом пути от военного городка до летного поля он не встретил никого. Над аэродромом так же спокойно и деловито разгружались немецкие бомбовозы.
«У истребителей прикрытия нет!» — машинально отметил он. — «Вот бы сейчас…»
Додумать он не успел. Прямо по ходу вдруг вырос черный с рыжим куст взрыва, и Иволгин вылетел из сиденья. Когда летчик открыл глаза, бомбардировщиков уже не было. Он попытался встать, но земля качалась, и Алексей снова лег. Резкий порыв ветра бросил в лицо клуб едкого дыма, нестерпимо воняющего горелой резиной. Где-то впереди кричали люди. Грохотали мелкие частые взрывы — это, как догадался Иволгин, рвался боеприпас в горящих на земле самолетах. Вдруг ярко вспыхнуло со стороны бензохранилища. Алексей увидел, как растет на его месте черно-алый клубящийся гриб. В следующую секунду взрывная волна налетела на Иволгина, подняла его, закружила и швырнула обратно на землю. Стараясь не делать резких движений, Алексей медленно поднялся, вытер кровь, шедшую из носа. Сначала он шел, потом, напрягая все силы, побежал.
В сумраке закопченного дымом пожарищ утра ориентироваться было нелегко. Горели разбитые ангары, мастерские, другие аэродромные службы. Кратчайший путь к капониру, где стоял «невидимка», проходил через взлетно-посадочную полосу. Здесь Алексей натолкнулся на Николаева.
— Жив, чертика?! Вот и хорошо, — он полуобнял Иволгина за плечи.
— Что это, Саша? Война?
— Связи со штабом армии нет, ни черта неизвестно! Но я думаю, что война! Из-за угла, подло! Ты видишь? — Он яростно топнул ногой и выругался. — Эти гады ни одной бомбы на взлетную полосу не положили! Считают, что всех нас угробили, никто не взлетит — и для себя берегут. Но мы им сейчас покажем!..
— Что с машинами?
— Вот они, на стоянке горят! Не все, не все!
— А моя?
— Цела. Крыша ангара загорелась, но часовой, расторопный парень, потушил. Храбрый мальчишка. Вокруг бомбы падают, а он с огнетушителем по крыше скачет. Каков молодец, а?
— Хорошо, — облегченно вздохнул Иволгин. — Что с людьми?
— Не знаю, — помрачнел Николаев. Не считали еще, но потери большие. Самолетов осталось пять. Четыре «ишачка» и моя «чайка». Идем посмотрим.
— Не густо… С моей «невидимкой» — шесть.
Николаев на ходу покачал головой.
— Нет уж, ты давай-ка в Москву. На железную дорогу сейчас надежды мало, ты уж давай своим ходом. Ставь дополнительный бак, забирай механика и лети.
Они вышли к самолетной стоянке. На взрыхленной взрывами земле тут и там лежали обгорелые шасси, обломки крыльев и фюзеляжей, части двигателей… Летчики и бойцы расчищали рулежные дорожки.
— Видел? — Николаев сморщился, как от боли. — Да и то, бомбили и стреляли, как на полигоне.
Иволгин поспешил к ангару, где стоял его самолет. Навстречу вышел механик.
— Все в порядке, товарищ полковник. Машина цела.
Иволгин кивнул и вошел внутрь. В полуосвещенном восходящим солнцем капонире было прохладно. Прозрачный самолет выглядел, как пришелец из другого мира. Алексей провел рукой по крылу. Приятная прохлада скользнула под ладонью, но ближе к фюзеляжу невидимые простым глазом трещинки стали цепляться за кончики пальцев.
«Скоро и крылья будет видно».
Летчик по стремянке поднялся в кабину. Подошел механик, остановился внизу.
— Вот что, Игнатьевич, собирайся. Надо доставить «невидимку» в Москву. А там и на фронт можно. Попрошусь в полк к Николаеву…
Вдруг раздались далекие пулеметные очереди. Иволгин выпрыгнул из кабины и бросился наружу.
Над аэродромом шел бой. Оставшиеся четыре машины полка дрались в небе над родным домом, не давая девяти «мессершмиттам» начать штурм летного поля. «И-16», сбившись в плотный круг, отбивались от превосходящего противника. Один фашист задымил, вспыхнул и врезался в край летного поля. Но тотчас же вслед за ним неподалеку упали два наших «ишачка».
Внезапно от стоянки, поперек взлетной полосы, рванулась в небо «чайка».
— Сто-ой! Назад! — Иволгин чуть не бросился ей под колеса. Только командир полка мог сидеть за штурвалом этой машины.
— Сашка-а! Назад! — он кричал, не думая о том, слышат его или нет.
Взлететь в момент, когда над аэродромом самолеты противника самоубийство. Только что оторвавшаяся от земли машина не имеет ни скорости, ни свободы маневра и потому совершенно беззащитна. Вот оно: два «мессершмитта» кинулись к набирающей высоту «чайке».
— Ну-у… — Алексей прикусил губу.
Сверху камнем упал «И-16». В крутом пике он прикрыл собой взлетающего командира, и огненные трассы фашистских истребителей вспороли его фюзеляж. Самолет вспыхнул и взорвался в воздухе, усыпая обломками взлетную полосу. «Чайка» заломила немыслимый вираж по вертикали, заходя в хвост ближайшему «мессеру». Тот задымил сразу и, теряя высоту, ушел на запад. Второго полковник сбил с хвоста своего товарища. Фашист не смог выйти из пике и врезался в землю.
— Так их, Сашка! Так их, гадов! — Иволгин продолжал говорить вслух.
Но что это? По крылу последнего «И-16» поползли огненные струи, и самолет стал падать на землю. Летчик успел выброситься с парашютом, а машина врезалась в уже разбомбленную стоянку. Гитлеровцы вшестером кинулись на одинокую, бешено вращающуюся «чайку».
— Механик! Выкатывай, быстрее!
— Нельзя, товарищ полковник. Нельзя же!
— Я тебе приказываю! — Алексей сам почти выкатил «невидимку» из ангара, — Помогай!
Мгновения хватило летчику, чтобы взлететь в кабину.
— От винта! — яростно закричал Иволгин. Взревел мотор, трава прогнулась под воздушной струей. Машина вздрогнула и, слегка покачиваясь, пошла на разгон. Сотни, тысячи солнечных зайчиков пробежали по взлетной полосе и скрылись в лучах восходящего солнца.
Самолеты кружили в смертельной карусели над аэродромом. Фашисты не сомневались в победе. Пятеро отвлекали краснозвездную «чайку» на себя, а шестой завис чуть в стороне, выбирая удобный момент для атаки наверняка. Вдруг от его фюзеляжа стали отделяться куски обшивки. Летчик инстинктивно поднял нос машины, но огненная трасса, видимая в свете дня, вдребезги разбила фонарь кабины. «Мессер» круто пошел вниз.
— Это он, — закричал механик, — он!
В небе опять из ничего возникла светящаяся огненная дорожка пулеметной очереди и закончилась на крыле следующего «мессершмитта». Он резко накренился и, густо дымя, пошел на запад. Когда загорелся третий фашистский истребитель, вражеские самолеты бросились в разные стороны. Через минуту они скрылись из виду.
«Чайка» сделала круг и села на краю поля. К ней со всех сторон бросились люди. Николаев выбрался из кабины, спрыгнул на землю, прошел шага три и опустился на траву. Вокруг столпились летчики. Все они что-то возбужденно говорили и размахивали руками. Но командир не слышал их. На его лице застыла улыбка, глаза щурились, словно еще продолжали смотреть в прицел.
В конце взлетной полосы застрекотал мотор. Звук быстро приближался. Снова сверкнули яркие блики, на рулежной дорожке возник самолет. Он подрулил к «чайке» и остановился. Николаев поднялся и, опередив механика, побежал к нему, подхватил выбирающегося из кабины Иволгина. Друзья обнялись.
— А ты говорил — «разведчик, для связи»!
— Ну, молодец, ну, силен! Как ты их — класс! — восторженно сказал Николаев.
— Ладно, чего там. Ты ведь тоже двоих угробил. Вот они, дымят, гады.
Николаев мельком глянул на чадящие костры упавших самолетов и скривился.
— Дымят-то дымят, но шесть против четырех наших. Не дороговато ли?.. Ничего, они нам еще заплатят…
«И вот он, полковник Иволгин, должен сейчас сидеть и ждать, пока придет поезд, а в это время его товарищи бьются с фашистами», — от этой мысли летчик даже застонал.
— Что с вами, товарищ полковник? — Алексей увидел близко глаза своего механика. — Может быть, водички? Она здесь колодезная, да такая студеная, что зубы ломит.
— Вода? Какая вода? Смотри, дым.
Далеко на горизонте раздался густой трубный бас.
— Поезд! Мамка, поезд! — по всему перрону разнесся звонкий мальчишеский голос.
Поезд медленно подползал к разгромленной станции. Это был обычный товарный состав. Паровоз замер у выходной стрелки и тяжело отдувался белыми струями пара. С площадки первого вагона еще раньше, на ходу, спрыгнул невысокий железнодорожник.
— Трифоныч! — он оглядел толпу и снова крикнул: — Трифоныч! Открывай семафор!
К нему подбежал начальник станции, что-то сказал, указывая на подходящего Иволгина.
— Не могу, товарищ полковник! Никак не могу! — Железнодорожник развел руками. — Платформы заняты, а людей… Скоро подойдет пригородный, он всех заберет. А на товарном по инструкции людей возить не положено. Вот раненых… — Он немного помешкал, потом сказал: — Раненых возьму под свою ответственность.
— У меня приказ Наркомата обороны, — жестко сказал Иволгин. — Освободите платформы для груза. Людей тоже разместить.
— Да вы что, с ума сошли? — железнодорожник повысил голос. — Я везу особо ценный груз. У меня жатки, понимаете? Жатки!
— Механик! — обернулся Иволгин. — Двух бойцов к паровозу. Без моего приказа ни с места. — И, обращаясь к начальнику станции, скомандовал: — Немедленно освободите две последние платформы. Людей размещайте по вагонам.
— Что вы делаете? — бросился к нему железнодорожник. — Это самоуправство! Меня… нет, вас… Вы понимаете, что за это бывает?!
Летчик не обращал на него внимания. Грузовики, тяжело переваливаясь по свежему пепелищу, подъехали к хвосту поезда. Загрохотали откидываемые борта платформ.
— Вы трус, паникер! — закричал железнодорожник. — Я на вас жаловаться буду!
У Иволгина резко обозначились скулы. Пристально глядя на железнодорожника, он дернул ремешок кобуры и потянул из неё пистолет. Железнодорожник замолчал и попятился.
— Ты что, Алексей Иванович, опомнись, — задержал руку Иволгина механик и, повернувшись к подбежавшему старшине, резко бросил:
— Уберите куда-нибудь этого дурака.
Эшелон тронулся. Женщины и дети, еще не до конца осознавшие, что принесло им сегодняшнее утро, махали руками остающимся мужчинам. Те стояли молча, горящими глазами вглядываясь в родные лица. Вдруг высокий мужчина шагнул вслед поезду и громко крикнул:
— Нюра, расскажи детям обо мне! Расскажи, когда подрастут!
Женщины сначала замерли, а потом разом заголосили. Плачу матерей стали вторить и дети.
Иволгин сидел на подножке автомобиля, провожая взглядом проплывавшие мимо поля, рощицы… Своим ходом улететь не получилось: ждать, когда подвезут горючее, было некогда. Да и подвезут ли? С каждым часом масштабы грянувшей беды виделись все большими… «Как-то все обернется?» — думал Иволгин. Одно он твердо знал: по приезду в столицу сразу же подаст рапорт о переводе в действующую армию… Поезд прогрохотал по мосту через неглубокую речушку.
— Воздух! — раздался крик старшины.
Иволгин поднял глаза. Горизонт был усыпан мелкими черными оспинами. Они увеличивались.
Первые бомбы упали далеко в стороне, испятнав грязными воронками зелень луга. Следующие — легли в цель. Паровоз с несколькими вагонами понесся дальше на восток, остальные еще минуту-две продолжали путь, потом остановились. Под рычание авиамоторов с диким воем неслись к земле бомбы. Охваченные пламенем, стали рушиться под откос платформы. Во все стороны, спасаясь от разрывов, побежали женщины и дети, но низко летящие самолеты стреляли и стреляли в беззащитных людей.
Иволгин, в очередной раз перезаряжая свой пулемет, увидел эту страшную картину.
— Что же они делают? — закричал он и бросился к своему самолету. С помощью механика и охраны быстро был сорван маскировочный чехол, и самолет по доскам спущен на землю.
— Алексей, — механик пытался отговорить Иволгина, — у тебя мало бензина. Да и боезапаса — сколько осталось? Израсходовал в прошлом бою.
— Не могу, — махнул летчик в сторону луга, по которому метались женщины и дети, — я должен их спасти.
Двигатель взревел, набирая обороты. Самолет задрожал и, подпрыгнув, растворился в воздухе.
«Юнкерсы» осатанели вконец. Они перестали стрелять и, перейдя на бреющий полет, старались достать колесами бегущих по лугу людей.
Вдруг чем-то ударило в одну гитлеровскую машину, в другую, в третью… Было видно, как летчики оглядывались, пытались определить, что по ним бьет. Близкие пулеметные очереди… Откуда? Бомбардировщики, дымя, валились к земле. Остальные самолеты в недоумении метнулись вверх. Пулеметные очереди из ниоткуда прекратились… Потом один из бомбардировщиков наткнулся на какую-то непреодолимую преграду. Гитлеровцы услышали в эфире испуганные крики своих пилотов. Их прервал тяжелый взрыв. Обломки «невидимки», смешиваясь с почерневшими кусками «юнкерса», посыпались на траву.
Еще минуту-другую были слышны моторы улетающих самолетов, потом на луг опустилась тишина.
Лев Кокин
Дядюшка Улугбека
В туристской группе было одиннадцать человек; не знаю, достаточная ли это причина, чтобы застрять на Приюте одиннадцати. Как бывает в горах, откуда ни возьмись с только что ясного неба повалил снег, задуло, замело, запуржило… а тут, словно по заказу, просторная непродуваемая палатка. Ощущая себя везунчиками, баловнями судьбы, мы расположились с удобствами, плотно и вкусно поели и потом, в ожидании погоды, стали коротать время, само собой, за разговорами. Вспоминали случаи к месту, занимательные истории, дошло по обыкновению до анекдотов. Народ собрался образованный и смешливый, один анекдот цеплял за другой, как будто бы в альпинистской связке, потянулись сериями… И сами не заметили, как повернуло всерьез: что такое есть национальный характер, чем диктуется — происхождением, воспитанием, кровью и памятью, наследственностью или наследием… В общем, биологией или социологией. Однако в отвлеченностях не смогли долго дышать. Сосредоточились на примере: а что будет, если усыновить? Ребенка, понятно…
— А хоть кроманьонца! — горячился убежденный противник наследственности, социолог. — Поелику антропологи утверждают, что за прошедшие от позднего палеолита десятки тысячелетий человеческий вид практически не изменился, несомненно, вырастет тот, кого воспитают!
— Так где ж его взять, кроманьонца?! — усмехнулся по этому поводу большой поклонник генетики математик.
Оппонент не смутился:
— Да хоть в Арктике откопайте, в мерзлоте, как знаменитого мамонтенка!
Тут вмешался в спор самый, пожалуй, вежливый из всей нашей группы товарищ, обходительный, мягкий, интеллигентный, он пользовался общей симпатией. Не первый год вместе ходили, всегда отправлялся вдвоем с женой, не менее, надо сказать, симпатичной: образцово-показательная была пара, трудно не залюбоваться. На этот раз половина пропускала сезон, по причине вполне уважительной: стала мамой.
— Между прочим, — сказал этот наш молодой папа (назовем его ну хотя бы Сергеем), — по интересующей вас теме располагаю некой информацией. Достоверной. Позвольте одну историю, надеюсь, жалеть о потраченном времени вам не придется. Только должен заранее предупредить. Длинная, не расскажешь в два счета…
— А нельзя предварительно резюме? — поинтересовался физик.
— Между предисловием и изложением? Это идея! — охотно поддержал его кто-то.
— Нет, коллеги, если уж слушать, так все по порядку, — наш милый Сергей проявил твердость.
— А куда, собственно, торопиться?..
Кому, как не математику, рассуждать так трезво; и все прислушались к завыванию ветра, от которого отгораживали одни лишь тонкие стенки палатки… да обещанная Сергеем история.
— Дело в том, — начал он, — что я вырос в семье видных биологов… Не хочу козырять именами, надо думать, многим из присутствующих знакомыми…
— Вон вы из каких Петраковых, — незамедлительно отозвалась наша докторица; ее непосредственность, впрочем, рассказчика не отвлекла.
— …Однажды отчима пригласили на необычную экспертизу. В Самарканд. Речь шла о погребении Тамерлана. Про мавзолей Тамерлана не стану распространяться, большинство его, разумеется, видело собственными глазами, а кто не видел, тот по изображениям знает. Гур Эмир не запомнить нельзя, потрясает, любопытно, что возводил его Тимур не для себя, но когда, возвращаясь из очередного похода, он неожиданно умер, то был доставлен в свою столицу и там похоронен. Надеюсь, не требует пояснений, что Тамерлана на самом деле звали Тимур, позволю себе лишь напомнить, имеет значение для дальнейшего, Тамерлан — со временем слившееся с прозвищем имя: Тимур-ленг, что на фарси означает Тимур-хромец. В одном из бесчисленных сражений раненный в ногу, он остался хромым на всю жизнь.
Положим, все это занятно, нет спору, да биология-то какое к этому имеет отношение, при чем тут биолог? Оказалось — при чем, ибо речь шла о вскрытии могилы, экспертиза наподобие судебно-медицинской. Кому, спросите, понадобилось спустя столько веков. Резонно. Это историки усомнились — из-за сведений, будто могилу разграбили в свое время, нельзя было исключить, что могила просто пуста. Когда-то ее уже обследовали с такой целью, ученая комиссия пришла тогда к заключению, что останки, так сказать, целы, но это было давно, решили на современном уровне убедиться.
Осмотр подтвердил прежние выводы; ту же разницу в длине берцовых костей, причем на правой, короткой, виднелись следы перелома, припоминаете — Тимур-хромец! Для контроля взяли еще образцы костной ткани, установили ее возраст современными методами. Ну, скажем, по радиоизотопам. Манипуляции с тканевыми культурами как раз были коньком биолога Петракова.
Исполнив требуемое, он, однако, не ограничился этим. В том и заключался его интерес — воспользоваться экспериментальным материалом, поистине уникальным. Вы тут кроманьонца вспомнили, дескать, откопать бы в мерзлоте, как будто бы мамонтенка. Так вот, биолог Петраков допускал в мыслях… в своей гипотезе нечто подобное, только не с целым организмом, а с клеткой, именно, что живая клетка, погибшая неповрежденной и хранимая при определенном режиме, может не потерять жизнеспособности произвольно долгое время, — и была плюс к тому идея, как заставить проснуться эту дремлющую способность.
Короче, поместил он несколько клеток в питательный раствор… вернее, в растворы, только не стандартные, общепринятые, а в особые, свои… поманипулировал над ними… подробностей не передам, не по уму мне, да и вам, надо полагать, ни к чему, знаю только, что и облучения были… И в одной из чашек процесс взял-таки да и запустился. Ожившая после многовековой спячки клетка стала делиться!
Казалось бы, кричи «эврика!», скорее в печать, на ученый совет, на симпозиум — сообщение, доклад, статью, труби на ученый мир. Здесь не квартальной премией пахнет, Государственной, а то и Нобелевской, не шутка. Только отчим мой, до того вообще молчок, от сотрудников маскировался, от ближайших секретил, тут раскрылся наконец перед одним-единственным человеком, наиближайшим из всех, именно перед всегдашней помощницей и женой.
Они составляли замечательный научный дуэт, в экспериментальной науке подобные семейно-исследовательские пары традиционно не редкость, известно, его голова плюс ее руки в сумме дают величину больше двух, так у вас говорится, уважаемые физики-химики?.. Только в нашем примере эффект умножения был многократно сильнее, ибо в согласии действовали две головы плюс две пары рук плюс, простите за старомодность, два сердца.
Когда Петраков изложил своей Вере Петровне в деталях, в подробностях то, о чем я вам рассказал, ему не пришлось просить прощения за утайку, напротив, она воздала должное его выдержке, не говоря уж об остальном, ибо вслед за ним убедилась, что перед ними не артефакт, не ошибка, не экспериментальная грязь и не самообман, что, увы, нередко случалось в их многосложной науке. И для нее не оказалось неожиданным им задуманное продолжение эксперимента. В сущности, оно напрашивалось само, вытекало из предыдущего. Второго такого случая могло не представиться никогда, и ему не понадобилось лобовых слов, согласилась без колебаний. Я, понятно, не мог присутствовать при том разговоре, мать передавала мне в общих чертах.
Он сказал ей что-то вроде того, что обидно было бы оставить начатое на дороге, и она отвечала, что он вправе располагать ею, как собою самим. Он резонно заметил, что это может коснуться не только лишь их одних, а, по меньшей мере, еще двоих человек. Не требовалось объяснять, что подразумевал он детей, сына и дочь. Она усмехнулась: где двое, мол, там и третий. «Ну да, — сказал он, — при благополучном исходе». — «Большой ли у тебя выбор?» — поинтересовалась она. «Выбор есть», — сказал он. «Какой же, позволь узнать». — «По двойной системе: да — нет. Оставить или продолжить. Удовольствоваться либо рискнуть».
«Риск бесспорный», — согласилась она. «То-то и оно, — сказал он, — мало ли что в этих клетках могло повредиться за такое-то время, одно дело гипотезы, спекуляции, теории…» — «В конце концов, рискует не перцепиент», — перебила она. «В зависимости от стадии, — возразил он. — По статистике, и в наше просвещенное время случается, что роженицы… ну, словом, понятно…»
«По статистике, и кирпич нет-нет да на голову упадет, — отвечала на это она, — в таком случае остается лишь пожалеть, что это выпало на твою долю, ты же сам заставил меня поверить в излюбленное свое правило…» — «Лучше жалеть о сделанном, чем о несделанном?» — спросил он.
Сами все-таки они не отважились оценить степень риска. Решили посоветоваться со специалистом. Обсудить степень риска и наметить заодно тактику, благо специалиста, притом первоклассного, не далеко было искать. Обратились к старому другу. В тайну донора посвящать его все же не стали, в конце концов, ничего не изменится, думал он, эксперимент с соматической клеткой мужа. Не рутинный, однако и не столь небывалый, вынашивание генетического двойника..:
«Ты зачнешь непорочно, аки дева Мария, — в итоге пообещал старый друг-гинеколог, — клянусь честью профессионала».
Трудные месяцы наступили для них. Самые трудные во всей жизни. Петраков за спиною Веры Петровны ссорился с другом, настаивая на повседневном контроле, тот отмахивался, считая, что медицина сделала свое дело, теперь просто не надо мешать природе. Знай он, что именно не дает Петракову покоя, подозревай хоть отчасти… но он не знал. А отчим не находил себе места; принимал решения и менял их в зависимости от малейшего недомогания матери, принимал и менял: сохранить — прервать, прервать — сохранить, чаши весов безостановочно колебались. Тут, однако, мать совершенно права, ее воля оказалась сильнее. Это она настояла на том, чтобы довести эксперимент до конца и, как говорится, разрешилась благополучно.
Только выяснилось, что до окончания еще ой как не близко, ибо следует подождать, что из их гомункулуса вырастет.
По чести сказать, до его появления на свет настолько не заглядывали вперед. И тут ужаснулись; младенец-то был живой, дрыгал ножками и агукал. А его на каждом шагу подстерегали опасности, о которых никто, кроме родителей… простите, кроме экспериментаторов, не подозревал. Любой пустяк грозил обернуться проблемой, всякий прыщик — недугом. Как-то перенесет он прививку? Справится ли с ветрянкой? Потом с алгеброй? Потом — с поэзией? Как обстоит у него с иммунной системой?.. С абстрактным мышлением?.. С высшими проявлениями духа?.. Что, в конечном счете, берет в мальчике верх гены или среда, кроманьонец или цивилизованный человек, что берет верх вообще в человеке, ваш вопрос, господа, — био или социо, социо или био?! И не слишком ли они много себе позволили, на себя взвалили, не зарвались ли в своем исследовательском азарте?..
А тем временем, покуда они заботились об иммунитете, о логических играх, о приличной видеотеке… да мало ли о чем еще пекутся преданные родители, вызывая ревность старших детей, мальчишка себе рос, не подозревая собственной исключительности, щелкал компьютерные задачки, гонял в шахматы и в футбол, подстригался по моде, а настала пора, и с девочками все складывалось у него вполне о' кэй.
По словам матери, любили они его с мужем какой-то мучительною любовью, исключительной, как он сам, оттого и старшие ревновали, чувствовали это, не представляя себе причин, а сладкая мука чем дальше, тем больше отягощалась, ведь нельзя было откладывать до бесконечности раскрытие, рассекречивание истории мальчика. Как ученые не вправе были ее утаить. Как родители — не в силах разрушить мальчишечий мир. И оттягивали, предаваясь самоистязанию, покуда могли. Чтобы возмужал, окреп духом.
Характер у мальчишки был порох. Старший за год не приносил (и, соответственно, не наставлял) такого количества синяков, как этот успевал за неделю. Бросалось сразу в глаза, как скор он в решениях и неробок. Кроме шахмат, футбола и прочего, обожал верховую езду. И стрельбу из лука. Представляете себе, как екало у родителей сердце, когда они наблюдали за ним с трибуны где-нибудь в Крылатском на стрельбище. Твердая рука, верный глаз — тренер был убежден, что сделает из него чемпиона. Так бы, вероятно, и получилось, когда б не одна особа с психологического факультета. Со свойственной ему стремительностью он увлекся вначале ею, а следом и самой психологией как наукой.
Иногда, в пору состязаний, в особенности по ночам, ему снилась степь. По примеру новых друзей, полюбил ходить в горы, и не только сюда, на Кавказ, но и в Альпы, и на Памир, а во сне видел степь… и от топота сотен копыт гул над степью, естественно, пыль до туч, и в гуле и в пыльной мгле он сам, в одно слитый с конем, как кентавр, на лету измеряет ковер земли, и колчан со стрелами приторочен к седлу, и рука сжимает упругую дугу лука…
И наш Сергей продекламировал наизусть — на фарси, а потом в переводе:
— «Конь взял урок бега у серн, в горячности подобен огню, в плавности — воде, быстрокрылый, подобно ветру».
…Впрочем, мало ли кому снится степь и что является в сновидениях, однако если случалось рассказывать родителям этакий сон, он замечал, они буквально мертвели.
— Вы так рассказываете, точно о близком друге… о брате — первой не выдержала докторица. — Посвящены даже в его сны!
— Нет, это не мой брат, — любезно, с мягкой своей улыбкой, возразил ей наш милый Сергей. — Это я брат Тимура-хромца, его близнец, двойник. Перед самым отпуском, буквально накануне отъезда, вместе с супругами Петраковыми честь имел подписать к печати статью… Отчет о длительном АБП-эксперименте — археолого-биолого-психологическом… Да, товарищи, теперь можно о нем говорить, завершен — рождением моего сына!.. Вероятно, впрочем, что и это еще не конец, запятая, не точка, промежуточный финиш на первом этапе…
— Так выходит, что ваш младенец, — проговорил тут в раздумье физик, как гипотезу выдвинул, — родимый племянничек великому Тамерлану?
— И стало быть, дядюшка великому Улугбеку?! — без запинки развил эту мысль давешний сторонник генетики математик.
Странную смесь удивления, сомнения, плохо скрытой иронии и в то же время восхищения выражали явственно голоса, как это бывает от умопомрачительной небывальщины, а глаза торопились отметить в лице рассказчика монголоидные черты, отдаленное сходство с портретами из энциклопедий.
— На дворе-то распогодилось, милостивые государи, — говорил между тем наш двойник великого завоевателя, выглядывая из палатки наружу. — Не пора ли нам, дорогие, того?!
Не прошло получаса, как опять все дружно топали гуськом в гору, оставляя змейку следов на свежем снегу.
Николай Недолужко
Акулы
Хижина старика Пауэрса стояла на берегу горного озера среди серых угрюмых скал, и если бы не светящееся оконце, она казалась бы одним из каменных осколков, который упал с вершин и чудом удержался на мизерной площадке. Дул ветер. Мрачно шевелились кусты, с озера накатывались и бились о берег седые тяжелые волны. Мутно-белые тучи, проплывавшие над землей, придавали местности угрюмый и дикий вид.
В сотне метров от хижины сын профессора — Жак Валуа остановил идущего впереди проводника Прайда, и когда инспектор Бур Клифт, опередив профессора Валуа и его дочь Маргариту, приблизился к ним, сказал:
— Мне не нравится…
— Что тебе не нравится, Жак? — спросил геркулес Клифт, заметив в руках юноши пистолет.
— Мне не нравится, — Жак пнул лежавший под ногой камень. — Мне очень не нравится, когда воют собаки… Не нравится, что взяли в проводники человека безумного.
— Безумного?
— Он называет моего отца странным именем — Генри.
— Милый друг, — прервал юношу Клифт. — Да. Проводник забыл, с кем имеет дело. Но позволь ему называть твоего отца так, как он называет.
— Имя, — Прайд стиснул ладонями виски. — Болит голова. Все кружится. Как же тебя называть, Генри? Разве здесь не все свои?
— Здесь все свои, — ответил профессор Морис Валуа. — Зови меня так, как привык… Почему воет собака?
— Веди, старая ворона! — Бур Клифт подталкивает Прайда. — Не видишь, как мы промерзли?
Ворча что-то себе под нос, прихрамывая и дергая на ходу правым плечом, проводник поспешил вперед. Его седая непокрытая, косматая голова тряслась на ходу так, что казалось, тонкая шея не выдержит и, оторвавшись, голова покатится вниз к маленькой придорожной таверне, откуда экспедиция начала свой поход к горному озеру.
Они приблизились к хижине и увидели распахнутые двери, груду распечатанных черных ящиков, раненую собаку.
В одной из маленьких комнат, за столом из темных дубовых досок инспектор и Жак Валуа обнаружили хозяина. Он был мертв.
— Бедняга Пауэре, — мрачно сказал Бур Клифт. — Не надо было посылать тебе акваланги. Все начинается с них… Да, профессор, теперь мы не скоро узнаем, где находятся руины затонувшей крепости.
— Наши акваланги похищены? — Профессор Морис Валуа прижал дочь к груди. — Здесь опасно. Здесь убивают.
Что-то происходящее за окном привлекло внимание инспектора. По скалам с ловкостью горной козы карабкалась девушка. Лишь на несколько мгновений ее маленькая фигурка замерла на утесе и исчезла.
— Задержите ее! — потребовал Жак.
— Прежде всего необходимо вызвать местную полицию.
— А вы? — холодно спросила Маргарита.
— Я вынужден оберегать вас.
— Вы нерешительный человек, Клифт! — с долей презрения воскликнула Маргарита.
— Именно поэтому снаряжение экспедиции отправлено на день раньше вашего приезда. Акваланги. Все дело в них.
— Но смерть? Возможно, эта девушка что-то видела?
— Она видела смерть своего отца, — отвечал Клифт. — Старик Пауэре приемный отец Элизабет. Уверен, это была именно она.
— Маргарита! — сказал Жак, — случилось то, в чем мы разбираемся плохо.
— Милый брат, — с поспешностью, свойственной натурам пылким, отозвалась девушка, — волнение лишает тебя трезвости мысли. Уверена, крах нашей экспедиции был предрешен.
— Маргарита, — терпеливо возражал инспектор, — пройдет немного времени и вы убедитесь, что все проделанное мною было продиктовано разумом и стойкостью духа. Да, где-то на дне озера находятся руины крепости. Три экспедиции пытались исследовать их.
— Три? — Тонкие брови Маргариты сошлись к переносице.
— Три? — Жак задумчиво провел ладонью по лицу.
— Три, — повторил профессор Морис Валуа. Он снял с головы красную вязаную шапку, и седые вьющиеся волосы опали, как рыцарское забрало. — Три! — машинально повторил он, разглядывая сквозь стекло окна проводника Прайда. — А что?.. Проводник… Почему не входит в хижину? Он знает, что здесь произошло?
— Первая экспедиция погибла вся, — продолжал инспектор. — Вторая, организованная известным в стране журналом, была отозвана правительством. Третья, малочисленная, но самая сплоченная, — при этих словах Бур Клифт коротко улыбнулся, — согласитесь, не каждая семья занимается подводной археологией, — спаянная родством экспедиция, находится здесь. Но и мы терпим крах. Человек, которому доверили перевозку водолазного снаряжения, исчез. Убит Пауэре — единственный, кто знал, где находится крепость Бьё.
— Инициатор нашей экспедиции вы? — вступила в разговор Маргарита. Заинтересовав поиском отца, предоставив ему фотографии погрузившейся на дно озера крепости, вы, инспектор, и в этом нет сомнений, преследовали вполне определенную цель. Какую?
— Маргарита! — Жак попытался предотвратить ссору. — Маргарита, не забывай, Бур Клифт наш друг.
— Наш новый друг, — подчеркнула девушка. — И так, наш новый друг, какова цель? Скажите правду, или она противопоказана вашему ведомству?
— Всегда найдется человек, которому правда дороже жизни, — хмуро ответил Клифт. — А наше ведомство международной полиции занимается только серьезными делами.
Признание Бура Клифта не привело профессора в замешательство. К тому же, объясняя свое участие в экспедиции, инспектор то и дело поглядывал на него, будто желал подтолкнуть профессора Мориса Валуа к необычно важному для него самого разговору.
— Нашему ведомству, действительно, необходимы факты, но факты, основанные на вещественно точных доказательствах, — продолжал Бур Клифт. Первая экспедиция уничтожена, когда ее члены начали использовать акваланги и провели подводные фотосъемки. Вторая экспедиция отозвана, когда аквалангисты нашли в затопленных руинах крепости ящики… Точно такие, сделанные из тонкого свинца, какие рассматривает наш проводник. Кстати, профессор, почему Прайд называет вас другим именем?
— Не спешите, Клифт. Когда-то я командовал отрядом сопротивления и посылал людей на дела смертельно опасные. Но прошло столько лет. Не хотелось бы возвращаться к прошлому.
— Жаль. — Бур Клифт, скрестив на груди руки, в своем кожаном огромном пальто и кожаной широкополой шляпе был похож на высеченный из коричневого гранита монумент. — Жаль! Бедняга Пауэрс. Он, вероятно, тоже верил в покой мирного времени, когда посылал мне пленку.
— Пленку?
— Негатив с видом разрушенной крепости. Мой брат руководил первой экспедицией… Он сфотографировал руины. Но только спустя год после трагической смерти брата я получил негативы и передал их вашему старшему сыну Артуру Валуа. Так, фотографии крепости оказались в ваших руках, профессор. Не скрою, моя личная заинтересованность в создании третьей экспедиции велика.
— Велика? Вы ее инициатор!
— И я же отвечаю за безопасность. Увы, надлежит вернуться в таверну и известить местную полицию о том, что здесь произошло. Зовите Прайда, мы возвращаемся.
Черная кособокая фигура проводника появилась у порога двери тотчас, как только Жак Валуа позвал его. Холодные, как у рептилии, глаза Прайда уставились на мертвого владельца хижины.
— Неужели сдох старый хрыч? Сдох. Иначе и не могло быть. Верно, Генри?
— Да, — ответил профессор Морис Валуа. — Сделано чисто. В делах вы все так же прилежны, Гельмут.
— О, нет. — Омерзительный старик покачал головой, коротко, хрипло вздохнул и закрыл блеснувшую вставленными зубами пасть с такой силой, что показалось, щелкнув, захлопнулся капкан. — О нет, Генри, последние годы с клиентами работали мои сыны. Мои сыны боролись за идею и за идею погибали! У меня остался только один сын. Последний из рода Прайдов… Твои люди, Генри, наконец-то, подняли со дна озера золото и документы нашей партии. Ты правильно сделал, что поспешил. Было слишком много желающих раскрыть тайну затопленной крепости. Глупцы! Они не имели представления, с кем имеют дело. Люди падали со скал, люди распарывали себе животы об острые камни, люди погибали в волнах озера лишь потому, что проводники добавляли в баллоны аквалангов немного иприта. В течение многих и многих лет мы — Прайды умело охраняли все, что было спрятано нашей партией на дне озера в сорок пятом году… Сколько глупцов отправилось на тот свет! Люди погибали, а вместо них появлялись призраки. У призраков липкие руки и дурно пахнет изо рта. Когда я встречаюсь с ними, у меня начинает болеть голова. Теперь, Генри, никто и ничто не помешает тебе создать вирус, который поставит неполноценных на колени.
— Да, но остался свидетель, — холодно заметил Клифт, — приемная дочь Пауэрса.
— Ах, эта! — Глаза Прайда налились стеклянным блеском. — Она родилась рыбой… Видели, как она прыгнула с утеса в озеро? Ганс, мой мальчик не умеет плавать и поэтому не может поймать дочь Пауэрса, но я сам поймаю ее и вы поможете мне… Ха-ха-ха. И появится еще один призрак!
— Стоит ли преследовать девушку, если дело завершено? — еле сдерживаясь, заметил Жак Валуа.
— Молодой человек, — лицо проводника побурело от прилившей крови. — Сентиментальность загубит любое дело. Мы сметем все, что нам мешает и возродим великое государство! Вот только призраки — когда я встречаюсь с ними, у меня начинает болеть голова.
— О призраках поговорим в таверне. Ведите, Прайд, — заметив одобрительный кивок Клифта, приказал профессор Морис Валуа.
Для спуска к таверне проводник выбрал другую дорогу, он знал ее хорошо и, несмотря на наплывающий с озера туман, ковылял с такой уверенной поспешностью, что профессор и его спутники отставали; тогда Прайд останавливался и, не оборачиваясь, ждал их. Услышав за своей спиной шум шагов, он вновь продолжал путь.
— Отец, что происходит? — поддерживая профессора под руку, спрашивала Маргарита. — Клифт вовлек нас в игру?
— В опасную игру… Будь наготове, Жак, видишь, впереди заросли.
— Вижу, отец!
Жак, чьи симпатии были на стороне инспектора Клифта, понимал всю меру опасности. Возможно, Прайд ведет их в логово тех, кто добыл со дна озера ящики, и тогда схватка неизбежна. Омерзительный старый убийца! Он — как подбитый грязный ворон, которого Бур Клифт гонит впереди себя, вот-вот наступит на него кованым ботинком и раздавит. Спеши, спеши, ворон, к своей гибели!
Проводник свернул с тропы. Впереди под трепещущей от ветра черемухой, у трех гранитных плит, холодных и влажных, привалившись к одной из них спиной, сидел человек в резиновом плаще и берете. Его глаза, неподвижные, тусклые, были направлены вверх, где над сырыми скалами тяжело ворочались тучи.
— Ганс! Сын! — Косматая голова Прайда затряслась, как лист на омертвевшем комле. — Га-анс!
Но лишь ветер заныл в скалах со свирепой угрозой, — никто не отвечал безумному старику.
Бур Клифт склонился к убитому Гансу, провел ладонью от спины к затылку и легким рывком, как вытаскивают занозу, вытащил из шеи трупа узкое лезвие стилета. В большой руке инспектора стилет казался игрушечным.
В глазах проводника сверкнула искра чудовищной злобы, сверкнула и угасла. И он ответил на вопросительный взгляд Клифта с совершенным равнодушием:
— Да. Дамский. Дочь Пауэрса убила моего сына.
Когда инспектор и Жак Валуа подняли тело, из кармана плаща выпало черное с серебряными застежками портмоне. Маргарита подняла его и машинально протянула проводнику.
— Нет. — Прайд оттолкнул руку девушки. — Передай это профессору… Возьми, Генри. Мне уже не понадобятся документы. Я умер.
Возле таверны вернувшуюся экспедицию встретили репортеры. Защелкали затворы фотоаппаратов. Толпа газетчиков влилась вслед за печальной процессией в таверну. И тогда из черного лимузина, стоявшего отдельно от остальных автомашин, вышли двое. В одинаковых плащах, в одинаковых шляпах они имели вид столь официальный, что опытные репортеры, как только эти двое появились в таверне, безошибочно узнали в них полицейских.
— Позвольте! Это же сам инспектор Пфайфер! — воскликнул кто-то.
— Дело сенсационное! — подхватил другой.
И волна людей тотчас хлынула к полицейским. Вновь защелкали затворы, засверкали огни вспышек. С высоты своего немалого роста Пфайфер что-то сказал подчиненному. Тот, с трудом пробившись к Буру Клифту, пригласил его в отдельную комнату, где, минуту спустя, отдуваясь, появился и сам Пфайфер.
— Здравствуйте, коллега, — первым, весьма дружелюбно произнес он. Но если голос, которому Пфайфер мог придать любое звучание, был мягок, то взгляд маленьких глаз скользил по атлетической фигуре Клифта с некоторой долей опасения, но нагло и цепко. — Здравствуйте, коллега, — повторил полицейский. — Не думал, что ваше ведомство предпочитает шумиху. Ну зачем, зачем, я вас спрашиваю, эта толпа, этот назойливый народишко? Чего добились? Согласен. Гельмут Прайд военный преступник… Зачем же кричать на весь мир? Не лезьте не в свое дело. Хорошо. Мы разберемся с Прайдом… Предупреждаю, организованная вами экспедиция должна убраться с озера.
— Причина?
— Предположим — смерть молодого Прайда.
— Весомая причина, — Клифт иронически приподнял шляпу. — А я предполагал, что у вас имеется официальное письмо, запрещающее профессору Морису Валуа проводить изыскания.
— Допустим!
— Так дайте его мне.
— При таком скоплении репортеров?
— Понятно. Не желаете огласки, — согласился Бур Клифт. — Послушайте, Пфайфер, действительно, зачем ссориться. Предлагаю информацию за информацию.
Подчиняясь взгляду Пфайфера, присутствовавший при разговоре полицейский вышел из комнаты.
— Итак? Ответы ваши будут зависеть от фактов, на которые я вынужден ссылаться? — спросил Клифт.
— Разумеется!
— Я знал, что Пауэре и его приемная дочь помогали вам. Информировали о том, что происходит на озере…
— Только как власти официальной.
— Вы знали, что в смерти родственников Элизабет Пауэрс была виновата семья Прайд?
— Предполагали, только предполагали, — поспешно возразил Пфайфер. Гибли люди, пытавшиеся узнать тайну озера, но гибли и члены семьи Прайд.
— Существует тайна?
— Д-да. Вы же знаете… Крепость Бьё.
— Хорошо. Теперь моя информация. В 1944 году, когда лидеры нацистской Германии начинают сознавать, что игра проиграна, в Страсбурге собирается секретное совещание. Главари-нацисты решают поделить между собой награбленные в странах Европы золото, валюту. Часть ценностей передается особо доверенным лицам, которые должны были создать новый рейх на руинах разрушенного.
— И что же? — осторожно спросил Пфайфер.
— Разделенное золото и особо секретные документы необходимо было спрятать. Несколько озер Австрийских Альп хранят подобные тайны.
— И что же?
— Хотелось бы знать, кто уничтожил экспедицию моего брата? Кто уничтожил живших здесь рыбаков? Каков круг официальных лиц, запрещающих изыскания?
— Лезете в политику, Клифт! — зловеще предупредил Пфайфер. — В контейнерах, как вы сказали, ценности, но там же находятся документы, деморализующие в глазах общества нацизм. А нацисты — это очень сильный противник, Бур Клифт.
— Зная вас как человека осторожного, уважая как деятеля довольно демократичного, ценя как человека смелого, обладающего умом критическим, я, в свою очередь, обязан предупредить, Пфайфер, что золото нацистов продолжает убивать людей различных национальностей и разных стран… Перед нами конкретные факты: нацистский преступник Прайд, убийство Пауэрса и смерть Ганса Прайда. Что вы на это скажете?
— Убийство Пауэрса… Смерть Ганса Прайда… Отделять одно от другого?
— Именно, — подхватил Бур Клифт. — Беззащитного Пауэрса убили люди определенного круга — «специалисты», смерть же Ганса Прайда является следствием его служения тем, кто уничтожал ни в чем не повинных людей.
— Мне придется задержать вас, Клифт. Ведь вы здесь инкогнито, ведете неофициальное расследование…
— Не делайте поспешных выводов, коллега. У вас совершенно нет времени для интриг. Хватит того, что ваши люди лишили экспедицию снаряжения.
— Вам придется подождать, Клифт, хотя бы временно. Я свяжусь с шефом и узнаю, стоит ли передавать вам письмо.
— Время не терпит, Пфайфер. Контейнеры подняты, а их содержимое, вероятно, уже очень далеко отсюда. Не хватайтесь за оружие, коллега. Сейчас у нас общая цель — найти похитителей… Ищите профессора Генри Дюка.
…Спустя неделю после происшедших на озере событий, моторная яхта «Маргарита» вышла в море.
Тем же курсом, но двумя часами позже, проследовал морской катер с полицейскими.
Шторм прекратился. Стих ветер. Лишь тугие высокие волны еще долго накатывались откуда-то издалека. Они несли на крутых плечах клочья серого тумана, с каждым часом туман становился гуще.
Бур Клифт вложил бинокль в футляр и спустился в каюту. Вопреки его опасениям, профессор Морис Валуа, его сын и дочь чувствовали себя превосходно.
— Как идут дела, Клифт? — спросила Маргарита, когда великан, сбросив с себя пальто и шляпу, уселся на привинченный к полу стул.
— Превосходно, мой нежный друг, — добродушно ответил инспектор. — С тех пор, как ваш старший брат Артур Валуа предоставил нам свою яхту и согласился быть на ней капитаном, все идет так, как надо. Наша красавица «Маргарита» — при слове «красавица» инспектор посмотрел на дочь профессора столь красноречиво, что смуглое лицо девушки залилось румянцем — наша изящная «Маргарита» прекрасно держится на плаву. Чудесное судно и великолепный экипаж!
— Однако, судя по приборам, мы отклонились от курса на пять-шесть миль, — задумчиво произнес профессор. — Приближаемся к острову с южной стороны.
— Если только он существует на самом деле, — сказал Жак, сверяя показания приборов с картой. — Это неизученный район моря, лежащий далеко от основных морских путей, и здесь вполне может быть белое пятно неизвестный остров. Иначе зачем стремится за нами Пфайфер — мы видели полицейский катер. То есть, он знает о нашей цели — выяснить, существует ли такой остров — тайное обиталище Генри Дюка. — Жак оттолкнул от себя карту. Его гибкое сильное тело напружинилось, на руках вздулись мускулы, казалось, молодой человек уже готов к схватке.
— Чем ближе к цели, тем больше опасность, теперь это стало очевиднее, раздумчиво произнес Бур Клифт. — Пфайфер — потенциальный враг и, по возможности, не допустит утечку информации… Пять лет назад я объяснился с Артуром Валуа. Вашим братом, Маргарита, и вашим сыном, профессор. На конгрессе сторонников мира он как оратор поражал смелостью решений и необычайной верой в свое дело.
— Да. Мой сын таков! — профессор гордо вскинул седую голову.
— Мы подружились с ним настолько, что я рассказал ему о тайне затонувшей крепости, о гибели первой экспедиции, о мучительном желании разоблачить тех, кто охранял страшную тайну и по чьей вине или при прямом участии погибали люди. Поступив в известное вам ведомство и получив доступ ко многим секретным документам, однажды просматривая бумаги, я наткнулся на имя Гельмута Прайда и профессора-биолога Генри Дюка — эсэсовца, проводившего опыты на узниках концлагерей.
— Что с вами, отец? — Маргарита ласково погладила профессора по плечу.
— Ничего, — бледнея, ответил Морис Валуа. — Продолжайте, Клифт.
— Мне удалось сфотографировать документы и показать фотографии Артуру. Он был потрясен, когда увидел копию портрета Генри Дюка.
— Теперь позвольте мне разъяснить некоторые детали, — взволнованно подхватил профессор Валуа. — В начале сорок четвертого года в одном из уличных боев с фашистами меня ранило, я попал в плен, а затем в концентрационный лагерь. Участь моя, как я думал, была предрешена. Но случилось невероятное. Гельмут Прайд — офицер по особым поручениям, отбирая узников для проведения очередных опытов, наткнулся на меня. Наткнулся… Я повторяю это слово, так как эффект, произведенный мною на гитлеровца, был столь неожиданным, как если бы Прайд столкнулся с чем-то мистическим. Он вскинул руки, попятился к сопровождавшим его солдатам и, только спустя минуту, опомнился и приказал: «Этого отдельно. В машину». События развивались стремительно. Час езды в закрытой машине. Остановка. Скрип шлагбаума. Выталкивают из машины. Ведут в солдатскую баню, где меня моют, стригут, гримируют ссадины. И вот маленький уютный кабинет. В окно светит солнце. Доносится пенье птиц… Появляется Прайд. Он неутомим. Приказал часовому принести приборы, сам сервировал стол, частично задрапировал окно, усадил меня в кресло и сказал: «Послушай, подопри подбородок правой рукой. Хорошо. Именно так!» Потом Прайд исчез. Прошло несколько минут. Поражало то, как часовой смотрел на меня, казалось, мой вид гипнотизировал его. Он стоял вытянувшись, выпучив глаза, и от страха дышал, как бык на бойне. Наконец все разрешилось. В кабинет вошел высокий смуглолицый человек с черными, как уголь, глазами и крючковатым носом. — Рассказывая, профессор Морис Валуа посмотрел в зеркало. — Да. Вошел мои двойник. В нас было идентичным все: волосы, лица, фигуры, движения и жесты, и только голос у меня был несколько мягче, чем у Дюка. «Выйди!» — приказал он часовому.
Мы остались в кабинете одни. Рассматривали друг друга с жадным любопытством и с некоторой настороженностью.
— Ну, вы тип! — произнес Дюк, усаживаясь в кресло.
— И вы не менее, — отпарировал я, заметив, что эсэсовец подпер подбородок рукой.
— Вы — немец!
— Нет, я француз, но живу в Германии.
— Невероятно! Череп… профиль чисто арийского лица. Вы говорите на немецком, значит, обладаете интеллектом довольно высоким.
«Бедняга, — подумал я тогда. — Как глубоко засела в твоем мозгу гитлеровская пропаганда о величии и неповторимости немецкой расы. Интересно, знаешь ли ты французский?» Генри Дюк знал французский превосходно. Более того, он задал мне несколько вопросов на шотландском и греческом. Я ответил ему и тут же спросил на японском, кто он по образованию. Как видно, гитлеровец не понял меня. Он нахмурился и нервно постучал пальцами по коже кресла: «Кто вы по образованию, Морис Валуа?» «Физик, ответил я. — Но страстно люблю археологию».
— Вот в чем ваша неполноценность! — весело взревел Дюк. — У вас нет конкретной цели… Прелюбопытнейший тип! И я буду изучать вас! Мы двойники, несущие миру совершенно разные идеи.
«Для него я не более чем подопытный кролик, — подумал я тогда. — Он расправится со мной, как только моя персона перестанет его интересовать». Дерзкий план родился в моем мозгу, а возможность его осуществления заставила меня действовать немедленно. «Где мы находимся? В каком городке?» — спросил я Дюка, который поднялся и собирался уйти. Он ответил мне. Сделал шаг к выходу… Самоуверенный нацист не мог и подумать, что пленник может напасть на него. Я превосходно знал японскую борьбу. Нанеся Дюжу несколько молниеносных ударов, уложил на пол, переоделся в его одежду и вышел из кабинета. В двери торчал ключ. Я дважды повернул его в замочной скважине, рявкнул вытянувшемуся передо мной часовому: «Охранять!» — и не спеша направился к машине, где Гельмут Прайд ждал своего хозяина. «Ты свободен, Гельмут, — сказал я, — машину поведу сам». — «Вы? Поведете машину»? — пробормотал, отступая, фашист… Бедный малый, он получил то же, что и его хозяин, вдобавок лишился пистолета, к которому потянулся. Мне повезло. Вы помните, Генри Дюк сказал, где мы находимся. Перед войной я был в этом местечке и хорошо помнил дорогу. Когда моя машина приблизилась к лесу, позади показались преследователи, раздались хлопки выстрелов. Впереди поворот. За поворотом — обрыв. Внизу река. Выбрасываюсь из машины, и она черным жуком летит с обрыва. Мне удалось скрыться в лесу прежде, чем преследователи заметили бы меня.
Закончив рассказ, профессор вновь обратился к инспектору:
— Скажите откровенно, Бур Клифт, какое участие принимал Артур в экспедиции?
— Ваш старший сын, как вам известно, должен был доставить акваланги. И только.
— И тогда вы нейтрализовали его возможных врагов?
— Да. О начале изысканий заранее был предупрежден Пауэрс. В свою очередь, мы это установили точно, Пауэрс уведомил официальные власти, а они — полицию. На это мы и рассчитывали, чтобы предотвратить возможную расправу над участниками экспедиции. Именно якобы в целях безопасности Пфайфер задержал Артура и наложил арест на снаряжение экспедиции. Я надеялся, что его люди займутся Прайдом, но полиция медлила. Дело в том, что весьма представительные лица высших кругов не желали раскрытия тайны озера. Для меня важно было изобличить Прайдов-убийц, а через личность вашего сына привлечь внимание общественности к здравствующим и поныне фашистам. Мы продолжали игру. Нам очень помогло то, что Прайд признал в вас своего бывшего и настоящего хозяина, а вы блестяще исполнили роль Генри Дюка.
— Это было нетрудно. Прайд болен. Более того — безумен. Идея насилия вытравила из него все человеческое. Но, Клифт, вы не учли возможностей Генри Дюка.
— Да, профессор. Он опередил нас. Его люди успели взять золото…
— Как удалось связаться с человеком Генри Дюка и узнать о местонахождении острова?
— Помните портмоне, выпавшее из кармана Ганса Прайда? На его внутренней подкладке двумя иероглифами были обозначены пароль и имя связника. Артуру удалось найти ключ шифра.
— Бур Клифт, мы оказались между молотом и наковальней, — с некоторым раздражением заметил профессор Валуа. — С одной стороны, банда Генри Дюка, с другой Пфайфер, представляющий ведомство, далеко не дружелюбное к нам.
— Важно обнаружить остров, — твердо произнес Клифт.
— Ну, а затем? — сурово спросил профессор.
— Все будет зависеть от обстоятельств. Генри Дюк — международный преступник. На его совести смерть сотен людей: поляков, французов, русских, немцев, англичан. Думаю, наше ведомство и организация Артура Валуа сделают все, чтобы Дюк оказался на скамье подсудимых.
— Клифт, вы умный человек, расчетливый и упрямый, но не все складывается так гладко, как вам бы хотелось. Не все. Не опрометчивый ли шаг мы предприняли? Мы не учли возможность преследования… Не военный корабль, а маленькая, жалкая яхта ищет остров. Вряд ли гибель нашего суденышка вызовет резонанс в мире.
— Отец, — возразил Жак Валуа. — Будет совестно, если мы сойдем в конце дистанции. Бур Клифт надеялся на нас… Отец! — Наша яхта оснащена прекрасным японским мотором, а сделанный из стеклопластика корпус позволяет судну развивать огромные скорости. В случае опасности мы всегда уйдем от преследователей.
— Дело в том, мой мальчик, что мы имеем дело с профессором Генри Дюком — человеком, способным создать вокруг себя довольно мощную организацию. Именно это я и могу предположить, зная о поднятых сокровищах крепости Бьё. Не хмурьтесь, Клифт, вы, как видно, договорились с моим старшим сыном обо всем, но последнее решение за мной.
— Несомненно, — Бур Клифт склонил голову.
— На борту яхты противозвуковая установка «Райпс». Но какова мощность виброзвуковых установок Дюка, знаете? Нет. Не знаете. Я тоже. Установка «Райпс» действует в определенном диапазоне частоты звуковых колебаний и, следовательно, не может превысить расчетных величин. Мне необходимо посоветоваться с Жаком и Маргаритой. Я думаю, нам не следует близко подходить к острову.
Бур Клифт поднялся на палубу. Волны бились о борт под крутым углом. Инспектор понял, что судно разворачивается.
— В чем дело, Артур? — крикнул он.
— Странная рыба… Смотрите — вправо по борту. Она преследует нас, прижимается к яхте. Слышите удары о днище?
— Огромная прилипала?
— Нет. Обратите внимание на хвостовой плавник. Это дельфин!
Бур Клифт свесился за фальшборт, пытаясь разглядеть животное получше. Дельфин поднырнул под яхту, и вновь послышались торопливые глухие удары.
— Черт возьми! — кажется, его задело рулем.
— Что у него на спине?
— Сейчас увидим, — сквозь зубы пробормотал Артур и так повернул штурвал, что яхта едва не легла на борт. В ту же минуту бравый капитан нажал на кнопку. Сработала кормовая катапульта, и капроновый трал накрыл раненое животное. — Готово! Дело за тобой, Бур. Подтяни трал лебедкой… Что там?
— Глуши мотор, Артур, — не оборачиваясь, приказал Клифт. — Шлюпку за борт. Пассажирам покинуть судно!
— В чем дело, инспектор?
— Мы поймали смерть. У дельфина на спине мина.
…Когда профессор, Жак и Маргарита отошли на шлюпке довольно далеко и скрылись в тумане, Бур Клифт поднял дельфина на палубу, а Артур Валуа стал осторожно распутывать трал. Прошло довольно много времени.
— Туман, — произнес капитан, сбрасывая на палубу последний виток сети.
— Туман, — машинально повторил Клифт. — Артур, запусти мотор и сделай все возможное, чтобы яхта развила максимальную скорость.
— Мы столкнем дельфина за борт?
— Нет. — Инспектор осторожно ощупал мину. — Эта штука сработает, как только освободится прижатый к телу животного рычажок. Кто-то не предусмотрел, что корпус нашего судна из стеклопластика и магниты бесполезны. Прекрасно! Воспользуемся недальновидностью врага. Вперед, Артур!
Капитан решительно направился в рубку, запустил мотор, яхта качнулась и стремительно рванулась в противоположную от шлюпки сторону.
Бур Клифт выждал некоторое время, потом просунул ладонь между дельфином и миной, не давая выйти рычажку из паза, отделил все устройство и направился к корме. Он швырнул мину в бурлящий поток. Прошла секунда, вторая, третья… Наконец, раздался взрыв такой чудовищной силы, что яхту буквально подбросило в воздух. Она накренилась, и дельфин упал за борт.
Артур Валуа повернул судно назад. Но они не нашли шлюпки. Напрасно Бур Клифт посылал в небо сигнальные ракеты, напрасно включил проблесковый маяк. Туман стал так плотен, что не пропускал свет. Не было слышно ни голосов, ни единого всплеска весла. Валуа остановил яхту.
В тревожном ожидании наступила и прошла почти вся ночь. Под утро дремавшего на корме Клифта разбудил капитан.
— Клифт! Клифт! — кричал он. — Слышите? Какой странный звук.
Инспектор вскочил на ноги. В еще непроницаемой черноте ночи возник и набирал силу отвратительный звенящий визг.
— «Райпс». Включите «Райпс», — приказал инспектор.
Артур Валуа протянул руку к кнопке. Кнопка, показалось ему, стала увеличиваться в размере, принимать расплывчатые формы. Капитан нажал на нее всей ладонью и, обхватив голову руками, медленно опустился на колени. Острая боль вливалась через уши в череп нестерпимым огненным потоком.
Заработали виброгенераторы. Под их станиной, как живая, задрожала палуба яхты. Синие волны виброполя врезались в плотные слои тумана, и лохматая клубящаяся масса отступила, сжалась. Прекратился нестерпимо жуткий визг.
— Мне плохо, Клифт, — со стоном сказал Артур Валуа.
— Да, это почище зловещего «голоса моря», который возникает якобы на сдвиге земной коры и при изменении подводных течений. Как в акватории Бермудов. Значит, Дюк действует и остров существует! Слышите возрастающий рокот волн? Это прибой. Мы у цели.
По всей вероятности, и шлюпку море прибило к острову, и Клифт с Артуром решили искать причала. На рассвете, в редеющем тумане им удалось найти небольшую бухту. Едва не задев днищем коралловый гребень, яхта вошла в нее и встала на якорь.
Судьба находившихся в шлюпке сейчас беспокоила их больше всего. Помог ли профессору и его детям включенный Артуром «Райпс» выстоять против звуковибрации, направленной с острова?
Посовещавшись с капитаном, Бур Клифт сошел на берег…
Туман рассеивался. Бледный свет народившегося утра окрасил волны в свинцовый цвет. Безмолвно страшными казались нависшие над морем черные скалы.
«Мир тесен. Экологическая ниша человечества ограничена. Племена низших рас размножаются, как бактерии. Мгновенно. Кто-то должен остановить размножение „неполноценных“», — Генри Дюк, скрестив на груди руки, стоял перед зеркалом и с явным удовольствием разглядывал себя. Он все еще полон сил. Все так же гордо сидит седая голова. С возрастом не стал рыхлым ястребиный нос. Взгляд тяжел и грозен.
Зарычал лежавший у камина дог. В зеркале отражался вход в грот, и профессор увидел за своей спиной Отто Штейнера.
— В чем дело, Отто? — грозно спосил он.
— Командор, мы захватили шлюпку.
— И что же?
— Пленники доставлены к гроту.
— В аквариум их!
Дюк подошел к задрапированной стене. Отдернул занавес. Открылось толстое огромное стекло, за которым мерно колыхалась вода. Из темной ниши показались извивающиеся щупальцы с круглыми, как блюдца, присосками, затем гигантский мешок-тело.
— Каков красавец! — Дюк весело потер ладони. — Великолепное чудовище. Не правда ли, Отто?
— Да, командор. — Гориллоподобный Штейнер нервно передернул плечами.
— Чужая смерть всегда познавательна, — В черных глазах Дюха сверкнул сатанинский огонь. — В ней заключается печальная тайна бытия. Одни навсегда покидают этот шаткий мир, другие остаются, чтобы еще и еще раз приоткрыть занавес, за которым кроется тайна. Вы меня поняли, Отто?
— Э… Не совсем.
— Бедный малый. Твое мышление служит высшему идеалу. Ты солдат. Солдат и разум интеллектуалов вершат историю. Запомни это.
— Я запомню, командор.
Генри Дкж завороженно следил за приближающимся спрутом. Щупальцы омерзительного животного распластались по стеклу, раскрыт клюв, мертвенный взгляд впился в лица людей. Штейнер попятился. Профессор, чье самообладание нисколько не поколебалось, повернул к нему голову и произнес с явным удовлетворением:
— Спрут — эмблема нашей организации. Скоро весь мир встанет перед нами на колени. Весь мир! Необходимо выиграть время. Ни одна живая душа не должна проникнуть в тайну нашего острова, а тайну хранят лишь мертвые. Приведи пленников, я приготовлю для них ванну.
С этими словами Генри Дюк надавил на одну из трех расположенных у аквариума педалей. Открылись нижние жалюзи. Столб воды понизился. В верхней части аквариума обнажились мокрые ступени винтовой лестницы, бесшумно открылся квадратный люк и так же бесшумно на площадку лестницы опустился лифт. Солдаты вытолкнули из него пленников. Лифт поднялся. Тяжелый стальной люк наглухо закрыл выход.
— Заключительный акт комедии, — пробормотал Дюк, включая тумблер.
Сиреневый свет залил нишу. Пленники прижались друг к другу. У их ног, мерцая, колыхнулась вода и оттуда, извиваясь, медленно поползли вверх огромные щупальцы.
Генри Дюк скрылся в тени отражателей. Ему показалось, что где-то и совершенно недавно он видел стоявшего на лестнице рослого старика. Щупальцы приближались к жертвам. Старик и женщина отступили, но юноша остался на месте.
— Обезумел от страха щенок, — пробормотал Дюк, открывая слуховые окна аквариума.
Ни единого звука, ни единой мольбы о помощи.
Показалось огромное тело спрута. И тогда юноша бросился вперед, что-то сверкнуло в его руке раз, другой… Вода вспенилась и успокоилась. В темно-сиреневой полумгле опускалось мешковидное тело спрута, а за ним сползали, тянулись, как обрубленные канаты, щупальцы.
Тогда Генри Дюк покинул свое убежище, приблизился и гневно ударил кулаками в бронированное стекло, и впервые почувствовал страх, когда разглядел повернувшегося к нему старика. Ему показалось, что это он сам в душном полумраке стоит на винтовой лестнице, а рядом агонизирует огромный спрут.
— Отто! — позвал Дюк. — Отто, немедленно приведи старика сюда!
Когда Штейнер ввел пленника в грот, Генри Дюк с любопытством оглядел его и, только убедившись, что стоявший перед ним человек как две капли воды похож на него самого, удивленно пожал плечами и спросил:
— Как вы попали на остров, профессор Морис Валуа?.. Не удивляйтесь, я узнал вас… Молчите?.. Молчание — не выход. Итак?
— Прикажите вывести наверх моего сына и мою дочь.
— О! Чисто берлинское произношение… Что ж, вежливость между нами врагами — так же не прилична, как уличная брань среди благородных девиц. Возможен только деловой контакт.
— Возможен ли?
— Спустя несколько лет после войны я увидел в печати статьи профессора Мориса Валуа, его фотографию, и понял, что мой двойник не погиб… Ах, люди, люди, как вы живучи и как тесен мир, если, пройдя столько разных дорог, мы вновь встретились. По сути вновь встретились две противоположные идеи, два враждующих мировоззрения. Судьба отдала вас в мои руки. Я могу утопить ваших щенят и сделаю это, если мы не сможем договориться друг с другом.
— Вы проиграли, Дюк.
— Проиграл? Учтиво ли говорить нелепости хозяину положения? Впрочем, не хотите ли вы сказать, что, даже уничтожив вас, я проиграю?
— Именно, — спокойно ответил профессор Валуа. — Люди знают о существовании острова. Тайна перестала быть тайной.
— Координаты острова — это еще не раскрытие тайны. — Зловещая улыбка скользнула по лицу Генри.
— Надеетесь на новое оружие? Но вот я здесь, я жив, значит, ваше логово уязвимо.
— Штейнер, выведи из аквариума и тех. Да-да, выведи. Я решил продолжить разговор.
Выполнив приказание, обер-лейтенант тотчас вернулся; как видно, спор между командором и его двойником представлял для Штейнера огромный интерес.
Генри Дюк сидел в кресле, одной рукой почесывал за ухом своего верного пса Лео, другой небрежно опирался на мягкий пуф, показывая всем своим видом, кто хозяин положения. Можно уничтожить противника физически, но раздавить его морально — истинное наслаждение. Вкрадчивый голос Дюка звучал под мрачными сводами грота с необычной, как ему казалось, силой.
— Мир, — говорил он, — превращается в свалку. В зловонную яму отбросов цивилизации. Так больше продолжаться не может. Необходимо создать новый образец культуры, отсечь все рыхлое, уничтожить ненужное, создать единое управление жизнью на земле. Вот моя цель!
— Отсечь рыхлое — значит, уничтожить малые народы. Ненужными окажутся все, кто не пожелает подчиниться вам.
Профессор Морис Валуа ответил Дюку с поразительным хладнокровием. Их взгляды скрещивались, как взгляды равных по силе, и Штейнер испытывал страх, наблюдая за поединком.
— Так уже было не раз, — продолжал Валуа. — Маньяки пытались перекроить мир на свой лад. Ничего не вышло. Историю не повернуть вспять.
— История? — Генри Дюк брезгливо поморщился. — История всегда на стороне сильного. Пусть я маньяк, но я служу высшей идее.
— Таких, как вы, всегда привлекала неограниченная власть.
— Да!
— Во имя чего властвовать?
— Разум предполагает жизнь.
— Во имя высшего разума.
— Да. Но жизнь двух, трех народов, не более. Ресурсы земли истощены. Скажите, для чего история, если человечество задохнется в собственной мерзости? Что есть народы? Это стая голодных псов, которые рано или поздно перегрызут друг другу горло.
— Вы правы в одном, — с холодной решимостью отвечал профессор Морис Валуа. — Победит разум, но разум всего Человечества. У вас ничего не выйдет, Дюк.
— Не выйдет? — Генри Дюк вскинул руки. За его спиной взметнулась огромная черная тень. — Знайте, я не напрасно прожил жизнь. Что вы знаете обо мне?
— Я знаю, что вы старались обезопасить свой остров. Вы научили дельфинов минировать приблизившиеся к острову корабли.
— И корабли взлетали на воздух!
— Вы использовали новейшее оружие — биовибратор. Частота звука столь велика, что находившиеся на судах люди сходили с ума, выбрасывались за борт.
— Верно. Мы сумели сымитировать «голос моря». Великолепное оружие… Гибнет все живое, но остаются ценности.
— Но мною создана противовибрационная установка, которая, как вы убедились недавно, нейтрализует вашу. Понимаю, вы потребуете чертежи установки, и я дам их.
— Разумеется! — Генри Дюк удержал рванувшегося к Валуа дога. — Сидеть, Лео!..
— Вы не успеете воспользоваться чертежами. Смерть помешает вам.
— Проклятье! Вы, действительно, что-то разнюхали, — процедил сквозь зубы Генри Дюк, но тут же опомнился. Ободряюще кивнул притихшему Штейнеру и продолжал: — Мы создали лабораторию смерти. Нашли новые виды вирусов и бацилл. Они поражают людей с определенным цветом кожи. Погибают черные, желтые, красные… Теперь у нас есть золото. Мы расширим поле деятельности. Весь мир станет нашим заложником.
— Дюк, вы опоздали. Когда нас вели к гроту, я видел мертвых птиц, животных. Вы выпустили смерть на волю, и она косит на острове все живое.
— Глупости!.. Жаль, но ваш мозг, изнеженный сентиментальностью, не способен к восприятию грандиозного открытия. Найденные мною вирусы покорят мир. Вы хорошо начали, но плохо кончили, Валуа. Более того, вы говорите со мной неуважительно. Знайте, чертежи не понадобятся. Я уничтожу вас не сразу, но уничтожу обязательно. Отто, французов — в малый грот. Усиль караул… Впрочем, не надо… Сегодня я отберу еще нескольких парней для работ в лаборатории…
— Но, командор, у меня осталось всего несколько человек. К тому же вы не выпускаете никого из своей лаборатории…
— Необходимо ускорить работы. Идите, обер-лейтенант.
Поместив пленников в малый грот, Штейнер вызвал к себе командира взвода охраны. Через несколько минут явился флегматичный малый с узкой акульей челюстью и маленькими хитрыми глазками.
— Барбюс, — сказал Отто Штейнер, — ты ничего не замечал странного?
— А что я должен был заметить?
— Что-нибудь необычное. Например, мертвых птиц.
— Птицы дохнут целыми стаями.
— А люди?
— Люди? — глазки Барбюса с тупой покорностью уставились в лицо Штейнера.
— Я уже давно не вижу доктора Блюмберга, доктора Фризе… исчезло более половины твоих солдат.
— Исчез? Кто?
— Не знаю.
— Не знаете, так нечего и говорить. Просто профессор назначил парней на работу в лабораторию.
— Хорошо ли охраняется лаборатория? Впрочем, зачем ее охранять? Кто сунется в лапы смерти?
— Вы говорите так странно… Вы больны!
— Болен? Пожалуй, болен. Отдыхай, Барбюс. Мы — «солдаты удачи», возможно, удача не покинет нас. Уповай на господа бога, верь дьяволу, подчиняйся Генри Дюку, и все будет в порядке.
— Так точно, обер-лейтенант! — Барбюс вытянул руки по швам. Он дождался, когда Отто Штейнер скроется в своем кабинете, и позвонил Дюку.
— Слушаю, — донесся раздраженный голос Генри Дюка. — Что случилось, Барбюс?
— Дело в том, командор, что взорванное нами судно оказалось немецким сторожевым катером.
— Ах, какая неприятность, — в голосе Дюка чувствовалась издевка.
— Но это не все.
— Что же еще, мой мальчик?
— Штейнер интересовался мертвыми птицами.
— Штейнер стал слишком нервным.
— Да, командор. Отто хотел узнать, где находятся Блюмберг, Фризе и что случилось с моими парнями…
— Арестуйте Штейнера.
— Есть, командор!
— Барбюс, — голос Генри Дюка стал зловещим. — Барбюс, я всегда ценил твою преданность. Мой мальчик, ты должен возглавить гарнизон острова!
Получив приказ, Барбюс незамедлительно отправился в кабинет обер-лейтенанта и совсем не удивился, когда, открыв дверь, увидел в руках Штейнера автомат.
— Брось, Отто, нам — сторожевым псам — не стоит грызться между собой. Ты подслушал наш разговор с командором?
— Да.
— Ты догадываешься о многом, но не знаешь главного.
— Не знаю.
— Я приручил собаку командора и сумел проникнуть в лабораторию… Блюмберг, Фризе и мои парни мертвы… Вспомни, Генри Дюк вызывал на работы тех, кто чувствовал недомогание.
— Мертвы… — Отто Штейнер опустил автомат на стол.
— Немецкий сторожевой катер не взорван.
— Но взрыв был?!
— Я не знаю, что произошло в океане. Посланный нами дельфин вернулся раненым. Я осмотрел его, кажется, дельфина задело гребным винтом.
— И все же взрыв был… Мало того, Дюк включал биовибратор.
— Его действие нейтрализовано… У нас мало времени… На острове эпидемия… К острову подходит сторожевой катер. Думаю, в запасе у нас около часа… Мы можем бежать с острова на катере командора. Кстати, Генри Дюк уже погрузил в его трюм золото, документы.
— Ловко!
— Необходимо действовать.
— Правильно, Барбюс. Сейчас ты пошлешь солдат, всех до единого, к главной биовибрационной установке. Именно туда, уверен, направится десант сторожевого катера.
— Да. Купол установки виден издалека.
— Я взорву установку в нужное время. Ты же, уничтожив французов, перекроешь Дюку путь к катеру. Лишние люди нам не нужны…
…Спустя полчаса, на подступах к биовибратору вспыхнула отчаянная перестрелка. Барбюс выжидал… Зазвонил телефон… Барбюс протянул руку к трубке, но не снял ее.
Бой разгорался. Внезапно раздался чудовищной силы взрыв. Купол главного биовибратора подбросило вверх, из-под него вырвалось багровое пламя. Тяжелые глыбы расколовшихся скал с громовым гулом обрушились вниз, давя под собой все живое.
Взрывная волна снесла крышу казармы, выбила стекла. Осколком стекла Барбюсу рассекло лицо, но «солдат удачи» не обратил на это внимания. Его мысли и чувства были подчинены одной цели: он должен пробраться к «лагуне дельфинов», где стоит катер Дюка. На катере золото, документы, которые принесут ему все. Барбюс взял автомат, вышел из казармы и, скрываясь за скалами, осторожно приблизился к малому гроту. Он увидел распахнутую дверь и лежащего под нею раненого часового.
— Что с тобой? — спросил Барбюс. — Кто тебя так разделал?
— Дьявол… Дьявол в кожаных пальто и шляпе… Помоги.
— Сейчас. — Барбюс поднимает автомат и наносит часовому беспощадный удар прикладом. — Извини, ты лишний в нашей игре.
Ветер шевельнул растущий над гротом куст. «Солдат удачи» упал на живот и очередью из автомата прошил куст. Никто не ответил на его выстрелы. Тогда он вскочил на ноги и стремглав пустился по тропе туда, где находилась лаборатория, а за нею «лагуна дельфинов», «Быстрее! Быстрее!» — мысленно подгонял себя Барбюс — Быстрее! — прохрипел он, заметив бегущего к пересечению троп человека.
Они одновременно вскинули автоматы — и не выстрелили.
— Я рад, что ты жив, — с ненавистью прошипел Барбюс.
— У нас мало времени, — задыхаясь, ответил Штейнер. — Катер может уйти.
И они побежали вместе плечом к плечу, ибо никто из них не желал подставить спину под выстрел. Они ворвались в большой грот, где в свободном от воды аквариуме валялось тело омерзительного спрута, спустились по винтовой лестнице и нисколько не удивились тому, что герметичный люк лаборатории отперт. Они перепрыгнули стальную решетку, через которую ушла вода, и оказались в узком лабиринте подземного хода.
Впереди вспыхнул неоновый свет. Сжимая в руках автоматы, они вошли в освещенный бункер. Услышав за своей спиной визг запираемого люка, «солдаты удачи» подняли автоматы на человека, который стоял, ухватившись за рукоять рубильника. Это был Генри Дюк.
— Рад видеть вас, — насмешливо и спокойно произнес Генри Дюк. — Вы умело избежали опасности.
— Где катер? — угрюмо спросил Штейнер.
— Его похитили… Все очень просто. Когда я спустился в тоннель, ведущий к «лагуне дельфинов», то обнаружил, что выход из него надежно забаррикадирован обломками скал.
— Ты лжешь! — Барбюс нервно передернул затвор автомата.
— Я вернулся, включил телевизионную установку и увидел тех, кто проделал с нами эту штуку. От пристани отчаливали яхта и мой катер, управляемый огромным человеком в кожаном пальто и кожаной шляпе… Там же были профессор Валуа и его дети… Мы похожи на акул, но, к сожалению, на акул, выброшенных на сушу… Катера нет. Его похитили. А вы, именно вы должны были охранять подступы к острову.
— Ты предал нас, Дюк! — заорал Барбюс. — Ты хотел бежать сам.
— Мы все хотели бежать. Вы — для того, чтобы начать жить по-новому, я — чтобы воплотить свою идею в реальные формы. Бог свидетель — я сражался за свою идею до конца… Мы хотели завоевать мир, но мы проиграли…
— Отпусти рубильник, — леденея от ужаса, пробормотал Штейнер.
— Поздно. Тайна нашего острова раскрыта. Мы раздавлены. Мы раздавили себя сами!
С этими словами Генри Дюк включил рубильник малого, экспериментального звуковибратора. Вверху что-то щелкнуло, вспучилась, а затем лопнула диафрагма звукоизоляции. Нестерпимо тонкий визг заполнил бункер, Барбюс выпустил в Дюка всю обойму автомата… Звук усиливался… Жутко захохотал Штейнер… Звук усиливался… Мозг акул не выдерживал и разрушался…
Николай Недолужко
Парадокс
Ознакомившись с делом, майор Крутов приказал впустить Лазарева. В кабинет вошел очень высокий, атлетически сложенный человек в светлом костюме и широкополой модной шляпе.
— Садитесь, Лазарев, — предложил майор. — Возможно, разговор будет долгим.
— Не думаю, — Лазарев спокойно уселся на стул, так же спокойно снял шляпу и аккуратно положил ее на стол перед собой. — Позвольте узнать, с кем имею честь разговаривать?
— Майор Крутов.
— А попросту, по-человечески? Не терплю казенщины.
— Придется привыкать.
— Не думаю, — Лазарев обеспокоенно посмотрел на часы. — Даю вам пять минут… Итак, как вас зовут?
— Максим Крутов.
— Похвально. По тому, как скоро назвали себя, ясно, что вы человек довольно высокого интеллекта. Эти казенные амбиции… Не терплю! Продолжайте!
— Вы понимаете, где находитесь?
— Разумеется. Именно поэтому я решил выслушать вас.
«Кокетка? Маньяк? — подумал майор. — Нет. Ни то, ни другое. В манере держать себя чувствуется человек, который не подвластен законам определенной ситуации».
— Не ситуация меня тревожит. Действительно, я не маньяк.
Майор Крутов посмотрел на Лазарева и улыбнулся:
— Послушайте, о вашей способности угадывать мысли собеседника я знаю.
— Это неважно. Ближе к делу, Максим. Итак, профессор Шапшев обвиняет меня в уничтожении чертежей и расчетов, по которым создан робот. Кстати, робот создан мной.
— Но вы работали под руководством Шапшева.
— Руководить, значит, направлять, Если все так просто, то почему бы Шапшеву не восстановить чертежи? Нет, батенька, Шапшев — администратор. Не он, а я тратил энергию своего мозга на создание робота. Вправе ли создатель уничтожить созданное?
— Вы трудились на благо человечества.
— Громко, но в определенной степени правильно. Извините, у нас совсем не осталось времени. Меня забрали так неожиданно. Я не успел отключить систему. Вы должны ехать со мной сейчас же. Может случиться непоправимое.
— Вызвать машину?
— Да, — голубые глаза Лазарева внезапно вспыхнули от ярости. — Скорее!
Несколько минут спустя майор Крутов и Лазарев уже мчались в черной «Волге» на окраину города к научному центру. Вот уже видна светящаяся звезда на шпиле главного корпуса. Еще несколько поворотов, и они останавливают машину у залитого неоновым светом подъезда. Первым покинул «Волгу» Лазарев. Крутов едва успевал за ним. На проходной их остановил охранник:
— Товарищ Лазарев, мне приказано не пропускать вас.
— Кем приказано? Шапшевым?
— Мне приказано.
Майор Крутов показал свое удостоверение.
— Мне приказано не пропускать товарища Лазарева, — упрямо повторил охранник.
— Вызовите профессора Шапшева.
— Все работают.
Охранник лишь скользнул взглядом по удостоверению Крутова и вновь обратился к Лазареву.
— Уйдите. Вы мешаете.
— Максим, — Лазарев шагнул к охраннику, схватил его за руки и прижал к стене, — войдите во второй кабинет справа. Там пульт управления. Нажмите на красную кнопку. Быстрее, у меня кончаются силы.
Охранник сопротивлялся.
В эти короткие мгновения майор Крутов успел заметить, что двери кабинетов распахнуты, коридор заполнен светящимся газом. Он интуитивно почувствовал опасность. Бросился к указанной Лазаревым двери, вбежал в кабинет и, увидев на стене пульт с красной кнопкой в центре, нажал на нее. Где-то шумно захлопнулись двери. Крутое обернулся и вздрогнул — в углу в глубоком кресле с толстой тетрадью в руке сидел профессор Шапшев.
— Профессор, — обратился к нему майор Кру-тов, — что здесь происходит?
— Происходит. Ничего не происходит… Все работают… Мы пытаемся восстановить уничтоженные Лазаревым чертежи. Это невозможно. Мне кажется, я схожу с ума. Хочу спать.
Он уронил тетрадь на пол. Закрыл глаза.
Майор Крутое вернулся в вестибюль и увидел Лазарева, склонившегося над спящим охранником.
— Ну, как? — Тяжело отдуваясь, Лазарев медленно выпрямился. — Как вам нравится все это?
— Когда заканчивается работа в центре?
— В семнадцать ноль-ноль.
— Но сейчас, — майор Крутов посмотрел на часы, — двадцать один час тридцать минут.
— Следуйте за мной, — сухо предложил Лазарев.
Майор Крутов почти бежал за ученым. По пути они заглянули в распахнутые двери кабинетов и везде видели спящих людей. Позы, в которых они находились, были нелепы и неудобны. Это поражало.
Перед массивной приоткрытой дверью таинственного бункера Лазарев остановился.
— Я плохо вижу, — тихо сказал он. — Включите свет, Максим.
— Да, но свет включен.
— Включен. Есть ли справа от нас дверь?
— Есть.
— Нажмите и поверните ручку.
— Она не поддается!
— Сдвиньте верхний рычаг. Ну!
— Готово.
— Что вы видите?
— Пульт. Огромный пульт управления.
— Нажимайте обозначенные цифрами кнопки, — на высоком лбу Лазарева выступил пот. — Два, семнадцать, сорок четыре, два, девятнадцать…
— Есть.
— Тридцать два.
После того, как майор Крутов нажал на указанную кнопку, в бункере раздался страшный глухой стон. Глаза ученого сверкнули сатанинским огнем. Двери бункера открылись полностью. Оттуда вырвался поток необычно свежего воздуха.
Лазарев опустился на кресло-вертушку и рассмеялся.
— Что с вами? — спросил майор Крутов.
— Все в порядке, Максим. Я вновь вижу. Это прекрасно! Пора объясниться. Но нет. Пожалуй, ваш мозг не воспримет всей сложности ситуации, в которой мы находились. Что вы делали в выходной день?
— Был на охоте.
— Вы замечательный человек, Максим. Чувствую, вам можно довериться полностью. Вы не пытались заручиться поддержкой своего начальства, действовали сообразно сложившимся обстоятельствам. Похвально. Через полчаса вы поймете все. Войдите в бункер. Большой Рут ждет.
— Кто такой Рут?
— Робот. Он ждет вас.
Повинуясь нетерпеливому жесту ученого, майор Крутов вошел в бункер. Двери за ним закрылись, погас свет. Впереди щелкнуло. Откуда-то сверху опустилась светящаяся синим светом мантия. На ней ясно обрисовались контуры гор. Майор сделал вперед шаг — другой и оказался в знакомом ему ущелье. Мало того, он увидел палатку, в которой спали его друзья-охотники.
Широк Боом. В том месте, где расположились охотники, меж гор, считай, не менее шести километров, но воздух настолько чист и ясен, что в сизой полумгле ночи, под самыми звездами, видны далекие вершины.
Нечто огромное, темное пронеслось над горами, описало в небе гигантский полукруг и зависло у далекой вершины. На мрачные изломы ущелья опустились три световых столба. Из темно-серого чрева странного объекта, как пчела из улья, вылетел серебристый шар. Он приближался к лагерю по странной зигзагообразной траектории. Крутов не решался вызвать товарищей из палатки, опасаясь за их жизнь. «Что это? Шаровая молния? — думал он. — Но тогда лишняя суета в лагере, возможная паника могут спровоцировать ее разряд».
Приблизившись к человеку, шар раскрылся на две мерцающие полусферы. Гибкая прозрачная мантия мгновенно окутала человека и втянула его в нижнюю полусферу. Спустя секунду Кругов почувствовал, что летит.
Оболочка шара совершенно прозрачна. Майор видел, как под ним проносились ребристые скалы, деревья, в черном разломе ущелья промелькнула светлая нить ручья.
Шар опустился рядом с объектом. Опустился с такой мягкостью, что майор Крутое не почувствовал ни единого толчка. То, что произошло в следующий момент, было не менее поразительным. Верхняя полусфера отделилась от нижней, сдвинулась под объект, увлекая за собой мантию. Мантия развернулась подобно экрану в кинотеатре. На экране возникли очертания объемных предметов. Казалось, кто-то невидимый лепил из нестойкой светящейся массы нечто понятное человеку. Затем все перемешалось. Экран расцвел микромолниями и майор Кругов увидел перед собой юношу в серебристо-блестящей одежде.
— Кто ты? — спросил Крутое.
— Я — посланец разума планеты Эль. Время. Спрашивай.
— Где находится планета Эль? Почему контакты с землянами столь необычны?
— Планета Эль в центре Галактики. Используем энергию квазаров, — глаза юноши вспыхнули желтым огнем. — Нас много… Разум един! Един ли разум землян? Энергия вашего разума предельна. Опасаемся.
— Опасаетесь Чего?
— Разрушения. Материя бесконечна. Бесконечно повторение систем разумной жизни. Но разум должен быть един.
Майор Крутов задумался. Краткие до автоматизма ответы настораживали.
— Землянам свойственно самоуничтожение, — бесстрастно заявил робот.
— Нет. Людям свойственно созидание. Но у нас возникли проблемы: перенаселение, загрязнение экологической среды, истощение жизненно важных ресурсов, угроза войны.
— Война — уничтожение разума. На планете Эль войн нет. Смысл разума, его бессмертие — в познании миров. Самоуничтожение — предел развития гуманоидов.
Майор Кругов заметил, что экран потускнел. Фигура робота расплылась.
— Разум должен быть один, — тихо прошелестела подкатившаяся к ногам майора мантия.
Обратный полет майора Крутова был столь же стремителен и закончился так же благополучно.
И вот он уже стоит рядом с палаткой, где спят его товарищи.
…Внезапно над майором Круговым вспыхнул яркий неоновый свет. Двери бункера раскрылись. На пороге появился Лазарев.
— Идите за мной, Максим, — устало произнес он. — Теперь мы можем поговорить. Прошу.
Потрясенный до глубины души Кругов последовал за ученым. Они вошли в маленький уютный кабинет, обитый коричневой кожей. Лазарев закрыл дверь. Стало так тихо, что майор услышал тиканье своих наручных часов.
— Спрашивайте, — предложил Лазарев, усаживаясь за рабочий стол.
— Прежде чем спрашивать, позвольте, я расскажу обо всем, что со мной произошло.
Лазарев слушал молча, казалось, был погружен в свои раздумья, но как только рассказчик умолкал, он поднимал голову и требовательным взглядом заставлял продолжать рассказ.
Когда Крутов закончил, Лазарев поднялся из-за стола, сделал несколько шагов по кабинету и остановился там, где густая тень портьеры почти прикрыла его. Поглядев в его сторону, Крутов почувствовал леденящий озноб страха: в полумраке светились неистовым огнем огромные глаза.
— Ну? — произнес Лазарев.
Жалобно зазвенели хрустальные подвески люстры.
— Все так сложно. Непонятно.
— Создан электронный мозг, способный воздействовать на мышление людей. Когда вы вошли в бункер, электронный мозг пытался подавить энергию вашего разума, он уже находился под моим контролем. Я до предела уменьшил действие физических полей. Тогда робот использовал энергию вашего разума, воспроизводя понятное вам: серебристая одежда инопланетянина, серебристый шар, звездолет. Но тут же дал понять, что разум должен быть один, иначе человечеству грозит катастрофа. Физическое уничтожение.
— Он выступил в роли гуманоида…
— В роли властвующего разума… В начале эксперимента я пытался поставить все на свои места. Робот взбунтовался. Он, продукт моего мышления, взбунтовался.
— И тогда вы уничтожили чертежи и расчеты? Не их ли пытаются восстановить сейчас профессор и сотрудники института?
— Да! Но делают это под воздействием электронного мозга. Робот не смог разобраться в отношениях людей.
— Это так сложно?
— Робот может превратить человека только в робота. Пройдите по кабинетам, и вы убедитесь, что большинство сотрудников института спят. На них перестала действовать энергия физических полей, созданных электронным мозгом.
— Двери кабинетов непроницаемы для физических полей.
— Непроницаемы? — майор Кругов стремительно поднялся. Мысль, подсказанная Лазаревым, поразила его. — Непроницаемы, — машинально повторил он, прислушиваясь к доносившимся из коридора звукам. — Что там происходит?
— Что там происходит? — ученый коротко рассмеялся. — Настало время. Люди проснулись. Покинули свои «насиженные» места и направляются к выходу.
Майор вошел в кабинет Шапшева. Профессор продолжал сидеть в своем кресле. Увидев майора Крутова, он принял гордую осанку, но в глазах, где-то глубоко, сквозил страх.
— Скажите, профессор, — обратился к нему майор. — Зачем вы приказали открыть двери бункеров и кабинетов?
— Чертежи. Необходимо восстановить чертежи.
— Для чего?
— Неужели непонятно, молодой человек, что электронный мозг — престижная работа нашего института.
— И удалили Лазарева в конечной фазе эксперимента?
— Да. Он вел себя вызывающе, забыл о том, кто является его идейным руководителем. Вы играете в шахматы?
— Допустим.
— Тогда вот, провести пешку в ферзи можно, но сделать пешкой короля немыслимо. Такова жесткая суть правил.
— Увы, только сейчас я понял, нет, осознал смысл сказанного Лазаревым. Используя электронный мозг, вы пытались восстановить не чертежи, а свою репутацию ученого.
— Забываетесь, молодой человек! Не надо рукоплескать собственным лозунгам. Жизнь сложнее. И мы живучи.
— К счастью, профессор, и королям ставят мат. В этом великий парадокс победы. Прощайте.