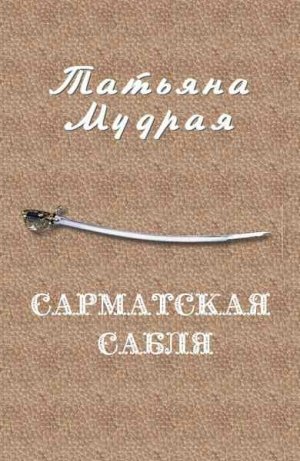
В это зловредное лето я, уже защитив свой диплом, нанялся на раскопки в республике Саха. По слухам, в районе вечной мерзлоты отыскалось кой-какое по-настоящему древнее вооружение, в частности, на редкость хорошо сохранившийся кыйах, классический якутский ременный доспех с нанизанными на них железными бляхами, и — что особенно удивляло — непонятно откуда сюда проникший сарматский клинок. Оттого в сии места хлынули орды новых завоевателей. На сей раз довольно мирных, однако же как следует задвинутых на холодной стали всякого рода и вида, а также на доспехах, конном уборе и прочих симпатичных вещах, которых в здешнем краю отродясь было немерено. Якуты — народ воинственный, колдовской и, как вытекает изо всего этого, всегда умел как следует обращаться с железом.
Погода стояла тоже соответственная: жарища градусов под тридцать, аж сосновые стволы вокруг трещали. Мне говорили, что это норма и что рядовой местный житель, прибывая летом или весной в столицу нашей бывшей всеобщей родины, сразу начинает ныть: «И как вы можете существовать в этакой холодрыге?» А зимой, я слыхал, эти местные у себя дома существуют в режиме коротких перебежек — из подъезда в подъезд. Несмотря на шубу, шапку из конского меха и такие же торбаза.
Ну что скажешь? Закалка не та, что в прежние времена.
Среди моих младших сотоварищей, что собирались по вечерам у моего личного костерка, гуляли обычные археологические байки — про богатейшие захоронения, мамонтовые могильники, под завязку набитые драгоценной костью, и, естественно, про алмазы. Причем пари держу: если бы кто-нибудь из них в самом деле натолкнулся на стеклистого вида камешек, по уши заляпанный грязью, то ничего ровным счетом бы не заподозрил. И никто из нас его бы не надоумил — по той простой причине, что это означало бы спешное свертывание вполне многообещающих раскопок.
Пока, правда, мы наталкивались в основном на лошадиные скелеты, да и те местной чингизхановской породы. Кони якутские — это, скажу я вам, нечто: в холке почти как пони, по зиме обрастающие густой шерстью, верткие и злые, как дьявол. Как-то мне пришлось увидеть горстку аборигенов, которые взвихрились нам навстречу из леса: мохнатые всадники в высоких шапках, шубах и торбазах, которые вроде как несли своих мохнатых коников между ног. Должно быть, тут исторический фильм снимали.
Ну так вот: единственной нашей землекопной и археологической радостью были ископаемые кости и зубы ископаемых лошадок. Один такой, здоровенный и буро-желтый, друзья поднесли мне в подарок за россказни. Ну конечно, это было воровство у государства, но вежливое: не грубый разбой, а тихое умыкание. Поэтому я привязал к зубу веревочку, повесил его на шею — он порядком ее оттянул — и спрятал подальше за пазуху.
Перечитал написанное и подумал: нет, радость моя никогда не ходила одиноко.
Второй была моя Слава.
Высокого, тощего студентика родом из Якутского Государственного университета я приметил в первый же день: длинноносый и кареглазый, прямые черные волосы скручены сзади в хипповый хвост, а спереди спускаются на лоб короткой челкой, на обеих щеках милые ямочки — и веснушки. Такие крупные, каких я за всю жизнь не видел, они растекались по бледной сливочной коже, будто крап по игральной карте, покрывали тонкие руки по самые ногти и вроде бы даже всё тело. И шли ему безумно — так же точно, как розовая улыбка полных губ. Сильный, жилистый, неунывающий, певучий, точно жаворонок по весне. Словом, всем был бы хорош парень, но вот незадача: девушка.
Это выяснилось сразу же, когда мы разожгли совместный костер в лесу, близ берега небольшой местной речки, и рядом с ним, наконец, представились друг другу по всей форме.
— Михась Папеня. Гомель, — протянул я руку.
— Бронислава Островская. Город Якутск, — она рассмеялась, увидев, как ошеломленно повисла в воздухе моя мозолистая лапа, и пожала ее. Ну конечно, ей, как даме, полагалось подать руку первой, а я, растяпа…
— Какое имя красивое. Ты, случаем, не родственница Николая Островского, который закалялся как сталь?
— Нет, — она покачала головой. — Мы от корня Павла. Только не Павки Корчагина, естественно. Павла Островского, ссыльного шляхтича и в далеком прошлом — благородного разбойника. Как у Александра Сергеевича Пушкина в романе.
— Пушкин Дубровского живописал, — ответил я со смущением.
— Ну да, только знаешь, как его роман сначала назывался? «Островский». Это ему лучший друг Нащокин всю правду рассказал — имение у него тогда было в Белой Руси. Только чем дальше, тем Александру Сергеевичу больше своевольничать хотелось: поэт — он ведь и в Африке поэт. А еще мой предок в 1830 году против русских пошел, понимаешь? За былую Жечь Посполиту и золотые шляхетские вольности. Такое не прощается, знаешь ли. Ни Пушкину, ни его герою.
Род наш был древний: едва ли не со времен Ягайла. Знатный и нищий: одно малое именьице Рованичи Игуменского уезда, что под Минском, близ нынешнего Червеня. И на то бумаг не имелось: во время грозы двенадцатого года все сгорели. Иного предлога русским властям и не нужно было: объявили моего предка безземельным шляхтичем и пустили по миру вместе с верными крестьянами. Сначала-то они только подьячих грабили.
— Но не жгли в запертом доме, верно? — проговорил я. С детства ненавидел эту сцену.
— Нет, конечно. Дед Павел знаешь какой был? Ну, прапрапрадед… Гонористый, храбрый, высокий, и высокая душа в серых глазах горит. Непокойная, яростная. И влюбчивая… Как по улице пройдет — все паненки шеи себе сворачивают, чтобы на него лишний раз полюбоваться. А лет ему тогда было чуть поболее двадцати, и красавец, как на иконе. Такой разве может не по чести, а по мести поступить, будто подлый писарский крючок, крапивное семя? Это же значит — вровень с нелюдью стать.
— А грабить упомянутую нелюдь — это, значит, в строку.
— Да не нужны были ему деньги! У богатого лишек отнимет — а нищему даст.
— Ну, это я уже понял. А Маша троекуровская, похоже, нужна оказалась? Он ведь, по слухам, тоже учителем нанимался. К одному богатому шляхтичу.
Вспомнил я о том некстати: Славка возмущенно поджала губы.
— Как он мог влюбиться? Он же мою маму за себя взял. Когда его пан Помарнацкий признал и жандармам выдал, так ни одна шляхтянка за него не вступилась.
— Вот-вот. Совсем как та Маша, — вставил я.
— Рассказывают, что вот уже схватили его, привезли в Витебск в тяжелых ножных цепях, ведут в охранное управление — а он посередине улицы идет и смеется, шутит с конвойными. Всё ему нипочем было! И железо. Прямо посреди Офицеровой улицы, на глазах у стражей, скрутил его и разорвал на мелкие части.
— Ну что же, — ответил я, — легенда как легенда.
— Это быль, Михась. О том до сих пор полицейские записи сохранились. Пушкин их, по слухам, так и вставил в роман, ни одной запятой не переменив.
Теперь я вспомнил кое-что еще.
— Погоди, Бронислава. Твоего предка ведь из Витебска в Псков перевезли, и бежал он уже из тамошней тюрьмы. Как писали: «Неизвестно куда отлучился». Точно-точно. Будто в лавочку за сигаретами.
— Вот и не коси под неуча, — недовольно ответила Славка. — А то: «Знать не знаю, ведать не ведаю».
Так я, кстати, никогда ей не говорил.
— И как в воду скрылся.
Вот это я ей в самом деле сказал.
— Не «как», а на самом деле, — ответила моя Слава. — Смотри!
Что уж она сделала — не знаю. Вроде как слегка повела рукой у меня перед глазами — и ночная темнота будто сделалась прозрачной и серебристой, как в канун полнолуния. Да это он и был — нет, серебряный таз уже выкатился в зенит и светил оттуда во всю свою силу…
Старый парк. Ветхий панский дом с обрушенной крышей. Следов пожара нет, но стены потемнели от плесени, крыша провалена посередке — снега тут много зимой выпадает. Как в популярной песне: позабыт, позаброшен, государственному восстановлению не подлежит. Ну, язва я такая, что поделать…
— Тут подвал имеется, — говорит за спиной невидимая Бронислава. — А в нем — потайной ход. Длиной в километр с добрым гаком. Ты как думаешь, мой дед зря сюда вернулся?
Ну конечно. Через всю страну пилил, чтобы главное разбойничье сокровище отрыть. Так я и сказал моей гидессе. Или подумал, а она угадала.
— Я же говорила тебе — не корыстен он был. Любил лишь добрых коней да отменное оружие.
— Я пан Ковальский… тьфу, Островский, а она — пани Островская, — перефразировал я Сенкевича.
— Саблю-баторовку, времен короля Стефана Батория, у него стражники еще в поместье Помарнацкого отобрали.
— Он же учителем притворялся.
— Почему — «притворялся»? С его-то образованием? Дед, чтобы тебе знать, иезуитский коллеж кончил с отличием, это тебе не пылким французом перед русской барышней выкаблучиваться. И шляхтич — он даже на черной земле шляхтич. А его корабеля….
— Душа самурая.
— Смейся. Тут у него старинная жигмунтовка в стене была замурована. От всякой мрази и сырости завернута в промасленную тряпицу. Знаешь, что такое жигмунтовка?
— Клинок имени короля Сигизмунда Третьего по прозвищу Ваза. Тот швед, что по совместительству на престоле Речи отметился, и оттого вышел описанный паном Генриком многолетний потоп. Почти как у Габриеля Маркеса, только еще хуже.
— Примем за объяснение. Михась, ты чего такой зловредный?
— Я? Да я с одного страха шуткую. Темно здесь, одни глаза чьи-то в темноте светят. Вовкодлака или иного перевертыша.
В самом деле: я уж и забыл, где нахожусь, у сибирского костерка или в белорусской усадьбе.
— Так мы эту самую жигмунтовку ищем, что ли?
— Чудак, ее там давно уже нет. Предок ее вытащил и с собой унес.
— Под воду.
— Помнишь, значит? Ход тянется под озером и упирается в древний кладбищенский костел.
Голос моей подружки становится еле слышен.
— А костел, Михась, в те времена стоял на краю болота. Помнишь, когда пан Павло из Пскова бежал? Нет? В марте. Двенадцатого числа по старому стилю. Еще подмерзало по ночам. Днем зыбь таяла, а по ночам ледяной коркой затягивалась.
Ее шершавая от черенка лопаты ручка плотно ухватила мою.
И я увидел воочию…
…Топкая равнина. Болото в кочках прошлогодней сухой травы. Полусгнившие развалины костела. Тяжкие могильные плиты, обросшие мохом, под сенью раскидистого дуба. Полная луна сверкает на плоских камнях, точно лед, посреди осоки разбивается на зеркальца.
И прямо к нам, повинуясь неслышимому свисту, как и почти двести лет назад, широкой иноходью мчатся дивные кони. Белая, в рысьих пятнах, шкура мерцает живым серебром, прозрачно-голубые гривы и хвосты развевает невидимый ветер, дикие глаза горят прозрачным, переливчатым пурпуром.
— Дрыкганты, — говорит Бронислава. — Царственные призраки его возлюбленных чубарых коней. Его загубленных врагами коней, понимаешь? Их, я так думаю, перестреляли. когда громили усадьбу: в руки чужому такие лошади живыми не даются. Дед Павел сюда за ними пришел. И они его взяли с собой.
— Куда — на тот свет, что ли?
— Да почти что в этом роде. В Якутию.
И снова робкое тепло костерка, и дремучая сибирская, резкая ночь, выстудило звезды и выморозило луну. Неужели нынче лето? Или всё та же давно прошедшая весна?
— Сюда же его бы и так, глядишь, выслали. В Сибири, а уж тем более в Якутии тех времен, похоже, сплошные поляки жили, — ответил я.
— Сибирь как парафраз великой суммы испытаний, — философски заметила Бронислава. — У нас в Якутске поляки появились вообще аж в семнадцатом веке, после войн царя Алексея Михайловича. Пленных туда ссылали, понимаешь? Только не думай, что все наши иностранные гости были страстотерпцами. И кандалы часто носили, по секретному указанию властей, бутафорские. Легко снимающиеся. И культуру поднимали, точно пахотную землю. Вот, например, Бенедикт Дыбовский, действительный член Императорского Русского Географического Общества.
— Это марка, — согласился я.
— Вацлав Серошевский, который в своей книге описал и тем самым сохранил обычаи великого этноса, торжественно перечисляла она. — Эдуард Пекарский — представляешь, он составил первый якутско-монгольско-русский словарь, в Ленинской библиотеке в открытом доступе до сих пор, наверно, стоит, целую полку собой занимает. Второй Даль: лучше него не было и не будет. Опора нынешнего якутского языка.
— Или вот Юзеф Ковалевский, который на якутской базе основал ученую монголистику, — продолжала она свой монолог.
— Александр Чекановский, Ян Черский — геологи и исследователи земель.
— И многие другие граждане бывшей Речи по всей Сибири занимались биологией, этнографией, геологией. Культуртрегеры.
На этом мудреном словце я кашлянул с неким оттенком юмора:
— Геологией — это значит, кое-кто и золотишком разживался. Или алмазами.
— Бывало, — коротко заметила Слава, не очень довольная тем, что я прервал ее рацеи. — Вот тебе и новая школа с библиотекой в Рованичах.
— Вернулся, значит.
— Так все считали, — ответила она. — Отчего нет? Дед знаешь как по родине скучал? Корни в Беларуси, но цветы и плоды — в Сибири.
— Так я и поверил, что он у вас одни цветочки выращивал — этот бунтарь по натуре. Кто окультуривает — а он факт аборигенов бунтовал. И белые русины воинственный народ, и якуты — ветвь от корня Чингизова. Сходно друг с другом коней уважают.
— Для поляка и белоруса конь — лучший друг, а у якутов вообще раньше самого человека на свет появился. Только войны разные бывают, — улыбнулась Бронислава. — Дед ведь там влюбился. Моя бабка была православная и в то же время — сильная шаманка. И доспех воинский носила.
— По какой же вере их обвенчали?
— Не знаю, только дед Павло говорил, что у него два кольца обручальных. На сердечном пальце левой руки, том, от которого прямо к сердцу жилка тянется, — брачное, на большом правой — кольцо гарды, палюх еще его звали: жигмунтовку его драгоценную крепче в бою держать. Один палец — для сабли, другой — для венца, чтобы доле моей не бывало конца. Это он о счастье своем такие стихи сложил…
— И скоро он домой вернулся? И как — снова по воздуху?
— Ну, это секрет, — рассмеялась Бронислава. — Ходят слухи, что любимая дедова жена воскресила его любимых коней. Восставила во плоти, как говорится. Помесь лошади и пардуса: белый или темный волос на черной шкуре, такие же грива и хвост, отметины по всему телу. Да еще храп розовый, как у белорожденного альбиноса. И нрав дикий — в точности как у привычных нам монголо-якуток.
— И во что ему это колдовство встало? — отчего-то спросил я.
— Корабелю свою этой земле подарил, чтобы шляхетский гонор на ней не переводился. Он ведь был сармат — и сабля его по-настоящему звалась сарматкой. Сарматской.
Я помолчал, переваривая информацию. И тут до меня дошло все то, что пыталась мне внушить эта коварная особа:
— Ты хочешь сказать — это здесь, в республике, ту самую Павлову саблю вырыли? Да какой из него, прости Боже, древний кочевник!
— Не тебе о том судить, пся кошчь, — проговорила она вроде как шутливо, чтобы меня не обидеть; только вот высокий смысл ее слов был куда как заметен. — Лишь истый сармат вправе судить о сарматстве другого.
— И вообще ты все карты перемешала и перетасовала, а сдать лишние забыла. Никто ведь не слышал, что потомки Островского якутам сродни, а их под Минском — как той травы болотной. И дрыкганты совсем иной стати, чем ваши яростные малютки. Неправда, хотя из кусков чистой истины пошита.
Тут меня осенило, на кого это похоже.
— Постой-погоди. Ты же мой давний знакомец — тот, кого я Тадзем прозвал.
— Ты прозвал, а не я назвался.
— И ты хоть и девушка, а не…
— Вот. Сразу решил, что я и есть твоя суженая-ряженая, из сладкого теста пряженая? Шиш тебе. В аспирантуру еще поступи и ее закончи, а потом уже на брачные узы покушайся, недоучка.
Бронислава мигом поднялась с места и ушла в лесную темноту, горделиво покачивая бедрами и долгим хвостом.
Но знаете что?
Почти сразу оттуда донеслось вкрадчивое цоканье лошадиных копыт. Кобыла шла уверенной иноходью прямо к здешней речной воде…
И, можно пари держать, была светлой чубарой масти.
Ведь на дворе было полнолуние, верно?
© Copyright: Тациана Мудрая, 2011