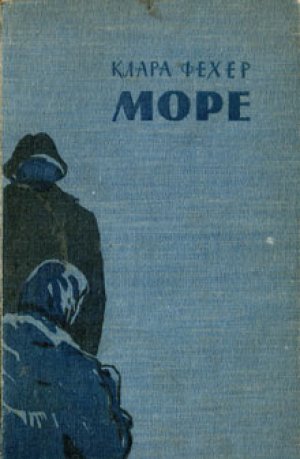
Дорогие читатели!
Я рада приветствовать вас по случаю издания моего романа «Море» на русском языке. Мы с вами не знакомы, поэтому позвольте прежде всего представиться.
Я венгерская писательница, живу в Будапеште. Мой отец в 1919 году, в период Венгерской Советской Республики, был красноармейцем, и после падения советской власти ему пришлось эмигрировать. Он нашел убежище в Чехословакии; там прошли первые десять лет моей жизни. В начале тридцатых годов я вернулась в Будапешт. Здесь я окончила среднюю школу и получила аттестат зрелости.
Мне хотелось стать врачом, но для продолжения учебы не было денег, и поэтому после средней школы я пошла работать. Вскоре началась вторая мировая война. О периоде войны, о жизни в осажденном Будапеште и о первых годах свободной Венгрии говорится в моем романе «Море».
Хотя «Море» не автобиографический роман, однако в нем нет ни одного образа, прототипом которого не служили бы живые люди, нет ни одного выдуманного эпизода — все рассказанное я либо видела, либо сама пережила. Мне тоже, как и героине романа, пришлось бежать с военного завода, скрываться в оккупированном нацистами Будапеште, с освобождением и мои мечты стали действительностью. Я смогла поступить в университет, стать писательницей. Еще будучи молодой журналисткой, я объездила всю страну вдоль и поперек, и в сотнях статей и очерков писала о возрождении моей родины, о гибели феодальной Венгрии и возникновении нового, социалистического общества.
Я занимаюсь литературным творчеством с 1946 года: пишу очерки, рассказы, романы и пьесы. В Будапеште уже поставлены четыре мои пьесы, в том числе комедии «Мы тоже не ангелы» и «Венец творения», которые поставлены в этом году. Я написала много книг для юношества и хотела бы написать еще больше. Подрастающее поколение у нас только по рассказам знает, что такое капитализм. Наш долг, долг писателей, — в своих книгах показать юношам и девушкам, каким было то прошлое, от которого мы навсегда избавились. Наш долг — в оптимистичных и ярких произведениях показать им, сколько радости и красоты ожидает их в будущем.
Для взрослых я написала пока что только два романа. Первый из них — роман «Море». Русский, мною авторизованный перевод — первый перевод моего романа на иностранный язык. Это обстоятельство не только доставляет мне как писателю большую радость, но и глубоко волнует меня. Мне выпало особое счастье писать это предисловие в Москве. Впервые в жизни я хожу по советской земле, преисполненная благоговейного изумления, разглядываю Кремль, любуюсь метрополитеном, высотными зданиями, гуляю по улице Горького и Арбату и с любовью смотрю на проходящих мимо людей…
В ресторане, где мне довелось обедать, подали хлеб двух сортов: белоснежный, легкий, как сдобная булка, и темный, кисловатый ржаной хлеб, похожий на тот самый солдатский хлеб, вкус которого я храню вот уже четырнадцать лет. Я вспомнила о том, как четырнадцать лет назад высокий пожилой солдат с пышными усами, советский воин — освободитель моей родины, разломал краюху хлеба и половину дал мне, худой, оборванной, грязной от копоти убежища девушке из Будапешта. Точно так же как героиня моего романа Агнеш Чаплар, я стояла тогда на улице и смотрела, как в город входили советские войска. Я с жадностью глотала хлеб, сладкий, мягкий и дивный, как сама свобода.
Не могу налюбоваться Москвой, не могу надышаться ее воздухом. На эскалаторах метро, в магазинах, на мостах через Москву-реку я засматриваюсь на торопливо спешащих куда-то и медленно прогуливающихся людей, засматриваюсь на вас, мои дорогие друзья и читатели, и думаю о том, что среди вас наверняка найдутся сотни и тысячи таких, которые сами или чьи братья, сыновья, отцы принимали участие в боях за Будапешт и которых мы ждали с замиранием сердца, с надеждой.
Я очень люблю жизнь и верю в нее. Верю, что весь мир стоит ныне на пороге такой эпохи, когда на земле все будут жить в мире и счастье, как равноправные и свободные люди. Я очень люблю жизнь и именно поэтому с благоговением вспоминаю героев второй мировой войны, которые во имя жизни жертвовали собой. В 1931 году я видела в Берлине, в Трептов-парке, памятник советским воинам. К нему нескончаемым потоком шли со всех концов земного шара юноши и девушки — англичане и негры, поляки и индийцы — и несли, несли цветы. Тогда я решила написать свой роман «Море» и, как цветок, преподнести его вам, мои дорогие читатели, с любовью и благодарностью.
Москва, 15 апреля 1959 года
Клара Фехер
Любовь
Не знаю, чистят ли лампы в почтовых отделениях. Или, быть может, их матовые колпаки служат именно для того, чтобы в них собирались пыль, грязь и льнущие к свету насекомые и чтобы лампочки в сорок свечей светили еще более тускло. Царящий здесь полумрак делает неубранное служебное помещение еще более неприветливым. В углу стоит покосившийся, ободранный коричневый стол, на нем высохшая чернильница, сломанная ручка без пера.
А какие здесь неприветливые, сонные люди! За окошком с надписью «Прием ценных посылок, заказных и срочных писем» сидит ворчливая старая дева. Ставя штемпель на конверте, она каждый раз вскидывает свой острый нос, напоминая курицу, пьющую воду. Движения ее рук медленны и вялы — спешить некуда, дежурство длится до полуночи. В окошке то и дело показываются все новые и новые лица. Большинство их ей ужа знакомо. Вот чиновник в синей шапке и очках, принесший двадцать — двадцать пять заказных писем, практикант из транспортной конторы «Шенкер и К°», вот долговязый угреватый молодой человек, от которого неизменно пахнет йодом и одеколоном. Она узнает толстого чиновника из фирмы «Оренштейн и Коппел», который, как всегда, не соблюдая очереди, проталкивается к окошку. Однако это ее не интересует. Пусть они хоть убьют друг друга — по крайней мере работы будет меньше.
Между тем у окошка каждый вечер и впрямь идет борьба не на жизнь, а на смерть. Как ненавидят друг друга все эти мужчины в шапках и кепках, озябшие старушки в платках и в демисезонных пальто. Но больше всего здесь презирают «барышень», завитых девушек в шляпках, тюрбанах, беретах, которые громко разговаривают и постоянно твердят друг дружке, будто вовсе не их дело ходить на почту и что пришли они сюда лишь из уважения к заболевшему чиновнику. Барышни хихикают, болтают о киноактерах, хвастаются своими успехами, но вечера простаивают в очереди и счастливы, если им удается кого-нибудь оттолкнуть и минутой раньше убежать.
«Через три года уйду на пенсию, и черт с ними со всеми», — думает остроносая старая дева, принимая письма конторы «Шенкер и К°» и ставя штемпель в реестре. Ворсинки ветхой подушечки прилипли к штемпелю, и поэтому с трудом удается разобрать дату — 16 марта 1944 года. Беда невелика! «Все равно один день похож на другой как две капли воды», — ворчливо заметила она. И, не глядя в окошко, протянула руку за следующим письмом, но тут же бросила его обратно.
— Не по правилам.
— Но позвольте, в таком виде мне его передал господин начальник… он сказал, что вы примете…
— Не пойдет. Плохо запечатано.
— Не задерживайте очередь, чего вы там! Несите скорее своему недотепе начальнику, пускай заклеит, как надо, — загудела толпа.
Стоящий позади неудачника высокий, худой мужчина с выпирающим кадыком, рассчитывая, очевидно, на благосклонность старой девы, добавил:
— Вы что думаете, у барышни много свободного времени? Не хватало бы еще курс лекций вам прочесть…
Вертя в руках возвращенное письмо, семнадцатилетний юноша в сером дерюжном костюме в отчаянии тер свои воспаленные глаза.
— Как?.. Возвращаться к господину начальнику? Да ведь он живет в Буде, а уже половина восьмого… Что ж… мне идти?
— Нет, я схожу или вацский епископ, — желчно бросил мужчина с кадыком. — Давай, приятель! — С этими словами он локтем отстранил паренька и протянул свои заказные письма. Старая дева даже не взглянула на них.
— Не по правилам.
— Как так не по правилам?
— А так. Плохо заклеены.
— Дайте пузырек, я заклею.
— Довольно шутить. Ишь, чего захотел — здесь заклеивать. А башенных часов с цепочкой не хотите?
Стоявшая позади него толстая женщина захихикала. Но мужчина с кадыком не сдавался. Лицо его побагровело.
— Я требую принять мои письма.
— Можете требовать, сколько вам заблагорассудится.
— Чего задерживаете очередь? Мы тоже хотим поскорее уйти домой.
— Поймите же, мои письма запечатаны правильно. Не виноват же я, что конверты плохо заклеиваются.
— Военные конверты! Наверно, гитлеровцы клей слизали, — выкрикнул кто-то в конце очереди.
— Кто здесь болтает? — закричал человек с кадыком. — Кто смеет?..
Наступила тишина.
— Я смею… — послышался спокойный мужской голос.
Все оглянулись.
В очереди стоял мужчина в солдатской форме. Один глаз его скрывала черная повязка. Правый рукав был пуст.
— Ну, что уставились? Или никогда не видели? Бегите за полицейским, соотечественнички. Мне уже терять нечего. Разве что отхватят и вторую руку. Правую пришлось пожертвовать за Маляра[1].
— Замолчите, — завопил мужчина с кадыком, — а то…
— Не петушись, приятель. Если уж ты так кипятишься из-за своего фюрера, так ступай на фронт. Нечего дома драть глотку. Иди-ка навстречу русским, они уже недалеко. Тут рядом, у Татарского перевала.
— Черта лысого у Татарского перевала, проклятый большевик! Ну, погоди же, я сейчас приведу полицейского. — С этими словами он схватил свои письма и выбежал из почтового отделения.
Длинная очередь молча продвинулась на шаг вперед. Позади одноглазого солдата стояли две девушки. Одна из них лет двадцати, ростом повыше соседки была в простом темно-синем костюме и бледно-голубой шелковой блузке. Ее светлые коротко подстриженные волосы были гладко причесаны и заколоты сзади двумя коричневыми гребешками. Вторая — немного моложе первой — розовощекая кареглазая пышка с черными волосами — была в плаще, из-под которого виднелась шерстяная юбка в красную клетку.
Блондинка посматривала на большие круглые стенные часы. Каждый раз, когда минутная стрелка прыгала вперед, она, словно от сильной боли, закусывала губу.
— Без четверти восемь.
— Ну, уходи. Я и твои сдам.
— Ты же знаешь, какая у нас госпожа Геренчер. Лютый зверь.
— Знаю не хуже тебя.
— Ну вот!
— А что ты о ней беспокоишься? Пусть хоть повесится. Если бы могла, она бы нас и на ночь не отпускала. «О, дорогой господин директор, девушки еще не устали. Девушки с радостью побегут на почту, девушки с радостью поедут в Гонолулу, для девушек нет большей радости, как за сто пенге в месяц служить денно и нощно Заводу сельскохозяйственных машин».
— Прошу прощения, у меня сто тридцать пенге, — ответила блондинка, и на ее огорченном лице мелькнула улыбка.
— Да. Потому что ты арийка. Это тебе надбавка за твою прабабушку. Ну, давай сюда твои письма, беги. Ты еще успеешь?
— Пожалуй, успею, — согласилась Агнеш, — если потороплюсь. Начало в восемь.
— С ним идешь?
— Ты же знаешь.
— Ну, тогда давай письма.
— Если бы этот глупый солдат не поднял скандала, мы бы уже стояли у окошка, — сказала Агнеш, не зная, на что решиться.
— Оставь. Он прав.
— Ладно, прав. Но если он в своем уме, то не стал бы болтать языком… Гизика, ты правда сдашь мои письма?
— Господи боже мой! Опять ты начала, вместо того чтобы скорей бежать. Без шести минут восемь.
— Я тебе очень благодарна. Эта кипа пойдет в Кечкемет, это в Шомошбаню, это срочное, вот два ценных, а это объявление о конкурсе. Привет, Гизика.
— Веселись спокойно! — крикнула вслед брюнетка, но Агнеш уже не слышала ее. В дверях она столкнулась с полицейским, его привел мужчина с кадыком. «Какой гадкий тип», — подумала она, устремляясь по проспекту императора Вильгельма к станции метро.
На улице царила кромешная тьма.
Агнеш боялась ходить по затемненным улицам, ее пугали передаваемые по радио сигналы тревоги. Однако она никак не могла смириться с мыслью, что на Будапешт могут сбросить бомбы. Памятный налет сорок второго года она проспала, и лишь утром разнесся слух, что в Буде разбомбили виллу и кто-то даже погиб. В ту пору ходил по городу анекдот, будто возвращается на свой аэродром русский пилот после бомбежки, а сержант устраивает ему головомойку: что, мол, за безобразие, почему прилетел на два часа позже, чем было приказано. «Извините, я не виноват, — ответил летчик, — пришлось ждать, пока в Пеште затемнятся». Повсюду рассказывали, что на горе Геллерт возле зенитного орудия не было ни души. Только когда начали бомбить, солдаты бросились искать офицеров, которые в это время попивали винцо в погребке Матяша. С той поры прошло уже два года, люди привыкли к светомаскировке, к побеленным краям тротуаров, к тому, что внезапно на неопределенное время прерываются радиопередачи и начинают реветь сирены, но всерьез так и не верили в опасность воздушных налетов.
Агнеш еще никогда не была в столь томительном, плохом настроении, как сейчас: «Можно подумать, что я иду не на свидание с любимым, а на собственные похороны, — с досадой бормотала она. — Не знаю, что со мной происходит. Того и гляди заплачу. Да и как не плакать, — ответила она сама себе. — Он не придет. Но почему? До сих пор он всякий раз приходил на свидание вовремя. До сих пор, но сегодня…»
Заметив, что последние слова она произнесла вслух, Агнеш испуганно оглянулась вокруг, но никто не обращал на нее внимания. «Мне постоянно мерещатся какие-то страхи. Почему он вдруг не придет?..»
Она спускалась по лестнице метро с такой поспешностью, словно спасалась от своих тревожных мыслей. Вагон был переполнен. Веселые мужчины и женщины держали друг друга за руки и хохотали. Там, наверху, трамваи с замазанными синей краской окнами, без фонаря впереди громыхают и скрежещут, словно какие-то неуклюжие чудовища. Зато здесь вагон залит ярким светом, элегантно одетые женщины, во все углы проникает запах духов «Chat noir» и «4711». Какая-то компания громко болтала по-французски с явным будапештским акцентом. Очередной анекдот о Гитлере. Имя Гитлера, разумеется, не произносилось, ограничивались прозвищем Маляр, а в конце анекдота раздались аплодисменты и крики: «Très bien, excellent!»[2] Возле Оперы половина пассажиров вышла, можно было сесть, но Агнеш даже не заметила этого. Она стояла возле кондуктора и через стеклянную дверь вагона пристально смотрела на желто-серую стену туннеля.
Неделю назад они тоже были на концерте в консерватории, слушали Пастораль, а потом, прижавшись друг к другу, шли пешком до самого ее дома. Стояла теплая весенняя ночь. Тибор всю дорогу читал стихи Арпада Гота, Бабича, Дюлы Юхаса… «Кудрей ее золотистых не помню, но вот золотятся поля… Мне голос Анны слышится из той весны, что ныне так далеко… Я окутан страшной тьмой мучений, не на день — на годы и столетья… Когда всемогущие боги небесные даруют мне речь…» Путаются сейчас в ее памяти строки, как путались они и в тот раз. Она слышала тогда его голос и чувствовала, что сердце ее тоже бьется в такт стихам. Настроение у Тибора было веселое. Прерывая на время чтение стихов, он рассказывал разные студенческие истории, делился своими впечатлениями об Италии. Потом ни с того ни с сего вдруг предлагал звонить в запертые дома на улице Уллеи. Она немного трусила, но все же смеялась и вместе с Гибором, разгоряченная, убегала от растревоженных домов, а затем из-за ближайшего угла со смехом посматривала, как появляется в ночных туфлях привратник, как он, щуря глаза, оглядывается кругом и, ругаясь на чем свет стоит, снова захлопывает двери. «Нельзя так, — запротестовала она. — Зачем будить бедных стариков?» — «Почему нельзя?» — «Ведь это же бесчеловечно». «А разве не бесчеловечна нынешняя война, когда нам всего по двадцать лет… Будем мстить обществу там, где только можно», — ответил Тибор и снова нажал кнопку звонка.
Возле кирпичного, неприветливого здания больницы они пересекли площадь Надьварад. Окна были затемнены — казалось, что за ними все вымерло. «Как-то раз вы приглашали меня к себе на ужин, — без всякого перехода обратился к ней Тибор. — Когда прикажете прийти?» «Когда пожелаете», — ответила она, почти задыхаясь от неожиданной радости. «В воскресенье под вечер, можно?» «Очень хорошо». И они молча пошли дальше. Тибор заговорил снова, только когда Агнеш собралась позвонить, чтобы ей открыли дверь. «Погодите немного», — и он внезапно поцеловал ее в губы. Все это произошло в мгновение ока, от растерянности она не могла ни защититься, ни ответить взаимностью. Совсем смутившись, она поспешно нажала кнопку звонка. Тибор поцеловал ей руку. И, пока неторопливая, хромая привратница открывала дверь, он уже быстро шагал обратно в сторону Надьварадской площади.
В воскресенье под вечер он действительно пришел. Его фигура показалась в воротах ровно в пять часов.
Соседки еще в третьем часу дня собрались на веранде и стали терпеливо ожидать, когда к молодой Чаплар придет ухажор. Неужто он такой богатый, как хвастает Чапларне? Но раз он такой барин, то почему бы ему не подобрать себе лучшей пары, чем эта дочь слесаря? «Он, видать, с каким-нибудь изъянцем, — многозначительно заметила тетушка Буркуш. — Наверно, стар». «Или хромой», — вставила Марьяине, усыпанная родинками старуха, которая с утра до вечера торчала на веранде в своем грязном цветастом халате.
Но, когда Тибор Кеменеш прошел по коридору первого этажа и позвонил к Чапларам, у кумушек перехватило дыхание. Они увидели стройного, крепкого синеглазого мужчину с каштановыми волосами, лет двадцати пяти — двадцати шести. На нем был серый костюм, голубая рубашка из шелкового поплина, темно-синий шелковый галстук. Коричневые полуботинки были начищены так, что казались совсем новыми. Руки белоснежные, холеные, может быть, даже с маникюром.
— Он похож на киноактера, — с восхищением промолвила старшая дочь Буркушей.
— А ты похожа на замызганную ведьму, — прикрикнула на нее мать. — Не можешь ради такого случая надеть розовое платье.
— И не знаю, право, чем его прельстила дочь Чапларов, — проворчала Бедене, у которой тоже были на выданье две косоглазые дочери. — Ни спереди, ни сзади…
— Он пока еще не женится, — прокаркала Марьяине. — И не известно, станет ли вообще на ней жениться.
Тибор скрылся в квартире Чапларов. Агнеш встретила его в передней, если, конечно, можно назвать передней то тесное, крохотное помещение, где каждая стена не больше двери. Здесь даже вешалки не было, а лишь вбитые в стенку четыре костыля. На двух висела мужская одежда, а два других Агнеш освободила для Тибора. «Сюда», — указала она на коричневую дверь, и, когда вошла вместе с ним в комнату, ей показалось, что она увидела все здесь впервые. В двух смежных комнатах — в той, что побольше, и в той, что с альковом, — жили ее родители и братья, а эта маленькая, с окнами на улицу, принадлежала ей одной. Она всегда гордилась, что имеет собственную комнатку с коричневым полированным шкафом, диваном, подставкой для цветов и этажеркой. Ее раздражала только стоявшая в углу мамина старомодная зингеровская швейная машина под деревянным колпаком. Сколько раз она просила мать убрать ее отсюда или хотя бы не покрывать этой ужасной вязаной салфеткой.
Братьев ее, Карчи и Ферко, дома не было, вместе со старым Чапларом они поехали на футбольный матч. Мать в алькове поправляла накидку на постели. Заметив вошедшего мужчину, она пошла ему навстречу с такой поспешностью, что, казалось, вот-вот обнимет и прижмет к груди.
— Будьте как дома. Мне Агнешка много о вас рассказывала. Мы, конечно, живем по-простому. Но могли бы жить и получше. Мой отец, знаете, имел сорок хольдов земли да, кроме того, ездил на ярмарки и перепродавал лошадей, но, знаете, мой младший брат был отчаянным картежником… Впрочем, к чему это я рассказываю, вы ведь пришли не ко мне, а к моей дочери. Да садитесь же, не стесняйтесь…
Поклонившись, Гибор чуть было не приложился губами к руке тетушки Чаплар, но тут же опомнился и поспешно выпрямился. Агнеш заметила это и покраснела, как маков цвет. Но тетушку Чаплар поведение гостя не смутило. Она выбежала на кухню и, раскрыв наружную дверь, принялась взбивать сливки, сопровождая это занятие таким громким рассказом, что, к ужасу Агнеш, обрывки фраз долетали и в комнату: «А как он ее любит… видели, какой чудный букет он принес?.. Но Агнешка пока раздумывает, она у меня еще совсем ребенок…»
С четверга, с того вечера Агнеш миллион раз представляла себе эту встречу. Наяву и во сне она снова и снова мысленно переживала все по порядку. Вот Тибор звонит, входит в переднюю. Она говорит ему: «Добро пожаловать!» Вводит к себе в комнату, и они остаются наедине… Тибор смотрит на нее. А вот вышло совсем иначе: он сидит с ней рядом, в одной комнате, но смотрит не на нее, а на стену. Над печкой видна черная от дыма полоска, хотя в прошлом году ремонтировали квартиру… Да где там в прошлом году — скоро будет три года. Вот он переводит взгляд на картину. Она написана маслом и изображает уголок в лесу. На лесной полянке цыгане варят обед. Эта картина висит над диваном с тех пор, как Агнеш помнит себя. Рисовал ее какой-то Чапо или Цако; однажды друг художника навязал эту картину отцу Агнеш… Но, лишь мельком взглянув на картину, Тибор поднимается и подходит к этажерке, он ворошит книги. Лин Ю Танг, «Мудрая улыбка». «Ага!» — произносит он, зевая, и ставит книгу на место. Затем ему в руки попадает томик Гейне. Он открывает его на том месте, где напечатано «Слава морю», и принимается вслух декламировать: «Таласса! Таласса! Славлю тебя, о вечное море! Десять тысяч раз тебя славлю ликующим сердцем, как некогда славили десять тысяч бесстрашных эллинских сердец…» «Красиво», — вяло говорит он, водворяя томик на место. На верхней полке лежит кружевная накидка. «Это я связала в прошлом году», — говорит Агнеш. «Вы все умеете?» — улыбаясь, спрашивает Тибор. Она стоит перед ним, как ученица перед экзаменатором, дрожа и волнуясь, готовая одним дыханием перечислить все, что она знает и умеет: печь, стряпать, вести бухгалтерский учет, штопать, плавать, петь, целовать, нежно прижиматься к нему…
Тибор испытывает неловкость и быстро тянется за следующей книгой.
Но тут появляется мама, неся кофе со сливками, калач и грушевое варенье в стеклянной вазочке. Тибор даже за стол садится с книгой, будто она служит ему защитой. Мама остается в комнате, они торопливо, молча едят. «Агнеш пекла, попробуйте, не стесняйтесь», — угощает она гостя калачом с изюмом, Тибор благодарит и больше ни к чему не притрагивается. Ровно в шесть он встает и прощается. Агнеш еще долго смотрит ему вслед из окна, выходящего на улицу. Видит, как он хватает на углу улицы свободное такси. Спешит. Куда же он спешит? Вообще, что она знает о нем? Зачем было и начинать? Но что начинать? Разве между ними что-нибудь было? Концерты по вечерам в четверг… и ничего, право же, ничего больше. В комнату шумно входит мама. Агнеш и сама могла бы убрать посуду, но сейчас ей не до этого. Мать ставит на поднос пустые чашки и довольным тоном произносит: «Это да. Такой парень тебе как раз под стать. Куда годятся косолапые дружки Кари. Сразу видать, что он благородный. Пальто ему не меньше чем в пятьсот пенге обошлось. Настоящий молодой барин. Ты тоже девица с аттестатом зрелости. Такого бы мне зятя!» «Он никогда на мне не женится!» — вскрикивает Агнеш и заливается горючими слезами. «Глупая ты, глупая. Ты слушай меня. Он будет ползать за тобой на четвереньках и женится, когда ты только захочешь. Я в этом деле лучше разбираюсь», — говорит мать, направляясь с подносом к двери. «Он даже не упомянул о будущем четверге, только и сказал, что до свидания…»
— Площадь Муссолини, — выкрикивает кондуктор. Агнеш вздрогнула, словно очнувшись от сна. Взглянула на свои часы. Без одной минуты восемь. Она бросилась вверх по лестнице и, не сбавляя шагу, побежала по Бульварному кольцу в сторону улицы Кирай. «Глупости… он и без того каждый четверг приходит. зачем еще говорить?»
В гардеробе консерватории слонялось лишь несколько человек. Агнеш быстро поправила волосы и оглянулась. Она ничуть не удивилась, что Тибора нигде не видно. Конечно, ведь уже три минуты девятого. Может быть, Тибор подумал, что она не придет, и прошел в зал?
Она подошла к двери, заглянула в зал, желая отыскать глазами их обычные места. Контролерша узнала ее, кивнула головой, спросила абонемент. «Я еще немного подожду». «Оркестр уже идет, через две-три минуты начало». «Хотя бы до тех пор», — попросила Агнеш и вернулась в гардероб. Как только открывалась дверь вестибюля, Агнеш вздрагивала и краснела. Как он мог так поступить! Хоть бы позвонил. Ну а если что-нибудь помешало, а если он только опаздывает, ведь она сама опоздала. Агнеш опять вернулась ко входу в зал. Оркестранты уже сидели на местах, настраивали инструменты. Сколько раз смеялись они с Тибором над неким магараджей, который, впервые посетив европейскую оперу, сказал после спектакля, что ему больше всего понравился тот момент, когда в самом начале музыканты играли без дирижера. Теперь даже и это ей больше не казалось смешным. «Ну и пусть, пойду одна», — решила Агнеш и заторопилась на свое место.
Вот появился дирижер. Сейчас закроют двери, и если он даже придет, то на худой конец будет ждать до антракта. Но нет… Затаив дыхание, она прислушалась. Кто-то быстро приближался к ней. «Назло не буду оглядываться, пусть знает», — и она почувствовала, как кровь прилила к лицу.
— Вы барышня Агнеш Чаплар? — услышала она незнакомый шепот.
Агнеш вскинула голову. Возле нее стоял высокий черноволосый молодой человек. Он так высок, что ему приходится сгибаться чуть ли не пополам, чтобы приблизиться к уху Агнеш.
— Мой коллега Тибор просил извинить его: он не мог прийти. Он позвонит вам по телефону. Свой билет он дал мне. Я — Тамаш Перц.
И он тут же уселся на место Тибора.
Дирижер устремился к оркестру. Его палочка взвилась вверх, и в зале зазвучала игривая, веселая мелодия Моцарта. «Только бы не разреветься», — думает Агнеш и тихонько открывает свою сумочку. Вместо носового платка в руке зашуршали листы бумаги. Боже праведный! Ведь она забыла вложить в конверт объявление о конкурсе! Гизи, наверное, уже сдала письмо. Наверняка сдала! Что же теперь будет, господи? Если только узнает госпожа Геренчер! Как же ей не узнать? Поступит рекламация… На всем белом свете нет несчастнее существа…
И, к немалому негодованию слушателей, под тихие звуки менуэта Агнеш громко шмыгает носом и вытирает на щеках крупные слезы.
К чему приводит кружка пива
Акционерное общество «Завод сельскохозяйственных машин» — серьезная и надежная фирма, с огромными заводскими зданиями, литейной, монтажным цехом, собственной узкоколейной дорогой и сырьевыми складами, с центральной конторой и текущим счетом в банке, с дирекцией и зарегистрированными на бирже акциями… Поэтому сразу как-то трудно поверить, что своим возникновением оно обязано кружке пива.
А между тем дело было именно так.
Семнадцать лет назад, то есть в тысяча девятьсот двадцать седьмом году, два молодых инженера брели по асфальту Бульварного кольца. Стояла нестерпимая августовская жара. Оба молодых человека шли медленно, разомлев от пропитанного испарениями, неподвижного воздуха.
— Слушай, Геза, давай выпьем по кружке пива.
— У меня нет ни гроша.
— Я заплачу.
— Я не хочу, чтобы за меня кто-то платил.
— Глупый ты. Ведь сколько лет подряд ты вдалбливал мне в голову устройство машин.
— За это ты уже заплатил.
— Ты любишь только чистые сделки?
— Исключительно.
— Тогда тебе придется подохнуть с голоду.
— Не думаю, — ответил Геза Ремер.
Хофхаузер пожал плечами:
— Тебе лучше знать, старина. А если я одолжу тебе филлеров двадцать?
— На каких процентах?
Хофхаузер засмеялся.
— Ты неподражаем. Десять процентов в месяц.
— То есть сто двадцать процентов в год. Вот это неплохой ростовщик! Ну, да ладно, ты мне нравишься. Если когда-нибудь у меня будет свой завод, я возьму тебя в компаньоны. Давай свои двадцать филлеров, и присядем. Я беру их в долг на год.
— На сколько угодно.
На углу площади Октогон они зашли в открытое кафе и сели за столик. Ремер царапал ногтем яркую клетчатую скатерть.
— Послушай, Андриш, я открою тебе свой стратегический план, пускай это будет гарантией в отношении твоего кредита. В этом году я женюсь.
— Вот так новость! Неужто так приспичило? Поверь мне, семейная жизнь не так сладка, как кажется.
— Сейчас за меня хорошо заплатят, — ответил Ремер и нервно засмеялся. — Если поголодаю еще пять лет, за меня никто не даст и ломаного гроша.
— На ком же ты собираешься жениться?
— А черт его знает. На ком угодно, только бы с деньгами.
Андриш Хофхаузер был поражен. Он с недоумением посмотрел на своего коллегу, на самого талантливого, самого красивого, самого интеллигентного инженера-механика из всего их курса. Ремер был стройный кареглазый мужчина, с жесткими волосами, высоким выпуклым лбом, с энергичными быстрыми движениями.
— Ты только послушай, Андриш. Прошло два года, как я стал инженером. Работы, по сути дела, никакой. Расчищать снег не хочу, вешаться тоже не намерен. Отец мой умер, мать торгует молоком на рынке. Она не только не в состоянии помогать мне, но еще от меня требует денег. Это одна сторона. Если же я женюсь на богатой невесте, то построю завод. Но это тоже не главное, есть у меня патент на одну отливку, над которой я работал всего полгода, пока служил у Хоффера… Как только обзаведусь собственным заводом, я испытаю свое изобретение. Буду отливать листы четырехмиллиметровой толщины… Словом, необходимо сто тысяч пенге. Напрасно ты смеешься.
Однако Хофхаузен не смеялся. Он в раздумье пил пиво мелкими глотками, как бы цедя его сквозь зубы, — теплое пиво казалось вкуснее.
— Послушай, что я тебе скажу, Ремер. Ты серьезно задумал жениться?
— Я не привык шутить.
— Нет, но я… я так поражен… словом, если ты задумал серьезно, у меня есть для тебя подходящая невеста.
— А деньги есть у нее?
— Ого!
— Откуда ты ее знаешь?
— Она моя сестра.
Ремер оторопел.
— А она пойдет за меня?
— Пожалуй… возможно… Приходи сегодня часа в четыре к моему папаше. Я поговорю со стариком. Он непременно тебя примет.
Они заплатили за пиво и расстались на площади Октогон. Входя в метро, Хофхаузер помахал Ремеру рукой. Ремер оперся спиной о фонарный столб и захохотал. Слыхано ли? Тут же предложить свою родную сестру. Уж, наверное, красавица! Какая-нибудь горбунья и лет на десять старше… Но, будь она хоть последним уродом… не имеет значения… Он обзаведется собственной машиной, будет содержать любовницу, иметь квартиру в Фашоре, виллу, наверху — рабочий кабинет, уставленный мебелью из махагони[3] работы самого лучшего краснодеревщика. Он станет главным инженером, директором… Ей-богу, женится, женится, если отдадут за него…
В четыре часа пополудни Андриш Хофхаузер старший пригласил к себе инженера Гезу Ремера. Он принял его в своем кабинете, угостил коньяком, черным кофе, предоставив молодому человеку возможность украдкой осмотреться, прикинуть стоимость массивного письменного стола, огромного, на весь пол, персидского ковра, ваз баккара, картин и книжных полок. О деле заговорил лишь тогда, когда заметил, что взгляд молодого человека прикован к несгораемому шкафу.
— Стало быть, вы собираетесь основать завод?
«Точь-в-точь таким же будет и Андриш в старости, — подумал Ремер. — Полысеет, станет чопорным. Только у Андриша нет бородавки на носу… Может быть, она еще вырастет?»
Он посмотрел своему будущему тестю прямо в глаза.
— Да, собираюсь.
— Ну что ж… — в раздумье проговорил старик, глядя на кофейную чашечку.
Отправляясь сюда, Ремер всю дорогу думал, что неплохо было бы солгать, будто он видел девушку и влюбился в нее. Подобрал даже подходящие к случаю выражения. «Андриш меня хорошо знает, вы можете спокойно выдать за меня свою дочь. Я здоров, трудолюбив, два года, как стал инженером, и могу содержать жену». Глупости. Подобные разговоры здесь неуместны.
— Ну что ж, — повторил еще раз старик. — Расскажите, как вы представляете себе завод.
К вечеру перед глазами Ремера комната пошла кругом. Старик насел на него, заставляя делать расчеты, выкладки, составлять чертежи. «Он может принудить меня выдать весь проект, а потом выгонит вон», — подумал Ремер и продолжал потеть. «Потеть», разумеется, надо понимать в переносном смысле; комната охлаждалась двумя огромными вентиляторами; Хофхаузер велел принести холодного лимонаду и мороженого, а к вечеру они пили вермут со льдом. «Очевидно, девица ко всему прочему еще и глухая, но, если выдадут за меня, женюсь».
В десять часов вечера стол был накрыт к ужину. Полный план акционерного общества был готов. Хофхаузер убрал бумаги в сейф.
— Пойдем, сынок, в гостиную. Я познакомлю тебя со своей семьей.
Геза Ремер чувствовал, как у него немели руки и ноги, к горлу подкатывал какой-то комок, от которого он чуть не задыхался.
Они прошли через длинную библиотеку. Ремер лишь мельком увидел все ее богатство. Его взору представился огромный ряд справочников и энциклопедий, бронзовая фигура греческого воина со щитом и в шлеме. В углу, возле высоких книжных шкафов со стеклянными дверцами, стояли два уютных мягких кресла, между ними — торшер и небольшой кованый столик со стеклянным верхом; на столике красовалась новинка: детекторный радиоприемник.
— Профессор Аладар Ремер твой родственник?
— Да, мой дядя. Но мы не очень близки… они были против женитьбы моего отца…
— Словом, тогда ты… какой же ты веры?
— Я готов перейти в католическую веру.
— Так, — произнес Хофхаузер и прекратил свои расспросы.
Они прошли еще с полдюжины комнат. Ремера совершенно сбила с толку анфилада покрытых белым лаком, застекленных дверей, его поражало множество ковров, драпировок, тяжелых бронзовых люстр, китайских фарфоровых ваз.
— Пожалуйста, сюда, сынок.
В гостиной с оттоманки табачного цвета поднялась женщина лет сорока пяти — пятидесяти и поспешила им навстречу.
— Позволь, дорогая, представить тебе господина инженера Гезу Ремера, друга нашего Андриша.
— Очень рада, — ответила женщина и, когда она протянула руку для поцелуя, Геза ощутил запах лавандовых духов и мыла коти, запах изнеженной кремами бархатистой кожи, запах довольства и роскоши. Темно-синее шелковое платье на женщине тоже пахло лавандой. И Ремер впервые подумал о том, что от его матери всегда несет кислым молоком.
— Прошу вас, — указала хозяйка на глубокое мягкое кресло. Сама она села против Ремера на оттоманке. На стене висела большая написанная маслом картина размером, пожалуй, два метра на три, натюрморт с цветами. Вот когда было б неплохо, если б он разбирался в искусстве и сказал: как прекрасен этот Риппл-Ронаи, — но Геза только проглотил слюну, промолчал, подумав, что у этой привлекательной полной шатенки дочь не может быть безобразной. И ей самое большее лет двадцать восемь — тридцать…
— Сына моего, Андриша, ты уже знаешь… а вот и дочь, Лилика…
Ремер повернул голову и вскочил. Возле него стояли Хофхаузеры — отец и двое его отпрысков: Андриш — он покраснел до корней волос и опустил глаза, — а рядом с ним девушка. Боже праведный… да разве это девушка?! Гном какой-то. Урод. Голова то и дело нервно подергивается, одна половина лица как будто парализована, в отличие от другой она кажется совершенно неподвижной. А ноги?.. Ремер уставился на ее ортопедические ботинки, как заяц на фары автомобиля, который несет ему гибель.
Все это длилось какое-то мгновение. Ремер перевел взгляд с ботинок на богатый, огромный персидский ковер, затем низко поклонился и сказал: «Дипломированный инженер-механик Геза Ремер. Имею честь просить вашей руки».
Так это было или нет, никто не знает.
Но эта история, подобно легенде, передается в конторе акционерного общества «Завод сельскохозяйственных машин» от машинистки к машинистке. Агнеш Чаплар узнала ее от госпожи Геренчер в тот же день, когда впервые пришла на производство. Доверие госпожи Геренчер означало, что она с первого же момента удостоила Агнеш величайшей благосклонности.
Госпожа Геренчер[4] давным-давно превратилась на предприятии в старую-престарую вещь. Она уже утратила значение человека и являлась только его символом, изваянием в роли преданного слуги и жестокого тирана. Тощая, костлявая женщина с гладко зачесанными и собранными в узел черными волосами, в больших роговых очках, приходила на работу каждый день в одной и той же зеленовато-бурой шотландской юбке и свежевыстиранной и выглаженной кремовой блузке. Казалось, что эта женщина без возраста: ей в равной мере можно было дать и двадцать пять и шестьдесят лет. Никто поэтому не стал бы удивляться, узнав по пропуску, что госпоже Геренчер всего тридцать четыре года. Когда госпожа Геренчер семнадцати лет от роду пришла в контору акционерного общества, ее звали Мальвиной Рожаш. В ту пору ее черные волосы свисали длинными косами, а шотландская юбка была совершенно новой. Она была первой служащей на предприятии и благодаря этому сразу же оказалась на таком посту, который обеспечивал ей доверие начальства. Молодой директор Геза Ремер советовался с ней, какую мебель следует купить для конторы; он же дал ей и имя Маргит, которое казалось ему более благозвучным, чем Мальвина. Маргит застенографировала устав акционерного общества и протоколы общего собрания учредителей. Она напечатала заявление в управление фирм, в котором дирекция предприятия просила занести в списки вновь созданное акционерное общество «Завод сельскохозяйственных машин». Маргит нарисовала и заказала печати предприятия на проспекте императора Вильгельма у гравера Хуго Гедульдигера. Она сделала заключение о двух пишущих машинках системы «Рояль». Продавец, выбрав подходящий момент, отозвал ее в сторону и шепнул на ухо, что уступит ей тридцать пенге комиссионных, если контора купит в придачу еще и допотопный «Ундервуд». Но чистая душа Маргит была возмущена. Чтобы она, Маргит, обманула когда-нибудь господина директора Гезу Ремера, гениального, красивого, хорошего, милого человека, которого она всю жизнь будет обожать с такой нежностью, как в романах Сомахази…
Центральная контора состояла всего лишь из пяти комнат. Угловая с балконом и четырехстворчатым окном служила резиденцией Гезы Ремера. В ней громоздился массивый кожаный гарнитур, двухметровый, покрытый стеклом письменный стол с мраморным чернильным прибором и кожаной папкой. Чернильница представляла собой открытую пасть разъяренного льва, а на рукоятке разрезного ножа кувыркались львята. Других украшений в комнате не было, но в этой простоте сильно сказывалось хозяйское тщеславие. Кремовые, спускавшиеся до самого пола кружевные гардины, мягкие ковры, панель красного дерева во всю стену…
Святилищу Ремера предшествовала комната госпожи Геренчер — маленькая, в два метра шириной и три — длиной; здесь были: американский письменный стол, лучшая пишущая машинка системы «Рояль» и высокий, до самого потолка, шкаф со шторой. На письменном столе хранились печати фирмы, которые госпожа Геренчер каждый вечер ставила на бумагах, перед тем как дать их на подпись директору, и овальный штемпель, на котором госпожа Геренчер регулярно меняла дни и месяцы, а в первое утро каждого нового года, соответственно расчувствовавшись, — и цифру, обозначающую год. Тысяча девятьсот двадцать восьмой… тысяча девятьсот тридцать шестой… тысяча девятьсот сорок четвертый… Всякий раз в новогоднее утро по заведенной традиции чиновники в обязательном порядке являлись в контору ровно в восемь часов, чтобы пожелать господам директорам Гезе Ремеру и Андришу Хофхаузеру младшему счастья и здоровья. Не успев еще протрезвиться после выпитой абрикосовой палинки, чиновники были хмуры; прежде чем выстроиться в средней комнате, они заходили в туалет побриться. Главный бухгалтер Дюси Вайс, носивший круглый год пропахшие табаком серые брюки и такого же цвета вязаную кофту, из-под которой неизменно выглядывали коричневые подтяжки, надевал по этому случаю элегантный синий костюм, с трудом приводил в порядок свои непокорные черные волосы и большие усы и, низко кланяясь, представлял господам директорам годовой баланс, каллиграфически написанный синими и красными чернилами. Представление баланса носило лишь символический характер: бухгалтерия из года в год задыхалась в спешке и, как правило, опаздывала на три-четыре месяца, но тем не менее не находилось ревизора, который мог бы вскрыть истинное положение дел, а оба директора с полной серьезностью принимали исписанные листы бумаги. Они благодарили чиновников за прилежание в работе, обращали внимание на то, что в новом году им надлежит верой и правдой служить отечеству и фирме, проводить свободное время в молитвах, читать нравственные книги и остерегаться профсоюзов. После этого раздавались премии. Речь длилась долго, а выдача кончалась быстро, хотя Ремер, дабы создать впечатление, что на это выделена солидная сумма, отсчитывал двух- и пятипенговые монеты очень медленно и торжественно. Церемония кончалась тем, что директора раскупоривали бутылку вина и чокались с чиновниками, причем в первую очередь с присутствующими здесь главными инженерами завода и каменоломни, господами Чути и Хайдоком. Госпожа Геренчер мыла рюмки; оставшись одна, она, закрыв глаза, подносила к губам рюмку, из которой пил Ремер.
Агнеш Чаплар уже не довелось лично знать Ремера, Хофхаузера, Дюси Вайса. Когда в тысяча девятьсот сорок втором году она попала на предприятие, из прежних людей там осталась только госпожа Геренчер. Геза Ремер и Андриш Хофхаузер еще в тысяча девятьсот тридцать девятом году вместе с семьями эмигрировали в Лондон «на то короткое время, пока англичане разделаются с Гитлером». В кабинете директора Гезы Ремера трудился его превосходительство Арманд Карлсдорфер, невероятно высокий, седовласый инженер. В прошлом высший чиновник, по профессии железнодорожный инженер, он числился на пенсии. В молодости ему пришлось объездить всю империю[5] — он строил виадуки в Карстах, двадцать лет жил в Фиуме, но и по-хорватски, и по-немецки, и по-итальянски знал лишь столько, сколько необходимо было, чтобы заказать в ресторане кружку пива или порцию фаршированной рыбы.
Некогда Карлсдорфер вместе с Хофхаузером старшим служил в армии. Переехав в Будапешт, он зачастил к бывшему товарищу по военной службе. Карлсдорфер оказывал кое-какие услуги Заводу сельскохозяйственных машин, обеспечивая для него государственные заказы. Правда, за это он получал некоторую мзду, но что поделаешь, ведь у Карлсдорфера была дочь на выданье, да к тому же гроб Иисуса Христа — и тот не стерегли даром. Когда же старик ушел на пенсию, он охотно ухватился за предложение молодого Ремера, который пригласил его в члены дирекции предприятия, где якобы необходимы его знания и опыт.
Его превосходительство приходил в контору всегда в половине десятого утра. Он отпирал средний ящик письменного стола и извлекал оттуда толстую книгу, обернутую в вощеную бумагу. На книге красивым каллиграфическим почерком было написано: «Список должников по текущим счетам». Затем из правого ящика он доставал бутылку лиловых чернил для авторучек «Паркер», наполнял свой огромный «Монблан» и приступал к работе, то есть на следующем чистом листе книги «должников по текущим счетам» записывал очередной анекдот о Гитлере, Семнадцатого марта сорок четвертого года он заносил в книгу двести четвертый анекдот. «Умирает нацистский министр пропаганды Геббельс и попадает в рай. Расхаживает там взад-вперед по барашковым облакам и неимоверно скучает. Добрался он до одной звезды. Глянул вниз. И что же он видит, прости господи? Ярко освещенный, роскошный зал, накрытые столы, на столах самые дорогие блюда и вина. Вокруг прелестные обнаженные женщины, играет музыка… Ух, черт возьми, как же туда попасть? Подзывает он к себе архангела и спрашивает: что, мол, это такое? «Ваше высокопревосходительство, это ад», — отвечает архангел. «Как туда попасть?» «Очень просто», — говорит архангел, и как пнет Геббельса ногой в мягкое место, тот и полетел кувырком вниз. Летит он, летит, вдруг — шлеп в котел, полный смолы! Вокруг пляшут семьсот семьдесят семь чертей, переворачивают его железными вилами и раздувают огонь. «Эй, черти! — кричит Геббельс. — Что же это такое, где я?» «А там, где тебе и положено быть, в аду», — отвечает ему самый главный, Вельзевул. «Свинство! Ведь когда я сверху глядел в ад, он был прекрасен — дорогие блюда, красивые женщины, я в тот ад хочу!» В ответ черти захохотали: «То был не ад, а отдел нашей пропаганды…»
Карлсдорфер, тщательно промокнув лист, где только что записал анекдот, прячет книгу в средний ящик стола, ставит чернила на полку справа рядом с двадцатью другими пузырьками паркеровских чернил. Ему удалось приобрести такую коллекцию американских чернил, что при любых условиях хватит до конца войны, пусть даже вторая мировая война протянется дольше, чем тридцатилетняя религиозная война некогда примирившихся в Вестфалии противников. Заперев правый ящик, старик выдвигает левый. Вынув оттуда аккуратно свернутую в трубку бумагу, осторожно разворачивает ее на столе и разглаживает ладонью. Это карта Европы. Затем он достает из того же ящика фанерную шкатулку из-под сигар. Шкатулка полным-полна красных и черных флажков. Булавочные «древки» флажков он со знанием дела втыкает в карту, причем с учетом сообщений «Нейе Цюрхер Цейтунг», «Мадяр Немзет» и на основе своих собственных умозаключений. «Так, — произносит он. — Стало быть, по сведениям немецкого шурина бои ведутся в районе Орла. Ну что ж, если наш дружок Гитлер говорит Орел, то надо понимать — Варшава». В результате такого своеобразного толкования военных сводок флажки Карлсдорфера не раз реяли над Бранденбургскими воротами, тогда как на самом деле бои шли еще у Дона или Днестра, а открытие второго фронта все оттягивалось и оттягивалось, хотя Карлсдорфер уже давно отдал союзническим войскам и Париж и Аахен.
В половине двенадцатого его превосходительство прятал карту в стол и открывал свой портфель. Из него он доставал сначала большую белую камчатую салфетку, в уголке которой виднелась вышитая белым шелком гербовая корона и монограмма супруги Арманда Иене Августа Карлсдорфера урожденной графини Илоны Марии Фештетич. Затем на графскую салфетку выкладывал сверток в целофане и извлекал из него сто граммов копченого сала, кусок белого хлеба и головку репчатого лука. Разрезал на мелкие ломтики сало и лук и, быстро работая челюстями, истреблял все подряд. Поев, старик открывал окно, вытирал надушенным носовым платком усы, тщательно проверял, закрыт ли на замок письменный стол, брал шляпу и отправлялся пить пиво на площадь Эржебет. В половине второго Карлсдорфер возвращался в контору, поднимал трубку внутреннего телефона и запрашивал почту. Госпожа Геренчер приносила письма. Низко кланяясь, она раскрывала на столе перед его превосходительством толстую книгу в черном переплете и принималась осторожно перелистывать, стараясь, чтобы не слетели письма с тех страниц, которые заложены промокательной бумагой.
— И это все я должен подписать?
— Так точно, ваше превосходительство, можете быть совершенно спокойны. Господин директор уже видел эти письма.
— Ну ладно, я не возражаю, дорогая, но, если меня посадят в тюрьму, вы будете носить мне обед, хе-хе-хе…
На этом разговор и обрывался. «Монблан» выводил лиловые закорючки в соответствующих графах совершенно непонятных для его превосходительства заводских планов, конкурсных объявлений, требований на валюту. Он рисовал настоящие тугры турецкого султана, как будто надеясь, что в случае беды сможет сказать: позвольте, это подписывал не я, а султан Мохамед II. Маргит замечала на лбу его превосходительства бусинки пота, тревожно бегающие глаза, но не произносила ни слова. Так, наверное, смотрят графские слуги на неловкого гостя, который не знает, как едят раков…
— Это все?
— Спасибо, ваше превосходительство, все.
— У господина доктора кто-нибудь есть?
— Да, он ведет переговоры насчет экспорта в Италию. Хотите зайти к нему?
— Ни за что на свете не стану мешать. Завтра зайду. Вернее, завтра я, очевидно, поеду в Шомошбаню. Тогда, значит, послезавтра.
— Стало быть, вы завтра уедете?
— Да, вполне возможно.
— До свидания, ваше превосходительство, — говорит Маргит, думая при этом, что первого числа его превосходительство получит две тысячи пенге, а ей положено всего лишь четыреста пятьдесят. Правда, если только обнаружится какое-нибудь безобразие, то его превосходительству господину генеральному директору Карлсдорферу придется отсидеть в тюрьме лет десять.
Господин доктор Аладар Ремер, дядя Гезы Ремера, профессор-пенсионер, ученый-юрист, администратор и юрисконсульт акционерного общества, был маленьким, тщедушного вида человечком с лысой, похожей на футбольный мяч головой, на самой макушке которой торчал один-единственный волосок. Кому приходилось стоять против доктора, у того появлялось непреодолимое желание нагнуться и вырвать этот волосок. Между собой чиновники называют его Императором, так как он как две капли воды похож на экс-короля и императора Виктора Эмануила III, только без усов. Доктор восседал в кабинете, который прежде принадлежал Андришу Хофхаузеру, и работал за его же столом. Из комнаты бывшего генерального директора сюда перенесли только одну вещь: большой сейф. На дверях кабинета Карлсдорфера красовалась медная табличка, а на дверях докторского кабинета никаких вывесок не было. При встрече с его превосходительством Карлсдсрфером он был так любезен, так учтив, будто первого числа ему предстояло получать из рук Карлсдорфера две тысячи пенге, а не наоборот.
Подписанные бумаги Маргит принесла доктору.
— Его превосходительство завтра собирается ехать в Шомошбаню, — доложила она доктору. Ремер оторвал взгляд от кипы бумаг, сдвинул на нос очки и поверх них посмотрел на Маргит.
— Слава богу. Вероятно, понадобилось сто пенге.
Маргит почтительно ухмыльнулась, но смолчала. Она твердо усвоила правила приличия в разговоре между начальником и подчиненным, которому первый выдает свои мысли. Ее ухмылка означала, что она находит весьма забавной реплику господина директора: я, дескать, тоже заметила, что его превосходительство господин Карлсдорфер передергивает с дорожными счетами. Делать свои замечания вслух — значит разрешать себе недопустимую фамильярность.
— Все подписал? — спросил господин доктор.
— Все.
— И прошение о валютной отсрочке?
— Подписал.
— И что-нибудь сказал при этом?
— Даже не заметил.
На сей раз ухмыльнулся господин доктор.
— Ладно, Маргитка. Позвоните Тибору Кеменешу и сообщите, чтобы они прислали человека за прошением. Почту я просмотрю после обеда. Вы очень проголодались?
Этот вопрос он задавал всегда в полдень. И он означал: мне не хочется, чтобы вы шли обедать вместе со всеми, ведь другим не обязательно знать о лондонской переписке. И неизменно следовал один и тот же ответ: «Диктуйте, господин доктор, я пообедаю позже». Маргит тут же брала тетрадь для стенограмм, несколькими значками помечала знакомый адрес: Г. Ремер и А. Хофхаузер, Лондон, Гемпштедт Сквер 4. И, как будто в этом была надобность, исключительно для порядка приписывала рядом: через Стокгольм. Но, прежде чем приступить к стенографированию, она выходила в среднюю комнату и проверяла, все ли ушли обедать.
Каждый день ровно в два часа большая комната действительно становилась пустой, только по оставшимся на письменных столах вещам можно было определить, кому принадлежало то или иное место.
Здесь стояли пять письменных столов, два у окна, три посередине. Один из столов возле окна принадлежал некогда Дюси Вайсу, умершему еще в тридцать восьмом году во время операции почек. Ныне этот стол по наследству перешел к новому главному бухгалтеру Миклошу Кету, тридцатишестилетнему шатену в очках, дальнему родственнику Ремеров. Кет был не в меру педантичен. Он мог замучить любого практиканта за какой-нибудь смятый лист бумаги. На его черном резном письменном столе были искусно расставлены в ряд красные карандаши, стояла картотека. К чернильному прибору была прикреплена большая визитная карточка, на которой значилось: «Главный бухгалтер фирмы, начальник отдела сбыта Миклош Кет».
У второго окна за светлым, в модном стиле письменным столом сидел Дердь Татар. На его столе никогда ничего не лежало, кроме серой папки с надписью крупными печатными буквами: «Начальник отдела материального снабжения, референт по вопросам государственной мобилизации, начальник ПВО Дердь Татар».
В каких-нибудь полутора метрах от начальников скромно стояли сдвинутые столы молодых чиновников. За расшатанным столом, покрытым зеленым сукном, восседал молодой практикант Эмиль Паланкаи. Паланкаи не обращал внимания на свое рабочее место, равно как и на всю контору. Почетная обязанность вносить в особую книгу входящие и исходящие счета совсем не вдохновляла его.
Являясь утром в контору, Паланкаи сразу же садился за стол, доставал учебник японского языка и с усердием погружался в учебу. Он твердо верил, что в скором времени будет установлена венгерско-японская граница и тогда он будет по меньшей мере послан в Токио, если не станет министром иностранных дел. Паланкаи носил форму, причем придуманную им самим особую форму командира бойскаутов, из черного сукна, с многочисленными золотыми кисточками, звездами и нашивками, а на петлице — символом победы «V». Дополняли этот наряд сапоги и шапка «Турул». Как-то раз он явился в контору с нарукавной повязкой ннлашистов[6], но по обоюдному требованию Карлсдорфера и Ремера вынужден был спрятать ее в карман. Он затягивал поясной ремень до такой степени, что, казалось, вот-вот тонкая талия сломается и верхняя часть туловища отделится от нижней. Худое лицо этого тщедушного юноши было усыпано множеством прыщей, над которыми возвышался большой горбатый нос. Раньше у него был прямой, красивый римский нос, но как-то раз во время лыжной прогулки в Семмеринге он налетел на дерево, сломал себе левую ногу и разбил нос. Эта трагедия — что касается, конечно, носа — потрясла его до глубины души. Он любой ценой хотел доказать, что за его не совсем арийской внешностью скрывается пламенное сердце расиста. Начиная с пятого класса гимназии Паланкаи работал над грандиозной монографией под названием «Венгры — самая благородная раса». Этим трудом он собирался доказать, что господствующая прослойка англичан, французов, голландцев и всех других культурных наций произошла от венгров. В английском языке он уже нашел доказательства этому. Английское слово «элевен»[7] которое, правда, вырождающиеся альбионцы произносят как «илевн», несомненно, венгерского происхождения. Этимология проста. Примерно тысячу лет назад, во время великого переселения народов, сто венгерских всадников отправились в путь с намерением завоевать Англию. После тяжелых и героических сражений из ста человек одиннадцать попали на английскую землю живыми. Они положили начало английским королевским фамилиям, поэтому память о них хранится в слове «элевен», и поэтому на языке англичан это слово означает «одиннадцать»… Или кто стал бы оспаривать, что члены династии Тюдоров, то есть Тюдоры, по всей вероятности, находятся в родстве с венгерскими «тудорами»?[8] Во французском и голландском языках он пока еще не выискал доказательств своей теории, но ведь сейчас, в тысяча девятьсот сорок четвертом году, Паланкаи всего лишь девятнадцать лет! У него еще хватит времени продолжать свои изыскания, пока он станет дедушкой!
Кроме главного своего труда, Паланкаи работал и над более коротким научным исследованием, для которого пока придумал только название и план. «Евреи — кровопийцы чистокровных арийских народов». В пункте первом его плана значится: «Можно ли считать еврея человеком?»
Но однажды судьба зло посмеялась над ним. В одно прекраснее весеннее утро, когда он, спрятав в книге исходящих счетов свои научные заметки, как раз трудился над упомянутой выше «философской темой», на его письменном столе зазвонил внутренний телефон. Его превосходительство Карлсдорфер вызывал Эмиля к себе. Поскольку Карлсдорфер имел обыкновение приглашать к себе чиновников только в редчайших случаях, то уже сам по себе этот факт был из ряда вон выходящим. Паланкаи неохотно повиновался, отложив на более поздний срок разгадку важнейшего биологического вопроса.
— Прошу вас, дорогой господин Паланкаи, — обратился к нему Карлсдорфер, — будьте так добры, сходите в городскую управу и передайте, пожалуйста, это письмо господину бунчужному витязю Чаба Хайтаи.
Паланкаи поморщился, он ведь не чиновник на побегушках, а начальник бойскаутов и студент университета. Но весеннее солнце так ярко светило, что куда приятнее было прогуляться по проспекту Андраши, чем сидеть здесь, в этой замызганной конторе, поэтому он без возражений взял письмо Карлсдорфера и ушел.
Через полчаса он вернулся, и с позором. Бунчужный витязь Чаба Хайтаи страшно разгневался оттого, что Паланкаи не назвал его почтеннейшим господином. Он выхватил из рук начальника бойскаутов письмо, а его самого выгнал вон. Карлсдорферу позвонил по телефону и попросил, чтобы в другой раз не присылали писем с такими носатыми, невоспитанными еврейскими щенками. Кровно обиженный Паланкаи уселся за свой письменный стол и ответил на первый вопрос своего произведения: «Нет, евреи ни в коем случае не могут считаться людьми». И тогда же дал клятву подвергнуть свой нос — совсем как у Сирано де Бержерака — операции.
Письменный стол Паланкаи был ветхий, но зато довольно большой. У двух других практикантов столы были маленькие. За одним сидела Гизи Керн, за другим — Агнеш Чаплар. И, что самое обидное, эти столы использовались всей конторой для свалки мусора. На них стояла корзина, и в нее бросали письма, папки, деловые бумаги, предназначенные для сдачи в архив. А так как у столов Агнеш и Гизи находился огромный шкаф, то, кто бы ни приходил искать в нем нужные документы, обязательно устраивался на этих столах. И тем не менее Миклош Кет то и дело ругал девушек за то, что они не могут навести у себя порядок. Даже из соседней бухгалтерии приходили рыться в делах. Все три бухгалтера были люди особенно неприятные. Они задирали нос, говорили на каком-то таинственном языке и ровно в половине шестого уходили домой. Их не интересовала отправка корреспонденции, их не мог вызвать к себе господин доктор в девять часов вечера, чтобы продиктовать письмо. Они только разбрасывали архив и постоянно жаловались, что ничего нельзя найти на месте. Да к тому же так командовали практикантами, будто сами руководили фирмой, хотя старше всех по возрасту был только господин Лустиг. Он носил нарукавники и каждый день рассказывал о том, как он хотел попасть в музыкальную академию. Две другие девицы, Йолан Добран и Анна Декань, были почти ровесницами Агнеш Чаплар.
Госпожа Геренчер высунула нос из-за двери докторского кабинета.
За пятью письменными столами никого не было. Она подошла к столу Агнеш Чаплар и положила записку: «Позвони своему возлюбленному. Пусть присылает за прошениями о валюте». И, возвратившись в комнату юрисконсульта, уселась по-домашнему в кресло против письменного стола, положила на колени тетрадь и застыла в ожидании, когда старик начнет диктовать письмо. На руке у нее громко тикали большие мужские часы. Половина третьего. К четырем часам она напишет корреспонденцию в Лондон, к пяти сбегает домой и пообедает. Разумеется, до половины шестого ей не справиться с почтой, практиканты опять будут ворчать, что в полночь приходится идти на почту. Такая уж нынешняя молодежь. Свидания, кино, концерты, только работать не любят. Ну что ж, пусть учатся уважать труд. Когда госпожа Геренчер была практиканткой, она частенько отправлялась на почту и после одиннадцати вечера.
«Дорогие Гезе и Андриш, как я сообщал вам в последнем письме…» И госпожа Геренчер сразу же переводит на английский:
«Dear Géza and Andris, as I told you last time…»
Так однообразно проходил день в конторе Завода сельскохозяйственных машин. На окне госпожи Геренчер висела плотная штора, сквозь которую даже нельзя было увидеть, светит ли на дворе солнце или идет снег. На улице продавцы газет выкрикивали названия городов… Дюнкерк, Париж, Тобрук, затем Сталинград, Воронеж, Татарский перевал. Но сюда не доносилось ни звука.
Господин управляющий
В два часа ночи в квартире управляющего фирмой Миклоша Кета раздался звонок. Первым проснулся восьмилетний Габи. Подумав, что это опять воздушная тревога, он в испуге выскочил из кроватки и торопливо стал запихивать в маленький рюкзак свои сокровенные богатства — игрушечную железную дорогу, книгу сказок, полплитки шоколада и хранимую под подушкой тетрадь со стихами, дневниковыми записями и неприличными рисунками.
Со вторым настойчивым звонком вскочил с постели и Кет.
— Повестка, — сказал он жене, и сам удивился, какой у него спокойный голос. — Неплохо будет, если ты приготовишь мою форму.
Жена, ничего не понимая, села в постели. На ее лицо свисали рыжие всклокоченные волосы. Она щурила глаза от света и с тревогой прислушивалась к разговору в передней.
Кет принял от почтальона белую бумажку и расписался в книге. В сумке почтальона было полно повесток о мобилизации.
— Нечего сказать, приятные вести вы приносите людям, — проворчал Кет, возвращая карандаш.
— А тем временем кто-нибудь другой принес мне повестку, — ответил почтальон, в сердцах пожав плечами. — Все. равно подыхать, днем раньше или днем позже, — и, не простившись, вышел.
Кет слышал, как он позвонил и в соседнюю квартиру. Не старого ли Шомоди мобилизовали? Хороши тогда дела у нашего доблестного воинства.
Кета разозлил жалостный, испуганный взгляд жены.
— Что ты уставилась на меня? Тебе ведь еще не принесли извещения о моей смерти. Есть у нас коньяк?
— Есть.
Миклош отворил дверцу комбинированного шкафа, в котором хранились напитки.
— Тебя освободят? — спросила жена.
Кет вместо ответа пожал плечами.
— Татара освободили.
— Его — да.
— А тебя тем более должны освободить.
Мнклош не ответил и снова налил себе коньяку.
— Следовало бы поговорить с доктором Ремером, — посоветовала жена.
— Обойдусь без твоих советов.
Госпожа Кет натянула на голову одеяло и отвернулась к стене; от страха у нее зуб на зуб не попадал. Она хорошо гнала мужа. Грубость была у него признаком того, что он трусил. Видно, что-то неладно в конторе. Вот Миклош вышел в ванную комнату, открыл кран. Неужели одевается на ночь глядя? Она ждала, что он вернется, сядет с ней рядом и расскажет о своих намерениях. Наверное, собирается пойти к Татару. Сколько раз она его предостерегала. Да разве он послушается? Краешком одеяла женщина вытерла заплаканные глаза и уснула. Даже не слышала, когда Кет захлопнул дверь в прихожей. Было часа четыре утра. Близилось неприветливое, холодное утро. Все казалось серым: и тротуары, и стены домов, и бумажные шторы на окнах для светомаскировки, серым было и само небо. Кет быстро шагал вдоль улицы Палне Вереш и, дойдя до площади Эшкю, свернул к мосту. Спустившись на берег, он сел на самой нижней ступеньке лестницы и устремил взгляд на Дунай. Вода тоже была серой и несла серые сучья. Серыми казались и стройная арка моста Эржебет и неуклюжий массив горы Геллерт. Кету с детства запомнилась одна книга; на ее толстой серой обложке была нарисована странная картинка: клубы дыма, низко над землей нависли мрачные тучи, стояли, прижавшись друг к другу, серые люди, вставшие на дыбы ржущие лошади… «Что это?» — спросил он тогда у отца. «Война», — ответил тот. «Холодно», — подумал Кет, по-прежнему глядя на воду. У него застучали зубы, потом вдруг по всему телу прошла дрожь. По ногам и рукам быстро распространились едва ощутимые судороги, заныл живот. «Боюсь. Не хочу идти на фронт».
Он продолжал неподвижно сидеть на каменной лестнице. На лбу выступил холодный пот. В голове беспорядочно копошились мысли. Он видел себя изображенным на обложке книги — лежащим на глинистой земле, раздавленным копытами лошадей. Потом ему почудилось, что он видит сына Габи, но не восьмилетним, а совсем крошечным, таким, каким он увидел его впервые. В тот день Дунай так же, как сейчас, нес свои воды. На Цепном мосту Кет встретился в автобусе со знакомыми и, задыхаясь от волнения, поведал им новость: «У меня родился сын!» Точно так же Дунай будет течь и тогда, когда в газетах среди прочих имен павших смертью храбрых появится и его имя…
Как ужасно заранее знать все это: найдут в типографии клише с лавровым венком и со словами Pro patria[9]. Под ними будут значиться имена погибших: старший лейтенант Миклош Кет… Если, конечно, сообщат о нем в газетах. И потом еще не известно, оставят ли ему офицерское звание… Впрочем, раз уж погибать, то все равно как… Дефекта в брачном свидетельстве родителей больше нет, но если запросят метрическую выписку отца… Следовало бы отречься, подделать что-нибудь… Нужно, чтоб мать заявила, что он незаконнорожденный, что в его жилах нет ни капли еврейской крови. Другие тоже так делали. Для спасения все средства хороши.
Вверх по Дунаю плыл немецкий транспорт. Медленно, надрываясь, его тянул крохотный буксир. Здорово нагрузили. По-видимому, хлеб из Бачки. А тут и по карточкам хлеба не выдают. Эх, пропади он пропадом, весь этот прогнивший мир!
По набережной прогрохотал первый трамвай. Он словно разбудил Кета. Миклош вскочил на ноги. «Надо сходить к Гатару. Буду умолять его. Пообещаю денег. Отдам ему драгоценности, виноградник в Эрде, что угодно, только пусть освободят. Только бы освободили! Татар тоже отец, он поймет меня. Есть у нас в банке две тысячи пенге, отдам. Татар за деньги все сделает».
И он почти бегом опять подался к площади Эшкю, как будто все зависело от того, за сколько минут он дойдет до улицы Изабеллы.
Когда Кет позвонил Татару, тот еще спал. Дверь открыла старуха, восьмидесятилетняя мать Татара, которая из вечного страха перед сыном постоянно пряталась в кладовую, когда он приходил домой.
— Не надо будить, я подожду, — сказал Кет и вошел в столовую. Он уже давно не навещал Татаров и был просто поражен, когда и в этот раз почувствовал тот же неприятный запах, что и полтора или два года назад. Может, это стены так дурно пахнут — чем-то вроде смеси старого жира, горящей резины, пыли и плесени. В комнате царил полумрак, одна из штор была приспущена. Сквозь другое окно на противоположной стороне улицы виднелись магазины с закрытыми витринами. Глаза Кета мало-помалу привыкли к темноте, он с неприязнью принялся рассматривать комнату. «Мебель, разумеется, тоже новая. А сколько ковров! И все это на семьсот пенге в месяц?!»
— Привет, Миклош!
Из соседней комнаты в ночных туфлях, ночной рубашке вышел небритый Татар с запавшими щеками. Он протянул гостю обе руки, но в голосе его было мало радости и приветствие прозвучало как-то странно: «П’ивет!» Понятно, не успел вставить искусственные зубы! Поступив два года назад на Завод сельскохозяйственных машин, Татар вытащил себе все зубы. Тогда он ходил с такими же запавшими щеками и стиснутыми губами и точно так же шепелявил.
Этот его облик вдруг смутил Кета. Сейчас Дердь Татар был похож на того Татара, который однажды вечером явился к нему с просьбой. Тот раз он просил не денег, как обычно, не старые брюки, а работу. «Ты управляющий фирмой или бог знает, кто еще, и, стоит тебе только захотеть, ты сможешь составить мне протекцию. Но если откажешь…»
— Прости — минуточку, я все же оденусь…
— Ради бога, конечно, изволь… Я ворвался к тебе ни свет ни заря…
Татар ушел в ванную комнату.
С этим не поладишь за две тысячи пенге. Ему и четырех мало. Он горазд урвать столько, сколько другому и не приснится. Говорил же он, Миклош Кет, доктору Ремеру, чтобы тот не доверял Татару материальное обеспечение — и без него бы справились. Такой гангстер и десять тысяч не постесняется взять. В ответ на это предостережение доктор лишь посмотрел на него поверх очков и скривил рот: «Думаешь, только нашей семейке дозволено воровать». Вспомнишь эти слова — кровь закипает в жилах. К счастью, ему самому удалось тогда реализовать часть заготовок. От них-то и осталось на книжечке две тысячи пенге.
Минут через пятнадцать Татар вернулся. Его нельзя было узнать. Чисто выбритый, причесанный, надушенный, с белыми, как снег, зубами, в коричневом костюме, кремовой шелковой рубашке с темно-зеленым шелковым галстуком.
— Ты уже завтракал, Миклошка?
Кет только рукой махнул: дескать, ему сейчас не до еды.
Татар позвонил, и старушка внесла голубую камчатую скатерть.
— Один завтрак, мама, да поскорее.
Кет обалдел: ну и ну, звонить в двухкомнатной квартире!
Подойдя к серванту, Татар достал палинку и соленое печенье. Потом поставил возле бутылки две рюмки и, наливая, спросил:
— Мобилизовали?
— Да.
— Когда явиться?
— Завтра.
— Ну, выпьем. За твое здоровье.
— Дюри… что мне делать?
— Что делать? — с недоумением переспросил Татар и опорожнил рюмку. — Пойдешь в армию и будешь делать то, что делают другие.
— У меня ребенок.
— А я чем могу помочь?
— Чем угодно… ты в хороших отношениях с военным комендантом.
— Брось эти глупости.
— Тебя ведь не взяли.
Татар пожал плечами.
— C’est la guerre[10]. Одного берут, другого нет. Кому как повезет.
Кет чувствовал, что лицо его покрывается потом.
— Пойми, Дюри, я готов на любую жертву. Скажи, сколько тебе надо. Я не хочу идти на фронт. Не хочу подыхать, да еще сейчас, когда все равно конец… Русские уже у Карпат. Может быть, еще месяц… Я не дурак продавать свою шкуру… Помоги мне, старина. Пообещай коменданту денег.
Татар ручкой ножа стучал по яйцу. Он даже не взглянул на Кета.
— Выпейте стакан воды, коллега, и придите в себя. На сей раз будем считать, что я не слышал ваших предательских заявлений.
Кет побелел, как стена. Он вскочил и замахал кулаками.
— Ты подлец! Ты мошенник! Как ты смеешь со мной так разговаривать? Думаешь, что все забыто? Командовать мной собираешься, жалкая тварь? Ведь это же я вывел тебя в люди!
Татар не ответил. Он неторопливо тщательно выскребал из яйца ложечкой желток. Всякий раз, проглотив, он облизывал ложечку и откусывал булку с маслом, делая вид, будто не замечает Кета.
— Пусть будет так, — понизил голос Кет. — Пусть будет так. Я еще докажу, что ты неправ. Но если уж дело дошло до разрыва, то все-таки я родственник Ремеров, а не ты. Конечно, ты только и ждешь моей смерти. Пусть меня угонят на фронт, пусть я подохну — садись на мое место. Но ты, как видно, рад забыть то, что было, а?
— Не стоит ворошить старые дела, — очень спокойно ответил Татар, но лицо его покраснело. — Даже выведи ты сейчас всех на чистую воду — я не уверен, что тебе удастся выйти сухим из воды. Я воровал? Воровал, но вместе с тобой. Тебя выгородили родственники. Но так было раньше. Теперь вашей еврейской семейственности пришел конец, теперь ты уже не бросишь рваные штаны вышедшему из тюрьмы безработному. И если суждено подохнуть кому-нибудь из нас, так это тебе!
— Вот она благодарность… благодарность, злодей! Ну, ты еще увидишь… я тебя проучу, меня освободят и без твоей помощи… но уж тогда ты полетишь…
Кет вскочил, толкнул курительный столик. На пол с грохотом свалилась херендская ваза. Не помня себя от гнева, он очутился за дверью. Ну, конечно же, не стоило ему приходить сюда. Ведь можно было не сомневаться, что Татар только обрадуется, если его погонят на фронт, он давно этого ждет не дождется. Если только не сам устроил, чтобы Кету прислали повестку.
Кет зашел в первый попавшийся кафетерий, заказал завтрак, но не притрагивался к еде, а лишь нервно стучал пальцами по столу. Надо поговорить с директором. Сослаться на Гезу Ремера. Сказать, что перед отъездом в Лондон они велели до последней минуты щадить его и удерживать на предприятии. В такие времена бухгалтерию нельзя доверять кому попало. Доктор поймет это.
Он хлебнул кофе, бросил на стол двухпенговую монету и вышел на улицу. Дул ветер, было пасмурно. На площади Муссолини часы показывали половину восьмого. Задумавшись, Кет медленно побрел в контору.
Правда на земле
Госпожа Геренчер, подбоченясь, стояла посреди большой комнаты и битый час читала нотацию практиканткам Гизи Керн и Агнеш Чаплар. Паланкаи со злорадством поглядывал на них из-за учебника японского языка.
— Я уже семнадцать лет работаю, а подобной низости и представить себе не могу. У нее, видите ли, свидание, и на этом основании она бросает почту. Пусть даже миллион раз будет свидание. Долг…
— Рабочий день кончается в половине шестого, — дерзко перебила ее Агнеш.
— Во-первых, не перебивайте, когда с вами говорят старшие, понятно? Ну и что из того, что рабочий день кончается в половине шестого? По-вашему выходит, пробило половину шестого, так бросай все дела. Врач разрезал живот, но, если кончилось рабочее время, он не станет продолжать операцию? Капитан опустит наполовину якорь, кочегар сядет в тендере на уголь и будет болтать ногами, потому что кончился рабочий день? Погодите, пусть только придет господин доктор, увидите, вам несдобровать…
— Вы могли бы и раньше выдать почту.
— Я не обязана отчитываться перед вами в своей работе. В ваши годы я и рта не смела открыть перед начальством. Для вас не существует ни работы, ни начальства, ни авторитета, вы хуже тех большевиков. Нетрудно предсказать… Идите сюда, Миклош, и послушайте, какую подлость сделали эти две пройдохи.
Кет остановился в открытых дверях и пожал плечами.
— Плевать мне на все это. Меня мобилизовали.
Госпожа Геренчер всплеснула руками и тотчас же стала прикидывать в уме, что сулит ей уход Кета. Прежде всего освободится ставка в восемьсот пенге и тогда, может быть, ей повысят жалование пенге на двести. Кроме того, Миклош Кет — противный тип, однажды он наговорил доктору, что она невежлива с заказчиками. Но, как бы там ни было, он во сто крат лучше Татара. А уж если Кета угонят на фронт, то с Татаром ей не сладить. И потом нет уверенности, что доктор использует фонд и даст надбавку.
После этих лихорадочных мыслей она начала хныкать:
— Мобилизовали? Да что же это такое? К чему это приведет? И так никого не остается в тылу. Да еще забирают теперь, когда надо составлять годовой отчет.
— Замолчите, госпожа Геренчер! — яростно вскричал Паланкаи, хлопнув книгой о стол. — Как вы смеете так говорить? Конечно, какое вам дело до нашей борьбы за тысячелетнюю Великую Венгрию. Вы что, хотите, чтобы на нас надели большевистское ярмо?
— И вы еще поостынете, Паланкаи! — ответила госпожа Геренчер и шмыгнула к себе в комнату.
Пришел Татар. Он повесил шляпу на вешалку и поздоровался с Миклошем Кетом, будто ничего и не произошло. Кет, уткнувшись в газету, не ответил на приветствие.
Гизи Керн, обливаясь горькими слезами, разбирала почту.
— Глупая, чего ты так убиваешься, — шептала ей Агнеш. — Если и влетит, то скорее мне, ведь я виновата, а не ты. И госпоже Геренчер созналась и доктору скажу. Ты думаешь, такая важность — это налоговое свидетельство? Весь этот конкурс — обман чистейшей воды. Слышала, как Карлсдорфер рассказывал доктору, что договорился с вице-губернатором, — все равно подряд будет наш. Только для проформы надо было представить смету… Да полно тебе, перестань реветь. Зачем только я пошла на концерт? Тибора все равно там не было.
— Не было?
— Не было, — ответила Агнеш, и на этот раз голос ее дрогнул.
Миклош Кет, подперев ладонями подбородок, смотрел на противоположный дом, на облезлую вывеску пивной. Отсюда ему не было видно первой буквы, а только: ИНО, ПИВО, ПАЛИНКА — и это до того бесило его, что он готов был сломя голову броситься вниз и дописать отсутствующую букву «В».
«Как только придет доктор, сразу же пойду к нему. Положу перед ним на стол повестку и попрошу настоять, чтобы меня освободили. Без всяких волнений. Чтобы ему и в голову не пришло отказать».
Доктор Аладар Ремер пришел в контору часам к девяти.
Проходя через большую комнату, он кивком головы отвечал на приветствия чиновников.
— Доброе утро. Что нового? Как твой сынок, Миклош?
У Габи, между прочим, на прошлой неделе была ангина. Госпожа Геренчер с умилением на лице повернулась к доктору. «Вот это начальник, вот это человек», — казалось, говорила ее сияющая улыбка.
— Спасибо, ему лучше… Но произошло несчастье гораздо большее. Меня мобилизовали.
Это было как раз вовремя.
Доктор Ремер уже стоял в дверях своего кабинета. Татар следовал за ним по пятам с утренней почтой.
— Ну что ж, заходи, потолкуем, — ответил Ремер и скрылся в своем кабинете.
— Потолкуем, а о чем здесь толковать? Дайте указание Татару, пусть позвонит коменданту, и все тут…
Словно пораженный молнией, Кет сидел за своим столом.
— Что с тобой, Миклош, почему не идешь? — вдруг услышал он по внутреннему телефону голос доктора.
— Сейчас.
У доктора, кроме Татара, он застал и госпожу Геренчер, которая в яростном гневе пересчитывала «страшные» грехи практиканток.
— Они совершенно недостойны того, чтобы работать в такой известной фирме.
Доктор играл карандашом и громко зевал.
— Ладно. Зайдите ко мне попозже. Садись, Миклош. Надо обмозговать, кому передать твои дела, — сказал доктор.
Кет побелел.
Конец. Стало быть, его отпускают. Он будет валяться в сырых окопах, бросать гранаты, ходить в атаку, убивать людей, которые никогда не причиняли ему никакого зла, будет, надрывая горло, кричать «ура!», лежать в перевязочном пункте, истекать кровью, хрипеть, возможно… возможно, ночь будет таять в огнях залпов, повалит снег, будет свирепствовать холод, грохотать земля, будут взрываться бомбы… во имя бога, подумайте о моей жене, сыне, спасите…
— Очнись! Что это с тобой, ты как будто даже не слушаешь? Кого ты рекомендуешь на свое место?
Кет опять не ответил. Кого он рекомендует? Никого. Плевать ему на всю контору. Пропади все пропадом. Пусть хоть никогда не составляется годовой отчет — какое ему дело?
— Ну? — теряя терпение, спросил Ремер.
Кет вскочил.
— Господин доктор, спасите меня, не отпускайте… я не хочу идти на фронт. Я не хочу подыхать. Какое мне дело до этой войны? Прошу вас, дайте указание Татару, он в хороших отношениях с комендантом… стоит ему сказать только слово…
Татар был холоден как лед.
— Можете не сомневаться, коллега Кет, что мы готовы ради вас пойти на все. Но мы не вправе делать так, чтоб комендант подумал, будто у нас тут семейственность. Всем известно, что вы родственник Ремеров. Поэтому естественно, что господин доктор даже не сможет подписать подобное прошение.
Доктор Ремер с благодарностью улыбнулся Татару и с видом сожаления развел руками.
— Какое у тебя было жалование, Миклош?
За Кета ответил Татар:
— Восемьсот пенге.
— Не беспокойся, твоя жена систематически будет получать половину оклада, а если вернешься, должность главного бухгалтера останется за тобой. Ну, будь счастлив, Миклош.
Он протянул Кету руку, но тот, словно не заметив ее, багровея, повернулся на каблуках и направился к дверям.
— Немедленно остановись! — завопил доктор. — Что ты о себе мнишь? Как смеешь так себя вести? Может быть, я устроил эту войну? Я тебя мобилизовал? Или господин Татар? Если не сдашь, как положено, свои дела, то больше и носа сюда не показывай.
Кет остановился, как побитая собака, уткнулся взглядом в ковер, втянул голову в плечи.
— Что вам от меня надо?
— Предложи кого-нибудь на пост главного бухгалтера. Если не считаешь возможным передать дела кому-нибудь из наших чиновников, мы возьмем человека со стороны.
Этого еще недоставало. Тогда уж действительно придется подыскивать себе место, если посчастливится вернуться домой. Сейчас он впервые подумал, что не всем суждено погибнуть на войне, кое-кто вернется. Кет пошел в бухгалтерию, сел в кресло и попробовал собраться с мыслями.
Следовало бы подобрать такого заместителя, который вел бы бухгалтерию, но не разбирался в темных сторонах этого дела. Надо, чтобы он механически выполнял свои обязанности и не смыслил в существе. Если он и вовсе не будет знать бухгалтерского учета, тоже невелика беда. Пусть получится полнейшая неразбериха — они поймут, что Кет — незаменимый человек. Может быть, еще отзовут с фронта.
— Ну как, Миклош?
— Есть тут одна практикантка. Помогала мне составлять баланс. Очень толковая. Конечно, она еще молода. Но, думаю, подойдет.
— Кто она?
— Агнеш Чаплар.
— Чаплар? Эта блондиночка?
— Да?
— Сколько ей лет? — спросил Ремер.
— Двадцать — двадцать один…
Доктор взглянул на Татара. Тот поморщился. Такую девчонку делать главным бухгалтером! Но, подумав о другом, тут же решил, что это только к лучшему. Эта не станет совать нос в чужие дела. Пусть Чаплар будет главным бухгалтером. Госпоже Геренчер можно будет сбить спесь, вся контора запляшет под его дудку.
— Ну, каково ваше мнение о Чаплар, господин управляющий?
Татар от неожиданности так и застыл с открытым ртом. Господин управляющий? Не ошибся ли Ремер?
Нет. Доктор улыбался. Кет побледнел как смерть. Вот он, великий момент в жизни Дердя Татара. Татар сделал шаг вперед и схватил Ремера за руку.
— Спасибо… это для меня очень большая награда…
— Что ж, после утверждения выпьем по сему поводу, — улыбнулся доктор. — Итак, каково же ваше мнение, господин управляющий?
— Подойдет. Думаю, она вполне подойдет.
— Позовите ее.
— Сходи за ней, Миклошка, — обратился Татар к Кету, который стоял, прижавшись спиной к стене. — Я тем временем отыщу ее штатную карточку. Будьте добры, господин доктор, дайте мне из сейфа мобилизационный учетный лист.
Доктор Ремер неторопливо извлек из сейфа желтую папку, на которой огромными красными буквами значилось: «Секретно».
Татар быстро перелистал бумаги.
— Вот она. Родилась в 1922 году в Новых Замках. Что за черт, неужто она чешка? Нет. Отец из Будапешта. Мать тоже… нет, нет, мать оттуда.
— Эго не имеет значения, — махнул рукой Ремер. — Такие уж женщины. Наверное, захотелось поехать домой и рожать у матери.
— Образование среднее, закончила коммерческое училище, имеет аттестат, римско-католического вероисповедания. Родители — католики…
— Посмотрите, кто были ее дед и бабка. Отовсюду можно ждать неприятностей…
— Посмотрю, как же… — И Татар разбросал на кресле целую пачку брачных свидетельств и метрик.
— Разумеется, надо сделать так, чтобы и Карлсдорфер не возражал, — подумал вслух Ремер.
— Его превосходительство не станет возражать. Чаплар — единственная из служащих, кого он уважает за принесенные ему четыре флакона паркеровских чернил. Его превосходительство когда-нибудь помешается на коллекционировании чернил военного времени. Ну, вот наконец и бабушка с дедушкой. Оба католики.
— А кто у нее отец?
— Католик.
— Нет. По профессии?
— Слесарь.
— Ай-ай. Значит, пролетарии.
— Пролетарии.
Доктор задумался.
— Может быть, все обойдется, — рассуждал Татар.
— Ничего нельзя знать наперед. Эти пролетарии все до единого коммунисты.
— Я возьму нового главного бухгалтера на свое попечение, она не будет коммунисткой.
— Но вы, господин управляющий, все же позвоните в военное управление, пусть посмотрят, кто ее окружает.
Вернулся Кет вместе с Агнеш Чаплар.
Агнеш удивилась, что Ремер позвал только ее, без Гизи Кери. Но так, пожалуй, лучше, Гизи и без того сильно напугана.
Когда Кет и Агнеш проходили мимо госпожи Геренчер, та лишь взглянула на них и со злорадством улыбнулась.
«Бог свидетель, когда-нибудь я ее прикончу», — подумала Агнеш.
Кет распахнул створчатую дверь и пропустил ее вперед. Его нельзя было узнать.
С трепетом входя в кабинет, Агнеш споткнулась о край ковра. Третий год она работает на предприятии, и еще ни разу доктор не вызывал ее одну. Обычно она приходила сюда первого числа каждого нового месяца вместе с Паланкаи и Керн получать жалование. Ремер всегда выдавал его сам лично, приглашая к себе чиновников по старшинству. Сначала главного бухгалтера Кета, потом госпожу Геренчер и Татара, а за ними трех бухгалтеров, затем их, практикантов и, наконец, уборщицу Варгане. К Карлсдорферу же доктор сам заходил вручать деньги. Ремер так медленно отсчитывал получку, будто отрывал от сердца каждый филлер; расписавшись в ведомости, все обязаны были поблагодарить за деньги. Хорошо еще, что не требовали руку целовать. Эта раздача жалования была до того противна, что Агнеш порой хотелось отказаться от денег, только бы не заходить к доктору.
— Садитесь, пожалуйста, милая барышня Чаплар.
Агнеш растерянно опустилась в огромное кожаное кресло и, все больше робея, прикрыла юбкой колени. Ремер отодвинув свое кресло к углу письменного стола, но не сел, а принялся расхаживать по кабинету. В директорском кресле лежала пухлая, потертая кожаная подушка, на которую низкорослый доктор садился, чтобы удобнее было работать за письменным столом, а во время деловых переговоров казаться более внушительным. Только теперь Агнеш представился случай повнимательнее разглядеть эту небезызвестную круглую кожаную подушку. Она когда-то принадлежала директору Андришу Хофхаузеру, и с ней была связана целая история. Разумеется, об этой истории Агнеш узнала от той же госпожи Геренчер, когда та против обыкновения была в хорошем расположении духа.
В конце двадцатых годов на предприятии работала машинистка, по имени Гизи Рекаи, очень скромная, приветливая и трудолюбивая девушка. Своим поведением она ни у кого не вызывала ни малейшего подозрения. Но вот в один прекрасный день в контору явилась полиция. Гизи Рекаи тут же была арестована, ее увели, не позволив даже надеть пальто. Оставшиеся полицейские с бешеной яростью бросились обыскивать контору, они перевернули все вверх дном, но тщетно: им так ничего и не удалось найти. Сыщики на чем свет стоит ругали большевиков. Оба директора запротестовали, хотели было звонить министру внутренних дел, но, разумеется, у телефона тоже стояли полицейские. Хофхаузер попросил объяснить, что означает этот обыск. Тогда полицейский закричал на него: «Вон отсюда, еврейская мразь!» Хофхаузер вскочил со своего места и с возмущением ответил, что он никогда не был евреем, и потребовал, чтоб полицейские немедленно убрались. Его сердце обливалось кровью при виде этого страшного разгрома в конторе, как после набега вандалов. А в каком образцовом порядке содержались шкафы с бумагами, не то что сейчас, когда господа практиканты распихивают по полкам и комкают ценные бумаги, словно старые тряпки. Как ни сопротивлялся Хофхаузер, полиция все же разрыла архив, но найти ничего не нашла. Открыла сейф — ничего. Взломали письменные столы — ничего. Обыскали подвал и чердак — ничего. Так прошло все утро.
Господин директор Хофхаузер вне себя от гнева выпалил лейтенанту, предводителю полицейских, что за причиненный беспорядок взыщет с полиции штраф. Лейтенант ответил, что они, мол, просят прощения, но долг есть долг, и тут же изъявил готовность подписать протокол. В этот момент он заметил в кресле Хофхаузера круглую подушку. Подскочив к ней, полицейский увидал, что одна ее сторона зашита свежими нитками. Когда же он распорол подушку, у всех кровь застыла в жилах. Из подушки вывалилась пачка листовок с призывом: «Молодые рабочие, боритесь против эксплуатации!» Все всплеснули руками, а господин директор Хофхаузер до того перепугался, что чуть не упал в обморок. Ведь он сидел на них! Полицейские увели его тоже и выпустили только на следующий день, когда выяснилось, что он действительно непричастен к листовкам… Вот на какие штучки способны коммунисты: проникнуть в контору столь солидной фирмы и посадить самого генерального директора на листовки… Но с тех пор, кого бы ни принимали на Завод сельскохозяйственных машин, каждый должен был давать расписку, что не будет заниматься политикой и не вступит в профсоюз…
И вот теперь эта круглая кожаная подушка покоилась на дне глубокого кресла. Агнеш дорого бы заплатила, только бы посмотреть на то место, где она была зашита белыми нитками. А вдруг там, внутри ее, осталась листовка, хоть одна-единственная, увидеть бы, какая она есть… Разумеется, сейчас нечего ломать голову над листовкой, а лучше подумать о том, что ее ждет за допущенную промашку…
Доктор Ремер, будто угадав мысли Агнеш, бросил взгляд на кожаную подушку. Хм. Отец у нее слесарь.
— Где вы получили аттестат зрелости, барышня Чаплар?
— В коммерческом училище графини Зичи.
— Это светское училище?
— Нет, в нем преподавали монашки.
— Ага… тогда это замечательно. Очень хорошо, барышня Чаплар. Дирекция весьма довольна вашей работой, и мы решили возложить на вас серьезную и почетную задачу. Наш коллега Миклош Кет уходит на фронт, чтобы… чтобы сражаться за свое отечество… за наше отечество. Временно я назначаю вас руководителем бухгалтерии. Надеюсь, вы поймете и оцените всю важность и значение поручаемого вам дела. Вы, я полагаю, разбираетесь в бухгалтерии?
— Да, — ответила Агнеш и почувствовала, как ком подступил к ее горлу. — По бухгалтерскому учету у меня всегда была отличная отметка.
— Это очень важно, — серьезно сказал доктор. — Какое у вас жалование, милая барышня Чаплар?
— Сто тридцать пенге, — пролепетала Агнеш.
— Сто тридцать пенге… это довольно приличная сумма в ваши молодые годы, не так ли? Я начинал в адвокатской конторе отца с двух крон, барышня Чаплар, ей-богу, с двух крон, хе-хе-хе… и недурно жил на них. Но нам не нужно, чтоб вы работали даром. Разумеется, в соответствии с изменившимся положением мы повысим вам и жалование… Теперь вы будете получать двести пятьдесят пенге…
Доктор торжественно протянул руку. Агнеш покраснела и, задыхаясь от волнения, поклонилась. Вот, значит, как бывает, когда человека повышают в должности.
— Не слишком ли глупа эта девица? — спросил Ремер, когда за Агнеш захлопнулась дверь. — Ну, да все равно. Господин управляющий, продиктуйте, пожалуйста, распоряжение, чтэ с сегодняшнего дня за дела в бухгалтерии отвечает эта Чаплар. Да пусть подпишет и его превосходительство. Он уже пришел?
— Пока еще нет. Наверное, уехал на охоту.
— Ладно. Тогда доложите ему позже. Много не объясняйте, пусть подпишет, и все.
— Его превосходительство подписывает все, что ему положат на стол, — осклабился Татар.
Доктор Ремер на миг оторопел и взглянул на Татара.
А тот сверкал своими белыми фарфоровыми зубами.
«Хм. Все подписывает. И взгляд у этого Татара, как у хищного зверя… Зря я назначил его управляющим…» — подумал доктор и ощутил какое-то тревожное беспокойство. Но все же приветливо ухмыльнулся.
— В полдень сходим втроем с его превосходительством в заводскую контору. Других дел, кажется, нет. Ах, да, что-то собиралась доложить госпожа Геренчер… позовите ее, пожалуйста.
Маргит вошла чем-то страшно недовольная; поправляя левой рукой гладко причесанные волосы и размахивая кипой каких-то бумаг, она начала издалека, как говорят, от Адама.
— Нынешняя молодежь считает, что жизнь — это шарманка, один тащит, другой вертит, а третий пляшет под музыку…
— Нельзя ли покороче, я ничего не понимаю.
— Извольте, скажу самое главное. Барышня Чаплар вместо того, чтобы подождать на почте и отправить письма, перепоручила их Гизи Керн. А та не проверила конверты…
Доктор оперся на локоть и мизинцем правой руки постучал по больному коренному зубу.
— Керн. Кстати, какое жалование у этой Керн?
— Сто пенге.
— У Кета остается четыреста… Скажите, как обстоят у нас дела с евреями?
— В заводской конторе осталось двое, а здесь еще четверо.
— Вместе с Кетом и Керн?
— Да.
— Ну что ж, уволим и Керн. Напишите приказ, текст обычный. В связи со сложившимися обстоятельствами, к нашему сожалению, доводим до сведения… и т. д.
— Слушаюсь. А Чаплар?
— Что вы хотите от Чаплар?
— Смею доложить, позавчера на почте…
— Да будет вам твердить об этой почте. Чаплар я назначил главным бухгалтером. И разговаривайте с ней по возможности вежливо, так как с сегодняшнего дня она и ваша начальница.
— Я… чтобы я, я…
День славы
Госпожа Геренчер вышла из кабинета директора в раздумье: сказать Гизи Керн о том, что ее увольняют, или нет. Лучше не говорить — это не ее дело. Бедняжка успеет узнать и в понедельник, когда и Карлсдорфер подпишет приказ.
Маргит, считавшая не только увольнение, но и смертную казнь заслуженной, мало того, слабой карой за пренебрежение к служебным обязанностям, на сей раз была недовольна собой и даже чувствовала угрызение совести. Лучше бы доктор вызвал к себе Чаплар и Керн, как следует намылил им шеи да наказал, чтобы в другой раз слушались госпожу Геренчер, у которой можно поучиться только хорошему, добру, а получилось…
Она села за пишущую машинку и, вздыхая, принялась составлять приказ об увольнении.
Тем временем Кет ввел Агнеш в бухгалтерию. Господин Лустиг испуганно вскочил. Держа в правой руке чернильный карандаш, он сделал такое движение, словно хотел пырнуть им кого-то в живот; левой рукой чиновник нервно разглаживал лысину. Йолан Добраи и Анна Декань стояли спиной к двери и, прижавшись друг к другу, над чем-то хихикали, не замечая тревожных сигналов господина Лустига.
— Ну, что у вас там, Йолан, почему не занимаетесь делом?
Добраи повернулась лицом к Кету.
— Не пугайте, Миклошка, а то я от страха, чего доброго, умру. Вы знаете французский язык?
— Немного, — ответил Кет.
Те опять захихикали. Агнеш, недоумевая, посмотрела на девушек.
— Тогда переведите нам, что тут на этих открытках. Картинки мы понимаем, а что написано, никак не разберем…
И они положили на стол рисунки Марселя Прево: «Lettres â Françoise mariée»[11].
Кет засмеялся.
— В этом нет ничего такого, о чем вы думаете. Духовные наставления. Нечто вроде «Нравственных поучений» нашего Кельчеи.
— Хи-хи-хи. Воображаю. Но вы все-таки переведите.
— Ну, оставьте меня в покое. Мне сейчас не до шуток.
— Изволите видеть, господин главный бухгалтер, вот так проходит целый день, — пожаловался господин Лустиг. — Не слушаются они меня. Барышня Йоли никак не выведет сальдо по текущим счетам. Видите ли, уже середина марта, а баланс за тысяча девятьсот сорок третий год не готов.
— Будьте добры, доложите все это моему преемнику. Представляю вам нового главного бухгалтера барышню Агнеш Чаплар.
Господин Лустиг вытянулся в струнку.
— Очень рад, барышня Чаплар. Могу вас заверить, что мной вы всегда будете довольны Я, изволите знать, двадцать пять лет работаю бухгалтером, был весьма уважаемым счетным работником на Хатванском сахарном заводе и сейчас был бы им, а то, может быть, и в начальники отдела вышел бы, если б моя бедная жена не заболела и не понадобилось перевезти ее в Будапешт. В этом году я отмечал бы свой двадцатипятилетний юбилей, но разве теперь придет кому-нибудь в голову устраивать праздники? Мне не такой представлялась жизнь, барышня Агнеш. Я учился в консерватории, по классу скрипки… Вы христианка и молоды и ничем не рискуете. И я буду очень рад, если вам удастся навести здесь порядок, потому что я, как видно, тщетно твержу барышням, что, несмотря на войну, учет должен вестись образцово. Они отвечают: зачем это вам, старый еврей, надо — вас все равно повесят. Между тем, изволите знать, моя жена христианка, я муж арийки…
«Боже милосердный, как прекратить все это?» — подумала Агнеш.
— Между прочим, когда я на ней женился, собралась вся моя родня: «Лайош, и тебе не стыдно…»
— Воздушная тревога, воздушная тревога! — приоткрыв дверь, закричала тетушка Варга. — Будьте наготове, в Дунафельдваре уже дан сигнал «Внимание!»
— Тысяча извинений… позвольте, я в другой раз доскажу… Быстрее собирайте картотеку! — засуетился господин Лустиг и торопливо принялся впихивать в металлические коробки разложенные листки картотеки. — Помогите же, Йолика, Аннушка, соберите хоть дневники…
Обе девушки, будто назло старику, продолжали хохотать. Аннушка перелистывала книгу.
Вдруг на улице раздался дикий грохот: почти одновременно, как по команде, опустились жалюзи магазинов. Затем наступила томительная тишина: машины, трамваи остановились. Лишь где-то далеко орало радио: «Воздушная тревога, воздушная тревога! Будапешт, Будапешт, Будапешт, внимание! Будапешт, внимание!» Дворничиха с ожесточением забила в колокол, завыли сирены.
— Вы что, оглохли? Почему не складываете картотеку? — крикнула Агнеш.
йоли и Анна с недоумением уставились на нее.
— Вы только посмотрите, — произнесла Йоли и, подойдя к самой двери, остановилась против Агнеш. — Ты что, вздумала нами командовать, соплячка? Если тебе очень нужна картотека, то сама и собирай. Пошли, Анна.
С этими словами она подхватила Декань под руку и потащила ее в убежище.
Господин Лустиг в страхе засовывал в ящик стола дневники. Агнеш бросилась к себе в комнату и заперла письменный стол. Будто бомбе не все равно, повернут ключ в замке или нет. Сирены завыли в третий раз. Большая комната опустела. По коридору тоже расхаживали одни только постовые. Когда Агнеш наконец добралась до убежища, уже закрывали железную дверь. В сводчатом темном подвале вдоль стены стояли в два ряда скамейки. Сидя на них, жались друг к другу обитатели дома. При плохом свете их испуганные лица казались зеленовато-серыми. Нагромождение вещевых мешков, одеял, джемперов, снеди делало спертый, пропахший плесенью воздух еще более удушливым и тяжелым. Жена электромонтера со второго этажа Райзи причитала:
— Если не от бомбы, так от вони подохнем.
Она зло размахивала вымазанными в тесте руками. Тревога застала ее как раз в тот момент, когда она месила тесто, и Райзи едва успела прикрыть его посудным полотенцем. «Теперь кто знает, подойдет ли этот злосчастный калач. А с каким трудом удалось достать немного муки, сахару в это проклятое время. Дрожишь над ним, и хорошо еще, если пропадет только тесто, а мы останемся целы…»
Послышался глухой грохот. Сразу же воцарилась тревожная тишина. Паланкаи, сидевший в самом дальнем углу убежища, под картиной «Возвращение блудного сына», весь скорчился, как будто у него заболел живот.
Картину здесь повесили на прошлой неделе в ответ на обращение «Actio Catolica»[12], чтобы «в часы испытаний пробуждать в душах смертных покаяние». Под картиной поставили четырехугольный столик и покрыли его кружевной салфеткой, пожертвованной дворничихой. Позднее по предложению Татара служащие Завода сельскохозяйственных машин купили на свои средства распятие, а жильцы дома украсили этот импровизированный алтарь свечами и цветами. Райзи положила на стол подснежники, сказав при этом, что если они и не принесут пользы, то, во всяком случае, не повредят. Несколько старух опустились вокруг алтаря на колени и принялись перебирать четки.
Паланкаи, спускаясь в убежище, проявил удивительное проворство. При первых же звуках сирены он запер письменный стол, схватил и сунул под мышку учебник японского языка и, прыгая через три ступеньки, ринулся вниз.
Когда проревела сирена во второй раз, Эмиль уже стоял перед «Блудным сыном» и, глядя на покаявшегося грешника, клялся, что отныне систематически будет ходить на молитву и по пятницам не будет есть мясо.
Снова донесся откуда-nо мощный взрыв. Начальник ПВО дома тетушка Варга сказала, как тому учили на курсах, стараясь сохранить присутствие духа жильцов:
— Не бойтесь… это дверь захлопнули.
— Наверное, большую дверь, — заморгал глазами рыжий портной с первого этажа.
— Бомбу сюда не бросят, вот увидите… И раньше были тревоги, но просто так, для острастки… На центр города, на жилые дома бомб не бросали, — сказал старый Коллар, маcтеровой, тоже живущий на первом этаже.
— Не бросали? А заминированные куклы, которые отрывают руки детям? — вмешалась дворничиха.
— Это сказки, мамаша. Вы их видели, эти куклы? — спросил портной.
— Ну-ка, заткнись, большевистская морда! — послышался злобный окрик из глубины подвала. — Прикуси язык, иначе сведу куда следует!
Все с удивлением посмотрели на Паланкаи, который размахивал руками, стоя перед «Блудным сыном»; один рыжий портной испуганно спрятал голову в плечи.
— Если хотите знать, они действительно сбрасывают заминированные куклы. Враг предпринимает террористические налеты на мирные города. Но мы не боимся.
Бум! На сей раз громыхнуло совсем рядом.
Паланкаи выпучил глаза, два-три раза молча открыл рот и сел.
В подвале громко засмеялись. В этот раз действительно хлопнула дверь. Пришли постовые и сообщили, что тревога кончилась.
Пока длилась воздушная тревога, Агнеш думала, как отнесется к ее назначению Тибор. А как он узнает об этом? Ведь она ни за что не станет ему звонить. Тибор должен был сам дать о себе знать и извиниться, что не пришел в четверг на концерт… А если он не позвонит? Ну и пусть, она от этого не умрет.
Все возвратились в контору.
Агнеш села за письменный стол, достала из ящика работу, которую ей следовало закончить, — она передаст свои дела двум другим практикантам и завтра утром займет кресло главного бухгалтера.
На столе Кета зазвонил телефон. Агнеш вздрогнула, когда Миклош сказал в трубку:
— Здравствуйте, Тибор… Короче говоря, не ладятся дела с девизой? Сожалею, но это касается уже не меня. Я ухожу в армию. Наш новый главный бухгалтер — барышня Чаплар. Впредь будете с ней решать эти дела… Да, сейчас позову.
— Целую ручки, Агнеш. Не сердитесь, что я не мог вам позвонить насчет концерта, эти бесконечные тревоги… — начал Тибор.
«Как ты складно умеешь лгать», — подумала Агнеш. Впрочем, зачем ему лгать. Может быть, он и правда хотел ей позвонить. Она тотчас же согласилась на просьбу Тибора после работы ровно в пять часов встретиться у Оперы и обо всем поговорить — и о личных и о служебных делах.
«Да ведь мы работаем до половины шестого, а потом еще надо идти на почту», — хотела было сказать Агнеш. Но тут же вспомнила, что теперь она главный бухгалтер, начальник отдела. Ее не станут больше посылать с поручениями. Отныне, подобно Кету, Татару или госпоже Геренчер, она может сказать другим: «Я ухожу по делам и больше не вернусь…»
— Ладно, встретимся, — и, обрадованно засмеявшись, положила трубку.
Тибор уже ждал ее. Держа в руке завернутую книгу и тщательно перевязанный ленточкой сверток, он прохаживался перед Оперой взад-вперед; завидя Агнеш, Тибор улыбнулся и торопливо пошел ей навстречу.
— Приветствую новоиспеченного главного бухгалтера, — галантно раскланялся он. — В знак моей глубокой почтительности примите этот скромный дар.
— Боже мой, вы что, стали вдруг снобом? Поклоняетесь чинам и рангам?
— Я признаю только заслуги. Но если еще и красота сочетается с заслугами…
Агнеш от смущения покраснела. Еще в школе она считала себя неуклюжей дурнушкой. Среди ее подружек действительно были красивые девушки: цветущие брюнетки с пышными волосами, сверкающими глазами, противницы всякой школьной формы, носившие, несмотря на запрещение, шелковые чулки. Выйдя за ворота шкслы, эти девушки прятали в карман форменную шапку и ловко пудрили нос. В десятиминутные перемены они собирались стайками, шушукались о мальчишках и многозначительно хохотали. Стройная белолицая шатенка Качи Барта показывала любовные письма. Буци Хорват, самая старшая в классе, вполне оформившаяся шестнадцатилетняя девушка, с гордостью рассказывала о том, что можно целоваться не только так, как целует брат или мать… В такие моменты Агнеш забивалась в конец школьного коридора, туда, где жена школьного сторожа тетушка Шедлер продавала булки с сыром и яблоки. Агнеш случалось ходить с друзьями своего брата Карчи в кино, на танцы или на прогулку в Надьрет, но те никогда не награждали ее такими комплиментами, какие мальчики говорили Барте или Хорват. И раз уж она некрасива, то лучше одеваться скромнее: носить темно-синее платье английского покроя, ботинки со шнурками на низком каблуке и коротко стричь волосы, закалывая их с обеих сторон гребешком. Еще никто не говорил, что она красива. Ее называли милой, умной, сообразительной, старательной, но это только раздражало ее, внушало назойливую мысль: другие девушки красавицы, а я — дурнушка.
Какой-то миг Агнеш подозрительно и с опаской смотрела на Тибора, боясь, что он только шутит или насмехается, и почувствовала, как вся кровь прилила к лицу. Девушка покраснела, глаза ее заблестели, но, оправившись от смущения, она выпрямилась и, мягко ступая, пошла рядом с парнем. Солнечный свет заиграл в локонах ее русых волос; поправляя гребешок, Агнеш впервые ощутила, как они, мягкие, шелковистые, рассыпаются под кончиками ее пальцев…
— Можно посмотреть, что это?
— Разумеется, конечно. Я сам разверну.
Из шуршащей бумаги появилась книга Томаса Манна «Подмененные головы».
— Читали?
— Нет, не читала.
— Она вам понравится. Знаете, в радости — блаженство верующих, именно ради этого они живут…
Тибор остановился, достал свою авторучку и нарисовал на обложке книги череп с двумя характерными штрихами — маленькие черные усы и свисающую на лоб прядь волос: точь-в-точь Гитлер. Агнеш в испуге схватила книгу и прижала рисунок к себе. Тибор громко засмеялся.
— Не бойтесь, Агнеш. Ведь в конце концов мы никого не собираемся обижать, а хотим мирно жить и помнить, что немцы — это не только господа нацистские полковники, но и Гёте и Бетховен. У нас нет иного спасения, кроме культуры… пока пройдет буря… забиться в угол и читать «Тонио Крегера»… читать «Подмененные головы», «Удивительную рыбную ловлю» и слушать музыку. Кстати, в наказание за пропущенный в четверг концерт не желаете ли вы пойти со мной завтра в консерваторию и послушать «Мейстерзингеров»?
Прежде они никогда не ходили под руку. На сей раз Тибор нежно притронулся к локтю Агнеш. От этого прикосновения рука ее сразу онемела; в знак согласия она кивнула головой.
Дул теплый, бодрящий весенний ветер, по улице не спеша брели люди, толпы зевак стояли перед витринами магазинов. Было так приятно, прижавшись к милому, идти с ним рука об руку. Если бы не пестрели белые полосы на краю тротуара, а окна домов не были проклеены крест-накрест бумагой и если бы столько солдат не шныряло по городу — ничто бы, наверное, не напоминало о войне.
— Пойдемте, посидим с полчасика, — остановился Тибор перед кондитерской.
Зал был битком набит. Над круглыми столиками, покрытыми ажурными скатертями, подобно голубому туману, вздымался табачный дым. В самом углу шумная компания играла в бридж. Среди игроков сидели две довольно толстые женщины, руки которых были увешаны золотыми браслетами. Старшей, в коричневом шелковом платье с глубоким вырезом, было лет под пятьдесят, а младшая, в василькового цвета жоржетовой блузке с высоким воротником, казалась лет на двадцать моложе. Увидев Тибора, обе дамы приветливо замахали руками. Один из мужчин, до смешного худой, с моноклем, не отрываясь от карт, тоже громко поздоровался с ним. Тибор поклонился, но не задержался у их столика и не стал объяснять Агнеш, что это за компания. По-прежнему прижимая к себе руку девушки, он повел ее в самый дальний угол зала и, сдвинув два мягких кресла, пригласил сесть.
— Войне скоро конец, — произнес Тибор, обнимая правой рукой за талию Агнеш. — Вот увидите, англичане через несколько дней высадятся на Адриатическом побережье и придут сюда.
Агнеш ощущала лишь руку, обхватившую ее талию, и ничего не слышала. Какое ей дело до того, что задумали англичане на Адриатике?
Однако Тибор, склонившись к ней совсем близко, словно признаваясь в любви, продолжал:
— Теперь, Агнеш, надо быть умней. Сейчас в ваших руках вожжи, и вы должны пользоваться ими умело.
— Как? — спросила она с недоумением.
— Видите ли, вам не следует стремиться наводить порядок в бухгалтерии.
В этот момент мужчина в смокинге и с короткими усиками вышел на середину зала и уселся за пианино. Затем на небольшой, почти квадратный помост под бурные аплодисменты публики выбежала женщина лет тридцати — тридцати пяти. В ее ниспадающих до самых плеч черных волосах красовалась белая роза. Певица была в белоснежном до самого пола муслиновом платье декольте. Верхняя часть платья плотно облегала тело, а пышная юбка спадала мягкими свободными складками. Единственными украшениями наряда служили узенький черный бархатный поясок и такая же черная, но более узкая бархотка на шее — вместо цепочки. На ней висел украшенный бриллиантами массивный золотой крестик.
У Агнеш закружилась голова, ей вдруг стало не по себе. Она тоже носила крестик, который подарила ей в детстве крестная мать, но прятала его под одеждой. Давно, когда цепочка была еще новая, ей не раз хотелось повесить крестик поверх платья, но мать не разрешала. «Держи святой крест поближе к сердцу и не бахвалься им».
— Что с вами, Агнеш? Отчего вы загрустили?
— Ничего. Право же, ничего.
Актриса поправила микрофон, махнула белым муслиновым платочком пианисту и грудным, глубоким голосом запела модную песенку: «Лишь день дано нам жить, а жизнь — всего лишь поцелуй…»
За столиками притихли, женщины мечтательно закрыли глаза, кое-кто напевал вместе с певицей: «Кто знает, что ждет нас впереди, кто знает, что принесет нам завтра…»
— Бухгалтерию нечего приводить в порядок, — зашептал снова Тибор. — Надо тянуть время, остались какие-нибудь одна-две недели, в крайнем случае месяц…
— Но почему?
— А разве вам Кет ничего не сказал?
— Нет.
— Вы даже не знаете, что Ремеры вывозят свое состояние?
— Не знаю, — так же тихо прошептала Агнеш.
Тибор минуту помедлил. Раз шеф счел целесообразным назначить Агнеш главным бухгалтером, то вполне можно рассказать ей всю правду. К тому же девушка так влюблена в него, что, если даже станут ей вгонять иголки под ногти, она не выдаст.
Он нежно погладил талию Агнеш. Ее юное тело настороженно вздрогнуло, словно бутон, от прикосновения его руки.
— Стокгольмское агентство, куда еженедельно завод отправляет четыре вагона товаров, — вовсе не агентство, а просто транспортное предприятие. Как только прибывают вагоны, их тут же переправляют к Ремерам в Лондон. Понимаете? Вырученные за товар деньги в течение шести месяцев должны поступить к ним, но они не поступают, и завод постоянно просит у Национального банка отсрочки на уплату девизы… Денежные операции производит банк, в котором референтом Завода сельскохозяйственных машин работаю я, поэтому с нашей стороны придирок не будет. Бухгалтерия теперь в ваших руках. Гак вот и запутайте дела так, чтобы сам бог не разобрался в шведских поставках… С чиновниками будьте построже, ругайте на чем свет стоит Кета за то, что запущен бухгалтерский учет. Начните проверку текущих счетов бог знает какой давности. Устройте скандал из-за того, что стоимость карандашной точилки занесена не в ту графу. Только об экспортных сводках позабудьте. Что касается ревизии, то вы не беспокойтесь. В Венгрии за подлоги в бухгалтерии или налоговом деле в тюрьму пока никого не сажали. В крайнем случае Император посулит контролеру несколько тысяч. От этого он не обеднеет. К тому же вас только назначили, какой с вас спрос?.. Выпьете еще кофе? Или коньяк?
— Нет, нет… у меня и без того голова пошла кругом.
Тибор засмеялся.
— Вы, наверное, думали, что раз в школе получили пятерку по бухгалтерскому учету, то теперь для вас открыты все тайны мира.
— А что будет после войны с теми товарами? Их привезут обратно?
Тибор пожал плечами.
— Видите ли, Ремеры основали в Лондоне завод, и если пожелают, вернутся на родину, если не захотят, останутся там. Их деньги, их дело.
— Но я сейчас, думая об этом, учитываю государственные интересы.
Тибор выпил рюмку коньяку, подпер голову кулаками и посмотрел девушке в глаза.
— Любопытно. Что же вы думаете об этом с учетом государственных интересов?
Агнеш смутилась.
— Я думаю… это измена родине, это разоряет страну.
— Верно. Измена. А что такое родина?
— Родина? — оторопело переспросила Агнеш. — Родина, так сказать… все, что нас окружает… люди, природа… страна.
— Какие люди?
— Родители… вce, кого мы любим.
— А почему бы вам сразу не продекламировать те прелестные стишки, которые вы учили в школе: «Знаете ли вы, чго такое родина? Тот уголок земли, где мы родились…» Вы помните продолжение? Ах, да, вспомнил: «Ветви акации тянутся к окнам, под стрехой ласточек радостный щебет, куда бы счастье ни унесло вас, родину эту не забывайте…»
— Я не знаю этого стихотворения, — подняла голову Агнеш.
— Полноте. Ведь его учат в третьем классе начальной школы.
— Я не здесь кончала начальную школу.
— А где?
— В Чехословакии. Там я и родилась.
— Восхитительно! Так где же ваша родина?
— Здесь.
— Почему?
— Потому… потому что мои родители венгры, потому что мой родной язык венгерский, я здесь училась в средней школе… потому что я люблю Будапешт.
— Великолепно. А теперь я вас попрошу на основании столь блестящих и убедительных аргументов определить, где моя родина. Ладно?
— Попробую, — улыбнулась Агнеш.
— Все начинается просто. Родился я в Будапеште, но мать у меня — австрийка, а отец — секейский дворянин. Родных языков у меня сразу три. От бабушки по отцу я научился говорить по-венгерски, от матери — по-немецки, а от мадемуазель Дюфриш — по-французски. До двенадцати лет я каждый год проводил каникулы в Чикских горах, карабкался на скалы, жил в шуме холодных как лед горных ручьев, среди сине-зеленых сосен, наслаждался видом резных секейских ворот и песнями пастухов. Но зимой я все-таки больше любил Пешт, искусственный каток, молодежные спектакли в городском театре и в «Урании», любил величественное кирпичное здание гимназии на улице Марка, ребят, с которыми нередко дрался до синяков. Когда же мне исполнилось двенадцать, я попал в Вену к бабушке и бродил по Рингу, Кертнерштрассе или Мариахильферштрассе, так же как у себя дома по Бульварному кольцу или по проспекту Ракоци. В огромном парке Бурга я готовился к экзаменам на аттестат зрелости, там же впервые влюбился в белокурую венскую девушку, по имени Лизл, фамилии которой уже не помню. Затем два года я учился в Риме, полгода занимался живописью во Флоренции и почти год скитался по Европе. Блуждая среди крохотных магазинчиков на Понте Веккио, я засматривался на серебристую гладь Арно, в Лувре преклонялся перед мраморной Венерой, а в дождливые осенние сумерки вспоминал Ади на берегах Сены. Так что, Агнеш, родина — это вся земля. Сегодня ее границы проводят, а завтра их стирают. Надо искать нечто вечно человеческое. Кардуччи достоин такой же любви, как Петефи, как лавры Южной Италии, как цвет акаций на Алфельде… Думаете, Колумб только в угоду испанской королеве Изабелле открыл Америку? Шекспира могут присвоить себе англичане? Разве Кох и Эдисон принадлежат одной нации? Ошеломляющий парадокс: человек — это маленький, одинокий, слабый индивид, его жизнь не что иное, как мимолетная тоска по прекрасному, и, поверьте, эта непонятная маленькая судьба едина для всего человечества. Понимаете?
Агнеш молчала.
Мягкий теплый голос Тибора волновал и тревожил ее, его убедительные доводы пугали и были непонятны.
— Одним словом, — опять начал Тибор, но, посмотрев на девушку, вместо того, чтобы сказать: «Рассчитываю на вашу помощь», — вежливо наклонил голову и закончил фразу: — в воскресенье мы пойдем на «Мейстерзингеров». Если позволите, я зайду за вами. Заказать еще что-нибудь?
— Да. На сей раз — коньяк.
Коньяк с непривычки обжигал горло. Агнеш пила его медленно, любуясь граненой рюмкой и золотистым напитком. «Как выглядит Понте Веккио?» — подумала она.
— За что выпьем? — спросил Тибор и протянул девушке вторую рюмку. — За мир? Или за счастье? Или вы не скажете мне?
По требованию публики певица снова вышла на помост, и из-за шума в зале Тибор не расслышал, что ответила ему Агнеш.
Дома
Отарый Карой Чаплар каждую субботу уходил домой несколько позже обычного. Смена кончалась в два часа, но с трех до пяти проходило собрание «Общества взаимопомощи добрых друзей». Собрание проводили в корчме, которая называв лась «Лучше, чем дома», в отдельной шестнадцатиметровой комнате с побеленными стенами, где вся мебель состояла из трех тесовых без скатертей столов, нескольких расшатанных стульев и железной печки. Над трубой печки от дыма и копоти образовались фантастические картины. Если внимательнее присмотреться, то можно было обнаружить огромного сарацина из сказок «Тысячи и одной ночи», скачущий табун лошадей и обуглившийся папоротниковый лес. Но всего этого не замечали, так же как не читали и не принимали всерьез приколотых к стенке строгих надписей: «Пьяных не обслуживаем», «В кредит не даем», «Рюмок не уносить», «Плевать воспрещается». Единственной картиной, которую, как видно, все-таки заметили, был портрет сына Хорти в траурной рамке. Рядом с ней на стенке кто-то вывел углем: «Подохла пьяная свинья». Под этой надписью уже другим почерком было написано: «Дохлую собаку не пинай, ты сам — пьяная свинья».
Перед четырьмя членами общества скромно стояла полулитровая бутылка вина и сифон содовой воды. Это было последнее заседание. Общество распускалось. Деньги уже возвратили членам: с трудом удалось выплатить только взносы, процентов никому не досталось. Руководители и вовсе ничего не получили. Да и как могло быть иначе, когда все только и знают, что просят пособия, а возвратить деньги не могут и даже не в состоянии выплатить проценты. Варга ушел в армию, пришлось дать его жене двести пенге. У Ковача старший сын погиб на фронте, и сейчас к нему переехала невестка с тремя малышами — опять извольте сказывать помощь.
Члены общества сидели молча. Наконец поднялся старый Варна, разлил в стаканы остатки вина и, положив руку на плечо Кароя Чаплара, сказал:
— Итак, друзья, пришел и этой затее конец. Вот что вышло из наших накоплений!
Молнар, худой, с маленькими усиками и испуганными глазами, передернул плечами.
— Да, пожалуй, лучше разойтись… Теперь, стоит с кем-нибудь поболтать за кружкой пива, и тебя вызывают на допрос.
— Мог бы и раньше отказаться, если боишься…
— Я не потому говорю.
— Ровно через год снова оживут «Добрые друзья», — проговорил Чаплар.
— Через год? Через три месяца! — Сказав это, четвертый член общества, конопатый, худой юноша Андраш Беке, тоже встал. — Не пройдет и недели, как начнется наступление, пожалуют томми, вот увидите.
— Ну, если ты ждешь англичан, то прежде поседеет твоя рыжая борода, — оборвал его Чаплар. — Русские уже у Карпат, берут перевалы…
— Пока-то они переползут через Карпаты…
— Скорее, чем твои приятели переплывут море.
— Завели шарманку — те придут, другие придут, пусть только приходят, верно? — вмешался в разговор Молнар.
— Нет, не верно, — посмотрел на него Барна. — Если придут русские, тогда мы повторим здесь девятнадцатый год. Не правда ли, Чаплар? Помнишь, Карчи, как тогда было славно? Мы даже в университет ходили.
Молнар захохотал. Веснушчатый Беке с недоверием озирался: нет ли в их словах какого подвоха?
— Что? В университет?
— Ну, будет вам, довольно, — проворчал Чаплар. — Дело было так. Возвращались мы, красноармейцы, из наряда домой. Видим, висит на улице объявление, а в нем говорится, что преподавание в университете бесплатное… Лайчи и говорит мне: слушай, Чаплар, давай-ка заглянем… Если буржуям полезно, так, наверное, и нам не повредит. Входим, никто у нас ничего не спрашивает, ну, мы прямо в зал. Уселись на самой задней скамье. Молодежи там тьма-тьмущая, и красноармейцы попадаются. Какой-то юнец речь держал, я уж и не припомню, про что…
Беке и Молнар засмеялись.
— Ну, а я не забыл, — перебил его дядюшка Барна. — Про Дердя Дожа[13]. Даже стишок какой-то читал.
Карой Чаплар с удивлением посмотрел на старого Варну. Словно давно замурованные сокровища вдруг рассыпались перед ним — из глубины памяти ясно и отчетливо выступила картина: стоят они в конце зала, и кажется, будто их спрашивает поэт: «Разве вы не слышали про Дердя Дожа?»
— Верно, твоя правда — про него… Я тоже вспомнил.
— А на другой день? — спросил Беке.
— Что — на другой день?
— Вы опять пошли в университет?
— Что ты! На следующий день мы на фронт отправились, защищать Шалготарьян. Там-то и погиб мой брат Фери.
— Паршивое дело — война, — проговорил Беке, ставя стакан.
Варна хотел было ответить, но передумал и только махнул рукой.
— Пойдем, уже поздно.
Чаплар успел вскочить в пригородный поезд. Сидячих мест не было. Ежась в тамбуре, он смотрел на серые, голые поля и думал: не стоило рассказывать об университете. Дело прошлое, к чему вспоминать, что когда-то ты был красноармейцем. Еще, чего доброго, беду наживешь. В грозу лучше спрятаться и переждать, тем паче, если тебе пятьдесят лет и у тебя трое детей…
Поезд опаздывал. То и дело останавливаясь, он так полз, что хотелось выйти и подтолкнуть его.
Когда добрались до конечной станции Шорокшарской дороги, стало совсем темно. Чаплар, голодный как волк, с трудом добрался домой.
Во дворе старого трехэтажного доходного дома дети играли в «тревогу»; широко расставив руки, они с визгом бегали взад и вперед и неистово кричали: «Воздушная тревога!» По балкону второго этажа носились женщины, среди них Чаплар увидел свою жену и дочь.
— Ну, если воздушная тревога, быть мне без ужина, — проворчал Чаплар.
Женщины выскакивали на балкон, чтобы предупредить друг друга, когда радио передает зловещее: «Внимание, Бачка-Байа!»
Поднимаясь по полуразвалившейся лестнице, старик осторожно ощупывал в темноте носком ботинка опасные места: покосившуюся пятую ступеньку, зияющую на повороте дыру, где отсутствовали две плитки и где недавно беременная жена Варьяша сломала ногу. Он издали поздоровался с женщинами.
— Как хорошо, что вы пришли, господин Чаплар, — обрадовалась дворничиха, — идите скорее, вас ждет большая радость.
«Не иначе Гитлер подох, — пронеслось в его мозгу. — Не зря весь дом запрыгал».
Не успел он прочувствовать эту мысль, как жена бросилась ему на шею.
— Отец, какое счастье, нашу дочь назначили главным бухгалтером.
— Что такое? — спросил он, ничего не понимая.
— Аги вызвал к себе генерал-директор… и дал ей должность главного бухгалтера.
Чаплар побледнел.
— Сейчас же ступайте в комнату. И ты и Аги. Спокойной ночи, — поклонился он женщинам.
Гетушка Чаплар только рукой махнула, дескать, у муженька ум за разум зашел, но все-таки покорно, немного робея, последовала за ним.
— Ужинать будешь? — спросила она на кухне.
У Чаплара уже пропал аппетит. Он вошел в комнату с альковом и застал там сыновей — ученик шестого класса Ферко корпел над уроками, а Карчи, старший, поставив на комод зеркало, намыливал лицо. Он собирался пойти с невестой в кино.
— Не надо ужина! — крикнул старик с порога. — Никаких ужинов. Идите сюда да расскажите толком, что это еще за свинство.
Сыновья подняли глаза и застыли от удивления. Неужто это их отец кричит?
Тетушка Чаплар вслед за мужем вошла в комнату и оперлась на стол.
— В чем дело? О каком это свинстве ты говоришь?
— Это мне спрашивать, а не тебе! Может, пускай лучше твоя дочь расскажет. Так кто ты теперь такая? — обратился он к дочери.
Агнеш охватило негодование. До каких пор с ней будут так обращаться? Пока была практиканткой, госпожа Геренчер топтала ее ногами, а теперь отец начинает?
— Вы же слышали. Меня назначили главным бухгалтером.
— Прекрасно. А за что?
— Как за что? — вмешалась мать. — За то, что умеет хорошо вести бухгалтерию. Ценят ее. За то, что у нее есть аттестат зрелости. Аги еще многого добьется в жизни. Она моя дочь. Это я настояла, чтобы она продолжала учение. Ты и этому противился. Тебе хотелось, чтобы я отдала ее в портнихи или послала в Кишпешт на ткацкую фабрику…
— Не с тобой говорю. Почему назначили? — настаивал Чаплар, пододвигая к себе стул с высокой спинкой.
— Что ж, назначили, потому что я хорошо умею считать…
— Ну, конечно. Я же говорю. Но ты… — не унималась мать.
— Помолчи, — перебил он ее. — Послушай меня, доченька. Ступай завтра к директору и скажи ему: большое вам спасибо, но я этой должности принять не могу. Понимаешь? Русские уже у Татарского перевала… Сейчас в эти дела нечего впутываться. Когда господа так легко раздают чины, то лучше держаться в стороне… Завтра утром пойдешь к нему…
— Никуда не ходи, еще чего не хватало. Не слушайся этого полоумного… Довольно того, что он мою жизнь испортил…
— Испортил? Что же я такого сделал тебе?
Дети с ужасом слушали грызню стариков. В руке Карчи застыла бритва, на одной щеке засохло мыло. Размазав тушь по чертежу, Фери отложил в сторону линейку и не мог продолжать занятия по геометрии. Агнеш на несколько шагов отступила назад, как бы ища защиты у братьев.
— Приволокся в полночь, — кричала мать, — промок весь до нитки, ни пальто, ни шапки, башмаки драные, впустила я тебя — тем только и спасся, что переплыл Дунай… Уложила в собственную постель, кормила, поила, прятала целый год, дрожала из-за тебя… Ты был нищим, исю жизнь бродяжничал, последний филлер я истратила на тебя. Сколько лет ты шлялся без работы? Пять? Десять? Другие мужья женам шубы покупали, золотые цепочки, а я даже пары яиц не могла себе позволить купить за каких-то шесть филлеров. Будь она проклята, эта нищета… Тогда-то ты обещал золотые горы: «Воспитаем наших детей так, чтоб они стали господами и не нуждались в чужой помощи…»
— Я никогда не собирался делать из своих детей господ! — кричал в ответ отец. — Я этого никогда не говорил.
Агнеш и братья, казалось, были в полном оцепенении. Этот взрыв был для них непонятным и неожиданным.
— Права была моя матушка, моя дорогая матушка, проклиная меня за то, что я вышла за тебя замуж. Эх, почему я тогда не образумилась…
— Довольно, — приглушенно произнес Чаплар, но так, что старуха вздрогнула и умолкла.
— Если кто и вправе предъявлять претензии, так это я, — продолжал он тихо. — Меня все считали тряпкой. Говоришь, ты прятала меня? Кормила? Дрожала из-за меня? А разве я не отработал уже тысячу раз тот кусок хлеба и головку репчатого лука, которые вы мне давали? Не я ли ворочал навоз, чистил лошадей, таскал из колодца по двадцать ведер воды? Не я ли крыл черепицей дома, белил амбары, ходил с поденщиками косить, только бы ты была спокойна? Говоришь, я не мог устроиться на работу? А кто имел тогда работу, когда мы вернулись в Будапешт? Разве моя в том вина, что проклятые буржуи завели здесь такие порядки? Ты забыла, как я работал грузчиком, убирал снег лопатой, ходил пешком на пилишверешварскую шахту? Не я ли отправлялся, холодный и голодный, из дому, только бы вам досталось больше хлеба? Что же я еще должен был делать?
— Ничего, — ответила старуха. Вытерев заплаканные глаза, она круто повернулась, подошла к шкафу, достала пальто и сунула в карман коричневый кошелечек.
— Агнеш, одевайся, пойдем в кино. А ты, если голоден, ищи ужин на кухне.
— Я не пойду, — отказалась Агнеш.
— Тогда я приглашу Такачне, — сказала мать, пожав плечами.
Чаплар все еще стоял у стола.
— Пусть же мои дети знают, — вдруг повысил он голос, — я был красноармейцем, был коммунистом. А буржуям все равно крышка, скоро и у нас и во всем мире восторжествует коммунизм.
Бледный как смерть Фери, ученик шестого класса, встал и подошел к отцу.
— Папа… тогда ты предатель. И я должен заявить о тебе в полицию.
— Что? Как ты сказал? — переспросил отец, и его глаза налились кровью. — Вот чему ты, сынок, научился по книгам своей крестной матери. Ступай же, ступай и доноси на своего отца.
— Фери, помолчи, — рявкнул на него старший брат. — Ты ведь ничего не понимаешь, что делается в мире. Отцу многое пришлось испытать на своем веку…
— Да? — спросил Ферко и, подражая инструктору бойскаутов Комароми, стал, подбоченясь, перед старшим братом. — Ну что ж, Карчи, защищай, защищай коммунистов. Я и на тебя донесу.
— Дурак, — ответил брат и повернулся к зеркалу. Ему казалось, что опять можно приняться за бритье.
Фери схватил свою шапку-бойскаутку, сорвал в прихожей с гвоздя пальто. Мать, хлопнув дверью, вышла вслед за ним. Чаплар некоторое время расхаживал взад-вперед, затем молча ушел.
Агнеш вздохнула.
— Пойти выгладить на завтра блузку…
— Отец прав, — тихо произнес Карчи. — Да, прав. Я вот уже восемь лет гну спину в жалкой мастерской жестянщика и знаю, что такое буржуи…
— Но ведь я дала согласие…
— Дело твое. Только бы этот глупый щенок не наболтал чего… Ну, я пошел к Аннушке. И так на хронику уже не успеть.
На кухонном столе погладить не удалось. Он был завален грязной посудой. Мать в расстроенных чувствах все бросила и сбежала. Агнеш поставила на газ кастрюлю, села на табурет и стала ждать, когда закипит вода. На сердце у нее было тяжело. И, странное дело, думала она не об отце, не о матери, а о своей собственной жизни и о Тиборе. Она тряхнула плечами, словно желая сбросить с них какой-то очень тяжелый груз, и громко проглотила слюну.
«Нет, нет, так жить нельзя, — рассуждала Агнеш, сдерживая слезы. — Нельзя допустить, чтобы и моя жизнь была такой, чтобы и мы, прожив вместе лет двадцать пять, стали упрекать друг друга…»
И по мере того, как она повторяла и повторяла слово «нельзя», все глубже, все непреодолимее становилась очевидная пропасть между ней и Тибором. После двадцатипятилетней совместной жизни? Да разве есть надежда, что они поженятся? Нужна она Тибору?
Вода уже давно вскипела, белый пар облаком носился по кухне, а Агнеш, сложив на груди руки, продолжала сидеть на месте, и по ее лицу катились слезы.
Ей было больно от сознания того, что она может потерять Тибора, веселого синеглазого Тибора с каштановыми волосами, концерты по четвергам, приятные прогулки вдвоем…
Вода уже совсем выкипела, в кастрюле начала трескаться эмаль, но Агнеш не замечала этого. Она вытерла глаза, покрасневшее от слез лицо… «Я хочу стать его женой… люблю только его… и никогда, никогда не буду любить другого».
Кто-то постучал в кухонную дверь.
Агнеш отстранила занавеску и с ужасом отпрянула назад. Возле двери стоял Тибор.
Что делать? Открыть дверь и показаться ему с таким опухшим лицом, носом?..
— Вы что, Агнеш, не найдете ключа? — услышала она голос Тибора: — А я очень спешу.
— Я сейчас открою, — ответила она и отодвинула задвижку.
— Здравствуйте, — произнес Тибор, сделав вид, будто не замечает ни грязной посуды, ни заплаканного лица и красного носа Агнеш. — Не сердитесь, что зашел к вам в такую пору. Я забежал проститься.
— Про…ститься…
— Меня мобилизовали. Осталось лишь несколько минут свободного времени. «Мейстерзингеров» послушаем после войны.
Девушка ничего не ответила. Она подошла к Тибору, положила ему на плечо голову и горько заплакала. Тибор допускал, что Агнеш пустит слезу, но к рыданиям он вовсе не был подготовлен и смущенно гладил волосы девушки.
— Что вы, что вы! Ведь не обязательно я должен погибнуть. Знаете, я на днях читал статистику Тридцатилетней войны. Так вот, несмотря на то, что она длилась тридцать лет, все же были счастливчики, которые пережили ее. А мне через тридцать лет стукнет только пятьдесят пять!
— О Тридцатилетней войне никакой статистики нет, — ответила Агнеш сквозь слезы.
— Может быть, точно не помню… — признался Тибор. — Но я не хочу, чтоб вы плакали, иначе мы не сможем поговорить о разумных вещах.
— О чем вы хотите поговорить?
— Ну, скажем… о том, что я был бы очень признателен, если бы вы одолжили мне свой чернильный пузырек с завинчивающейся пробкой. У меня, видите ли, нет такого пузырька, и я боюсь испачкать чернилами белье… Дадите?
— О, разумеется…
Агнеш словно во сне слышала эти слова. Тибор привлек ее к себе и обнял.
— Ну, возьмите себя в руки, Агнеш. Будьте хорошей девочкой. И если сердиться, то только на войну… война — самое последнее дело на земле. Неплохо бы так устроить мир, чтобы все люди любили друг друга. Старик бог немного напортил, когда создавал небо и землю.
— Не говорите так о боге, ведь вы уходите на фронт, — попросила Агнеш, нахмурив лоб. Она сняла с шеи тоненькую золотую цепочку, поцеловала крестик и надела на шею Тибора.
— Желаю вам счастья, — перекрестила она юношу.
— До свидания, Агнеш, — сказал Тибор, еще раз прижимая ее к себе.
Агнеш видела, как исчезла его фигура в широком раструбе лестничной клетки, затем медленно, по-старушечьи повернулась и закрыла кухонную дверь.
Голубая шелковая блузка валялась на стуле. Теперь уже не было надобности гладить ее.
Миндалька
Чиновники центральной конторы акционерного общества «Завод сельскохозяйственных машин» еще в тысяча девятьсот сорок третьем году купили в складчину корову. Предложение исходило от Татара. По его же просьбе Ремер позволил держать корову в конюшне шомошской шахты. Госпожа Геренчер не замедлила прикинуть на бумаге, какую пользу можно ожидать от этой смирной скотины. Прежний владелец заверял, что Миндалька будет ежедневно давать литров пятнадцать молока. Если предположить, что он половину приврал, то и тогда получается семь с половиной литров. Если распределить их на одиннадцать человек, то еженедельно каждому перепадет почти пять литров молока или же соответствующее количество масла, творога. Легко себе представить, что это значит, когда на февральские карточки выдали всего по пятьсот граммов масла! Расплачиваться была возможность в рассрочку, двумя частями, на содержание почти ничего не требовалось. Много ли нужно, чтобы содержать корову? Она пасется на лугу. Иногда ей можно давать кормовую свеклу…
Одиннадцать новых владельцев с радостью подписали купчую.
Через несколько дней с завода прибыла первая посылка: около сорока штук фотографий Миндальки, присланных в подарок горным инженером Хайдоком, который из страстной любви к искусству увековечил Миндальку во всех видах — и справа, и слева, и спереди, и сзади. Просматривая снимки, госпожа Геренчер заявила, что видела корову с такими большими сосками только на животноводческой ярмарке. Татару же нравились красивые, грустные глаза коровы.
Через неделю начали поступать счета. Миндальке надо купить корм, платить за нее выпасные, приобрести подойник, а к подойнику стульчик. Ухаживавшему за коровой Андришу понадобился новый халат, так как Миндалька — капризная скотина, к ней не подойдешь в грязной одежде — молока не даст.
Расходы росли, только молоко, творог и масло все не поступали.
Месяца через два прибыла первая посылка с продуктами. Господин Татар немедленно отправился к тетушке Варге и вместе с ней принялся развешивать творог и масло, предварительно заперев изнутри дверь, чтобы никто не вошел и не помешал справедливо произвести дележ. В полдень все одиннадцать владельцев коровы получили свои порции, завернутые в лощеную бумагу: примерно по килограмму творога и по пятьсот-шестьсот граммов масла, Йолан Добраи потребовала показать пакеты Татара, Кета, Ремера и Карлсдорфера, но их уже не было, так как Варга еще утром снесла начальству их долю домой. «Радуйтесь, что хоть это получили, — сказала госпожа Геренчер. — За корову я столько же платила, сколько и их благородия. Если не нравится, можете потребовать обратно внесенный пай, мы и без вас обойдемся». — «И потребую! — закричала Йолан. — Брошу им прямо в лицо это масло». И она тут же швырнула сверток на кухонный стол тетушки Варги. Чиновники, повесив головы, ушли со своими порциями. Татар и госпожа Геренчер остались вдвоем. «Маргит, послушайте, возьмите и этот сверток, у вас ребенок и муж на фронте». — «Большое вам спасибо», — пролепетала госпожа Геренчер и спрятала к себе в сумку порцию Добраи. В этот момент ей вдруг показалось, что Татар вполне порядочный человек.
Субботним вечером восемнадцатого марта заводской грузовик опять привез килограмма три масла. В конторе уже никого не было, так что приемную квитанцию пришлось подписать Варге. Когда машина ушла, она туг же позвонила управляющему и сообщила о посылке. «Возьмите свою часть, тетушка Варга, а остальное принесите мне», — ответил он.
Дома господин управляющий собственноручно разделил масло на три части. Добрый килограмм он взял себе, другой завернул в целлофан и прикрепил к нему записочку: «Господину директору доктору Аладару Ремеру». На полукилограммовой порции сделал пометку: «Для господина генерал-директора Карлсдорфера».
— Разбуди меня в семь часов утра, — буркнул он жене, — я сам отнесу пакеты господам директорам.
Карлсдорфер жил в самом конце улицы Дамьянича, на углу проспекта Арена, а доктор Ремер — совсем рядом с Татаром, на Керенде. Керенд в ту пору назывался площадью Гитлера; по поводу ее по Будапешту ходил смешной анекдот: какого-то ретивого кондуктора якобы бросили в тюрьму только за то, что он громко объявлял остановки: площадь Муссолини, площадь Гитлера, зверинец…
Татар торопливо перешел безлюдный проспект Андраши. Деревья едва-едва начинали покрываться почками, как будто не веря, что пришла весна, хотя небо уже сияло синевой и в больших окнах домов играли солнечные лучи.
Татар запросто, как у себя дома, нажал кнопку звонка с левой стороны лестничной клетки. Весь второй этаж большого здания занимало семейство Ремеров. Справа располагались апартаменты профессора, огромный с панелью кабинет, библиотека и жилые комнаты. Некогда в библиотеке он устраивав экзамены своим студентам. Эти безмолвные фолианты хранят память о трагедии студента-юриста, по имени Шани Балаж. Шани Балаж славился как пропойца, драчун и плохой юрист. Узнав, что уже в восьмой или девятый раз Шани проваливается на экзаменах, его отец, арендатор восьмисот хольдов земли по ту сторону Тиссы, как в романах и опереттах, прислал своему сынку письмо и сообщил, что денег больше не даст. Или он сдаст экзамены в течение двух месяцев, или, дескать, пусть сам подумает, на что ему жить дальше. Шани пришел в ужас. У каждого встречного и поперечного он стал расспрашивать, какие причуды свойственны тому или иному профессору. Советов ему надавали больше чем достаточно! Если он собирается сдать римское право, то пусть очень тщательно побреется, коротко острижет ногти, завернет зачетку в белую бумагу, за пять минут до экзаменов явится в класс и обратится к профессору не иначе, как «ваше превосходительство». По международному праву, какой бы вопрос ему ни попался, ответ следует начинать с Трианонского договора; при этом надо знать наизусть имена и титулы государственных деятелей, подписавших мир. По торговому и таможенному праву требуется твердо знать таможенные статьи на кожаные товары, так как отец профессора — владелец кожевенного завода и «его превосходительство» больше ничего не знает. Профессор Ремер — страстный охотник и в особом зале хранит свои трофеи.
Экзамены были назначены на десять часов утра. Шестерых взволнованных юристов горничная впустила в библиотеку. Император учтиво ответил на приветствия юношей и предложил им сесть в удобные кресла. Даже сигаретами угостил и разрешил рассматривать библиотеку, чтобы они-де привыкли к камере пыток. Шани Балаж старательно перелистывал какую-то книгу по истории искусств. Император подошел к нему и ласково спросил, действительно ли он интересуется изобразительным искусством. «Ну, сейчас…» — подумал Балаж и, доверительно улыбаясь, повернулся к профессору.
— Интересуюсь, ваше превосходительство, но охотой в тысячу раз больше. Я был бы счастлив, если бы бы позволили посмотреть на рога вашего превосходительства…
Император широко открыл рот и стал хватать воздух. Торчавшие на его макушке несколько волосков сразу встали дыбом. Он заревел, как раненый тигр:
— Положите книги и отвечайте. Ваша фамилия? Господин Балаж? Ну что ж, послушаем, на основании каких законов присоединили Хорватскую Славонию к метрополии? Что? Шамуель Аба? Неверно. Кальман Книжник? Какие же это законы учредил Кальман Книжник? Неверно. Неверно. Вы провалились. И провалились не только сейчас, но и на будущее. И на десять лет вперед. Пока я жив, такой глупец, как вы, не получит диплома.
Через полчаса избитое войско стояло на улице.
— Сумасшедший, осел, — ругали Балажа дружки, — да разве об этом можно спрашивать?
— Мне Салвик говорил… я ему десятку дал за идею, — ломал руки Балаж. — Он сказал, что профессор обладает дорогой коллекцией рогов…
— Конечно, обладает, да только на голове! Ты ничего не знаешь, потому что не ходишь в университет, бегемот ты эдакий. В хозяйственном отделе работала когда-то машинистка, на тридцать лет моложе его. Теперь она его жена… каждый день наставляет своему супругу рога…
Татар позвонил дважды. Ждать не пришлось, через полминуты появилась горничная.
— Я даже и заходить не буду, не хочу беспокоить.
— Как же можно не зайти, дорогой господин управляющий, — послышался изнутри голос госпожи Ремер, и в тот же миг появилась и она сама. Полная, аысокая женщина лет сорока, на две головы выше своего мужа. Взбитые вверх крашеные волосы, пестрый атласный халат до самого пола делали ее еще выше и массивнее. Походка у нее была мягкая, а голос поразительно низкий. Халат на ее высокой груди был неплотно застегнут, и при каждом ее движении приоткрывалась розовая кружевная комбинация и обнажалось холеное, пухлое тело. Из-под светлых локонов сверкали бриллиантовые серьги, а толстые золотые браслеты перехватывали длинные рукава халата.
— Вы опять напроказничали, — сказала госпожа и засмеялась, когда Татар поцеловал ей ладонь.
— Я? — спросил Татар и положил правую руку на сердце. — Что же я такого натворил?
— Господин управляющий! Разве можно отбирать масло у бедных коллег?
— Бог тому свидетель, все получили поровну… — ответил Татар, широко осклабясь. — Но если и не получили, желудок господина директора…
— Да, представьте, бедняжка только картофельное пюре может есть… если бы вы, господин управляющий, не доставили нам немного говядины, я прямо не знаю, что бы и было…
— Пока я жив, сударыня…
— Вы самый милый человек на свете, господин управляющий. Глоток вина?
— Целую ручки.
— Виски. Молодой Кеменеш достал. Ваше здоровье, новоиспеченный господин управляющий.
Женщина поближе наклонилась к Татару и чокнулась с ним.
«Святой Клеофант, у нее такая борода, как у покойного Франца Иосифа! — подумал Татар, взглянув на подбородок женщины. — Пора обратиться к косметичке».
— Целую ваши ручки, очаровательница.
Зазвонил телефон. Хозяйка подняла трубку: «Да… это ты, сердечко мое? Еще не подали завтрака? Не кушай сала, миленький. Ладно, Боришка сейчас принесет. Я еще не одета. Что ты волнуешься? Ладно, приду… Нет, у меня никого нет».
— Не сердитесь, что я сказала неправду, но мой муж такой гуманный, он избил бы меня, пожалуй, если бы узнал, что я приняла масло…
Карлсдорферов дома не оказалось. Каждое утро семья ходила на молитву в Регнум. Кухарка приняла сверток, даже не развернув, бросила его на холодильник и опять побежала к телефону, прямо в гостиную, оставив открытыми все смежные двери. Татар слышал ее раздраженный голос: «Я же вам сказала, нет дома, будут только после десяти».
— Горничной дома нет, дворники ушли на похороны, никого нет, кто бы хоть чуточку помог мне, а этот проклятый звонит без конца. От господ Ремеров уже четыре раза звонили — и его превосходительство господин Дюри и зять его превосходительства. А если что-нибудь пригорит, мне попадет…
— Ну, ладно. Скажите только, что я приходил. До свидания.
— До свидания, — ответила кухарка и заперла дверь на ключ. Она тотчас же разрезала масло на две части, одну половину спрятала в холодильник, а другую отложила в пеструю чашку для своего внучка.
По проспекту Арены шла колонна военных грузовиков. Татар с любопытством остановился. Да ведь это же немецкие солдаты. Неподвижные, вытянувшись по стойке смирно, точь-в-точь как в кинохронике, с застывшими лицами, в зеленых касках, с примкнутыми штыками на винтовках. Пять, десять, двадцать, сто грузовиков. Что это значит? Вслед за ними с лязгом ползут танки, справа и слева несутся сероватые легковые машины с немецкими номерными знаками, а в них немецкие офицеры. Кое-кто из прохожих машет рукой, смеется, другие с интересом или испугом застыли на месте. Оккупанты ни на кого не обращают внимания.
Татар торопливо заспешил на улицу Подманицки, оттуда направился к железнодорожной больнице, затем пошел вниз, до самого Западного вокзала. Перед оцепленным немцами вокзалом толпился народ.
Татар вскочил в шестой номер трамвая и через десять минут был уже дома. Его жена, невысокая, худая, чуть сутулая брюнетка, готовила обед.
— Ты уже начала масло? — не поздоровавшись, спросил у нее Татар.
— Нет… а что? — с испугом спросила жена.
— Заверни его поскорее в бумагу.
— Все?
— Все.
— Но почему, зачем?
— Не будь слишком любопытной, — оборвал ее Татар. Но, когда сверток был приготовлен, он все же сказал: — Пойду к Паланкаи. Немцы оккупировали Будапешт.
Мохач[14]
Господин Карлсдорфер вернулся из церкви только после десяти часов. Ремер уже в восьмой раз звонил ему по телефону и просил, если можно, прийти к нему.
— Как же, изволь, мне ничто не мешает, — ответил его превосходительство и, взяв свою палку, тут же зашагал вниз по улице Дамьянича. По дороге он с радостью поглядывал на деревья. Не пройдет и двух месяцев, как можно будет ехать на охоту.
Доктор Ремер в прихожей нервно расхаживал взад и вперед, пока Карлсдорфер снимал пальто.
— Не случилось ли какого несчастья? — спросил его превосходительство, потирая руки. — Забыл надеть перчатки. А морозец-то еще пощипывает.
Ремер уставился на старика.
— Ваше превосходительство, разве вы еще ничего не знаете?
— А что же мне знать?
— Нам крышка, — воскликнул невзрачный доктор, — конец всему! Немцы оккупировали Будапешт.
Карлсдорфер успокоительно положил руку на плечо Императора.
— Полноте… эти панические слухи я слышу каждую неделю.
— Но на сей раз это не панический слух… поймите, ваше превосходительство… я узнал об этом в три часа утра из достоверного источника… В полночь немецкие войска начали оккупацию страны.
— Извините, но это не делается так поспешно. Во-первых, зачем немцам нас оккупировать? Ведь им и так ни в чем не отказывают. Герцогиня рассказывала, что Хорти на прошлой неделе был в главной ставке Гитлера. Гитлер, разумеется, как всегда, махал руками, кричал и угрожал, но господин регент сказал ему: или вы будете довольны поддержкой, которую мы оказывали вам до сих пор, или вовсе ничего не получите. Подожжем хлеб и окажем вооруженное сопротивление. Над этим, извольте знать, Гитлер все-таки призадумался. Да вы только посмотрите, как обстоят дела на фронте… Погодите, господин доктор, у меня в кармане имеется «Нейе Цюрхер».
Ремер нервно махнул рукой.
— Это на словах, ваше превосходительство. А на деле все выглядит иначе. Перед гостиницей «Астория» стоит немецкая охрана, из Главного полицейского управления отвечают по-немецки, занято здание «Непсава»[15]…
— Но, позвольте, люди издерганы, город наводнен паническими слухами. И к тому же факты говорят о том, что русские подошли к перевалам через Карпаты… Английские войска с часу на час высадятся на берегах Далмации…
Ремер закрыл глаза. Он чувствовал, что сейчас начнет брызгать слюной и скалить зубы, бросится господину генерал-директору на шею и сдерет с нее морщинистую, дряблую кожу. И наказал же его господь бог такой скотиной!
— Взять хотя бы Рагузу. Я там служил в пятнадцатом году. Тихий залив со старой крепостью, напротив остров Локрум. Если они здесь незаметно окопаются или, скажем, чуть севернее, у Сплита, и двинутся на Загреб…
— Извольте, ваше превосходительство, вызвать своего зятя, если не верите мне, — вскочил Ремер.
— А? Что?.. — вспышка доктора совершенно сбила с толку Карлсдорфера, отдавшегося своим стратегическим размышлениям.
— Я… прошу, если вам будет угодно… Телефон на маленьком столике.
Ремер с негодованием смотрел, как медленно и спокойно двигаются пальцы Карлсдорфера, набирая номер. «Старый идиот, он и не подозревает, как велика опасность». И доктор устало сомкнул свои красные веки, горевшие от тревожного бдения.
— Алло… что… Дюри нет дома?.. Что? Вызвали в министерство?.. Зачем?.. В воскресенье?.. Ладно, привет.
И он снова набирает номер, но гораздо быстрее и нетерпеливее.
— Алло!.. Не понимаю. Громче… Я хочу поговорить с Бардоци… Что-о-о? Так вашу разэдак, проклятые швабы! — и он со злостью бросил трубку.
Ремер поднял глаза.
Карлсдорфер, широко открыв рот, сидел в кресле возле столика, желтый, как воск. Потом крякнул.
— Станция ответила… словом, я попросил громче, а в ответ какая-то свинья по-немецки переспросила: «Wiederholen Sie?»[16] И это в венгерском министерстве внутренних дел, в венгерском министерстве внутренних дел!
Карлсдорфер с его двухметровым ростом весь как-то сжался, сидя в кресле, и по его лицу текли слезы.
— Мы всегда проливали кровь за немцев. Всегда, всегда! Если хотите, еще во времена Яноша Сапояи…
«Ну вот… и наказан же я, — думал Ремер. — Теперь перейдет к венгерской истории».
Кто-то постучал в дверь. Заглянула госпожа Ремер, прижимая к себе глупого и трусливого пинчера, по кличке Памут, которого почти не было видно из-под зеленого покрывальца.
— Здравствуйте, ваше превосходительство. Прошу прощения, что помешала, я как раз собралась погулять, но по радио объявили воздушную тревогу.
— Ладно, иди в подвал, — бросил ей Ремер.
— А ты?
— Оставь нас в покое, дорогая. До свидания.
— До свидания, жучок мой, смотри, чтобы чего плохого не случилось. Прошу вас, ваше превосходительство, подействуйте на него…
— Прошу тебя, Ольга…
Когда хозяйка, послав воздушный поцелуй, захлопнула за собой дверь, Ремер подошел к радиоприемнику и включил его. Диктор как раз объявлял: «Будапешт, внимание!»
— Прошу прощения, но чтобы немцы ни с того ни с сего вторглись к нам, нет, это исключено, — проговорил Карлсдорфер, прохаживаясь взад и вперед по комнате. — Регент объявит мобилизацию… Если даже им и удастся оккупировать некоторые учреждения… Может быть, на границе уже идут бои… в городах у нас крепкие гарнизоны. Сто тысяч венгерских солдат уже под ружьем, другие сто тысяч можно будет мобилизовать. Можно ли допустить, чтобы мы сейчас покорились Гитлеру, в последний час… Ведь они же слабы… Герцогиня Анна рассказывала…
— Ваше превосходительство, — Ремер нервно застучал пальцами по столу, — не мы делаем большую политику. Вы инженер, а я юрист. Оба мы директора предприятия. Если мы хотим спасти свою жизнь и состояние, нам следует считаться с реальной обстановкой. С вашего позволения, сегодня утром я уже распорядился перенести сюда из вашего письменного стола некоторые документы.
И он положил перед Карлсдорфером исчерченную красным карандашом карту Европы и нашпигованную анекдотами о Гитлере книжку текущих счетов.
— О… право же… премного благодарен. — И Карлсдорфер даже не подумал спросить, у кого это оказался ключ от его письменного стола.
— Мы должны предпринять некоторые предупредительные меры… чтобы не колоть глаза немецким властям, — вновь заговорил Ремер. — К сожалению, вы, ваше превосходительство, имеете обыкновение довольно открыто поносить Гитлера.
— Вы уж простите меня, господин доктор…
— Извольте. Я, право, не меньше вас ненавижу этого маньяка. Но надо соблюдать осторожность. В конторе работают Паланкаи… Добраи. Им ничего не стоит донести. Не говоря уже о том, что некоторые акционеры предприятия — евреи и пребывают в Лондоне… А на прошлой неделе мы отказались принять немецкий заказ…
Карлсдорфера бросило в пот. Он наконец понял слсва доктора. Должность генерал-директора до сего времени была для него, по сути дела, не чем иным, как приятным дополнением к его персональной пенсии. Ведь круг его обязанностей не так велик: он час-другой подписывал письма, иногда ходил в министерство к какому-нибудь старому приятелю. Поговорив о родственниках или удачной охоте, он, как бы между прочим, замечал: «Обрати-ка, внимание, братец, наш инженер послал сюда заявку на какие-то материалы, так поставь свою печать», — или: «Не могу понять, что это замышляет финансовое управление. Скажи им, Палика, пусть они не слишком нас притесняют». Но чтобы это могло кончиться бедой, — нет, об этом Карлсдорфер не думал.
— Боже правый! Что же нам делать?
Ремер только этого и ждал. Он молча наблюдал, как бледнел его превосходительство. Несколько минут они сидели тихо, глядя перед собой, и одновременно вздрагивали, когда радио после некоторого перерыва вдруг снова начинало передачу. Только сегодня вместо обычной воскресной утренней программы один за другим без всякого объявления гремели марши. Тантаранта, тантара-ранта… Это действовало на нервы больше, чем воздушная тревога.
— Прежде всего надо уволить всех евреев и полуевреев.
Карлсдорфер молча кивнул головой. Какое ему дело?
— Повысим жалованье Паланкаи.
— Этому… Что ж, повысим.
— Надо повидаться с Чути и уговорить его дать согласие на производство немецких гранат.
— Гранат? Гитлеру? — Но возражение Карлсдорфера звучит весьма неуверенно.
— Извините, ваше превосходительство. Я сказал: дать согласие. А это не значит поставлять. Нам нужно протянуть эти несколько недель.
Ремер позвонил, вошла горничная.
— Моя жена вернулась из убежища?
— Вернулась.
— Попросите ее прийти ко мне.
Через несколько минут вошла жена доктора. Она как-то сразу постарела, у нее были заплаканные глаза, распухшее лицо.
— Вы слышали? Нас оккупировали! В подвале говорят, будто арестовали десять тысяч человек. О господи, господи!
— Сейчас не время плакать. Садись к машинке.
Госпожа Ремер оторопело посмотрела на мужа и, не зная, как быть, перевела взгляд на свои длинные лиловые ногти. Печатать этими пальцами? Но тем не менее села к машинке и покорно начала стучать по клавишам:
«Господину бухгалтеру Лайошу Лустигу. Будапешт. С сожалением уведомляем…»
Карлсдорфер, держа обеими руками свою палку и опершись о ее конец подбородком, сидит неподвижно.
— Если угодно, ваше превосходительство, вы можете не дожидаться, я сам продиктую. Извольте только подписать.
Наполненный паркеровскими чернилами «Монблан» легко скользит по уведомлениям.
— Мы всегда проливали кровь из-за немцев, всегда это немецкое проклятие! — произносит Карлсдорфер и со вздохом возвращает Ремеру подписанные бумаги.
Лорант Чути
— Отложим на завтра, — сказал участковый врач и громко зевнул. — Да, впрочем, ты режешь меня, как репу. Не могу уследить за тобой.
Чути сгреб фигуры в коробку и спрятал их в ящик.
— Но ты все-таки не уходи. Что у тебя, дома дети плачут?
Врач грустно улыбнулся.
— В такие времена плохо приходится холостяку. Придешь домой: в квартире не топлено, холодная постель. Тебе захотелось выпить чаю, но пока найдешь чашку, достанешь сахар, уже расхотелось. Но ты, к слову сказать, устроился недурно, — окинул он взглядом просторную комнату, обставленную красивой современной мебелью, с кружевными покрывалами и картинами на стенах. Затем смущенно умолк. Не прошло и полугода, как у главного инженера умерла мать, с которой они жили вдвоем.
Чути достал кофейник и мельницу.
— Пока вскипит вода, насладимся музыкой, ладно? Бетховена?
Худой, гладко выбритый участковый врач вежливо кивнул головой. Он не очень-то любил музыку. И если хотелось иногда послушать ее, то заказывал цыгану что-нибудь грустное. А эти симфонии, они тянутся бесконечно. Хорошо еще, что во время исполнения можно поговорить.
Чути принялся выбирать пластинки.
— Пятую? Ладно?
— Ладно, — ответил врач, разглядывая новомодную кофейную колбу, в которой начала уже закипать вода.
На диске радиолы быстро завертелась пластинка. Иголка, словно по волнам, заскользила по ней, и казалось, будто творец вкладывал все свое сердце и мозг в мелодию — с такой живостью и так проникновенно звучала симфония судьбы.
Чути на миг зажмурил глаза, но тут же открыл их, очнувшись от аромата кофе; он торопливо приготовил две крохотные, тонкие, как яичная скорлупа, голубовато-белые фарфоровые чашечки.
— Говоришь, я хорошо устроился? Что ж, твоя правда. Хотя этого не в силах понять Ремер. Он тысячу раз предлагал мне перебраться в Будапешт. Как, дескать, можно жить в шестидесяти километрах от завода? Глупости. С нынешней техникой это уже не проблема. На своем «Тополино» я за час добираюсь в город. Захотелось поговорить с заводом — у меня под рукой телефон. Вот увидишь, будущее подтвердит мои слова, люди покинут столичные центры и переедут в тенистые кварталы вилл…
— Знаю, знаю, — засмеялся врач. — Наступит время, когда инженеры будут министрами, инженеры станут графами и даже его святейшество папа римский будет инженером. А тех, кто не сумеет спроектировать мост, провести канализацию в жилом поселке, будут подвергать экзекуции или выселят на Сатурн.
— Попробуй против этого возразить, — сказал Чути и встал. Расхаживая взад и вперед с кофейной чашкой в руках, он напоминал синеглазого, капризного младенца двухметрового роста. — Возрази, если можешь. Будущее человечества принадлежит технике. Электричество, самолет, атомная энергия. Кто не верит в это, тот, подобно луддитам, так же глупо пытается остановить прогресс. Возьмем, к примеру, сельское хозяйство: нужны тракторы, тракторы, тракторы и ирригация, только тогда можно ждать богатых урожаев. Или возьмем культуру: по сути дела, здесь все зависит от степени совершенства типографской техники. Звуковое кино и радио с точки зрения развития культуры означают больше, чем все сделанное за последнюю тысячу лет. Да зачем далеко ходить — возьмем твою профессию. Здесь и здравоохранение, и медицина, и долголетие. Что важнее для борьбы с тифом и дизентерией: инфекционная больница или канализация? А что означает долголетие человека? Просто много прожитых лет? Нет. Оно означает, что человек многое видел, испытал, одним словом, много пережил между датой рождения и смерти. Если бы сто лет назад тебе захотелось попасть из Будапешта в Дебрецен, для этого понадобилась бы целая неделя. Сейчас скорым поездом это четыре часа езды. На самолете же уйдет всего двадцать минут… Римская империя не умела бороться с тьмой. Наступал вечер, и жизнь замирала. Сейчас электричество отдало нам и ночь… А вот в твоем деле. Что бы вы делали без техники? Я имею в виду не рентгеновский аппарат и не микроскоп, а такой простой инструмент, как шприц. Ты только проследи его развитие от самого примитивного до современного с тонкой, как волос, стальной иглой. Можете вы сегодня представить себе лечение без адреналина, инсулина, строфантина, новокаина? Или без переливания крови? Что бы ты делал, если бы у тебя не было инъекционной иглы?
— Налей еще кофе, — попросил участковый врач, — а сам выпей стакан холодной воды, технофил ты эдакий. Все, что ты сказал, закономерно лишь для одного процента жителей земли. Где там один процент! Для тысячной доли процента. Разве китайский кули слушает музыку Бетховена, записанную на граммофонную пластинку? Китайский кули! Смешно сказать, спроси любого крестьянина из Барачки или сходи в Мартонвашар. Здесь когда-то бывал сам Бетховен, ты знаешь это, но найди хотя бы троих крестьян, прадеды которых знали его… А электричество? У кого еще, кроме тебя, дом освещается электричеством? А ванная? Не смеши меня! Техника не будет способствовать развитию культуры, потому что культура вовсе не нужна массам. Если кто-либо и знает здешний народ, так это я… К больному вызывают, когда пришло время пригласить попа и столяра. К ране прикладывают коровий навоз. Когда я выстукиваю грудь пациента, под окнами собираются все соседи. И не успею я уйти, как они уже уговаривают семью не брать лекарство по моему рецепту. Спросишь старуху, сколько ей лет, она не знает. Сколько раз рожала, не знает. Но сколько у нее цыплят, она помнит. Книги нигде не увидишь, в крайнем случае на подоконнике валяется календарь, да и тот разорванный…
— А это потому, что книги дороги… потому, что мы дорого производим, не используем богатства страны… потому, что нас заедает немец…
— Дай еще чашечку кофе, если есть, и не начинай все сначала. А то мы, чего доброго, опять поссоримся, — пошутил участковый врач, но глаза его поблескивали невесело.
Чути махнул рукой.
— Ты прав. С тобой не стоит об этом спорить.
Он подошел к радиоле, чтоб перевернуть давно замолкшую пластинку, но затем, потеряв всякий интерес к музыке, захлопнул крышку.
— Одного я не понимаю, — сказал раздраженно врач, — ты учился в Берлинском университете, комната у тебя полна немецких специальных книг, Бетховена боготворишь и в то же время ругаешь на чем свет стоит немцев.
— А для тебя Бетховен и Гитлер одно и то же?
— Во всяком случае, это Запад. Бастион против большевизма. Или ты сочувствуешь большевикам? — спросил врач и откинулся на спинку кресла. — Ты не был на русском фронте, а я там был. Много видел, но не видел сел с канализацией, крестьянских домов с радиолами.
— Меня большевики не интересуют, и я не собираюсь сидеть с ними за одним столом, — ответил Чути, невольно повысив голос. — Если большевикам нравится жить в казармах и отрывать своих детей от семьи, это их дело. Но я далеко не уверен в том, что они действительно живут только в казармах и что на самом деле они забирают у родителей детей. Мне еще не приходилось говорить с живыми большевиками, а я привык верить только своим глазам. Предположим, что ты прав: большевики — страшилища, совершенно некультурные люди. Но какое нам до этого дело? Я спрашиваю тебя: какое нам до этого дело? Как очутились мы у Дона? У Днепра? Что мы с ними не поделили? Может, это они отобрали у нас Бургенланд? Кто на кого напал — они на нас или мы на них?..
— По этому вопросу я не стану с тобой спорить. Но есть нечто такое, что на языке медицины именуется профилактикой. Если где-нибудь обнаружена зараженная питьевая вода, приходится начинать защитные прививки от тифа. У нас же не только вода заражена, но и воздух…
Чути нервно перебирал скатерть.
— Значит, ваши национал-социалисты хорошие?
— Если они конфискуют имущество евреев и обращают его на повышение народного благосостояния…
— Тогда будут процветать лишь владения Эстерхази, Фештетича, Андраши, Мигази, Зичи да несколько тысяч хольдов церковных угодий… крупные банки…
— Словом, по-твоему, выходит, что мы не должны ничего делать, лишь просиживать зады и ждать, пока здесь воцарится коммунизм.
— Нет, — ответил Чути вполне серьезно. — Нам следует торговать. Швейцария меньше нас, и ее географическое положение ничем не лучше нашего, разве только тем, что она защищена горами. Но Швейцария не воюет, а обогащается. Нам нужна промышленность, венгерская промышленность; алюминий у нас есть, уголь есть, природный газ и нефть тоже есть, в области техники мы имеем свои традиции: торзиционный маятник Этвеша, локомотив Каидо, электродвигатель Ганца-Ендрашика… Располагаем экономической литературой от Шамуэля Тешедика до Иштвана Сечени… Остается только выступить против германского демпинга. Производить электровозы, консервы… сделать народ богатым.
— Ну, спокойной ночи, главный инженер.
— Приятных сновидений, главный врач.
— Но я все-таки завтра приду к тебе играть в шахматы.
— Ничего не имею против, — улыбнулся Чути.
— Авось мне удастся обратить тебя в мою веру.
— Как бы я этого не сделал.
— Это задача трудная, — сказал врач. — Если, конечно, ты не огреешь меня ключом.
Это воспоминание рассеяло плохой привкус спора. Лорант Чути засмеялся и, положив руку на плечо врача, проводил его до самой калитки.
— Тот самый ключ, — проговорил он, открывая огромный замок. — Я всегда ношу его в кармане.
И, когда врач ушел, Чути еще немного постоял у ворот, держа ключ точно так же, как тогда, в начале тридцатых годов, на Парижской всемирной выставке. Сразу же после ее открытия какой-то американский инженер задержался возле прекрасной чугунной ванны, покрытой бледно-розовой эмалью, и сказал, что эмаль эта непрочная и скоро потрескается. Чути покраснел, как рак, подозвал распорядителя и попросил привести шесть-восемь рабочих. Огромный павильон был битком набит людьми, все они толпой хлынули к Чути, не понимая, зачем этот высокий человек размахивает руками и велит поставить огромную ванну напопа. И, прежде чем кто-либо успел помешать, Чути отошел шагов на десять назад и изо всех сил швырнул в ванну свой массивный ключ. «А теперь пойдите и посмотрите, остался ли след на эмали?» — крикнул он. Американец через лупу искал трещину, но так и не нашел. Инженер Чути неделю спустя уехал домой, увозя с собой одну из крупных премий всемирной выставки… «Давно это было», — вздохнул он.
— Дружок! — подозвал инженер собаку, — смотри, не убегай, старина. Я пойду спать.
Чути на несколько минут открыл окно, вынес из комнаты чашки и вынул из тахты постельное белье.
Было уже около двух часов ночи, когда он погасил свет.
В полусне он еще слышал сердитое ворчанье Дружка и доносившийся со стороны Балатонского шоссе монотонный, глухой гул. Казалось, будто движется огромная армия и под сотнями танков и пушек дрожит и стонет земля.
Шомошбаня ютилась в долине. Это был убогий маленький поселок, образовавшийся вокруг старой усадьбы. Здесь преимущественно были дома, где прежде жила челядь. Лет восемьдесят назад, еще у графов Эстерхази, дед Хофхаузера купил склон горы, рассчитывая, что многие тысячи тонн базальта возместят ему единственно необходимое капиталовложение — шестикилометровую узкоколейку. Разумеется, пришлось построить также контору и домик для инженера. Рабочих искать не понадобилось, они достались новому хозяину вместе с землей. Бывшие слуги Эстерхази превратились теперь в каменотесов и вместо опрыскивания и подвязывания виноградных лоз научились высекать каменные плиты и отличать обыкновенный гравий от щебня.
В конце рабочего поселка на целых два километра тянулся внушительный, неимоверно высокий каменный забор, напоминающий кладбищенскую ограду крупных городов. Из-за забора едва виднелись макушки деревьев. Но здесь были не плакучие ивы, а молчаливые каштаны и липы, среди которых где-то в чаще притаился невидимый глазу постороннего особняк. Здание с множеством окон и башенок служило некогда летней резиденцией графов, но в двадцать четвертом году и оно перешло в руки Хофхаузеров. Каждое лето сюда приезжали со своими гувернантками дети Хофхаузера младшего и Ремера — три мальчика и худенькая девочка. Папаши соорудили им здесь теннисный корт и большую площадку для игр. На стройку привезли шлак и три подводы гравия. Но вот уже пять лет особняк пустовал, и в поселке ходили слухи, будто хозяева уехали в Лондон или в Америку. На дверях дома висел пудовый замок. Поговаривали, что где-то в саду закопаны деньги. Как-то ночью Ихош младший залез в сад и до самого рассвета рылся в кустах, но так ничего и не нашел. Потом, по-видимому, кто-то донес на него, так как парня схватили жандармы и целую неделю избивали. Шахта продолжала работать и без хозяев, причем на полную мощность. Сейчас война, и, кажется, кому, на кой черт понадобилось строить дороги? Но, как видно, их строят, и очень усердно, так как изо дня в день к погрузочной площадке подходят составы и военный представитель дерет горло, требуя заполнять вагоны до отказа. Недавно на шахте появился некий капитан Сюч, вместе с ним прибыло человек двести солдат из рабочего батальона. Капитан одну неделю проводил здесь, на шахте, а другую — в Будапеште, присматривая одновременно и за заводом. Как только Сюч приехал, его намеревались устроить в особняке, но он — то ли боялся оставаться один, то ли по другой причине — отказался. Поэтому в особняк пришлось перебраться вместе с семьей старому инженеру Гезе Хайдоку, а Сюч занял квартиру инженера, перевезя на двух грузовых машинах свои вещи. Ковры, картины — неужто он думал поселиться здесь на веки вечные? Солдаты рабочего батальона жили в бывших конюшнях. Зачем было отправлять на фронт рабочих-специалистов, а этих несчастных солдат пригонять сюда и требовать, чтоб они давали много базальта? В корчме носился слух, будто все поставки идут на немцев, что якобы возле Кракова из этого камня гитлеровцы строят укрепления. Другие не верили этому, утверждая, что в Кракове давно русские. Самому господу богу не разобраться, где тут правда, а где ложь.
В воскресенье капитана Сюча чуть свет подняли с постели. К нему заехал на своей машине старый приятель — капитан Габор Фюзеши.
Сюч пригласил гостя в комнату и, показав на разбросанные вещи, наваленную на стуле одежду и немытые чашки, как бы оправдываясь, сказал:
— Семья моя в Пеште, я здесь один. И, если кто-нибудь ко мне заглянет, для меня это настоящий праздник. Бутылка водки, конечно, найдется, шурин Пали прислал из Киева.
— Да ну ее к черту, водку. А впрочем, давай, все равно…
— Посмотрите вы на него! Что с тобой? Не влюбился ли?
— Ты угадал. Сегодня ночью придут немцы. Они уже перешли границу, я только что из Шопрона.
— Что за дьявольщина, — произнес Сюч и опустился на край кровати. — Ты в этом уверен?
— Еще бы.
— Будем сопротивляться?
— Черта лысого. Без единого звука передадим казармы. Только оркестра недостает для встречи.
— Хм. А как ты думаешь, чем это для нас может кончиться?
— Откуда мне знать, — произнес Фюзеши, вертя в руках бутылку водки. — Как обстоят дела на вашем заводе?
- Никак, — ответил Сюч, — наш горный инженер — столетний астматик, еле ногами шевелит… Денег нет, хозяин не инвестирует на шахту ни гроша. Щебень отбираем вручную.
— Вот это да! Неужто ты сам так разбираешься в горном деле? — удивился Фюзеши.
— Что ты, все мои знания — это то, что с утра до вечера жужжит мне в уши старый Хайдок. Капиталисты удрали в Лондон, для них важнее машиностроительный завод, оттуда еще можно выкачивать денежки… базальтовые горы не вывезешь контрабандой.
— Ну, а завод?
— Прогулы, прогулы, пролетарии слоняются у машин, как неприкаянные, только и ждут конца войны. А у вас?
— У нас? До вчерашнего дня тоже было так. Но теперь я наведу порядок. И тебе советую. Будь энергичен и решителен, если не желаешь попасть на фронт. С немцами шутки плохи. Дай рюмку, не пить же мне из бутылки!
— Прости, ради бога, конечно… За наше здоровье.
— Если собираешься в Будапешт, могу подвезти.
— Надо было бы съездить не в Будапешт, а в Барачку.
— Мне не к спеху, к обеду все равно поспею.
— Через десять минут я оденусь.
Фюзеши сел в старомодную качалку, оттолкнулся раз-другой, затем, прищурив один глаз, принялся рассматривать висевшие на стенах картины.
— Шурин прислал с фронта, — пояснил Сюч, зашнуровывая ботинок. — Если бы подвернулось хорошее местечко, можно было бы и самому податься туда.
— Лучше благодари бога, что на фронте твой шурин, а не ты, — засмеялся Фюзеши и снова налил себе рюмку водки. — Знать бы мне только, кто у немцев в почете. Боюсь, что на мое местечко тоже зарится несколько человек.
— Хорошее место?
— Еще бы. В нынешние времена быть на мясокомбинате…
— О ветчине думать не приходится, а?
Фюзеши захохотал:
— Типично для твоего образа мыслей. Думаешь, меня интересуют окорока или какой-то килограмм шкварок? Что касается тебя, можно поверить, что ты получаешь на предприятии сто пенге чаевых в месяц.
Сюч покраснел. Что же, если не сто, то шестьсот пенге он получал ежемесячно от Ремера «на административные и представительские расходы». Все прочее, что между делом перепадало, еще не превышало четырехсот-пятисот пенге в месяц.
Он быстро побрился и сел рядом с Фюзеши в машину. До Будапешта доехали без всяких происшествий. Правда, между Эрдом и Казенным лесом пришлось целый час торчать на месте, так как по Балатонскому шоссе двигались колонной немецкие орудия и грузовики.
— Собственно говоря, они как раз вовремя… очень уж обнаглел народ. Скажи, ты чистокровный венгр?
— А как же, — удивился Сюч.
— Ни капли арийской крови?
— Ни капли.
— А мы, по правде говоря, саксонцы, моего отца когда-то звали Фюттерер. И как это ему пришло в голову стать Фюзеши, не такая уж это красивая фамилия.
Сюч молчал. На заводе творится черт знает что. Только бы не угнали на фронт. Фюзеши, этот сумеет постоять за себя, он цепок. Ну, да и он, Сюч, тоже не простак.
— Ну, вот и приехали… остановись, пожалуйста, — опомнился Сюч, увидев табличку с названием улицы. — И спасибо тебе за твое сообщение.
— Рука руку моет, — осклабился Фюзеши; затем добавил: — В результате обе станут еще грязнее. Впрочем, оставим рассуждения философам. Если понадобится к обеду паштет, приезжай двенадцатичасовым поездом к нам…
И Фюзеши-Фюттерер помчался дальше. Сюч некоторое время смотрел ему вслед, затем позвонил в дом. Резиденция Чути представляла собой прекрасный, пышный особнячок в глубине сада, который даже сейчас, в своей осенней наготе, выглядел очень красивым и ухоженным: посыпанные песком дорожки, правильной формы клумбы, карликовые декоративные растения.
Не успел Сюч осмотреться, как перед ним появился Чути. Удивившись незваному гостю, он тем не менее любезно пригласил капитана к себе в дом.
В комнате на столе громоздилась кипа чертежей и книг. В одной из них вместо закладки виднелись очки. Лет пять назад врач прописал Чути очки, но его очень раздражало, что они то и дело запотевают и сползают на нос. Поэтому если он и доставал их, то использовал главным образом в качестве закладки.
— Вы уже знаете? — спросил Сюч, усаживаясь.
Чути поднял брови.
— Что?
— Нас оккупировали немцы.
«Как же, черт возьми, не знать», — хотел было сказать инженер, но только сверкнул глазами.
— Вы сообщаете мне это официально?
— Нет, что вы, просто так… — ответил Сюч. — Еще не дали никакого сообщения. Я пришел к вам частным порядком предупредить.
— Очень любезно с вашей стороны. Хотите чаю, господин капитан, или, может быть, черного кофе?
— Пожалуй, не откажусь от чая. Сегодня дьявольски холодно.
С полчаса они молча пили чай с печеньем, не зная, с чего начать разговор. Инженер нет-нет да и поглядывал на свой письменный стол. Сюч нагрянул как раз в тот момент, когда он производил важные вычисления. Вот уже несколько месяцев Чути пытается заменить люксембургский чугун, необходимый для производства четырехмиллиметровых листов, поставки которого прекратились из-за войны, смесью оздского и диошдерского чугуна. Ему удалось наконец найти решение для редукции марганца, правда, с содержанием фосфора еще не все в порядке.
Сюч, ерзая на стуле, с нетерпением ждал, когда заговорит инженер. Другой на месте Чути умирал бы от любопытства узнать, что еще известно господину капитану, чем все это может кончиться, а он сидел себе, неподвижно уставившись вдаль своими бесцветными телячьими глазами, то вдруг вставал, записывал на клочке бумаги какие-то цифры, потом снова садился на свое место и продолжал грызть печенье.
— Вы любите музыку? — спросил Чути. — У меня имеются хорошие пластинки.
— Нет, спасибо, господин инженер. Я пришел по другому делу.
— Извольте, я к вашим услугам. Но, может, выпьете еще чаю?
— Благодарю. Послушайте… вы отклонили заказ немецкого военного командования на изготовление гранатных чехлов.
— Отклонила дирекция.
— Не будем играть в прятки, господин инженер. Вы член дирекции. Ни Ремер, ни Карлсдорфер в технике не разбираются. Если вы предлагаете пустить что-нибудь в производство, это «что-нибудь» и производится, если же возражаете — не производится.
— Так оно и есть, — безмятежно ответил Чути.
— Я вас прошу изменить свое отношение к этому и согласиться на производство гранатных чехлов.
Чути отрицательно покачал головой.
— Из нашего чугуна, с такими станками, со столь совершенным оборудованием было бы богохульством производить гранаты. Об этом не может быть и речи.
— А если я вам прикажу?
— Стало быть, вы все-таки явились ко мне официально?..
— Позвольте… не поймите меня превратно. Я пришел к вам, как хороший друг, который хочет предостеречь вас…
— Спасибо. От чего же?
— Например… скажем, от опасности попасть на фронт.
Чути повел плечами.
— Напрасно вы пожимаете плечами, — покраснел Сюч. — Думаете, оперированная печень вам на всю жизнь обеспечит белый билет? Многих печеночников уже упекли на фронт.
— Сколько прикажете сахару? — спросил Чути. — Что же касается фронта, то, если упекают других, меня тоже не пощадят, как только возникнет необходимость бросать на фронт ведущих инженеров машиностроительных заводов в форме рядовых солдат.
— Должность главного инженера не вечна. Мне ничего не стоит добиться, чтоб вас сместили за ущемление интересов тотальной войны.
— Согласен, — утвердительно кивнул головой Чути.
— И я смещу вас. И потребую, чтобы вы представили свои записи и рецепты производства, и притом к завтрашнему утру.
— Вы можете получить их и сейчас, — спокойно ответил инженер и, взяв с буфета нож для резания хлеба, протянул его Сючу.
— Что это?
— Отрежьте мне голову, господин капитан. В ней хранятся все рецепты, все эксперименты и весь мой опыт за двадцать пять лет.
— Я не позволю шутить со мной.
— Простите, я не хотел вас обидеть, вы ведь гость в моем доме. Надеюсь, вы отобедаете у меня.
— Еще чего, — сказал Сюч и вскочил. — Пусть вам не кажется, что на этом наш разговор окончен.
Чути видел, как, яростно жестикулируя, бежал его гость по главной улице в сторону железнодорожной станции.
Инженер остановился возле ограды, запер калитку и, подбрасывая в руке ключ, подозвал собаку и спросил:
— Ну, Дружок, как ты считаешь, не швырнуть ли нам ему вслед этот ключ?
Первый день
По радио все еще не было никаких сообщений. Одни марши, от которых уже тошнило и кружилась голова.
Из-за границы тоже не было вестей. Тщетно вертишь ручку радиоприемника: Лондон грозится высадкой; где-то на волне пятьдесят метров неизвестная станция начинает передачу на испанском языке и сообщает, что советские войска достигли Карпат. В эфире пищат сигналы Морзе. Может быть, это приземлившийся парашютист просит о помощи, или в Мичинейской долине словацкий партизанский отряд созывает своих товарищей, или фронты переговариваются друг с другом, или, может быть, тонет какое-нибудь судно… Но что в Будапеште? Вышедшие в понедельник газеты не сообщали ничего нового. Правда, одна из них дала публикацию о новых модах, но кого сейчас интересуют весенние моды?
Люди перешептывались как-то несмело. Все знали, что на Ферихедьском аэродроме развевается немецкий флаг, что занято помещение редакции «Непсава», что устраиваются облавы, преследуют десятки тысяч людей, хватают коммунистов, рабочих, писателей. При каждом звонке вздрагивал даже тот, кому, как он сам думал, вовсе нечего было бояться нацистов.
Стояла слякотная погода. 15 марта все напоминало лето, а теперь снова пошел мокрый снег. На дверях кинотеатров висели объявления: «До особого распоряжения сеансы отменяются», «Проведение собраний запрещено», «Танцы запрещены». В ресторанах, в барах над стойками белели на стенах немецкие приказы. В трамваях люди поглядывали друг на друга с подозрением.
Карлсдорфер рано утром позвонил по телефону Ремеру и сообщил, что, к сожалению, у него сегодня насморк и он не сможет прийти в контору. Ремер посинел от злости. Вот, пожалуйста, подумал он, чего стоит храбрость его превосходительства. Затем поспешно вызвал Татара и попросил его, прежде чем идти в контору, зайти к нему домой.
Паланкаи явился на работу в полном облачении. В черном шерстяном костюме, со всеми золотыми нашивками и аксельбантами, подпоясанный ремнем с эмблемой «V». Татар приветствовал его громким «хайль!», но тут же за спиной у Паланкаи сделал презрительную мину — пусть, мол, видят остальные, что он считает этого юродивого фашиста всего лишь паяцем.
Агнеш Чаплар, придя утром в контору, распорядилась перенести ее письменный стол в бухгалтерию. Господин Лустиг, не смея сегодня даже рта открыть, с редким старанием взялся за дело.
— Может быть, вам отдать мой стол, барышня Чаплар, с меня и этого маленького довольно, вы все-таки главный бухгалтер.
— Благодарю, — ответила Агнеш, — хватит того, что есть.
Добраи и Декань не принимали участия в перестановке столов. Они сидели друг против друга возле окна, воздвигнув перед собой целые бастионы из алюминиевых и картонных коробок, металлических счетных досок и дневников, но не работали, а только водили копировальными перьями по бумаге. Анна Декань, высокая, голубоглазая блондинка с красивыми чертами лица и с прической венчиком, была в нежной кремовой блузке. Что бы было, если б на эту блузку попало индиго с листов дневника? Но нет, она всегда безупречно чиста. Йолан Добраи почти такая же ростом, но кареглазая брюнетка, с ярко-красными, чуть пухлыми губами и белоснежной кожей. Ее волосы ниспадали до самых плеч. Всякий раз, приходя в бухгалтерию, Паланкаи гладил их рукой. «Не хами, Эмилио», — хихикая, говорила в таких случаях Йолан и, наверное, была бы очень огорчена, если б Паланкаи в следующий раз этого не сделал.
— Простите, — произнес господин Лустиг, — если прикажете, я по порядку расскажу, кто чем занимается…
— Благодарю вас, девушки сами расскажут, — ответила Агнеш. — Прошу вас, Йоли, покажите мне свою работу.
Добраи, даже глаз не подняв, бросила на стол выписку из текущего счета. Агнеш покраснела, но смолчала.
Декань, откинувшись на спинку стула, достала из сумочки массивную золотую цепочку.
— Йоличка, ты уже видела?
— Ой, какая прелесть, откуда она у тебя? — воскликнула Добраи и, подойдя к Декань, вместе с Анной стала рассматривать цепочку, как будто начальницы вовсе не было в комнате.
— Пети прислал.
— Что ты говоришь!
— Приехал его дружок по служебным делам. Ты только вообрази, сидим мы с матерью в субботу вечером на кухне, и вдруг заявляется какой-то солдат. Рассказывает, будто Пети отрастил усы и уже старший лейтенант…
— Старший лейтенант?
— Представь себе… был рядовым, когда призвали, а теперь у него целая куча наград… и надеется, что скоро будет дома…
Агнеш молча осуждающе смотрела на болтающих девиц, но те даже не замечали ее взгляда.
— И представь, он участвовал в охоте на партизан… Прислал целый альбом фотографий, да еще каких. На одной — раздетая догола девушка-партизанка. Двое наших держат ее за руки, чтобы не закрывала лицо, когда ее будут снимать. Такой красавицы ты еще не видела… Пети пишет, что эта девица была опасной партизанкой, ходила в мужской одежде и убила десять немцев. Когда ее разрывали на части, она даже не пикнула. Настоящая ведьма. Какой-то немец отрезал ей грудь и сказал, что выдубит кожу и сошьет кисет.
— Тьфу… держать в таком кисете табак!
— А что? Ведь твой кошелек тоже сделан из кожи животного.
— Верно…
У Агнеш даже голова закружилась, и она вынуждена была ухватиться за край стола.
— Послушайте, Йоли, эту сводку вы составили неверно, — сказала она наконец.
— Да? Тогда исправьте, — ответила Добраи и, передернув плечами, снова с увлечением принялась разглядывать фотографии Декань.
— И этот друг Пети говорит, что немцы оккупировали нас как нельзя кстати, на фронте будто творятся беспорядки. Мужичье бежит к большевикам. А евреи до того расхрабрились, что во многих рабочих ротах каждого десятого пришлось подвергнуть наказанию.
— Ну, конечно… Вчера мне Курт писал, что немцы наступают. Они совсем иной народ, не стонут, а воюют.
— Барышни Добраи и Декань, если вы сейчас же не сядете на свои места и не приметесь за работу, я буду просить, чтобы вас уволили, — произнесла теперь уже энергично Агнеш.
— Как же, стану я сейчас копаться в этих книгах, — огрызнулась Добраи и, неохотно сев на место, продолжала рассказывать: — Щаци говорила, что они отдыхали на Матре вместе с гитлерюгендцами, очаровательными двенадцати-тринадцатилетними юнцами, которые, подражая фюреру, вместо завтрака питались только сухим хлебом — фюрер не ест масла…
— Прекратите болтовню! — перебила ее Агнеш.
— Вы, наверное, перестали бы ворчать на нас, если б мы хвалили большевиков? — спросила в ответ Декань.
— Сейчас рабочее время, — раздраженно обрезала ее Агнеш.
— Неужели для вас так важно, чтобы эти еврейские сводки были готовы обязательно к сроку?
— Перестань, — вмешалась Добраи. — Надо же как-то отблагодарить за назначение. Новая метла…
Агнеш все еще разглядывала неверно сделанные выписки из текущих счетов. Какой простой казалась жизнь, когда на нее смотрели со школьной скамьи. «Молись и трудись». Но на какого лешего трудиться? Тибор тоже говорил… Что же он говорил?
«Труд приятен, если он доставляет человеку удовольствие. Тогда он весь отдается делу. Каменщику приятно от сознания, что он строит дом, врачу — оттого, что лечит…»
— Все в зал! — заглянул к ним в комнату Татар.
— Что-то нам улыбается, дядя Дюри? — поинтересовалась Декань. — Сахар раздавать будут?
Но Татар молча захлопнул за собой дверь.
В зале чиновники выстроились полукругом; став посередине, Татар браво вытянулся и начал читать отпечатанный на машинке приказ.
«Дирекция и чиновники акционерного общества «Завод сельскохозяйственных машин» в подтверждение того, что они готовы сделать все в интересах поддержания тотальной войны…»
Добраи и Декань толкнули друг друга локтями. Неужто все это сочинил Татар? А как он торжественно говорит, прямо оратор…
Господин Лустиг с таким волнением слушал эту патетическую декларацию, что даже не удивился, когда под конец Татар зачитал список лиц, подлежащих немедленному увольнению: госпожа Геренчер, Гизелла Керн, Лайош Лустиг и мобилизованный Миклош Кет. Опустив голову, он продолжал стоять посреди комнаты, как тогда, когда его не приняли п консерваторию, и придумывал, что же ему сказать домашним.
Гизи Керн упала на стол и заплакала. Госпожа Геренчер громко заохала и начала ругаться.
— Этого слышать не желаю… и принимать к сведению… Где доктор Ремер? Подпись подделана… Меня уволить? Меня, которую принял еще господин директор Геза Ремер?.. Кто пятнадцать лет служил верой и правдой… извольте, я жена арийца, мой муж солдат и сейчас на фронте, меня не так просто вышвырнуть, я напишу в Лондон господам директорам, вы еще поплатитесь за это… Нет таких законов, чтобы меня уволить. Увольте тогда и доктора Ремера, он тоже еврей, но большим псам, как видно, все сходит; нет, я этого так не оставлю…
И Маргит, эта преданная чудо-чиновница, принялась поносить высокое начальство, как какой-нибудь практикант, которого вынудили работать сверхурочно.
Господин Лустиг вошел в бухгалтерию, сел на свое место, не спеша снял нарукавники, сложил красную салфетку, в которой приносил завтрак, тщательно отобрал принадлежавшие ему карандаши. Затем вдруг вскочил, схватил тонко очиненные карандаши и изо всей силы швырнул их на стол. Обломки графита и копировальные перья рассыпались по всей комнате.
Добраи презрительно ухмыльнулась. И, когда господин Лустиг, не прощаясь, бросился вон, она встала и открыла окно.
— Воздух стал чище! — и захихикала вместе с Декань.
Чаплар не знала, что сказать Гизи Керн, но чувствовала, что сейчас самым прекрасным и героическим было бы сказать, что она покидает эту жалкую контору вместе с Гизи, или пойти к Ремеру и попросить, чтобы Гизи не увольняли, но продолжала молчать, беспомощно глядя, как Гизи, хлюпая носом, укладывала в портфель свой скромный скарб — несколько книжек и кое-какие вещички.
Доктор Ремер заявился только в полдень. К тому времени трое уволенных уже ушли. Кивнув Татару, он позвал его к себе.
Татар, не спрашивая разрешения и не ожидая, пока его пригласят, сел в кресло напротив Ремера и закинул ногу на ногу. Достав из портсигара сигарету «Мемфис», он весело произнес:
— Ну, с этим покончено. А получился настоящий цирк.
— Еще не то будет, господин управляющий. Кстати, о вашей преданной службе я сообщил лондонским хозяевам. Они не забудут вас после войны.
— Полноте, я далек…
— Я знаю, что вы сделали это не ради собственной выгоды. Но ведь будут учтены ваши особые заслуги.
— Можете располагать моей жизнью, — ответил управляющий и, встав, низко поклонился.
Ферко
— Класс, сми-р-р-но!
Шестиклассники вмиг разбежались по своим местам, стройными рядами выстроились возле парт, торопливо поправили рубашки и замерли.
Школьный звонок продолжал оскорбительно дребезжать. Дежурный Карпинец, любивший называть себя помощником инструктора левейте[17] Комароми, который часто поручал ему производить экзекуции и командовать «Лечь — встать! Лечь — встать!», окинул пристальным взглядом класс и завопил: «Равнение направо!» Мальчики, словно кто-то их дернул за подбородки, одновременно уставились на окно. Взгляд их через оконное стекло был обращен куда-то вдаль, в глубину двора, на унылый запыленный каштан, на какую-то воображаемую точку, где, по определению учителя географии, проходит Восточный фронт. Каждый день перед началом занятий приходилось стоять в таком положении и несколько минут вспоминать героев, которые, не щадя своей крови и жизни, оказывают сопротивление «большевистскому чудовищу».
Ферко Чаплар стоял у второй парты. В эти минуты размышления он испытывал такой восторг и такое внутреннее напряжение, что, казалось, вот-вот потеряет сознание. Мысленно он видел орудия, изрыгающие пламя, неуклюжие бронеавтомашины, рассекающие небо ракеты, воронки от бомб, солдат, бегущих по грохочущему полю боя сквозь дым, огонь и мглу в атаку. У него было такое чувство, что, если бы ему дали винтовку, он один остановил бы целую армию. Ибо он должен защитить от неведомых чудовищ все, что его окружает, — пропахшую чернилами и мелом школу, висящие на стенах карты, каштаны на школьном дворе, весь окружающий, милый его сердцу мир.
Этим утром Ферко думал о фронте сосредоточеннее, чем обычно. После двух бессонных, мучительных ночей он наконец решил: на коммунистов следует доносить. Коммунисты не верят в бога, разрушают семью, увозят в Сибирь мужчин, создают колхозы, едят в колхозах из котелков, никому не платят жалованья, все у них по карточкам — и одежда и еда, — у них нет школ, они не печатают книг… Но ведь отец любит читать, старался он побороть свои сомнения, и какие интересные истории рассказывает о Киниже, который схватил турка зубами и пустился с ним в пляс, о Эгерской крепости, о горе Зобор… Нет, уступать нельзя, коммуниста надо выдавать властям, даже если это твой отец, даже если от этого разорвется сердце…
Он так углубился в свои горькие думы, что даже не заметил, что все уже сели и товарищи справа и слева озадаченно перешептывались: почему это господин учитель Бода запаздывает?
— Садись, Чаплар, — дернул его за пиджак сосед по парте Имре Немет. — И не жмурься так, а то подлый Карпинец все что-то посматривает в нашу сторону. Еще, чего доброго, запишет и донесет, что у тебя плохое настроение.
— Что… как… за что?
— Боже мой, в каких это ты облаках витаешь? Доложит, что ты не радуешься тому, что пришли немцы и оккупировали нас.
Классный наставник Иштван Бода пришел на урок минут через пятнадцать после звонка.
«Сейчас к нему подходить неудобно. После уроков подойду и скажу, что хочу с ним поговорить», — решил Ферко.
— Посмотри, какой Бода бледный… под глазами круги, — зашептал Немет.
Учитель остановился у кафедры и окинул взглядом всех сорок учеников шестого класса. Затем посмотрел на каждого в отдельности, стараясь заглянуть в глаза, как бы силясь увидеть, что таится в глубине его сердца. Продолжая стоять, ученики все больше удивлялись тому, что Бода не вызывает к себе дежурного для доклада, не подает знака петь «Верую», но и садиться не разрешает.
— В классе сорок человек, присутствуют все… второе полугодие, девятый урок истории, — осмелился все же доложить Карпинец.
— Ах, да, верно… Какое сегодня число, сынок?
— Двадцать второе марта тысяча девятьсот сорок четвертого года.
— Да. А еще?..
— Ну… вторник.
— Верно. А еще?
— Второй день немецкой оккупации! — выкрикнул кто-то. Бода не оборвал его, а все продолжал стоять, потупив взор.
Карпинец на миг недоуменно пожал плечами и вдруг вспомнил:
— Сегодня исполняется пятьдесят лет со дня смерти Лайоша Кошута.
— Правильно, — кивнул Бода. — Сегодня исполняется пятьдесят лет, как умер Лайош Кошут. Прочти-ка сынок, — и он протянул Карпинцу листок с машинописным текстом.
— Читать сначала?
— Сначала.
Карпинец откашлялся.
«Двадцатого марта тысяча девятьсот сорок четвертого года. Секретно. Уважаемый господин учитель, завтра на первом уроке помяните воинов, сражающихся на Восточном фронте, и побеседуйте о той исторической общности судьбы, которая на протяжении столетий связывает нас воедино с дружественным германским народом. Расскажите учащейся молодежи о борьбе не на жизнь, а на смерть, которую мы ведем, как бастион Запада, на стороне нашего великого союзника, храбро защищая христианскую цивилизацию, и будем вести до нашей полной победы. Одновременно с этим довожу до вашего сведения, что запланированные торжества по случаю годовщины Кошута проводиться не будут. Директор Казмер Сили».
— Спасибо. Садись на место.
Одни, ничего не понимая, таращили глаза на учителя. Другие взволнованно посматривали на своих соседей. Что же будет? Разве можно читать секретное распоряжение вслух.
— К молитве! — совсем тихо произнес Бода.
Запевала Янчи Барабаш тотчас же начал «Верую», но наставник, прерывая его, поднял руку и хрипловатым, глубоким голосом запел сам:
Лайош Кошут передал нам:
Войско тает — нету сил…
Ферко Чаплару вдруг почудилось, будто его пронизал электрический ток. Его всего бросило в жар, хотя он дрожал от озноба. И сам того не замечая, громко запел и услышал свой срывающийся голос в громком хоре юнцов:
Потом они опять запели сначала, снова и снова, повторяя один этот куплет.
Никто сразу и не заметил, как в класс вошел директор. То здесь, то там песня стала затихать, школьники кто шепотом, а кто локтем уже предупреждали друг друга. А Иштван Бода продолжал отбивать такт, не замечая, что Толстошеее подошел к нему совсем близко.
— Что здесь такое? Урок пения?
— Нет. Урок истории. Поминаем освободительную борьбу, — ответил учитель и пристально посмотрел директору в глаза. — Или «Песня Кошута» запрещена опять?
Ферко Чаплар только теперь обнаружил, что его классный наставник вот уже шесть лет подряд носит один и тот же коричневый костюм. Стоит закрыть глаза, и он не сможет представить себе учителя иначе, как в коричневом костюме, с потертой папкой под мышкой. Что будет с Бодой? Его уволят?
К четырем часам дня понадобилось снова прийти в школу на занятия организации левенте. Комароми сразу же приказал выйти во двор и, несмотря на холодную, ветреную, дождливую погоду, выстроил их в одних пиджаках.
— Так, значит, это вы та достославная банда горлопанов. Ну что ж, теперь и я послушаю, как вы умеете петь.
Карпинец поднял руку и так потянулся вверх, что чуть не выпал из строя.
— Что тебе?
— Господин учитель, разрешите доложить, я не пел.
— Вот как?
— Я тоже не пел, — вышел из строя Чаба Бихари.
— Я тоже не пел.
— Господин инструктор, я тоже.
— Вот это да. Очевидно, у господина директора звенело в ушах. Никто, выходит, не пел.
— Нет. Я пел.
Бледный, как смерть, Имре Немет вышел из строя.
— Вот как? А ну-ка, пойди сюда.
Ученики замерли. Имре казалось, что все его тело налито свинцом, он едва волочил ноги.
— Ну, живей, ты, борец за свободу. Становись сюда! Пой! Ну, как? Пой свою песню!..
Имре Немет видел только усы инструктора, которые дергались вправо и влево над его огромным ртом. Он зажмурил глаза и начал срывающимся голосом петь:
Лайош Кошут передал нам…
Комароми со всего размаху ударил мальчика по щеке. Зубы врезались в язык; Имре ощутил резкую, жгучую боль, и рот его наполнился соленой, теплой кровью.
— Пой, ну-ка, пой!
Класс смотрел, затаив дыхание.
Ферко Чаплар выбежал из строя и, став рядом с Неметом, почти вне себя от негодования закричал:
— Я тоже пел!
Вместо ответа раздалась громкая оплеуха. Но теперь, словно очнувшись от оцепенения, вперед выбежало еще человек пятнадцать.
— Я тоже пел.
— Пели? И еще хвастаетесь? Так вот чему я вас учил? Стало быть, я большевиков растил, мать вашу!.. Ну, погодите же. Карпинец!
— Слушаюсь!
— А ну-ка, возьмись за этих молодчиков, проучи немножко. Пусть хоть сдохнут, до самого вечера не давай им покою.
— Ложись! — завопил Карпинец, и мальчики повалились в мокрый, грязный песок. Имре Немету казалось, что он уже больше никогда не встанет. — Прыгать по лягушачьи вокруг школьного двора! Раз, два, три, ложись, прыжок… два, три, ложись, прыжок, два…
И грязные, окровавленные, вспотевшие, запыхавшиеся ученики прыгали вокруг школы до шести часов вечера. Ферко Чаплар помог Имре Немету добраться домой. Имре на углу повернулся к школе, погрозил кулаком и горько заплакал: «Подохните вы… теперь уж назло буду коммунистом». Ферко еще теснее прижал к себе друга и с тяжелым сердцем поглядел вдоль унылой грязной улицы.
Торг
Доктору Ремеру вот уже неделю было не до сна. Днем он с полным равнодушием занимался мелкими делами предприятия, а по ночам лихорадочно готовил опись имущества Хофхаузеров и Ремеров и бисерным почерком писал донесения в Лондон. Успокоение приходило только за работой, когда ему казалось, что он еще способен сохранять самообладание, выйти победителем в бешеном состязании со смертью. Иногда доктор устало проводил рукой по лбу и на мгновение закрывал глаза. В такие моменты веки горели, словно под ними были раскаленные пылинки. Ремер вскакивал и торопливо шагал по своему кабинету. «Только бы не опоздать», — бормотал он, снова садясь за стол. Ремер перечислял огромные богатства фирмы, доходные дома, патенты, многие тысячи тонн базальта, железо, сталь, шпалы, затем ковры, картины, мебель, антикварные вещи, фарфор, книги, ценные бумаги, семейные драгоценности…
Прошла неделя, наступил десятый день, а из Лондона все еще не было ответа. Доктора Ремера не особенно смущали заметные признаки грозы. Последовал приказ, чтобы евреи зарегистрировали телефоны? Он зарегистрировал. Изгонят его из адвокатуры? Ну и пусть. Но упрямая последовательность указов ясно говорила о том, что испытания только начинаются, все еще впереди. Надо бежать, пока можно, бежать. За два паспорта немцы потребовали две тысячи фунтов стерлингов. Телеграммы отправлены и через Швейцарию и через Стокгольм. Но Лондон молчит. «Две тысячи фунтов на указанный нами счет швейцарского банка», — велел передать начальник гестапо. Когда адвокат Ремера попытался предложить ему полкилограмма золота, он захохотал.
— Золото от нас не уйдет, раз оно здесь.
«Не могут они не прислать этих денег, — рассуждал Ремер, снова просматривая опись имущества. — Две тысячи фунтов стерлингов… Ведь с тех пор, как я стою во главе предприятия, мной переслано им полмиллиона фунтов…»
Послышался бой больших стенных часов. Ремер вздрогнул: «Полночь».
Он опять сел в кресло и, поеживаясь, весь сжался в комок. Один экземпляр описи имущества надо увезти с собой в Швейцарию и оттуда переслать в Лондон. Другой же оставить Карлсдорферу, пусть его превосходительство спасает, что удастся спасти.
Только бы Лондон ответил. Придется еще раз послать телеграмму через шведский Красный Крест.
«Да ведь ответ и не должен прийти, — утешил он сам себя. — Но когда в этом аду каждая минута кажется вечностью, когда в любую минуту могут взломать дверь и…»
В этот момент до слуха Ремера донесся тихий, едва уловимый стук в дверь.
Ремер вытянул шею и замер.
Или это ему почудилось? Но нет, он совершенно ясно слышал за дверью чьи-то шаги.
— Кто там? — в ужасе крикнул доктор визгливым голосом.
— Это я… Ольга.
И в дверях появилась в длинном халате, с всклокоченной головой жена Ремера.
— Я заглянула к тебе в спальню, вижу, тебя нет, не сердись, что помешаю.
— Нет, что ты, нисколько… иди сюда, дорогая, — подозвал ее Ремер и с чувством благодарности пошел ей навстречу. Женщина по-матерински погладила пергаментное, морщинистое лицо доктора, села в огромное кожаное кресло, принимая ласки мужа, прижавшегося к ее груди.
— Не изнуряй себя работой, дорогой… Зачем ты надрываешься?
Доктор не ответил и только прижал к лицу мягкую, теплую руку жены.
— Жучок ты мой, ты же знаешь, как я тебя люблю… — шептала Ольга.
— Знаю, знаю, дорогая…
— Ведь не секрет, что, не будь тебя, я бы умерла?
— О ты, ребенок…
— В тебе все мои силы, моя опора, умный, мудрый мой муженек, — произнесла дородная женщина, стараясь сжаться в клубочек и положить голову на колени Императора.
Было слышно, как тикают часы.
— Скажи, дорогой, ты уверен, что мы получим паспорта?
Ремер промолчал. Сухой, шершавой рукой он погладил жену по лицу.
— Птенчик мой… ты уверен, что твои лондонские родственники пришлют деньги?
— Надеюсь, надеюсь, пришлют…
— А если нет?
Доктор не ответил.
А если нет? Если не пришлют, тогда все кончено. Придется испробовать гетто, и угон на чужбину, и лагерь смерти.
Ольга с силой обняла доктора за шею.
— Ты знаешь, как я тебя люблю?
— Глупышка…
— Нет, скажи, что знаешь…
— Знаю, что ты меня любишь.
— Что ты для меня самый дорогой человек на свете.
— Знаю, — взволнованно прошептал Ремер.
— И ты не должен понять меня неправильно.
— Что, о чем ты говоришь, дорогая?
— Не будешь думать обо мне дурно? — спросила женщина. — Бог мне свидетель, я говорю в твоих же интересах… в интересах нас обоих…
— Но о чем, милая?
- О том, что нам следует развестись.
Жена прошептала эти слова нежно, с мольбой в голосе, и тем не менее они резанули слух доктора и тотчас же отрезвили его. Он не мог ответить и, ошарашенный, продолжал сидеть в кресле, словно его разбил паралич.
— Если мы разведемся… это, разумеется, только формальность… Я христианка, я смогла бы спрятать и тебя в нашей вилле, в Фельдваре… где угодно.
Император, закрыв глаза, продолжал неподвижно сидеть, свесив по обе стороны кресла свои обессиленные руки.
— Ты сердишься, птенчик?
— Что ты… нечего сердиться, дорогая, ведь ты права.
Ну, конечно, она права. Это единственный выход, надежда на лондонцев слабая. Вместо стерлингов, очевидно, придет телеграмма с мудрым советом расплатиться с гестапо пенге. Разве нужен он Гезе Ремеру? Теперь от него никакой пользы. Надо развестись с Ольгой — это единственный выход. Но почему это пришло в голову не ему самому?
А разве не приходило? Разумеется, приходило, но он прогонял от себя эту мысль. Намеревался бежать вместе с женой, снять где-нибудь на берегу Женевского озера маленький домик и жить там вдвоем в ожидании конца войны.
— Но я вижу, ты все-таки сердишься, ведь…
— Нет, ты права, Ольга, я не смею связывать твою судьбу с моим несчастьем. Я поступал эгоистично, думая, что десять лет позволяют мне… Между тем я всегда желал тебе лишь добра, поэтому и соглашался на все, чтобы доставить тебе радость, создать уют, я очень люблю тебя, Ольга…
И сморщенный старик ладонями закрыл лицо.
Через несколько минут он встал и пошел в ванную. Когда вернулся, был спокоен, но бледен, как смерть.
— Ты не напечатала бы для меня поручение адвокату?
Жена кивнула головой, села за машинку, не смея признаться, что сегодня после обеда уже ходила к их адвокату.
— Но, прежде чем подать заявление, я заготовлю дарственную грамоту. Библиотеку передам университету, а все остальное завещаю тебе.
— Мне ничего не надо!.. — воскликнула Ольга и, громко шмыгнув носом, принялась печатать реестр: девять персидских ковров…
— А если все же придут в Швейцарию деньги? — тихо спросил доктор.
— Перед богом я никогда не стану разводиться с тобой.
— Спасибо, — прошептал Ремер и, схватив руку жены, осыпал ее поцелуями.
Ольга склонилась над машинкой и после большой паузы сказала:
— Ах, да. птенчик мой, чуть было не забыла…
— Что? Говори.
— После обеда я встретилась с Татаром. Он был так любезен, что предложил свои услуги… Я попросила его завтра после обеда прибыть к нам за город. Видишь ли, нам бы следовало закопать на Швабской горе серебро…
— И ты сказала об этом Татару?
— А что, птенчик мой, разве это плохо? Ведь ты всегда рассказываешь, как Татар тебя любит, какой он надежный человек…
— Конечно…
— К тому же Татар внимателен, вежлив… и достаточно умен. Он знает, что войне скоро конец, сейчас волей-неволей приходится вести себя прилично.
— Разумеется…
— Да, впрочем, все равно кого-то пришлось бы взять на подмогу, ведь нам с тобой не закопать чемоданов…
— Конечно…
— А Татар еще обещал принести железную кассету для драгоценностей.
— Отлично…
— Птенчик, ты даже не слушаешь меня.
— Как же не слушаю?
— Я договорилась, что в три часа кто-нибудь из нас пойдет на гору, а он явится туда часом позже, чтобы нас не видели вместе… и, спрятав все как следует, сначала удалимся мы, а потом он. Ну как, разве я плохо придумала?
— Нет, ты придумала очень умно, — бесстрастно ответил доктор.
Ольга посмотрела на пепельно-серое лицо мужа.
— Все же… может быть, глупо полагаться на Татара…
«Откуда мне знать, на кого сейчас можно положиться, — думал Ремер. — А может, и действительно сделать так, как советует жена? Ведь не исключено, что деньги придут в Швейцарию, а гестапо все же откажет в паспортах. На кого теперь можно полагаться, во что можно верить? Или их довезут до границы, а там расстреляют обоих? Какой план избрать? Кто знает? Бороться за жизнь или покориться судьбе?»
Он нежно приласкал жену и произнес:
— Ложись, дорогая, уже половина второго.
У калитки опечаленный думами доктор Ремер еще раз обернулся назад. Спускались сумерки, у вершины горы небо переливалось лиловым и розовым цветом. Ремер поежился. Ольга крепко обняла его… Ценности теперь в надежном месте. Но Лондон не ответил. Медленно спускаясь с горы, Ремер все в большей мере испытывал какое-то гнетущее, печальное чувство. Ему семьдесят два года. Если не погибнет от бомбы или не убьют немцы, неизвестно еще, удастся ли дожить до конца войны. На что она, Ольга, рассчитывала, когда так настаивала, чтобы прибегнуть к помощи Татара? Прожить семьдесят два года — долгий срок. Его мать умерла двадцати восьми лет. Жила почти на полстолетия меньше, чем он… А что он успел сделать за это время? Изучил право? Но что это за право, в которое он верил и которому учил других? Куда он всю жизнь спешил? Сколько у него было счастливых часов за все эти семьдесят два года? А этот мучительный, назойливый сон: он подписывает распоряжение об увольнении Гизеллы Керн. По сути дела, он даже не знает, какая она из себя, эта девушка, блондинка ли, шатенка.
Управляющий Татар из-за ограды следил, как старик спускался на улицу Реге, как он плелся к фуникулеру на горе Сечени. Затем не спеша подкрался на цыпочках к воротам, запер их изнутри и спрятал ключ у себя в кармане. Это была излишняя предосторожность. Ремер все равно не вернется; они ведь договорились, что Татар пойдет к фуникулеру через час.
На улице Реге было пустынно, но, если бы даже кто и проходил мимо, все равно сквозь живую изгородь высотой в человеческий рост ничего нельзя было увидеть. Татар пошел прямо к ореху, осмотрелся в огромном саду, пытаясь припомнить, как вел его старик. Но уже темнело, небо заволакивало тучами, сад погрузился во тьму. Татар побродил между деревьями, обогнул теннисный корт и остановился возле гаража. Не может быть, чтобы он не нашел. Он снова приблизился к ореху, нагнулся, разглядел следы ног и тут вдруг вспомнил, что они свернули направо, там стоял еще один орех… Здесь они остановились, здесь Ремер сказал, что за услуги ему заплатят десять тысяч пенге. Затем пошли сюда. Он еще умышленно ударил лопатой по корням дерева, чтобы легче было искать. Верно, вот и свежая земля.
В свежевскопанной, рыхлой земле работа шла легко. Яма быстро углублялась, но Татар тем не менее обливался потом. Он чувствовал, как промокшая рубашка прилипает к спине. Да еще боль в животе не давала покоя.
Между деревьями пронесся легкий ветерок. Зашуршали сухие ветки, казалось, будто они перешептываются меж собой, как люди. Татар вздрогнул, но в этот миг лопата стукнулась о кассету. Он поспешно извлек коробку, достал из кошелька ключ и открыл замок. В коробке был полотняный мешочек, зашитый со всех четырех сторон. Татар распорол его перочинным ножиком, и тут его взору открылись всевозможные золотые цепочки, массивные браслеты… Несметное богатство! Разве кто узнает, если он кое-что возьмет себе? Доктор? Он, поди, рад, что все уже закопано, проверять не придет. А после войны? До той поры еще очень далеко. Не все уцелеют. Может ли остаться в живых этот дряхлый старик? А больше никого здесь не было.
Стремительно наступала ночь, луна еще не всходила. Между деревьями опять пробежал ветерок. А там, позади большой горы, настороженно притаился затемненный город. Только прожектора разрезали небо и светлые полосы, похожие на какие-то древние, таинственные знаки клинописи, метались по темному небосводу. Кому они предвещают жизнь, кому — смерть?
Татар торопливо замел следы своей работы. Кассету он взял себе, оставив в яме только чемодан с серебряными блюдами, столовыми приборами и серебряными монетами достоинством в пять пенге.
Хотя и не было никакой надобности соблюдать особую осторожность, он все же пошел не улицей, а выбрался из сада через теннисный корт и колючие кусты крыжовника.
Войдя в виллу, управляющий устремился прямо в рабочий кабинет доктора. Идти пришлось в темноте, так как Татар не помнил, затемнены ли окна. Пустую кассету он спрятал внизу на книжной полке, а драгоценности вместе с мешочком сунул себе в карман. Ему хотелось закурить, но, удерживаясь от соблазна, он сел в кресло, закинув ногу на ногу, и задумался.
В комнате стоял свежий запах сена и айвы. Удобное, глубокое кресло, мягкие ковры, распирающее карман золото! Богатство с ним, вокруг него, оно здесь, только надо его не упустить.
Страшное волнение овладело им еще с начала дня, когда он поднимался фуникулером на Швабскую гору. Ему почти не верилось, что он, человек сорока двух лет, всю жизнь проживший в Будапеште, сегодня впервые посетил этот район, увидел мужчин в меховых шубах, нарядных дам, которые, сидя в вагоне и даже не думая любоваться простирающимся внизу сказочным миром, долиной, подернутой синей дымкой, виллами с широкими балконами и закрытыми окнами, старательно убранными дорожками, с такой непосредственностью болтали между собой, так как были давно уже знакомы и принадлежали к особой касте: это были жители горы. Татар даже не поверил своим ушам, когда кто-то окликнул его. У городского колодца в вагон сел высокий мужчина с саквояжем врача, это он замахал приветливо Татару.
— Да неужели эго вы, господин Татар?.. Стало быть, и вы здесь живете?
— Нет, только в гости еду, — ответил он, узнав наконец доктора Барта. Тот некогда спас его сына. У Пишты было воспаление легких, и Барта даже ночью несколько раз подряд приходил к больному мальчику. Причем никакой платы за это не брал, так как в ту пору Татар был безработным. Между тем все их знакомство состояло в том, что когда-то в детстве они жили на одной улице. После того как был спасен сын, Татар считал себя неоплатным должником Барты на всю жизнь… Когда врач прошел в вагон, многие приветствовали его, но Барта только кивал головой, продолжая разговаривать с Татаром:
— Как здоровье Пишты?.. Почему вы не покажете его мне? Вот, возьмите, это мой адрес. Кстати, с большой станции видна моя вилла, я вам покажу ее.
— А вы, господин доктор, как поживаете?
Барта махнул рукой. Дескать, разве вы не знаете, как сейчас живут люди? И показал в сторону кафе «Majestik», возле которого на часах стояли эсэсовцы.
— Ну, конечно, ведь, если я не ошибаюсь, вы, господин доктор, еврей!
Вилла на улице Реге показалась внезапно, словно в сказке. Татар зачарованно смотрел на зеленую железную ограду, на густо посаженные деревья, на двухэтажное здание под красной черепицей, с огромной террасой. Жить здесь, жить в подобной вилле…
— Завтра спроважу Императора, — произнес он вслух. — Завтра? Нет, сегодня же… А потом увидим…
Он поднялся, вытянул руки и ощупал мебель. На низеньком шкафчике что-то опрокинул. Запечатанная бутылка. Вынул пробку, понюхал.
— Тминная. Ну, докторишка, ты, оказывается, еще и лгать горазд.
И большими глотками принялся пить прямо из бутылки. Остатки вина вылил на ковер, но тут же вздрогнул, почувствовав, что брызги попали на ботинок.
Когда Татар вышел на улицу Реге, от выпитого на голодный желудок вина у него немного кружилась голова. Он запер не спеша калитку и, как хозяин, еще раз попытался разглядеть скрывшиеся во мраке контуры дома. «Здесь будем жить», — решил управляющий, проверяя замок. И тут вдруг заметил, что неподалеку от него кто-то стоит. Он не видел, не слышал, а только почувствовал это своими взвинченными нервами. «Если доктор, задушу», — подумал Татар, загораясь дикой ненавистью. Бесшумным движением он сунул в карман ключ и, прижавшись к ограде, прислушался. Неизвестный тоже застыл на месте. Теперь уже можно было слышать его прерывистое тяжелое дыхание. Нет, это не доктор.
Ожидание тянулось мучительно долго. Надо было что-то предпринять. Сказать что-нибудь, пошевелиться, пойти вперед.
— Добрый вечер, господин управляющий. Прохлаждаемся?
Татар вздрогнул. Перед ним стоял Паланкаи.
— Красивая вилла, а? Не понадобится?
— Как вы здесь очутились, гауляйтер?
— Так же как и вы, еврейский наймит.
Татар покраснел.
— Еврейский наймит твой дед, а не я.
Паланкаи презрительно захохотал.
— Ну и чувствительны же вы стали, старина. Думаете, я не знаю, что вы здесь делали сегодня вечером? Закапывали золото господина Ремера, а?
— Эмиль, вы с ума сошли.
— Что ж, возможно, я его откопаю. Мне нравится эта вилла. Завтра же приобрету в свое владение.
— Эта вилла, к сожалению, уже не продается.
— Эх-ма! Неужели вы сами претендуете на нее?
— Разумеется. Она мне нужна.
— Давайте посостязаемся, кто сумеет приобрести, того она и будет. Но предупреждаю: вы поступите благоразумнее, если не станете ходить в швейцарский Красный Крест за лондонскими паспортами для Ремера и его супруги.
— Я не позволю…
— А как насчет папаши вашей жены? Почему это вы не записали в общегосударственный мобилизационный лист, что у вашей жены родословная не совсем чистая, а?
— Неправда…
— Господин Татар, не гоняйтесь за двумя зайцами. Если согласитесь, мы с вами вдвоем сумеем кое-что сделать.
— Восхитительно. У вашего нилашистского величества еще молоко на губах не обсохло.
— Напрасно смеетесь. Вам предоставлено право подписывать фирменные документы, зато у меня имеются связи, и, если понадобится, я смогу взять другого управляющего… но мы бы хорошо сработались. Ну?
— Что вам угодно?
— В данный момент горю желанием переехать на Швабскую гору. Здесь приятный воздух, к тому же я подцепил бабенку, за которую дома мне бы влетело от мамаши. Но, если вы для меня устроите другую виллу, я уступлю… Более того, смогу и вам оказать кое-какую протекцию.
Татар задумался.
— Если бы у меня была жена наполовину еврейка и в кошельке десять тысяч пенге от Ремера…
Татар невольно схватился за кошелек.
— Я уверен, что вы получили от старика кучу денег. Или по крайней мере вам их обещали, — продолжал Паланкаи, тогда как Татар терялся в догадках, знает ли обо всем этот щенок или говорит просто наугад.
— Погодите. У меня есть на примете одна вилла. Прекрасное здание, замечательный сад…
— Ну, тогда вы переедете туда, а я устроюсь здесь, — перебил его Паланкаи.
— Нет-нет… Я туда не поеду. Там живет мой знакомый, — почти со страхом произнес Татар.
— Ах, неужто у вас такая чувствительная душа? Кто хозяин?
— Врач, доктор Барта… Как мне помнится, у него в крови гоже есть что-то еврейское… Сегодня после обеда он громко ругал в фуникулере немцев. Многие слышали.
— А кто именно? — спросил Паланкаи.
— Например, вы и я, — ответил Татар.
Паланкаи присвистнул.
— Великолепно. Пошли, прогуляемся немного. Если будем проходить мимо, покажите мою виллу.
— Уже темно.
— Ну, как-нибудь увидим.
Татар осторожно переставлял ноги, будто ступал по яйцам: все боялся, как бы вдруг не зазвенело в кармане золото.
Проводы
Прощание причиняет боль вовсе не в минуту расставания. Тогда еще держишь руку возлюбленного, еще видишь его, слышишь голос, которым он говорит с тобой, еще не вполне можешь себе представить, какая жизнь ожидает тебя без него. Только на завтра, на третий день или на десятый, когда бродишь по улицам и среди тысяч людей не находишь своего любимого, постепенно осознаешь свое положение. Ты напрасно вздрагиваешь при каждом звонке — это пришел не он. В твоем сердце скопляется уйма слов, хочется так много высказать, и освободиться от этого властного желания становится все труднее и труднее. Боже мой, разве можно обо всем написать в зеленой фронтовой открытке, исчерченной вдоль и поперек цензурой?
По ночам Агнеш просыпалась оттого, что громко плакала. Лицо ее, подушка были мокрыми от слез. В забытьи девушка прогоняла от себя страшные кошмары. Но каждую ночь ей снова и снова снилось, будто ее заперли в огромном здании, чем-то похожем на большую школу. На улице ревут сирены, вокруг вой и рокот, грохочут орудия, рвутся бомбы, языки пламени вздымаются к небу, а она в темноте бежит по нескончаемому коридору, совсем одна, силится открыть тяжелые железные двери, зовет на помощь, но никто не спешит на ее зов, никто не пытается вызволить ее. «Пустите!» — громко вскрикивает Агнеш и, охваченная ужасом, вскакивает с постели. Привычным движением руки нажимает кнопку, и комната озаряется приятным светом. Она вытирает вспотевшее лицо и тут же вспоминает Тибора. И, хотя сердце гложет какая-то боль, Агнеш готова опять погрузиться в этот сон, в огонь, грохот орудий, лишь бы не терзаться мучительным сознанием, что больше никогда не увидит любимого.
Приходя в контору, Агнеш механически распределяла работу, давала пояснения молодой девушке Терезе Мариаши. которая заняла место уволенного господина Лустига. Сама же не проявляла к работе ни малейшего интереса. Как только представлялся случай отложить в сторону перо, убегала на улицу и часами блуждала по городу: колесила без всякой цели по Бульварному кольцу, сновала по берегу Дуная. Ни о чем не думая, она медленно брела вперед, подставляя свое разгоряченное лицо апрельскому ветру, несущему с собой запах весенней земли. Неужто и в двадцать два года можно быть такой несчастной?
— Агнеш! Здравствуйте!
Девушка вздрогнула. Она не сразу поняла, что обращались к ней.
— Не узнаете? — спросил ее высокий молодой брюнет со знаками сержанта на петлицах. Откуда ей знать его? Но большие голубые глаза все же кого-то напоминали.
— Не помните? Мы были с вами на концерте… Я тогда пришел вместо Тибора.
И, не скрывая радости, Агнеш протянула парню обе руки:
— Конечно… Как я рада, что вижу вас!
Она была рада каждому, кто хоть чем-нибудь напоминал Тибора и с кем можно было поговорить о нем. Но Тамаш Перц воспринял ее радость по-своему.
— Агнеш, вы даже не поверите, как я часто о вас думал. После концерта мы почти не говорили друг с другом, но мне показалось, что мы могли бы быть хорошими друзьями. И особенно сегодня, когда мы встретились… в последний день.
— В последний день? — удивленно спросила Агнеш, пытаясь идти в ногу с долговязым парнем.
— Сегодня о полдень мы прибыли в Пешт, и вечером нам всем разрешили сходить домой, так как завтра утром батальон отправляется на фронт. Разве Тибор вам не писал об этом? Правда, все произошло совершенно неожиданно, — спохватился он, увидев, как расстроилась девушка. — Пожалуй, это и лучше, что Тибор не написал. Нет ничего ужаснее, чем прощаться у поезда.
Они молча шли по площади Верешмарти. Центр города казался безлюдным, небо было темное, хмурое.
— Вам не холодно? — спросил Тамаш и нежно притронулся к плечу девушки.
— Нет, — ответила Агнеш, хотя и дрожала всем телом. — Почему же это так ужасно прощаться у поезда?
— О, я ненавижу вокзалы. Если бы я родился богатым, все, наверное, выглядело бы иначе. Богатый человек ездит, когда заблагорассудится. Летом отправляется отдыхать в Триест, едет он в спальном вагоне скорого поезда, питается в вагон-ресторане и четыре недели спустя возвращается домой… В воскресенье ему ничего не стоит махнуть в Фельдвар или Фюред. Но я… для меня железная дорога совсем иное дело. Бедный человек не путешествует. Бедного человека везут. Нигде на свете не плачут столько, как в зале ожидания для пассажиров третьего класса. Помню, как мы провожали сестру моей матери. Вообразите себе — путешествие через океан с тремя малышами. Муж прислал ей из Австралии билеты на корабль. Мать, бабушка и я пошли на вокзал провожать их. Бабушке в ту пору было восемьдесят лет. Представьте себе эти проводы…
— Теперь совершенно безразлично, сколько лет человеку, с которым мы прощаемся, — ответила Агнеш. — Одним только старикам можно позавидовать, они по крайней мере свое прожили.
— Хорошо молодым, Агнеш. Тем, которым удастся пережить.
— Что пережить?
— Этот один год.
— А потом что будет?
Тамаш пожал плечами.
— Могу только сказать, чего не будет. Гитлера не будет. Нацистской армии не будет. Войны не будет. Все остальное будет зависеть от нас самих.
— И вы… в этой форме так говорите?
— Надеюсь, вы не донесете на меня. Умоляю вас, не делайте этого, а то еще в наказание отправят на фронт. — И Тамаш скорчил страшную гримасу. Сейчас он совсем был похож на Тибора. — Но перед моей смертью давайте чего-нибудь выпьем.
— Спиртного я не пью.
— Сойдет и шоколад. Пойдемте в кондитерскую.
В тесной, полутемной кондитерской они сели друг против друга. Кондитерская была битком набита немецкими солдатами. Над прилавком висел на стене какой-то приказ на немецком и венгерском языках.
— Кажется, надолго обосновался у нас братец-немец, — произнес Тамаш и, когда Агнеш испуганно схватила его за руку, с улыбкой спросил:
— Вы всегда такая трусиха?
— Нет… просто не хочу пробивать головой стену.
— Хм… А что же, по-вашему, лучше? Со спокойной совестью прятаться за ней и ждать, пока пройдет буря?
— Что же мне делать?
— Что делать, Агнеш? Как бы мне рассказать вам это за оставшиеся полчаса? Ведь мне и самому трудно во всем разобраться. Но я знаю одно: нельзя быть трусливым. Кто боится, тот погибнет…
И, нагнувшись поближе к Агнеш, зашептал:
— Когда-то я очень любил одну девушку словачку. Анчика скрывалась здесь целых шесть лет подряд. Можете вы понять, что это значит? Отец ее работал врачом в Бестерцебане. Когда ей исполнилось двенадцать лет, пришлось бежать из родного гнезда. Ночью она переплыла через Гарам и с помощью одного знакомого железнодорожника добралась до Пешта. Здесь ей удалось устроиться у своей тетки, и знаете, чем она занималась? С фальшивой трудовой книжкой ухаживала за могилами на фаркашретском кладбище. Шесть лет терпела. Но была труслива. Всегда твердила, что ей не избежать своей судьбы. Ее сестру и мать убили немцы. И вот неделю назад…
Тамаш умолк и стал смотреть куда-то вдаль.
Агнеш, окаменев, слушала.
— Был полдень. Анчика переходила перекресток возле проспекта Ракоци и Бульварного кольца. Не обращая внимания на светофор, она ступила на запретную зону, и тут к ней подошел полицейский. Она думала… думала, что пришел конец, что ее опознали, и во всем призналась, во всем. В тюрьме предварительного заключения я виделся с ней в последний раз перед тем, как ее передали на границе словацким властям. Она сказала, что не могла больше терпеть, что рано или поздно ей все равно пришлось бы сдаться. Агнеш, представьте себе, шесть лет скрывалась, а потом…
— Простите, а почему она должна была скрываться?
Тамаш посмотрел на собеседницу с недоумением.
— Вы на какой планете живете, Агнеш? Разве не знаете, что творят нацисты в Чехословакии? Что они делали на Украине и во Франции? Не знаете, куда вывозят девушек?
Агнеш не ответила. Она смотрела на пенку, плававшую поверх шоколадного напитка, как надутый парус… Как было бы хорошо, если бы эта белая пенка действительно превратилась в гигантский парус и понесла ее в шоколадной лодке куда-нибудь в далекую страну, где молодых парней не забирают в маршевые роты и где влюбленные, прижавшись друг к другу, разговаривают в кондитерской совсем об ином.
Тамаш что-то рисовал на бумажной салфетке.
— Покажите.
— Не вышло, — ответил он и, краснея, спрятал бумажку в карман.
— Вы художник?
— Учился вместе с Тибором, там и познакомился с ним. Но, хотя и люблю рисовать, художник из меня не получится. Если я иногда и рисую, то больше для собственного удовольствия.
«Надо бы спросить что-нибудь о Тиборе», — подумала Агнеш. Но так и не отважилась.
Тамаш проводил ее домой. На улице было темно, темным было и небо, которое неустанно бороздили прожектора противовоздушной обороны. Захваченный двумя лучами, метался во все стороны самолет, похожий на серебристого жучка.
— Когда вы уезжаете?
— В восемь утра, с Йожефварошского вокзала.
Ночь была полна мук и сомнений. А что, если ей явиться на вокзал? За какую-то минуту до отхода поезда подойти к Тибору, обнять его и поцеловать. Сначала она приняла эту идею в шутку, сама даже посмеивалась над ней. Но потом она превратилась во властное желание, а к утру в решение.
Агнеш позвонила в контору и сказала, будто зайдет по делам в городское управление, и побежала на Йожефварошский вокзал. У перрона патруль у всех подряд проверял документы. Агнеш достала свое удостоверение, из которого следовало, что она работает на военном заводе, и, покраснев, пролепетала:
— Уезжает… мой жених.
Офицер козырнул и отдал ей удостоверение.
Эшелон из нескольких пассажирских и множества товарных вагонов стоял очень далеко, на внешней линии. Вагоны не были украшены цветами. И солдатских песен не было слышно. Вдоль состава ходили немецкие патрули. Отъезжающие на фронт торопливо укладывали свои сундучки и вещевые мешки. Родственников почти не было, они мелькали только возле офицерского вагона. Агнеш огляделась и, увидев Гибора в новенькой щегольской форме старшего лейтенанта, так и обмерла. Никогда он не казался ей таким красивым, таким привлекательным. Агнеш уже собралась было прямо через линию кинуться к нему, но вдруг заметила, что он не один. Рядом с ним стояли какой-то высокий седой мужчина и две женщины. Она уже где-то их видела… Ах да, вспомнила… В прошлую субботу в кондитерской. Кто они такие? Та, что постарше, пожалуй, мать. Но кто эта молодая? Неужели сестра? А она считала, что Тибор единственный у своих родителей. И какая красивая, какая элегантная. В серо-зеленом костюме, зеленом шелковом тюрбане, зеленых туфлях из крокодиловой кожи. И Тибор еще обнимает ее и целует… Вот, значит, почему он не написал ей о своем отъезде! «Боже праведный, зачем я только пришла сюда?!»
Она отошла за серые бетонные колонны, чтобы Тибор, чего доброго, не заметил… Умрет от стыда, если покажется ему на глаза.
Засмотревшись на Тибора, Агнеш даже не видела, что из вагона выскочил худой сержант и, обрадованный ее появлением, устремился прямо к ней.
— Агнеш, значит, вы все-таки пришли?
Агнеш смотрела на Тибора, видела, как он пожимал руку женщине в серо-зеленом костюме… Тамаш Перц, заметив рассеянность и дурное настроение Агнеш, повернулся в ту сторону, куда смотрела девушка, и смутился. Он вовсе не хотел выведывать тайну девушки. И даже пожалел, что окликнул ее, да было уже поздно. Она вдруг подняла на него глаза и покраснела.
— Вы говорили с Тибором, Агнеш?
— Нет… нет… и не хочу…
— Разве вы не знакомы с родителями Тибора? — спросил Тамаш. — Рядом стоит мамаша, а девица помоложе, очевидно, двоюродная сестра… Я с удовольствием представлю вас. Или, может быть, позвать Тибора сюда, если вам будет приятнее поговорить с ним несколько минут с глазу на глаз? Разумеется, насколько это возможно в данных условиях. — И он показал в сторону вокзала и бегущих со своими вещами солдат. — Ну как, позвать?
— Спасибо, право… — и в знак согласия Агнеш кивнула головой.
— А со мной не будете прощаться? — задержался парень.
Агнеш протянула ему обе руки.
— Будьте счастливы, Тамаш, и возвращайтесь живым и здоровым домой.
— А если я очень-очень попрошу, вы позволите вас поцеловать?
Агнеш оторопела. Но в больших, голубых глазах Тамаша увидела одну просьбу, одну тоску.
— Ладно… в щеку…
Тамаш взял лицо девушки в свои ладони, пригладил волосы и поцеловал в обе щеки, как брат при прощании.
— Да хранит вас бог, Агнеш, следите за собой… Минуточку, я сейчас пришлю Тибора.
И Тамаш побежал через рельсы. Боже мой, какой же долгой казалась эта минута! Вот он подошел к компании, объяснил что-то, Тибор кивнул в ответ, оглянулся и пристально посмотрел в ее сторону. Сердце Агнеш сжимается от волнения и счастья. Значит, она еще раз обнимет его на прощанье. Отец и мать целуют Тибора. Теперь они наверняка обидятся на нее за то, что она оторвала от них сына. Тибор прикладывается к руке дамы в зеленом костюме, потом они целуются, и вот он уже идет быстрым шагом, прямо через рельсы к ней; Агнеш, широко расставив руки, устремляется вперед. Тибор еще издали машет ей рукой и улыбается, но в этот момент…
Паровоз вдруг громко загудел, и состав резко тронулся с места. Со всех сторон к поезду бросились солдаты, вскакивая на подножки уже двигавшихся вагонов. Тамаш Перц одной рукой ухватился за поручни лестницы, а другой принялся размахивать платком. Тибор круто повернулся, побежал назад и скрылся с глаз Агнеш. Какой-то молодой солдат пил воду, оставил кран открытым и с бранью кинулся вслед за эшелоном. Немецкие патрули хмуро смотрели на суматоху. Громко ревел репродуктор, призывая гражданских лиц немедленно покинуть территорию вокзала: в городе была объявлена воздушная тревога.
— Тибор! Тибор! — кричала Агнеш.
— Надо ухо-дить, надо ухо-дить! — безжалостно отстукивали колеса поезда.
Визжали сирены. Какой-то железнодорожник предложил Агнеш следовать за ним. Они вбежали в какой-то склад, а оттуда в полный пыли, грязи и просмоленных бочек подвал, где уже пряталось человек восемь или десять.
Начала содрогаться земля. Где-то грохотали орудия, загудели самолеты, раздались глухие взрывы. Прошло два часа, наконец сирены оповестили «отбой». Близ вокзала взволнованные люди показывали на юг. Над Кишпештом, Пештэржебетом к небу вздымался черный дым. На Будапешт упали первые бомбы.
— Вот и боевое крещение, — сказал кто-то в толпе.
— Первый урок страданий.
Татар с сожалением сообщает…
Жена Миклоша Кета вот уже в четвертый раз пришла в в контору завода. Хотела поговорить с Ремером о делах мужа, но все не удавалось. Доктор то заседал на совещании дирекции, то был на самом заводе, а в третий раз госпожу Кет остановил в дверях Татар и сообщил, что господин доктор разговаривает с Лондоном и после этого поедет в министерство, так что приходите, дескать, завтра. Впрочем, напрасно она сюда ходила, все было предрешено, в помощи ей отказали. Выходное пособие ей уже выдано, чем же она недовольна?
— Вам легко говорить, а мне платить за квартиру и ребенка кормить… Я в конце концов прошу не подачки, Миклош как-никак родственник Ремеров…
Придя в четвертый раз, госпожа Кет решила во что бы то ни стало дождаться доктора, потребовать отмены распоряжения и добиться, чтобы ей регулярно выплачивали жалованье Миклоша. Еще с восьми часов утра она засела в опустевшей комнате госпожи Геренчер, достала свое вязанье и терпеливо стала ждать.
Ремер пришел около половины девятого. Татар, разумеется, следовал за ним по пятам, неся под мышкой почтовую книгу, и, заметив госпожу Кет, еще издали неодобрительно покачал головой.
— Почтеннейшая сударыня, очень некстати беспокоите господина доктора.
— Но, позвольте, это, наконец, возмутительно — так обращаться с женщиной, я уже четвертый день не могу к вам попасть.
— Входите, пожалуйста, сударыня. — и Ремер пропустил госпожу Кет впереди себя, однако сесть ей не предложил. — Чем могу служить?
— Чем можете служить? Простите, но это неслыханно… Мой муж на фронте, а его жалованье…
— Насколько мне известно, господин Кет получил расчет и выходное пособие.
— Но скажите мне, на каком основании вы увольняете ушедших на фронт? Вы обещали ему…
— К сожалению, сие от нас не зависит, сударыня. Вы должны понять, что нам, дирекции завода, выполняющего военные заказы, необходимо прежде всего думать об обеспечении тотальной войны.
— Короче говоря, вы не дадите денег?
— К сожалению, я, право, бессилен. Вы ставите меня в весьма трудное положение. Я не многих так люблю и ценю, как Миклоша, и был бы счастлив опять приветствовать его здесь, но существующее положение…
— Не может этого быть, чтобы у вас не нашлось способа… Что мне делать с ребенком, я беременна… Меня нигде не берут на работу…
— Позвольте, — торжественно произнес Император, взявшись указательными пальцами за вырез жилета и став на цыпочки, — поскольку я являюсь распорядителем собственности Ремера и Хофхаузера, то, согласно правилам Национального банка, имею возможность за счет их частного капитала выдать вам единовременное пособие, я подчеркиваю, единовременное пособие в сумме трехсот пенге.
— Триста пенге? За счет частного капитала? И это когда вы сами переехали на Швабскую гору в виллу Ремера? Наворовали себе ковров на многие тысячи пенге? Нет уж, оставьте себе эти триста пенге и купите на них веревку, бездушный… старый хрыч!
И госпожа Кет не стала продолжать. Достав носовой платок, она громко высморкалась и направилась к выходу, но столкнулась в дверях с двумя мужчинами в гражданской одежде. Те не поздоровались и не уступили ей дорогу, а подошли прямо к Ремеру. Госпожа Кет обернулась и увидела, как один из них, ростом пониже, показал свое удостоверение. Ремер побледнел, бросил на Татара продолжительный, удивленный взгляд, затем, не говоря ни слова, засеменил к вешалке и, надев шляпу, покорно последовал за мужчинами. Все это произошло без единого звука, без какого бы то ни было объяснения. Татар остался стоять посреди комнаты, не выражая при этом ни малейшего признака удивления или злорадства. Госпожа Кет, немного придя в себя, вышла из конторы. Ремера и двух мужчин ни на лестнице, ни на улице уже не было. Казалось, будто их поглотила земля.
Карлсдорфер по своему обыкновению пришел на работу примерно в десять часов. Управляющий Татар тотчас же сообщил ему страшную новость — сегодня утром два сыщика гестапо забрали Ремера из конторы.
— Что? За что? Как? Когда?
Лицо Татара было торжественно-опечаленным, как у устроителя похорон.
— Они ничего не сказали, ваше превосходительство. Пришли, показали приказ об аресте или что-то в этом роде и увели господина доктора.
Карлсдорфер, словно громом пораженный, неподвижно сидел на своем месте.
Только раз в жизни он чувствовал себя так скверно. Это было пять лет назад, когда Геза Ремер, ничего не сказав, внезапно уехал в Лондон. Накануне они еще болтали с молодым Ремером об охоте. Он отчетливо помнит, что Геза твердил, будто в лесу за Шомошбаней можно устроить облаву на кабанов. А на следующий день ни он, ни Андриш Хофхаузер не пришли в контору. Вместо них приплелся в полдень старый Аладар Ремер, которого он раньше знал лишь по заседаниям дирекции, и сказал, что хочет поговорить с ним один на один. Затем достал кипу бумаг, разложил их на столе и пояснил, что Геза Ремер и Андриш Хофхаузер ночью вместе со своими семьями на неопределенный срок покинули Венгрию. Национальный банк поручил ему, доктору Ремеру, управление имуществом. В случае же какого-либо несчастья с ним эта обязанность переходит к его превосходительству господину Карлсдорферу. Карлсдорфер стал хватать воздух и, выпучив глаза, смотрел на бумаги, на подробные, многочисленные указания обоих директоров: об увеличении экспорта в Швецию, о том, что надлежит делать в случае разрыва дипломатических отношений между Англией и Венгрией, что следует предпринимать, если между Швецией и Венгрией возникнет состояние войны… Планы, статистические выкладки, в которых он почти не разбирался, но за которые с этого дня будет нести ответственность. Кончилась привольная жизнь, теперь придется с лихвой расплачиваться за жалованье генерал-директора в две тысячи пенге. Но до сих пор при любых затруднениях рядом был доктор Ремер, юрисконсульт, который благодаря своей изворотливости умело вел корабль между Сциллой и Харибдой, оставляя его превосходительству обязанности по возможности громче сигналить и размахивать флагом.
Ну уж нет, довольно с него этих волнений! Пусть распоряжается имуществом Татар, или сам папа римский, или герцог уэльский. Они с женой, затянув пояски потуже, проживут и на пенсию, как другие.
— Подпишите почту, господин управляющий, я сегодня занят, — сказал он молча стоявшему возле него Татару. — Завтра обсудим это дело.
Карлсдорфер пошел домой, позвонил в министерство внутренних дел и попросил позвать к телефону своего зятя Бардоци. Он хотел поговорить с ним, притом немедленно.
Встретившись вскоре в пивной «Карпатия», они сели в самый тихий угол. Дердь Бардоци поглощал одну порцию сардин за другой и, запивая пивом, со снисходительной улыбкой поглядывал на своего тестя, потерявшего всякий аппетит.
— Ну, что нового, папа?
— Сынок, я не могу больше руководить Заводом сельскохозяйственных машин.
— А что, разве вы руководили им? — нагло спросил Бардоци, поднося ко рту кусок рыбы.
На лбу Карлсдорфера забилась жилка, но он сдержался.
— Сынок, Ремера сегодня увели твои дружки, неизвестно куда и за что.
— Кто увел, тот наверняка знает, за что.
— Но послушай, сынок…
— Почему вы интересуетесь, за что увели этого еврея?
Наверное, была причина. Он воровал, мошенничал, прятал золото, спекулировал валютой. Теперь по крайней мере вы сами будете хозяином и, может быть, что-нибудь приобретете. Шесть лет, как вы стали генерал-директором, а все ходите в одних и тех же залоснившихся брюках.
— Но позволь, сынок…
— Что вы заладили: сынок да сынок? — окрысился Бардоци, вытирая платком капельку масла, блестевшую на его черных усах. — Просто диву даешься. Другой из сил выбивается, чтобы войти в дирекцию какого-нибудь предприятия, а вам на блюдечке принесли, в рот положили, деньги в карман пихали, и вы прошляпили… Знаете, что надо было делать? Уже давно следовало уговорить Ремера, чтобы он передал вам на хранение семейные драгоценности, давно пора согласиться на выполнение военных заказов для Германии и, вместо того чтобы контрабандой вывозить товары в Швецию, обратить все в валюту и сплавить в Швейцарию… А вы все сидите да зеваете. Другой тесть давно бы устроил зятя директором или главным инженером! Не подумайте только, что я претендую на эту должность, просто к слову пришлось. А выходит наоборот, вы сами бегаете ко мне за помощью. Когда я женился на вашей дочери, то взял в приданое два пододеяльника да три полотенца и не просил у вас ни ренты, ни передачи мне фруктового сада в Геди. Так вы по крайней мере не рассчитывайте, что я вас буду содержать, у меня и без того хлопот полон рот, два сына…
— Я никогда не напрашивался к тебе в нахлебники, — побледнел Карлсдорфер. — Хотел только посоветоваться с тобой, но раз так, обойдусь без твоих советов.
Карлсдорфер потянулся за палкой, прислоненной к углу стола, по-стариковски встал и вышел из пивной. Продолжая сидеть, Бардоци искоса проводил взглядом его превосходительство, а затем попросил у официанта еще кружку пива.
Старик дошел до Музейного кольца и сел на трамвай. У проспекта Андраши он спустился в метро. На перроне ожидала поезда шумная ватага гитлерюгендцев в бархатных штанах; от нечего делать они состязались в том, кто дальше плюнет. Публика неодобрительно, молча следила за этой игрой. Когда подошел поезд, юные представители высшей расы, поощряемые их предводителем, работая локтями, бросились в вагон. Они заняли все сидячие места и принялись отпускать наглые замечания по адресу Будапешта и «трусливых венгров». Кое-кто из пассажиров понимал по-немецки. Одни снисходительно улыбались «милым мальчикам», другие, кусая губы, с негодованием смотрели на них.
Карлсдорфер тоже молчал, но его сердитый взгляд и багровое лицо предвещали взрыв. На площади Муссолини молодчики до того разошлись, что загородили выход и никто не мог войти в вагон. А застрявшим в вагоне пассажирам они показывали «ослинные уши». Один подросток пробубнил в нос:
— Wo von stammt Ungarns Name?[18]
В ответ на это другие захохотали и хором стали повторять:
— Унгарн-хунгарн.
— Maul halten![19] — взревел побагровевший Карлсдорфер.
Юнцы опешили и тотчас же умолкли: их вожак подал знак рукой, призывая к порядку. До самой улицы Байза они вели себя мирно. На остановке банда гитлерюгендцев, толкаясь и шумно смеясь, вышла. Один из них уже на перроне выкрикнул бранное слово.
Карлсдорфер покраснел как рак. Он оттолкнул в сторону оторопевшего кондуктора, который в этот момент собирался закрыть дверь, выпрыгнул на площадку и своей тростью принялся избивать распоясавшихся молодых гитлеровцев. Кондуктор от изумления выпучил глаза, дождался, когда Карлсдорфер вернется в вагон, затем закрыл дверь, дал звонок, и поезд тронулся. За всю дорогу никто не сказал ни слова. Карлсдорфер, гневно ворча, вышел на площади Героев и побрел в сторону улицы Дамьянича.
Янош Хомок
Двадцатитрехлетний формовщик Янош Хомок слыл мастером своего дела. Подобно скульптору, который наперед знает, как будет выглядеть бронзовая скульптура всадника, Янош Хомок легко представлял себе, каким получится статор турбины или маховик из чугуна… Утрамбовывая в опоке песок, пробивая дырки для свободного отхода газов при остывании металла, он каждый раз испытывал такую же радость созидания, какую ощущал еще дома, в Шомошбане, когда строил вместе с ребятами на берегу ручья затейливые крепости или лепил красивые фигуры из мягкой глины.
Но умение лепить было не единственным достоинством Яни Хомока. Он был миловидным, как девушка, краснощеким, стройным, кареглазым мальчиком. Таких, как он, женщины любят погладить по остриженной головке, а учитель всегда вызывает к доске, когда приезжает инспектор. Правда, бывало и так, что он ни слова не знал из заданного урока, но зато держался смело, а смелость города берет.
Счастье привалило к нему случайно. Однажды Геза Ремер играл со своим шурином в теннис; мальчишки взобрались на садовую ограду, но лишь один из них осмелился подойти поближе и стал подавать мяч по просьбе игроков — это был Яни Хомок. В ту пору Гезе Ремеру было не больше тридцати лет. Он уже начал полнеть, но, по мнению многих, был еще довольно красив. Играя по утрам в теннис, он боролся с грозившей ему полнотой. Связанный сидячей работой, Геза Ремер неумеренно потреблял жирное жаркое и сметану со сладостями.
Яни Хомок отказался брать деньги за подачу мяча. Ремер удивился.
— А что же тебе дать?
— Ничего не надо.
— Почему?
— Потому что мне и самому было приятно.
— Что было приятно?
— Бегать за мячом. Он такой красивый.
— А у тебя какой мяч?
— Нет никакого.
— Кто твой отец?
— У меня нет отца.
— Он что, умер?
— Раз нет — значит, умер. Я его не помню.
— Ты живешь с матерью?
— И матери у меня нет. Я живу у старшего брата.
— А кто он, твой брат?
— Каменотес, Иштван Хомок.
— А сколько тебе лет?
— Тринадцать.
— Молитвы знаешь?
— Каждый вечер молюсь, а по воскресеньям и в церковь хожу.
— Хм. Кем же ты хочешь стать?
Мальчик пожал плечами.
— Никем. Пойду в каменотесы.
— А если бы тебе сказали: выбирай. На чем бы ты остановился?
— Пошел бы на завод.
— Почему на завод?
— Потому что там машины, — ответил мальчик, и глаза его заблестели.
— А брат отпустит?
— Конечно, отпустит.
— Ну, приходи ко мне на завод, — сказал Ремер и для памяти тут же сделал себе пометку в блокноте. Весь день у него было очень хорошее настроение. «Будь я сейчас бойскаутом, то мог бы повязать узелок на галстуке. Сегодня я совершил доброе дело», — подумал он и заказал обещанную сыну лошадку-пони. Ценой собственной жизни его уродливая жена произвела на свет сына Гезу, который, к сожалению, унаследовал от нее нервный характер.
Янош Хомок давно позабыл об обещании господина, когда-то игравшего в теннис, как вдруг пришло распоряжение: при первой возможности привезти мальчика со всеми его вещами на машине в Пешт; он будет учиться на формовщика в литейном цехе Завода сельскохозяйственных машин. Позаботились о его жилье — временно он поживет у литейщика Лайоша Чизмаша.
Чизмаш уже доживал пятый десяток своей жизни. Этот худой, низкорослый человек своим видом разочаровал мальчика. До сих пор литейщики представлялись ему сказочными великанами, которые разливают огромным черпаком расплавленный металл, придают ему форму паровоза, машины, автомобиля. Вторично он разочаровался, когда увидел Пешт. Учитель рассказывал им на уроках, что в Будапеште самые лучшие, самые высокие дома, красивые мосты, шикарные магазины, а между тем улица, куда его привезли на машине, ничем не отличалась от улиц в Шомошбане. Ветхие дощатые заборы, поникшие оштукатуренные домишки с развалившимися дымоходами казались усталыми путниками, которые ждут не дождутся, когда наконец им позволят сесть. На длинной улице стоит облупившаяся бакалейная лавка, а возле нее корчма с поблекшей вывеской. В конце улицы общая водонапорная колонка, вокруг нее вечно блестит лужа, грязь. По вечерам здесь зажигается один-единственный газовый фонарь. Дом Чизмашей отличается от остальных лишь тем, что его ворота выходят не на улицу Месеш, а прямо на заводской двор. Даже воду Чизмаши носят не из общей колонки, а из заводской. И только у них горит электричество. Яни Хомок частенько засматривался на отводку от магистрального провода, по которому шел ток к маленькой лампочке на кухне.
Дом Чизмашей принадлежал заводу, и поэтому жильцам запрещалось сажать яблони, выращивать в огороде картошку и разводить цыплят. Больше всего это огорчало болезненную, грустную тетушку Чизмаш, которая то и дело жаловалась на несправедливость господ своему сыну Яношу и Яни Хомоку. Но Яни Хомока не волновали ни картошка, ни цыплята — его пленил, очаровал гигантский завод.
Яни было, наверное, лет семь или восемь, когда он впервые увидел на шомошских холмах солдатскую муштру. Загремели трубы, и весь склон горы как-то сразу ожил, сверкая штыками, на вершину поползли солдаты в зеленой форме, поползли неуклюжие танки, загрохотали орудия. Мальчик раскрыл от изумления рот и смотрел на все это, как на чудо: вся эта сила повинуется воле какого-то невидимого человека, а какая четкость, какой порядок. С той поры мальчик полюбил играть в войну. Он был счастлив, когда учитель выстраивал их на узком школьном дворе, любил петь хором, любил вместе с другими пятью-десятью учениками с шумом выскакивать из-за парт и вытягиваться по команде «смирно», когда в классе появлялся господин учитель.
Выходя на рассвете к ограде и издали наблюдая, как на завод идут толпы людей, а в шесть прислушиваясь к реву гудков, Яни испытывал огромную гордость, что теперь и сам он принадлежит к этой могучей армии труда. Он любил строгий порядок в литейном цеху, штабели опок, любовался на брызжущий искрами раскаленный металл, который по воле укротителя течет в открытое горло формы и после трехдневного остыва принимает вид, приданный ему человеком. Особенно полюбился Яни главный инженер Чути, который зимой и летом, в жару и холод, в семь часов утра неизменно появлялся в дверях литейной. За пять минут до его прихода прибегал Дружок. Он просовывал в железные двери свою лохматую морду, тявкал несколько раз, как бы предупреждая всех о приближении хозяина и о том, что следовало бы навести порядок. И ровно через пять минут показывался Чути. Одетый в белый халат, словно какой-нибудь профессор медицины, он проходил через весь литейный цех; обычно его с важным видом сопровождали четыре-пять техников. Инженер осматривал печь, проверял работу чистильщиков, останавливался у какой-нибудь ямы, заглядывался на старания формовщиков, затем обменивался несколькими словами с дядюшкой Чизмашем, с мастером и уходил. Проходя, Чути каждый раз задерживался возле Яни Хомока. «Ну, приятель, есть брак?» «Нет», — отвечал Яни. «Я так и знал», — произносил Чути, и это ежедневное «я так и знал» было для Яни Хомока приятнее всего на свете. Он продолжал стоять, вытянувшись в струнку, даже тогда, когда главный инженер уже давным-давно проверял машинный цех… «Ты что, влюбился в него, а?» — спросил как-то у Яни совсем молоденький Лапушик. Поговаривали даже, будто Яни, пытаясь приударить за 1 еруш Такач из заготовительного цеха, пригласил ее в воскресенье на танцы и весь вечер только и рассказывал ей о главном инженере Чути, что тот уже дважды похвалил его, говорил, что ему, Яни, стоит учиться, спрашивал, какова его мнение об оздском чугуне… Теруш надоела его болтовня, и во время вальса она покраснела, опустила руки и сказала: «Слышишь, Яни, черт тебя возьми, если ты любишь инженера Чути, так и танцуй с ним». С этими словами девушка убежала прочь и до конца вечера танцевала с Пиштой Фаркашем, ни разу и не взглянув на Яни. Разумеется, это было не совсем так. Яни, правда, очень любил Лоранта Чути и часто ему хотелось спросить у него что-нибудь: о заводе или о чугуне. Но дальше этого желания дело не шло.
Яни Хомок так никогда и не узнал, каким образом он попал в семью именно Чизмаша. В свое время заботу об устройстве мальчика Геза Ремер возложил на Лоранта Чути. Тот ругался на чем свет стоит. «Да что я в конце концов, биржа труда или нянька!.. Что же, прикажете мне ходить по домам да спрашивать, не нуждается ли кто в нахлебнике? Скажите, Чизмаш, — обратился он к стоявшему рядом старому литейщику, — не могли бы вы взять к себе тринадцатилетнего мальчугана?» «Надо спросить у жены», — почесал затылок старик. «За его содержание вам бы убавили квартплату». «Ладно, — согласился Чизмаш. — Все будет в порядке. Я договорюсь с женой».
Тетушка Чизмаш не стала возражать. Она родила восьмерых детей, но семеро из них умерли, одни от кровавого поноса, другие от дифтерии, а двое от азиатского гриппа. Только самый младший, Яни, и выжил, хотя при рождении не весил и двух килограммов и вместо плача только пищал; мало было надежды, что он останется в живых. Худой тихий маленький Яни, похожий на отца, как две капли воды, вырос здоровым, добродушным, но упрямым пареньком. Ну что ж, пусть в доме прибавится еще один сын, к тому же не надо будет платить двадцать четыре пенге за квартиру, а со временем и он станет зарабатывать.
Если бы Яни Хомок тоже был бледным, хилым мальчиком и донашивал одежду Яни Чизмаша, — как бы полюбила его тетушка Чизмаш! Но он оказался плечистым гигантом, который, несмотря на свои четырнадцать лет, был на голову выше ее шестнадцатилетнего сына. И, к несчастью, даже в залатанных штанах, из которых он давно вырос, и застиранной до дыр трикотажной рубашке он выглядел настоящим красавцем. Или хотя бы звали его иначе! А как он быстро освоился на заводе. Будто кинжал поворачивали в сердце тетушки Чизмаш, когда после смены все трое мужчин одновременно возвращались домой и старик начинал хвалить: «Из этого мальчишки такой выйдет формовщик, что его работу на выставке будут показывать. Наш уже третий год возится с чугуном, но стоит ему взять в руки форму, как она рассыпается. А этот не успеет взяться за дело, вымесить песок как следует, и у него клеится, потому что он работает с чутьем, оно у него и в сердце и в кончиках пальцев…» «Ступайте ужинать, сколько раз приглашать», — гневно обрывает его старуха и с такой силой вертит супницу, что «чужому Яни» почти не достается гущи… Старик и «большой» Яни ничего этого не замечали. К тому же «большой» Яни был очень замкнутым и мечтательным пареньком. Если бы ему дали время, он бы не отрывался от книг. Ему страсть как хотелось знать, что делается на звездах. Как-то раз ему довелось читать одну книгу: в ней говорилось, будто земля — всего только крошечная точка, будто сотни миллионов подобных земель вращаются, рождаются и погибают во вселенной. Вот хорошо бы понаблюдать за ними через гигантский телескоп! Однажды Яни собрался было рассказать об этом, но потом вдруг передумал — побоялся, что Хомок высмеет его или сочтет все это за грех, который надо будет замаливать. Впрочем, оба Яни жили дружно, и «большой» без зависти и ревности замечал, что в заготовительном цехе девушки чаще улыбаются не ему, а «малышу».
По мере того как летели годы, тетушку Чизмаш все больше снедала ревность к чужому парню, но тем не менее она не осмеливалась сказать мужу, чтобы тот выгнал «малыша». Младший Яни так прижился у них в семье, будто здесь родился и вырос. На рассвете вставал, приносил воду, рубил дрова, чтобы «мамаша» не утруждала больное сердце и опухшие ноги. Если иногда портился замок, он тотчас, достав напильник, щипцы, принимался за ремонт; если уходил на праздники к своему брату в Шомошбаню, то возвращался домой с десятком яиц, буханкой хлеба. Как-то в сорок втором году на пятнадцатилетием юбилее завода прибывшие из муниципалитета и министерства господа попросили показать им, как производится формовка. Чути подвел гостей к Яни Хомоку. Приехавший фотограф уже собирался было поджечь магний, но тут Яни подбежал к старому Чизмашу и сказал: «Вот мой отец, это он научил меня». Придя домой, «малыш» положил на кухонный стол свою премию — сто пенге в конверте. Тетушка Чизмаш не произнесла ни единого слова, убежала в комнату и горько заплакала. Ее родной Яни не получил ни гроша…
В сорок третьем году зазод стал военным предприятием. Яни Чизмаш к тому времени уже шестой месяц воевал на фронте. Яни Хомока тоже призывали, но сразу же отпустили домой. Мамаша на этот раз окончательно слегла в постель. Старый Чизмаш и «малыш» сами варили обед, убирали квартиру, стирали белье. Тетушка целый день лежала, отвернувшись к стене, плакала и молилась. Ее единственный, дорогой сынок, может быть, валяется где-нибудь, коченея от холода и истекая кровью… а этот, чужой, живет здесь и в ус не дует… Яни Хомок чувствовал ненависть убитой горем женщины и боялся сделать лишнее движение. Он больше не насвистывал, почти не разговаривал, а придя домой, прятался у себя в каморке. Заводские парни не раз звали его на футбол, в кино, братья Боршош проходу не давали, приглашая сходить с ними в клуб партии «Скрещенные стрелы», но, почувствовав, что он сторонится их, отстали. Яни Хомок все чаще подумывал о переезде на другую квартиру, но это, разумеется, было не так-то легко. Брат Иштван тоже ушел на фронт, и приходилось помогать его семье, да и тетушке Чизмаш надо было давать деньги; не мог же он оставить их в беде, ведь они вырастили его… Только бы вернулся с фронта их сын Яни, он сразу покинул бы их.
И рядовой Янош Чизмаш в ноябре сорок четвертого года действительно вернулся домой, но боже праведный, каким он вернулся! До того худым, что, казалось, остались только кожа да кости, а на месте левой ноги болталась пустая штанина. Ногу заменяли теперь два костыля, на которых он с трудом добирался от одного угла кухни до другого. Впрочем, несчастье произошло с ним уже давно, еще весной, но до сих пор его таскали по разным госпиталям.
Яни Хомок был сам не свой, когда увидел вернувшегося домой солдата. И хотя повторял он про себя, что не его в этом вина, все же чувствовал, что только из-за него пострадал «большой» Яни. Не попади он на завод, может быть, Чизмашу дали бы броню…
Как только домой пришел сын, тетушка Чизмаш тотчас же встала с постели. Она устроила своего Яни на кухне, укрыла полосатой периной и, усевшись рядом, принялась его ласкать. Яни несколько недель провалялся в постели с высокой температурой. Он жаловался на боль в ноге и на то, что не видит звезд. В таких случаях мать со слезами бросалась к нему: раз говорит о звездах, значит, собирается умирать…
Но под Новый год парню стало немного лучше. Он нет-нет, да и присаживался к столу, когда отец и «малыш» возвращались с работы. Садился, но почти не разговаривал. Младший Яни смотрел на его осунувшееся, худое лицо, на длинные, взлохмаченные светлые волосы, на усталый, старческий взгляд, и ему хотелось подойти и сказать: «Бей меня, оторви и мне ногу, скажи, чтобы я убирался отсюда…» Но он не находил в себе смелости нарушить молчание. Только старик изредка заговаривал о заводе. Хорошо еще, что в ту пору участились шестнадцатичасовые смены и надо было работать по воскресеньям. «Малыш» радовался, что ему почти не приходится бывать дома.
Как-то в конце января Яни Хомок вернулся с работы в два часа дня. Тетушки Чизмаш дома не было, она, очевидно, стояла в очереди за хлебом или молилась в церкви. Старый Чизмаш тоже работал в вечерней смене. На кухне были только оба Яни. Солдат читал газету, а младший прибивал к ботинкам подковки.
— Послушай, малыш, а не прогуляться ли нам немного? — спросил Яни старший.
— С превеликой радостью, — несколько удивившись, ответил Хомок. Что это бедняге пришло на ум гулять в такую лютую стужу?
Они прошлись по холодной, покрытой снегом улице Месеш. Раненый Яни, опираясь о плечо Яни Хомока, шел с трудом, тяжело дыша.
— Зайдем в корчму.
Яни Чизмаш не был любителем выпивать, а «малыш» и подавно. Но сейчас, усевшись в углу на приставленную к стене скамейку и облокотясь на голый стол, они заказали по бутылке вина. По соседству с ними сидели трое знакомых парней, близнецы Лапушики и бывший шофер заводской машины Андраш Варро, которого недавно привезли с фронта. Они подсели к ним, чокнулись. По-видимому, те трое уже изрядно выпили. Меховая шапка Варро свалилась на пол, кожаное пальто расстегнуто, но ему, очевидно, и так было жарко. Раскрасневшись, он рассказывал грубым, хриплым голосом о своих фронтовых подвигах:
— Еду я как-то рано утром на грузовике. На дороге метровый снег, вернее, дороги вовсе нет. в тех краях их не строят, разве что телега проедет да оставит след. Одним словом, еду я по опушке леса, вдруг откуда ни возьмись выскакивают девять партизан. Все с автоматами, в маскхалатах, издали и не заметишь на снегу. Вижу, люди они не здешние, какие-то турки или татары, глаза раскосые, друг с другом не разговаривают, а как-то воют по-волчьи. Тут я останавливаюсь, открываю дверцу да как закричу: «Спаси, господи!» Они, как черти от ладана, врассыпную…
Варро обвел глазами компанию. Облокотясь на стол, против него сидел Яни Чизмаш. Его русые волосы выбились из-под шапки, а серые, как сталь, глаза, казалось, впились в мутные глаза Варро.
— Ты что, не веришь? Не веришь, что это были настоящие черти? Я видел и таких партизан, которые ели человеческое мясо…
— А я встречался с такими, которые ели живого барана, — ответил Яни Чизмаш.
— Что? Живого барана? — посмотрел на него Дюри Лапушик.
— Ага. Только сначала зарезали, поджарили на огне.
— Да ну вас… Вот забыл, на чем остановился… — со злостью сказал Варро.
— Продолжай как попало, не все ли равно, — ответил Яни. Он поднял свой стакан с палинкой и кивнул остальным: — Ну, так прогуливаться мне еще рановато. Поможешь добраться домой, малыш? — И оба Яни медленно вышли из корчмы. Варро махнул им вслед рукой.
— Не хотелось спорить с этим калекой. Одним словом, как только я крикнул: «Спаси, господи!»…
На улице уже спустились ранние зимние сумерки. С трудом пробирались они к себе по глубокому снегу. Яни Хомок от досады молчал. Он охотно бы послушал Варро. Правду или неправду тот рассказывал, но все-таки Варро человек бывалый, прошел войну…
— Слушай, Янко, о чем я бредил?
— О чем? Да ни о чем.
— А все-таки.
— Жаловался, что нога у тебя болит. Все время говорил о ноге. Да потом еще, что хочешь видеть звезды. Мать рассказывала.
— И ничего больше?
— Н ет… Больше ничего.
— Послушай, я был у партизан…
— Пресвятая Мария! Так это они отрезали тебе ногу?
— Черта лешего, они. Тогда у меня обе ноги были целы. И потом еще долгое время. После прорыва мы драпали как сумасшедшие назад. Жратвы никакой. Немцы отобрали автомашины, угнали поезда. Помнишь Балинта Шоморьяи? Из машинного цеха, курносенький такой?.. Так его, беднягу, застрелил немец, когда он хотел взобраться на грузовик. И вот мы пешком идем неделю, вторую, уже слепнем от снега. Ты даже не понимаешь, что значит идти, идти и идти без конца по снежной пустыне. Нигде ни дома, ни дерева, ничего, ни единого черного пятнышка, где бы отдохнули твои глаза, только вороны кружатся в воздухе. Уже и есть не хочется, уже ничто не болит, только постоянно клонит в сон — вот лег бы в снег и заснул. Офицеров мы и за версту не видели, был среди нас один сержант, он все торопил нас, стращая тем, что в лесу будто бы скрываются партизаны. А партизан мы боялись, как огня. Видеть, правда, мы их не видели ни одного, но рассказов о них наслушались вдоволь. И вот через две недели я не вытерпел и сказал своему дружку, что пусть бы нас схватили партизаны и прикончили, сразу погибнуть все же лучше, чем подыхать медленной смертью. Эх, если бы все мои желания исполнялись так быстро, как в тот раз. В полдень залютовал снежный буран. Ты еще помнишь тот ураган, что пять лет назад повалил орех в саду Балога? Так вот, таким был и этот снежный буран. Только тогда в воздух вздымалась пыль, а теперь зашевелилось, ожило снежное поле, все вокруг заволокла ледяная белая туча, сквозь которую мы не видели даже друг друга. Лицо, глаза засыпали ледяные колючки. Мы побрели дальше, не зная, вперед идем или назад! Я уже и не помню, что со мной произошло, побрел я следом или повалился в снег, только пришел я в себя в крестьянской избе, возле печки, на соломе. Вокруг меня хлопочут человек шесть, растирают мне руки, ноги снегом, поят водкой, чаем и спрашивают друг у друга, не очнулся ли я. И что удивительно, один из партизан, худой, костлявый парень, обращается ко мне по-венгерски.
— Это тебе снилось, Яни.
— Где там снилось! Потом мне удалось узнать, что отец того парня еще в первую мировую войну попал к русским в плен. Венгерец объяснил, что меня подобрали партизаны, и попросил рассказать, чем я занимался у себя дома, в Венгрии. Я ответил, что прежде работал формовщиком на заводе и что сам я из рабочей семьи. Они увидели по моему френчу, что имеют дело с рядовым солдатом, и не стали обижать. Четыре дня я пробыл у них в гостях, ботинок им не удалось мне починить, так как не было под рукой инструмента, но зато дали сухие портянки, смазали говяжьим жиром башмаки, поили вдоволь чаем, кормили кашей, капустой. Обращались со мной не как с врагом, у всех какая-то жалость ко мне… Спросили также, за что я воюю. Я, конечно, только плечами пожал, откуда мне знать, не я же объявил войну. Тогда мне задали вопрос, знаю ли я, что они намереваются со мной сделать. Я сказал, что, если бы они спросили об этом в первый день, я ответил бы, что меня убьют. На другой день мог бы надеяться на отправку в Сибирь, но теперь даже не знаю, что и подумать. Вряд ли, думаю, позволят остаться с ними, присоединиться к их отряду. На это они ответили, что обижать меня не хотят, но и держать у себя не могут. Я, дескать, должен собираться в дорогу, на рассвете меня выведут из лесу и покажут, где я могу найти своих. У меня не было никакой охоты возвращаться в часть и снова скитаться по снегу. Поэтому я стал их умолять. Но они только качали головами: нельзя, мол, попробуй добраться до родины и помешай распространять среди своих соотечественников всякие ложные слухи. На рассвете меня еще раз накормили супом и хлебом, запрягли в телегу лошадь, вывезли на опушку леса и показали, куда следует идти. Бог свидетель, я заплакал, как малый ребенок.
— А потом?
— А потом? Потом мне попалась небольшая группа похожих на меня оборванцев, и мы побрели дальше. Если кто-нибудь падал в снег, назад не оборачивались, так как и сами уж едва волочили ноги… Если находили что-нибудь, ели, если попадался на пути разрушенный дом, конюшня или амбар, спали. Так мы шли днем и ночью, пока однажды где-то на польской границе не попали в какую-то деревню; там оказался немецкий лагерь. Нас схватили и бросили в него, а потом погнали дальше. В ту пору у меня уже началась гангрена ноги, и я очутился в лазарете. Из всего пережитого запомнился мне только один врач, который отрезал мне ногу, и венгерский капитан, читавший нам еще в лагере приказ о том, что каждый, кто посмеет рассказывать дома про то, как гибла наша армия, немедленно будет расстрелян.
Яни Хомок с недоверием и тревогой посмотрел в лицо своему старшему брату. В детстве им часто приходилось рассказывать друг другу всякие жуткие истории, и, когда всех уже охватывал страх, рассказчик начинал вдруг смеяться и весело выкрикивал: «Кто этому верит, тот глупее осла…» Никак нельзя было поверить, что этот ковыляющий рядом худой, одноногий блондин действительно скитался где-то среди необозримых снежных полей и что партизаны угощали его супом — не выдумка. Выходит, в то время как он, Яни Хомок, с увлечением формовал липкий песок, ел горячую пищу, обнимал девушек, другой…
— Яни, братец мой, ты не сердишься на меня?
Яни Чизмеш с недоумением поднял глаза.
— За что? За то, что ты не бросил моих стариков? Ведь мать тебя любит, как родного сына.
Жареный бык
От центрального управления завод находился в часе езды на трамвае. И тем не менее Агнеш вот уже два года не была там. Да и тогда, в сорок втором году, когда была молодой практиканткой, поехала туда не по собственной воле, а на юбилейные торжества и званый обед. Завод нисколько ее не привлекал. Он казался ей каким-то страшным, шумным и чужим. То и дело спотыкаясь, она с какой-то растерянностью проходила среди ям в литейном цеху и испуганно втягивала голову в плечи, когда оказывалась под движущимся подъемным краном, порвала чулки о торчащий кусок железа и чуть не умерла от стыда, когда ее окликнули и попросили получше смотреть под ноги и не наступать на готовые формы. Еще в школьные годы не полюбились ей экскурсии на завод. Они утомляли ее и вызывали скуку. Какой толк ходить среди кирпичных гигантских зданий, спотыкаясь о рельсы, слушать гул, вой работающих агрегатов, в этом оглушительном шуме с трудом улавливать слова инженера в халате, который каждый раз останавливается посреди цеха и старается продемонстрировать трудно запоминаемые приборы и материалы, оснащая рассказ тысячами научных терминов?
Она бы не все поняла, даже не будь этого шума. А ведь инженера могли слышать лишь девушки, стоявшие в непосредственной близости от него, которых в классе за их очки и косы звали «синими чулками». Во время экскурсии на мельницу эти девушки записывали, что «существуют плоские решета», на сероводородном заводе — «контактный и камерный процесс», а в лабораториях, заглядывая в микроскоп, захлебываясь от восторга, — что видят в капле воды живых бацилл, хотя видели, по сути дела, только серое, мутное пятно. И на следующий день, как правило, они должны были написать сочинение на тему «Что я видела на заводе». Ей запомнилась только одна-единственная приятная экскурсия. Как-то раз их повели на парфюмерную фабрику «Флора». Им не стали показывать машины, а провели в приемную директора и там усадили вокруг стола. Граммофон беспрестанно трещал рекламную песенку, которую она запомнила на всю жизнь:
Главный инженер преподнес им по куску туалетного мыла, угостил шоколадным тортом, и их отпустили домой. «Ведь отец тоже работает на заводе», — думала Агнеш, когда, отстав от своих школьных подруг, на минуту засматривалась на рабочих. Бледные, костлявые лица, у всех суровый взгляд, всюду машинное масло, копоть, кислота, пот, щелочь, сера, угольный газ, ужасная вонь, дымящиеся чаны и искрящиеся железные реки… Позднее, сдав экзамен на аттестат зрелости, она вспоминала эти экскурсии и пыталась вникнуть в смысл всего виденного. Очевидно, она испытывала неприязнь и отвращение ко всему заводскому потому, что занималась более высоким, умственным трудом, тогда как на заводе все было грязно и примитивно. В то же время она и сама понимала, что это ложь и что ее неприязнь и страх скорее свидетельствуют о том, что она и дня, а может быть, и часа не смогла бы выстоять у пыльного, грохочущего ткацкого станка, не смогла бы управлять снимающим дымящуюся стружку токарным станком, не смогла бы вынести горячего пара красилен, потрясающих землю и укрощающих железо ударов молота в кузнечном цеху и выпустила бы из дрожащей руки клещи, которыми, почти играя, подхватывают прокатчики ползущую по земле, шипящую, страшную огненную змею. И старый Чаплар и братья Агнеш день-деньской что-то мастерят дома. Агнеш же выросла неловкой и нетерпеливой, ей не повиновался ни гвоздь, ни молоток. Рассказы отца и старшего брата о заводе она слушала, как сказки о далеких мирах. Соседская слесарная мастерская была для нее более странной и чужой, чем то, что она видела в романе «Имаго» Шпиттелера или в романе «Слепой Самсон» Гекели…
И теперь она тоже с неохотой отправилась в путь.
Трамвай полз, как сонный. Сидящий напротив Татар, закрывая портфель, спросил:
— Вы взяли с собой сумку?
— Нет, — изумилась Агнеш.
— Вот видите, как вы легкомысленны. К счастью, при мне есть штук пять пустых авосек. Одну могу уступить вам.
— Для чего?
— Прихватим на обратном пути немного говядины, — ответил управляющий. — Вы что думали, мы только из любви едем вводить в должность военпреда? — И тут же Татар извлек из своего портфеля выцветшую дырявую сетку, и, вежливо кивнув, протянул ее девушке.
— Спрячьте к себе в сумочку. И не говорите, что мы плохо относимся к нашему молодому главному бухгалтеру.
Внутренние районы города остались позади. На окраине тянулись ряды серых, почти черных доходных домов. «Какие они оголенные», — думала про себя Агнеш. В центре города на Бульварном кольце и проспекте Ракоци доходные дома с их роскошными магазинами и яркими вывесками, выстроенные в конце прошлого века, казались более приветливыми. Здесь не было видно ни крохотной детской площадки, ни скверика.
Затем исчезли и каменные дома. Показались деревянные бараки, крытые толем, жалкие лачуги, в которых стыдно держать и скотину. Агнеш смотрела сквозь запотевшее окно на проплывающую мимо картину. Разумеется, она знала, что существует поселок Марии-Валерии, поселок Августы, но только сейчас поняла, что они собой представляют на самом деле…
Татар с раздражением посмотрел на свои новенькие часы системы «Шафхаузен».
— Извольте. Скоро три часа. А нам еще придется идти от станции добрых полчаса пешком. Но что поделаешь? Карлсдорфер не хочет понять, что для центрального управления тоже необходима легковая машина.
— А разве трамвай не ходит до завода?
— Конечно, нет. Электричество проведено только на завод. Оно не оправдывает себя в таких пролетарских районах.
— Электричество, воду, канализацию нельзя проводить по одному этому соображению.
Татар вытаращил глаза.
— Хорошенькие же у вас мысли, барышня Чаплар. Не позволите ли спросить, где вы их набрались?
— А что? Это полностью соответствует духу «Quadragesimo Anno».
— А это что еще такое?
— Энциклика папы о мире между рабочими и капиталистами.
— Твой папа, если он пишет подобные вещи, плохо кончит. Папе не подобает играть на руку черни. Бесплатно трамвай, бесплатно зода, бесплатно хлеб, а завтра, глядишь, и работать не захотят. А потом потребуют разделить имения, дать им больше денег, чтобы можно было напиваться в корчме. На заводах должна царить железная дисциплина, военный порядок. А смутьянам-папам…
— Вы все извращаете, ничего подобного в энциклике нет, — в сердцах сказала Агнеш, ощутив какую-то досаду на самое себя. Зачем ей понадобилось спорить с Татаром? Особенно о вещах, о которых господин управляющий даже понятия не имеет. Правда, она и сама не очень-то разбирается во всем этом, помнит только названия: «Perum Novarum» и «Quadragesimo Anno»; на уроке экономики им задали выучить из этого десять фраз. Что касается главного, то она в основном согласна с Татаром. Уступки, доброта не годятся для управления обществом. С Тибором они часто говорили об этом.
Рабства больше не существует, нет феодальной зависимости. Все рождаются свободными. У кого есть деньги, тот может записаться и ходить в школу. Разумеется, у многих сотен тысяч семей денег нет, но в этом виновен Трианон[20]. Мы потеряли источники сырья, рудники, шахты, соляные копи. Приходится страдать. И каждый должен в одиночку добиваться своего счастья и успеха в жизни. Взять хотя бы ее: она тоже дочь рабочего. И все же закончила среднюю школу, и не как-нибудь, а только с отличием. Даже денежную премию получила в конце года. Самостоятельно изучала итальянский и английский языки. Будучи на третьем курсе коммерческого училища, когда ее сверстники даже по-венгерски допускали ошибки в своих сочинениях, она уже читала в подлиннике «Пикквикский клуб» и экономические труды Адама Смита… Пожалуйста, это может сделать каждый, кто обладает силой воли и способностями. Виновато не общество, что проваливается и погибает слабый, неспособный… Главным бухгалтером она тоже стала своим старанием, а не по протекции какого-то дядюшки министра.
Она была рада, что Татар не ответил и спор не состоялся.
И всю дорогу они так больше и не говорили.
От конечной остановки трамвая пришлось идти грязной, глинистой дорогой по неустроенным заброшенным улицам; впереди стоял завод, как какой то гигант готовый раздавить все вокруг.
На заводе произошло сразу два больших события. Чути призвали в армию, но в звании прапорщика тотчас же откомандировали обратно по месту работы. На сей раз не понадобилось решения дирекции и не было никаких споров: он получил приказ, что следовало производить. Вторым, не менее важным событием явилось прибытие нового военпреда. Сюч остался начальником в Шомошбане, а на завод назначили какого-то полковника, по фамилии Меллер.
Меллер был немногословный благообразный мужчина лет пятидесяти пяти. Он встретил Татара и Агнеш с почтительной вежливостью и проводил их к себе в комнату.
Татар не сел. Он вытянулся перед полковником и доложил:
— Как референт Государственного мобилизационного управления и представитель дирекции приветствую вас на нашем заводе. Я очень рад, что вы, господин полковник, возьмете в руки управление делами. Дух управления всегда был плох. Либеральное еврейское в угоду большевикам поведение доктора Ремера и слабость его превосходительства господина Карлсдорфера вели к ослаблению трудовой дисциплины. Дирекция, освободившись от Ремера, то есть от самого худшего элемента, готова поддерживать вас в принятии строжайших мер в интересах тотальной войны.
— Благодарю, — произнес полковник Меллер и как-то сразу погрустнел. На должность военпреда его устроил шурин, генерал в отставке, который имел очень хорошие связи со статс-секретарем. Полковника информировали, будто это доходное местечко, где можно укрыться и тихо и мирно дожидаться конца войны и даже кое-что скопить. По профессии Меллер, между прочим, был ветеринарным врачом, благодаря чему в свое время и попал в гусарский полк. Своей военной карьерой он был обязан тому обстоятельству, что однажды в бытность старшим лейтенантом ветеринарной службы во время маневров вылечил кобылицу эрцгерцога Марии Ене Августа. Войны, насилий и опасностей он боялся больше всего на свете. — Прошу вас, садитесь… и, если не откажетесь, могу вас угостить рюмочкой абрикосовой палинки…
Татар основательно подвыпил и повеселел. Звал доктора Меллера «полковничком» и повторял: «Если мы с вами возьмемся. то здесь восторжествует порядок».
На заводском дворе перед конторой, увитой диким виноградом, поставили несколько стульев и стол, вокруг которого суетились заводские чиновники. Агнеш засмотрелась на них — их было человек десять. Толстая, старая тетушка Сили, Марта Танаи, Габор Винце… их имена она знала по расчетным ведомостям. Эти кассиры и бухгалтеры делали, по сути дела, ту же самую работу, что и они у себя в дирекции, но жалованье каждого из них было гораздо меньше, поэтому они и пресмыкались перед работниками из центрального аппарата. Вот и сейчас они скромно выстроились поодаль, вдоль стены. Не смешались с собравшимися во дворе рабочими, но, как их ни упрашивали, не сели к столу рядом с Меллером, Чути, Татаром и Агнеш Чаплар.
Новый военный представитель говорил кратко. Обращаясь к рабочим не иначе, как «мои венгерские братья», он призывал их не щадя сил штамповать гранатные кожухи, так как каждая граната должна отбрасывать назад большевистское море, которое намерено затопить нашу землю. Так будем же молиться богу и работать, и придет время, когда над Великой Венгрией снова будет реять знамя пресвятой девы Марии.
Татар с нетерпением ждал, когда полковник кончит и сядет. Он тоже произнес речь, более пространную и далеко не такую религиозную.
Агнеш сидела, облокотясь на край стола, и силилась сдержать мучительную зевоту. Рабочие устало и с полным безразличием слушали громкие тирады управляющего Татара. Они стояли стеной, плотно прижавшись друг к другу. Агнеш неизвестно почему все время вспоминала бухгалтерскую картотеку, ведомости с надписью «Зарплата», где в отличие от «Жалованья чиновников», начислявшегося каждому в отдельности, еженедельно под выплачиваемой суммой приписывалась одна строчка: «Численный состав девятьсот двадцать» — или: «Численный состав девятьсот тридцать». Ну вот, он стоит передо мной, этот господин «Численный состав девятьсот тридцать», у него тысяча восемьсот шестьдесят рук, тысяча восемьсот шестьдесят глаз и девятьсот тридцать сердец… Татар горланил теперь так, что трудно было думать о чем-либо ином.
— Ибо того, кто станет на пути нашей тотальной войны, мы сметем, запрячем в тюрьму, предадим казни…
Молодой мужчина в первом ряду улыбнулся. Агнеш еще раньше заметила, что юноша поглядывает на нее, и тут же отвернулась в сторону. Эти карие глаза ей кого-то напоминали. Она снова искоса посмотрела на парня. Тот продолжал глядеть на нее, чуть заметно Щуря лукавые глаза. «Нахал», — подумала Агнеш, отводя взгляд на край стола. Ей вдруг показалось, что он своей улыбкой напоминает Тибора, и она невольно опять подняла глаза. Но нет. У Тибора глаза серые, как сталь, а у этого парня теплые, карие. Ах да, вспомнила! Это тот самый молодой человек, который два года назад так ловко и быстро поправил форму, которую она растоптала… И как она могла его забыть! Точно так же улыбаясь, он тогда без колебаний опустился на колени и с неимоверной быстротой принялся месить, формовать песок и еще сказал: «Не расстраивайтесь, барышня, не такая уж большая беда». Ну, конечно, это он. Агнеш подняла глаза, посмотрела парню прямо в лицо, улыбнулась ему и приветливо кивнула головой. Затем быстро отвернулась, взглянула на Татара, который все еще кричал и жестикулировал, как заправский зазывала в парке:
— Но мы не прибегаем к насилию. Господство либеральноеврейской плутократической тирании Ремеров больше не существует! Мы пользуемся поддержкой немецкого военного командования и считаем своими друзьями славных и патриотически настроенных рабочих. Я рад сообщить от имени дирекции, что в качестве первого благоволения начальства сегодня после обеда будет произведена выдача говядины. Каждой семье пока что будет отпущено только по полкилограмма мяса, но я, ваш управляющий Дердь Татар, заверяю вас, что на этом месте в день победы мы зажарим целого быка.
— Да здравствует говядина! — крикнул кто-то, и толпа зашевелилась.
— А где будут выдавать эту самую говядину? — громко спросила тетушка Торма из чистильного цеха.
Меллер поспешил закрыть собрание. Он встал, приветливо кивнул головой, затем молодцевато направился через двор в контору.
Говядину выдавали возле склада красильни. Два мясника, которые, между прочим, работали по соседству, в сельском магазине, забрызганные с ног до головы кровью, стояли у длинного стола и бросали на весы обрезки мяса. Они даже не смотрели на шкалу, да в этом, по сути дела, не было особой надобности. Две чиновницы раздавали именные чеки, а третья отбирала чек и выдавала сверток.
Управляющий Татар с видом полководца-победителя взирал на воцарившуюся сутолоку. Лица женщин выражали одновременно радость и смущение: все еще трудно было поверить, что они получат мясо, мясо, причем без всяких карточек, без того, чтобы вставать в три часа утра и становиться в очередь, да еще по такому большому куску мяса — целых полкилограмма! Если хорошенько разделить, разрезать на тоненькие кусочки, отбить, можно даже беф-строганов приготовить. Но лучше всего пропустить через мясорубку, смешать с хлебом, а если еще удастся получить в магазине немного квашеной капусты… Мужчины думали о том, как будут обрадованы жены. К тому же платить за мясо не надо, деньги вычтут только в конце недели…
Заметив беззубую, тщедушную жену старого привратника, которую те, что помоложе и посильнее, то и дело отталкивали назад, Татар сказал:
— Ну, тетушка Варна, я, оказывается, иногда приношу и хорошие вести, не правда ли?
— Ой, господин управляющий, вы только хорошее приносите, да благословит вас бог.
Татар закричал во всю глотку:
— Да выдайте же наконец чек тетушке Барна, зачем заставляете стоять пожилую женщину?
Раздававшая чеки тетушка Сили, несмотря на свой внушительный вес, быстро принесла ей белый листок.
Варна с благодарной улыбкой вышла вперед, получила полкилограмма мяса, развернула его, понюхала, пощупала и начала причитать:
— Ой, душенька, смените мне, что же вы мне дали, одни кости да жилы…
— А что вам дать взамен, вы не скажете? — кричал мясник.
— У меня тоже кости, у меня тоже! — сразу зашумели многие в толпе.
— Какие там кости… Просто твердое мясо, потому что оно мороженое, правда? — громко заметил какой-то русый паренек.
Стоявшие вокруг него на минуту пришли в растерянность.
— Где оно мороженое? Что вы тут болтаете чепуху?
— А почему бы и нет, раз его прислали из самой Германии?
— Почему это из Германии?
— А разве нам не сказали, что это дар германского командования…
— Черта лысого, а не германского командования, — сказал мясник, — мы сами резали сегодня в полдень.
— Тогда непонятно, — ответил блондин. — А я-то думал, что только у немецкого быка нет на костях мяса…
Кое-кто засмеялся.
Татар обратился к стоявшему рядом Яни Хомоку:
- Кто этот весельчак?
— Который?
— А тот, кто сейчас здесь болтал?
— Не знаю, кого вы имеете в виду, господин управляющий.
— Эх! — Татар гневно махнул рукой. Хорошее настроение как рукой сняло. Получив мясо, люди, недовольно ворча, отходили в сторону. Одни из них бросали косые взгляды на Агнеш и на управляющего, другие отпускали замечания по адресу господ, которым, наверное, достанется мясо пожирнее.
Агнеш покраснела.
— Да мне оно и вовсе не нужно. Я спешу домой. — И она вернула Татару авоську. Татар пожал плечами. Он уже давно бы пробился вперед за мясом, но не осмеливался. Как же неумело все это сделано, а между тем он заранее сказал, чтобы в контору отнесли пятнадцать килограммов мяса, но, как и следовало ожидать, тетушка Сили все забыла! Мясники, наверное, приготовили, но положили его под стол. И, как он ни кивал, как он ни моргал, они будто не замечали его сигналов. Не думают ли они, что он станет ждать, пока раздадут все девятьсот порций.
— Яни, послушай, — подозвал он Хомока, — проберись вперед и скажи, пусть выдадут мясо для работников центрального аппарата. Пятнадцать килограммов. Принесешь в кабинет главного инженера.
— Слушаюсь, — любезно ответил Яни Хомок и стал протискиваться через толпу.
Татар нетерпеливо ждал в комнате главного инженера. Наконец через полчаса появился Яни. Но, боже правый, что он принес! В огромной сумке мясника была не упитанная бедренная часть, а лежало тридцать порций, по полкило каждая.
— Пожалуйста, господин управляющий.
Он положил на пол рогожный мешок, повернулся на каблуках и вышел. Татар, словно остолбенев, уставился на тридцать порций костей и обрезков сухожилий.
— Вернись, — крикнул он вслед Яни Хомоку, — что ты принес?
— Всем такое досталось, господин управляющий. Потому и ворчат.
— Ворчат? Значит, когда вам что-нибудь дают, так вы и тогда ворчите? Ну что ж, ладно. Мы еще поговорим об этом. Можешь уходить.
Он рассовал мясо в две авоськи и портфель. Черт с ним. Для супа и жаркого сойдет.
Когда он проходил через двор, там все еще продолжалась толкотня. Между двумя женщинами началась потасовка. Одна из них якобы получила лишнюю порцию мяса…
— Как скоты, — с отвращением проворчал управляющий и обернулся назад. — Прибавьте шагу, тетушка Барна.
Старушка, тяжело переводя дыхание, тащила за господином управляющим пятнадцать килограммов мяса.
Простая история
Три года прошло с тех пор, как отправили на фронт каменотеса Иштвана Хомока младшего; за это время ему ни разу не пришлось побывать дома, в Шомошбане. Да и теперь все получилось так необычно, что он никак не мог поверить своему счастью. В феврале он еще брел с отмороженными руками и ногами в сторону Кишинева. Ночью, чуть не падая от усталости, прибыли в какую-то маленькую деревушку. Стояла лютая стужа; о еде, о теплой пище можно было только мечтать. Но ему, право же, ничего больше так не хотелось, как лечь и уснуть. В тот день Корбач[21] словно сбесился. Настоящее имя капитана было Петер Декань, но все называли его не иначе, как Корбач. Старшее начальство вот уже год не показывалось на фронте — оно не так глупо, чтобы подставлять голову под пули! Корбач гнал их, все ускоряя и ускоряя темп, он поднимал их среди ночи, по его приказу они бросали только что сваренный суп, ибо Корбач для них был олицетворением власти, божества, а может быть, и самой войны. Денщик Корбача за несколько дней до этого говорил, будто у господина Корбача не все дома. По ночам он выкрикивает во сне: «Пусть идут, пусть идут! Я не охотился на партизан». Но, что бы он ни кричал, всем известно, что он фотографировался «на память» возле каждого повешенного партизана. Набросился даже на одну девушку-партизанку и изнасиловал ее, когда та была без сознания, и тоже не постеснялся запечатлеть себя. А персидские ковры, серебро, иконы! Может быть, все это русские посылали ему в снарядах?
Днем солдаты видели, как Корбач гарцевал на лошади вокруг деревни, появлялся то здесь, то там, глядя на них красными, мутными, как у пьяного, глазами. Потом он вдруг ни с того ни с сего начал требовать, чтобы ему достали автомашину. Старший лейтенант Чубук — этот тоже не на крестинах получил такое имя — вышел на дорогу и перехватил какую-то санитарную машину из другого подразделения. Шофер не хотел останавливаться. Но Чубук вышел на середину дороги и спокойно дождался, пока машина приблизилась, а затем выстрелил в упор и отпрыгнул в сторону. Целился он не в колесо, его нечем было бы заменить, а в шофера. Машина остановилась. Водитель, молодой сержант, едва успел затормозить и минут через десять умер. Внутри машины не оказалось ни носилок, ни раненых. Она была завалена радиоприемниками и патефонами. Целый магазин. Все это произошло на рассвете. Рота расположилась на ночлег в каком-то сарае. Вошел Чубук, поморщил нос. Вонь хоть ножом режь. Он пнул ногой лежащего с краю солдата.
— Эй, вставай! Как зовут?
— Ефрейтор Иштван Хомок.
— Умеешь водить машину?
Хомоку до того хотелось спать, что он едва разобрал вопрос, но все же ответил сразу:
— Сумею, коль прикажете.
— Тогда собирайся.
Что ж, он действительно немного разбирался в моторах, во всяком случае, настолько, насколько нахватался у своего дружка, управлявшего буровой машиной на каменоломне, да работая во время уборки возле молотилки. К тому же он кое-чему научился, будучи в солдатах, когда удавалось сесть рядом с шофером в грузовик. Так что все надежды он возлагал на бога: дескать, как-нибудь да обойдется.
Он даже удивился, когда, повернув контактный ключ и нажав на педаль, вдруг почувствовал, что колеса завертелись и машина тронулась. Если начиналась непомерная тряска, оба офицера жаловались и проклинали отвратительные дороги. Они ничего не видели, так как сидели на месте раненых в кузове и ели мясные консервы. Так довез он Корбача до самого города Ниредьхазы и там получил отпускное свидетельство. У Корбача были при себе все ротные документы и печати. Как они у него очутились, это уж его дело. Иштвана Хомока это не интересовало. Ему как нельзя кстати пришелся этот отпуск, прямо с неба свалился. Четырнадцать дней — очень большой срок, русские подошли к Карпатам, через две недели, может, и вся эта проклятая война кончится.
Из Ниредьхазы Иштван поехал поездом через Будапешт. Ехал день и ночь, и, хотя была возможность остановиться на полчаса в столице и раз в жизни посмотреть на нее, он все же не стал задерживаться. Под самым Киевом побывал, а вот посмотреть Будапешт так и не довелось. В поезде ни с кем не заводил дружбы, хотя многие и приставали к нему. Фронт людям представлялся чем-то вроде большого базара, и там можно встретиться с кем угодно. Ему показывали фотокарточки и со словами: «Да благословит вас господь бог», — спрашивали, не видел ли он сына Дюри или не встречался ли с сыном Яникой. А если бы видел, это еще ничего не значит. Он уже две недели в дороге, а на фронте сколько времени нужно, чтобы умереть? Бум! — и нет человека. О военном же положении старался не говорить — черт его знает, кто чем дышит. Скажешь лишнее слово — и без головы останешься. Особенно теперь, когда свистопляска приближается к концу. А он мог бы кое-что сказать тому усатому идиоту, что сидел в углу и так пространно твердил девушкам про чудо-оружие. Нам сейчас может помочь только одно чудо-оружие: длинное древко, а на нем белый платок, и пустить его в дело надо как можно скорее. Этот дурак, наверное, слышал про Фау-1 и Фау-2, раз он так распинается. Немцы, мол, изобрели такую колесницу, для которой и бензин не требуется. У Иштвана Хомока язык чесался сказать, что он тоже видел такую колесницу и она не нуждалась в бензине: двадцать солдат тащили ее, да так, что жилы лопались от натуги.
От станции предстояло пройти еще пять километров пешком. Дорога то поднималась в гору, то спускалась в долину. Стояла лютая стужа, апрель выдался какой-то ненормальный. За неделю до этого наступила оттепель, а потом опять закружился снег, подул резкий, холодный ветер. Иштваном Хомоком овладело нетерпеливое беспокойство. Ведь он, по существу, не знал, что его ждет дома. Все ли живы и здоровы? Уцелела ли семья? Чем питались все это время, не выгнали их из квартиры? Помогал ли Яни? О том, что, может быть, с женой стряслась какая-нибудь беда, ему не хотелось думать. Нет, она у него не такая женщина. Хотя рассказывают, будто жена сержанта Ковача, получив известие о гибели мужа, через два месяца сошлась с каким-то парнем. Сейчас ведь о ком угодно могут сказать, что он погиб. Его тоже принесли однажды без сознания на перевязочный пункт. Но нет, его жена… никогда не сойдется с другим. Все эти три года он ни разу не засматривался на девушек, хотя и представлялась такая возможность.
И Иштван все шел и шел, меряя дорогу крупными, тяжелыми шагами. В другой раз этих пяти километров и не заметил бы, но сейчас они были как бы итогом уже оставшихся позади двух тысяч километров. В ту пору, когда он уходил из дому, эти склоны холмов красовались в своем августовском убранстве. Он сорвал тогда гроздь недозрелого винограда, попробовал и унес с собой его кисловатый вкус. Теперь же все казалось голым, нигде не было видно ни одного листочка, небо душило его, как серая солдатская шинель.
Неподалеку от разгрузочной площадки узкоколейки стояла корчма. Хомоку не хотелось заходить туда, он спешил как можно скорее добраться домой. Но вот какие-то двое мужчин окликнули его из-за дощатого забора, и волей-неволей пришлось остановиться. Иштван не сразу узнал их: Фери Бакошу было четырнадцать лет, а Йошке Кечкешу, пожалуй, пятнадцать, когда он уходил на фронт, а теперь, смотри, совсем уже взрослые парни. Пока они осаждали его расспросами, из пивной показался Ковач, прозванный Холуем за то, что когда-то служил в особняке Эстергази. И хотя Ковач уже десять лет работал в пивной, тем не менее слыл доверенным лицом бывшего хозяина и знатоком политики. В пивной сидели еще три человека: надсмотрщик Томка и двое каких-то коммивояжеров. Никто из них даже головы не поднял, когда вошел Хомок, все продолжали по-прежнему сосредоточенно потягивать вино. Холуй Ковач пододвинул стакан Хомоку. Когда тот отказался, крохотные, хитрые глазки Холуя выдали обиду.
— Выпейте за победу, господин витязь.
Хомок отодвинул стакан.
— За нее надо бы выпить Ференца-Йошку[22], чтобы мы лучше бегали.
Фери Бакош громко захихикал. Иштван Хомок опомнился, посмотрел на багровое лицо корчмаря и с деланной улыбкой поднял рюмку.
— Но я не буду пить один.
Холуй налил палинки и себе, но чокаться не стал, он сделал вид, будто не заметил протянутой к нему руки. Хомок опрокинул рюмку, бросил на прилавок пенге и, не дожидаясь сдачи, быстро направился к выходу. Зачем только ему понадобилось распускать язык?
На сердце стало еще тяжелее; человек не знает, где его подстерегает беда. Один черт, что на фронте, что дома — добра не жди.
Ему не хотелось встречаться с людьми, поэтому он спустился к огородам и пошел по берегу ручья. В конце поселка повернул назад и издали увидел свой дом. Окрашенный в темно-синий цвет длинный дом под гонтовой крышей внешне не изменился. Чувство радости охватило Иштвана: раз дом не перекрасили, то, может быть, и внутри все осталось по-прежнему. На углу забора прямо у него из-под ног выскочила черная лохматая собака, замахала хвостом, вернее, затрясла им изо всех сил, подскочила на задних лапах, заскулила, высунула язык, затем бросилась к нему и принялась лизать руки, обнюхивать; от радости она вертелась вокруг него, терлась мордой о ботинки.
— Бочарка, Бочарка, песик ты мой, — растроганный Иштван готов был заплакать.
В чистом дворе было пусто, не валялись на земле ни вилы, ни лопаты, не гоготали гуси, не было слышно свиньи в хлеву. Шесть квартир выстроились в ряд, шесть коричневых дверей, перед каждой стояла скамейка и пара воткнутых в землю шестов, на которых сохли кувшины, горшки и детские вещички. И повсюду царила тишина. Дверь у Циборов была открыта, на пороге играла девочка лет семи или восьми. Ни он, ни девочка не узнали друг друга. Боже правый, ведь дочери Цибора было четыре года, когда он уходил…
— Где твой папа?
— На войне.
— А мать?
— На шахте.
— А кто же за тобой присматривает?
— Я сама. Да еще тетя Хомок.
— А она дома? — спросил он и тут же почувствовал, как у него забилось сердце. — Разве она не ходит на работу?
— Нет, ходит. Да только сейчас Иштванка сильно заболел.
Он даже не попрощался с девочкой, одним прыжком очутился у третьей двери и, не стучась, рванул на себя ручку. Дверь сразу же поддалась, ее удерживала лишь веревочка. На кухне никого не оказалось. Печь стояла холодная. Из комнаты вышла женщина, она вскрикнула, бросилась ему на шею и заплакала горькими слезами.
— Сын?
Она лишь кивнула головой: он, дескать, там, в комнате.
Иштван Хомок оторопело подошел к кровати. Вместо пухленького, лепечущего Иштванки перед ним лежал укутанный периной какой-то чужой мальчик с бледным худым лицом, со щетинкой на голове. Но, когда ребенок открыл блестящие от жара большие карие глаза, у Хомока сразу стало теплее на сердце. Он выхватил из постели ничего не понимающего, вспотевшего сына, прижал его к себе и принялся целовать.
— Что с тобой, любимый мой цветик, что у тебя болит, сыночек? — и было стыдно, что он не принес никакого подарка: ни пряника, ни игрушки, ведь он мог купить это в Ниредьхазе, вместо того чтобы бросать деньги на прилавок корчмы.
Мальчик устало смотрел на незнакомого солдата и, слушая его ласковый голос, чуть заметно улыбался. Но вот он закрыл глаза и застонал, тяжело дыша.
— Надо бы отнести его в больницу, — сказала жена, и это были ее первые слова, обращенные к мужу с момента, как он приехал.
— Что ж, отнесу.
— Недавно приходила знахарка. Смазала ему керосином горло, но не помогло. Это она посоветовала отнести Иштванку в больницу, боится, как бы он не задохнулся. Но у меня нет сил нести.
— Говорю же, что сам понесу.
До станции пять километров, а до больницы целых семнадцать, и не известно, ходят ли в такое время поезда. К тому же дул сильный ветер, шел мокрый снег.
— Попрошу у главного инженера машину, — сказал Иштван.
— Не сходи с ума.
— Я три года подыхал на фронте и неужто не заслужил…
— Перестань, Иштван, — ужаснулась жена.
Но он уже был не в силах сдерживать накопившийся гнев. Другой возвращается с фронта, жена подает ему обед, вокруг прыгают малыши. А у него один-единственный сын, да и тот умирает. Мальчик действительно задыхался, из горла вырывался свист.
Не сказав больше ни слова, Иштван выбежал за дверь, устремился через луг прямо к квартире главного инженера. Когда на первый стук никто не откликнулся, Иштван еще раза два ударил по двери кулаком, а затем, что было силы, дернул за ручку.
На сей раз в квартире кто-то зашевелился, щелкнул ключ в замке, и в полуоткрытой двери темной прихожей показался поджарый мужчина.
— Я за машиной, — начал Иштван, но тут же заметил, что перед ним не главный инженер. В испуге Хомок вытянулся, как по команде «смирно».
— Господин капитан, имею честь доложить, ефрейтор Иштван Хомок.
Гот ничего не ответил, лишь пристально посмотрел на него.
— Я искал господина главного инженера, господина Хайдока… Видите ли, у меня заболел сын, его надо отвезти в больницу. Я хотел попросить машину. Я сам ее поведу. Дело очень срочное. Мальчик чуть дышит.
Капитан Сюч по-прежнему стоял в дверях. Можно было подумать, что он оглох или не понимает венгерского языка.
— Я думал, что здесь живет господин главный инженер. Извините за беспокойство… Я не знал…
— Чего ты не знал, паршивый мужик? А? Пить Ференца-Йошку за победу — это ты знал?
Хомок так и остолбенел от удивления.
— А почему это ты шляешься по пригородам, как вор? Почему ты не на фронте, а? Покажи-ка свои документы. Не знаешь, что каждый приехавший на побывку солдат должен немедленно явиться ко мне?
Хомок дрожащими руками достал свое отпускное свидетельство. Пуговица на шинели никак не хотела отстегиваться под его непослушными пальцами.
— Что? Нет отпускного свидетельства, свинья?
Он выхватил документы из рук ефрейтора, но солдатскую книжку взял за самый краешек.
— Тьфу! Жирная, грязная. Разве ты солдат! Так и хочется посадить тебя на гауптвахту. Ну, ничего, я о тебе еще позабочусь. Марш отсюда!
Жена ожидала его во дворе.
— Значит, здесь уже не живет инженер?
— Я хотела предупредить, но ты убежал.
— Закутывай сына.
— Как?
— Я его на себе понесу.
Иштван карабкался на холм, и ему казалось, что у него не хватит духу добраться до вершины. Обессиленный ребенок почти не держался руками за шею. Он все стонал, задыхался при каждом вдохе, ощущал режущую боль в висках, в ушах, в сердце.
«Цветик мой дорогой! Сыночек мой родной! Как же мне бежать еще быстрее, как же тебе помочь? Что это за жизнь такая? Я три года пробыл на войне, среди тысяч смертей; все вынес; меня ранили, изнемогая, я все же вытащил из-под развалин своего дружка, после этого сам лишился чувств. А вот сына своего не могу сейчас спасти. Или это бог наказывает за пролитую человеческую кровь? Скольких настигла моя пуля, скольких детей я оставил сиротами?»
Он попытался думать о чем-нибудь ином. Ведь у других тоже болеют дети. Когда-то и его так же вот на спине нес отец к доктору, когда он сломал себе ногу. И так крепко срослась кость, что сейчас даже не чувствует, где был перелом, только если очень много ходит пешком или меняется погода… Но прерывистое дыхание и стоны ребенка будто напоминали отцу: «У тебя большее горе, у тебя большее горе». По скользкой грязной дороге идти было очень трудно. Да к тому же царила непроглядная тьма. До станции было еще далеко. Хомока страшила мысль: «А вдруг придется идти пешком до самого города?»
И тут он почувствовал что-то неладное. Все произошло так неожиданно, что он даже не понял, в чем дело. Остановился, оглянулся, но ничего не увидел. Он прислушался, но было совсем тихо.
«Это та, это та самая тишина!.. Сын! Боже праведный, сын!.. Его легкие больше не свистят… боже милосердный!»
Иштван сорвал с шеи платок, схватил ребенка в руки, всмотрелся в его лицо и принялся трясти…
— Иштванка!.. Сынок!
Тело мальчика было еще теплое, но уже совершенно безжизненное, руки обвисли, голова откинулась назад.
— Иштванка! Иштванка! — громко кричал Хомок, словно силился вернуть сына откуда-то издалека. — Подохните вы все, подлые твари!.. Мой сын… Иштванка, ой!..
Он даже не заметил, как повернул назад. Теперь он снова бежал вниз, в сторону шахтерского поселка. Большой, теплый платок он где-то потерял, а теперь надо было найти его, чтоб прикрыть сына. Но вдруг, поняв, что все напрасно, принялся кричать, как раненый зверь. Ему не раз приходилось видеть мертвецов, окровавленные и обезображенные трупы, но такого ужасного, как этот худенький ребенок с открытыми глазенками… Такого страшного не видел он никогда. И вот он оказался перед бывшей квартирой инженера. Следом за ним бежали человек десять — напуганные его криками женщины и дети. Но он никого не замечал.
Дверь квартиры открылась.
— Что здесь такое? С ума сошли?
И на пороге появился Сюч. Он протянул руку к выключателю, и на веранде вспыхнула лампа, заливая ярким светом двор; сбежавшиеся женщины стали трусливо пятиться назад. Капитан стоял у входа на веранду, на третьей ступеньке, как театральный герой: он казался высоким и грозным.
— Убирайся вон!
Уютная веранда была обставлена плетеной мебелью. Тут стояли и кресла и складные кровати, на столе красовалась пестрая скатерть, словно была не зима, а лето. Конечно, у таких людей даже на веранде окна застеклены, у этих всегда лето, и ребенок не умрет, его сразу же повезут к доктору. Да зачем везти? К ним даже ночью на машине выезжает доктор…
В ответ Хомок ничего не сказал, не стал кричать, только зарычал, как зверь. Люди видели, как Иштван вскочил на веранду, положил ребенка на кружевную скатерть и что-то выкрикнул.
Сюч побагровел.
— Убрать! — произнес он совсем тихо и спокойно, как какой-нибудь дрессировщик зверей.
— Ты что, не понимаешь, грязный мужик? Убрать!
А Хомок все стоял и стонал, как будто он лишился разума.
Женщины даже дыхание затаили. Но и в тишине чувствовалось, что они не ушли со двора. Отойдя к забору, спрятавшись в тени, они стояли там молча и горящими глазами с ненавистью смотрели на капитана. Что произошло, ни одна из них не знала. Но они чувствовали беду, подобно всполошившейся отаре овец.
— Убрать!
Сюч и Хомок стояли друг против друга, и их разделяло расстояние в каких-нибудь два шага.
— Убрать!
— Ты мне не указ. Я три года на фронте…
«Надо было после обеда арестовать», — подумал капитан и закричал:
— Йожи! На гауптвахту!
Денщик Йожи, подобно актеру, которого в театре выталкивают на сцену из люка, неожиданно появился на веранде.
— Слушаюсь, господин капитан.
Все услышали, как он принялся заводить мотор.
— Убрать со стола.
— Нет, — ответил Хомок, содрогаясь всем телом. Одной рукой он прижал тельце к столу, как будто надеясь, что сын его оживет от цветущих тюльпанов, электрического света…
— Не уберешь?
Сюч одним прыжком оказался позади стола. Он с силой ударил Хомока в подбородок и, высоко задрав ногу, опрокинул стол. Труп ребенка вместе с пестрой скатертью и фарфоровым блюдцем свалился на пол и покатился вниз, глухо стуча по ступенькам, как оброненное полено.
Женщины видели только, как Иштван Хомок подскочил к капитану. В тот же миг неизвестно откуда раздался выстрел. Капитан даже не поднял руки, и тем не менее Иштван Хомок упал навзничь рядом с запутавшимся в скатерть тельцем сына. Он что-то успел крикнуть — двое Бакошей потом клялись, что он кричал: «Стой!» — и затем раскинул руки. На его рубашке заалело кровавое пятно величиной с монету.
Тетушка Ихош, жена Кальмани и Ката Хорват подбежали к нему, разорвали на груди рубашку, стали звать его и тормошить. На веранде вдруг погас свет, дверь квартиры захлопнулась. И, словно от этого стука, женщины очнулись и все сразу принялись голосить.
Жена Иштвана Хомока приготовила ужин, постелила постель в надежде, что часам к десяти вернется муж. Она как раз помешивала чечевицу, когда услышала далекие причитания. Выглянула во двор; в это время пришли за ней. Тетушка Цибор издали кричала, что случилась беда.
Жена Иштвана сняла с огня чечевицу, чтоб не пригорела: Иштван не любит переваренную кашу. Выходя в переполненный жандармами двор, пробираясь сквозь толпу плачущих женщин с испуганными глазами и пристально вглядываясь в лежащие на полу тела, она все продолжала думать о чечевице, не понимая того, что теперь у нее нет больше ни мужа, ни сына.
Новоселье
— Тише, тише, дамы и господа, если не перестанете шуметь, не получите ужина! — крикнула Йолан Добраи, останавливаясь в дверях. В просторной гостиной было так накурено, что хоть топор вешай; бутылка абрикосовой палинки без пробки валялась на ковре, и жидкость преспокойно разливалась по полу. Паланкаи крутил патефон и, несмотря на возражения и протесты всех остальных гостей, снова и снова заводил первый лингафонный урок английского языка.
— The Browns at home, — строго произносил лондонский учитель.
— Да перестань же, — вопили все хором.
— This is the Brown family, — настойчиво твердила пластинка. — The Brown family is at home.
Татар нашел в детской аккордеон и пытался сыграть песенку «Лили-Марлен».
Доктор Эден Жилле, которого все просто называли «Эде», нашел в письменном столе коллекцию марок и, разлегшись на диване, опершись на локти, красный от выпитого вина, с трепетом рассматривал редкие экземпляры. Авиационная серия, серия Цепеллин… Как бы это выманить их у этого мямли Эмиля? Он все равно не собирает, да, но то, что у него есть, он не выпустит из рук.
— Значит, не хотите ужинать?
— Хотим, хотим, — закричали все хором, — очень даже хотим.
— Тогда идите помогать.
Татар отложил в сторону аккордеон. Петер Декань еще раз основательно приложился к бутылке. Эден тоже без всякой охоты поднялся, только Сюч продолжал неподвижно сидеть, глубоко утопая в кресле, да пластинка по-прежнему шипела о волнующих семейных связях Браунов.
— Тьфу, — громко возмутился Сюч и как бы вышел из забытья. Он и сам толком не знал, чем вызвано это восклицание; то ли последней каплей водки, которую он высосал из бутылки и в которой плавал кусочек пробки, то ли разговором, который произошел сегодня утром. Его вызвали в военное министерство и по-дружески предупредили, что, если, наблюдая за выполнением столь важных военных поставок, он будет и впредь устраивать подобные скандалы в поселке, его отправят на фронт. А зачем его лишили места на заводе? Там он никаких скандалов не устраивал. И привлекать его к ответу из-за какого-то чумазого смутьяна, привлекать его, Сюча, у которого все предки имели право казнить…
Из кухни доносился громкий смех. Компания, без конца восторгаясь, рассматривала утварь. Сама кухня тоже имела шикарнейший вид, как, впрочем, все в этой вилле. Белоснежные, вделанные в стену шкафы, электрическая печка, иенский фаянс, эмалированная посуда без единой щербинки, масса всякого фарфора. Ну и повезло же Эмилю с этой виллой!
В кладовой нашли около тридцати яиц, кусок сала, копченую ветчину, множество банок с вареньем. На каждой каллиграфическим почерком были сделаны надписи, а каракули первоклассника указывали названия фруктов: грушевое, персиковое…
Петер Декань откупорил персиковое варенье, лизнул сверху и поставил банку на кухонный стол.
— Господин старший лейтенант, не увлекайтесь сладостями, лучше помогите взбить белки к жаркому.
— Боже милосердный, для жаркого не надо взбивать белки, — засмеялся Паланкаи.
Добраи покраснела.
— Взбивайте, вкуснее будет. Только Эмилю не дадим попробовать. Все остальные уходите отсюда, а то от вас только беспорядок. Хватит с меня одного Петера, — выкрикивала Йолан.
— Благодарствуйте, — поклонился старший лейтенант и провел рукой по усам, запачкав лицо яичной пеной.
— Посмотрите, какая здесь ванная, — воскликнула Анна Декань, — сколько кранов, признаться, я даже не знаю, зачем их так много и для чего они предназначены.
— Охотно возьмусь вас обучить этому, — ответил ей Паланкаи. Анна с визгом убежала от него. Затем все принялись шарить в детской. Татар уселся на качалку, Паланкаи раскладывал на полу рельсы игрушечного электропоезда, Анна Декань вознамерилась сшить платьице белобрысой кукле.
С каким огромным наслаждением все принялись рыться в шкафах! С волнением первооткрывателей вытаскивали ящики; в одном нашли пачку сигарет, в другом — перевязанные шелковой лентой фотографии. Они посыпались на пол, пошли по рукам. Вот снимок испуганного мальчика в матроске, свадебная фотография, вот два бородатых старика, вот снимок, сделанный во время воскресной туристической прогулки, и целая пачка надписанных карточек: «Дяде доктору от любящего Лацика». «Дяде доктору от Габорки Антала». Татар вдруг вздрогнул, переворошил фотографии, вытащил одну из них и сунул себе в карман — никто не обратил на это внимания.
Старший лейтенант Декань притащил целую гору фарфоровых тарелок, и все принялись расставлять их; тарелок оказалось так много, что часть их поставили на радиоприемник. Добраи появилась с большим подносом яичницы с ветчиной, а следом за ней мужчины внесли банок двадцать варенья. Кто — то умудрился пристроить на патефонных пластинках горячий чайник. Когда из-под него извлекли лопнувшую симфонию Моцарта, Паланкаи с барской невозмутимостью только рукой махнул. Так и надо Юпитеру, раз он сам себя не берег. Татар, по-турецки поджав ноги, уселся на подушке прямо на полу, полил яичницу вареньем и решил, что у него получилось чрезвычайно забавное французское блюдо. Паланкаи взялся молоть черный кофе. Жилле, Сюч и Декань раскупоривали бутылки с палинкой. По радио передавали танцевальную музыку; обнаружив в буфете шоколадный кекс, Паланкаи роздал его всем гостям. Мертвецки пьяный Декань, повалившись на диван и положив ноги в сапогах на персидское покрывало, начал рассказывать о своих фронтовых похождениях.
— Что с тобой, Золи, почему ты помрачнел? — спросил хозяин у Сюча, который сидел с бутылкой палинки возле балконной двери и смотрел в сад.
— Наверное, испугался угроз мадемуазель Чаплар, — подсказала Добраи.
— Чего? — спросил Сюч.
— Сегодня у нас в конторе была большая перепалка, — Добраи поспешила проглотить кусок хлеба с ветчиной, чтобы удобнее было говорить, и продолжала: — Утром мы узнали о смутьяне, которого ты спровадил на тот свет, ну, как его?..
— А разве не все равно? — перебила ее Анна.
— Ну так вот, прочитала наша любимая главбух сообщение об этом случае и начала причитать, ломать руки — это, мол, неслыханно, у нас пока еще не Техас.
— Черт… — выругался взбешенный Сюч и встал. — Что значит Техас?
— Право же, почему это тебя так волнует?..
— Очень даже волнует… Что она сказала?
— Сказала, будто такими методами работают в Техасе гангстеры и что тебя надо предать военному суду. Мол, возмутительно выгонять женщину из заводской квартиры, за это еще кое-кто поплатится.
— Ага, когда придут русские, не так ли?
— Очевидно, она это имела в виду.
— Я тебе в первый же день сказала, что за птица эта Чаплар, помнишь, Йолан? Когда мы с тобой рассматривали партизанские фотографии?
Татар отставил тарелку и принялся размахивать вилкой.
— Что касается Чаплар, то она и мне не нравилась. Что можно ожидать от дочери слесаря? В последний раз, когда мы были на заводе, она всю дорогу твердила мне, что и в рабочие кварталы надо провести электрический свет, будто об этом говорил еще Маркс.
— Кто такой? Тоже коммунист?
— У нее стол битком набит английскими книгами, — сказал Паланкаи.
— И вы только сейчас сообщаете мне об этом? — вскочил Сюч. — Вы что, с ума сошли? — и тут же достал свой блокнот. — Стало быть, Агнеш Чаплар.
— Да, — с готовностью отозвался Татар, — если потребуется, завтра же сообщу по телефону ее домашний адрес.
Сюч что-то записал в блокнот.
— Словом, Маркс… Да, а что там у вас было с фотографиями?
— Мы рассматривали фотографии… я уже точно не помню, но она что-то тогда сказала, — ответила Добраи.
— А что можно сказать в таких случаях? Наши солдаты измываются над пленными партизанами, — вмешался Паланкаи.
Сюч спрятал блокнот в карман.
— Как эта девка стала главным бухгалтером?
— Ремер настоял, — ответил Татар. — Со своей стороны, замечу, я уже тогда сказал, что из этого назначения ничего хорошего не выйдет, но вы ведь знаете, Ремера не уговоришь.
— Ну, считайте, что это дело улажено, — сказал Сюч и, подойдя к письменному столу, принялся перебирать альбом с пластинками. — Неужто в этом доме нет ни одной порядочной пластинки? Кому нужен сейчас Шопен? Дюри, сыграй что-нибудь.
Татар повесил на шею детский аккордеон и растянул меха., Анна Декань тоненьким голоском сразу же стала подпевать: «За казармой в глухом закоулке одинокий горит огонек, и стоит там…»
— К черту эти грустные песни! Пети, помнишь, под какую музыку мы маршировали в бойскаутах? Споем, ребята: «Погром, погром, погром в деревне, а за околицей сладко поет пулемет…»
Паланкаи, повеселев, принялся отбивать такт ногой, а Эден, хлопая по обложке альбома с марками, подпевать: «Эх, пусть поет пулемет до тех пор, пока в деревне не останется ни одного еврея… Трам-там-там… погром, погром…» Сюч, стоя в кресле, дирижировал. Волосы сползли ему на лоб, он весь вспотел, но тем не менее продолжал восторженно размахивать руками.
К полуночи весь ковер был усыпан осколками стекла. Добраи и Анна Декань, забившись в уголок дивана, дремали, мужчины выпили всю палинку до последней капли и теперь, совершенно пьяные, взялись обшаривать шкафы в поисках новых бутылок. Эден, улучив момент, вынул из альбома все вставки и торопливо сунул скомканные марки в свой саквояж. Он даже вздрогнул, когда его окликнул Паланкаи:
— Эй, Эден, ты врач, можно пить тот спирт, что в кабинете?
— Конечно, можно, — ответил вместо него Сюч. — Пошли.
Надо было спуститься на первый этаж и пройти через большую гостиную.
Впереди шагал Татар с аккордеоном, позади гуськом остальные.
— Не пейте, хватит, — окликнул их Эден. — До свидания, я пошел домой.
— И не думай уходить, — кричал в ответ Паланкаи, ты возглавишь процессию. Да здравствует Эден, да здравствует Эден! Кто здесь главный?
— Эден! — загудели одновременно старший лейтенант Декань, Сюч и Татар.
— Давай нам спирт, Эден!
— Эден, ты действительно врач? — спросила Добраи.
— Ей-богу.
— Умеешь дергать зубы?
— Оставь меня в покое, — ответил Эден и сел на лестнице.
— Если дама просит, ты должен вытащить ей зуб, — вмешался Паланкаи.
— Показывайте ваш зуб.
— Мы найдем тебе зуб.
— Вытащи у еврея, — захлебывался Паланкаи.
— Мы тебе еврея найдем! — воскликнул Сюч.
— Я не хочу рвать зубы, — жалобно произнес Эден, не вставая с лестницы. — Нет никакой охоты заниматься этим делом.
— В щечку поцелую Эденку, — пообещала Добраи.
— За поцелуй красивой женщины — это другое дело… Только не могу встать. И голова болит…
— Мы притащим еврея сюда. Пошли, пошли к дворнику.
— Дворник не еврей, — сказала Добраи.
— Но у него живет бывший хозяин… семейка хозяина. Какой зуб вытащишь, молочный или коренной?
— Какой попадется, — пробормотал Эден и, шатаясь, побрел под руку с Йолан Добраи и Анной Декань.
— Давай марш! — скомандовал Паланкаи, и компания толпой повалила через гостиную и сад.
Была теплая, звездная ночь, сад дышал ароматом сирени.
Эден заплакал:
— Не вырывайте у меня зуб.
— Да у тебя никто и не собирается вырывать, ты сам у Другого вырвешь, — захихикала Добраи, — и сразу же получишь поцелуй.
— И от меня тоже, — пообещала Декань.
Все остановились перед квартирой дворника и принялись во всю глотку кричать. Паланкаи вышел вперед и позвонил.
— Перестаньте вопить, а то из-за вас не слышно звонка.
— Ну что, Эмилио, не пускают? — спросила Добраи.
— Если не пустят, взломаем двери.
Паланкаи снова позвонил, и опять никто не отозвался.
— Или спят, или не слышат, — пропел Татар и заиграл на аккордеоне.
— Мужчины, за мной, — взревел Эмиль. — Раз, два, три!
Татар заиграл туш. Петер Декань и Сюч налегли на дверь.
Дверь оказалась незапертой.
Йоли и Анна видели, как двое мужчин исчезли внутри квартиры.
— Уррра!.. Вперед! — закричали они, толкая перед собой совершенно пьяного Жилле. Но, ткнувшись в открытую дверь, с ужасом попятились назад. В лучах карманных фонарей Сюча и Деканя они увидели железную кровать, на которой лежала женщина лет тридцати пяти, а у нее на груди — трое безжизненных малышей. Дети были вымыты, причесаны, одеты в белые матроски. В комнате стоял удушливый запах газа.
— Назад! Назад! — кричал совершенно протрезвевший Петер Декань. — Немедленно закрыть главный кран, распахнуть окна и двери! И он тотчас же бросился исполнять свои собственные распоряжения, так как остальные все еще таращили глаза.
Паланкаи стоял неподвижно, как истукан.
— Ну вот еще, такое свинство… Надо же было им именно здесь, на территории моей виллы… И где в такую пору шляются эти проклятые дворники…
— Эмилио, я не останусь здесь, я боюсь, — запричитала Добраи, — вот увидишь, от беды не уйти.
— Им, но не тебе, — сказал Сюч. — Сразу видно, что вы не были на фронте, — охаете, боитесь.
— Только этого мне и не хватало, — не переставал сетовать Паланкаи. Звони теперь в скорую помощь, в полицию… Начнут разлагаться…
— Я прикажу нашим санитарам увезти их.
— Эден, лучшего друга, чем ты, во всем мире не найти, — расчувствовался Паланкаи и бросился на шею Жилле. — Ты самый лучший, самый дорогой… Такой друг…
— Ну, теперь ты полный хозяин всей виллы, — с завистью сказал Сюч. — Что вы стоите, носы повесили. Подумаешь, велика беда, четырьмя евреями стало меньше… Господин управляющий, почему не сыграете что-нибудь славное?
Татар растянул аккордеон и всей пятерней хлопнул по клавишам. Инструмент испустил какой-то душераздирающий, хриплый звук. Татар вздрогнул и, будто ощутив обвившуюся вокруг его руки змею, отбросил аккордеон куда-то далеко, в кусты.
Вне закона
В начале июня выдался чудный день. Деревья на проспекте Андраши купались в потоках света. Весь мир казался золотым и зеленым.
И все же возле Оперного театра почти никого не было. Если кто и проходил по аллее, то не очень-то любовался игрой летнего солнца — приходилось ускорять шаг. Зато здесь свободно разгуливали немецкие солдаты. Они то и дело прохаживались группами по три, по четыре человека, раскатисто смеялись, даже не замечая подобострастных приветствий венгерских военных и штатских со значками «Фольксбундовец»[23].
Агнеш из городской ратуши спешила к себе в контору.
На душе у нее было крайне неспокойно. Четыре дня назад мобилизовали и отправили в рабочий батальон ее отца. Старый Чаплар недоумевал, возмущался, он ведь числился строевым, и потом он не еврей и не хромой какой-нибудь, да и возраст позволяет… Но на призывном пункте от весьма доброжелательного писаря Бицо он узнал, что повестку ему вручили правильно. В рабочий батальон отправляют только тех заводских, о ком удалось пронюхать, что они принимали участие в революции 1919 года, были связаны с социал-демократами, профсоюзом или хотя бы дома, за рюмкой вина говорили, что неплохо было бы заключить мир… Жена Чаплара проплакала всю ночь. Агнеш ворочалась в постели и с замиранием сердца думала об отце, которому не сегодня-завтра стукнет пятьдесят лет, но, не глядя на это, его угоняют неизвестно куда рыть окопы, извлекать мины, шагать сотни километров больными, усталыми ногами ради какого-то жалкого Гитлера. Война уже отняла у нее отца, Тибора… Кого же она потребует после этого? Сколько раз будут еще терзать ее сердце? С тех пор как забрали отца, ее ни на минуту не покидало тревожное, жуткое чувство.
А сегодня утром она вела себя в конторе прямо-таки глупо. К чему такая неосторожность? Правда, разговор затеял Паланкаи, но и она не удержалась. Татар тоже все слышал. «Ну что ж, ведь я была права».
Возле книжного магазина Агнеш обычно на минутку останавливалась. Сейчас она тоже невольно замедлила шаг. В окне издательства журнала «Новое время» ее внимание привлекли книги Юлианны Жиграи и Дюлы Шомодьвари. Ей давно уже хотелось прочитать роман «Рейн скрывается в тумане», и она, наверное, прочитала бы его, если бы Тибор не сказал однажды, что не стоит зря утомлять глаза. Очень уж заманчиво название у этой книги! Все равно, что роман Жолта Харшани «Играй, играй, труба, зорю». Одно это название уносит человека в далекие времена Зрини… А еще неплохо было бы прочитать роман Бене Карачони «Путешествие по серой реке», она с Тибором как-то видела его. Название книги сулило что-то приятное, возбуждало желания и смутные, тревожные чувства.
Агнеш оторвалась от витрины и заспешила по тротуару. Навстречу ей шел стройный мужчина в сером костюме и с портфелем в руках. Казалось, он смотрел поверх нее таким смущенным и испуганным взглядом, будто там, за книжной лавкой, видел на горе Геллерт по меньшей мере шабаш ведьм.
Агнеш невольно оглянулась.
У обочины тротуара стояла закрытая легковая машина цвета кости. Она, по-видимому, только что остановилась, так как раньше ее там не было. Из нее выскочили два немца, сидевшие рядом с шофером, а из задней дверцы двое вооруженных в гражданском платье. Один из них подошел к Агнеш, а другой окликнул мужчину:
— Ваши документы.
Агнеш полезла к себе в портфель, спокойно достала удостоверение военного завода и подала его.
— Имя матери?
— Мария Шомоди.
— Год и место рождения?
— Тысяча девятьсот двадцать второй, Эршекуйвар.
— А куда вы сейчас ходили?
— В ратушу.
— Так вот, ступайте себе быстрее и не слоняйтесь без дела, — нагло бросил штатский постарше, белокурый мужчина с багровым носом. У него были до того светлые волосы, что почти не было видно бровей, из-под которых выглядывали красные глаза.
«Ой, какой же он противный», — подумала Агнеш.
Мужчина возвратил ей удостоверение и направился к другому задержанному, который пришел в некоторое замешательство.
— Ну, в чем дело? — спросил белобрысый, и Агнеш почувствовала, что назревает какая-то беда, что здесь что-то не в порядке. Она понимала, что надо скорее уходить, и тем не менее была не в силах сдвинуться с места.
Мужчина в сером костюме наконец дал свое удостоверение. Штатский начал его перелистывать.
— Я доктор Янош Ленарт, инженер-текстильщик.
— Это я вижу. Только желтую звездочку забыли повесить. Пойдешь с нами.
— Позвольте, она у меня нашита на пиджаке… пожалуйста, — и он стал расстегивать легкий пыльник.
— Хорошо еще, что не на брюхе вытатуировал, паршивый еврей. Пошли.
— Я спешу на работу.
Другой штатский, восемнадцатилетний брюнет с узенькими усиками, со всего размаху ударил инженера по лицу. Агнеш увидела на безымянном пальце бьющего массивное, сверкающее золотом обручальное кольцо с зелеными скрещенными стрелами вместо вензеля. Инженер застонал, схватился руками за лицо, из его носа потекла кровь. Штатские подхватили его с двух сторон и повели к машине. Немцы молча смотрели ка происходящее и одобрительно кивали головами. Машина тронулась с места и помчалась в сторону площади Йокаи.
Что произошло? Агнеш снова и снова восстанавливала в памяти всю эту сцену. А если бы ее удостоверение оказалось не в порядке? Неужто ее тоже втащили бы в машину и увезли? Но куда? В тюрьму? На принудительные работы? На виселицу? Неужели это так просто делается?
А люди торопливо шли по улице дальше, словно ничего не замечали.
— Агнеш! Агнеш! Агнеш! Ты что, не слышишь? Я уже три раза окликнула тебя…
Следом за Агнеш, задыхаясь, бежала растерянная, встревоженная Терн Мариаш, практикантка из бухгалтерии.
— Это ты, Терика? Что случилось?
— О. если бы ты только знала, если бы… — выдавливает из себя Тери, с трудом переводя дыхание.
— Отдышись.
— Агнеш, не вздумай возвращаться в контору, боже упаси. За тобой пришли.
— Кто?
— Немцы.
— За мной?
— Ну… из военной комендатуры… потому что швабы, когда Татар позвонил…
— Тери, я ничего не понимаю…
— Отойдем куда-нибудь… Вот сюда, за ворота, я объясню.
Они зашли во двор доходного дома. Посреди двора привратница мыла каменные плиты, не обращая на вошедших никакого внимания.
— Татар говорил с кем-то по телефону и сообщил твой домашний адрес. Затем велел Варгаш отнести письмо полковнику Меллеру. Копию Добраи отправила почтой, я сама видела, она была адресована Сючу… Вот посмотри, я прихватила копирку…
И Тери достала из своей сумочки сложенную вчетверо копирку. На блестящей, черной бумаге виднелись светло-серые, блеклые отпечатки букв. Неразборчивый текст доноса сливался с другими текстами.
— Погоди… попробуем с зеркалом.
Теперь знаки стояли в обычном порядке и читать стало легче. «Учитывая датированный вчерашним числом ваш заказ… мы не можем взять на себя поставку…» И тут Агнеш увидела свое имя. «По всей очевидности, коммунистка… ее отец в девятнадцатом году…»
— Боже мой! Тери, да ведь это же неправда! Я этого не говорила… я никогда не упоминала Маркса. Клянусь тебе, что и в руках не держала такую книгу…
Тери Мариаш пожала плечами.
— Я не знаю, Аги. Мне только стало очень жаль тебя… Не ходи домой, они, наверное, уже и там ищут…
— Но что же мне делать?
— Я не знаю. Право, не знаю. Может быть, у тебя есть какие-нибудь родственники или знакомые, у которых ты смогла бы прожить несколько дней? Может быть, его превосходительство поговорит с комендатурой, он тебя очень любит… Я могла бы пригласить тебя к себе, но мы живем в университете…
— Нет… я что-нибудь придумаю.
— Если я узнаю что новое, положу после обеда вот сюда, смотри, за эту решетку, записку.
— Большое тебе спасибо, большое спасибо.
Агнеш обняла и поцеловала Тери Мариаш и провожала ее взглядом до тех пор, пока поспешно удаляющаяся девушка не свернула на улицу Хайош. Она смотрела на нее как на какое-то сверхъестественное чудо, которое принадлежит к давно исчезнувшему миру. А не снилось ли ей все это? Неужто она и впрямь видела те строчки? И действительно ли ее ищут? А если да? Что они с ней сделают, если она вернется в контору? По крайней мере она могла бы разоблачить всю эту ложь.
Но тут же ей вдруг вспомнился доктор Ремер, убитый каменотес Иштван Хомок, инженер, у которого не было на плаще желтой звезды, кисет капитана Декань… Вспомнились фотографии и вопросы Татара и Паланкаи сегодня утром. Ну, конечно же, это была ловушка, они заранее приготовили вопрос о военном положении, хотели поймать ее на слове… А она, глупая голова, спорила с ними. Нет, в контору ей заказана дорога. Но куда же идти?
Проспект имени Андраши был совершенно пустынным. Агнеш почти бегом устремилась к площади Муссолини, туда, где больше людей, среди них она почему-то чувствовала себя в большей безопасности. Затем, ни на что не глядя, направилась к кольцу Йожефа. Забежав на почту, Агнеш послала домой открытку: «Со мной ничего худого не произошло, обо мне не беспокойтесь, я уехала на несколько дней в деревню». Об этом следовало написать — как бы с родными чего не случилось, если ее станут искать дома. А что, если сегодня ночью ей поспать где-нибудь в кинотеатре? Прекрасная идея! Надо скорее купить билет на последний сеанс. Нет, нехорошо. В зале делают уборку. Если даже и притвориться, что уснула, ее все равно разбудят… Да, впрочем, там негде и спрятаться! Разве под стульями спрячешься? Пожалуй, разумнее всего зайти в убежище какого-нибудь чужого дома… Но в случае тревоги ее сразу же заметят и пристанут с расспросами, что она здесь делает, к кому пришла. А куда она пойдет завтра утром, в помятом платье, неумытая?
У нее болела голова, ей хотелось есть, но она знала, что сейчас нельзя тратить деньги на пустяки. У нее было всего сорок пенге. И продать нечего, не считая ручных часов и томика Томаса Манна, который случайно оказался в портфеле. Да разве она согласилась бы расстаться с этими вещами, если бы даже могла купить за них себе жизнь?
А не поехать ли ей в Лацхазу, на хутор к своей крестной? Ну, конечно! Несколько раз сна проводила там летние каникулы. Она сможет побыть на винограднике, в давильне есть комнатка для гостей. Перед сдачей экзаменов на аттестат зрелости она целых две недели прожила там и никого не видела, кроме одноногого сторожа дядюшки Антала, который всякий раз любил рассказывать ей о первой мировой войне. Как это она сразу не подумала о крестной! Наверняка есть вечерний поезд…
Беда только в том, что у нее нет других документов, кроме удостоверения военного завода, а чтобы поехать, нужно особое разрешение… А вдруг на вокзале начнут проверять документы? Не попросить ли ей у кого-нибудь документы на время, только на один день? Она вернет их заказным письмом. Но у кого? Была у нее одна симпатичная подруга. Три года они вместе учились на курсах итальянского языка в «Институто Итальяно». К тому же не раз встречались в компании, она и Тибора хорошо знает. А вдруг эта девушка поможет? Наверняка поможет. Только она живет где-то далеко, на улице Фё. В доме номер двадцать один или двадцать три? Там можно будет узнать.
И вот Агнеш быстро и решительно зашагала вперед. После долгих колебаний ей было приятно от одного сознания, что выход найден, что она знает, куда и зачем ей идти. Конечно, надо только попасть на улицу Фё, а там все уладится.
Возле туннеля она вышла из автобуса и сразу же поняла, что поступила глупо. Улица Фё оказалась невероятно длинной. По обе стороны стояли одни большие дома, они чередовались со скверами и церквами. Впрочем, номер дома вовсе не двадцать один и не двадцать три, а совершенно иной, надо еще перейти площадь Баттяни. Вот наконец она и на месте. Агнеш узнала старинный, сводчатый дом со стенами метровой толщины. Здесь и воздушные налеты не страшны. На веранде второго этажа нет никакого железного барьера, как в других доходных домах, сама веранда застеклена и уставлена множеством горшков с цветами: тут и папоротник, и филодендрон, и кактус. Какой-то совершенно безмятежный мир в самом центре военного города.
Агнеш протянула руку к звонку, но все еще не решалась нажать кнопку. Просить — ужасно неприятная вещь! Даже если просить нечто такое, на что ты имеешь полное право. Однажды она одолжила своему соученику словарь Йолланда. Раз тридцать потом собиралась попросить вернуть ей книгу, да так и не решилась — пусть лучше пропадет…
— Раз, два, три…
Звонок задребезжал отрывисто, неохотно. Может быть, в квартире и не слышат, но нет, кто-то уже идет открывать дверь. На пороге появилась молоденькая, светловолосая девушка в крестьянском платье, с улыбкой на круглом лице. Как это сейчас приятно!
— Кого изволите спрашивать?
— Госпожу Кесеги.
— Как ей доложить? У нее сейчас гости.
Ой, она вовсе не собирается заходить, знакомиться, вести разговоры.
— Скажите ей, пожалуйста, что ее хочет видеть Агнеш Чаплар.
Девушка скрылась в комнате. Агнеш осталась ждать в прихожей. Какая славная квартирка! В прихожей резная венгерская мебель, крестьянские стулья с прямыми спинками, на скамье бужакские подушки, на стенах кружки, тарелки, в углу расписанный сундук — весь в тюльпанах. Если когда-нибудь выйду замуж, обязательно куплю такую обстановку.
— Вот это приятный сюрприз! — восклицает Эдит. — Заходи к нам, дорогая. У меня сестра и ее муж Имруш Челеи…
Увешанная драгоценностями, одетая в шелковое платье, с завитыми, очевидно, совсем недавно волосами, Эдит подошла к Агнеш и поцеловала ее в обе щеки.
— Я спешу, не буду заходить… Я хотела бы поговорить с тобой кое о чем.
— Полно тебе, ты всегда спешишь. Целый год не была у нас, выпьем по чашечке черного кофе…
Толкая Агнеш перед собой в комнату, хозяйка успела бросить взгляд на бежевое платье и дешевые сандалии гостьи…
— Но, Эдитка, я хотела с глазу на глаз…
Однако, открыв дверь, хозяйка очень громко представила ее своим гостям:
— Агнеш Чаплар, моя подруга по учебе в «Институте Итальяно». Магда, моя сестра.
— Челеи, — довольно холодно произнесла Магда, даже не поднимаясь с кресла. Затем посмотрела на своего мужа, на шурина, которые чуть заметно поклонились гостье и сразу же заговорили о чем-то своем.
Эдит пододвинула к Агнеш поднос с печеньем.
— Так вот, заходит ко мне этот тип, — продолжал Имре Челеи, снимая со своего темно-серого костюма пылинку, — заходит и говорит: «Помните, господин главный нотариус, мы вместе ходили в шестой класс «Б». Я пришел к вам с просьбой. Дайте мне одно удостоверение, от него зависит жизнь моей семьи». А я ему в ответ: «Дорогой друг, я уже забыл шестой «Б», к тому же я учился в шестом «А». А что касается фальшивого удостоверения, то оно может стоить жизни моей семье. Вы, конечно, понимаете, мне так же дорога моя семья, как вам ваша».
Гости и хозяйка засмеялись, только Агнеш сидела словно окаменев.
Эдит хохотала громче всех.
— Верно, Имре, нечего вмешиваться в разные истории.
Сегодня утром в нашем доме был настоящий скандал. Представьте себе, четыре дня назад заявилась к дворничихе какая-то девица и говорит, будто пришла она из Чиксереды и зовут ее Пирошка Такач. У дворничихи действительно были в Трансильвании родственники и у них дочка, по имени Пирошка, которую она не видела с тех пор, как та родилась. Проездные документы в порядке. Гостью, разумеется, сердечно встретили, накормили, напоили и принялись расспрашивать о семье, но она знай повторяет свое — я, дескать, очень устала, хочу спать. Ладно, отдыхай себе. Дворничиха, разумеется, каждому встречному и поперечному рассказывает, что к ней приехала родственница. Но странное дело, в роду у них все шатены, а эта почему-то оказалась русой… Жильцы посоветовали дворничихе быть осторожнее, я тоже предупредила ее: присмотритесь к этой девушке как следует. На первом этаже нашего дома живет начальник ПВО. Вызывает он на следующий день утром к себе эту девушку, расспрашивает ее о том о сем и в конце концов выясняет, что она дворничихе никакая не родственница; ее отец — еврей и работал учителем в Чиксереде, она сбежала из гетто. Документы ей якобы дала Пирошка Гакач, но, наверное, они у нее краденые, от таких людей всего можно ожидать.
— Примешь их, а они еще, чего доброго, убьют тебя.
— Агика, ты попробуй этот, с миндалем, очень вкусный.
— Нет-нет, спасибо. Право же, я очень спешу.
— Жаль, — сказала Эдит и встала, — когда же мы увидимся?
— Как-нибудь… я обязательно загляну. До свидания.
И вот Агнеш снова оказалась на улице Фё. Четыре часа дня, а она еще более беспомощна, чем прежде. Лучше всего было бы взобраться на гору Геллерт и броситься со скалы вниз головой.
Нет, так просто она не сдастся. Ей двадцать два года, и у нее есть право на жизнь. Ей хочется еще увидеть Тибора.
И Агнеш, преисполненная решимости бороться, останавливается на площади Баттяни и вызывающе смотрит на возвышающийся напротив парламент, на бурно катящий свои воды Дунай. Нет, она дешево не продаст свою жизнь. Она хранит у себя в сумочке подаренную Тибором книгу Томаса Манна «Подмененные головы». Она еще собирается дочитать ее до конца. Хочет послушать «Мейстерзингеров» после войны, пройтись по Понте Веккио и посмотреть с середины моста на серебристые волны Арно.
А не пойти ли ей к полковнику Меллеру? Не станет же он арестовывать ее у себя на квартире… Скажет ему, будто только сейчас узнала, что он ее вызывал… скажет, что завтра явится в комендатуру… А вдруг окажется, что никакой опасности нет и она действительно все преувеличивает!
Меллер жил на набережной Ференца Йожефа, в шестиэтажном доходном доме, в прекрасной квартире с балконом на Дунай. Агнеш с бьющимся сердцем ходила взад и вперед возле дома, чтобы успокоиться, принялась считать выбоины на тротуаре. Если до того магазина будет четное число… тогда зайдет. Получилось четное. Но сначала она прочитает «Отче наш». Затем досчитает до ста. Подождет, пока пройдет двадцать первый прохожий. Если это будет мужчина, ей повезет. Двадцать первым прошел сержант эсэсовец. Ну что ж, а вдруг он принесет ей счастье.
Пойду.
Дверь открыла миловидная горничная в черном платье, она предложила Агнеш пройти в кабинет полковника. Красивая, современная ореховая мебель. На письменном столе глобус, вдоль стены до самого потолка книжные полки. Множество учебников по ветеринарии на английском и немецком языках.
Но вот вошел Меллер. Он удивился, но тем не менее вежливо предложил гостье сесть.
— Вы меня искали, господин полковник? — спросила Агнеш, чувствуя, как у нее сжимается горло.
— Да-да… Скажите, барышня Чаплар, вы родились двадцать первого мая?
Агнеш с недоумением вскинула на полковника глаза и впервые увидела, что у него лысая макушка.
— Да. Двадцать первого мая тысяча девятьсот двадцать второго года.
Меллер, прищурив глаза, посмотрел на девушку. Как будто и черты лица похожи. Он еще прошлый раз, при раздаче мяса, заметил это. Но нет… У Агнеш волосы были черные, и ростом она выше… И родилась двадцать первого мая. Меллер никого так не любил, как свою дочь. Она умерла, когда ей было шестнадцать лет… а если бы жила, то была бы примерно такой, как эта девушка. Его дочь тоже звали Агнеш. Бедная Агнешка!
Перед смертью она узнавала только отца. Ко дню рождения просила подарить ей ландыши, только ландыши. И что им понадобилось от несчастной девушки? Она якобы сказала, что мы проиграли войну. Разумеется, проиграли. Будто сказала, что позорно убивать солдата, который приехал на каменоломню в отпуск. Еще бы, конечно, позорно. И он должен арестовать ее? Черт бы побрал всю эту войну.
— Барышня Агнеш, на вас поступил донос…
— Я знаю.
— Не буду расспрашивать, правду говорили о вас или нет. Мне это безразлично. Если вас арестуют, зачтут все, о чем вы когда-либо говорили. Если вас схватят, я не смогу вас защитить. Бегите, спасайтесь.
— По… позвольте?
— Видите ли, возможно, вам удастся легко отделаться, но на это надеяться нельзя. По вашим документам видно, чго и отец у вас тоже… одним словом, не все в порядке. Вас могут интернировать или передать гестапо. Сейчас это делается очень просто.
Агнеш, все больше недоумевая, смотрела широко открытыми глазами на военпреда. Ей уже казалось, что она плохо слышит, не понимает слов полковника. Неужели это Меллер сказал, чтоб она спасалась, бежала?
— Разве у вас нет в провинции родственников? Может быть, знакомые? Садитесь на поезд, и весь разговор. Сегодня четвертое июня… Не пройдет и месяца, как весь этот цирк кончится. До тех пор вы где-нибудь проживете.
— Но… как я могу попасть в провинцию с удостоверением военного завода?
— Что поделаешь, тут я не могу вам помочь, документы вам придется добывать самой или уехать и постараться избежать на станции проверки документов. Могу пообещать одно: на несколько дней отложу ваше дело, чтобы вас не искали. Ну, с богом.
«Собственно говоря, что я хотела от Меллера? — подумала Агнеш, снова очутившись на улице. Впрочем, это посещение не осталось для меня без пользы. Если на пару дней получу отсрочку, это тоже неплохо. Поеду к Карлсдорферу. У него хранятся заводские печати. Пусть даст справку, что меня посылают в командировку к Кишкунлацхазу».
И вот она снова в трамвае. Пятьдесят третий с грохотом несется по мосту Эржебет. Солнце прячется за холм Рожадомб. Дорогой красавец мост, увижу ли я тебя еще когда-нибудь.
На площади Барош Агнеш пересела в двадцать седьмой трамвай. И вот уже опять стоит перед чужой дверью, опять должна звонить, опять просить.
Карлсдорфер только что пришел из казино и раздевался в прихожей.
Он встретил Агнеш с нескрываемой радостью.
— Ах, вы все-таки не пропали! Я же сразу сказал, что вы придете. Но Татар всегда делает из мухи слона. Ему даже ничего не стоило тут же отдать распоряжение, чтоб полиция пустилась на поиски вас. Ну так, заходите же, дорогая, садитесь. Где это вы бродили весь день?
Агнеш вошла в комнату Карлсдорфера. Сегодня она пришла сюда впервые, но у нее не было охоты смотреть по сторонам. Ей бросился в глаза лишь висевший над массивным письменным столом огромный герб: на усыпанном золотыми полумесяцами и звездами синем поле красный тигр с окровавленной саблей в пасти. «Если бы у меня был такой безобразный герб, ни за что бы не повесила, — подумала она и тут же отругала себя: — Откуда у меня такие мысли в столь серьезные минуты? Стиль Тибора. Очевидно, это оттого, что я все равно не верю, что со мной случится несчастье… Пустое, все неприятности мне только снятся, вот я сейчас проснусь и ударюсь локтем о стенку…»
— Скажите, Агнеш, бога ради, зачем вы распускаете язык?
— Татар начал, что война…
— Не война… Военное начальство недовольно вами за то, что вы защищаете какого-то каменотеса.
— А, это дело Хомока! Разве вы, ваше превосходительство, не читали заводского сообщения?
— Пусть сатана его читает. Татар что-то там докладывал… пристрелили какого-то смутьяна. Но зачем вы вмешиваетесь в эти дела? Немцы все свиньи, военный представитель тоже порядочная свинья, Татар — самая большая свинья, но надо уметь держать язык за зубами…
— Теперь уже поздно…
— Конечно, поздно. Утром пойдете к полковнику Меллеру, объясните ему, что не имели в виду ничего плохого, попросите извинения, и все уладится. В конце концов полковник добрый человек, не съест вас.
Агнеш потрясла головой.
— Я не хочу возвращаться к нему.
— Как так не хочу?!
— Я должна уехать из Будапешта к моей крестной, в Кишкунлацхазу. Прошу вас, ваше превосходительство, дайте мне направление. Я воспользуюсь им только на железнодорожной станции, потом уничтожу. Никто не узнает.
— Да как вы могли подумать такое? Фальшивое направление? Раз не умеете держать язык за зубами, так отвечайте за последствия. Извольте явиться в комендатуру.
— Но помилуй бог, неужели вы надеетесь, что я пойду в полицию? Ведь меня арестуют.
— И не подумают арестовывать молоденькую девушку… Я поговорю с Меллером.
— Вы же сами видите, что они делают… Доктора Ремера забрали, в рабочих стреляют…
— Полно вам, не будьте ребенком. Ремер еврей, а тот шахтер дрянной мужик… Как вы можете сравнивать себя с ними?
— Значит, не дадите направления?
— Удивляюсь, как вы осмелились обратиться ко мне с этой нелепой просьбой. Я надеюсь, что утром вы придете в контору. И так у меня из-за вас куча неприятностей. Все утро рылись в столах, и, если бы я не подписал протокола, что «Пигмалион» Шоу не коммунистическая книга, они бы унесли и ее из вашего ящика. До тех пор шарили у нас, пока я не вышвырнул всех вон…
— Ваше превосходительство, я… не приду в контору.
Карлсдорфер вскочил.
— Слышите, Агнеш, хватит вам шутить. Я веду себя, как подобает порядочному человеку, не стану звонить военным властям, что вы пришли ко мне, так как жалею ваших родителей. Позвольте же мне надеяться, что вы тоже будете вести себя, как подобает порядочной барышне. У меня своих хлопот полон рот. На прошлой неделе какая-то скотина донесла, будто я слушаю английское радио. Я не намерен каждую неделю бегать из-за чужих неприятностей в министерство внутренних дел. Я уже сказал, ничего плохого с вами не случится, но бежать из моего учреждения так просто нельзя, извольте знать…
— До свидания, — вставая, произнесла Агнеш и направилась к передней. Карлсдорфер не пошевельнулся и не сказал больше ни слова.
Был седьмой час, уже спускались сумерки, а она все еще стояла в нерешительности у пересечения улиц Дамьянича и Арена. Агнеш устала, проголодалась, у нее болела голова. От надежд, которые еще теплились у нее, когда она была на берегу Дуная, не осталось и следа.
Агнеш принялась перебирать в памяти своих знакомых. На какой-то миг вспомнила Кеменешей, площадь Верхалом. Нет, ни за что, ведь в конторе известен адрес Тибора. Может быть, ее там уже ждут… Друзья Кароя, Лаци Якаб? Не то, не то, все не то…
Как ей вспомнилась Каталин Андраш, она и сама не знает. Ведь лет шесть они даже не встречались. Андраши, наверное, уже переехали из прежней квартиры, раньше они жили на углу улиц Ваш и Шандор в большом облупившемся доходном доме.
Тем не менее она, словно во сне, побрела в сторону улицы Ваш.
С Каталин Андраш они вместе учились, но только до второго курса коммерческого училища. В ту пору умер от свинцового отравления отец Каталин, работник типографии, худенький человек с редкими усами на серо-зеленом лице. После похорон Кати бросила училище. Как-то раз Агнеш зашла к своей подружке. В длинном и узком коридоре, в который выходили коричневые двери, ее встретила бледная, худая Кати. В черном платье она казалась старше своих лет, совсем взрослой; озабоченная, она заявила, что родные решили отдать ее учиться в шляпную мастерскую, чтоб она могла скорее заработать на кусок хлеба. «А что же будет с твоими стихами? — спросила Агнеш. — Ты ведь хотела стать писательницей». «То были детские шалости», — ответила Кати. Некоторое время они посидели молча, затем простились и вот с тех пор виделись раза два-три, не больше.
Еще одно воспоминание хранила Агнеш о Каталин Андраш, более давнее и довольно-таки курьезное.
В квартире Чапларов стоял под кроватью ящик с книгами: роман «Золотой человек» Йокаи, старые номера журнала «Театральная жизнь», «Зов джунглей» Джека Лондона, две книги сказок, стихи Петефи и много томов неизвестных авторов и со странными названиями. «Не смейте брать книги из ящика, — повторял старый Чаплар. — Если попросите, я сам дам, мне лучше знать, что вас интересует». Если бы отец не запрещал, Агнеш, может быть, и не подумала бы лезть в ящик. Как-то раз, когда у нее в гостях была Кати Андраш, Агнеш, которой было четырнадцать лет, возьми и похвастайся книгами. «Хочешь почитать?» «А можно?» «Как же. Они наполовину мои, отец разрешил, могу читать, что захочу, — приврала Агнеш. — Хочешь эту?» «Ладно, спасибо». Рано утром следующего дня Кати принесла книгу обратно. «Аги, посмотри, — и она раскрыла завернутый в лощеную бумагу томик на первой странице. — Читай: «Пресмыкайся, госпожа Хорги…» Господи. Агнеш выронила из рук книгу и, подавляя в себе страх, посмотрела, как она называется. Деруо Белени, «Книга страданий». «Спрячь ее скорее на место, — прошептала Кати Андраш. — И бежим в школу».
Давно уже забыт этот случай, и сегодня Агнеш переживала его снова. В ту пору она ночи не спала, все пыталась разгадать тайну ящика и то, что думала о них Кати Андраш. А если бы она дала книгу другой своей подруге, скажем, Буци Хорват, не донесла бы та на нее классному руководителю? И что бы тогда произошло с отцом? Ведь это же оскорбление Хорти!
Агнеш и не заметила, как дошла до улицы Ваш. У входа по-прежнему висел список жильцов, написанный неразборчивым, корявым почерком. Но, к счастью, в верхнем ряду она все же с трудом прочла: IV этаж, квартира № 4, Андраш.
Она позвонила, ей открыла низенькая, седоволосая женщина. Рукава ее темно-синего фланелевого платья были засучены до самых локтей. Старушка впустила Агнеш в прихожую и воскликнула:
— Ну кто бы мог подумать! Маленькая Чаплар… Как ты выросла, сокровище мое! Извини, не могу тебя обнять, только что мыла посуду. Кати, Катика, гостья пришла!
Длинная прихожая, коричневые двери, тетушка Андраш — все это сразу успокоило Агнеш и напомнило домашний уют. В крайней двери показалась взлохмаченная белокурая голова Кати, и тотчас раздался ее радостный возглас:
— Вот это сюрприз! Это мило с твоей стороны. Ты пришла как раз кстати, если любишь жареную картошку.
Агнеш никогда не нравилась старомодная мебель, но в квартире Андрашей царил какой-то особый уют. Простая, дешевая, лакированная мебель темно-коричневого цвета, какую можно видеть в любой витрине магазина, но покрытая красивыми салфетками, изящные стеклянные вазы с букетами цветов. И вся квартира, тяжелое плюшевое покрывало на диване, кружевные занавески на окнах и даже томик Петефи на маленькой этажерке, казалось, были пропитаны ароматом айвы и орехового листа.
В комнате сидел молодой человек лет двадцати восьми. В первые минуты Агнеш думала, что это старший брат Кати. Она чуть было не проговорилась, но вовремя заметила на комоде фотографию Йошки Андраша в черной рамке… Молодой человек поднялся и представился:
— Доктор Иштван Ач.
— Лучший друг нашего покойного Йошки, — произнесла Кати и, чтобы положить конец расспросам, сразу же добавила: — Ты, конечно, помнишь моего брата Йошку, он погиб, бедняжка.
Агнеш не знала, что ей сказать. Она вспомнила, что была здесь в последний раз после смерти отца Кати.
Кати, как подобает любезной и внимательной хозяйке, вертелась возле гостей.
— Хочешь помыть руки? Подожди, я принесу горячей воды из кухни. Ванная у нас существует только для украшения: продырявилась, бедняжка, а до конца войны вряд ли удастся приобрести новую.
Кати принесла мыло, чистое полотенце и, оставшись в ванной наедине с Агнеш, тихо сказала:
— Что бы с тобой ни случилось, при Пиште можешь говорить спокойно.
— Откуда тебе известно, что я пришла именно из-за этого?..
— Догадываюсь.
— Мне так стыдно… я столько лет ни разу не заглянула к тебе.
— Пустяки, Агнеш. Я тоже не забуду…
Агнеш перестала вытирать руки и уставилась на подругу.
— Что?
— Не помнишь?
— Нет… ей-богу, не помню.
— Когда болел мой отец, ты каждый день клала в мою парту хлеб с маслом.
— Я не помню. Клянусь, не помню.
Кати Андраш покраснела.
— А я тебя подстерегла. Ты всегда задерживалась в классе во время десятиминутной перемены и клала мне в парту бутерброд. Он мне тогда был как нельзя кстати… я относила его домой.
— Право же, ничего такого не помню, — ответила Агнеш и покраснела как маков цвет; теперь ей и впрямь что-то припоминалось. — Ведь прошло девять лет… Зато я не забыла, как ты мне вернула книгу.
— Какую книгу? — на сей раз удивилась Кати, затем громко засмеялась: — Хорошо, если забывается то, что даешь, а помнится, что получаешь…
Агнеш все еще вытирала руки, хотя они были совершенно сухие. Черт возьми! Неужто придется просить убежища за то, что она когда-то давала Кати хлеб с маслом? Нет, она не станет рассказывать, в какую беду попала? Пусть будет, что будет…
Но, когда они вчетвером сели за стол, она незаметно для себя рассказала все. Об Иштваие Хомоке, Татаре, Эдит, полковнике Меллере, Карлсдорфере и даже о своем намерении уехать в Кишкунлацхазу.
— Не знаю, правильно ли вы поступаете, — произнес Ач, — ведь в провинции еще труднее.
— Я хорошо знаю окрестности.
Ач немного помолчал.
— Послушайте меня, Агнеш. Одно верно, вам ни при каких обстоятельствах не следует являться в комендатуру. В лучшем случае вас интернируют. Но возможен и худший исход… Беда в том, что скитания — очень опасная игра.
— Словом, прежде всего тебе нужны фальшивые документы, — сказала Кати.
— Да.
— Дадим ей метрику Эржебет Балаж.
— Верно, — кивнула Кати. Она подошла к этажерке, взяла второй том романа Шпенглера «Гибель Западного мира» и вынула из него конверт. В конверте оказалась справка о будапештской прописке, метрика и трудовая книжка на имя Эржебет Балаж.
— Но мы должны предупредить, что эти документы фальшивые.
— В каком смысле фальшивые?
— Эржебет Балаж никогда не было на свете. Поэтому вам следует держаться подальше от района, где знают дом, указанный в этих документах.
Агнеш в смятении смотрела на бумаги.
— Прочитай несколько раз очень внимательно данные и хорошенько спрячь.
— А что мне делать с собственными документами?
— Тоже хорошо спрячь. Разумеется, было бы лучше всего уничтожить их. После войны нетрудно будет получить новые… А сегодня ночью будешь спать у меня, ладно? — сказала Кати.
Агнеш с благодарностью улыбнулась ей в ответ. Здесь ничего не надо просить.
— Если ночью случится воздушная тревога… — начала Кати.
— Тогда преспокойненько останемся в квартире и предоставим наши грешные души господу богу, — докончил фразу доктор.
— Почему… Разве вы тоже? — оторопело спросила Агнеш.
— Нет, в данный момент я живу вполне легально, не подвергая себя никакой опасности. Работаю в больнице и завтра в семь часов утра, как всегда, отправлюсь на службу. Но я не робкого десятка. Моя квартира рядом, я снимаю соседнюю комнату.
— Его квартиру в Эржебете разбомбили, — пояснила Кати.
— Я охотно перестал бы быть квартирантом, но Кати не соглашается выходить за меня замуж. Ну, не сердись, ты права, — сказал Ач, встал, подошел к Кати и погладил ее волосы. — Сейчас всеобщий траур, кругом столько горя, что разумнее отложить женитьбу до конца войны. И дорогую гостью не будем утруждать нашими семейными заботами, а лучше сыграем во что-нибудь.
— Ладно. Во что?
— В годовщину, — предложил Ач.
— А как надо играть? — заинтересовалась Агнеш.
— Очень просто. Произносится какое-нибудь число. Например: семь. После этого каждый должен рассказать, что он будет делать ровно через семь лет, то есть четвертого июня тысяча девятьсот пятьдесят первого года… не обязательно брать семь, можно взять и пятьдесят.
— Как бы не так, загадайте такое число, чтобы и я могла дожить до той поры, — вмешалась тетушка Андраш.
— Я тоже не собираюсь жить до семидесяти лет, да это не так уж интересно, — произнесла Кати.
— Агнеш — гостья, пусть она и задумывает число.
— Десять.
— Хорошо. Итак, дамы и господа, прошу внимания, колесо времени подвигается: сегодня четвертое июня тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года, восемь лет спустя после войны.
— Десять.
— Лучше пусть будет восемь, — заупрямился Ач.
— Неужто, по-вашему, придется ждать еще два года?
— Не ломайте, пожалуйста, машину времени… итак, восемь лет после окончания войны. Ну, тетя Андраш, что вы будете делать?
— Буду сидеть в кресле, сынок, и вязать шапку внуку.
— Которому? — спросил Ач.
— Еще только один внук у нее! — воскликнула Кати и вся залилась румянцем.
— Ну, хотя бы второму, — упрашивает доктор Ач.
— Ладно, второму.
— А ты, Агнеш?
— Пусть сначала Кати скажет.
— Я? Я буду сидеть за письменным столом и писать книгу. Роман для юношества. Или путевые очерки о строительстве современного города, где сооружаются квартиры только с ванными и между домами проложены ровные, совершенно чистые дороги, обсаженные деревьями. Но может случиться и так, что в то время я буду лететь на самолете…
— А я останусь дома и буду варить сыну манную кашку.
— Вполне возможно, — улыбается Кати.
— А я… я стану врачом, — неожиданно для всех произносит Агнеш. — Буду работать в большой больнице и всех вылечу…
— А замуж не думаешь выходить? — спрашивает тетушка Андраш.
У Агнеш сразу как-то стало тяжело на сердце.
Какая глупая игра.
Через десять лет… может быть, она и не доживет…
Неизвестно, что ожидает ее завтра. Тибор на фронте, а сама она с какими-то документами на чужое имя завтра утром отправится навстречу неизвестному. Кого интересует пятьдесят четвертый год? Разве знаешь наперед, что будет через неделю? Да проживет ли она еще хоть год? Нет никакой охоты играть в эту игру.
— Ты устала, Агнеш, — заметила Кати. — Ложись спать.
Доктор Ач стал прощаться:
— Итак, уважаемая коллега, до встречи в тысяча девятьсот пятьдесят четвертом году.
Мать тоже ушла. Кати достала из шкафа одеяло, простыню. В половине десятого они выключили свет и открыли окно. Вызвездило, прожектора вдоль и поперек бороздило небо. Агнеш выглянула на улицу. Что сейчас происходит дома? Наверное, все очень напуганы… может быть, думают даже, что меня поймали… или я покончила с собой. Успокоятся ли они, если завтра получат открытку? А Тибор, где он теперь? Смотрит ли он сейчас на звезды? И что будет после войны? Доживет ли она до той поры? Как об этом говорил Тибор?
Боже мой! Рисунки Тибора! Письма Тибора остались в ее столе! Карлсдорфер говорил, будто разрыли ее вещи… На открытках стоит фамилия Тибора и номер его полевой почты — узнают почерк… карикатура и памфлет на Гитлера! Тибор может попасть в беду…
Надевая наволочки на подушки, Кати Андраш увидела, что Агнеш наспех накинула на себя пыльник, схватила портфель и с беспокойством посмотрела на часы. Без двадцати пяти десять.
— Кати, очень, очень тебя благодарю за все… но мне надо уйти… о документах никто не узнает, от кого я их получила.
— Куда это вы в такую пору?
— Нужно… пока не заперли ворота… Я что-то забыла, — торопливо ответила Агнеш, боясь, как бы Кати не начала расспрашивать ее. Но Кати только обняла ее на прощанье.
— Будь осторожна.
— Спасибо тебе за все.
— Если представится возможность, помогай другим… сейчас столько людей бедствует.
И Кати с силой, по-мужски пожала ей руку.
— До свидания, Агнеш.
— До свидания, Кати, встретимся после войны.
Очутившись за дверью квартиры Андрашей, она вдруг поняла, что уходит из надежного, верного укрытия навстречу буре.
А между тем ночь выдалась теплая и тихая.
Агнеш побежала вдоль улицы Ваш, пересекла проспект Ракоци, свернула на улицу Надьдиофа и без четверти десять была уже возле Оперного театра. У здания было тихо и темно. А как прекрасен Оперный театр внутри! Доведется ли ей когда-нибудь сидеть в пурпурном плюшевом кресле и слушать дивные мелодии нюрнбергских «Мейстерзингеров»?
Она на миг остановилась, перевела дух и снова пустилась бежать. В узеньком переулке прохожих почти не было. Только бы незаметно проникнуть в контору!
Сердце ее билось так громко, что она боялась сделать шаг. К счастью, на лестничной клетке царила кромешная тьма, сквозь цветные стекла с изображением девы Марии чуть пробивался слабый бледно-синий свет. Прижимаясь к стене, Агнеш бесшумно шмыгнула на второй этаж. Из плохо затемненного окна в квартире Варги едва струилась чуть видимая полоска света. Надо было смазать ключ маслом! Господи, как хорошо, что она главный бухгалтер и Миклош Кет передал ей ключ от конторы!
Замок громко щелкнул. Агнеш, застыв на месте, прислушалась, сосчитала до двадцати. Никто не показывался. Из квартиры Варги доносилась музыка. По радио передавали концерт по заявкам слушателей. Уборщица громко подпевала: «Все пройдет, все кончится, и снова…»
Ну, пора! Агнеш медленно открыла дверь и, немного подумав, заперла ее за собой. Спрятав в карман ключ, она стала неторопливо, осторожно пробираться через переднюю. Но как громко скрипит этот проклятый паркет! Здесь надо продвигаться медленно, в прихожей стоит стол, вокруг него стулья, как бы какой-нибудь не опрокинуть… Эта стеклянная дверь ведет в кабинет Карлсдорфера… Вот и бухгалтерия. Хорошо, что не заперта на ключ. Окна не затемнены, освещенные луной, чернеют коробки с картотекой. Господи, как было бы хорошо прийти завтра на работу и спокойно сесть за стол.
Ящик ее письменного стола открыт. И тут ей невольно пришла мысль, от которой сжалось сердце: а вдруг уже нашли письма Тибора. Правда, она тщательно их спрятала… Дрожащей рукой Агнеш вытащила верхний ящик и пошарила в нем. Сердце забилось от радости.
Нет, ничего плохого не произошло. Учебник латинского языка на месте. И ленточка на нем не тронута. Дорогие, милые письма! Ее земное сокровище! Какой-то миг Агнеш думала не уничтожать их, а унести с собой. Но поняла, что этого делать нельзя. На каждой открытке значится полевая почта, подпись Тибора. Но как их уничтожить? Разве разорвать на мелкие клочки и выбросить в водосточную трубу?
— А как выбраться на улицу?
Идя сюда, она думала только об одном. Прошмыгнуть в контору до закрытия ворот, взять письма. А теперь?
До шести утра в городе комендантский час и до той поры ей не выбраться отсюда. Но а шесть часов уже совсем светло и тетушка Варга приходит убирать помещения.
И как заключительный аккорд к ее тревожным мыслям снизу донесся грохот — захлопнулись ворота. Вот и десять часов. Теперь она в плену.
Ничего больше не остается, как пробыть здесь до утра. В пять часов Варга, пожалуй, еще не придет убирать и, может быть, удастся выбраться на лестничную площадку и подождать, пока откроют ворота.
Теперь, когда есть возможность прижать к сердцу столь дорогие письма, ей уже не так страшно.
Агнеш осторожно пробралась в комнату Карлсдорфера, устроилась в массивном кожаном кресле и, прижав к груди письма Тибора, уснула.
Море
Агнеш уже давно не вспоминала свою бабушку.
И вот она снова видит на скамье возле кухонной двери сморщенную, седую старушку. Она живет в обветшалом старом домике на улице со странным названием Терексаласто. В крохотной кухоньке стоит маленькая плита, на которой впору только играть, а не готовить пищу. Вдоль стены жмутся друг к другу полка, столик и всегда убранная железная койка. В единственной комнате громоздятся круглый ореховый стол, просторная кровать с пуховиками, старомодный коричневый шкаф, а на стене висят ходики и икона. На окне тюлевая занавеска. Здесь неизменно царит приятная прохлада, пахнет ореховыми листьями и лавандой. В комнату никому не разрешается входить, пока домой не вернется Яни. Самый младший сын бабушки, Яни, с сорок первого года где-то гниет в окопах. Недавно приезжал его приятель с простреленными легкими; счастливый человек — получил отпуск. Он сказал, что сын ее жив, не погиб. Назвал даже место, где они стоят, — Воронеж.
«До чего странно, — подумала Агнеш, — что я снова вижу бабушку, ведь ее похоронили в прошлом году. Тогда был холодный, снежный декабрь, канун рождества… Или, может быть, она вернулась. Как она любила ее, свою внучку!»
Перед бабушкиной дверью разбита крохотная клумбочка, с которой бабушка каждый раз срывает для нее анютины глазки, гвоздику. Когда приходили внуки, на столе всегда красовался пирог с творогом. Но Карчи и Ферко убегали от бабушки — она вечно со слезами вспоминала старые времена… Только Агнеш бывало усаживалась у ног бабушки и терпеливо выслушивала бесконечные истории:
«…Однажды, когда мне было девять лет, домой принесли окровавленного отца. Он переплетал книги, разъезжал по всей стране, по целым неделям просиживал за работой в господских домах. Он был грамотен, знал и по-латыни и по-немецки и никогда не путал книги: вот какой умный был человек. Как-то раз пошел он к графу Мигази. Его высокопревосходительство стоял на веранде и дрессировал своих собак. Графские гончие славились на всю округу. Говорят, будто они и на парижской выставке брали призы. Париж этот — очень большой город, самый большой в мире. Суди сама, какие они были, эти собаки, коль их и туда возили! Граф, увидев переплетчика, ради забавы возьми и крикни собакам: «Взять его!» Те сорвались с места и, огромные, сильные — ведь у графа собаки едят мяса больше, чем у нас по воскресеньям вся деревня, — набросились на моего бедного отца. Отец кричит, стонет, а граф знай себе хохочет. Только увидев, что псы изорвали на человеке сорочку и но его телу течет кровь, свистом отозвал собак. Два работника графа привезли отца домой и уложили в постель. Так он пролежал почти целый год. Граф присылал доктора, тот все твердил, будто отец только испугался и с божьей помощью встанет на ноги. Только какой же тут испуг, когда у него на ноге зияла рваная рана до самой кости.
Но ты не думай, что граф и его семья были плохие люди. Когда мне исполнилось одиннадцать лет, меня взяли в особняк белошвейкой. Ой, до чего же там красиво, в этом особняке! Работали мы в такой башне. Поднимешь бывало глаза, и сразу перед тобой открывается весь парк. Под ним было пятьдесят хольдов. Подумай только, ведь этой земли хватило бы на десять семей, а там росли лишь деревья, кусты да цветы. Но какие деревья, что за цветы! Граф навез их из-за границы. В парке было шесть садовников. Они без конца поливали, обрезали эти деревья и ухаживали за ними. Был там куст магнолии, так цвел бледно-розовым цветом, совсем как заячья капуста. Попадались и тюльпаны, такие, что ни в сказке сказать, ни пером описать. А когда зацветали розы! Бывало пьянеешь от запаха. А если бы ты видела, какие платья мы шили для молоденьких графинь! Сотни и сотни кусков вишневого, голубого, розового, белоснежного, лимонного, оранжевого шелка, а сколько расходовали тафты, бархата, парчи, легких тканей. Главная закройщица с утра до вечера кромсала эти дорогие материалы, четыре портнихи, не разгибаясь, шили, а я только украшала бисером. На белое платье нашивала белый бисер, на голубое — голубой и до того порой уставала, что глаза отказывались служить, но я кончиками пальцев чувствовала, куда следовало нашивать. А надо было спешить — граф с семьей уезжал на море. Однажды, помню, я трое суток подряд нашивала бисер. Мы даже обедать не ходили в людскую, горничная сама приносила еду, И как ты думаешь, что нам подавали? Самое дорогое жаркое, и к нему не овощи, а разные там салаты, да такое пирожное, что и в кондитерской, пожалуй, не купишь… Так вот три дня я головы не поднимала, все нашивала бисер, и вдруг перед глазами завертелись черные круги, у меня так застучало в висках, что я с размаху грохнулась на пол. Уложили меня на диван. Прибежала сама графиня Аннабелла, принесла мне пирожное и сказала, что за мое усердие, за то, что я так красиво вышила бисером ее платья, она привезет мне подарок с моря. Прошло лето, я уже подумала, что барышня забыла о своем обещании. А как пришла осень, меня снова позвали в особняк. Опять надо было шить платья графским дочерям. Увидев меня, графиня Аннабелла сказала; «А я не забыла своего обещания» — и тут же пошла к себе в апартаменты и вернулась оттуда с этой вот картиной…»
Доходя до этого места, бабушка каждый раз вставала со скамейки, тяжелыми шагами двигалась на кухню и снимала со стены картину, висевшую над ее железной кроватью. Картина была без рамки и представляла собой простой кусок картона с наклеенной на него цветной литографией, изображавшей море.
Бледно-голубое, безоблачное небо, гладкая лазурная поверхность воды. Там, где море сливалось с небом, виднелся белоснежный корабль, а над безбрежной синевой таинственно выступала зеленая пальмовая ветвь.
«Море, — торжественно произносила бабушка. — Смотри, нет у него ни конца, ни края, оно простирается до самых звезд. Море могучее. Если когда-нибудь оно взбесится, то затопит землю. Море щедрое, возле него растут финиковые пальмы, по нему скользят белокрылые корабли. На палубе играет музыка, и в дивных платьях танцуют люди. Всё графы да графини… С моря доносятся чудные песни, вот послушай…»
И Агнеш, прижавшись к коленям бабушки, кто знает, в который раз, слушала одни и те же слова, один и тот же голос, слушала «Санта Лючию»… И в восемнадцать лет она смотрела на картину так же, как когда-то, когда ей было пять или шесть лет. Она снова представляла себе, как начинают покачиваться нарисованные волны, как они с пеной дробятся о берег, слышала, как шумит морская ширь. Ею овладевало неудержимое желание сорваться с места, убежать, забраться под пальмы, сесть на скалистом берегу и, упиваясь морем, смотреть и смотреть на него…
«Эх, до чего же хорошо море, а?» — шептала старуха и снова вешала картину на облупившуюся стену. Видение исчезало.
Бабушка умерла зимой сорок третьего года. За неделю до того, как почтальон принес письмо о «героической смерти» солдата Яноша Шомоди. Имущество растащила родня. Картину, очевидно, выбросили. Но вот Агнеш видит ее опять.
Она снова начинает шириться и расти.
Агнеш стоит на берегу моря. Пальмовая ветвь колышется под ветром; среди смарагдовых прибрежных лесов, лаская глаз, ютятся приветливые виллы с просторными террасами. На желтом бархатном пляже под полосатыми зонтами загорают веселые люди. Дети гурьбой мчатся в воду, бросая свои огромные, пестрые мячи до самого неба.
Они стоят на берегу вдвоем с Тибором. Тибор, как бы оберегая ее, одной рукой с любовью прижимает к себе, а другой указывает вдаль, на белоснежный корабль. «Я увезу тебя на нем…» Но вот в руках Тибора блеснули два граненых бокала. За что им выпить? За мир? За счастье? «Корабль уйдет, — в ужасе кричит Агнеш, — корабль уйдет!» И действительно, из трубы парохода вырываются пламя, дым, красные искры, на море поднимаются огромные волны, уходящий корабль оглашает все вокруг ревом, да таким страшным, что стынет кровь. Раз, другой.
Агнеш вздрогнула. Опьяненная сном, с трудом возвращаясь к действительности, она выглянула в окно. На улице грозно ревели на разные лады сирены, по небу нервно метались лучи прожекторов и, словно надрываясь от кашля, рявкали зенитные орудия. Где-то в вышине, будто тысячи грохочущих подвод, проносились с гулом страшные птицы; двери и окна, как живые, казалось, плакали и дрожали. Снопы света от прожекторов и ракет осветили Агнеш. Прижимая к себе письма Тибора, она опустилась на колени, закрыла глаза и, уткнувшись головой в кресло, горько заплакала от страха.
Утро в день побега
На какие-то две-три минуты девушка забывалась тяжелым сном, но, боясь проспать, в ужасе снова вскакивала.
Светать стало рано. В четверть пятого уже довольно хорошо можно было видеть циферблат часов. В половине пятого Агнеш осторожно заперла письменный стол, спрятала письма в портфель, еще раз окинула взглядом контору и направилась к выходу. Она сантиметр за сантиметром преодолевала расстояние до двери прихожей. Ей не хотелось выходить чересчур рано, чтобы не пришлось долго выжидать на лестничной клетке. Стоя у самой двери, Агнеш попыталась выглянуть в коридор. Однако матовое стекло было настолько толстое, что ничего не было видно. Услышать тоже ничего не удавалось: во дворе царила гробовая тишина. Кто сегодня дежурный по ПВО? Боже мой, а что, если тетушка Варга… или кто-нибудь именно с этого этажа?
С бьющимся сердцем Агнеш неторопливо пробовала открыть узенькое окошко на одной из створок двери. Но образовавшаяся щелка оказалась слишком мала, и девушка ничего не увидела. Соблюдая осторожность, она продолжала терпеливо открывать окошко дальше и делала это так медленно, что если бы кто-нибудь посмотрел снизу, то вряд ли что-либо заметил бы. Щелка увеличилась еще на сантиметр, затем еще на столько же. И тут Агнеш оцепенела от ужаса. На втором этаже стоял инспектор ПВО Дюси Свобода и таращил глаза именно в ее сторону. «Только не двигаться, застыть на месте», — с отчаянием подумала Агнеш, чувствуя, как ее пробирает дрожь. Сколько это длилось, две минуты или вечность? Свобода вдруг повернулся и, сунув руки в карманы, пошел, насвистывая, проверять коридоры на этажах.
Часы показывали без четверти пять. Когда же представится случай убежать отсюда? И дождаться ли ей вообще такого случая?
Дюси Свобода уже шел обратно. Он снова посмотрел в ее сторону, затем направился к себе в квартиру. Вскоре парень вынес на балкон кресло, уселся спиной к Агнеш и, поставив ноги на решетку, как какой-нибудь турецкий паша, углубился в чтение книги.
— Отче наш иже еси на небеси, — зашептала Агнеш. Она закрыла окошко и осторожно повернула ключ в скважине. Замок снова громко щелкнул. От страха у девушки так забилось сердце, что, казалось, она вот-вот упадет. Хорошо еще, что задержалась на какую-то минуту. Медленно, очень осторожно она чуть приоткрыла дверь. Свобода все в том же положении продолжал читать. Агнеш шла, стараясь ступать как можно тише, прикрыла за собой дверь, на какой-то миг прижалась к стене, затем, так же неслышно ступая, шмыгнула на лестничную площадку. Дежурный ПВО, ничего не замечая, очевидно, горел нетерпением узнать, догонит ли шериф короля памп Билля.
На лестничной клетке никого не было. А что, если кто-нибудь появится, спеша на работу или к поезду? Было бы разумнее всего быстрее сойти вниз, спрятаться за дверью, ведущей в подвал, и дождаться, когда откроют ворота.
Крадучись, по-воровски Агнеш спустилась на первый этаж. Осмотрелась. Кругом ни души. Пробираясь к подвалу, выглянула во двор. И вдруг даже сердце перестало биться от удивления. Ворота уже были широко распахнуты, и их никто не охранял. В углу, как обшарпанные старые попрошайки, стояли мусорные корзины, заполненные доверху стручками зеленого горошка, листьями редиски.
Забыв обо всем на свете, Агнеш, громко стуча каблуками, побежала под свод ворот, к выходу. Она была несказанно рада, что ей наконец посчастливилось выбраться на свободу. На улице движение еще не началось. Пустынный переулок продолжал спать после трудной ночи, лишь на углу проспекта Андраши с грузовика сносили тяжелые ящики. Пройдя мимо Оперного театра, Агнеш свернула на пустынную улицу Лазар, остановилась у водосточного колодца и принялась бросать в него клочки изорванных ночью писем. Подобно крохотным снежинкам, падали они вниз и исчезали в грязной воде канализации. Последнюю пригоршню она прижала к своему лицу. Затем все кончилось. Оставив позади улицу Лазар и выйдя на проспект Вильгельма, Агнеш обнаружила в кармане засушенную гвоздику. Это из того букета, который принес ей Тибор в тот памятный воскресный вечер. Она зажала в руке поблекший и утративший запах цветок, погладила его и снова спрятала в карман.
И Агнеш решила не уезжать из Будапешта. Ей вспомнился склад. Как это она забыла о нем, об этом складе!
А между тем сколько раз он служил ей убежищем и любимым местечком еще с детства!
Он принадлежит предприятию ее крестной, но расположен не на Вацском шоссе, а здесь, в самом центре города. Настоящий волшебный замок с маленькими и большими казематами. В одном хранятся рулоны мануфактуры, в другом — бочки с краской, в третьем — дубленые кожи с резким запахом, готовые сапоги, седла… Как-то раз, еще будучи ученицей начальной школы, она получила плохую оценку по рукоделию. Тогда, снедаемая горем, Аги спряталась внутри склада и ее отыскали лишь поздно вечером. Только бы крестная позволила провести там несколько ночей! На складе и умывальник есть, и телефон, да к тому же мама Юлишка и кушать бы приносила… Если в конторе удалось провести ночь и никто ее не обнаружил, то на складе в миллион раз безопаснее! И, что важно, он совсем рядом, на проспекте Карой.
У Агнеш сразу стало так легко на душе, будто ей больше не грозила никакая опасность. Казалось, даже деревья на проспекте Вильгельма, и те приветливо махали ей ветками.
На углу улицы только что открылся молочный павильон. Но у Агнеш не было при себе карточки, и поэтому она купила пачку кекса и с хрустом съела его. В лучах утреннего солнца она пошла дальше, размахивая портфелем и напевая про себя на мотив «Пасторали»:
«Я спаслась, я спаслась, я спа-сла-сь…»
Но вот Агнеш вздрогнула — рядом, грохоча сапогами, прошли два вооруженных немца. «Какая же я свинья, какая же самоуверенная свинья! Вместо тою чтобы молиться…»
Оказавшись на проспекте Карой, она впервые подумала о новых трудностях. Ведь крестная ходит на склад не одна. Более того, на чем основана надежда, что мать вообще пойдет туда сегодня? Зато вполне очевидно, что ей придется столкнуться с нилашистским кладовщиком Томани или бухгалтером Марьяи. которые обязательно пристанут к ней с расспросами, что она ищет на складе, почему не вышла на работу. И, если комендатура ее разыскивает, они наверняка выдадут. Надо действовать осторожно, очень осторожно!
По Музейному кольцу Агнеш добралась до университета. Через открытую калитку она вошла в сад и остановилась возле Аистовой крепости. Сколько раз приходилось ей бывать здесь, сколько раз она посматривала с тоской на счастливчиков, которые, вместо того чтобы ходить в контору, смогут еще пять-шесть лет учиться, познавать историю искусств, философию, медицину.
Сад стоял в полной летней красе, и Агнеш трудно было расстаться с ним. Она снова и снова доходила до улицы Трефорта и возвращалась обратно, пока наконец не посмотрела на часы. Половина девятого, надо отправляться.
Агнеш опять устремилась к проспекту Карой. На углу проспекта Ракоци, у остановки трамвая, стоял продавец газет и во всю глотку выкрикивал:
— Нашествие! Нашествие! Сегодня на рассвете американцы высадились на берегу Шербурга…
Но люди газет не покупали. Кое-кто, покраснев как вареный рак, отворачивался в сторону. Другие, как бы случайно, проходили мимо маленького продавца газет, бегло прочитывали сообщение, напечатанное крупным шрифтом, но газету так и не покупали. Кто знает, чем дышит стоящий рядом сосед.
Агнеш сунула было руку в карман, чтобы достать двадцать филлеров, но тут же передумала. Нет, теперь ей нельзя поступать опрометчиво. Чего доброго, подойдет сыщик и скажет, что он видел, как она улыбалась: стало быть, радуется нашествию.
Она поспешно перешла мостовую, но от волнения у нее громко билось сердце. «Высадились, высадились, высадились!.. Тибор был прав, пройдет несколько дней, а может быть, всего несколько часов, и войне конец».
Агнеш остановилась перед домом на проспекте Карой и, опасаясь встретиться со знакомыми, внимательно посмотрела вокруг. Никого не было. Она вошла во двор. Дверь склада была распахнута. Восемь или десять грузчиков шныряли взад и вперед, перетаскивая ящики и большие тюки кож.
Оставалось одно — незаметно прошмыгнуть в дом следом за рабочими! Рядом с туалетной находится маленькая кладовая, нечто вроде чулана. Гам она спрячется и потом, когда никого вблизи не будет, попытается разыскать крестную.
В доме было много квартир, мастерских, контор. Поэтому Агнеш без особого риска быстро поднялась по лестнице, и, хотя никто на нее не обратил внимания, ей казалось, будто ноги прилипают к ступенькам и их приходится с силой отрывать и высоко поднимать при каждом шаге.
Сновавшие туда-сюда совершенно незнакомые люди даже не посмотрели на девушку, когда та вошла в кладовую. Этот чуланчик ей хорошо запомнился. В увитой паутиной, пыльной каморке валялись дырявые мешки, старые кульки, поломанные ящики, пустые бутылки. Здесь царило полное запустение.
Агнеш разостлала на полу мешок, который показался ей чище других, и устало села на него.
По соседству, в туалетной комнате, из крана капля за каплей текла вода. Кап-кап-кап — пять, сто, тысячу раз подряд! Можно сойти с ума. А она в ожидании неизвестно чего продолжает сидеть на мешке, облокотившись на коленки. Ужасно хотелось есть. После съеденного кекса ее одолевала жажда, и, хотя кран был от нее в двух шагах, она все же не решалась сходить выпить воды. «Как-нибудь потерплю еще».
Стрелка часов ползла бесконечно медленно. А что, если крестная сегодня вовсе не придет или не удастся поговорить с ней с глазу на глаз? Тогда разумнее всего спрятаться и, дождавшись ухода грузчиков, вызвать ее по телефону и попросить, чтоб она вечером пришла к ней.
Было без четверти четыре, когда скрипнула дверь туалетной комнаты. Боже мой, а вдруг понадобятся мешки и рабочие зайдут сюда? Но нет! Она слышала, как кто-то, весело насвистывая, открыл кран и принялся шумно мыться.
— Пишта, подожди, — послышался голос из туалетной. — Не заприте как-нибудь и меня, я вовсе не желаю здесь торчать.
Наконец человек ушел. Какую-то минуту длилась тишина. Затем снова послышались шаги, скрип, что-то громко щелкнуло. Это, наверное, заперли большую дверь. Разговаривали одни мужчины. Значит, крестная так и не приходила.
Надо подождать еще немного. В теплой каморке царил полумрак, глаза девушки сомкнулись, и она забылась в глубоком тяжелом сне.
В плену
«Где я?»
Ответа не последовало. Конечности отяжелели, Агнеш не могла пошевельнуть ногой от усталости. От пыльных мешков исходил дурной запах. Агнеш с трудом вспомнила: она спряталась здесь вчера. Вчера? Ведь утро еще не наступило. Она протянула руку к выключателю, но тут же спохватилась. Чего доброго, кто-нибудь заметит свет в запертом помещении и подумает, что на склад забрались воры.
Пошарив перед собой руками, девушка встала на ноги. Сколько же сейчас времени? Вот дверь… Агнеш хватается за ручку, входит в туалетную и словно окунается в непроглядную темноту. Из крана по-прежнему однообразно каплет вода: кап-кап-кап. Или, может быть, это у нее так громко бьется сердце?
Мало-помалу Агнеш стала ориентироваться. Это, разумеется, переднее помещение, отсюда дверь ведет в кожевенный склад, с этой стороны — комнаты, заваленные мехами, здесь вот — дверь в контору. Не спеша подошла она к открытой двери и тут только стала кое-что различать: через огромное матовое стекло то и дело прорывался свет автомобильных фар и шарящих по небу прожекторов. Было десять часов вечера. Она подошла к телефону, подняла трубку. Тщетно было ждать гудка. Телефон не работал. Тем не менее Агнеш не положила трубку, а села к столу. Глаза ее постепенно привыкли к темноте. Вот она уже разглядела большой шкаф с документами, раздвижную дверь, ведущую в соседний, мануфактурный отдел. Телефон все еще безмолвствовал, выводя бедную девушку из терпения. Она пробовала дуть в трубку, набирать номер, стучать по рычагу. Телефон молчал. Решив попытать счастья позднее, Агнеш встала, положила телефонную трубку и осторожно вошла в мануфактурный отдел. Просторный зал с большими стеклянными окнами был довольно хорошо освещен и казался ей в полумраке каким-то огромным, страшным, враждебным. Удивительно, а она помнила его совсем не таким. Агнеш обошла все это помещение, никак не понимая, почему оно казалось ей таким странным. Снова сверкнули фары машин. Ага! Оказывается, склад пуст. Конечно! Из него вывезли все товары. Охваченная тревогой, она торопливо обследовала соседние помещения. Здесь всегда хранились седла, подпруги, сбруя, сапоги. А теперь, кроме пустых полок да соломы и оберточной бумаги, на полу ничего не было. Даже столы вывезены. Что здесь произошло?
Позабыв об осторожности, Агнеш перебегала из одного помещения в другое. Не было видно ни кож, ни бочек с дубильными материалами, ни мехов — ничего. Снова подбежала к телефону! Но телефон не отвечал. Уже одиннадцать часов, и его, наверное, выключили.
Девушка в ужасе выбежала в переднее помещение. Вот дверь туалетной, а вот и массивная дверь с решеткой. Теперь уже совершенно отчетливо было видно с наружной стороны решетку и огромный замок.
«Я в заточении!» — мелькнула у нее мысль.
Опять подбежала к телефону. Но гудка все нет. Забыв обо всех других опасностях, она с ужасом стала понимать, что оказалась запертой за железной решеткой в пустом складе.
И вот она в плену.
Кто знает, когда откроют этот склад. Может быть, все вывезли на запад и до конца войны сюда никто не придет. Телефон не работает, выхода нет, разве только выброситься с верхнего этажа на улицу?..
Будет сиять солнце или бушевать гроза — ей все равно. Придет день или наступит ночь — ничто от этого не изменится. Теперь ей придется остаться здесь. Заболеет она, будет ранена осколком или, может быть, зажигательная бомба упадет на здание — все равно спасения нет, положение безвыходное.
Как долго можно прожить без пищи? Две недели? Три? А потом? Разве постучать в дверь, чтобы услышал дворник и выпустил ее? Но куда же ей потом идти? Или переждать день? А вдруг крестная придет? Или завтра заработает телефон? Все равно до завтрашнего утра она не в силах что-либо сделать. Уже за полночь, надо лечь и попытаться уснуть.
Агнеш насобирала в темноте обрезков тканей и мехов, бросила все это в угол и легла. Лежа на спине, она смотрела широко открытыми глазами в окно. Ракеты и снопы света вонзались в грозовое небо. Господи, только вчера вечером они играли в машину времени. Гадали, что будет через десять лет! Что будет завтра? Боже, что будет завтра?
Она сложила руки, но ни молиться, ни спать не могла.
Пробуждение
На потолке зияет трещина. Один конец ее как бы разветвляется и напоминает четыре пальца скелета.
Эта картина невольно привлекла внимание Агнеш; при виде этой костлявой руки она лишилась сна.
Утром внутри склада царит сумрак. Матовые стекла на окнах, заклеенные на случай бомбежек полосами коричневой бумаги, почти не пропускают света.
Теперь склад уже не кажется таким огромным. Но голые полки, пустые шкафы по-прежнему нагоняют жуть. Телефон продолжает безмолвствовать. Она пробует включить свет: лампочки не горят. А время идет, вот уже пятый день никто не приходит. И она больше не сомневается, что склад эвакуировали и, может быть, до самого конца войны не будут им пользоваться.
Первые два дня Агнеш в отчаянии не знала, что ей делать. Броситься на дверь, застучать кулаками и позвать на помощь или сидеть тихо? Ведь более укромного места ей все равно на найти. Примерно в десять часов утра и одиннадцать часов вечера, как правило, начинали выть сирены. В такую пору в ней пробуждался инстинкт самосохранения, она обливалась холодным потом, от страха начинали стучать зубы, а в животе появлялась какая-то боль. Затем сирены оповещали отбой, и Агнеш, блуждая по складу, продолжала свои поиски среди пустых коробок, валявшихся на полу газет, обрезков меха, досок. На одном из прилавков она обнаружила буханку хлеба и кусочек сала. Кто-то начал было есть, да так все и оставил. С жадностью набросилась девушка на это сокровище, сразу все съела. Еще в первый день ей удалось найти в переднем помещении жестяной бидон с протухшей на дне водой и неприкосновенный запас еды, заготовленный на случай, если в дом попадет бомба. В небольшом ящике из-под сахара оказались бинт и четырехдневный рацион военного времени. Она засмеялась. По обнаруженному свертку было видно, что его приготовила крестная; тут было испорченное варенье, несколько банок томатов, две банки мясных консервов, кулек сухой таргони[24] и сушеный чернослив. Это же пища! И не мало! Можно будет прожить несколько недель! Агнеш решила отказаться от всяких попыток к бегству. Ведь она хотела спрятаться, укрыться от бури. А разве ей найти убежище лучше этого?
В детстве она больше всего любила книгу о Робинзоне. Многие страницы заучивала наизусть, зачитывала их до дыр. Миллион раз создавала в своем воображении, мысленно рисовала картину гибели корабля. Вот утихает буря, и выброшенный волнами на берег Робинзон приходит в себя. Он осматривается вокруг на неизвестной земле, взбирается на скалистую гору и смотрит вниз. Во все стороны простирается море, безграничное сердитое море, — значит, он очутился на острове. И Робинзон восклицает: «Я сам этого хотел!»
Эти воспоминания далекого детства согревали сердце Агнеш. Вот и она оказалась на заброшенном острове, вокруг бушует ураган, но у нее хватит сил дождаться конца.
— Я сама этого хотела! — произносит она вслух и окончательно решает остаться здесь и позаботиться об удобствах. Правда, долго ей не придется ждать, каких-то несколько дней, в худшем случае одну-две недели.
Первые дни прошли в методическом обследовании помещений. Эта работа отвлекала и увлекала девушку. Агнеш снова и снова обшаривала все закутки склада, старалась запомнить, куда ведет та или иная дверь. В письменном столе Агнеш нашла бумагу, карандаш и составила план своего жилища. В большую четырехугольную переднюю выходило пять дверей. Самые большие, зарешеченные двери вели в коридор. Сквозь матовое стекло в филенках, забранное очень густой решеткой, нельзя было разглядеть, что делалось во дворе. На стекле виднелась надпись, сделанная большими буквами: «Вдова Гашпара Кинчеша, урожденная Юлианна Шомоди, кожевенные, текстильные изделия, седла, военное обмундирование». Дверь напротив вела в контору, а соседняя дверь — в туалетную. С правой стороны было еще две двери: одна — в меховое отделение, другая — в красильное. Из конторы, не заходя в переднюю, можно было попасть в другие помещения. Меховой склад состоял примерно из пяти разных по величине комнат. Здесь, разумеется, хранили не только тюки мехов, но и сукна, и ткани, и готовое платье, и кожаные пальто. И, несмотря на то, что сейчас склад пустовал, все же чувствовался запах нафталина и дубленой кожи. В помещениях тянулись ряды пустых полок, прилавки, стояли высокие стеллажи, между которыми были протянуты шесты, увешанные деревянными плечиками.
Три дня она занималась «освоением» склада, составлением плана и распорядка дня. Записала по пунктам все то, что предстояло сделать в ближайшее время: сплести канат из коротеньких кусочков шпагата, чтобы в случае пожара или прямого попадания бомбы можно было спуститься на улицу. Устроить постель из кусочков меха и сукна. И, безопасности ради, приготовить себе тайник и тщательно замаскировать его мешками.
Пока Агнеш составляла план работы и трудилась над его выполнением — плела канат и сшивала кусочки сукна, перебирала сливы, — заточение ее перестало быть таким тягостным. Увлеченная работой, она поняла, что ее судьба зависит от нее самой, от ее выдержки и силы воли.
Но на третий день все дела были закончены. И тогда она впервые подумала, чем же ей заниматься здесь дальше, если понадобится скрываться еще три, пять, десять дней, а может, и больше? Кроме «Подмененных голов», все прочитано, кругом ни живой души, не с кем словом обмолвиться. Всю жизнь она испытывала отвращение к рукоделию, но если бы сейчас оказался под руками клубочек ниток! Она бы связала скатерть или шапку и каждый раз, закончив вязку, снова бы расплетала ее, чтобы, подобно Пенелопе, никогда не оставаться без дела.
Дни уже начинали путаться в памяти. Когда же она пришла сюда? Во вторник или среду? Сколько же раз спала с тех пор? Неужто сильная бомбежка была позавчера? Следовало бы завести дневник и все записывать в нем. Зачем? А затем, чтоб вести счет времени. Жить вне времени, вне пространства — это все равно что сойти с ума. Но что же ей здесь делать? Стоит мысленно взглянуть на прожитые годы, чтобы убедиться, что она всегда была очень деятельна. В детстве она собирала вокруг себя соседских детей, организовывала игры, учила гонять колесо. Мать не терпела безделья, и Агнеш привыкла постоянно над чем-нибудь трудиться. Однажды, когда ей исполнилось тринадцать лет, дядя пригласил ее приехать к нему на каникулы. Она могла бы целыми днями валяться в саду. Однако Агнеш то и дело бегала к тете на кухню и спрашивала, чем ей заняться. «Ничем. Отдыхай в свое удовольствие», — отвечала та. «Но какой же это отдых?» — с отчаянием в голосе возражала ей Агнеш.
До сих пор дни казались ей короткими; возвращаясь с работы домой, она не знала, за что взяться в первую очередь. Заняться ли итальянским языком, почитать немного или заштопать чулки? А вот теперь ее прежнее усердие выглядело каким-то ненужным, несерьезным. Разве ради того она бегала в школу, училась, старалась, чтобы скрываться здесь, в складе, чтобы минуты и часы ее жизни проходили даром?
Она присела на корточки возле окна. Сквозь матовое стекло чуть виднелась улица. Там, внизу, двигались маленькие человечки. Жизнь по-прежнему шла вперед. Неужто ничто не изменится и после ее смерти? Точно так же будут открывать по утрам магазины, дети будут учить в школе грамматику и таблицу умножения?.. Никто ее не хватится, никто о ней не вспомнит? Зачем ей нужны были все эти знания? Сколько мучений пришлось перетерпеть, пока она научилась извлекать корни, как ее бросало в пот, когда Кепеш вызывал к доске и она не могла решить примера… Зачем нужна жизнь? И каков смысл в том, что она родилась на свет? Какая разница: умереть от дифтерии в четырехлетием возрасте или погибнуть сейчас, в двадцать два года? После смерти ей будет совершенно безразлично…
Вспомнились строки из Мадача: «Все живое в равной мере живет долго, будь то столетнее дерево или однодневная букашка. Все ощущает, радуется, любит и погибает, когда дни сочтены и желания исполнены… Не тревожься, ты тоже выполнишь свое предназначенье…» Насколько иначе воспринимается «Трагедия» сейчас по сравнению с тем, когда они, четырнадцатилетние девчонки, изучали ее в школе.
«Не тревожься, ты тоже выполнишь свое предназначенье…» Но в чем мое предназначенье? Неужто я обречена на то, чтобы размышлять здесь о жизни и смерти? Ведь от этого можно сойти с ума.
Нет, надо поступать иначе. Я повторю про себя все, что когда-либо учила наизусть: первую песню «Толди», «Призыв», пункты Золотой Буллы, спряжение глаголов «être» и «avoir»[25], вспомню обо всем, что произошло со мной по сей день, так, будто все это я рассказываю Тибору. Не желаю сходить с ума от одиночества и безделья. Надо воскресить в памяти хорошие, веселые стихи, песни Гейне и любовные стихотворения Чоконаи. «Терзаюсь я огнем любви необычайной; тебе лишь исцелить меня, цветочек алый… любовью страстной…» Она запнулась и тут же заулыбалась от радости, что вспомнила третью строфу: «Прелестный блеск очей твоих — как свет зари живой…»
На улице заревели сирены.
Вода
А дни уходят в небытие.
На смену утру приходит вечер, на улице грохочут трамваи, кричат продавцы газет, но ничего нельзя разобрать. Между тем ей очень хочется услышать хоть одну весточку, хоть одно слово, хоть намек на то, где проходит фронт, сколько еще будет продолжаться заточение. Поначалу любая мысль причиняла ей боль: как там родители, что они думают о ней, догадываются ли, что она где-то прячется? Что случилось с Ферко и Карчи? Ищут ли ее из конторы? А что с Тибором, где он скитается сейчас? Агнеш ощущает на сердце лишь томительную тяжесть, она часами просиживает, не двигаясь и даже не замечая, как по лицу ее текут слезы. Перестала думать, живет в каком-то забытьи, из которого ее выводит только страх от рева сирен.
Сегодня она записала в дневнике тридцатый день. Вчера кончился чернослив. Что будет, если кончится все? Впрочем, она и так почти ничего не ест.
Половина десятого утра. Она знает это не по часам, а по биению охваченного ужасом сердца. Подобно тому как зверь предчувствует опасность, так и она чувствует приближение воздушной тревоги. Каждый день дает себе обет не бояться, обещает сегодня быть храброй. Ведь американцы бомбят не город, в нем нет никаких военных объектов… И потом не все ли равно, боится она или нет… Она пытается найти успокоение в молитве, но пока машинально твердит «Отче наш», уши ее улавливают далекий гул, колокольный звон, звуки радио, вой сирен. И действительно, откуда-то издалека сначала доносится какое-то жужжание, как будто приближается туча комаров, затем гул все усиливается и усиливается, пока наконец во всю мощь не начинают реветь сирены, повергая в ужас все живое. Спасайтесь, люди! Дрожат оконные стекла, гудит земля, совсем близко слышится гул самолетов — боже, сжалься, пощади…
Налет длится полтора часа. Полтора часа — это девяносто минут, девяносто минут — пять тысяч четыреста секунд… И каждая секунда — это кошмар. Как все это вынести? И сколько таких налетов еще придется пережить?
Неплохо было бы попить воды.
Во время налета Агнеш не осмеливается ходить по складу. В такую пору в доме воцаряется тишина, все жильцы прячутся в убежище, только дежурные ПВО стоят на своих постах. Они могут услышать даже малейший шорох. Поэтому после отбоя приходится ждать еще несколько минут, пока в доме начнется обычная жизнь.
Как жарко. Прошлым летом она каждый день купалась в бассейне. Ой, как было приятно плавать! Медленно, на цыпочках Агнеш направляется в туалетную. Из крана вода не течет. Что это? Воды нет.
Через полчаса она снова приходит в туалетную. Воды опять нет. Никогда еще ее так не мучила жажда. Во рту пересохло, даже глотать трудно. И бидон стоит пустой! Почему она не подумала о нем раньше!
В пять часов пополудни воды все нет. Вечером — тоже нет, ночью — тоже.
Сколько дней можно прожить без воды? Наверное, с неделю.
В следующий день Агнеш съела ложку варенья. От сладкого, густого варенья жажда мучает еще сильнее. Хоть бы глоток воды остался в бидоне, пусть хоть самой затхлой! Глоток воды! И она ни о чем больше не думает, только о воде. Ей вспоминается источник, свежий, серебристый, прохладный источник на склоне поросшей густым лесом Пренченской горы. Какая-то старая словачка в темно-синем платке, опустившись на колени, пила воду прямо из источника. Вода текла у нее по подбородку. Рядом со старухой, пока она утоляла жажду, лежала палка и корзинка с земляникой. То была сказочная картина. Агнеш, девочка четырех-пяти лет, задыхаясь от волнения, подбежала к словачке и закричала: «Бабушка, не пейте воду из источника, а то превратитесь в козулю».
А если бы она и впрямь могла превратиться в козулю, стать волком, окаменеть, умереть от стакана воды, разве отказалась бы сейчас его выпить?
Два дня Агнеш не пила воды. Теперь через каждые пять минут она бегает к крану. Ждет не дождется, когда наконец зашумит в трубах вода. Иногда ей кажется, будто на конце крана поблескивает капля, но нет. Вода не появляется.
Идя в туалетную, она вдруг услышала странный шум. Что-то щелкнуло. Агнеш отпрянула назад и прислушалась. Тихо. Она собралась было уже сделать шаг вперед, как снова послышался тот же звук. Только теперь девушка поняла, что это за шум. Кто-то старался проникнуть в склад. На дверной решетке пришли в движение замки. Кто это может быть? Что ее ждет? В последнюю минуту она быстро шмыгнула назад в конторку и остановилась за дверью, навалившись на нее всем телом. Может быть, лучше спрятаться за стеллажом? Но могут услышать шаги, и к тому же у нее нет сил отойти от двери. Агнеш забивается в угол, прижимается к стенке, опирается о нее ладонями и ждет. В переднем помещении темно. Вошедшие мужчины ищут выключатель. Сердце у Агнеш так бешено бьется, что она боится, как бы не потерять сознание. Одного мужчину она узнает — это дворник. Другой ей незнаком.
— Ах, да, господин начальник, ведь электричество выключено.
— Спички есть?
— Я и в темноте найду бидон… вот он.
Дворник, не оглядываясь по сторонам, направился к жестяному бидону и сунул в него руку.
— Пустой.
— Я так и думал. Бандюги этакие. Я буду на них жаловаться. А вдруг пожар? Или еще неделю не будет воды? Военное предприятие — и без запасов воды!
— Но ведь склад эвакуирован, — робко заметил дворник, в годовом бюджете которого значительную статью дохода составляли те сто пенге, которые он получал от Кинчешей в день Нового года.
— За ними числится этот склад или нет?
— За ними.
— Вот об этом и речь. А бидон мы конфискуем, — решил строгий начальник. — Отнесите его ко мне на квартиру.
— Слушаюсь, — равнодушно ответил дворник. Минуту назад он тоже подумал было, что неплохо бы прихватить этот бидон и снести его к себе домой. Правда, у них уже было целых четыре бака для стирки, но в последнее время дворником овладела какая-то страсть к стяжательству. В глубине дровяного склада он уже успел припрятать реквизированные в еврейских квартирах гардины, белье, фарфоровую посуду и даже полный комплект оборудования для зубоврачебного кабинета. В субботу вечером пришлось пожертвовать несколько ценных книг в добротном переплете, чтобы согреть воду для ванны.
— Склад совершенно пуст? — поинтересовался начальник и сделал несколько шагов вглубь переднего помещения. Агнеш даже дышать перестала от страха. Она, подобно страусу, закрыла глаза в надежде, что если не будет смотреть, то, может, ее не заметят. Что она станет делать, если они заглянут сюда? Пожалуй, не мешало бы все-таки спрятаться. Куда там, у нее нет никаких сил двигаться.
— Конечно, пустой. Гвоздя — и того не найти. При мне запирали дверь.
— Ну, ладно, пошли. Но черт его знает, что будет с этой проклятой водой. Даже пива не продают.
Мужчины направились к выходу, дворник потащил за собой бидон. Снова закрылась решетка, щелкнули замки. Агнеш подождала немного, затем глубоко вздохнула, перекрестилась и, медленно ступая, осторожно приблизилась к коридорной двери, прижалась лицом к стеклу и попыталась разглядеть, что делается во дворе. До нее временами доносился шум, плакал какой-то мальчик, выслушивая грозные поучения матери. Вот что-то со звоном упало, наверное, тарелка. Где-то истошно выла собака. По ту сторону двери жизнь шла своим чередом, но увидеть ничего не удавалось.
Стало быть, воды нигде нет. Значит, бомба попала в водонапорную станцию или в главный водопровод. Одним словом, правительство обязано принять все меры, чтобы в срочном порядке устранить последствия бомбежки. Да, но что значит «срочно»? В конечном счете населению неделю-другую придется пользоваться кипяченой дунайской водой, и пока не иссякли запасы минеральной воды, вина, пива, соков, молока и имеются свежие фрукты… Но я. сколько я смогу вытерпеть? Разве не лучше было бы, если бы меня обнаружили, отдали в полицию, как дезертира с военного завода?.. Пусть будет что угодно, только не эта ужасная медленная смерть. Лягу и буду лежать неподвижно, может, так дольше вытерплю… Нет, я должна каждую минуту бегать к крану, должна не прозевать воду. Ведь вполне возможно, что воду экономят и будут давать только полчаса, если вообще будут давать. Что мне делать, господи, что мне делать? Какой смысл, что я вытерпела тридцать один день, раз теперь приходится погибать от жажды?
Агнеш вернулась в конторку. Под письменным столом лежал свернутый матрац, сшитый ею из кусочков меха и сукна. Она развернула его, разостлала на полу и легла. В конторке был душный, пыльный воздух. Агнеш легла на спину. Видневшаяся на потолке рука скелета, казалось, о чем-то сердито предупреждала! Глупо! До чего же глупо я поступила! И как-то сразу все ее поступки представились ей смешными и непонятными. Не удержала язык за зубами, и на нее донесли. Чем бы все это кончилось? Очевидно, ее интернировали бы. Ну и пусть бы интернировали. Пожалуй, так было бы лучше. В концентрационном лагере по крайней мере дают есть, пить, а может, и посетителей пускают. Она смогла бы говорить с людьми. Когда-нибудь ее все равно выпустили бы на свободу. А здесь? Отсюда ей не выбраться до конца войны. Срок удостоверения, выданного на военном заводе, истек.
Да, если бы она даже захотела, разве она может выйти отсюда? Кто знает, будут ли проходить мимо люди? А когда кончится война? Может быть, никогда. Разве не было в истории столетней войны? Два года американцы и англичане оттягивали высадку на континенте, и у Шербурга тоже не станут спешить с наступлением… С каких пор они находятся в Италии! Кто знает, может, их уже отбросили назад? А русские? Где они? Может, и их оттеснили? Но почему же тогда участились воздушные налеты? Жаль, что она не может слушать последние известия. Известия? Да зачем ей теперь известия? Ведь в висках стучит, кружится голова, ее тошнит, в горле горит, во рту сухо, от жажды хочется плакать. Немного воды, только глоток воды…
Теперь уже она знает, что ощущает путешественник в пустыне… Неужто она сошла с ума от жажды? Может, ей только показалось, что сюда приходили двое каких-то мужчин?
Собственно говоря, зачем ей ждать, пока она совсем ослабеет, мучительная смерть может тянуться много дней. Сейчас, пока у нее еще есть силы, сейчас надо умирать.
Агнеш продолжала лежать на своей меховой подстилке, не в состоянии представить, что же такое смерть. Выбить окно и выброситься вниз. Какой-то миг она будет еще ощущать движение, солнечное сияние, воздух. Какой-то миг будет лететь с распростертыми руками — так, как последователь Икара, а потом конец…
Как-то раз Тибор рассказывал ей о какой-то книге, она уже не помнит ее названия. Там говорилось об одном мосте, перекинутом над стремительно мчащейся по ущелью рекой. Когда по этому мосту проходили четыре или пять человек, он обрушился. Об этих погибших людях и повествует книга, о людях, которым надлежало погибнуть именно здесь, так как у них уже не было ни целей, ни желаний… В детстве Агнеш тоже думала, что человек живет на земле до тех пор, пока у него есть дело. Поэты напишут все свои стихи, а затем умирают…
Неужели пришел конец и ее жизни? Неужели больше нет у нее никаких желаний?
Она смотрит на потолок, на костяные пальцы. Да, у нее нет никаких желаний.
На руке громко отсчитывают минуты ее часы. Если долго слушать с закрытыми глазами, монотонное тикание одурманивает, усыпляет. И Агнеш впадает в забытье, она уже не слышит тикания часов. До ее слуха доносится какая-то тихая, печальная мелодия, очень знакомая, очень грустная мелодия. В памяти воскресают эпизоды прошлого. В саду Карой среди милых деревьев выстроились ряды удобных стульев, на возвышении расположился оркестр, перед которым, согнувшись над партитурой, стоит Тибор. Он что-то объясняет и показывает, случайно касаясь ее руки. Оркестр играет эту мелодию. Вторую часть «Симфонии Судьбы».
О, сколько в мире красоты! Разве можно добровольно отказаться от жизни? Может быть, через минуту пойдет вода. В бесконечном пространстве и в бесконечном времени она уже нигде и никогда не сможет начать свою жизнь снова. Больной, страдающий неизлечимым раком, и тот хочет жить. Слепой и калека тоже цепляются за жизнь. Жизнь надо любить и бороться за нее. Сейчас шесть часов вечера. Через час она опять пойдет в туалетную, может, к тому времени дадут воду.
Не двигаясь, Агнеш следит за передвижением стрелок на часах. Наконец быстрые секунды и медленные минуты проходят. Семь часов. Число семь приносит счастье, мелькнуло у нее в голове. Она медленно бредет в туалетную. С каждым шагом сердце, кажется, готово вырваться из груди. Слабость вынуждает ее опираться о стену. Глотка, язык горят… Дрожащими руками она открывает кран.
Воды нет.
Капитан Карл Таймер
КАС — Команда аэродромного строительства — заняла все имение в Фаркашпусте. В апартаментах бежавшей на запад графини поселились два молодых инженер-лейтенанта, которые в поисках развлечений хватали по ночам попадавшихся на глаза девушек, наряжали их в длинные хозяйские ночные рубашки и ложились вместе с ними на кружевные подушки.
Ротная канцелярия была размещена в сводчатой столовой; тут целыми днями сидел в удобном, сбитом бордовым бархатом кресле под двумя чучелами муфлонов с кривыми рогами и грустными глазами главный начальник по рапортам и денежному содержанию вольноопределяющийся сержант Тамаш Перц.
Кабинет старшего лейтенанта Тибора Кеменеша помещался на втором этаже охотничьего особняка. Просторная комната с двумя окнами, тяжелые плюшевые шторы, старомодный кожаный диван, два темных полированных шкафа. Над стойкой белого эмалированного умывальника висела в коричневой рамке икона, а над широкой кроватью гравюра, изображающая тело юного короля Лайоша, найденное в реке Челе. В центре комнаты среди громоздкой мебели стоял изящный круглый столик в стиле ампир, как бы говоря о том, что до переезда сюда КАС здесь побывали другие военные подразделения, которые переоборудовали охотничий особняк на свой вкус. Да и сам Тибор кое-что изменил в комнате. Выбросил стройные, бледно-розовые гладиолусы и гордые тюльпаны и вместо них расставил на этажерках книги. Цветы уступили место тяжеловесному юмору Рабле и горькой сатире Вольтера. Изящный серебряный канделябр с ночного столика старший лейтенант Кеменеш забросил под умывальник, а на его месте соорудил для чтения лампу из карманных фонарей. На ночной тумбочке рядом с полупустой бутылкой джина валялась книга Шоу «Человек и сверхчеловек». Свою саблю Тибор вешал над умывальником, на котором стояла рамка иконы, а шинель — на огромные оленьи рога, которые красовались над диваном.
Из окна открывался вид на тенистый парк. По всему парку пестрели георгины, розы с нежными лепестками, сочные гвоздики; зеленые ветки лип купались в потоках августовского солнца. А чуть дальше за деревьями расстилалось зеленым ковром поле. По этому полю в соответствии с мудрыми инженерными планами сотни рабов, именуемых рабочими ротами, таскали цемент, копали рвы, засыпали ямы, суетились, бегали взад и вперед, но их видимое старание не приносило никаких ощутимых плодов. С начала лета была проложена одна только широкая грейдерная дорога, связавшая луг с ближайшим осинником. Она предназначалась для того, чтобы по ней можно было загонять самолеты в лес и хранить их там в укрытиях, замаскированных ветками и дерном. Дорога была видна издалека.
— Скоты, — выругался Тибор Кеменеш, глядя из окна на светло-желтую полоску дороги. — Не успели еще построить аэродром, не приняли ни одного самолета, а уже умудрились соорудить нечто такое, что сразу же бросится в глаза вражеским разведчикам. Взлетим мы в воздух, да так, что и косточек не соберут.
— Тем более опасно, что в понедельник утром прибывает эскадрилья истребителей.
— Откуда ты взял?
Тамаш Перц сидел у окна и играл пустой кофейной чашкой; он вращал ее в руках, подбрасывал вверх и на лету подхватывал за ручку.
— Ходят слухи. А слухи, как известно, доходят на сорок восемь часов раньше телеграмм.
— Поживем — увидим, — сказал Тибор.
Тамаш промолчал. Он посмотрел на кровать, на которой валялось помятое, грязное полотенце, как только что вернувшийся домой пьянчужка. Старший лейтенант Кеменеш умел в одну минуту создать в комнате полный ералаш.
— Собственно говоря, это последний раз, — сказал он наконец.
— Ты опять о своем?
Тамаш поставил чашку и встал.
— Я больше не могу оставаться здесь. Понимаешь, не могу.
Левой ладонью он пригладил волосы и широкими шагами заходил по комнате.
— Не желаю подыхать здесь, смотреть с утра до вечера на этот позор, на это проклятое, забытое богом… Знаешь, что сегодня придумали жандармы? Перед тем как выгнать рабочих в лес, приказали уложить все вещи в рюкзаки. Во дворе велели рабочим сложить рюкзаки в кучу, а их самих выстроили в шеренги по десять человек так плотно друг к другу, что тем не только шевельнуться — вздохнуть нельзя было. Затем жандармы обшарили рюкзаки и все, что там было: часы, деньги, книги, чулки, лекарства, — «конфисковали» и приступили к обыску людей. У кого находили больше двадцати пенге, кольцо или другую какую ценность, того подвешивали, у кого же обнаруживали еду, того избивали. А наши обожаемые господа офицеры, лейтенант Лекеши и фенрих Пайор, только стояли и смотрели, как представитель КАС, эта старая скотина майор Фюлеки, моет руки, но… как видно, тебе это тоже неинтересно.
— Сожалею, Тамаш. Ты прав. Но что я могу поделать? Рабочие мне не подчинены. Ты ведь знаешь, что я и так подписываю увольнительных больше, чем можно. Участвовать же в войне я не намерен. Не я объявил войну, и мне нет до нее никакого дела.
— Тем не менее мы ей содействуем.
— Позволь. Меньше нашего, право, не сделаешь в интересах Гитлера. Сегодня, например, я весь день читал историю Джона Таннера и пил джин. Тебя устроил в канцелярии, и, как мне известно, ты тоже не утруждаешь себя лишней работой.
— Но против нее… против войны мы ничего не предпринимаем. Позор и стыд, что сейчас, в последние часы, мы… Ведь румыны сложили оружие и объявили войну нацистам, итальянцы, болгары, поляки — все борются против Гитлера. Словакия полна партизан, во Франции сражаются маки́… А здесь, на этом паршивом аэродроме… здесь нельзя ничего сделать.
— А что ты будешь делать в Будапеште?
— Не знаю. Только бы сбросить форму…
— Что касается меня, то я остаюсь. Хорошая комната, здоровый воздух, вкусная пища, книги — что еще человеку надо? Девушки в этих краях тоже не так плохи. Кстати, следовало бы написать письмо крошке Чаплар. Многие месяцы она что-то не отвечает, как видно, обиделась. Хочешь ей написать?
— Что? Ах, да, написать письмо Агнеш? Если ты не возражаешь.
— Она не моя частная собственность, хотя, очевидно, совсем не прочь стать таковой. Каждый раз, читая о судьбе моего дружка Джона Таннера, я начинаю понимать, как хочется этим маленьким обезьянам выйти замуж. Приглашая нас на ужин, они готовы смазать клеем стул, чтоб мы не могли встать и уйти. Предлагая помочь им перемотать нитки, они готовы связать нас по рукам и ногам…
— Послушай, кто-то стучит.
— Кто там? — повернулся Тибор к двери.
— Покорнейше докладываю…
В дверях показался худой, усатый крестьянский парень с дубленым лицом. Он был туго перехвачен ремнем, и верхняя часть просторного кителя, казалось, была надута воздухом.
— Ну, что там, Швейк?
Денщик получил это литературное прозвище от Тибора; настоящее же имя этого парня, уроженца села Дерсентиван, сына зажиточного хозяина и горничной Анны Такач, было Сильвестер Такач. Кеменешу он попался на призывном пункте в Надькате, где служил денщиком у одного старшего лейтенанта — артиллериста, по фамилии Гици. «Ненавижу эту морду! — сказал как-то Гици. — Посмотришь — одно смирение и покорность, но до чего медлительный, сонный, мечтательный. Мне кажется, он охотнее всего занялся бы философией. Книги читает тайком». «Дай его мне», — попросил Тибор. «С величайшим удовольствием».
Швейк равнодушно принял к сведению, что с завтрашнего дня ему придется чистить другие сапоги. Что касается книг, то старший лейтенант Гици ошибался. Швейк никогда их не читал. Но зато выражал свое суждение о происходящих событиях. По вечерам он подолгу беседовал с другим денщиком. «Не армейский человек, этот старший лейтенант Кеменеш. Вот Гици — тот настоящий военный. Правда, груб, скотина, но зато какой солдат! Бывало как закричит — снаряды дрожат от страха. А какой артиллерист! За три километра попадал в ворону на церковной колокольне. И мне бывало говаривал: «Повезло тебе, сукин сын, что служишь у старшего лейтенанта — артиллериста, артиллерист — все равно что огненная молния, от него весь мир дрожит. Он, пожалуй, страшнее грома небесного…» А этот Кеменеш разговаривает, как простой цивильный. Будьте любезны, подайте то, возьмите это. Без меня не отыщет даже своего патронташа».
— Покорнейше докладываю, господин старший лейтенант, — забормотал Швейк, затем на полуслове осекся и заморгал глазами.
— Ну, что там?
— Беда, господин старший лейтенант. Из канцелярии сообщили, что прилетают «Мессеры», и велели сегодня до восьми вечера освободить охотничий особняк. Господину старшему лейтенанту придется искать квартиру в другом месте.
— Что такое? Ты с ума сошел? Кто приказал?
— Покорнейше докладываю, приходил какой-то немецкий сержант.
— Почему вы его не вышвырнули?
— Покорнейше докладываю, в канцелярии никого не было, кто мог бы его вышвырнуть. Майор Фюлеки уехал в Будапешт, господин старший лейтенант Кеменеш находятся здесь, а господа фенрих Пайор и лейтенант Лекеши пребывают в неизвестном месте.
— Ну, ступай к черту и не мешай нам.
— Слушаюсь. Но…
— Швейк!
— Но сержант еще не ушел, он сидит в канцелярии и ждет.
— Пошли его к дьяволу. Ступай!
— Погоди. Я сам схожу и попробую уладить это дело миром, — сказал Тамаш Перц, поправляя китель.
— Могу быть свободным, господин старший лейтенант?
Тибор Кеменеш громко рассмеялся и в ответ только кивнул головой.
Через десять минут Тамаш вернулся.
— Старина, действительно произошла беда. Ты единственный на горизонте офицер, вот и командуй.
— В чем дело?
— Вот приказ. До восьми часов вечера передать охотничий особняк. Командование уступило.
— Вот здорово. Сейчас шесть часов. Куда мы пойдем?
— Леший его знает. Канцелярию можно перевести в барак, Пайор переедет в город. А тебе организуем комнату у управляющего.
— Черт побери. Так пусть немец идет к управляющему.
— Если бы ты был сыном господствующей нации, ты бы тоже не уступил.
— А что они мне сделают, если я не уйду отсюда?
— Все в их руках. На Украине в таких случаях применяли оружие. Думаю, что, поскольку мы как-никак у себя дома, тебя отдадут под суд военного трибунала.
— Не люблю я военных трибуналов. Вообще не люблю треволнений. Но выезжать отсюда тоже не желаю. Может, и среди них найдется хоть один порядочный человек, который поймет меня.
Тамаш посмотрел на часы.
— В нашем распоряжении час сорок пять минут. Пора приступать.
— Они прислали какую-нибудь бумагу?
— У тебя под руками приказ. Я положил его на стол.
Тибор пробежал глазами по листку бумаги с машинописным текстом. Затем вдруг с удивлением уставился в него и разразился неудержимым смехом.
— Ты что, с ума спятил?
— Томи, знаешь, кто командует «Мессерами»? Боже мой! Карл! После сдачи экзаменов на аттестат зрелости я потерял его из виду. В гимназии мы сидели с ним за одной партой. Это он познакомил меня с Лизли. Он самый скромный парень в мире. Писал стихи, представляешь, писал стихи! Посмотри!
Тибор снял с цветочной подставки, заменявшей книжную полку, томик Шиллера и открыл первую страницу. Красивым, каллиграфическим почерком синими чернилами там было написано: «Услышав пенье, ты на колени стань, ведь людям злым петь не дано… На память от твоего верного друга Карла Таймера, Вена, 3.6.1937».
— Вот это сюрприз! — произнес Тамаш и точно так же уставился в книгу, как только что Тибор глядел на приказ. — Ты уверен, что это он?
— На девяносто девять процентов. Летчики — народ молодой, а Карлу сейчас двадцать пять лет. Он всегда обожал авиацию. Особенно любил мечтать о звездах. Даже в стихотворении писал что-то в этом роде, дескать, поэзия — это желание души подняться, оторваться от земли… Ведь Пегаса именно поэтому и изображают с крыльями. Еще что-то было в этом его длинном-предлинном стихотворении, но я уже не помню. Да и фамилия у него довольно редкая. Карл Таймер… конечно, это Карл.
— Но приказ есть приказ.
— Полноте, не шути. «Мессеры» потребовали разместить определенное количество персонала, в ответ на что наши скоты, сидящие в Римасобате или Будапеште, не подумав, издали приказ, чтобы мы освободили это помещение. Я все улажу с Карлом.
— Тибор, не делай глупостей. Даже если Таймер твой друг, то сейчас он капитан истребительной авиации. Люди меняются.
— Скорее мир разлетится на куски, все изменится, а Карл останется прежним. Более твердого характера я не встречал. Как-то в седьмом классе он обидел одного паренька. Потом очень пожалел и заявил, что готов искупить свою вину любой ценой. Паренек в шутку возьми и скажи, чтобы тот три дня молчал как рыба. Приходим мы на урок химии, все уже давно забыли о случившемся. Учитель вызывает Карли отвечать, но он даже рта не раскрывает. Учитель кричит, спрашивает: «Вы что, Таймер, с ума сошли?» Ставит ему кол. Карли молчит. Идем домой. Он молчит. Дома родители в ужасе теряют рассудок. Он молчит. Вечером мы приходим к нему. Брось, мол, глупить, Карл. Он молчит. Три дня молчал, стоически молчал, как немой витязь. Его таскали к врачам, ставили одну единицу за другой — ни на что не реагировал. На четвертый день явился отвечать по химии. «Что с вами произошло?» — спрашивает учитель. «На это я не могу вам ответить!» Вот какой парень этот Карл. А как он ненавидел Гитлера! Затевал драки с нацистами. Старина, если сюда придет Карли, можно будет устроить хоть партизанский лагерь. И ты, если тебе нечего будет делать, сможешь поджигать самолеты.
Тамаш только молча качал головой.
— Ты, старик, действительно Фома неверующий. Пошли в канцелярию, подождем немецкого шурина.
— Гибор, советую тебе, не перечь им.
— Сержант! Потребуйте от управляющего квартиру для немецкого офицера. Возьмите на учет все комнаты охотничьего особняка. Список я сам передам немцам. Их же прибывает не полк, а всего-навсего восемь офицеров. Авось, устроятся вместе с нами в особняке.
— Быть беде. Поверь мне.
— Можете уходить, сержант.
Тамаш сердито пожал плечами и вышел.
Тибор Кеменеш посмотрел на часы. В половине восьмого он еще успеет сходить в канцелярию. Какой глупец этот Тамаш, до чего же он испугался. Если бы они только знали, что за человек этот Карл! Два брата-близнеца не любят друг друга так, как они! Разве можно забыть проведенные в спорах ночи в крошечной студенческой комнатушке у Таймеров на Фаворитенштрассе! Забавные рассказы старика Таймера, который в очках, домашних туфлях и шлафроке постоянно сидел за своим столом и чинил часы. Пятнадцатилетняя сестренка Карла Гретл пела по вечерам песенки Шуберта, и брат аккомпанировал ей на рояле… Лизл, прогулки в Венском лесу, ночной банкет по случаю сдачи экзаменов на аттестат зрелости, а затем пирушка с ребятами в «Пратере». В полночь, когда все ушли, чтобы ознаменовать свое вступление в пору возмужалости чисто по-мужски, они остались вдвоем. Это была ночь расставания. Они говорили о дружбе. Мимо них по Рингу с грохотом пробегали трамваи, а они, наслаждаясь июньской ночью, спорили под сенью густых деревьев о жизни и смерти, делились мечтами и строили планы на будущее. Затем прогулялись по прекрасному Опер-Рингу и Кертнер-Рингу, оставили позади освещенные неоновыми огнями Мариахильферштрассе и Кертнерштрассе, и им казалось, что, кроме них, никого больше нет в этом огромном городе, а может быть, и во всем мире. Испытывали горячую радость за свою дружбу, за те узы, которые навеки связали их сердца. За ту дружбу, которая в восемнадцать лет чище, важнее и могущественнее всех других чувств. «Я буду поэтом… буду писать стихи о красоте…» «А я буду художником, поеду во Флоренцию». «Я никогда не забуду тебя, Тибор». «Я тоже всегда буду помнить о тебе, Карл».
Год спустя он послал Карлу из Флоренции альбом своих эскизов, а Карл подарил ему томик избранных стихотворений Шиллера «Услышав пенье…» Тибор снова посмотрел на знакомую надпись, а затем перевел взгляд на часы. Половина восьмого. Перед уходом в канцелярию он поправил на столе скатерть. Он обязательно пригласит Карла к себе на стаканчик джина.
Без четверти восемь явился сержант Тамаш Перц и по-уставному доложил о своем прибытии. Он передал Тибору список свободных помещений. Все комнаты приведены в надлежащий порядок, приготовлено свежее постельное белье. В охотничьем особняке оказалось семь незанятых комнат и две — у управляющего.
Без пяти восемь возле особняка остановились грузовики. С них соскочили четыре немецких солдата и бросились сгружать маленькие письменные столы, связки папок. Ровно в восемь часов на легковых машинах приехали и господа офицеры. Немецкий сержант доложил, что венгры не освободили охотничий особняк.
Капитан Карл Таймер и следом за ним еще четыре или пять офицеров быстро поднялись по лестнице на высокий второй этаж и ворвались в столовую.
Старший лейтенант Кеменеш сразу узнал своего друга — рослого, светловолосого мужчину с серыми глазами. По его виду никак нельзя было сказать, что позади осталось несколько часов езды на машине. Он был свежевыбрит, форма на нем сидела безупречно, без единой морщинки. Как и прежде, его взгляд излучал мужество и уверенность, но он заметно возмужал, стал более серьезным, мягкая голубизна глаз приобрела какую-то остроту, проникновенность.
— Карли! — воскликнул Тибор и, вскочив с места, бросился навстречу капитану.
По лицу Карла Таймера разлилась краска. Он узнал, конечно же, узнал своего друга. От радости и смущения, вызванных неожиданной встречей, он сделал шаг вперед, но тут же остановился, словно его кто-то одернул, и, сверкнув глазами, закусил губу.
— Вы здесь старший по чину офицер?
Распростертые руки Тибора опустились. Он вытянулся и застыл на месте, не в силах произнести ни слова.
— Почему вы не выполнили приказ? — не дожидаясь ответа, закричал Таймер.
Тибор Кеменеш, гордившийся своим цинизмом, умом, хитростью, сердцем, безучастным ко всяким сильным чувствам, вздрогнул, словно ему дали пощечину. Кровь отхлынула от головы, руки онемели, на душе стало противно и тяжело.
— Даю вам тридцать минут, — прорычал Карл Таймер, — через полчаса мы поговорим с вами в военном трибунале.
Он резко повернулся на каблуках и, сопровождаемый офицерами, громко стуча сапогами, вышел. До сознания Тибора только сейчас дошло, что у Карла вся грудь увешана орденами.
— Швейк! Провались он, весь этот мир! Где ты, свинья! Собирай и выноси из комнаты мои вещи.
— Куда, господин старший лейтенант?
— В сад, на аэродром, к черту на кулички…
— Сержант!
— Слушаюсь! — встал Тамаш.
— Через десять минут рабочие должны убрать отсюда весь этот мусор. Сожгите, делайте с ним, что хотите…
Швейк с двумя солдатами перевез на тачке вещи Тибора в дом управляющего. Тибор нагнал их в парке, отыскал в куче книг томик избранных стихотворений Шиллера и с размаху бросил в кусты.
— Да разразит его молния… Сержант, остаетесь за меня… Я пойду в город и напьюсь так, что… забодай его комар.
Швейк с восхищением слушал ругательства своего начальника.
— Ну и солдат же этот господин старший лейтенант Кеменеш! — с восторгом говорил он своим дружкам. — Будь он артиллеристом, наверняка с трех километров сшибал бы ворону с колокольни…
Воспитание
Прошел тридцать второй день.
Агнеш ежечасно наведывалась к водопроводному крану. Тяжелыми и утомительными казались ей эти несколько метров. В горле и во рту пересохло и жгло. Она с трудом проглатывала слюну, вздрагивая от боли, как после операции миндалин. Лишь с большим напряжением держала открытыми глаза, они болели, будто их кто-то засыпал песком. Руки дрожали, дыхание участилось, после каждого шага ее охватывало какое-то полуобморочное состояние. Она уже перестала надеяться, что когда-нибудь потечет вода. И тем не менее, входя в туалетную, каждый раз вертела кран, потом в полном отчаянии брела на свое место.
Агнеш устало погрузилась в дремоту, и после мучительных дум перед ней снова появилось лицо Тибора. Опять, опять и опять Тибор. И, лежа в полузабытьи на полу, она, который раз, сызнова переживала всю историю их знакомства.
Впервые она увидела Тибора после того, как уже проработала несколько недель в управлении Завода сельскохозяйственных машин. Он пришел к доктору Ремеру. Быстро шагая по большой комнате, юноша приветствовал на ходу Миклоша Кета и кивнул головой другим работникам.
— У нас новый коллега, — проговорил Кет и показал на Агнеш. Тибор был уже у двери, но тут же повернулся, подошел к старому письменному столу и низко поклонился. — Тибор Кеменеш.
— Поберегите свое сердце, барышня, — сказал Кет, когда Тибор вышел. — Кеменеш большой ловелас, многие девушки проливали уже по нему слезы.
— Благодарю вас, не беспокойтесь, — покраснев, ответила Агнеш. — Я не привыкла плакать из-за парней.
Не прошло и недели, а Агнеш стала с волнением думать о Тиборе Кеменеше. Все началось с того, что как-то раз пришло из Милана письмо на итальянском языке.
— Агнеш, вы знаете итальянский язык? — спросил Кет.
— Знаю.
— Будьте любезны, переведите.
Агнеш села к пишущей машинке, и до прихода старого Ремера приложенный к письму перевод лежал уже на его письменном столе. Довольный Император кивнул головой. До сих пор итальянскую корреспонденцию приходилось сперва пересылать в банк Кеменешу с просьбой не отказать в любезности и перевести. На это уходила половина дня. Агнеш даже согласилась переводить ответы на итальянский язык. Преисполненная гордости, она принималась за дело, ощущая на себе завистливый взгляд госпожи Геренчер. Кроме изучавшего японский язык Паланкаи, в конторе только госпожа Геренчер с грехом пополам разбиралась в некоторых иностранных языках. В полдень пришел Тибор Кеменеш и принес требование на девизу. Он зашел к Ремеру. Вскоре Император позвал к себе Агнеш.
— Приготовили итальянский перевод?
— Да, только начерно.
— Не беда, принесите. Тибор, сделайте милость, просмотрите, пожалуйста.
Агнеш покраснела, как вареный рак. Не только потому, что ее обижало недоверие доктора, но и от сознания, что недоверие уместно. После тридцати уроков не следовало браться за перевод.
— Отлично, — произнес Тибор, дочитав письмо. — Отлично. Без единой ошибки. Так безупречно писал один только Данте.
— Ну, тогда перепечатайте, — сказал, любезно улыбаясь, Император, — мы и впредь будем давать вам возможность проявлять свои языковые познания. С сегодняшнего дня я поручаю вам вести всю итальянскую переписку.
— С превеликой радостью, — произнесла Агнеш и с триумфом вернулась на свое место.
Несколько минут спустя к ней подошел Тибор.
— Барышня Агнеш, не угодно ли вам пройти со мной в приемную?
— Пожалуйста, — ответила удивленная Агнеш.
В приемной Тибор разразился громким смехом.
— Боже правый, милая Агнеш, как вы пишете? Знаете, кто говорит на таком итальянском языке? Неаполитанские поварихи, да и то не все, а только уроженки Греции. Погодите, я вырву листок из блокнота… О чем говорилось в венгерском тексте? Прежде всего не употребляйте форму «ты», ведь это же оскорбительно. Если полоумный дуче и упразднил вежливую форму обращения, мы должны и впредь пользоваться вместо «Voi» формой «Lei». Муссолини подохнет, a «Lei» и «Loro» будут жить еще тысячи лет после него. И не пишите «abbiamo ascoltato», ведь этот термин имеет совсем иное значение, чем «abbiamo sentito», не так ли? Если вы снова окажетесь в затруднении, немедленно звоните мне, я приду и помогу.
Агнеш с благодарностью улыбнулась.
— Право же… как мило… даже не знаю, зачем вы только мне помогли.
Тибор засмеялся. Но с каким юношеским задором, как лукаво, как приятно он умеет смеяться! Его серо-голубые глаза наполнились теплотой и нежностью, белые зубы блестели.
— Не стоит об этом говорить. Я люблю итальянский язык и никому не позволю над ним издеваться. К тому же я люблю таких милых девушек, с которыми можно поговорить и о более умных вещах, чем выставка весенних мод или танцы. Скажем, о хорошей книге или о красивой статуе.
Вот так все и началось. Агнеш с бьющимся сердцем ждала писем, и каждый раз при виде продолговатого синего конверта с надписью «Giacomo Bini е Fratello» и штемпеля миланской почты лицо ее озарялось счастьем, словно она получала любовное послание!
Иногда Тибор не мог прийти, в таком случае она сама бежала к нему на улицу Надора. В валютном отделе Тибор имел отдельную уютную комнатушку с большой картой мира на стене, круглым курительным столиком и двумя удобными креслами в углу. Здесь они усаживались и под предлогом перевода письма разговаривали о стихах и о желаниях, здесь радовались, что оба любят игривую музыку Моцарта. И, если Агнеш ни под каким видом не удавалось убежать из конторы в течение дня, они встречались на полчаса во время обеденного перерыва или после работы, и уроки итальянского языка постепенно сменились длинными прогулками, концертами и бессонными ночами. «Как же это я раньше жила и не знала Тибора?» — часто думала Агнеш. Тибора, который так непохож на других юношей, во всем разбирается, полон сил, веселья и насмешек, которому стоило сказать только слово, и Агнеш пошла бы за ним хоть на край света. Мелкие и незначительные предметы от его присутствия обретали жизнь. Какой-нибудь карандаш, которым он писал, книга, которую он перелистывал, становились для нее милыми и задушевными друзьями, молчаливыми свидетелями ее любви. Если строго взвесить, сколько нежности, сколько любви, сколько искренности она нашла в Тиборе, или сравнить, чего она испытала больше — радостей или печалей, желаний или разочарований, — то, пожалуй, картина была бы безотрадной. Но зачем взвешивать? Надо смотреть на любовь, как на миллионы сияющих лучей, миллионы проблесков радости, как на дорогие минуты.
А сколько незначительных воспоминаний! Как-то раз они случайно встретились на углу Банковской улицы. Тибор выходил из Национального банка, а она входила в него. Оба спешили. Остановились только на минутку. Тенистые каштаны в розовом цвету кивали ветками, небо было ясное, веселое, голубое. По проспекту Вильгельма шел какой-то мальчик лет семивосьми, белобрысый, чумазый, в сандалиях; он задумчиво грыз ногти. Тибор погладил мальчика по головке и неодобрительно сказал: «Малыш, не бери пальцы в рот». Мальчик оторопел, вынул пальцы изо рта, вытер их о штанишки и убежал. Они громко засмеялись, еще с минуту постояли под лучами майского солнца, затем пожали друг другу руки и пошли по своим делам. И вот эта глупая сценка тоже воскресла в ее памяти. Розовые кисти каштанов, солнце, мальчик… Голос Тибора, он здесь, он с нею в этом запертом складе, он, словно луч, проникает к ней сквозь заботы и горести.
Агнеш поднялась и, как сомнамбула, снова направилась к водопроводному крану. Воспоминания доставили столько радости, что, казалось, навеки пропал страх, не покидавший ее в часы бдения. Она повернула кран и вздрогнула. Желтая, ржавая вода, разлетаясь брызгами, с шумом вырвалась наружу. Теплая, грязная, ржавая вода.
Но то была вода.
Сотая ночь
Неужто мне больше туда не возвращаться?
— Нет, никогда.
— Неужто я свободна?
— Свободна.
— А вдруг все это мне только снится?
— Не снится.
— Клянешься?
— Клянусь.
В распахнутое окно врываются миллиарды лучей майского солнца, вливается аромат сирени. На туго натянутом бледно-голубом шелке неба нет ни одного пятнышка. На далеких крышах домов реют красные и белые знамена, всюду букеты цветов. Она в объятиях Тибора, голова невольно склоняется ему на плечо. А Тибор не перестает ласкать ее, целовать.
— Я так счастлива, — шепчет Агнеш.
— Я так счастлива, — отдается эхом в пустом зале.
Глубоко вздохнув, Агнеш протягивает окоченевшие ноги.
Нахмуренные глаза ее в первые мгновенья, часто мигая, пытаются найти оборвавшийся сон.
Нет никакого сомнения — это был сон: она все еще находится в заброшенном складе. Сквозь стекла огромного окна по полкам и стенам расползаются тонкие пучки света. Глухая ночь, город в ожидании воздушного налета.
Сотая ночь! Агнеш вздохнула, прижав к сердцу руки. Сотые сутки проводит она здесь, взаперти, всеми забытая, сотый раз видит сон, будто снова свободно ходит по улицам, сотый раз со страхом прислушивается к жуткой тишине, когда внезапно останавливаются трамваи.
Если бы она заранее знала, что пройдут не одна-две недели, а месяцы! Каждое утро Агнеш просыпалась с надеждой, что, «может быть, сегодня все изменится», а засыпала с думой о завтрашнем дне. Но чем больше дней она вычеркивала из своего календаря, тем путанее и непонятнее становился мир, тем меньше она верила в то, что когда-нибудь выберется отсюда. Она пришла сюда в начале июня, теперь середина сентября. Тогда был жаркий летний день, теперь довольно прохладная погода. Теплой одежды, пальто у нее нет, поэтому она целый день вынуждена сидеть, завернувшись в самодельное одеяло. Распорядок дня тоже нарушился. В пустых банках из-под томата и варенья она хранит воду и гораздо строже распределяет запасы продуктов. С середины августа пришлось довольствоваться несколькими пригоршнями сырой таргони, одной-двумя ложками варенья или томата. Сырое тесто ужасно невкусно, противно, прилипает к зубам, комком застревает в горле, но что поделаешь, другой еды нет. В конце августа несчастье усугубилось — запасы невкусной таргони быстро убывали. Десять дней назад Агнеш еще уменьшила дневной рацион: перешла на неполную горсть таргони и ложку варенья. Теперь продуктов хватит на более длительное время. Но этот рацион — голодная смерть. Даже если лежать без движения. Она отважилась наконец вскрыть ящик, найденный ею еще в первые дни за полкой. Ей давно хотелось посмотреть, что в нем есть, — она надеялась найти там пищу. Но боялась, что за ним могут прийти, а еще больше боялась разочароваться. Агнеш снова вспомнила Робинзона, который, найдя в затонувшем корабле слиток золота, отшвырнул его прочь. Что она станет делать, если в ящике окажутся драгоценности? Вдруг там серебро или отрезы шерсти?
Агнеш осторожно принялась вскрывать ящик. Сначала развернула верхнюю обертку. Делала она это медленно, бережно, чтобы не разорвать бумагу и оттянуть работу на более длительный срок. Ящик был заколочен гвоздями. Она вытаскивала их по одному ржавым костылем. Два дня продолжалась операция по вскрытию ящика. Внутри опять оказалась бумага. Под ней лежали маленькие пакетики, мешочки, коробочки. Агнеш с волнением открыла верхний: лущеный горох. В следующем — палочки ванили, тщательно завернутые в целлофан и станиоль. Огромная масса. Но что с ними делать? Краюшка хлеба и кусочек сала были бы гораздо дороже всего этого. Сокровища какой-то скопидомки. Каперсы, майоран, имбирь — все это, очевидно, спрятала здесь ее крестная, а потом забыла. Неужели с таким богатством придется умереть от голода?
Да и мыться теперь гораздо труднее без мыла, в ледяной воде. А между тем со всей строгостью надо следить за чистотой, чтобы, валяясь на пыльном полу склада, не подхватить какое-нибудь кожное заболевание.
Агнеш стала вести себя гораздо предусмотрительнее. С каждым днем усиливалась ее тяга к жизни. Раз столько выдержала, то теперь уж не следует сдаваться. С тех пор как на складе побывали дворник и начальник ПВО, она с восьми часов утра до самых сумерек не отходила от стеклянной двери конторки и все время прислушивалась, не отпирает ли кто замки. И, как только замечала что-либо подозрительное, сразу же пряталась.
Несколько раз на склад приходили какие-то люди. Первые посетители заглянули только в переднее помещение. Агнеш часами стояла в своем убежище, затаив дыхание, не подозревая, что это проверяли показание электросчетчика.
Во второй раз едва удалось спрятаться, как послышались гулкие шаги: в городе выискивали спрятанные запасы продовольствия. В третий раз кто-то хотел конфисковать складское помещение.
Агнеш волновалась, замирала от страха, когда кто-нибудь приходил на склад, и в то же время мучительно ждала прихода людей. Слышать человеческую речь, узнать что-нибудь из подслушанного разговора о внешнем мире, выглянуть в щелочку из мрачного одиночества в действительность. «Мой шурин бежал из Мако», — сказал кто-то, и Агнеш с трепещущим сердцем принялась соображать. Бежал? Стало быть, там уже фронт. А Мако… где же он, этот город? Северо-восточнее Сегеда, пять часов езды поездом… А на танке? Господи, может быть, завтра они уже будут здесь. «Что вы скажете, опять не выдали хлеба по карточкам». «Мне кажется, что никакого покушения на Гитлера не было, им, видать, нужен только повод для новых убийств и расправ». «Полно вам, господин Галгоци, будут они искать повод. Мне думается. Маляр решил покончить с собой. Да оно и не удивительно, русские уже стоят у их границ». Мозг Агнеш работает с молниеносной быстротой. Русские подошли к германской границе. Покушение на Гитлера… Война продлится два дня, теперь уж максимум два дня… Как хорошо, что она спряталась: бедствиям ее приходит конец, ей удалось пережить войну.
Она караулит, не оставит ли кто из посетителей газету, книгу или хотя бы не до конца разгаданный кроссворд… Но надежды ее напрасны.
Проходит еще восемь или десять дней, никто больше не является; Агнеш решает сама связаться с внешним миром. Она заметила, что если в некоторых местах склада прижаться ухом к полу или к батарее, можно услышать обрывки разговора, музыку, радио. В туалетной, например, поздно вечером отчетливо слышны передачи радиостанции «Дунай» — приемник вопит в расположенной по соседству квартире начальника ПВО.
Ей хочется видеть. Как — то на рассвете она соскребла ногтем в уголке окна небольшой кусочек наклейки и, смачивая это место слюной, терла его до тех пор, пока не установила, что оконное стекло вовсе не матовое, а просто грязное.
Как много значит для нее эта щелка! Ранним утром она, прильнув к стеклу, видит трамваи, видит, как поднимают шторы на витринах магазинов, видит людей, движение, жизнь и по малейшим признакам пытается делать свои выводы. Раз грузовики один за другим устремляются в Буду — значит, немцы бегут. Ага, толпа у газетного киоска; по-видимому, какое-нибудь очень важное сообщение. Может быть, наши запросили перемирия?
И вот, будучи в заточении, Агнеш постепенно входит в курс событий.
Однажды утром, когда одиннадцатый трамвай дошел до поворота, Агнеш увидела протянутую с площадки вагона мужскую руку. Трамвай скрылся из виду, а мостовая почему-то оказалась усеянной белыми листочками бумаги. Листовки! К ним подбегают юноши, подхватывают, читают, осмеливаются и люди постарше. Какой-то мальчик прячет несколько листков в карман и убегает. Но вот приходят полицейские, хватают какого-то мужчину под руки и собирают оставшиеся листочки. Агнеш много дней думает над тем, что могло быть в этих листовках. А кто тот храбрец, который, рискуя жизнью, среди бела дня, на самом бойком месте кольца Карой выбросил прокламации?
В другой раз, под вечер, она увидела возле площади Эржебет длинную процессию. С трудом переставляя ноги, брели старики и старухи, неся за спиной и на руках крохотных детишек. Когда шествие оказалось совсем близко, Агнеш заметила нескольких вооруженных конвоиров и желтые звезды на спинах людей. Евреи? В чем их вина? Зачем их гонят? Что же творится на свободе?
Два дня подряд нет воздушной тревоги. Агнеш приходит в ужас от мысли, что союзников, наверное, оттеснили.
Если под окном с грохотом проносится машина, она начинает подозревать, что в городе завязываются уличные бои. Если слышит крики, сердце ее учащенно бьется от мысли, что, может быть, это люди приветствуют окончание войны, приветствуют мир…
О подлинном событии ей довелось услышать только один раз. То было давно, еще двадцать третьего августа, когда газетчики во все горло выкрикивали: «Румыния капитулировала! Румыния капитулировала!» В ту ночь Агнеш не могла уснуть. Теперь уже совершенно очевидно, что завтра войне конец. Больше никогда не представится такого случая. Капитулировала Румыния, капитулируем и мы. Как хорошо, что лето еще не прошло, что она сможет наслаждаться длинными вечерами и будет гулять, плавать!
Но потом прошел один день, второй, третий, по-прежнему визжали сирены, содрогалась земля, на улице маршировали немецкие солдаты — все осталось так, как было.
Почему нельзя жить в мире? Разве плохо, если вечером возвращается с работы отец, все усаживаются вокруг стола и сыновья дома? Если Гибор где-то совсем рядом, не в окопе, и стоит только снять телефонную трубку, чтобы поговорить с ним? Если ночью можно спокойно спать, не вздрагивать от каждого шороха, не дрожать в ожидании, что огонь и кровь затопят твой дом?
О, пусть только наступит мир! Пусть только настанет время, чтоб можно было широко распахнуть окна и включить в доме электрический свет! Пусть только снова заблещут витрины и на Цепном мосту тысячи маленьких лампочек, как две нити жемчуга, свяжут оба берега реки! Пусть заиграют на острове Маргит «Сон в летнюю ночь», чтоб, прощаясь с милым, сказать: «Встретимся завтра…» Буду беречь дни, никогда не стану расстраиваться из-за пустяков, буду радоваться каждой минуте, буду всем и всегда довольна, пусть только наступит мир, только бы дожить до мира!..
Спасение от бури
— Послушайте, господин Марьяи, у нас есть десять тысяч пенге, мы отдадим их вам, и дело с концом.
— У вас и побольше найдется, господин Шпитц, только хорошенько поищите, — ответил Марьяи. — Мы с вами старые коммерсанты, и я знаю ваши возможности.
Йожеф Шпитц почесал лысеющую макушку и развел своими коротенькими руками.
— Да провалиться мне на этом месте, если я что-нибудь утаил. Разве мы не пойдем на любые жертвы? Пожалеем филлер для своих спасителей? Но раз нет — значит, нет. Откуда их взять? Сначала пришли из союза «Барош», распродали магазин. Потом потащили в гетто, пришлось бросить и дом и склад. Что можно было взять с собой? А все, что прихватили, то пропало, когда бежали из загона. Десять тысяч пенге, господин Марьяи, и чек на пять тысяч с уплатой после войны.
Марьяи тряхнул головой.
— Только наличными, господин Шпитц. Одни только деньги. Я не хочу злоупотреблять вашим тяжелым положением, но подумайте сами. Госпожа Кинчеш, вероятно, ничего не возьмет за то, что вас прячет, если даже вы предложите. Но содержание…
— Речь идет о какой-то неделе. Американцы уже в Париже…
— В Париже, но не в Будапеште, сударь. Оставим этот разговор. А вдруг война затянется еще на год! Что же мне тогда с вами делать? Выбросить вон из склада?
— Провалиться мне на этом месте, если через месяц она не кончится, проклятая…
— Ей не будет конца… Словом, содержание шести человек, хлеб, колбаса будут стоить сто пятьдесят пенге в день. К тому же без риска не прожить — придется покупать на черном рынке хлебные карточки… А если кто заметит, что я ношу вам продукты?..
Шпитц окинул взглядом своих товарищей. Все пятеро сидели на диване и, затаив дыхание, ждали, каков будет исход переговоров. Среди них были две женщины: молодая тощая зобастая брюнетка с чуть выпученными глазами и толстая шатенка в летах. Та, что постарше, была женой Йожефа Шпитца, а младшая — Ивана Комора. Возле госпожи Комор сидели два ее сына, пятнадцатилетние близнецы, Иван Комор младший и Чаба Комор. Их отец, худой мужчина, лет пятидесяти, в очках, с нервным лицом, сидел в углу дивана.
— Иван, подойди-ка сюда, — позвал его Шпитц. Они отошли к оконной нише и о чем-то озабоченно заспорили.
— Пожалуйте к нам, господин Марьяи.
Черноусый бухгалтер живо подскочил к ним.
— Скажите прямо, сколько вы хотите?
Марьяи на миг задумался. Он, казалось, производил сложные подсчеты.
— Двадцать тысяч пенге.
— Столько у нас нет.
— Тогда я не смогу вас кормить.
— Пятнадцать тысяч наличными и вексель на пять тысяч, — сказал Комор, чувствуя, что его нервы вот-вот сдадут. Шпитц сердито посмотрел на него. Марьяи перехватил этот взгляд.
— Ладно. Устраивайтесь тут поудобнее и ждите меня. Я схожу к госпоже за ключами. Если кто-нибудь постучит в дверь, не открывайте… откроете только, когда я приду и трижды позвоню. Впрочем, это не годится, ведь так может позвонить и посторонний… Лучше я возьму с собой ключ.
Против такого решения возражений не было. Марьяи ушел, щелкнул ключ в замке, и они вшестером остались в чужой квартире. Некоторое время никто не осмеливался нарушить молчание, только как-то странно тикали настольные часы. Возле окна висела небольшая клетка. За решеткой, забившись в угол, сидела печальная канарейка. Засунув руки в карманы, Чаба подошел к клетке и от нечего делать стал разглядывать птичку.
— Ну, вот мы и узнали, что такое рабство, — произнес Шпитц и попытался засмеяться. — Сорок лет подряд меряешь честно отрезы на пальто, и вдруг все идет прахом и ты скрываешься, словно разбойник какой… И мы должны еще благодарить, если за пятнадцать тысяч пенге удастся попасть в нору и получать корку хлеба…
— Йожи, не разговаривай так громко, — оборвала его жена, — чего доброго, соседи услышат.
— Что же мне, прикажешь, шепотом говорить? Да кто я такой? Разбойник, что ли? Разве у меня нет венгерского гражданства? Разве я не плачу налогов? Что им от меня надо? Ох, пусть только кончится когда-нибудь этот цирк!
Он сунул руку в карман и тут же обратился к Комору.
— Иван, нет ли у тебя закурить?
— Есть, конечно, изволь.
Шпитц потянулся к портсигару.
— Скажем Марьяи, чтобы он и сигареты приносил.
Марьяи, чтобы скорее добраться до своей хозяйки, поехал трамваем. Он остановился возле серого двухэтажного дома, позвонил и стал терпеливо ждать, пока из кухни выйдет Марика, воспитанница вдовы госпожи Кинчеш. Марика с трудом открыла тяжелую дубовую дверь. Госпожа Кинчеш с двумя сыновьями ушла к мессе и еще не вернулась. Девушка усадила господина Марьяи на кухне. Сконфуженный бухгалтер мял свою лучшую шляпу, не смел даже пошевельнуться, боясь столкнуть локтем какую-нибудь банку с вареньем, горшок со сметаной или испачкаться жиром или мукой.
Четырнадцатилетняя Марика, стройная, белолицая девушка, заплетала каштановые волосы в две толстые косы. Госпожа Кинчеш видеть не могла в своем доме девушку с короткими волосами. Ведь старший сын ее, двадцатилетний хозяин, учился на философском факультете университета, а младший ходил в седьмой класс гимназии. Правда, отцы иезуиты отпускали его домой только на время летних каникул, но разве лета недостаточно, чтоб забилось молодое сердце при виде смазливой девчонки?
Господин Марьяи поворачивал голову то в одну, то в другую сторону, будто судья на состязаниях по пинг-понгу, от плиты к столу, от стола к плите, в зависимости от того, что делала Марика — разжигала огонь, месила тесто, жарила мясо или чистила овощи. «Пора бы жениться, — подумал господин Марьяи. — Мне уже тридцать восемь лет, у меня хорошее жалованье, уютная квартира. Госпожа Кинчеш, наверное, даст за девушкой приданое, ведь Марика дочь ее покойной сестры, может быть, и деньгами не обидит… А разве можно найти лучшую жену, чем Марика? Хозяйка воспитала эту девушку так, что вряд ли кто с ней сравняется. Совсем еще молодая, а уже сама печет хлеб, стряпает, убирает за шестерых, если не больше… Или, может, госпожа Кинчеш бережет ее для своего сынка? Нет, хозяйка не такая женщина, она не позволит своим сыновьям жениться. Скорее отдаст обоих в попы».
— Когда придет домой мать, Марика?
— Придется вам подождать ее, — ответила девушка, откинув назад голову, так как стояла к Марьяи спиной и наливала в котел воду. — Хоть она и страдает ревматизмом, но простоит на коленях до самого обеда, потому что больше всего любит молиться одна. К мессе стекается столько народу, что бог может и не услышать ее голоса…
— Ну и острый же у тебя язычок, Марика. Какие же нечестивые слова ты говоришь.
— Не было бы нечестивых, так и набожных не почитали бы.
— У кого ты этому научилась, неужто у своей матушки?
— Нет, сама знаю.
— Ты ходишь в церковь?
— Еще что выдумали. Кто же тогда обед будет готовить, может быть, вы? Легко молиться, когда разоденешься, нарядишься, а вернешься домой — все уже готово…
Марьяи больше не рисковал о чем-либо спрашивать. Не хватает еще, чтобы нагрянула госпожа и услышала их разговор…
Заскрежетал замок в воротах: пришли хозяева. Впереди шествовала госпожа Кинчеш, высокая, крепкая, белокурая женщина, в темно-синем пальто, коричневых ботинках на высоком каблуке, с кожаным молитвенником и четками в руках. Следом шли два ее сына, двадцатилетний светлоусый Гашпар и семиклассник Балинт в расшитой шнурами форме. Госпожа Кинчеш протянула для поцелуя руку сначала Марьяи, затем Марике.
— Марика, принеси ликерные рюмки, — сказала она и пригласила гостя к себе в комнату. — Чем порадуете, господин Марьяи?
Но, прежде чем бухгалтер успел раскрыть рот, госпожа Кинчеш, громко вздохнув, проговорила:
— Ах, как дивно проповедовал сегодня златоустый отец Казмер. Поверите, господин Марьяи, если бы я жила не здесь, а в Америке, то и тогда бы приезжала сюда к мессе. Гажика, какими словами начал отец Казмер свою проповедь?
Гашпар читал газету «Пешти Хирлап»[26]. Он неохотно поднял глаза, но ответил с учтивостью: «Поелику, ты был опорой для слабых…»
— Да-да, — закивала головой госпожа Кинчеш. — Из книги Исайи. «Поелику ты был опорой для слабых, опорой для бедных в их униженном положении, спасением от бури… когда гнев насильников был таков, как сотрясающий каменные стены ураган…» Я даже всплакнула, слушая его. Каждое его изречение, словно бичом, стегало меня по сердцу. Сколько грехов совершаю я каждый день…
— Но, сударыня, — запротестовал Марьяи, — ведь вы, сударыня, чище самого ангела, белее только что выпавшего снега.
— Не богохульствуйте, господин Марьяи, — зашептала хозяйка, затем посмотрела на дверь и громко крикнула: — Где же рюмки, Мари?
Девушка испуганно вздрогнула. Она стояла перед открытой духовкой и поливала маслом мясо. Горячий жир брызнул ей на руки, но она только поднесла их к губам и сразу же молча побежала с гранеными водочными рюмками.
Марьяи кашлянул, не зная, как ему продолжать разговор со своей начальницей.
— Ваша маленькая крестница, сударыня, Агика Чаплар…
Глаза госпожи Кинчеш увлажнились слезами.
— Никаких следов, никаких известий…
— Она оказалась коммунисткой и перебежала к русским, — вмешался Гашпар, отбросив в сторону газету. — Мама хочет видеть в людях только хорошее, у нее мягкое сердце, потому-то ее все и обманывают. Вместо того чтобы заставлять свою крестницу молиться ради спасения души, она посылает таким вот подонкам жареную утку… Так ей и надо, раз порвала с семейством Шомоди и вышла за коммуниста…
Лицо разгневанной госпожи Кинчеш налилось кровью. Такие разговоры, да еще в присутствии постороннего человека!
— Сын мой, не суди других, чтобы самому не быть осужденным… Перед ликом Христа мы все равны: если он в своей беспредельной милости мог простить своих убийц…
— А, не болтайте, — грубо буркнул сын и снова потянулся за газетой. — Вы и коммунистов скоро начнете прятать у себя под юбкой.
Госпожа Кинчеш сложила руки и со всей кротостью произнесла:
— Верно, сынок. Всякого, кто подвергается преследованию. Ибо человеческое сердце несовершенно и человеческий ум слаб. Разве мы вправе судить своих собратьев? Кто постучится, тому да будет открыто, кто голоден, тому господь дает кусок хлеба рукой благодетелей.
Балинт, стоявший до сих пор молча у стола и перебиравший пальцами кружевную скатерть, раздраженно вскинул голову.
— Выходит, вы, мама, считаете преступной священную инквизицию, сожжение еретиков? Вы, мама, может быть, стали бы защищать перед ликом Иисуса Христа даже торгашей?
— Сын мой, тот же самый Иисус Христос учит, что надо любить своего врага и что того, кто бросит в тебя камень…
— Полно вам, мама, прекратите свои разглагольствования. Лучше скажите…
— Когда нам дадут пообедать? — перебил Гашпар.
— В два часа.
— Тогда мы сходим к Яраи.
— И я бы не возражал, если бы молодые господа ушли, — начал Марьяи, — мне хотелось бы поговорить с вами наедине.
— Ну, в чем дело?
— Изволите помнить Шпитцей из Байя. Наши старые клиенты.
— Разумеется.
— Они бежали из концентрационного лагеря и сейчас скрываются здесь, в Будапеште. На первых порах они жили у кого-то из своих знакомых, но теперь им некуда деваться. Здесь, кроме Шпитца, его шурин с женой и двумя сыновьями.
— А я чем могу им помочь?
— Городской склад сейчас все равно пуст, их можно было бы спрятать там.
— На складе? Да ведь там нет ни постелей, ничего.
— О, им не до постелей. Кто спасает свою жизнь, тот проспит и на голой земле. Речь идет всего лишь о нескольких днях… Если бы вы, сударыня, согласились и изволили дать мне ключи…
— Разумеется. И когда вы собираетесь перевести их?
— Как только стемнеет.
— Только, бога ради, будьте осмотрительны, чтобы кто-нибудь не заметил. Да и у дворника есть ключ… погодите, не просите у него, это вызовет подозрение. Лучше отдайте Шпитцам ключ и от внутренней двери красильного отделения. Пусть прячутся там и очень осторожно ходят в туалетную, только чтоб не поднимали шума и…
— Все будет в порядке, не извольте беспокоиться, — ответил Марьяи, которому уже не терпелось скорее перевести беглецов на склад и получить деньги сполна.
— А что они там будут есть, несчастные?
— Что ж, я им буду носить кое-что…
— Шестерым? Да ведь они и приготовить ничего не смогут.
— Два-три дня можно поголодать.
— Я не возражаю. Пожалуйста, вот вам ключи. Марика даст немного сала. И будьте осторожны, дорогой господин Марьяи, чтобы, боже упаси, кто-нибудь из посторонних не заподозрил.
— Все будет в порядке. Да воздаст вам за это бог, — быстро произнес Марьяи и спрятал ключи в карман.
Вернувшись домой, Марьяи еще в коридоре услышал приглушенные голоса, раздраженный спор.
— Боже мой, да они с ума сошли, — подумал он и дрожащими от волнения руками повернул ключ в замке.
Все сразу умолкли.
Беженцы стояли возле дивана, на котором сидел пятнадцатилетии?! Чаба с пунцовым лицом.
— Чтобы я больше ни слова не слышал, — сказал Шпитц мальчику, затем простер руки в сторону вошедшего Марьяи.
— Наконец-то вы пришли, наш добрый спаситель.
— Что здесь происходит? — гневно спросил Марьяи. — По всей лестнице слышно. Вы что, и на складе собираетесь так орать?
— Я же говорил, чтобы ты заставил сына замолчать, — раздраженно повернулся Шпитц к Комору.
— Будьте спокойны, он будет молчать.
Чаба Комор, глядя на пол, упрямо повторил:
— А я не согласен. Или мы возьмем с собой и Пишту, или я тоже не пойду.
— Хотел бы я видеть… ты…
Чаба передернул плечами, сунул руки в карманы и подошел к окну. Некоторое время он смотрел на серый, мокрый от дождя тротуар, затем обернулся.
— Мы обязательно должны взять его с собой, потому что рассказал Пиште, где мы будем прятаться.
— Ты с ума спятил? Злодей!
Лицо Шпитца посинело от злости. Он поднял кулаки, как бы собираясь наброситься на племянника.
— Я убью его! — вскричал Комор.
— Оставь… Ой, что ты наделал, сынок? — заплакала госпожа Комор.
— Может быть, вы и мне расскажете, что здесь происходит?
Чаба повернулся к Марьяи.
— Иштван Бенедек, шестнадцатилетний парень, мой двоюродный брат…
— Троюродный! — воскликнул Шпитц.
— Прошу вас, господин Шпитц, говорите тише.
— Простите. Он совсем вывел меня из терпения.
— И к тому же самый лучший мой друг. Если вы не спрячете его, я тоже не пойду.
— Как прикажете. Хоть всю байскую общину, — сказал Марьяи. — Вместо шести придется кормить семь. Вместо шести семеро будут там горланить, пользоваться уборной, умывальником, ходить взад и вперед. Это госпоже Кинчеш не очень-то понравится. Она и так три раза подчеркивала в разговоре со мной, чтобы вы вели себя тихо, не стучали ногами…
— Ты все равно не сумеешь дать ему знать… отсюда мы прямо перейдем на склад, — сказала сыну госпожа Комор.
— Он ждет меня внизу, у соседских ворот.
— Боже милостивый!
— Вы идите себе на склад, а я с Пиштой или умру, или выживу…
— Прибавьте еще пять тысяч, и пусть идет и тот, — согласился Марьяи.
— Но скажите, бога ради, откуда нам их взять? — сложил руки Шпитц. — Ведь мы уплатили вам пятнадцать тысяч.
— Но в них не входил дружок вашего сына. Конечно, мне все равно, он и сам может уплатить за свое содержание.
— Он не заплатит… он сирота, работал у нас в магазине мальчиком на побегушках… Ну, пускай, я уступлю ему свою порцию, — настаивал Чаба.
— Да. А сами будете подыхать с голоду, мне не хватало еще возиться с вашим трупом! Не знаю, зачем я только связался с вами. Я бедный маленький чиновник, никогда не нарушал законов, а тут — на тебе, приходите вы. Заставляете идти и упрашивать госпожу Кинчеш, носить вам продукты, еще, чего доброго, сломаете водопроводный кран, засорите сточную трубу или, не приведи господь, начнете курить при незатемненных окнах, накличете на меня нилашистов или гестапо… Вы ведете себя так, будто эго для меня какая-то блестящая сделка.
— После войны отдадим и эти пять тысяч.
— Оставьте при себе эти сказки, сударь. Моя бедная матушка, да будет ей земля пухом, работала акушеркой. Она учила меня, что человек, попав в беду, многое обещает, но, как только проходит опасность, тут же забывает об этом. Когда женщины рожают, они причитают, стонут, кричат, клянутся. Дорогая, добрая тетушка Марьяи, бог вас не забудет, помогите мне — подарю вам чудный платок, красивое шерстяное платье, принесу голову сахара, золотую цепочку… Ой-ой, помогите только… Потом родится ребенок, и нет ни цепочки, ни платка, ни дорогой тетушки Марьяи.
— Даю еще две тысячи пенге, — произнес Комор и убийственным взглядом уставился на сына. — Две тысячи пенге — и можете хоть обыскать, вывернуть карманы, не найдете у меня больше ни гроша.
Марьяи задумался.
— Ну что ж… раз он сирота. Пусть будет по-вашему.
Семнадцать тысяч пенге он спрятал в коробку из-под кофе, затем сунул ее в маленький ларец, ларец перевязал шпагатом и отнес в другую комнату. Там открыл нижний ящик комода и тщательно замаскировал свою «копилку» среди кучи старых чулок и поношенных кальсон. Потом запер и ящик комода и комнату.
— Идемте на кухню, у меня найдется немного хлеба и сала, можно будет перекусить, и, кстати, решим, как нам перебраться на склад.
Голод
Вспоминая все пережитое, Агнеш подумала, что она сошла с ума. Произошло это утром. Она отмерила дневную порцию варенья и щепотку таргони, затем улеглась на меховую подстилку и посмотрела на часы. В одиннадцать можно съесть половину. В пять часов вторую половину.
Около десяти часов утра начался воздушный налет. Обычный утренний налег: опустела улица, грозно загудели самолеты, затрещали пулеметы, закашляли зенитные орудия, послышались взрывы бомб и жалобно заскрипели окна и двери. Агнеш, помертвев от ужаса, прижималась к стене. Ей хотелось есть. Она корчилась от мучительной боли в желудке, все надеясь, что через несколько минут боль пройдет, прекратятся колики и на пару часов забудется голод.
Но спазмы от голода становились все более мучительными. Сжавшись, Агнеш ухватилась рукой за живот. В этот момент послышался резкий треск, как будто в дом ударила молния. Затем раздался страшный грохот, посыпались кирпичи, щебень, с потолка отвалился кусок штукатурки и перекрытие в этом месте стало похоже на разорванный живот тряпичной куклы. Одна из запертых дверей распахнулась. Но стекла в окнах уцелели, словно ничего не произошло.
Где-то поблизости упала бомба.
Какое-то мгновение Агнеш сидела в оцепенении. Она испуганно смотрела расширившимися зрачками на валяющиеся повсюду куски штукатурки. Затем снова ощутила голодные боли. Жжение подступало к горлу. Хотелось есть. «Еще нет и одиннадцати часов, — робко подумала она. — Придется подождать. А зачем? Чтобы и сюда попала бомба и я погибла, так вдоволь и не поев? Нет, надо ждать». Но, вопреки решению, принялась запихивать в рот прямо пригоршнями сырую таргоню, глотать варенье, причем не только то, что полагалось на этот день, но и остальной запас. Она больше не чувствовала ни вкуса, ни сытости; выпучив глаза, торопливо уничтожала все, что только попадалось под руку. Спазмы в желудке сменились тяжестью, колотьем. И, когда, кроме пустых банок и опорожненных мешочков на полу, ничего не осталось, Агнеш оцепенела от ужаса. До чего довела ее жадность! Что она натворила? Что же теперь будет?
А между тем голод удалось унять только на несколько часов.
Агнеш уснула.
Проснулась она поздно ночью и сразу же почувствовала голод, но теперь уже не желудком, а каждой частицей своего тела.
И — в который раз! — принялась снова обыскивать склад.
Обшарила полки, выдвинула ящики письменного стола. Напрягая нервы, в надежде найти что-нибудь съедобное ощупывала и обнюхивала все.
Агнеш откусила немножко ванили. Рот наполнился едкой, приторно сладкой слюной. Словно пьяная, Агнеш вывернула все мешочки с пряностями, взяла в рот лавровый листок, сжевала крупинку черного перца, проглотила несколько зерен кофе и, обессиленная, снова легла на пол.
Все ее продовольственные запасы иссякли. Будь она предусмотрительна, экономна, то, пожалуй, могла бы протянуть еще недели две. Но какая разница? Все равно война так скоро не кончится. Этой войне вообще не будет конца. Ведь она вытерпела жажду. А жажду терпеть гораздо труднее. Но вода могла пойти снова, колбаса же и хлеб не свалятся ей в дымоход, она живет не в сказочной стране.
Три дня продолжались умопомрачительные голодные боли.
Агнеш казалось, будто внутренности ее судорожно сжались и наполнились жгучей, едкой кислотой. Она спала мало и тревожно вздрагивала через каждые пятнадцать минут. Погружаясь в забытье, видела один и тот же сон: стоит жаркий летний вечер, вместе со своими школьными подругами она совершает экскурсию в Будайские горы. Прежде чем вернуться домой, они расположились под мирным, звездным небом на отдых и на пылающем костре среди высокой травы жарят сало. На конце вертела румянится лук. Агнеш кладет кусок сала на большой ломоть белого хлеба, во рту у нее собирается слюна. Сало еще как следует не зажарилось, но ей уже хочется вцепиться в него зубами, и, забыв об осторожности, она неловким движением опрокидывает вертел в огонь.
На четвертый день наступает период «водопоя». Изнемогая от жажды, Агнеш набрасывается на водопроводный кран и, захлебываясь, с жадностью пьет прохладную влагу. У нее начинают пухнуть лодыжки, голени; стоит только прижаться к ножке стула, к косяку двери или просто нажать пальцем кожу, как на месте нажатия остается, словно в тесте, глубокая ямка. Дышать становится все труднее и труднее, будто и сердце и легкие гоже наполняются водой. А жажда тем не менее продолжает мучить.
На третий или четвертый день, когда она лежала в забытьи, дверь склада открылась.
Топот ног, хлопание дверей на какой-то миг привели ее в себя.
Кругом царила непроглядная тьма, но пришельцы не стали зажигать спички, очевидно, из опасения, что склад не затемнен.
В мозгу Агнеш молнией сверкнула мысль, что на склад проникли воры в расчете найти здесь залежи товаров, или нилашисты устроили облаву. Она подумала, что необходимо встать, спрятаться в нише за прилавками, укрыться мешками. Но на это у нее уже не было сил. С безразличием прислушивалась она к нарастающему шуму. Возня слышалась теперь где-то совсем рядом.
Вот голоса донеслись до нее справа, из отделения красителей. Да, они здесь, в соседней комнате. Но дверь заперта. Какое счастье… Но почему счастье? А вдруг именно запертая дверь вызовет подозрение?
Вот она уже слышит и обрывки разговора. Но странно, почему это они так тихо разговаривают, будто перешептываются друг с другом? Может быть, она оглохла? Ведь сколько недель подряд Агнеш не слышала ни единого человеческого голоса, одни только взрывы бомб… Может быть, ее контузило воздушной волной?
Но нет. Вот она совсем ясно слышит, как кто-то громко, совсем громко спрашивает: «А эта дверь куда ведет?» И тут же многие голоса зашикали. «Осторожно, тише!» «Ой, забыл». «Вы уж лучше не забывайте об этом, иначе я не отвечаю за последствия. И не выходите, пожалуйста, из красильного. Туалетной пользуйтесь осторожно и только на рассвете. Я буду наведываться ежедневно, но не знаю, в котором часу. Буду приносить вам еду и газеты и, если хоть раз застану кого-нибудь в переднем помещении или в другом отделении склада, немедленно лишу убежища. Я, как вы сами понимаете, не желаю рисковать своей шкурой». «Все будет в порядке, дорогой господин Марьяи, — ответил мужской голос. — Будьте совершенно спокойны». «А я далеко не спокоен. Прошу вас делать все, как я сказал. Господин Шпитц, вы отвечаете за соблюдение порядка. И, да благословит вас бог». «Надеемся, недолго пробудем у вас в гостях». На что какая-то женщина сказала: «Мы все во власти божьей».
Агнеш слушает, не смея даже пошевельнуться. Так вот в чем дело! И они останутся здесь взаперти? Сколько их? Кто они? Неужто крестной известно об этих людях? Может быть, и она будет заходить сюда?
«Я не одна! Боже мой, как хорошо, что я не одна!» Мысленно она уже устремляется к двери, поворачивает ключ в замке, бросается на шею незнакомым людям, расспрашивает их о том, что слышно на свободе. Где проходит фронт? Сколько будет еще продолжаться война? Не найдется ли у кого газет? А хлеб? Кусочек хлеба! А что, если они дадут кусочек хлеба! Только кусочек хлеба. Во время воздушного налета она сможет прижаться к другому живому существу, видеть человеческие лица! Люди на необитаемом острове!
Ока пытается встать, но у нее не хватает сил даже пошевельнуться. Боже, что это? Что с ней случилось?
Агнеш пробует сесть, но голова ее все тяжелеет, пол начинает раскачиваться из стороны в сторону. Надо бы открыть окна, какая страшная жара… Не окна, а двери… Зачем ей понадобилось открывать двери?..
В красильном отделении еще долго слышатся шаги, шепот и вздохи. Но Агнеш больше ничего не слышит.
Соседи
Первым проснулся Чаба Комор. Ничего не понимая, он посмотрел вокруг и сел. В просторном, полутемном помещении стояли пустые стеллажи, бочки из-под краски, ящики. На полу, подстелив одеяло, спали его родители, брат Иван и друг Пишта. В противоположном углу устроилась семья его дяди Шпитца.
Господин Шпитц тоже не спал.
Некоторое время он прислушивался, затем, убедившись, что никто не двигается, встал, подкрался на цыпочках к полке, отрезал два куска хлеба и колбасы и, набив себе полный рот, взялся подкармливать зашевелившуюся во сне жену.
— Ну-ка, быстро ешь.
Чаба Комор покраснел, закрыл глаза и сделал вид, будто спит.
Иожеф Шпитц посмотрел на часы. «Четверть восьмого. А между тем еще совсем темно. Да, нелегко здесь будет проводить дни!» — подумал он.
В восемь часов утра Шпитц устроил общий подъем.
Началась ссора.
Мальчикам не хотелось вставать. Им было холодно, да к тому же дел все равно никаких, почему бы еще не поспать?
— Зайдет кто-нибудь на склад, увидит одеяла…
— А если вместо одеял увидят нас, разве это лучше? — спросил Иван Комор младший, оставаясь в постели.
Затем начались неполадки в туалетной.
Вошел Шпитц и стал яростно кричать.
— Устроили возле умывальника такую лужу, что твой Атлантический океан. Только слепой не заметит, что здесь прячутся люди.
— Но, дядя Йожи, что вы говорите, ведь я же следила за порядком. Зачем постоянно дрожать от страха? Кто сюда зайдет?
— Кто зайдет? Откуда мне знать. Кто угодно. Госпожа Кинчеш, Марьяи, дворник, гестаповцы, нилашисты, жандармы. Ты думаешь, я зря плачу столько денег!..
— Что касается платы, то и мы внесли свой пай, — зашипела осмелевшая госпожа Комор.
— И ты еще защищаешь своих сынков, вместо того чтоб учить их уму-разуму!
— После дяди Йожи тоже надо вытирать в туалетной, он брызгает и расплескивает воду, как настоящая турбина…
— За собой следи, меня не учи, сопляк.
— Может быть, ты перестанешь грубить моему сыну.
— Попридержи язык. Я здесь начальник.
У него на все был один ответ: я здесь начальник. Он распределяет продовольствие, потому что он начальник. Приказывает немедленно приступить к молитве, потому что он начальник.
Обе женщины действительно молились с утра до вечера. А вот у господина Шпитца оказалась колода карт, и он играет со своим шурином в очко на спички — расчет после войны. Три мальчика, пользуясь затишьем, или отправлялись на разведку, или забивались куда-нибудь в угол, затевали спор о чем-нибудь.
Особенно их волновала запертая дверь конторы. Чаба пытался отпереть замок проволокой, заглянуть в скважину.
— Знаете, сегодня ночью я слышал в соседней комнате какой-то стон.
— А может, это был твой собственный храп?
— Не болтай. Даю голову на отсечение, что там кто-то скрывается.
— Ясное дело, скрывается. И через потолок ему приносят еду. А что, если там не человек, а привидение?
— Вот открою дверь, и посмотрим.
И Чаба, достав гвоздь, принялся отпирать замок.
Шпитц уже несколько минут с негодованием наблюдал за племянником. Наконец он не вытерпел и закричал:
— Сейчас же отойди от двери. Ты слышал, что господин Марьяи велел ни к чему не прикасаться? Не хватало еще, чтоб ты взломал дверь. Доставай свой молитвенник и проси у милосердного господа бога милости… Не перечь мне, я здесь начальник.
Чаба с недовольным видом убрал гвоздь, но тем не менее не отказался от своего твердого намерения когда-нибудь проникнуть в контору. Если даже ничего там и не найти, то можно хоть время скоротать.
— Ну что, почему вы не начинаете? — закричал через полчаса Шпитц.
— Мы молимся, дядя Йожи, — ответили они хором и продолжали спорить, сидя друг подле друга на бочке из-под краски.
— Это философия почтенных баранов и ослов, — произнес Иван. — А ты, Чаба, еще твердишь, что если в тебя бросят камень…
— Я говорил не так.
— Нет, так. Разве нет? Если меня ударят по правой щеке, я не стану подставлять левую. Заклеймили? Нацепили желтую звезду? Ну и пусть! Выгнали из школы, преследуют меня, первого ученика в классе? Ну и пусть! Я горжусь, что на меня плевали. Родился евреем? Я не отрицаю, не скрываю, это бесполезно, они все равно догадались бы. Я еврей? Ну и что из этого? У меня два уха, два глаза, нос, волосы, я такой же человек, как все другие. Тот — венгр, другой — поляк, третий — француз, а я — еврей. И я готов уехать к себе на родину, где никто не будет меня бить и издеваться над моей национальностью. Над китайцами издеваются в Нью-Йорке, но попробуйте глумиться над ними в Кантоне.
— И глумятся! — воскликнул Пишта. — Глумятся, избивают, обижают, если ты хочешь знать. Разве ты не читал «Шанхайский отель» или путевой дневник Эгона Эрвина Киша? Глумятся, и в европейский квартал Шанхая китайцам запрещают даже входить. Хозяйничают белокожие господа, а китайцы — кули.
— Не все.
— Но десятки тысяч. А им куда бежать? Ведь они же у себя дома, в Китае.
— Эх, чего тут толковать о китайцах да о колониалистах? Там положение иное. Их хоть можно отличить друг от друга. А поставь-ка меня рядом с моим одноклассником-христианином. У меня даже нет горбатого носа и курчавых черных волос, и кафтана на мне не увидишь. Во мне узнают еврея, только когда посмотрят метрическую справку деда. Я не еврей, я говорю по-венгерски, люблю стихи Петефи и при слове «родина» сразу же вспоминаю дома в Байе, набережную Дуная, сквер, памятник Андрашу Йелки. И, как я ни пытаюсь представить себе Тель-Авив, он для меня совершенно чужой.
— А если вышвырнут, скажут: уходи? Или даже убьют? И тогда останешься венгром?
— И тогда, — ответил раскрасневшийся Чаба. — Я страдаю потому, что мой отец родился евреем. Может быть, нашим детям тоже придется страдать из-за их дедушки. Но уж наши внуки страдать не будут. Я женюсь на венгерке.
— Вот именно, чтобы потом жена обзывала тебя паршивым евреем. А? И бросила тебя.
— Ну и пусть. Велика важность. В моем внуке будет только четвертая часть еврейской крови. А в правнуке…
— Что это, господин Чаба, вы начинаете делать так, как велят нюрнбергские законы?
— Ты что, не понимаешь? Считаешь, что Иван прав?
— Разумеется… Напрасно ты собираешься все это делать, ни твой внук, ни правнук, ни правнук твоего правнука не смоют с себя желтой звезды. Гейне уж как ни выдавал себя за немца, а все же и теперь его книги сжигают на кострах. Верно, Пишта? Надо вернуться на родину праотцев.
— Ваша беда в том, что вы все сводите к одному антисемитизму. Вопрос не только в нем, и не от него надо спасаться, вернее, не только против него надо бороться, а вообще против всякой расовой вражды.
— Превосходно! Сейчас? Сидя здесь, на проспекте Карой, в запертом складе, второй день голодая? На нас в любую минуту может обрушиться небо, а ты мне советуешь бороться за каких-то китайцев!
— Эх, что с вами спорить. Пока будут существовать буржуи, заинтересованные в том, чтоб разжигать грызню между, евреями, христианами, магометанами, венграми, словаками, немцами, французами, городами, деревнями, рабочими и служащими, ты напрасно будешь искать спасения в Палестине, потому что и там тебя ухлопают, напрасно будешь подделывать метрику, все равно прикончат.
— Вот как вы молитесь, свиньи? Вот о чем болтаете? И еще удивляетесь, что всемогущий бог обрушил на нас такое наказание, — со злостью произнес дядя Йожи.
Мальчики, ворча, достали молитвенники и притихли в ожидании момента, когда снова можно будет затеять горячий, пусть и бесплодный спор.
Два дня прошли без всяких событий. Под вечер явился Марьяи. Принес вечернюю газету, хлеб и сало. Он повторил свои обычные наставления: не стучать ногами, не разговаривать, не разбрызгивать воду в туалетной.
— Молитесь, чтобы поскорее выбраться отсюда, — сказал он. — Я впервые в жизни нарушил закон и с тех пор не знаю покоя ни днем, ни ночью.
На третий день Марьяи не пришел. Не пришел он и на четвертый и даже на пятый день.
Это, однако, не значит, что он не хотел прийти. В воскресенье после обеда, рассовав по карманам сало, рафинад, бутылку рома, взяв под мышку буханку хлеба, он начал осторожно пробираться в сторону проспекта Карой. Темная улица была полна опасностей. Повсюду зияли воронки от бомб, среди развалин торчали осколки стекла, куски кирпича, проволока. А по небу шныряли истребители, обдавая друг друга потоками огня. Но Марьяи пугало не только это. Охваченный ужасом, он мысленно боролся с другими возможными опасностями. Если тот нилашист, что стоит на углу улицы, подойдет к нему и потребует предъявить документы, а потом спросит, куда это он несет хлеб. «Домой». «Так. Домой. Стало быть, ты, одинокий холостяк, приобрел столько хлебных карточек. Значит, ты воруешь хлеб?» «Нет-нет… я несу одной знакомой семье». «Ага, евреев прячешь! А ты знаешь, что за это полагается?» И нилашист достанет свисток, засвистит, прибегут жандармы, свяжут его, два ружейных залпа…
Нет, это была настоящая стрельба. Марьяи, оцепенев от страха, прижался к дому. По мостовой, окруженные жандармами и нилашистами, молчаливо брели нескончаемой толпой еврейки, пятнадцати-шестнадцатилетние девушки с вещевыми мешками и чемоданами. После выстрелов какая-то девушка в коричневой шапке — в темноте нельзя было разглядеть черты ее лица — зашаталась и свалилась на землю. Кто-то вскрикнул, но толпа продолжала шествовать дальше, переступая и обходя окровавленное тело.
Марьяи почувствовал тошноту. Он не в силах был оторваться от стены. Колонна уже давно скрылась на улице Дохани, а он, тараща остекленевшие глаза, все еще не двигался с места, будто и его настигла пуля.
После этого он целых три дня даже и думать не решался о складе.
А заточенные там люди ломали голову в догадках, почему он не идет. Было около шести часов. Прежде он навещал их в более раннее время.
Шпитц нетерпеливо барабанил пальцами.
— Не надо было давать деньги вперед. И почему я не подумал об этом. Столько времени не показываться. А может, он совсем не придет? Его не волнует, что мы подохнем тут с голоду.
— Полно тебе. Наверное, не приходит из-за воздушных налетов.
— Да вчера и налета не было.
— А может быть, с ним случилось несчастье.
— Ну, тогда мы пропали.
Мальчики, съежившись, по-прежнему сидели молча. Спорить больше не было охоты. Обе женщины, стоя у окна, в полной темноте неразборчиво бормотали слова молитвы и плакали.
Шпитц расхаживал взад и вперед по складу. Сейчас он пошел бы с кулаками против всех на свете.
— Эх, и скотина же я… зачем было соваться в эту клетку, в эту камеру смертников… Даже покурить нечего. С ума можно сойти. Мы здесь подохнем с голоду. Погибнем от бомб. Повешусь… И почему я не потребовал от него гарантий… За такие деньги папскую охранную грамоту могли получить…
— Ты уговаривал нас идти сюда.
— А почему уговаривал? Потому что ты сказал, что гарантия ничего не стоит, что напрасно швейцарцы или шведы пытаются брать кого-то под свою защиту, раз немцы не признают гарантий. Ну, а если бы и нацисты подписали, разве изменилось бы от этого наше положение? Главное — не попадаться им в руки, главное — не попадаться… Вот мы и спрятались.
— Может быть, он не идет потому, что сегодня воскресенье.
— Конечно, в воскресенье сам бог отдыхал. Но в нашем договоре ни слова не было о том, что он будет устраивать себе выходные. К тому же сегодня не воскресенье, а понедельник. Осталось на семерых двести пятьдесят граммов сухарей и ничего больше.
Комор сидел на пустой банке из-под краски и, протирая очки, пожимал плечами.
— Изменить положение уже не в наших силах. Придется сидеть и ждать прихода Марьяи. Если он не придет сегодня, то придет завтра. Как-нибудь вытерпим, — сказал он.
— А как добыть газеты?.. Я с ума сойду, если не буду знать, где проходит фронт. Ты заметил, какую глупую рожу он скорчил в субботу, когда я спросил у него, что нового. Какое ему дело до войны. Он же здесь не прячется.
— Нашелся добрый человек, а ты его ругаешь.
— За двадцать тысяч пенге и я могу быть добрым. Кстати, это из-за тебя мы не эмигрировали в Палестину.
— Из-за меня?
— Ну, конечно. Если бы ты не возился с шотландкой, а продал сразу одной партией… Эх, да что толковать.
Шпитц отошел в дальний конец помещения, повязался молитвенным ремешком и, расхаживая взад и вперед, забормотал слова молитвы. Вскоре он снова обратился к шурину:
— Послушай, я уйду отсюда.
— Что?
— Если господин Марьяи еще изволит явиться… но если нет, тогда будь что будет, а я уйду. Достану швейцарский паспорт. Уедем. Уеду к людям, где я смогу открывать дверь, когда захочу. Я не в силах больше терпеть. Я задохнусь. Покончу с собой. Как подумаю, что здесь придется провести еще ночь, или две, или десять… И кругом тревога…
— Тсс, помолчи…
— Что еще?
— Не слышишь? Кажется, кто-то… ходит.
- Ничего не слышу.
— Как же, только не со стороны переднего помещения… шум донесся вот отсюда, будто даже ключ щелкнул.
Оба они подошли к запертой конторе и прислушались. Но за дверью царила полная тишина.
— Пойдем в переднее помещение.
Там никого не оказалось. Замки снаружи висели на своем месте. В туалетной тоже было пусто.
— А между тем здесь кто-то был. Посмотри. Мокрый умывальник.
Комор пожал плечами.
— Он мог остаться мокрым с утра.
— Как бы не так.
— Может быть, дворник приходил.
Шпитц подошел к конторе и дернул дверь. Но и она была заперта.
— Эх, как видно, нервы сдают… Говорю же тебе, что я не могу больше. Если придет Марьяи. я уйду отсюда.
Комор молча пожал плечами. Все равно в этой войне не уцелеть, как ни поступай, ничего от этого не изменится.
Швейцарский паспорт
На улице Вадас перед зданием швейцарского посольства вытянулась бесконечно длинная очередь. Старушки с крохотными младенцами на руках, оборванцы и элегантные дамы, и все с желтыми звездами, плачущие и напуганные, они терпеливо стояли, не обращая внимания на моросящий дождь. Два нилашистских молодчика с нарукавными повязками и винтовками тоже торчали тут, у ворот посольства. Старшему было лет восемнадцать, а младшему не больше пятнадцати. Прижавшись спиной к стене, они забавлялись от скуки: грызли семечки, а шелуху сплевывали прямо на стоящих вблизи людей и громко хохотали, глядя на то, как евреи вертят головами.
— Посмотри на этого горбоносого. Будь у меня острый ножик, ей-богу, обстрогал бы ему нос, чтобы стал попрямее.
— Зачем? Еврей тем и хорош, что у него нос горбатый.
— Пьют кровь.
— Именно. Пьют кровь христиан.
— Перестрелять бы их всех подряд.
— Всех до одного.
— При этом младший снял с плеча винтовку и не без удовольствия заметил, как попятились люди в очереди.
Шпитц стал в очередь, наверное, сотым, несколько раз он пытался пробраться вперед сквозь причитающую, шумную толпу, но его безжалостно отталкивали назад. А очередь все не убывала. Люди со страхом следили за часовой стрелкой. Скоро возвращаться в гетто, и, если не удастся получить паспорт, снова начнутся бог знает какие ужасы.
Перед Шпитцом плакала в очереди молодая женщина.
— Десятый день пытаюсь попасть! Господи, что же со мной будет, если и сегодня не удастся.
— Не удастся, — сказал обросший щетиной одноногий мужчина. — Никакой надежды.
— Что вы, не бойтесь, — произнес Шпитц, ободряя скорее самого себя, чем стоявших кругом людей. — Нам обязательно повезет. Швейцарцы не подведут…
— Не очень-то пекутся о нас швейцарцы. Больше людей они уже не могут спасти. Говорят, будто у них даже на чердаках спят евреи, на соломенных матрасах, как селедки, — заметил кто-то.
По мере того как стрелки часов приближались к пяти, а после пяти свободное передвижение евреям было запрещено, очередь становилась все более беспокойной и шумной.
— Я войду, — визжала в сборище высокая, худая женщина, прижимая к себе младенца. — Убьют так убьют, я все равно попытаюсь.
Очередь действительно несколько продвинулась вперед.
— Ну, слава богу, я же вам говорил, а? — победоносно оглянулся Шпитц. Он предчувствовал, что ему повезет, еще тогда, когда спорил с Марьяи. Марьяи сказал, что его затея опасна, советовал оставаться ка месте, нельзя, дескать, расхаживать то из склада, то на склад. Но тем не менее по его лицу было заметно, что он не прочь мирно проститься со своими подопечными. К тому же Шпитц заявил, что деньги теперь уже принадлежат ему, Марьяи… А план у Шпитца был совсем простой: он переспит в швейцарском посольстве, в крайнем случае в подзащитном доме. Завтра же утром, получив паспорта, вместе с Марьяи вернется на склад или, поручив все Марьяи, сам подыщет для семьи квартиру… Не зря же сегодня ночью ему снилась покойная матушка, а она, их хранительница на небеси, не даст погибнуть.
И Йожеф Шпитц сделал шаг вперед.
Вдруг толпа застыла. Перекрывая общий шум, послышались вопли, мольба о помощи. Стоявшие впереди старались вырваться из очереди. У самого входа в посольство вооруженные нилашисты оцепили толпу и куда-то потащили тех несчастных, которые стояли в двух метрах, а может, и того меньше от врат рая. Молоденький нилашист ударил тринадцатилетнюю девочку прикладом в грудь, следуя его примеру, остальные тоже бросились избивать перепуганных людей палками, дубинками, прикладами.
Прошло несколько секунд, пока приземистый, неповоротливый Шпитц понял, что случилось. Он повернулся и, не оглядываясь, побежал по Банковской улице к проспекту Вильгельма. Он даже не замечал, по каким улицам бежал, как вдруг оказался перед квартирой Марьяи. Шпитц позвонил и стал ждать. Ждал пять минут, ждал десять, полчаса, все еще не веря, что Марьяи мог уйти из дома, что ему больше никогда не попасть на склад. Только теперь Шпитц почувствовал, как он проголодался и устал.
Не зная, что ему делать, он в отчаянии продолжал стоять перед дверью. А вдруг Марьяи ушел в театр? А что, если он не придет? Странно, ему и в голову не приходило, что сейчас есть еще люди, которые ходят в театр…
Вот он стоит в коридоре чужого дома и некуда ему идти. Был и у него свой дом, теперь его нет, были родственники, друзья, знакомые, теперь их тоже нет. Нет ничего и никого на всем земном шаре.
Сам того не замечая, Шпитц побрел назад к Бульварному кольцу Карой, к складу. Как лунатик, взобрался по лестнице наверх. Дверь была заперта на замки. Он сел на верхнюю ступеньку и громко заплакал. Ему вспомнилась мать, погребенная на байском кладбище и обещавшая сегодня ночью защитить их. Надо было лучше относиться к матери, ко всем людям. Может быть, это бог его наказал, может быть, это бог послал ему смерть? Можно ли, позволительно ли противиться богу?
Он сидел на каменной ступени бесконечно долго.
Какой-то черноусый мужчина с повязкой «Начальник ПВО» на рукаве потормошил его за плечо.
— Кто вы? Что вы здесь делаете? — спросил он, окидывая Шпитца колючим взглядом.
— Хочу попасть туда, — ответил Шпитц и показал на склад.
— Туда?
— Там прячется моя семья.
— Вы с ума сошли!
— Нет, — медленно произнес Шпитц тихим голосом. — Там прячутся все.
— Дворник! Эй, дворник, немедленно принесите ключи от склада госпожи Кинчеш, — крикнул мужчина с галереи прямо на улицу, — и немедленно позовите патрулей.
Шпитц с каким-то глупым безразличием продолжал сидеть. Он ничего не сказал, не запротестовал, когда его окружили вооруженные нилашисты и повели на склад. Госпожа Шпитц, услышав стук замков, подумала, что это пришли муж и Марьяи. Но, увидев нилашистов, вскрикнула и бросилась на пол.
— Сколько вас здесь? — спросил начальник ПВО.
— Семеро.
— Один, два, три… семь, — сосчитал начальник ПВО сбежавшихся на визг и крики. — Как вы сюда попали?
Шпитц, прижавшись к стене, задыхаясь, рассказал все. Один из нилашистов пнул ногой запертые двери конторы.
— А от этих где ключ?
К нему подошел дворник.
— Там наверняка никого нет. Пустое помещение конторы всегда на замке. Товары отсюда давно вывезли.
— Ну, ты тоже хорош гусь, вот, значит, как следишь за порядком, мы еще и у тебя проверим, — степенно произнес нилашист, больше не интересуясь конторой.
— Ну, пошли.
Чаба Комор обеими руками вцепился в дверь.
— Не пойду.
Молоденький нилашист — пожалуй, не старше самого Чабы — ударил его по рукам.
Чаба, как зверек, бросился на нилашиста и ударил его ногой в берцовую кость. Второй нилашист, пожилой мужчина в черной форме, выхватил пистолет и в упор дважды выстрелил в мальчика. Госпожа Комор, обезумев от ужаса, вскрикнула и повалилась на упавшего сына. Очкастый, худой Иван Комор с размаху ударил кулаком начальника ПВО.
Теперь уже все четыре нилашиста, начальник ПВО и дворник сообща накинулись на стонущих, вопящих людей, которые защищались от них зубами и ногтями. Сюда сбежались жильцы дома. Последовал еще один выстрел, затем вооруженный нилашистский патруль, окружив группу людей с желтыми звездами, двинулся вперед. Несчастные тащили за собой два бездыханных окровавленных тела.
Дворник вышел последним и запер дверь. Затем еще раз тщательно осмотрел замки и убедился, что они надежно заперты.
Стены обрушиваются
Агнеш уже много дней лежала без движения. Обессиленная, она почти все время пребывала в беспамятстве. Если иногда на несколько минут и приходила в себя, то начинала удивляться:
«Хм, какие странные сны мне снились, будто здесь были люди…»
Теперь каждое движение стоило ей мучительного труда. Выйти в туалетную, открыть водопроводный кран, немножко обмыть лицо, затем, после длинного пути, на который, казалось, уходили часы, снова вернуться в контору, запереть изнутри дверь на ключ, поправить в темноте одеяло. Временами ее знобило, лихорадило так, что стучали зубы, ей становилось то холодно, то жарко. Окна и полки вихрем начинали кружиться. Ей хотелось за что-нибудь ухватиться. Пол вместе с постелью стремительно куда-то проваливался, и она тоже падала головой вниз… Когда же наступит конец этому страшному падению?
Часы ее остановились. Питьевая вода, запасенная в банке из-под томатов, кончилась. Приходя в себя на какие-то пятнадцать-двадцать минут, Агнеш в недоумении пыталась вспомнить, где она находится, и удивлялась, что над домом гудят самолеты и от взрывов содрогаются стены. Она не боялась, ей уже не хотелось жить, надежды иссякли, страдания прошли. Лишь глаза по-прежнему устремляла на свет, проникавший сквозь окно, да подолгу засматривалась на костяную руку на потолке.
Иногда из отделения красителей до нее доносились голоса, но ей все казалось, что это сон. Слышала целые фразы и тут же забывала их, смешивала, дополняла своими собственными.
Однажды Агнеш проснулась от грохота замков.
— Эта заперта, — услышала она чей-то голос, — Может, ключ где-нибудь спрятан?
— Зачем тебе понадобилась эта каморка?
— Просто так, надо же что-то делать? Не могу больше выносить безделье. Можно с ума сойти.
Ночью послышался мужской шепот: «Ешь быстрее, пока спят».
Затем снова стало тихо.
Агнеш вот уже больше недели ничего не ела. Пульс то замирал, то бился учащенно.
В этот день она тоже многие часы подряд лежала неподвижно. Как только она проснулась, ею овладело неопределенное желание встать, подойти к полке, отыскать спрятанную там банку и, если есть в ней хоть капля воды, утолить жажду. Затем она решила еще раз обыскать ящики письменного стола, полки, может, удастся найти что-нибудь съестное.
Где-то должна быть еда, в этом она совершенно уверена, бог ведь не даст ей погибнуть от голода? Может быть, она не обследовала должным образом склад, может быть, есть еще где-нибудь таргоня.
Но тут она услышала ужасный, душераздирающий женский вопль. Затем еще один. Громыхнули выстрелы. Один. Другой. Стали доноситься крики, стоны, грохот. Снова выстрелы. Все это определенно в отделении красителей.
Что там происходит? О, может быть только одно: начались уличные бои. Гонят немцев! Гонят немцев!
Агнеш воспрянула духом. Обморочное состояние как будто прошло. Она внезапно почувствовала в себе силу и, чуть пошатываясь, села. Затем нашла брошенные на пол ключи, встала на подкашивающиеся ноги и подошла к двери отделения красителей. Шум во дворе утих. Агнеш уронила ключ и с трудом подняла его дрожащими руками. Когда дверь наконец отворилась, ею овладела такая усталость, будто многие дни подряд она без передышки занималась каким-то трудным делом, стирала белье или рубила дрова.
В красильном никого не было. На полу валялись две книги и несколько одеял. Да ведь тут были люди! Может, они и сейчас еще здесь? Стало быть, она не бредила!
Боже! Там, на полке… на полке… хлеб! Агнеш сразу забыла обо всем на свете. Два куска хлеба, кусок колбасы и вареное яйцо! Какое сокровище!
Нисколько не задумываясь, кому все это принадлежит, кто его принес на склад, она села на бочку из-под краски и обеими руками принялась разламывать хлеб. Затем, выпучив глаза, с жадностью стала набивать кусками рот и, задыхаясь, глотать почти не пережеванную пищу. Она даже не чувствовала вкуса, а только испытывала неукротимое, яростное желание глотать еще и еще.
Агнеш забыла обо всем. Забыла об осторожности, забыла об опасности и только ела. Она даже не слышала рева сирен, не слышала приближения самолетов.
С улицы послышался страшный грохот. Какой-то самолет низко кружился над зданиями. Из крыши соседнего дома вырвался к небу столб дыма и пламени. Агнеш выпустила из рук остатки хлеба и уставилась в окно. В следующий момент она увидела на небе огненную полоску. Казалось, будто вихрем падала вниз зажженная свеча, устремив свое пламя к земле. Затем закачался пол, раз, другой, еще и еще…
Агнеш пошатнулась и не успела еще осознать всего происходящего, испугаться, как стекло огромного окна с лязгом посыпалось на пол. Через зияющий оконный проем ворвалась пыль, повалил дым и ледяной воздух. Агнеш услышала новый треск. Простенок отделения красителей и конторы рухнул, а вслед за ним обвалилась и выходившая на улицу стена конторы. На то место, где час назад неподвижно лежала девушка, навалились пудовые глыбы. Развалины похоронили под собой ее меховое одеяло. Только одни «Подмененные головы» остались целы и невредимы.
Что со мной будет? — в страхе подумала Агнеш.
На полке Агнеш нашла еще немного еды, завернутой в газету: два ломтика хлеба и между ними кусочек сала. «Отложу на завтра, — решила она, но тут же принялась жевать. — Я могла бы съесть весь мир».
Проглотив хлеб и сало до последней крошки, она снова пришла в отчаяние. Здесь ей больше оставаться нельзя. Никоим образом. Стало так холодно, что за ночь она замерзнет.
Кто мог забыть здесь пищу? Кто здесь прятался? Неужели им удалось спастись? Неужто русские вошли в город? Или, может быть, тех, что были здесь, обнаружили нилашисты? Но почему же ее не заметили?
Агнеш нашла на полке обрывки газеты. Попробовала было прочесть заголовки, но было так темно, что она с трудом разобрала лишь отдельные слова. «Вождь нации повелевает». Кто такой? Кто он, этот вождь нации? «Вождь нации Ференц Салаши сегодня утром…» Боже, что происходит на свободе? Салаши — главарь нилашистов. Значит, Хорти уже не управляет государством?
Агнеш продолжала стоять в своем разрушенном убежище. Не было больше ни продуктов, ни жилья. Что же делать? Здесь оставаться нельзя.
А что, если ей вернуться домой?
В городе полнейший хаос. Кто станет сейчас искать ее за какие-то необдуманные слова? Может быть, Татар, Паланкаи и весь завод уже давно эвакуировались в Германию. А если нет? Все равно! Здесь ей не вытерпеть и одних суток. К тому же, немного утолив голод, она почувствовала в себе столько сил, что их хватит на то, чтоб дойти до дому. Кто бы ни оставил здесь пищу, пусть ему бог воздаст сторицей за это.
Некоторое время она еще оставалась в разрушенном складе, но уже с мыслью, что решение принято: это единственный выход, надо пробраться домой.
Несмотря на то, что было еще рано — шесть или семь часов вечера, — повсюду царила кромешная тьма. На улице из гражданского населения почти никого не было; трамваи тоже ходили все реже и реже. Только немецкие солдаты в серых шинелях пробегали один за другим да шныряли легковые военные автомашины; непрерывно раздавался грохот, содрогалась земля.
Итак, надо отправляться.
Агнеш медленно приблизилась к полуобвалившейся стене. Под ее нетвердыми ногами шуршали кирпичи, щебень. Оконная рама упала на мостовую и с треском рассыпалась. Никто даже не обратил на это внимания.
Чтоб спуститься вниз, Агнеш решила воспользоваться веревкой, которую сплела в первые дни своего заточения. Но поблизости ничего не было, за что она могла бы привязать конец. Вверху торчали повисшие балки, стена напротив наклонилась: казалось, стоит притронуться к ней пальцем, и она обрушится. Можно было бы прикрепить конец веревки к батарее, но она была довольно далеко от окна. После минутного раздумья Агнеш отбросила веревку в сторону и украдкой выглянула из оконного проема. Посмотрев вниз на тротуар, она решила спуститься на четвереньках по куче щебня.
Вот и пришло время, о котором она мечтала целых четыре месяца! Она снова будет ходить по улице, покинет мрачное, холодное убежище, где ей пришлось пережить столько ужасов и страданий. Но вместо грезившейся ей радости, вместо озаренной солнцем, счастливой свободы ей грозили неведомые опасности, страшная, темная западня, бесконечный, ужасный артиллерийский обстрел.
Еще можно подумать, не лучше ли остаться здесь, мирно распластаться на полу, уснуть в объятиях холодной ночи. Но нет, нет. Ноги ее уже зашевелились, руки хватались то за кирпичи, то за выступы штукатурки; Агнеш осторожно начала спускаться. Она захватила с собой лишь «Подмененные головы», единственное свое сокровище, подарок Тибора. Ей пришло в голову, что стоило бы еще кое-что взять с собой — одеяло в отделении красителей, но она, не останавливаясь, продолжала сползать вниз; тяжело переводя дыхание, почти не помня себя, она то замирала на месте, то ускоряла движение. Прошло, пожалуй, минут пять, и вот она уже на земле.
Шатаясь от головокружения, обессиленная Агнеш попыталась встать на ноги. Ей почему-то почудилось, что она ранена. Но ни боли, ни крови не было. Она снова попыталась встать. И снова неудачно. От ужаса ее бросило в холодный пот.
В легкие врывался холодный воздух, причиняя резкую боль, она вся тряслась, словно ее била лихорадка. А что, если у нее не хватит сил подняться на ноги?
Раньше ей и в голову не приходило, что после перенесенного голода, неподвижного лежания, после месяцев, проведенных в закрытом помещении, она лишится сил, сердце будет биться учащенно, с перебоями, ноги станут подкашиваться, голова кружиться, перед глазами будут прыгать цветные круги. Теперь она сидела возле обледенелых, присыпанных снегом развалин дома не в состоянии даже бояться.
Рядом опять пробежали солдаты. Надо было бы позвать на помощь, но у нее пересохло в горле. А вдруг она онемела! Да, наверняка онемела, ведь за четыре месяца она ни разу не разговаривала с людьми. Ей хотелось закричать, но из горла вырывались только сиплые звуки! Агнеш отползла по щебню полметра в сторону и от бессилия и горечи заплакала. Почему она не погибла в огне, под бомбами? Неужто ей посчастливилось спастись только ради того, чтоб замерзнуть здесь, погибнуть от голода или попасть в руки немцев?
Агнеш распласталась на куче битого кирпича и широко раскрытыми глазами старалась рассмотреть улицу, но окутывавшая все мягкая темнота была непроглядной. Ни единой полоски света, ни единой звездочки на всем небе. Если бы у нее были силы молиться…
Боль от холода Агнеш чувствовала все меньше и меньше. Она обмякла, руки и ноги ее постепенно онемели. Веки отяжелели. «Ну, вот я и замерзну, — подумала она без всякого страха. — Замерзну… А мне ведь только двадцать два года».
Время перестало существовать. Ей было совершенно безразлично, часы или минуты лежит она на щебне. Смерть стояла рядом, приближалось небытие.
Эту тупую, умиротворяющую тишину внезапно нарушил хриплый мужской голос. Костистая рука схватила ее за плечо, на нее смотрели чьи-то блестящие глаза.
— Почему вы здесь лежите?
Губы Агнеш беззвучно зашевелились, преодолевая боль в пересохшем горле, она прошептала:
— Мне плохо.
— Где вы живете?
Но у Агнеш уже не было сил ответить. Она почувствовала, как мужчина сильными руками поднял ее, обхватил талию и с трудом куда-то потащил. Обессиленная девушка молча терпела, не испытывая ни страха, ни удивления.
— Попробуйте идти, — тихо произнес мужчина.
Агнеш, делая над собой страшные усилия, время от времени пыталась пройти несколько шагов. Ноги ее подкашивались, и она, почти в беспамятстве, падала вперед. Незнакомый человек вел, тянул ее куда-то далеко-далеко, наверное, через весь город. Вдали полыхали огни, все казалось смутным и непонятным. Может быть, это вовсе не явь, а только сон.
Они добрались до каких-то ворот; мужчина потащил ее через бесконечно длинный двор, помог спуститься по ступенькам в подвал головокружительной глубины, пропахший свечами и потом. Затем пробирались по бесконечным, продымленным, мрачным коридорам.
Мужчина распахнул дверь. Это был простой дровяной склад, на полу лежала куча угля, а в стороне высились штабеля дров.
— Подождите меня здесь, — сказал мужчина и, усадив Агнеш на дрова, исчез.
Агнеш пришла в себя лишь после того, как мужчина снова появился и стал поить ее теплой жидкостью, но не из стакана, а прямо из бутылки. С трудом переводя дыхание, она глотала эту жидкость, у которой был какой-то приятный вкус, почему-то напомнивший ей домашний уют. Слезы невольно брызнули из ее глаз, и, вместо того чтоб поблагодарить, она с радостным недоумением произнесла:
— Кофе.
Дверь подвала снова захлопнулась, но глаза Агнеш настолько привыкли к темноте, что она уже ясно видела одеяло и кусок хлеба, которые оставил ей неизвестный мужчина. Агнеш нащупала две большие доски, положила их на уголь и, усевшись на досках, закуталась в одеяло. Волнения до того утомили ее, что она снова забылась. Так проходили часы, дни. Наверху, не утихая, свирепствовала война, грохотали орудия, от рвущихся где-то рядом снарядов содрогались стены подвала, осыпалась покрытая паутиной грязная штукатурка, поднимались тучи угольной пыли, воздух становился удушливым, густым и черным. Вблизи по коридору ходили люди, слышались их голоса.
Через какое-то время мужчина снова стоял перед ней. Он положил на дрова карманный фонарь. Тусклый свет упал на низкий потолок, обнаружил сеть паутины и готовый отвалиться кусок штукатурки.
— Сможете дойти домой? — спросил мужчина.
Агнеш утвердительно кивнула головой и сказала, куда надо идти.
— Довольно далеко, трудновато вам будет. Давайте подождем еще денька два, пока вы наберетесь сил.
— Нет, сейчас, лучше сейчас…
В воображении Агнеш вырисовывается старый дом: вот ее добрые соседки, мать на кухне готовит ужин, отец возвращается с завода, братья голодны как волки, они поднимают крышку кастрюли — не терпится скорее узнать, что их ждет на ужин… Вот ее комната… швейная машина мамы под вязаной скатеркой. Какая красивая скатерка, боже, как хочется домой.
Мужчина стоял и задумчиво глядел на девушку. Агнеш не понимала его пристального взгляда. Она и представить себе не могла, какое у нее бескровное, зеленое лицо, какие глубокие борозды пролегли под глазами, как отросли и слиплись давно не видевшие парикмахера волосы, какой вид имело ее летнее полотняное платье, как глубокая складка на шее без слов говорила о пережитых месяцах, о том, до какой степени она истощена.
— Вы не опасаетесь идти домой? Вас никто не обидит?
Агнеш испугалась. Зачем он спрашивает? Что хочет узнать от нее этот человек? Кто он такой?
Мужчина заметил ее испуг и ободрительно заулыбался.
— Я спрашиваю вот почему: если у вас есть знакомые, живущие ближе, то вам лучше пойти к ним. Здесь я не могу гарантировать вам полную безопасность, в городе устраивают одну облаву за другой. Правда, пару дней вы могли бы прожить в моей комнате, на первом этаже.
— Нет… спасибо, лучше… у меня есть знакомые на улице Ваш.
Ей опять вспомнилась Кати Андраш. Впервые за многие месяцы Агнеш почувствовала нечто вроде угрызения совести. Но вместе с тем и успокоение. Кати Андраш наверняка примет ее на несколько дней… А потом… Потом как-нибудь все уладится.
— Хорошо. Я вас провожу на улицу Ваш.
Снова кружка кофе и кусок хлеба.
И вот они отправляются в путь. Мужчина протягивает ей руку. Маленький фонарик вырисовывает круги под ногами. В сумраке вдоль улиц видны крошечные приветливые островки уцелевших зданий среди множества уходящих в небо закопченных развалин. Агнеш не хочется смотреть по сторонам, все ее внимание приковано к крошечному, светлому кружочку, но внутренним чутьем она видит вокруг себя и наполовину сползшую крышу, и обрушившийся дом, и беспокойные снопы света над домами в эту осеннюю ночь. Как давно она не видела улицы! Боже мой, да ведь это проспект Ракоци! Изуродованные дома, магазины со спущенными жалюзи, выбитые окна, сорванные вывески, но тем не менее это проспект Ракоци! На углу возвышается современный семиэтажный дом, на верхнем этаже зияет брешь от прямого попадания бомбы. Ходят ли еще часы? По этим часам она проверяла время, когда направлялась в июне в склад. Было жаркое летнее утро… тысячу лет назад. «Урания» почти не пострадала. Здесь она видела с Тибором «Мюнхаузена».
Опираясь о чужого мужчину и тяжело переводя дыхание, Агнеш старается идти с ним в ногу. Между тем мужчина не торопится, пройдя шагов двадцать, останавливается, дает ей отдохнуть.
В начале улицы Ваш они увидели груды развалин. Ой, а вдруг и дом Андрашей разбомбили! Если никого не окажется дома, что тогда будет?
— Вы подниметесь, отыщите своих знакомых, а я немного подожду у ворот. Если никого не найдете, сможете пойти ко мне.
— Как вы угадали мою мысль?
— Я не угадал… ведь иного выхода нет, теперь я не могу оставить вас.
Они опять остановились передохнуть.
— Кто вы? — спросила Агнеш.
— Я? А вы не узнали? Дед Мороз. Разве не таким вы его себе представляли?
— Серьезно, скажите… — попросила она.
— Зачем это вам?
— А вдруг когда-нибудь я смогу вас отблагодарить.
— Не ломайте над этим голову, за подобные вещи благодарить не полагается. Но как меня звать, я скажу, это не секрет. Балинт Эси.
— А я Агнеш Чаплар.
— Бежали из гетто?
— Нет-нет. С военного завода.
— Можете идти?
— Попробую.
Эси остался у ворот.
— Буду ждать пятнадцать минут, ладно?
— Спасибо.
Агнеш стала подниматься по лестнице. Она уже занесла было ногу на следующую ступеньку и вдруг обернулась.
— В чем дело? — спросил Балинт.
— Примите от меня «Подмененные головы», — попросила Агнеш и протянула ему книгу.
— И не подумаю.
— Если хотите доставить мне удовольствие… Не знаю, любите ли вы Томаса Манна.
— Люблю.
— Так в чем же дело?
— Раз вы ничего больше не сохранили… ни одеяла, ни сумки, а только эту книгу, тогда для вас, очевидно, нет ничего дороже… Не расставайтесь с книгой. Если придется после войны встретиться, после того как вернется домой тот, кто подарил вам эту книгу, и вы станете счастливой молодой женой, пригласите меня на ужин, ладно? Может быть, подарите тогда и книгу.
— С превеликим удовольствием, — ответила Агнеш. Она еще раз пожала руку мужчине и, сразу как-то повеселев и приободрившись, поплелась вверх по лестнице.
— Только вы подождите… доберусь ли я еще за пятнадцать минут, — запыхавшись, проговорила она с середины крутой лестницы. Пожалуй, такого высокого дома не найти во всем Будапеште. Да разве только в Будапеште? И среди небоскребов Нью-Йорка.
На коричневых дверях со стеклянными филенками висит старая табличка: Андраш. Звонок не звонит, но на стук вышла тетушка Андраш в темно-синем фланелевом платье. Она развела руки.
— Агика!
— Тетя Андраш, дорогая!
— Ну-ну, не плачь, душенька, заходи. Тесновато у нас. Комнату Пишты разворотила мина; славу богу, мы были в подвале, когда это случилось. Катики дома еще нет, с минуты на минуту явится. Только бы налета не было. Боже мой, как ты исхудала! Только чаю могу дать тебе, душенька, или немного супа. Лучше суп, правда?
Все тот же знакомый запах: нафталин, айва. Прежняя, милая мебель, старомодный шкаф. На комоде в черной рамке фотография Йошки Андраша. На полке книги. Вот и томик с названием «Гибель Западного мира»… Это из него Кати вынула тогда фальшивые документы… Овальный кухонный стол. Здесь они играли в «машину времени». Что будет через десять лет? Что будет через год? Что будет через час? Как хорошо, бесконечно хорошо, что мы не знаем этого наперед!
Во что я верю
Кати Андраш зашла к дворничихе.
— Скажите, пожалуйста, в этом доме живут Чаплары?
В тесной, маленькой кухне дворничиха как раз готовила обед. Всюду копошились дети. Крохотный малыш сидел на стульчике и играл спичечным коробком. Две девочки рисовали за столом, две другие вертелись у печи — и все следили за матерью и за большой кастрюлей, упиваясь запахом картофельного супа.
— Чаплары? Зачем вам нужны Чаплары?
Под пристальным взглядом женщины Кати на минуту стушевалась.
— Их дочь должна мне сто пенге. Я шила ей платье.
— Ах вот как, ну тогда можете поставить крест. Барышню арестовали.
— А… арестовали?
— Ну, конечно. Плохие люди были эти самые Чаплары. Коммунисты.
— Да неужели!
— Правду вам говорю. Хватало же у этой барышни нахальства заказывать платья, флиртовать, быть главным бухгалтером, заставлять парней провожать себя. И все же ее упрятали. На десять лет упекли. Я сама была на суде.
— Да мне все равно, кто будет платить долг, только бы заплатили. А семья ее здесь проживает, не так ли?
— Проживать-то проживала. Отца и старшего брата еще в марте мобилизовали. А младший, Ферко, недавно ушел в левенте. Одна старушка была среди них порядочной: кроткая такая, хорошая женщина. Так и она заболела от волнений и переехала куда-то к родственникам. Куда же она говорила? Фюлёпсаллаш или какое-то поле… возле Кечкемета.
— Стало быть, в квартире никого нет?
— Ни души. Она заколочена.
Кати Андраш оторопела. Утром она ушла из дому с намерением навестить тетушку Чаплар. Сказать ей, что Агнеш живет у них, что она очень слаба и все время просит позвать мать — хочет повидаться с ней. И вот она никого не застала. Как же об этом рассказать Агнеш?
Видя, что девушка огорчена, дворничиха сказала ей:
— Мне жаль вас, но что поделаешь? Родственников их я не знаю. Теперь разве только после войны вернут они ваш долг, и то неизвестно…
— Ну что ж, спасибо, — поблагодарила Кати и пошла домой.
Агнеш все еще лежала в постели. Доктор Ач не разрешал ей вставать. Она была счастлива тем, что может спать в постели, есть суп, пить кофе и рядом с ней добрая тетушка Андраш. Однако она с нетерпением ждала Кати. Застала ли она дома ее мать? Скоро она придет и расскажет, как ведут себя соседи, что поговаривают о ней, можно ли вернуться домой.
Но, когда Кати пришла и выложила все начистоту, Агнеш расплакалась от отчаяния.
То Ач, то Кати пытались ее утешить.
— Да, матери, пожалуй, лучше пересидеть это время в провинции. Там и продукты можно достать и бомбежек, наверное, таких не бывает. А ты останешься здесь, поживешь у нас. Если почувствуешь себя лучше, Кати сведет тебя к себе в шляпный салон, будете работать вместе. Ведь все это долго не продлится…
Куда девалась мать? Возле Кечкемета? Очевидно, уехала на хутор к крестным.
Ач разглядывал карту.
— А знаете, Агнеш, там уже русские.
Все послеобеденное время Агнеш только об этом и думала. Господи… там уже русские. Неужели правда? Может, дней через десять они и сюда придут. Или недели через две. А может, и завтра.
С какой же стороны армия вступит в город?
Отец рассказывал, что, когда войска Франца Иосифа вошли в Белград, там два дня подряд шел свободный грабеж. Женщин стаскивали прямо с постелей, разлучали с мужьями, взламывали спущенные шторы магазинов, ведрами пили водку. По улицам вино рекой лилось, все смешалось: вино, керосин, чернила, одеколон, масло, пиво, уксус, варенье.
Солдаты выставляли двери квартир, выбрасывали из шкафов вещи, ложились на постель в обуви и одежде, забирали драгоценности, пожирали все съестное, и считалось за благо, если в довершение ко всему не поджигали дом.
Что сулит ей приход русских? Она ждет их, надеется, радуется их приближению. А вдруг они станут приставать к ней, убьют ее или угонят в Сибирь на каторжные работы, как угоняли немцы украинских, чешских, французских девушек?
И будут ли устанавливать коммунизм? И что это такое — коммунизм?
А какая она сама, эта Россия? Агнеш почти ничего о ней не знает. Как смешно получается — ведь на выпускном экзамене по географии ей пришлось рассказывать о России. Помнится, она изрядно струсила, когда вытащила этот билет.
— О России, об этой таинственной стране, мы знаем очень мало, — начала она свой ответ. Председатель одобрительно и приветливо закивал головой. Она же, как можно было предположить по ее вступлению, выдавила из себя всего несколько фраз. Транссибирская железная дорога, Омск, Томск, Иркутск, Чита, Владивосток… Затем важный порт Санкт-Петербург в устье реки Невы, известный своими пушными ярмарками Нижний Новгород…
— А еще? — рассеянно спросил председатель. — Что вам известно о политическом устройстве России?
— Убили царя, вспыхнула революция… коммунисты не верят в бога…
Этого оказалось вполне достаточно для получения отличной оценки.
«Как же это я не пыталась узнать о ней больше, — с досадой думала Агнеш. — Не интересовалась, какая там жизнь, какой он на самом деле, этот коммунизм, чего они хотят, собственно говоря? Как я могла жить, не зная, что происходит вокруг меня? В сущности, как я представляю себе мир? Во что я верю? Не знаю».
Агнеш принялась рыться в своих воспоминаниях.
Она знала сказки, которые рассказывал ей отец, когда в детстве она подолгу болела. Собственно говоря, это были не сказки, а скорее песни и стихи. О куруцах[27], о войнах, о бедных людях. Одну такую песню она надолго запомнила: «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов». Она не понимала, что значит «рабы» или «проклятьем заклейменный». Но она никак не могла понять, почему так пугалась мать, когда Агнеш, выучив слова, принималась петь.
— Это ты не пой… это нельзя громко петь…
Как получилось, что стихи, песни, рассказы об отце, некогда, еще до рождения Агнеш, переплывшем у Комарома Дунай, ящик книг под кроватью, случайно оброненное слово никогда не обретали в ее уме особого смысла? Почему она не догадывалась, что ее отец причастен к событиям, происходившим здесь в девятнадцатом году? «Почему я этого не знала? — спрашивает она у самой себя. — Потому что не хотела знать».
Ей исполнилось десять лет, когда отца лишили права работать в Словакии и семья вернулась в Будапешт. Тогда была весна, она перешла в четвертый класс начальной школы. Осенью записалась в городскую школу. На первом уроке им задали сочинение на тему: «Почему я люблю Будапешт».
Десять минут она в отчаянии грызла ручку. Ей было приятно от сознания, что они могут жить дома, в Венгрии, и ей разрешается посещать венгерскую школу. Но города она не любила. Боялась с шумом проносившихся трамваев, испытывала головокружение на четвертом этаже, а коридорная решетка ей почему-то напоминала тюрьму. Играть во дворе запрещается. Ходить по клумбам и газонам запрещается. Бегать запрещается. Кричать запрещается… О, где вы, ивовые заросли на берегу Нитры, сад бабушки с увитой виноградом беседкой и кустами сирени! Сад, где она в октябре находила под опавшей листвой орехи и прятала свои сокровища в норке возле ограды. Деревья на склоне горы, красивые клумбы в палисаднике, где с ранней весны до поздней осени цветут ландыши, анютины глазки, гвоздики, георгины, хризантемы, сад, где щедрые абрикосы и груши сбрасывали на гравиевую дорожку спелые плоды, где среди колючих веток крыжовника и смородины она с удовольствием отыскивала созревающие кислые плоды.
Она глянула поверх тетради на пыльный школьный двор. Ни деревце, ни зеленый клочок земли не радовали ее глаза. Вокруг высились пятиэтажные хмурые кирпичные здания. Во дворе ученики третьего класса лениво занимались физкультурой, из класса пения доносились отдельные звуки рояля. Мелодия показалась ей печальной. И Агнеш озаглавила свое сочинение «Почему я не люблю Будапешт». Сочинение вызвало шумный скандал. Директор школы Шандор Гендер, усатый мужчина со щетинистыми волосами на голове, не стал требовать длинных объяснений, а поднес к глазам Агнеш тетрадь и спросил:
— Это ты писала?
— Я.
— Послушай, ты, паршивая коммунистка. Раз мы тебя приняли, то веди себя как подобает. Но если ты действительно не любишь Будапешт, если ты чешка, то отправляйся немедленно туда, где тебе больше нравится.
С этими словами он отвесил девочке громкую пощечину.
— А теперь ступай к себе в класс и смотри мне, иначе в два счета вышвырнем отсюда.
Тот год был для нее годом бунтарства и сомнений. С ожесточением и враждой следила она за своими преподавателями. Мне не нравится здесь, то и дело повторяла она про себя и в конце года получила такое пестрое свидетельство, какое только можно себе представить. По венгерскому языку — тройка!
Строптивость первого года прошла бесследно. Сердце ее стало мягким как воск, податливым, доверчивым. Шел урок истории; учитель подходил к доске и рисовал пирамиду. «Так выглядит правильное построение общества, — объяснял он, — в основании рабочие и крестьяне. Середина — более узкая часть — это чиновники, учителя и врачи. Вершина: аристократия и генералитет. А над всеми — мудрый и добрый правитель. А что такое революция? — И учитель тут же чертил пирамиду острием вниз. — Миллионные массы выбивают из рук достойных управлять государством людей власть и пожирают друг друга в борьбе за нее. Стало быть, такой строй не может существовать…» Агнеш записала в тетрадь слова учителя, заучила их наизусть, она твердо поверила в них. На уроке экономики она слышала: «Производство состоит из трех факторов: природы, труда и капитала. Против экономических кризисов весьма успешно борются конъюнктурные институты». Агнеш записала, выучила и поверила. Поверила, что если в начале новой истории испанские завоеватели грабили Южную Америку, то колонизация девятнадцатого века приносила отсталым народам культуру. И с энтузиазмом собирала оловянную фольгу, которую перед уроком сдавала его преподобию, и была счастлива, что этим содействует работе миссионеров, приобщающих с риском для жизни к истинной христианской вере и вечному блаженству язычников Азии и Африки.
Верила?
Сейчас ей становится жутко от сознания, что она никогда не верила в это.
А верит ли она в превосходство западной культуры? Они вдохновенно говорили с Тибором о Гёте и Викторе Гюго. Но разве Толстой не такой же великий писатель? А Китай разве ничего не дал человечеству? Продолжает ли она верить, что то, о чем она не знает, вовсе не существует? Верит ли, что Россия такая страна, какой она видела ее в американском фильме «Ниночка» с участием Греты Гарбо? Верит ли еще в то, о чем ежедневно воет радио и кричат подстрекательские плакаты? Нет. Не верит. Ни единому слову не верит. Русские бесчинствуют? Ей известно только то, что венгры устраивали свирепые расправы на украинской земле, что капитаны Петер Декань и Сюч хвастаются фотографиями растерзанных девушек-партизанок, грабят ковры, иконы, самовары, драгоценности. Разве Советский Союз не может поступить по-рыцарски? Разве он не вернул нам знамена сорок восьмого года? Говорят, будто нет советской промышленности. А выставка в сороковом году на Всемирной ярмарке? Агнеш тоже ходила туда, тысячи людей стояли у входа. Столько народу толпилось впереди и позади нее, что она не могла даже остановиться, а, увлекаемая общим потоком, медленно прошла вдоль всего павильона. Ей запомнились тракторы, замечательные ткани, великолепные книги, хлебные злаки. Тогда живший с ними по соседству старый плотник получил работу на строительстве павильона. По его рассказу, он зарабатывал в два раза больше, чем на любой другой стройке.
Нельзя поверить, чтобы люди сражались с таким упорством за свою родину, если им плохо жилось… Кто такие партизаны? Сыны народа, не примирившиеся с фашистскими жестокостями. А из кого состоит армия, которая вот уже две тысячи километров гонит назад крупнейшую в мире военную силу — нацистскую армию? Она состоит из тех, кто образует основание пирамиды, — из рабочих, крестьян и вышедших из их среды генералов. Нацистская армия три года подряд одерживала одну победу за другой. Воевала в Африке, покорила половину Европы, дошла до Москвы и стен Сталинграда. Армия победителей преисполнена энтузиазма. Но откуда русские взяли силы, чтобы через сожженные села и разграбленные города, на многие сотни километров организовать поставку пополнений, предпринять такое мощное контрнаступление, какого еще не знала история? Неужели русские собираются завоевывать чужие земли? А кто объявил войну? Сталин или Хорти?
Все, чему нас учили в школе, что я читала в газетах, во что верила, было сплошной ложью… Но удастся ли мне когда-нибудь узнать правду?
В комнату заглянула Кати Андраш. Она тихо вошла и, обернувшись назад, сказала:
— Заснула.
— Нет, я не сплю, Катина. Только задумалась.
— Как ты себя чувствуешь?
— Хорошо. Очень хорошо. Но скажи, Кати, во что ты веришь?
— В то, что люди могут жить без войн, в мире… их только надо научить этому, — ответила Кати, нисколько не удивляясь неожиданному вопросу.
— Да, было бы неплохо, если бы люди жили в мире и согласии.
— Мы еще доживем до этого. Но, пока суд да дело, мама спрашивает, не поела бы ты чего-нибудь, ну, хотя бы хлеба с жиром?
— Самая лучшая еда на свете. Спасибо, принеси, пожалуйста.
Единственная возможность
Эмиль Паланкаи старший позвонил. Стоя у ворот, он любовался двухэтажным красивым зданием виллы в центре огромного парка. Порыжевшие листья дикого винограда качались на ветру, забытая лиловая гроздь, болтаясь из стороны в сторону, купалась в каплях мелкого густого дождя. Выкрашенная в красный цвет садовая скамейка, орех с поредевшей кроной, темно-коричневая и черная скорлупа среди опавшей листвы, поблекшие хризантемы и блестящий от дождя плющ — все это напоминало картину, которую можно было бы назвать «Мир и умирание».
— Неплохой у него вкус, — пробормотал старый Паланкаи. — Что не говорите, мой любимый сынок — моя отрада.
Подняв воротник плаща, он позвонил еще раз. Ждать пришлось минут десять, пока на террасе появилось живое существо. И причем прелестное, женское существо в темно-синем шерстяном платье с красной свежей розой в волосах. Женщина быстро приблизилась по гравиевой дорожке к решетчатым воротам и высунула в окошко один нос.
— Кого изволите искать?
— Эмиля Паланкаи младшего.
— Зачем?
— Об этом я скажу ему лично.
— Говорите мне. Я его жена.
— Вот как? Очень рад. А я его отец.
Молодая женщина покраснела до корней волос. Она торопливо открыла калитку и со смущением в голосе произнесла:
— Входите, пожалуйста, я пошутила…
— А если и правда, тоже не велика беда. Эмиль уже совершеннолетний. А вы, право, довольно милы.
Эмиль еще лежал в постели. Услышав шум шагов, он закричал:
— Муцика, кого там черт принес?
— Пришел твой отец, — послышался суровый ответ.
— Входи, старик, я жду тебя.
— Ждешь? — удивился Паланкаи-отец, входя в спальню сына. — Как вижу, ты действительно женился, — указал он на двойную кровать.
— Папа, не говори глупостей, — произнес Эмиль и сел. — Вот сигареты, там — абрикотин, и говори, сколько тебе надо. Много денег у меня нет.
Старый Паланкаи прямо из бутылки глотнул раз-другой, вытер рот и уселся рядом с сыном на кровать.
— Так, значит, ты меня ждал?
— Я читал военные сводки. Выгнали русские тебя из твоих владений. Ты всегда ставишь на битую лошадь.
— Ты же уговорил меня стать бургомистром.
— Но я не предсказывал, что это будет пожизненно. Каким поездом ты приехал?
— Поездом? Думаешь, что можно приехать поездом? Эмиль, сынок, люди — звери, выбрасывали друг друга из грузовиков. Вокруг рвались русские снаряды. Скажу тебе по секрету, войну мы окончательно проиграли. Теперь придется ждать лет двадцать, пока снова представится возможность.
— Ты с ума сошел, папа? — удивился Паланкаи-сын. — Только потому, чго большевики немного продвинулись вперед? Мы тоже были под Москвой.
— Глупый ты, сынок! Посмотри на карту и дай мне лучше абрикотина.
— Бери, — ответил Эмиль, облокачиваясь на постель. Из-под подушки посыпались отдельные листки бумаги, и со стуком упала на пол авторучка. Вечером Эмиль работал: редактировал речь, написанную им по поводу проводов мобилизованных левенте, да так и уснул.
Отец поднял листки, прочитал и заулыбался.
— Хорошо. Почти такая же глупость, как и радиопроповеди главаря левенте витязя[28] Алайоша Белди. Здесь, сынок, речи уже не помогут. Нужно нечто такое, что сделали немцы с бойскаутами в Пешпекладани. Впрочем, и это уже не поможет.
— А что они такое сделали?
— Видишь ли, барчуки не хотели идти в армию. Когда роту маршем отправили на запад, пытались бежать. Сопливые шестнадцати-семнадцатилетние юнцы. Немцы поймали пятнадцать человек и расстреляли на месте. Остальные пошли, словно ручные барашки. Кстати о барашках. Сынок, ты, кажется, тоже был вчера вечером в городском театре?
— Был.
— И тоже бежал без оглядки, а?
Эмиль младший не ответил, только покраснел. Затем после продолжительного молчания тихо спросил:
— Папа, неужели мы и в самом деле проиграли войну?
— Без всякого сомнения, сынок, совершенно определенно.
Паланкаи уставился на красную парчовую подушку. Сегодня ночью он впервые подумал, что они могут проиграть войну. Прежде никогда не ломал себе голову над такими вопросами. Гитлеровская армия — самая замечательная армия в мире. Самая современная, самая дисциплинированная, самая фанатичная. Линию Мажино переступила так, как подросток переступает канаву. Не прошло и недели, как было сломлено сопротивление Бельгии, Голландии. Через несколько дней у ее ног лежал Париж. Сколько славы! Тигры Роммеля, покорение Норвегии и жестокий ливень бомб на города гордого Альбиона… А успехи Японии? Вторжение в Бирму, живые торпеды. А падение украинских и русских городов: Киев, Минск, Орел… Сколько славы, какие трофеи!.. Борьба требует жертв? Война есть война. Нацисты бесчинствуют на Украине, во Франции? Vae victis![29] — так уж положено. Но в конце концов восторжествует чистая раса, и только германский и финно-угорско-туранский союз будет управлять всем миром.
Да, до вчерашнего дня все было так ясно, так понятно. А с каким усердием писал он в своей зажигательной речи о тактическом отступлении, о собирании сил для последнего удара, о предназначении венгерской расы, о великой Венгрии! И вот вчера вечером он впервые почувствовал сомнение. Это было жуткое чувство. Оно пришло к нему после того позорного бегства, на площади Кальмана Тиссы. Он остановился и плакал, как сопливый мальчуган. И напугало его не то, что коммунисты бросили бомбу в митингующую толпу. Пока идет война, коммунисты присутствуют везде, это ясно. Они взорвали монумент Гёмбёшу, сеют смуту среди солдат, создали такое настроение, что эта свинья, этот предатель Хорти вынужден был запросить перемирие. Все это он знал и раньше. Устрашающим было поведение братьев-нилашистов. До сих пор Паланкаи считал нилашистов смелыми и отчаянными. Когда вечером пятнадцатого октября на проспекте Раксци они громко приветствовали Салаши, когда занимали квартиры и с оружием в руках сопровождали в тюрьмы ненадежные элементы, когда дрались в университете, когда стучали ногами и кричали в «Доме верности», — в такие моменты Паланкаи воображал, что, стоит только нилашистским легионам в черной форме с зеленым нарукавным знаком отправиться на фронт, они голыми руками разобьют танки, а может, даже самолеты сметут с неба. Возвратясь домой после окончившегося общим бегством митинга, он увидел на столе начатую речь: «Держитесь до тех пор…» «До каких? — спросил он у себя. — Пока мы отразим большевистское чудовище, отбросим его назад в Азию, принесем освобождение балтийским государствам…» В каком-то оцепенении Паланкаи смотрел на свое сочинение. Нет, не в том беда, что надоело воевать, что приходится на две тысячи километров отодвигать назад фронт, что за это надо будет дорого расплачиваться: пожертвовать многими миллионами новых жизней, подвергнуть сожжению новые города, убивать младенцев, женщин. Весь вопрос в том, удастся ли еще раз? Им неожиданно овладел страх при мысли, что немецкая армия утратила свою силу. А что, если русские окрепли и больше не отдадут Орла и Севастополя? А вдруг английские и французские солдаты всерьез борются против Гитлера? А что, если не напрасно шепчут, будто брянские леса, Украина, Польша, Прикарпатье и Франция — вся оккупированная Европа полна партизан, которые от мала до велика ненавидят нацистов, как ненавидят их здешние Лоранты Чути и Карлсдорферы, отказывающиеся помогать нашей общей борьбе? Помогать? Нет, они охотнее всего пошли бы на сговор против дружественных нам немцев… А что будет, если мы и впрямь проиграем войну? — с ужасом подумал он. Затем забился в постель, взял свою речь и принялся было редактировать ее, но, лишившись покоя, уже не мог отделаться от навязчивых мыслей. Неужели он всего лишится: и прекрасной виллы на Шва бской горе, и возможности ходить в учреждение, только когда появляется охота, быть там неограниченным хозяином и командиром пештэржебетских левенте, и денег, и этой женщины? Трудно себе представить, чтобы он снова трудился в поте лица за какие-то сто пенге в месяц, время от времени сдавал ненавистные экзамены по праву, лишь бы только устроиться где-нибудь помощником адвоката, ходить в суд, слушать какие-то жалкие дела и защищать мелких мошенников… Он прогнал от себя дурные мысли, выпил полбутылки абрикотина, выронил ручку, бумагу и заснул. И вот теперь он проснулся при виде стоящего перед ним отца, напоминающего лохматое, усатое, старое привидение в ботфортах. Отец говорит те горькие слова, которые он сам не осмелился сказать.
— Ну, что, сынок, чего приуныл?
— Ничего. Рассказывай, папа, зачем пожаловал. Что надо?
— Пришел прощаться, родной. Завтра уезжаю в Клагенфурт. И, как любящий отец, прошу тебя, отдай мне на хранение свои ценности.
— Да. Чтобы потом вместо Клагенфурта смыться в Аргентину. Я тебе не мама. Хочешь меня оставить с тремя сиротами.
Это не смутило старика.
— Если у тебя имеются деньги, драгоценности, давай их сюда. А сам все за месяц ликвидируй и приезжай ко мне.
— Грандиозно! Ликвидирую свое мамонтово предприятие. Продам две тысячи римамуранских акций и долларовых облигаций, возьму ипотечный кредит под все свои дома. Что мне ликвидировать? Эта скромная вилла — все мое состояние, а ее трудно будет увезти с собой.
— А Завод сельскохозяйственных машин?
— Где я работаю практикантом?
— И дурак же ты, Эмиль. Когда ты собираешься разбогатеть, если не теперь?
— А что я должен делать, папа?
— Разве я определил тебя, сынок, на юридический факультет затем, чтобы ты просил у меня совета? Я никогда не упрекал тебя за непосещение занятий, но, как видно, напрасно. Ну так знай же, какой у тебя отец. Я скажу, что надо делать. Зачем ты убрал бутылку?
— Не пей, папа. Иначе забудешь все, что хотел сказать.
— Не забуду. Есть у тебя коллега, на которого ты мог бы положиться?
— Нет.
— А такой, кто согласился бы сделать услугу за деньги?
— Сколько угодно.
— Например?
— Анна Декань.
— Здесь нужна не девушка. Он должен быть по меньшей мере управляющим.
— Есть. Управляющий Татар.
— Ты мог бы вызвать его сюда?
— Позвоню.
— Да, а почему это ты сегодня не в конторе?
— Поленился, — ответил Паланкаи-сын и, потягиваясь, вылез из постели, поднял телефонную трубку и набрал номер Завода сельскохозяйственных машин.
— Алло, господин управляющий Татар?.. Что делаешь, старина?.. Плохо себя чувствую. Нет охоты. Сможешь зайти ко мне на минутку?.. Когда?.. В три часа дня?
Паланкаи старший одобрительно кивнул головой.
— Ну, ладно. Буду ждать.
Татар все утро думал, зачем он понадобился Паланкаи. «Загадочно, загадочно…» — бормотал он. Многие дни подряд он сам ломал голову над тем, как ему поговорить с Паланкаи. Татар, между прочим, уже давно вынашивал грандиозный план. Этот план все рос, ширился, разветвлялся и с каждым днем все больше и больше волновал управляющего, настоятельно требуя, чтобы, пока не поздно, его осуществили. Разумеется, одному Татару он не под силу, для этого нужна помощь Паланкаи. Паланкаи располагает прекрасными связями в нилашистской партии, но сам он еще несовершеннолетний. Впрочем, это и хорошо, он может стать помощником, но не противником. Надо ему втолковать, что Карлсдорфер не способен управлять имуществом Хофхаузера — Ремера, поскольку он саботирует, противоречит своими действиями интересам тотальной войны. Поэтому-то Национальный банк должен лишить полномочий Карлсдорфера и передать их ему, то есть управляющему Татару. Управление имуществом вместе с тем означает неограниченное право распоряжаться большей частью акций. Если он получит такие полномочия, то сразу же проведет заседание дирекции, затем созовет общее собрание и добьется своего назначения, то есть займет место генерал-директора Карлсдорфера. Паланкаи станет директором, и они вдвоем прикажут эвакуировать завод на запад… Если немцы выиграют войну, можно будет вернуться, если же проиграют, уедут с деньгами в Швейцарию или в Южную Америку…
Из конторы можно было уйти и в два часа, но уже в полдень Татар потерял всякое терпение и, взяв шляпу, вышел. Правда, он заглянул к господину Тобиашу и предупредил его о своем уходе. Господин Тобиаш в ожидании пенсии служил секретарем в городском управлении. Беззубый подагрик, которого приняли в осиротевшую контору чем-то вроде администратора, трудился один вместо Керн, Чаплар и госпожи Геренчер.
— Если его превосходительство господин Карлсдорфер будет спрашивать, — сказал Татар, стоя в дверях, — впрочем, он все равно не будет спрашивать.
Господин Тобиаш что-то пробормотал ему в ответ, но Татар уже шел по коридору. Почтенный архивариус счастливо заулыбался, вытащил ящик письменного стола и для пущей осторожности еще раз осмотрелся. В конторе было пусто, повсюду царила тишина. В большой комнате над заброшенными письменными столами тикали на стене старинные часы. Вот уже скоро девять месяцев, как их в последний раз заводила госпожа Геренчер. По утрам она переводила стрелки на пятнадцать минут вперед, а в обеденный перерыв незаметно сдвигала на полчаса назад.
В бухгалтерии тоже стояла тишина. Анна Декань читала какой-то роман, а маленькая Тери Маринаш очень усердно старалась занести в книги сложные счета. Она отдельно калькулировала основные цены тридцать восьмого года и наценки военных лет, затем заносила сумму, которая, впрочем, никогда не соответствовала цифре на счетах, на специальную карточку… Йолан Добраи уже давно бросила работу. Перед своим отъездом она хвасталась, что за ней явился Курт и они поедут в Вену, а оттуда в Нюрнберг, так как там у родителей Курта якобы есть свой завод и шесть доходных домов. Из этих шести три дома они переводят на имя Курта. Во всей этой истории не было и слова правды. Курт никогда не жил в Нюрнберге, и у его родителей не было ни завода, ни домов. Да будь у них такое богатство, они ни в коем случае не стали бы отписывать его Курту, поскольку и сами с трудом перебивались с хлеба на воду. И вдобавок ко всему Курт вовсе не заходил за Добраи, так как он сидел в лагере для военнопленных и уже давно забыл о Йолан. Добраи уехала не в Вену, а в Сомбатхей, к своей тетке.
Комнаты госпожи Геренчер и Императора тоже пустовали. Карлсдорфер заходил в контору редко. Появлялся в полдень на какие-нибудь полчаса, проходил мимо опустевших письменных столов, рассеянно кивая головой, выслушивал доклады Татара, затем возвращался к себе в кабинет и доставал испещренный цензурой номер газеты «Цюрхер» и карту Европы, которую он после долгих колебаний все же принес к себе на работу. Но теперь и военные сводки его мало интересовали. Многие недели город жил в душной атмосфере, которая обычно бывает накануне бури. Хлынувшие из Грансильвании беженцы, хотя и не видели советских солдат, рассказывали о них самые нелепые истории; постоянные воздушные налеты, мобилизация все новых и новых возрастов, трудности с продовольствием, спешная эвакуация столицы — все это наводило страх, парализовало всякую работу и делало некогда важную деятельность столь непонятной и смешной. Ведут учет? Пусть ведут. Не ведут учета? Не надо. Послали образцы базальта государственному строительному управлению? Послали. Не послали? Так и быть. Скучными и смехотворными казались важничанье Татара, заводские накладные, наряды, планы транспортных перевозок. Коловжар, Арад в руках советских войск. Может, осталось каких-нибудь пять-десять дней… Завод задыхался от недостатка материалов и электроэнергии. Чути систематически присылал заявки на материалы, и Татар тщательно заносил их в толстую книгу. Но это имело не больше смысла, чем вести, например, температурную кривую девяностолетнего больного, страдающего раком желудка. «Только оттянуть время, — думал Карлсдорфер. — Войдут союзные войска, уберутся восвояси эти вандалы, и к власти придут благородные люди, вернутся из Лондона Ремеры, дадут мне окончательный расчет, куплю стройматериал, построю в Геде маленький домик с фруктовым садом, перееду туда с женой и буду писать мемуары о сражениях в Черногории». Так размышлял Карлсдорфер, ежедневно склоняясь над картой. В соответствии с военной сводкой он обводил кружком то Ниредьхазу, то Сегед, затем брал палку и отправлялся в казино.
Старый Тобиаш, оставаясь наедине с самим собой, каждый раз доставал из ящика письменного стола свое драгоценнейшее сокровище, весь смысл и главное творение жизни — контору, сделанную из спичечных коробок. Он трудился над ней многие месяцы. Из пустых коробок с помощью клея, скрепок и цветной бумаги старик смастерил мебель — письменные столы, шкафы с раздвижными дверцами, конторку с наклонной доской, столик для пишущей машинки — и наклеил все на квадратный лист картона в том самом порядке, какой запомнился ему после сорокалетней службы в регистратуре. Он замышлял выставить на полках крохотные приходные книги, сшитые из бумаги и зеленого полотна, а на письменный стол сделать из пробки крохотную подушечку для печатей. Тобиаш задумал подарить это маленькому внуку. Свой труд он начал в день рождения мальчика и предполагал закончить и преподнести ему, самому младшему Йожефу Тобиаш, когда тот пойдет в первый класс начальной школы. Времени у него достаточно: бухгалтерский стол с наклонной доской уже почти готов, а у самого младшего Тобиаша пока что появляются лишь первые молочные зубы…
Дойдя до проспекта Андраши, Татар вспомнил, что забыл подписать почту. Да пусть ее… Не все ли равно, сегодня уйдут письма, или завтра, или вовсе не уйдут… Татар хотел было сесть в такси, но его не оказалось. Разгневанный, он направился к остановке автобуса. Причуда Карлсдорфера: не разрешает, видите ли, пригонять в Будапешт легковую машину из Шомошского рудника. Пора отправить этого старика к черту на кулички. Ничего не делает, а только мешает. Надо принимать новый военный заказ — отказывается подписывать. Продать Ганц-Ендрашика не разрешает. На это, дескать, его не уполномочивали, его задача — поддерживать на предприятии статус-кво… Автомашина останется на месте, станки будут стоять там, где они стояли до сих пор. Татару не давали спать акции Ганц-Ендрашика. Он бы получил от владельца «Террохимии» двадцать тысяч пенге комиссионных, если бы сумел уговорить его превосходительство продать.
Над Швабской горой клубился густой ноябрьский туман. Все вокруг казалось поблекшим и неприветливым. Татар молчаливо сидел в переполненном вагоне фуникулера. Кое-кого из пассажиров он узнал.
На скамейках восседала группа хмурых немцев. В соседние виллы возвращались с авоськами дворники и прислуга. Они ехали с рынка от площади Кальмана Селл и в вагон не входили, а теснились на площадке. Перед самым отправлением на подножку вскочил немецкий капитан-эсэсовец. Он оттолкнул нескольких человек в сторону, вошел в вагон и оглянулся. Его глаза встретились с глазами Татара.
Управляющий минуту раздумывал, затем с подчеркнутой вежливостью вскочил и показал рукой на свое место. Эсэсовец сел и, как ни в чем не бывало, отвернулся и уставился в окно. Татар покраснел до корней волос и в дурном настроении нетерпеливо стал ждать своей остановки.
Паланкаи встретил начальника с веселой снисходительностью.
— Привет, старина. Позволь представить тебе моего папашу. Благородный, почтенный, достославный витязь Эмиль Паланкаи старший, бывший помещик, бывший гусарский офицер и бывший бургомистр. Папа, ты ведь знаешь господина управляющего Татара, моего доброго и отзывчивого учителя, который с тех пор, как мы пришли к власти, ни разу не назвал меня глупым нилашистом.
Татар в замешательстве пролепетал что-то.
— Эмиль, не фамильярничай с господином управляющим. Я вам очень благодарен, если вы действительно держите моего сына в ежовых рукавицах. Он еще совсем зелен и легкомыслен.
— Отцовское наследие, — ответил Эмиль. — Но, может быть, не будем здесь торчать, пройдемте в столовую.
— А твоя сиятельнейшая жена куда девалась? — посмотрел по сторонам Паланкаи-отец.
— Я предоставил ей выходной день и сам заменю хозяйку дома. Мне казалось, что нам будет приятнее поговорить втроем.
Паланкаи налил в рюмки вина и предложил холодное мясо.
Татар ел молча. Он ждал, чтобы разговор начал Паланкаи.
Но Паланкаи младший, по всей вероятности, интересовался только тем, чтобы насытить своих гостей мясом, вареньем, пирогами.
Наконец Татар не вытерпел и решился спросить:
— Что вы хотели мне сказать, Эмиль?
— Успеется, дядя Дюри. Возьмите себе компотику. Сейчас я приготовлю черный кофе.
После кофе снова пили вино, затем Паланкаи еще раз принялся молоть кофе.
— Вы хотели поговорить о заводе? — спросил Татар.
— Разумеется, — ответил Эмиль, продолжая возиться с мельницей.
— А о чем именно?
Так просто. Поговорить — и все. Спросить, например, у господина управляющего, доволен ли он нынешним руководством предприятия?
— Нисколько!
— Наши мнения совпадают, — произнес Эмиль и развалился в кресле. Насвистывая мотив «Голубого Дуная», он в такт вертел ручкой мельницы. — Совершенно совпадают. Кое-кто из моих партийных дружков уже говорил, что мне, как представителю хунгаристской партии, следовало бы немножко присмотреть за делами.
— О да, разумеется.
— Ну так вот, вы, как один из руководителей предприятия, могли бы кое в чем проинформировать меня.
— Простите, Эмиль, я крохотная песчинка, — запротестовал управляющий. — Если бы вы присутствовали на заседании дирекции, то могли бы сами убедиться, что я не имею права голоса. Все мои лучшие предложения не встретили одобрения. Кто выступил за военные поставки для немцев? Я. Карлсдорфер оборвал меня. Кто хотел продать Ганц-Ендрашика? Я. Карлсдорфер запротестовал. Карлсдорфер — это настоящий люцифер. А дирекция? Одни скоты бессловесные. Разве они заинтересованы в тотальной войне? Нисколько!
— Хм, что ж, Карлсдорфер тоже может расстаться с креслом генерал-директора. Если бы он даже прирос к нему, то и это бы его не спасло, — сказал Эмиль.
Старший Паланкаи перелистывал журнал «Эдедюл вадюнк», делая вид, будто не прислушивается к разговору.
Татар на минутку умолк.
— Как вы думаете, господин управляющий, что можно было бы предпринять, если бы Карлсдорфер подал в отставку?
— Подал в отставку? Он ни за что этого не сделает.
— Представьте себе, обстоятельства могут сложиться так, что он с радостью откажется от поста генерал-директора. Например, если узнает, что это спасет его от тюрьмы. А?
— А не проще посадить его в тюрьму, раз этому человеку интересы тотальной войны…
— Послушайте, до чего же вы стали рьяны, — насмешливо произнес Паланкаи. — Конечно, ничего не стоит и посадить этого дряхлого старика, но зачем нам посвящать в это дело посторонних, когда мы, как говорится, своей семейкой справимся.
— А что же вас интересует?
— Каков будет следующий шаг, если Карлсдорфер подаст в отставку?
— Потребуется найти подходящего генерал-директора, который, учитывая интересы военного производства, согласится…
— …Доходные дома, машины обратить в деньги, автомашину пригнать из Шомоша в Будапешт и движимое имущество переправить на запад. Верно?
— Совершенно верно, — согласился Татар. — Но где взять такого человека? — спросил он, улыбаясь и цинично подмигивая.
— Во всяком случае, им должен быть тот, кто хорошо знает дела предприятия… то есть ни в коем случае не посторонний, — ответил Паланкаи младший и пристально посмотрел управляющему в лицо.
— Разумеется, — одобрил Татар.
— Предприимчивый, решительный, вполне зрелый человек, — вмешался в разговор Паланкаи-отец.
— Верно, — произнес Татар, вытягиваясь.
— Чтобы он имел связи…
— Согласен.
— Чтобы он считался с интересами остальных членов дирекции.
— Само собой разумеется, — улыбнулся Татар. Искусственные, чересчур белые зубы делали его улыбающееся лицо каким-то неестественным, страшным. — Ну, тогда, дорогой Эмиль, перестанем играть в прятки. Я одобряю ваши планы и очень благодарю за доверие.
— Я рассчитывал на вас, дядя Дгори, — ответил Эмиль и запросто похлопал управляющего по плечу.
— Вы будете следить за моим сыном, — отложил в сторону газету Паланкаи старший. — Я, к сожалению, не могу оставаться при нем, но вы, как один из членов дирекции…
— Кто, кто? — оторопел Татар.
— По-моему, директор, — произнес Эмиль.
— Прекратите шутки. А кто же будет генерал-директором?
— Я, — заявил Паланкаи-сын и, скрестив ноги, подавшись вперед, посмотрел на управляющего.
— Вы? Да ведь вы несовершеннолетний.
— Я перевел Эмиля в совершеннолетние, — сладко улыбаясь, ответил за Эмиля его папаша. — Если желаете, господин управляющий, могу показать выданный министерством внутренних дел документ.
— Что вы… не беспокойтесь, я и так верю, — промямлил Татар и, выпучив глаза, уставился на вдруг повзрослевшего Паланкаи, корчившего ему насмешливую мину.
В голове Татара мысли проносились с быстротой молнии.
А что, если побежать сейчас к Карлсдорферу и рассказать, что замышляет против него Паланкаи? Глупость. Нилашистский министр Габор Кемень — друг и приятель Паланкаи, а может быть, и сам Салаши его кум. Карлсдорфер не в силах что-либо предпринять. К тому же, чем он объяснит его превосходительству свои переговоры на квартире у Паланкаи? Кстати, здесь и папа, бывший бургомистр, он тоже, кажется, проходимец первой марки. Как это ему взбрело в голову переводить Эмиля в совершеннолетние? Очевидно, здесь действуют серьезные силы. Остается одно: сторговаться с ними, и как можно выгоднее. Ведь Эмилю не обойтись без его помощи. Чути тоже располагает акциями, а у него хранятся ценные бумаги Императора.
— Кофе? Коньяку? — спросил любезный хозяин дома.
— Я лучше выпью стакан воды, — ответил Татар. — Рассказывайте же, на каких условиях вы собираетесь со мной сотрудничать.
— Договоримся на джентльменских началах, дядя Дюри. Мы же люди порядочные.
— Именно поэтому составьте договор в двух экземплярах, дети мои, — посоветовал старик, пододвигая к себе бутылку с коньяком.
— Генерал-директор Эмиль Паланкаи младший. Директор-администратор Дердь Татар. Согласны?
— Хорошо, — коротко ответил Татар.
— Не будьте вы таким сердитым, старина. Разве прежде вам каждый день предлагали пост директора?.. Члены дирекции… Постойте… Скажем, папа… Чути придется оставить, У кого еще имеются акции?
— Это не имеет значения, — ответил Татар. — Кое у кого из дальних родственников Ремера. Они все равно не придут на общее собрание, их уже или угнали, или запрятали в гетто.
— 1 огда возьмем моего друга, доктора Жилле. В крайнем случае подарим ему десяток акций. Его отец работает главным адвокатом Национального банка, вот он и переведет на нас все имущество.
— Я беру на себя управление имуществом Хофхаузера — Ремера, — быстро проговорил Татар.
— Вы что, за глупца меня считаете, старина? Будет лучше, если большинство акций возьмет в свои руки генерал-директор.
— Договоримся и запишем, что, как только окажемся в Клагенфурте, ценности поделим. Поровну…
— Ну уж нет, — возразил Паланкаи. — Половину получу я, а вторую половину поделят между собой поровну все члены дирекции.
— Что, что?! Чтобы вам отдать половину, да еще вашему папаше и дружку уступить по восьмой части? Что же мне достанется — только восьмая доля?
— Хм. Это действительно нехорошо, — согласился Эмиль. — Пусть вашей будет одна четвертая, другие три члена поделят между собой остальное.
— Одна треть, или я отказываюсь вести с вами переговоры, — вскочил Татар. — За кого вы меня принимаете?
Паланкаи пожал плечами.
— Вы считаете, что меня можно шантажировать?
— Я не шантажирую, но свинства не потерплю. Без меня вы ничего не сделаете. Акции Аладара Ремера хранятся у меня, я поговорю с Чути, с полковником Меллером…
— Предупреждаю, дорогой господин управляющий, говоря подобным тоном, вы многого не добьетесь. Мне действительно было бы приятно работать с вами вместе, но я постараюсь обойтись и без вас. Однако хотелось бы знать, что вы предпримете, если я…
— Прекратите, Эмиль. Одна треть ценностей моя.
— Одна четвертая.
Татар на минуту задумался.
— Ну, пусть одна четвертая. Но при условии, что мой младший брат тоже будет членом дирекции.
— Ладно. Об этом мы потолкуем потом, — пожал плечами Эмиль. — Пошли дальше. После избрания новой дирекции мы сразу же продадим доходные дома и оборудование, которое трудно будет вывезти.
— Продажей займусь я, — сказал Татар. — У меня уже есть покупатель.
— Продажу осуществляют совместно генерал-директор и директор-администратор, — ответил Паланкаи. — Стоимость недвижимого имущества и машин по возможности следует получить в золоте или драгоценностях.
— Верно.
— Транспортабельные станки и готовую продукцию дирекция отправит на запад, чтоб сохранить их там в безопасности. Скажем, на клагенфуртский адрес члена дирекции Эмиля Паланкаи старшего.
— Согласен.
— Легковая машина доставляется из Шомоша в Будапешт и переходит в распоряжение генерал-директора и директора-администратора, которым понадобится вместе покинуть столицу. Генерал-директор Паланкаи берет на себя задачу добиться через нилашистскую партию, чтоб автомашину не реквизировали для нужд армии.
— Остается еще один вопрос, — прервал его Татар. — Когда мы поговорим с Карлсдорфером?
— Хоть завтра, — ответил Эмиль.
Паланкаи-отец, засунув руки в карманы, стоял, прижавшись спиной к буфету. Затем подошел к столу и положил руку на плечо сыну.
— Не делайте чересчур большого шума и сенсации. У Карлсдорфера тоже могут оказаться козыри. Если вы наброситесь на него, станете спорить, грозить, то он, чего доброго, сам соберется и уедет в Вену или в Берлин вместе с ценностями, и тогда поминай как звали. Или через час после вашего ухода побежит в шведское посольство и расскажет там, что интересы проживающих ныне в Англии его доверителей находятся в опасности. Шведы обратятся с протестом в министерство иностранных дел, станут посторонние совать свой нос в это дело, и, пока суд да дело, на имущество наложит руку кто-нибудь другой.
— А как же нам быть, папа?
— Эврика! — вскочил Татар. — Поместим в официальной газете отречение Карлсдорфера… Объявим общее собрание… уладим с поручением Национального банка. Его превосходительство никогда не читает официальных газет. Дадим ему знать, когда он уже ничего не сможет сделать, когда указ, параграф, закон — все будет на нашей стороне.
— А кто подпишет сообщение для официальной газеты? Вы сами не имеете права выступать от имени фирмы. А Чути не подпишет.
Татар махнул рукой.
— Подделаем любую фамилию паркеровскими чернилами.
Паланкаи старший с восхищением захлопал в ладоши.
— Гениально! Это как раз то, что было нужно. Выпьем за успех нашего плана!
— Теперь уже можем пить спокойно, — сказал Эмиль. — Сегодня свежая голова больше не нужна.
Татар отправился домой поздно вечером. Паланкаи младший вышел на балкон. На склоне горы царила почти осязаемая темнота. Только грозно отсвечивало небо. «Странно, что мне ничего здесь не жаль оставлять», — подумал Паланкаи. Он попробовал представить себе двор в Пештэржебете, мать, школу, где он учился восемь лет подряд, университет, и ничего не вызывало в его сердце сожаления. Весь в отца, он любил каждый раз начинать жизнь сначала. И удивительно, что из больших передряг ему всегда удается выйти сухим. Как-то раз, когда ему было восемь лет, он принес на рождество очень плохой табель. По поведению отлично, по остальным четырем или пяти предметам неудовлетворительно или посредственно. Накануне праздника, терзаемый безвыходностью своего положения, он спрятал табель. «Завтра утром покажу», — думал он, засовывая под подушку злосчастную книжечку. Горели свечи на елке, призрачные огоньки рвались куда-то ввысь. «Лучше бы я не получал велосипеда». Это была его последняя мысль перед тем, как заснуть.
На рассвете его разбудили тревожные крики. В комнате стоял дым, была невыносимая жара. Сквозь черные клубы дыма кто-то подбежал к нему и выхватил его из постели. Очнулся он во дворе. Рассвет был снежный, холодный и хмурый. Из окон вырывались языки красного пламени, женщины громко причитали. А он, завернутый в одеяло, как в забытьи, хихикал под шелковицей. «Хоть бы кровать сгорела! Только бы сгорел табель!» — повторял он про себя шепотом.
Десять лет спустя, за несколько недель до выпускных экзаменов, он узнал, что соседская девушка забеременела. Она поджидала его возле школы. В русой косе девушки красовалась большая темно-синяя лента. В руках она держала доску для черчения и учебник геометрии и в таком виде поведала юноше свою тайну. Слезы ручьями текли по ее лицу. «Господи, как выбраться из этой западни?» — думал Эмиль и, словно заводной, брел рядом с девушкой. Ему хотелось сказать «моя хата с краю», он, дескать, не знает, с кем она проводила время, но от страха у него дрожали поджилки. Соседи однажды видели, когда они взбирались на чердак… Чем это кончится? Надо достать денег, но где? Занятый своими думами, он даже не слышал плача девушки. «Женись на мне, Эмиль, — повторяла ученица первого курса коммерческого училища. — Женись, иначе меня мать убьет или я утоплюсь в Дунае». «Нечего тебе топиться», — сказал он, а про себя, не в силах сдержать радости, повторял: хотя бы она умерла, ой, как бы все было просто, если бы она умерла, утопилась в Дунае… «Не реви, как-нибудь обойдется, я сейчас зайду в магазин и куплю циркуль», — сказал он ей на углу квартала и оставил девушку одну. Отчаявшись, он четыре дня скрывался. А на пятый день с ужасом, с сатанинской радостью и облегчением услышал, что девушка повесилась на чердаке. На том самом месте, где несколько месяцев назад, плача от страха и почти не сопротивляясь, впервые отдалась восьмикласснику Эмилю.
Паланкаи смотрел на затемненный город. И думал, от чего он освободится теперь, если уедет за границу.
Ему вспомнились мать и две младшие сестры, которые будут приставать к нему и просить денег. Вспомнилась любовница Лини, надолго обосновавшаяся у него. Вспомнилось множество несданных зачетов в университете, полный всевозможных невыполненных дел стол в конторе. Снова начать жизнь, бросить здесь все, добыть денег, уехать…
— Эмиль, телефон. — На балкон вышел Паланкаи старший. — Что ты тут размечтался? Я чуть горло не надорвал. Тебя спрашивают по телефону.
— Кто?
— Откуда мне знать. Не мог запомнить, кто-то с двухметровой фамилией. Кстати, я слушал радио. Русские уже в Цегледе. Советую в течение недели закончить все дела и ехать ко мне.
— Не бойся, Будапешт им так легко не съесть, — ответил Эмиль скорее для того, чтобы подбодрить самого себя, и поднял трубку.
— Алло. Кто, Кульпински? Привет, старина. Чем могу служить?
— Кто это? — спросил отец.
Паланкаи младший сердито отмахнулся. На минутку он зажал трубку ладонью.
— Темная личность. Кстати, районный начальник бойскаутов.
— Не интересует, — произнес Паланкаи-отец и вернулся к радиоприемнику.
— Что нового? — спросил в трубку Эмиль.
С другого конца провода дошел хриплый крик.
— Говори тише, очень искажает… Что? Получу награду? Какую награду? Куда? На фронт?
Онемев от ужаса, Паланкаи уронил трубку. Трубка закачалась на коротком шнуре, но и с полутораметрового расстояния можно было слышать непрекращающиеся крики.
— Выключи радио, папа, — вбежал Эмиль в соседнюю комнату. — Знаешь, зачем звонил этот зверь? Мобилизовали эржебетских бойскаутов. В знак благодарности за мои заслуги меня назначают командиром роты и отправляют на фронт. Через двое суток повезут всю компанию… Вот тебе, радуйся. Если согласиться, конец мне…
В голове старого Паланкаи мелькнула мысль, что, собственно говоря, не только сын, но и сам он мог бы стать генерал-директором Завода сельскохозяйственных машин. Но потом он махнул рукой.
— Ну, это уж действительно некстати… Придется тебе на три-четыре дня исчезнуть из города. Если будут искать здесь, скажу, что твой дружок разговаривал со мной, а ты уехал в провинцию.
Эмиль поднял трубку.
— Не надо было отзываться на звонок.
— Теперь уж все равно. Гораздо хуже, если бы повестка застала тебя врасплох. Татару не говори об этом до тех пор, пока окончательно не убедишься, что твоя рота отправилась на фронт. Да смотри, не натвори каких-нибудь глупостей — можешь сорвать все дело!
— Будь у меня так же мало совести, как грязи под этим вот ногтем… то разговор бы шел иначе… Вот, значит, как они пенят мои заслуги! Меня, человека, который вдохновлял тысячи и тысячи бойскаутов, какой-то проходимец Кульпински гонит на фронт только потому, что зарится на мою виллу, на Лици… Он. разумеется, будет отсиживаться дома. А мне — награда…
— Ну, а скажи, сынок, может ли быть больше награда и слава, чем право проливать кровь за родную землю, за тихие реки и богатые равнины?..
— Что с тобой, папа? Ты с ума сошел?
— Цитирую из твоего собственного произведения, сынок. Такова жизнь. Одно дело посылать других людей подыхать, и совсем иное, когда посылают тебя самого. Но оставим праздные рассуждения. Через десять минут ты должен исчезнуть. Разумнее всего тебе устроиться на ночь у какого-нибудь приятеля.
— Спокойной ночи, папа. Я бы предпочел прогуливаться в эту пору на берегу озера Верт. Если Лини вернется…
— Я ей скажу, что ты уехал на пару дней по служебным делам.
— Ни в коем случае. Скажи, что я добровольно еду на фронт или уже уехал и сегодня в пять часов вечера погиб смертью героя. А она пусть укладывает свои вещи и возвращается к своей матушке.
— Как прикажешь, сынок, — пожал плечами старый Паланкаи. — Я пробуду здесь только до завтрашнего дня. Кому сдать ключи?
— Пошли их доктору Жилле в больницу Святой Каталины.
— До свидания в Клагенфурте.
— До свидания, папа. Ром стоит в буфете, деньги в ящике письменного стола. Других ценностей здесь нет, шкафы взламывать не стоит.
Стояла холодная, сырая и неприветливая ноябрьская ночь. Паланкаи бегом спускался по склону горы. Над его головой шныряли полосы света и где-то далеко, за Чепелем, вспыхивали молнии. Артиллерийские выстрелы.
— Нет, я не хочу идти на фронт, — бормотал про себя Паланкаи, чувствуя, как им все больше и больше овладевает ужас.
Больница Святой Каталины
Терапевтическое отделение располагалось на втором этаже, кабинет главного врача — в самом конце коридора. Миловидная девушка с каштановыми волосами быстро шла по неприветливому узкому коридору, выкрашенному масляной краской в серый цвет, и то и дело заглядывала в открытые двери палат. Белые железные койки стояли впритык одна к другой; во всем помещении распространялся запах эфира, йода и недавно закончившегося обеда. Две сестры, скрестив руки и постоянно кивая головами, стояли возле окна и оживленно разговаривали. Иногда их внимание привлекали непрерывные звонки из палат, но тем не менее они не отзывались. Казалось, будто сестры окончательно примирились с мыслью, что все их старания напрасны, им все равно не под силу обслужить такую массу больных.
Молодая девушка остановилась перед дверью с поблекшей от времени табличкой «Главврач» и постучала.
— Войдите.
В комнате возле умывальника стоял мужчина лет сорока — сорока пяти и намыливал руки. Он повернул голову. Лицо его озарилось радостным удивлением. Он торопливо вытер платком мокрые руки и, раскрыв объятия, пошел навстречу девушке.
— Посмотрите! Да ведь это маленькая Орлаи!
— Господин профессор! Господин профессор Баттоня! Как я счастлива!
— Да садитесь, садитесь.
— Я вам не мешаю, господин профессор?
Янош Баттоня улыбнулся и провел рукой по заросшей щеке.
— Вы никогда мне не мешаете, дорогая Мария, я собирался пойти домой, после того как не спал и не брился вот уже девяносто шесть часов.
— Ну, тогда…
— Останьтесь, дорогая. И выкладывайте, зачем пожаловали.
— Я хотела бы работать.
— Ну?
— Аттестат я уже получила. Осталось сдать только экзамен по детским болезням. Сейчас мне хотелось бы пройти практику по терапии.
— Успеете сделать это весной.
— Не хочется зря время терять.
— А не лучше ли вам поехать в какой-нибудь провинциальный госпиталь? Зачем вам оставаться в Пеште, коллега? Здесь круглые сутки бомбят. Не сегодня-завтра вся наша больница перебазируется в подвал. Нет ли у вас где-нибудь на периферии родственников?
— Есть. В Кесеге. Но дело в том, что я хочу остаться здесь. Я вовсе не собираюсь ехать на запад.
Ну что ж, вот она и открыла перед ним душу. Будь на месте Яноша Баттоня другой человек, она вела бы себя более осторожно, но господин профессор — особая статья. Неужто Баттоня мог стать фашистом?
Нет, он всегда отличался порядочностью и человеколюбием. Когда Баттоня читал им лекции по диагностике внутренних болезней, все были в него влюблены, даже мальчики.
— Стало быть, вы хотите, чтобы я принял вас в больницу?
— Очень.
— Но у нас уже два терапевта.
— Простите… мне бы очень хотелось работать под вашим руководством.
— Вы ведь даже не знали, что я здесь, — сказал Баттоня.
— Не знала. Но если уж так получилось…
Янош Баттоня ответил не сразу. Он испытующе посмотрел на высокую девушку, на ее лицо, чистый лоб, блестящие карие глаза.
— Почему вы стали врачом?
Этот вопрос был для Марии Орлаи настолько неожиданным, что она вместо ответа с удивлением уставилась на профессора.
— Да, мне бы хотелось знать, почему вы избрали именно профессию врача? — повторил свой вопрос Янош Баттоня и, прищурив глаза, стал ждать ответа.
— Хочу лечить.
— Кого?
— Всех, кто будет нуждаться.
— Это громкие слова… Вы это говорите от души?
Мария Орлаи в недоумении молчала. Казалось, будто она и сама только сейчас впервые подумала, почему избрала именно эту профессию. Еще когда была в восьмом классе, она ломала голову над тем, куда ей подавать заявление: пойти на химический факультет или заняться искусствоведением? А может, поступить в высшую школу изобразительных искусств? Как-то раз она зашла к отцу в кабинет и после продолжительного разговора с ним подала заявление на медицинский факультет. На столе Баттони громко тикали часы. Воздух был насыщен запахом йода и мыла. А там, на койках, — тысячи больных. Мечутся, стонут, страдают, и вся их надежда на докторов в белых халатах; врачи вернут им весеннее солнце, прогулки, любовь, прочь прогонят смерть. Она поступила правильно, избрав самую лучшую профессию.
— Да, от души, — сказала она наконец.
— Припоминаете, дорогая, я вам поставил отличную оценку, помните, на какой вопрос вы отвечали?
Мария Орлаи удивилась. Серый от усталости Баттоня с распухшими веками, вместо того чтобы спешить домой, устраивает ей экзамен. Но тут же поняла его намерение.
— Помню, об анамнезе… описание условий, предшествующих заболеванию. О том, что настоящего врача должна интересовать не только болезнь, но и сам человек.
— Да, Мария, я должен вам сказать, что сейчас это дело очень, очень трудное. У нас на излечении есть такие больные, у которых воспаление легких вроде бы давно прошло. Но стоит их выписать из больницы, как завтра они умрут, вы меня понимаете? Ведь в наши дни умирают не только больные, но и здоровые — дети, мужчины, женщины. Мы должны сберечь каждому человеку его жизнь. Медицина не для того борется с туберкулезом и тифом, а врач не ради того день и ночь сидит у койки больного, чтобы сперва вылечить его, а затем передать в руки убийцам. Так поступают только палачи.
— Да, — тихо произнесла Орлаи.
— Но трудно… трудно отобрать тех. кого следует беречь от смерти. Коек мало. Ужасно мало. Уход плохой. Питание плохое. В университете, читая лекции о язве желудка, мы говорили, что надо давать молоко, а при воспалении печени — сахар. Но что делать, если нет…
Баттоня поднялся со своего места и стал широко шагать перед письменным столом.
— Я завел об этом речь не для того, чтобы напугать вас. Мне нужно, чтобы вы знали, за что беретесь. При желании здесь можно иметь и более легкую жизнь: класть в карман десятки тысяч пенге, обзавестись ухажерами, прохлаждаться весь день. Но в таком случае говорите сразу, и я устрою вас в другом отделении.
К лицу Марии прилила кровь. Баттоне стало неловко.
— Простите, не сердитесь на меня. Я вовсе не хотел вас обидеть. Но, знаете, в нынешние времена нередко разочаровываешься в людях. Ну, по рукам. Я сейчас пойду домой. Попросим у сестры Беаты белый халат. Ах, да, совсем забыл спросить, вы когда собираетесь приступить к работе, до того как вас оформят?..
— Именно.
— Мой заместитель — адъюнкт Пайор. Я сейчас вам его представлю. Вы коренная жительница Будапешта, не так ли?
— Да.
— И живете у своих родителей?
— Только с отцом.
— Да вы не Казмера Орлаи дочь?
— Верно.
— Мой хороший знакомый по университету. Очень славный врач. Что поделывает старик?
— Работает в районной больнице.
— Передайте ему привет. Ну что ж. пошли?
Доктора Пайора они нашли в его кабинете. Услышав стук, он испуганно закрыл ящик письменного стола и сунул в карман авторучку. Между прочим, доктор Жолт Пайор каждую свободную минуту сочинял стихи. Он уже издал два томика любовных и патриотических стихов, по триста экземпляров каждый. Стихи, очевидно, были не так плохи — больные терапевтического отделения расхватали все его книжки в первый же день.
— Позволь, Жолт, представить тебе мою любимую ученицу. Ординатор Мария Орлаи. Она будет проходить у нас практику. Возьми ее, пожалуйста, под свою опеку.
Доктор Пайор подверг осмотру будущего коллегу от блестящих как зеркало туфель и шелковых чулок до стройной талии и волнистых каштановых волос и только потом приветливо кивнул головой.
— Очень рад. Поистине рад.
— Ну, тогда разрешите оставить вас, — сказал главный врач.
— Когда придешь?
— Завтра утром. Сообщи, пожалуйста, в приемный покой, что освободилось пять мест.
Баттоня попрощался с ним за руку и ушел. Пайор улыбнулся Марии.
— Ну как, очень напугал вас старик? Вы только не вздумайте принимать его проповеди всерьез и не расплачьтесь. Он человек со странностями, и не надо, чтобы он обо всем знал. Кстати, здесь не все так строги, как наш шеф. Я, например, могу быть с вами очень нежен.
— Не будете ли вы так любезны, господин адъюнкт, сказать, каковы будут мои обязанности.
— Стало быть, вы не нуждаетесь в моей дружбе?
— Буду рада заслужить ваше доверие и благосклонность своей работой.
Пайор, вертя карандаш, насмешливо скривил губы.
— Скажите, вы девица?
— Я не замужняя.
— Простите за нескромность, сколько вам лет?
— Извольте, господин, адъюнкт, вот моя зачетка. Из нее вы узнаете все мои данные.
— А, весьма благодарен. Двадцать три года. И родилась в мае. Самый лучший месяц. Май. В этот месяц рождаются только красивые девушки. И в день рождения им преподносят сирень, ландыши. Чем прикажете вас угостить? Вы курите?
— Я могу уйти домой, или вы разрешите мне присутствовать на вечернем обходе?
— Я уже его закончил. Но, если вы так жаждете работать, я не возражаю. Между прочим, я попросил бы вас сделать мне одно одолжение. Сегодня вечером мне необходимо уйти на несколько часов, не подежурите ли вы за меня? Разумеется, если у вас возникнет какая-нибудь трудность, вы сможете найти меня по телефону, я дам номер… Согласны?
— Пожалуйста.
— Много работать вам не придется. Если ночью кому-нибудь понадобится болеутоляющее, это сделают и сестры, вас даже будить не станут. Я вам дам интересный роман, вы пойдете в дежурку, ляжете на диван и будете читать или разгадывать кроссворд, если вам это больше нравится. Или можете себе спать, только предварительно сообщите швейцару, чтобы он никого на порог не пускал, свободных мест все равно нет.
— Простите, ведь господин главврач Баттоня сказал, что освободилось пять коек.
— Ах ты, господи, их уже давно и в помине нет. На одну койку младший врач Ковач сегодня в полдень положил какого-то туберкулезника, две койки нужны мне, а две другие забронировал доктор Бенц. Не осталось даже приставных коек. Вот вам журнал «Театральная жизнь», ключи от дежурки — идите и читайте. До свидания.
Орлаи поблагодарила, взяла с собой книжку, но не пошла в дежурку, а с любопытством стала заглядывать в палаты. Представилась по очереди сестрам, которые неслышно ходили по коридору в темно-синих монашеских юбках и белых чепцах.
Приемный покой и регистратура находились на первом этаже, в нескольких шагах от кабинки швейцара. Везде было пусто. Только в приемной скучал дежурный. От нечего делать он то чистил ногти, то читал роман Юлианы Жиграи. Приема нет. Ему велено отказывать всем, даже в том случае, когда у человека пошла горлом кровь или перелом ноги. В родилке тоже приема нет, женщин уже не вносят в родильную комнату, а кладут где только можно — в коридорах, в приемном покое. А сколько раненых! После каждого налета машины скорой помощи привозят искалеченных, стонущих людей. Но господин младший врач Жилле отдал распоряжение никого в операционную не приносить.
На столе задрожал внутренний телефон.
Чиновник в очках недоуменно вздрогнул и оторвался от чтения интересной истории о том, как Мара Сюч выходила замуж.
— Свободных коек в терапии? Дежурная доктор Мария Орлаи? Так точно, записал.
Мария Орлаи закончила обход палат. Почти все больные уже спали, измученные болью, обессиленные температурой или усыпленные снотворным. В дежурке тускло горела синяя лампочка. Мария попробовала было читать, но глаза лишь скользили по строчкам. Мысли ее то и дело возвращались к тем семидесяти четырем человеческим жизням, вверенным ей на эту ночь.
В полночь в дверь постучала очкастая старая сестра Беата.
— Привезли больного.
Мария Орлаи вскочила и выбежала в коридор.
— Понесли в амбулаторию.
В приемной на диване лежала женщина лет сорока — сорока пяти. На ее лице блестели капельки пота. Время от времени она открывала глаза и смотрела мутным, испуганным взором. От озноба у нее стучали зубы, и она со стоном прикладывала руки к животу.
— На что жалуетесь? — спросила Орлаи и села рядом с женщиной. Она касалась наименее чувствительных мест живота, но от малейшего ее прикосновения к натянутой коже женщина вскрикивала от боли и начинала икать.
— Как ваша фамилия? — спросила Орлаи, продолжая осторожно обследовать больную.
— Ковач, — ответила та, чуть слышно взвизгивая. — Мне сорок пять лет… болит с полудня… но что делать, думала, пройдет, никак не хотела идти сюда, дома четверо малышей, муж на фронте, сама работаю на заводе…
— Потерпите немножко, я сейчас вернусь.
Мария вышла в коридор, отыскала телефон и набрала номер, который ей дал адъюнкт Пайор. В трубке послышался тоненький хохоток какой-то женщины.
— А, Пуби, из больницы спрашивают. Сейчас позову.
— Что им надо? — послышался вместо ответа рычащий голос Пайора.
— Извините, господин адъюнкт, я тут приняла одну больную. Боли в животе, икота, по всей вероятности, непроходимость кишечника.
— Ладно. Посмотрю на утреннем обходе.
И положил трубку.
Мария, словно в оцепенении, стояла в коридоре. Произошла какая-то ошибка, какое-то недоразумение. Наверное, прервали. Она торопливо набрала номер еще раз. Опять женский голос, но теперь уже раздраженный:
— Что вы трезвоните беспрерывно? Разве нельзя хоть один вечер не беспокоить?
Но Пайор все-таки подошел к телефону.
— Извините… я думаю, до утра ждать нельзя.
— Что вы там воображаете из себя… Что за спешка? Она что, ваша родственница? Дайте ей болеутоляющее. Спокойной ночи.
Багровая от гнева, Мария Орлаи положила трубку. Разве она воображала? Конечно, если и у нее будет двадцатилетний стаж, то, возможно, она тоже не испугается аппендицита или случая с подозрением на заворот кишок… возможно, станет равнодушной, возможно, ей доведется видеть множество благополучных исходов без операционного вмешательства, возможно, ничего плохого и не случится, если больной потерпит несколько часов, возможно, у больного вовсе нет таких сильных болей, а он просто охает… На миг, но только на один миг в ее мозгу мелькнула мысль, что она, по сути дела, не отвечает за больных. Доктор Пайор не имел права перепоручать ей дежурство, к тому же она дважды звонила ему по телефону. Но эту мысль она тут же отогнала прочь. И, будто для того, чтобы усилить ее мучения и чувство ответственности, перед глазами внезапно возникла фраза, которую она дважды подчеркнула в учебнике по диагностике внутренних болезней: «При острых болях в брюшной полости судьба больного, как правило, зависит от того врача, который первым осматривал больного».
Она поспешно вернулась в приемную.
Женщина лежала смертельно бледная, стиснув зубы и время от времени вскрикивая. Она дышала быстро, поверхностно, иногда, открыв рот, хрипела и продолжала икать. Когда вошла Мария, женщина подняла взгляд на дверь и посмотрела на врача с мольбой в глазах. Орлаи еще раз тщательно ощупала живот: наибольшая болезненность была в области нисходящей толстой кишки. Да и жалобы женщины подтверждали, что у нее, по всей вероятности, заворот кишок.
В случае непроходимости кишечника операцию откладывать до утра нельзя. Здесь дорог каждый час.
Мария вскочила и снова побежала к телефону. Но, прежде чем набрать номер, спросила у стоявшей возле буфета ночной сестры, как отыскать дежурного хирурга.
Сестра пожала плечами.
— В девятом часу господа врачи уходят ужинать в «Веселую Яму». Но сейчас их там уже нет.
— Я вас спрашиваю о дежурном.
— Он тоже уходит.
— А если случится беда?
— К утру вернется, — ответила сестра тихим, кротким голосом, но по ее скривленным губам и блеснувшим глазам было видно, что она возмущена таким дежурством.
«Рассердится, пускай сердится, он все же обязан распорядиться», — подумала Мария и снова набрала номер доктора Пайора.
— Но, позвольте, это неслыханно!.. Что за комедия? Ей-богу, я вас не понимаю. Неужели так срочно? Ну, тогда оперируйте сами.
И трубку снова повесили.
— Прошу вас, сестра Аннунциата, посмотрите скорее, нет ли в больнице кого-нибудь из хирургов. Если даже спят, поднимите от моего имени.
Сестра Аннунциата старческими, тяжелыми шагами удалилась. Мария пошла к больной и в ожидании возвращения сестры принялась считать пульс.
Через три минуты, показавшиеся Марии вечностью, сестра Аннунциата вернулась.
— Доктор Жилле у себя в кабинете.
— Где его кабинет?
— Здесь, на этаже, за створчатой дверью.
— Спасибо, я пойду за ним.
Доктор Эден Жилле жил в больнице. Перед его комнатой в коридоре стояли два плетеных кресла и круглый столик. Висевшая на дверях медная табличка и почтовый ящик говорили о том, что их владелец обосновался здесь надолго. На стук Марии Орлаи послышался сонный, раздраженный голос:
— Кто там опять, черт возьми?
— Ординатор Мария Орлаи, дежурная терапевтического отделения.
— Что вам нужно?
— Надо оперировать кишечную непроходимость.
— Боже праведный, сейчас?! — возмутился голос.
— Срочно.
В дверях образовалась узенькая щель, а затем появился в пижаме взлохмаченный доктор Жилле.
— Простите, что я вас разбудила, но нужна срочная операция…
— На завтра заняты все операционные столы.
— Не завтра, а сейчас, немедленно.
— Сейчас? Ночью? Вы шутите! Во-первых, я не дежурный, а стало быть, мне нет никакого дела… Во-вторых, примите от меня совет на всю жизнь: никогда не следует волноваться. У больного в восемь часов утра заболит живот, а он в полночь приходит в больницу, потому что у него, видите ли, выдалось свободное время. Или, скажем, во вторник он съел пятнадцать галушек со сливами, а с расстройством желудка идет в воскресенье, пусть возится несчастный дежурный. Больные обычно выдерживают до утра. Дайте ему севенал.
— Прошу вас, господин младший врач, вы хоть посмотрите.
— А что, разве она такая красавица?
— Не шутите, пожалуйста. Сорокапятилетняя работница, мать четырех детей.
— Мать ее была прачкой, а отца пришиб корабельный канат… Если и впредь будете поступать, как велит вам ваше доброе сердце, если… апчхи… извините… — Эден ухватился за нос и громко чихнул. — Еще, чего доброго, простужусь. Простите, но я хочу спать. И очень прошу вас, ложитесь и вы. Могу вас заверить, что больше не открою дверь даже самому господу богу.
Сестра Беата мокрой салфеткой вытирала лицо женщины.
— Ну, как? — спросила вернувшаяся Орлаи.
Сестра махнула рукой.
— Если не сделают операцию, она, бедняжка, до утра не протянет.
«Возьму и сама сделаю операцию», — решила Мария и закусила губу от волнения.
— Послушайте, доктор. А что, если поискать господина Ача, может быть, он еще в больнице. Правда, доктор Ач работает в родильном отделении, но он очень порядочный человек.
— Поищите его, сестра Беата.
Не прошло и двух минут, как сестра Беата вернулась с высоким молодым врачом. Доктор Ишгван Ач представился и тотчас же подошел к больной. Орлаи следила за его быстрыми, уверенными движениями.
— Подозреваю непроходимость кишок, — сказала Мария.
— Правильно подозреваете. Здесь и в рентгене особой нужды нет. С этим тянуть нельзя. Немедленно взять кровь и направить в операционную. Прошу вас, сестра Беата, разбудите, пожалуйста, Фери, пусть подготовят вторую операционную, только тщательно проверьте светомаскировку на окнах. Еще не хватало, чтоб нас тут начали бомбить. А вам, коллега, тоже придется помыть руки, потому что у меня всего один ассистент.
Ассистентом Ача был сын швейцара дядюшки Ведреша.
Старик поторопился к себе в комнату, чтоб разбудить сына.
— Доктор Ач зовет, срочная операция.
Парню не понадобилось повторять дважды, он тотчас же поднялся. Дядюшка Ведреш вернулся на свой пост. Он отсутствовал всего несколько минут, но таково уже счастье бедного человека: пока его не было на месте, черт принес одетого с ног до головы во все черное нилашиста с нарукавной повязкой.
— Куда вы запропастились? Где шляетесь? Не можете усидеть?..
Напуганный Ведреш не знал, как и угодить пришедшему.
— Я уже на месте, изволите видеть. Что прикажете?
— Мне нужен доктор Жилле. Передайте ему, что пришел Паланкаи.
— Садитесь, пожалуйста. Одну минуточку…
Сколько ни звонил дядюшка Ведреш по внутреннему телефону, никто не поднимал трубку. Делая еще одну попытку, он объяснял:
— Видите ли, случается иногда, что он уходит… в отделение… или очень крепко спит. Или телефон выключил… а может быть, и вовсе нет дома…
Паланкаи молчал. Серыми колючими глазами он смотрел прямо в испещренное лиловыми жилками лицо дядюшки Ведреша.
Как тот ни старался дозвониться, все напрасно.
— Ну, что там?
— Не знаю… Не отвечают.
— Тогда я сам пойду к нему.
И Паланкаи, громко стуча ногами по каменному полу коридора, пошел наверх. От бледно-синего света, отвратительного запаха йода, эфира и крови ему становилось дурно. Он торопливо поднялся на второй этаж, повернул у створчатой двери налево и постучался. Никакого ответа не последовало. Заметив звонок, Эмиль нажал на кнопку. Звонок затрещал так, что, казалось, от его звука сотрясались стены. Никто не отвечал. Тогда он стал лупить в дверь кулаками. Но тут открылась дверь соседней комнаты и в коридор высунулась голова негодующей монашки.
— Извольте соблюдать тишину. Вам кого надо?
— Я ищу доктора Жилле.
— Вам лучше прийти завтра утром, возможно, он ушел в город.
— Но мне необходимо срочно повидаться с ним.
— Вы больны?
Паланкаи не ответил и снова принялся стучать.
— К сожалению, должна вам сказать, что у нас нет свободных мест.
— Для меня найдется, будьте покойны.
— Тогда пройдите в дежурку. Доктор ушла в операционную и, как только вернется, осмотрит вас, — сказала сестра, все еще сохраняя терпение.
— Отстаньте.
— Прекратите, пожалуйста, стук, а то мы вас выведем отсюда. Здесь больные спят.
— Меня вывести? А ну-ка, попробуйте.
— Не кричите!
— Эх! — со злостью махнул рукой Паланкаи. — Как видно, этот идиот Эден действительно где-то шляется. Авось вернется домой.
С этой мыслью Эмиль уселся в одно из плетеных кресел, поставил на другое ноги и заснул.
Он не слышал, как по коридору взад и вперед ходили люди, тащили мимо носилки. Никто не обращал на него внимания. Только около часа ночи, когда усталая, взволнованная и счастливая Орлаи возвращалась из операционной, она мельком взглянула на Паланкаи, который безмятежно продолжал спать, полуоткрыв рот.
— Ожидает доктора Жилле, — ответила монашка на вопросительный взгляд Орлаи. И они пошли дальше, к палате, где спала вспотевшая, бледная, но вырванная из лап смерти женщина.
В половине седьмого утра Паланкаи открыл глаза и тут же увидел стоявшего рядом с ним распухшего Эдена в полном медицинском облачении.
— Так это ты, толоконный лоб, был моим ночным посетителем? — захохотал он. — Почему ты не назвался? Откуда я мог знать? У меня была женщина, несчастный, и мне не хотелось вставать. Я думал, опять зовут оперировать или стучится какой-нибудь богатый еврей. Ныне подобные клиенты не дают мне покоя… Ну, пошли ко мне в комнату. Что будешь пить? Не плохая у меня берлога, а? Со времен твоего последнего посещения я ее немного обставил.
Паланкаи посвятил комнате Эдена всего лишь беглый взгляд. Она была похожа не столько на кабинет врача, сколько на притон разбойников. На стенах висели один поверх другого ковры, на письменном столе красовались вазы и кубки.
— Можно подумать, что ты не хирург, а чемпион по борьбе, — заметил Паланкаи и уселся в кресло.
— Знаки любви моих благодарных пациентов.
— Эден, скажи чистосердечно, ты хоть раз прикасался к больному?
— Только в самых критических случаях. Поэтому-то они так мне благодарны, — ответил Жилле и громко засмеялся над своей шуткой. — Я сейчас занимаюсь исключительно распределением коек. Удобная больничная койка с температурным листком над головой — пять тысяч пенге, с высокой температурой — семь тысяч, с операцией — десять тысяч.
— А мне за сколько предложишь?
— Боже мой, да разве ты собираешься лечь в больницу?
— А почему бы и нет?
— Ты с ума сошел!
— Слушай, старина, тебе очень хорошо известно, какой ответственный пост я занимал на заводе… Понадобилось изменить дух управления, я создаю хунгаристское предприятие… кроме того, у бойскаутов тоже…
— Короче говоря, ты получил повестку?
— Пожалуй, не совсем так. В награду за мои труды меня хотят назначить командиром роты бойскаутов. Ты ведь знаешь. что я душой и телом стараюсь содействовать тотальной войне.
— Перестань трепаться… Ты принял повестку?
— Нет… звонил Кульпински и говорил с моим отцом.
— Ага. Когда это было?
— Вчера вечером.
— Ну, ладно. Что тебе оперировать?
— Что? Что такое?
— Аппендикс, грыжу, геморрой, миндалины?
— Брось, не говори глупостей!
— Погоди. Лучше всего миндалины. После операции ты проваляешься здесь с неделю. Есть у меня врач из рабочего батальона, хороший ларинголог. Открой рот.
Паланкаи в испуге разинул рот.
— Ну, это мы выбросим. Миндалины все равно не нужны человеку. В Америке у каждого новорожденного сразу же удаляют аппендикс и миндалины.
— Не лучше ли что-нибудь другое… ну, скажем, пневмония какая-нибудь…
— С терапией я не в ладу. Пайор и компания работают отдельно от меня. Погоди, я напишу тебе записку, ты спустишься с ней на первый этаж в четвертый кабинет. Тебя там сейчас же примут. А я тем временем зайду в операционную.
— А нельзя ли… может быть, принять меня на исследование?
— Если желаешь, чтобы тебя арестовали при первой же облаве.
— Слушай, а это очень больно?
— Бог ты мой! На прошлой неделе приходил к нам один пехотинец, четыре пальца отхватил топором, только бы не угнали на фронт… мы, конечно, перевязали, но потом его все-таки расстреляли. А ты боишься, что у тебя удалят какие-то миндалины! Вчера заявился ко мне один еврей, бывший владелец магазина тканей на улице Шаш, обещал двадцать тысяч, если только мы вынем у него одну почку! Здоровую почку! Ну, полно тебе, ступай. Первый этаж, четвертый кабинет, стучать три раза.
На первом этаже дверь с номером четыре оказалась запертой.
В коридоре же не было ни скамейки, ни стула.
Перед дверью толпились в очереди хмурые, злые люди. Старухи в порванных ботинках, плачущие дети, окровавленные раненые с забинтованными руками, с изможденными лицами, беременные женщины с выпиравшими животами, каждая из которых, казалось, жила своей особой жизнью. Все стояли молча и только кашляли, кряхтели, вздыхали. Паланкаи не стал в очередь. Он постучался в дверь и, насвистывая, прошел дальше, почувствовав на себе недружелюбные взгляды.
Кроме него, кто-то еще собирался пройти к врачу без очереди. Молодой сержант лет двадцати пяти с двумя ленточками о ранении на груди поддерживал под руку русую женщину. Женщина была беременна. Время от времени она, опершись о стенку, закрывала лицо.
В такие моменты сержант подбегал к двери кабинета и стучал в него руками и ногами.
В каком-нибудь метре от двери открылось крохотное окошко с матовым стеклом и в отверстии показалось худое лицо лысого очкастого чиновника с щетинистыми усами.
— Прекратите наконец цирковое представление. В родильном отделении нет коек. Подождите до одиннадцати, может быть, после обхода появятся.
— Впустите меня, я сам поговорю…
— Не разрешается.
— Тогда скажите ребенку, чтобы он подождал. Не мне рассказывайте сказки, твари. Я дважды был ранен, одиннадцать месяцев гнил в окопах, так разве за это мне не разрешается? Примете жену, примете, подлые разбойники? Для чего существует больничная койка? Кто на ней лежит, если жене фронтовика отказывают?
Женщины окружили молодую роженицу, которая все больше и больше изнывала от болей.
Некоторые даже прослезились. Лысый чиновник быстро захлопнул окошко.
Паланкаи кусал губы. И тут ему вдруг вспомнилось, что Эден велел постучать три раза подряд. Но, если он сейчас постучится, его растерзают на куски.
— Господин Паланкаи! — услышал он свою фамилию. Из окошка смешно вытянулась вперед лысая голова. До чего же длинная у этого человека шея! Как у жирафа…
— Почему не изволили постучать… Доктор Жилле уже справлялся по телефону.
Сержант подбежал опять и подставил левый кулак, чтоб окошко нельзя было закрыть.
— Примите мою жену, я должен вернуться к себе в роту. У кого есть протекция, для тех и место находится?..
Паланкаи схватил голубенькое направление и отпрянул назад. В тот же момент чиновник с силой опустил окошко на руку сержанта. Лицо молодого солдата побагровело, правой рукой он выхватил штык и проткнул стекло. Посыпались осколки, страшно закричал очкастый чиновник, роженица громко вскрикнула. Люди стали толкать друг друга, кричать и ругаться.
«Ужасное место, — с каким-то отвращением подумал Паланкаи. — Как скоты». И поспешно поднялся на этаж, где, согласно направлению, ему отводилась отдельная палата.
Эден ждал его в коридоре.
— Живее двигайся, старина. Надевай пижаму и приходи в операционную.
«А нельзя ли договориться и вырезать только одну миндалину? — мелькнула у него мысль, когда уже в туфлях и больничном халате он шел по коридору. — Но все-таки лучше согласиться на операцию, чем идти на фронт».
Возле операционной его встретил Эден.
— Ну, заходи.
В операционной стоял высокий врач лет тридцати Паланкаи с недоумением заметил на рукаве его белого халата желтую повязку. И этот собирается прикасаться к нему?
— Вы сегодня ничего не ели? — спросил ларинголог у Паланкаи.
— Ничего, — ответил Эмиль, чувствуя, как злоба сжимает ему горло.
— Садись туда, — приказал Эден.
Другой врач опустил на глаза зеркальце.
— По-моему, эти миндалины удалять не стоит.
Эден пожал плечами.
— Больной жалуется, что у него удушье. Впрочем, я вам приказываю.
— Извольте, — ответил врач и сел против Паланкаи, придвинув вплотную стул к оторопевшему пациенту.
Паланкаи как-то сразу стало очень дурно. Его бросало в холод, тошнило, по коже бегали мурашки, и больше всего ему хотелось плакать.
Врач, ничего этого не замечая, спокойно отдавал распоряжения подносившей инструменты ассистентке и помощнику, державшему голову Паланкаи. Эмиль ощутил резкий укол в горле, желудок словно вывернулся наизнанку, легкие сжались, язык прилип к небу и онемел. Длинные иглы, ножницы сверкали в руках врача. При виде всего этого Паланкаи пришел в ужас и закрыл глаза.
— Откройте глаза и не напрягайте рот.
На какое-то мгновение он поднял веки и увидел кисть врача. Над коротко остриженным ногтем большого пальца, словно рубин, поблескивала капелька крови. Вот она побежала по основанию ногтя, скатилась на кожаный фартук. Вот вторая, третья…
«Кровь, моя кровь, течет моя кровь!» — сообразил Паланкаи и тут же почувствовал, как голова пошла кругом и потемнело в глазах.
Пришел он в себя уже в отдельной палате хирургического отделения.
Положив ноги на подлокотники кресла, Эден сидел у стола, жевал кекс и читал «Brave New World». Он весело посматривал на Эмиля.
— Ну, герой, ты жив?
— Извини, я не понимаю… — с трудом выдавил Паланкаи.
— Не разговаривай, а то разбередишь горло. Одна миндалина удалена, другую можешь приберечь до следующей мировой войны… У тебя был обычный приступ истерии, причем такой, что ассистент профессора невропатолога собирается писать диссертацию…
Паланкаи с мучительной болью проглотил слюну.
— Теперь, старина, можешь оставаться здесь в качестве нервнобольного сколько пожелаешь. Чего корчишь рожу? Жизнь хороша, никому не хочется умирать. Ты вел себя, как настоящий мужчина. Знаешь английский язык? Могу одолжить на время «Чудный новый мир». Великолепно пишет этот Хаксли. Кстати, ты будешь всю жизнь мне обязан. Ради тебя пришлось вышвырнуть из этой койки одного типа, который заплатил мне восемь тысяч пенге. После обеда я зайду к тебе. Приглашу из глазного отделения юного Рону, и втроем сыграем в картишки. До свидания, генерал.
Паланкаи поправил на горле мокрое полотенце и со стоном приподнял голову. «Эден считает меня трусом, — думал он в полузабытьи. — Разве это трусость, когда человек бережет себя для более важных дел? Только бы улыбнулось нам счастье в этой войне…»
На улице что-то подозрительно загудело. Санитарная машина? Нет, что-то более страшное. В коридоре послышались крики: «Носилки тяжелобольным!» Стук. «Ой, господи, неужто воздушная тревога? — ужаснулся Паланкаи. — Где здесь убежище… еще, чего доброго, оставят тут… Нет, не пережить этой войны».
Служить человеку
Полковник Меллер вызвал к себе Чути.
За несколько месяцев главный инженер изрядно похудел. Солдатская форма висела на нем, как мешок. Кожа пожелтела и обвисла, веки распухли.
Он явился к военпреду по всем правилам.
— Садитесь, господин главный инженер, — предложил Меллер.
Чути поклонился и сел в кресло возле курительного столика.
Полковник протянул свой портсигар.
— Спасибо, я не курю.
— Вы в последнее время очень плохо выглядите.
Чути только махнул рукой.
— Глупо, что вас мобилизовали. Больше того: это позор. Но я тут ни при чем. Если бы от меня зависело, я бы уже давно вас демобилизовал, но не имею на это права.
— Что вы хотели мне сказать, господин полковник?
Меллер закусил губу.
— Господин главный инженер, сегодня утром меня вызвали в министерство.
Чути молча ждал.
— Меня спросили, почему у нас так много брака. Чем объяснить, что за четыре месяца не было ни одного вагона деталей Б-16 без брака? Я, разумеется, не мог ответить. Да откуда мне, к черту, знать? В технике я не разбираюсь. Но я не настолько глуп, чтобы не замечать следующее. Вот, посмотрите сюда. Я запросил прежние производственные сводки литейного цеха. В августе тысяча девятьсот тридцать восьмого года три с половиной процента брака, в августе тридцать девятого года — три; в августе сорокового года — четыре, в августе сорок четвертого года — двадцать восемь процентов брака; в сентябре — тридцать четыре, в октябре — двадцать девять процентов. Чудеса, не правда ли? Вот вы и объясните мне, почему так получается.
— Я объясню вам, господин полковник. Опытных рабочих забрали на фронт. Уголь из рук вон плох. Люксембургского чугуна нет. И получается совершенно иное литье, чем прежде.
— Но я допускаю, что брак мог бы увеличиться в два, в три раза. В пять раз! А здесь в восемь раз, в десять раз! Не говоря уже о первой неделе ноября! Сорок семь процентов!
— Если не доверяете, я готов предстать перед военным трибуналом. Или пошлите на фронт.
— Господин главный инженер, я знаю, что не вы… я прошу вашей помощи. И давайте поговорим, как мужчина с мужчиной. Я человек семейный, мне пятьдесят семь лет, у меня четыре внука. Я не хочу дожидаться конца войны на бульваре Маргит. На фронт я тоже не рвусь. Мне, как и вам и всякому здравомыслящему человеку, совершенно понятно, что эту войну мы уже проиграли. Бои идут возле Мако…
— Прошу вас, господин полковник, я политикой не занимаюсь.
— Упаси боже, не думаете ли вы, что я собираюсь заманить вас в какую-нибудь ловушку? Но почему вы не решаетесь сказать откровенно? Я говорю с вами, как с самим собой.
— Заверяю вас, господин полковник: я говорю то, что чувствую.
— Слушайте, здесь скрывать нечего. В военном министерстве мне сегодня пригрозили, что, если в течение двух недель мы не поставим десять тысяч качественных деталей, меня снимут, вас погонят на фронт, машины эвакуируют, весь завод переведут на запад.
— Обеспечьте технические условия, и Б-16 будут.
— Что же требуется сделать?
— Завтра утром я представлю перечень самых необходимых материалов и список тех рабочих, кого обязательно нужно вернуть с фронта.
— Ладно. Вот это уже разговор. Глоточек абрикотина, надеюсь, не откажетесь? Ах, простите, забыл, у вас ведь больные почки…
И полковник дружески пожал руку фенриху. Все улажено. К утру будет готов список, он представит его министерству, а там никто не станет им заниматься. Кому сейчас до него…
Чути вернулся к себе. Болели почки, кружилась голова. Он сердито забарабанил в окно. Собственно говоря, какое ему дело до всего этого? Разве это его завод? Да пусть себе делают детали к орудиям, ракетные снаряды, Фау-8, что угодно. Сколько он протянет с этой больной почкой? Два года? Три? Но не больше десяти. И семьей он еще не обзавелся.
— Но нет, — произнес он вслух, — я все-таки не согласен помогать Гитлеру. Пошли они все к черту. А если бы я женился и у меня был сын? В самом деле, почему я не женюсь?
Он надел плащ и вышел к своей машине. Возле «Тополино» стоял Яни Хомок.
— Яни, с каких же это пор ты меня ждешь?
— Давно, господин главный инженер.
— Что-нибудь случилось?
— Вы слышали распоряжение?
— Какое?
— Соседний консервный завод уже получил приказ. Нас начинают перебазировать на запад.
«И не подумают, мы пока еще здесь им нужны», — хотел сказать Чути, но вместо этого заметил:
— Ну, литейный трудновато будет погрузить на машины.
— Литейный — да. Но станки можно демонтировать.
— Это верно.
— Мы решили закопать подшипники и видиевые резцы.
— Кто это решил?
— Ну… решили.
Яни Хомок покраснел.
— Ну и что из того, что закопаете? Разве завод принадлежит тебе?
— Нет.
— Так какое тебе дело, кто увезет видиевые резцы и куда?
— Нет, вы не правы. Не будет завода, не будет и хлеба.
Чути оперся на машину и устало спросил:
— Где ты набрался столько смелости, чтобы приходить ко мне с такими разговорами?
Яни Хомок молча пожал плечами.
— И ты не побоялся, что я выдам тебя военпреду?
— Вы не выдадите.
— Откуда тебе известно? — и бледное лицо главного инженера согрела улыбка.
— Не выдадите. Вы не такой человек.
— Не такой? А какой же я?
Яни Хомок застенчиво улыбнулся.
— Не хочу вас обижать, господин главный инженер, а вдруг скажу что-нибудь невпопад.
— Ну — ка, говори.
— Мне думается, что вы… человек, который варит чугун не только ради самого чугуна, но для того, чтобы он служил людям.
— Служил людям, — пробормотал Чути. — Что ж, ты прав. Гранатный кожух, во всяком случае, хорошо служит. — Затем вдруг вскипел: — Какого черта ты упомянул об этих резцах?
— Только затем, чтобы вы, господин главный инженер, подписали эти наряды кладовщику.
Чути некоторое время колебался, держа бумажки в руках, но затем достал авторучку и все подписал.
— Послушай, Яни, почему опять стало так много брака в деталях Б-16?
— Не знаю, господин главный инженер. Мы принимаем все меры…
— Недели две немного поостерегитесь.
— Слушаюсь, господин главный инженер.
Яни Хомок спрятал в карман наряды, поблагодарил и поспешно вернулся на завод. Его остановил формовщик Пал Халас, человек лет сорока.
— Видел, как с тобой по душам разговаривал господин главный инженер.
— Ну и что из того, что разговаривал?
— Чего он к тебе пристал?
— Намылил голову за брак. Ты опять больше всех напортил.
— Я не портил, поверь. Кто-то отломал кусочек формы.
— Хватит тебе, хорош формовщик, который даже образца не проверяет, когда приступает к работе! В следующий раз сам будешь получать взбучку от Чути, я больше не стану подставлять за тебя башку.
Халас отошел в сторону, а Яни заторопился домой.
Теперь они снова жили в каморке вместе с «большим» Яни. В кухне жила его золовка, жена покойного Иштвана Хомока. «Большой» Яни настоял, чтобы она переехала к ним. Впрочем, «большой» Яни опять свалился в постель, хотя в начале лета совсем уже хорошо ходил. Врач говорил, будто он натрудил ногу. Снова появилась температура. Друзья заходят к нему редко. Каждый занят собственными горестями и печалями. Один только Габриш Бодза, белобрысый, серьезный паренек из машинного отделения, остался предан своему другу. Часами просиживал он у постели «большого» Яни и вел с ним нескончаемые разговоры. Вместе с Яни Хомоком теперь их было трое. Под соломенным тюфяком «большого» Яни хранилась уйма книг. Габриш принес ему штук тридцать. Иногда они зачитывались ими и сидели в затемненной каморке до полуночи. Яни Хомок порой даже днем, во время работы думал об этих книгах, и тогда его охватывало бешеное нетерпение. То вдруг у него появлялось желание крушить все вокруг, выбежать на улицу, закричать, позвать товарищей и вступить в единоборство с чем-то, что лежало на нем грузом и давило. То становилось от этих мыслей теплее на сердце, и он, видя, как красиво льется чугун, любовался этим зрелищем. И в его мозгу рождались странные, новые мысли. А между тем не было в тех книгах ничего особенного. В них нельзя было прочесть о том, как человек нашел миллион пенге, купил себе автомашину, дом, влюбился в богатую красивую девушку. Вовсе нет, это были стихи и рассказы о таких же людях, как он сам, о людях, которые трудятся в поте лица и живут на окраине города, в закопченных хибарках.
Яни не терпелось скорее передать Габришу подписанные наряды.
По затемненным улицам городка Чути мчался в сторону Казенного леса.
Печальный и черный поселок оставался позади.
«Странно, мне бы никогда в голову не пришло, что меня тут любят», — думал инженер. И ему вспомнилось, с каким недружелюбием и ненавистью встречали его много лет назад, когда он отдал распоряжение смонтировать на воротах завода сигнальные часы. Устроенный на часах звонок подавал сигналы в зависимости от установки. Он звонил после отметки пятого, восьмого или же четырнадцатого рабочего. И кого заставал звонок, тот должен был идти в кабинку вахтера на обыск. Через несколько дней разнесся слух, что внутри часов установлен магнит, который и подает сигналы, если в кармане идущего через проходную спрятан металлический предмет — украденный инструмент или кусок железа. Подсобный рабочий Паколи заспорил как-то раз со своим приятелем на литр вина, что дознается, действительно ли там запрятан магнит. На следующий день, когда Паколи отмечался у выхода, за ним с волнением следили человек десять рабочих. Как только Паколи дернул за ручку, часы зазвонили. Неужто говорят правду об этой адской машине? Паколи побледнел. «Смотри ты, взял с собой жестяную папиросницу, и вот попался». «У них рентгеновские глаза, как у Чути», — сказал один из рабочих. С тех пор эти часы стали называть «чутинскими».
Машина, монотонно напевая, стрелой мчалась по шоссе. «Я никогда не думал, что они говорят обо мне… Оказывается, рабочие тоже бывают разные. Неплохо, если после войны у нас будут видиевые резцы и подшипники. Только бы хватило ума у этих ребят завернуть резцы в промасленную тряпку, иначе они погибнут в земле… Да, жизнь довольно странная вещь!»
Знакомые милые задунайские холмы мирно спали при свете луны. Откуда-то издалека, с востока, ветер приносил отзвуки артиллерийской канонады.
«Жизнь человека длится пятьдесят-шестьдесят лет, и он не может прожить ее мирно. Люди покоряют железо, огонь, воздух… и прячутся в подвалах, как черви. К черту этого Меллера, немецкое военное командование и гранатные кожухи. Я не стану оттягивать конец войны ни в коем случае, ни на одну секунду».
Возле квартиры участкового врача Чути невольно затормозил, но тут же вспомнил и грубо выругался. Вот уже неделя, как врач переехал в Шопрон и работает добровольцем в каком-то военном госпитале.
Чути снова включил третью скорость и изо всех сил нажал газ.
КАС бежит
Немецкая истребительная эскадрилья и КАС не поддерживали между собой связи. Тибор Кеменеш после передачи охотничьего особняка раза два видел издали капитана Таймера. И именно поэтому он остолбенел от удивления, когда однажды, постучав в дверь, на пороге комнаты появился капитан Карл Таймер.
Таймер тщательно вытер грязные сапоги, снял фуражку и, смущенно улыбаясь, принялся стирать с лица дождевые капли.
— Grüss dich[30], Тибор.
Старший лейтенант Кеменеш в это время слушал радио. Он поднял глаза, покраснел до корней волос, хотел было вскочить со стула, но не мог ни пошевельнуться, ни слова сказать.
Испытывая неловкость, Карл Таймер осмотрелся в низенькой бревенчатой комнате, немного помялся, а затем без приглашения сел к столу. Тибор все еще не мог сдвинуться с места. На Таймере была все та же форма капитана, но он заметно похудел; его костлявое лицо, чуть выступающие вперед плечи, запавшие глаза с темно-синими кругами напоминали прежнего Карли. Разница была лишь в том, что он постарел: ему скорее можно было дать шестьдесят лет, чем двадцать пять.
Губы капитана то и дело вздрагивали, словно он собирался что-то сказать. Но Таймер хранил молчание.
Тибор попытался снова представить себе Карла Таймера вместе с его эскортом, когда тот вошел к ним в канцелярию и начал кричать: «Даю вам тридцать минут!..» Нет-нет, это не тот Карли. Забыл даже, как в последний раз они обнимались в Вестбанхофене! Все забыл.
— Вскипятить чай? — спросил он наконец лишь для того, чтобы чем-нибудь разогнать жуткую тишину. И сразу же после его вопроса скованности как не бывало. Казалось, будто они снова сидят в старой студенческой комнатушке, где на книжной полке рядом с томами всемирной истории хранится в железной коробочке душистый чай, завернутый в серебряную бумагу. И стоит картонная коробка, полная тоненьких, сладких сухариков. У них какой-то особый вкус. Инжир? Нет. Ваниль? Корица? Нет-нет, совсем другой вкус. Вкус молодости.
— Спасибо, не надо, — сказал Карл, и его хриплый голос снова превратил комнату в то, чем она была на самом деле: в комнату с полом и белеными стенами, в офицерское жилье, реквизированное Командой аэродромного строительства.
— Тибор, я верил в то, что делал… — произнес Таймер, но так тихо, что Тибор скорее догадался, чем услышал. — Не ради денег или карьеры… Я верил в войну, верил, что после нее все пойдет хорошо… Я думал, что мы правы и выиграем войну…
Кеменеш молчал. Он смотрел в серые глаза Карла Таймера. Сколько разбомбленных деревень, сколько убитых детей видели эти глаза?
Таймер не замечал этого. Бессмысленный взгляд он устремил в окно, на дождливый, хмурый пейзаж. Затем тряхнул головой, как будто желая прогнать какую-то мысль, какое-то воспоминание. Медленно встал, взял со стола фуражку. Губы его снова зашевелились, но он, так ничего и не сказав, повернулся и, не простившись, направился к двери.
«Надо было бы задержать, — подумал Кеменеш, но не находил слов. — Впрочем… пусть идет хоть к черту на рога. Наверное, выпил лишнее, поэтому и захотелось вдруг исповедаться».
Но, когда за Таймером захлопнулась дверь, какое-то гнетущее чувство сдавило Кеменешу горло, и боль спускалась все ниже и ниже, к сердцу.
«Он вернется, — подумал Тибор и принялся расхаживать по комнате. Вскоре он остановился, подошел к радиоприемнику, повертел ручку, взял в руки книгу и тут же отбросил ее в сторону. — Из него вышел отъявленный нацист… А был когда-то моим самым лучшим другом».
Через полчаса снова постучали.
Тибор вздрогнул и чересчур громко крикнул:
— Войдите!
Вошел Тамаш Перц, взволнованный, взъерошенный, без фуражки.
— Тибор, ты знаешь?
— Что?
— Немцы… истребители покинули аэродром.
— Не говори глупостей. Не было никакого приказа.
— Дождешься, когда рак свистнет. Русские совсем близко, по ту сторону Дуная. Говорят, будто под Дунафельдваром они форсировали Дунай в десяти местах. Великолепно, а? Все ждали, что русские будут наступать на Будапешт с востока, а они окружают его отсюда…
— Так вот почему…
— О чем ты говоришь?
— Ни о чем. Только… Впрочем, подожди меня здесь, старина, я посмотрю, действительно ли они драпанули.
Каменеш бегом пересек парк. За оградой простиралось мокрое, глинистое поле, на котором виднелись лужи дождевой воды. Деревья окутывал молочного цвета туман, так что в нескольких шагах ничего нельзя было разобрать.
Тамаш сказал правду, аэродром спешно эвакуировался.
В пять часов пополудни еще вовсю шло строительство бетонированной взлетной дорожки. В половине шестого немцы получили приказ об эвакуации и уничтожении аэродрома. Рабочих согнали в одно место, не позволив им даже собрать свои вещи, надеть ранцы, и повели в сторону Фертеракоша. Летчики тоже мигом закончили свои приготовления в дорогу. Самолеты поднялись в воздух. Остался только технический персонал, которому было вменено в обязанность взорвать аэродром. Начальника КАС майора Фюлеки в конторе не было. Еще в полдень он уехал в Секешфехервар к своим родственникам. Лейтенант Лекеши в отчаянии пытался установить связь с Будапештом.
Группа немецких техников укладывала имущество. Все движимое и все, что имело какую-либо ценность, грузилось на машины. Разумеется, машины КАС тоже были реквизированы. Фенрих Байор, русый юноша с испуганными глазами, растерянно смотрел на происходящее.
Кеменеш принял рапорт Лекеши.
— Немцы требуют в течение часа покинуть аэродром, так как они будут его взрывать. Будапешт не отвечает. Майор, очевидно, где-то подыхает пьяный…
— Надо съездить за ним в Секешфехервар.
— У нас нет машины. Кстати, говорят, будто у Солгаэдьхазы русские прорвали оборону.
— Неужто и ты веришь паническим слухам? Будь добр, скажи Байору, пусть вместе с сержантом Перцом сообразят мне мотоцикл. Я сам съезжу за майором. А ты попробуй еще раз вызвать Будапешт.
Лекеши убежал. Дежурный телефонист усердно вертел ручку безмолвствующего аппарата. Тибор Кеменеш вошел в комнату майора Фюлеки и сильным рывком открыл ящик письменного стола. В ящике валялось несколько бланков увольнительных. Он схватил их и сунул себе в карман. На столе лейтенанта оказалась круглая печать, но штампа нигде не было. Возвратился Лекеши.
— Мотоцикл нашли, но сержант Перц как в воду канул.
— А как с Будапештом, дозвонились?
— Безнадежно. Не отвечает.
— Раньше восьми часов вечера вряд ли вернется. Документы сложи и унеси к себе на квартиру, в деревню. Мы тоже приедем туда.
— Слушаюсь, — щелкнул каблуками Лекеши.
— На всякий случай заготовим на всех командировочные в шопронский резервный отряд. Если до полуночи мы не приедем, отправляйтесь сами. Дай-ка мне гербовую печать и бланки командировочных. Да еще раз посмотри, не идет ли сержант Перц.
Лекеши скрылся за дверью.
Кеменеш в первую очередь поставил печати на бланках, которые он нашел в столе, затем заполнил командировочные предписания.
Вернулся Лекеши.
— Тамаша Перца полчаса назад видели по дороге к домику управляющего, но он еще не вернулся.
— Ладно, я загляну туда, — сказал Кеменеш, и встал. — Я все равно собирался зайти к себе на квартиру.
Тамаш нетерпеливо расхаживал взад-вперед по комнате.
— Наконец-то ты пришел. Я оказался прав, а?
— Больше, чем прав. Мне удалось достать мотоцикл. Немедленно выезжаем.
— Куда?
— По пути договоримся. Пошли скорее.
— А наши вещи?
— При Мочахе больше пропало. Разве что прихватить с собой «Кандида». Не мешает еще и еще раз прочитать, что этот мир — самый лучший из всех существующих миров.
По Секешфехерварскому шоссе пришлось ехать совсем медленно. По темной, развороченной бомбами и взрыхленной танками дороге навстречу им шла нескончаемая колонна. Затемненная синим фильтром фара мотоцикла слабо освещала только несколько квадратных метров земли каким-то призрачным светом. Тибор поверх пригнувшегося Тамаша смотрел вперед, на кошмарную дорогу войны. Казалось, будто перед ним воскресали картины Гойи. Вот худой, с изможденным, скуластым лицом мужчина, защищаясь, поднимает над головой руки — нилашист бьет его прикладом, и мужчина, пошатнувшись, опускается на одно колено. Вот идет женщина, на плече у нее ребенок пятишести лет. Она как будто без лица и без возраста. Черты ее искажены страхом, рот раскрыт, словно она собирается кричать, растрепанные волосы ниспадают на лоб, руки закинуты назад и поддерживают ребенка. И она, молча взывая о помощи, идет, нагнувшись вперед, — грозное, полное совершенства изваяние ужаса, изваяние матери, дрожащей за жизнь своего ребенка, — и глядит широко раскрытыми глазами навстречу смерти.
Картины меняются. Вот бредут подростки-бойскауты, от недосыпания они едва держатся на ногах. Один из них поднимает большие, светло-голубые глаза и с удивлением смотрит на мотоцикл, но дороги не уступает, а продолжает шагать дальше, как сомнамбула. Ему не больше пятнадцати лет. Вот тащится заваленная мешками крестьянская подвода, на козлах которой восседают немецкие солдаты. Сбоку на повозке табличка: «Гергей Ковач, Сигетсентмиклош, улица Текеи, 8». Это смешное и теперь совершенно ненужное обозначение частной собственности в общем потоке производит удручающее впечатление. Старательно нарисованная табличка с именем Гергея Ковача свалилась в страшную реку, где не имеет никакого значения, как звали человека вчера. Вместо Яноша Киша, Эржебета Надя, вместо сына, жены, матери существуют одни номера, безыменное стадо. Ограбленная страна, причитая и охая, влачится на запад.
Нестройными, растянутыми колоннами бредут обросшие, с воспаленными глазами, с желтыми повязками на рукавах солдаты рабочих батальонов. Где-то позади то и дело раздаются нетерпеливые гудки автомобилей. Люди нехотя расступаются, и между ними стрелой проносятся легковые машины. Кеменеш видит их мельком: женщины, укутанные в меха дети, громоздкие чемоданы. За нестроевиками идет рота венгерских солдат, окруженная со всех сторон офицерами на машинах и лошадях, полевой жандармерией на мотоциклах. Роту ведет длинноусый молодой лейтенант. Тамаш останавливается у кювета, чтобы пропустить колонну. Усатый лейтенант приказывает петь, усталые солдаты, словно на похоронах, запевают протяжную, тихую песню.
В сторону Вены следуют один за другим десятки, сотни, тысячи немецких грузовиков с ящиками, мешками, мебелью. Снова бредут женщины, снова тащутся подводы. И на дороге через каждые десять шагов лежат убитые.
Тибору Кеменешу порой хочется дернуть Тамаша за плечо, повернуть мотоцикл на запад и ехать куда глаза глядят, только бы не видеть этой страшной картины, не встречаться с этой кавалькадой преступлений и страданий, не видеть постоянно женщину, которая с выражением ужаса на лице несет своего ребенка…
До города всего тридцать километров, а они едут вот уже полтора часа. Вдруг дорогу запрудило стадо. Напуганные коровы и быки сбились в кучу и ревут. Три подростка-нилашиста стегают их что есть мочи кнутами, бьют палками. Позади них гудят машины. Где-то справа вдали вспыхивают огни и грохочет земля — опять бомбежка. Вот совсем рядом раздается ружейный выстрел, слышатся крики, но ничего не видно. Перед мотоциклом Тамаша все еще стоит корова, кроткими печальными глазами она смотрит на колесо, уныло мычит и медленно, не спеша переваливаясь с боку на бок, ковыляет дальше. За стадом движется грузовик с открытым кузовом. На нем видны токарные станки, эмалированная детская ванночка. Вдруг дорога впереди освобождается метров на сто. Но тут же появляется новая вереница людей. Старики крестьяне, муж и жена, тянут тачку, взгромоздив на нее весь свой скарб: два узла с одеждой и бидон с жиром. Женщина плачет, в зубах мужчины трубка, она давно потухла. Откуда они бегут? Куда спешат? Что заставило их бросить свой дом? Фара мотоцикла освещает небольшую группу оборванцев. Это дети.
То и дело спотыкаясь, по дороге бредут пятилетние малыши. Их человек пятнадцать, и у каждого на одежонке нашита желтая звезда. Их гонит, уныло покрикивая, какой-то жандарм. Кое-кто из малышей падает, тут же поднимается и, как перепуганный цыпленок, бежит следом за остальными. Жандарм злыми глазами посматривает на своих подопечных и насвистывает песенку «Лили Марлен». У одной девочки свешиваются на плечи аккуратно заплетенные русые косички. Может быть, мать в последний раз причесала ее сегодня утром. В руках она сжимает коричневого мишку и, охваченная немым ужасом, семенит в непроглядной ночи.
Тибор закрывает глаза. Ему кажется, что не мотоцикл, а его жизнь мчится сейчас в беспредельной темноте; все потеряло смысл, теперь все равно, ехать дальше, или остановиться, или вернуться назад.
Он облегченно вздохнул, когда они наконец подъехали к городу.
— А теперь куда? — спросил Тамаш.
— Как куда? В Будапешт.
— У нас не хватит бензина. А достать вряд ли удастся.
— Да мы поедем не на мотоцикле.
— А как же?
— Поездом.
— Что-о-о?
Тибор нагнулся поближе к Тамашу и закричал в самое ухо.
— Поездом. Предписание у меня есть.
На рассвете в Будапешт отправлялся немецкий военный эшелон. Поездом ехали войска, перебрасываемые с Карста[31] в Нижние Татры. У солдат было подавленное настроение.
— Мы уже привыкли в Любляне к своим партизанам, — желчно пошутил старый эсэсовский сержант, — теперь придется познакомиться с чужими.
— А я думал, вы любите новые знакомства, — произнес Кеменеш, — в противном случае зачем было трогаться с места в тридцать девятом году? Могли бы сидеть у себя дома.
Сержант не понимал по-венгерски. Он осклабился, полагая, что Тибор дружески пошутил с ним.
Тамаш Перц, забившись в угол, сидел тише воды, ниже травы. Он не понимал, зачем Тибор насмехается над немцами, когда и без того только чудом удалось им попасть на этот поезд и в любую минуту их могут прогнать. К тому же у него в портфеле есть несколько таких бумажек, которые он не стал бы показывать полевому жандарму.
— Если нам повезет, в шесть часов утра будем в Будапеште, — благодушно сказал эсэсовский сержант. — Нет особой нужды спешить, но никогда нельзя знать наперед, где тебя настигнет смерть…
Не успел он закончить фразу, как, сделав сильный рывок, эшелон остановился. Немецкие солдаты, которые до сих пор играли в карты при свете карманного фонаря или, прижавшись друг к другу, спали, как по команде, вскочили на ноги.
— Тревога! Воздушная тревога! — закричали все сразу.
Рядовой солдат шестнадцати-семнадцати лет разразился истерическими рыданиями, остальные, кто в двери, кто в окна, бросились выпрыгивать наружу.
По обе стороны железнодорожной насыпи тянулись канавы, полные дождевой воды. Немцы, как бы не замечая этого, плюхались прямо вводу и, распластавшись, прикрывали голову руками.
Тибор Кеменеш и Тамаш Перц, перескакивая с грехом пополам рвы и лужи, забежали на кукурузное поле. Со стройных стеблей кукурузы свисали к земле гниющие, мокрые листья, все вокруг издавало какой-то сладковатый, отвратительный запах. Сквозь туман сверкнули ракеты, в небе, медленно опускаясь, повисла «Сталинская свеча», заливая всю местность ярким светом. Затем еще две сразу. Стало видно и покинутый поезд, и подводу под железнодорожным мостом, и изредка приподнимавшиеся головы немецких солдат, и стройный, голый тополь, и кукурузное поле, и церковную колокольню вдали.
Бомбежка началась внезапно, как ураган. Гудение самолетов заглушалось мощным грохотом, снова и снова содрогалась земля. С железнодорожного моста в небо ударил сноп огня и дыма, подвода вместе с лошадью и хозяином исчезла, словно ее там никогда и не было. Потом разлетелся в куски паровоз, застрочил пулемет, из ближайшего рва донесся душераздирающий крик. Висящие ракеты погасли, гул самолетов замер. Все это продолжалось минуты три, не больше, но на земле остались мертвые люди, мертвые лошади, мертвые деревья.
— Ты жив? — шепотом спросил Тамаш.
— Так легко черт нас не возьмет.
— Как же мы теперь будем передвигаться?
— Да, скакуна нашего действительно прихлопнули. Напрасно мы с тобой бросили мотоцикл.
— Нечего вспоминать то, чего не воротишь. Будем ждать, пока наш шурин-немец соберет косточки?
— И не подумаем. Этот поезд все равно дальше не пойдет. За кукурузным полем виднеется деревня. Доберемся туда пешком.
Они пошли напрямик через размокшее длинное кукурузное поле, между торчащих стеблей. К ботинкам прилипали большие комья вязкой земли. С трудом передвигая ноги, они шли молча, тяжело дыша.
Было уже пять часов утра, когда Тибор и Тамаш подошли к деревне.
Тибор, прищурив глаза, стал разглядывать дома.
— Слушай, Тамаш. Нам как будто ужасно повезло. Это, кажется, Барачка.
— Неужто это такое большое счастье? — поинтересовался Тамаш. Он остановился и щепой счистил грязь с ботинок.
— Да ведь здесь живет один мой хороший знакомый, Чути, главный инженер Завода сельскохозяйственных машин. Он угостит нас чашкой чаю и даст умыться. Ему также, наверное, известно, когда в Будапешт идет поезд.
— А где он живет?
— Это как раз то, чего я не знаю. Помню только, что у его виллы забор выкрашен в зеленый цвет и перед забором кусты сирени.
— Ну что ж, будем искать, война от нас не убежит.
— Знаешь, где нам узнать? В жандармерии.
— Ты гений, — выразил свое восхищение Тамаш.
Квартиру Чути они нашли через десять минут. А еще через десять минут Чути уже готовил чай для своих гостей. Тибор и Тамаш стащили с себя ботинки, сняли мокрые френчи и босиком, в нательном белье улеглись на диване. Они так крепко спали, что даже не слышали, как Чути прикрыл их одеялом, как он внес чай. Хозяину пришлось их разбудить и пригласить к столу.
— Лучше попейте сначала горячего чаю.
Тамаш в полусне заявил, что ради сна он готов отказаться от всяких горячих напитков. Зато Тибор живо соскочил с дивана и уселся за стол.
— Вы еще ездите на завод? — спросил он у Чути, откусывая хлеб.
— А как же, каждый день.
— Поездом?
— Нет. Езда на поезде сопряжена с трудностями. Я катаюсь на своем «Тополино».
— Что нового в Будапеште?
— Все зависит от того, что вас интересует, Тибор.
Кеменеш засмеялся.
— Ну, скажем, может ли прожить там подобный мне старший лейтенант, который приехал с не совсем законным предписанием?
— Вы не дезертировали?
— Да.
— Не шутите.
Кеменеш пожал плечами.
У меня был выбор: уехать вместе с немцами на запад, остаться на аэродроме и взлететь вверх тормашками в воздух или же вернуться в Будапешт.
— Будапешт сейчас не особенно приветлив. Вам известно, что немцы взорвали мост Маргит?
— Неужели? — оторопел Тибор и поставил чашку.
— К счастью, только одно крыло. После войны легко можно будет восстановить… если только они не наделают больших подлостей. Несчастье свалилось на нас, Тибор. Немцы приготовились к осаде, так просто они не сдадут город.
— Мне кажется, они охотнее станут драться в Будапеште, чем в Вене или Берлине.
Чути, задумавшись, молчал.
— А что вы собираетесь делать в Пеште? — вдруг спросил он.
— Ничего. Буду ждать конца войны.
— Нелегкое это занятие. Нилашисты устраивают облавы на дезертиров. Город наводнен полевой жандармерией. Не ходите в такие места, где вас могут опознать.
— Я думаю, что домой мне являться не следует.
— Я мог бы предложить вам остаться здесь, но Барачка — ненадежное место. Балатонское шоссе — главная коммуникация немцев, они постоянно торчат здесь.
— Спасибо, я все равно не остался бы у вас. Любой ценой я доберусь до Будапешта. Где-нибудь пристроюсь.
— Конечно… конечно, — в раздумье произнес инженер. — Вам ничего иного не остается.
— Вы говорите таким тоном, словно не согласны со мной.
— Почему же? Я вполне одобряю ваше решение. Вы правильно сделали, к чему рисковать своей шкурой. Меня мучает совсем иное, Тибор. Мы старые знакомые, и вы меня поймете. Вам известно, что я противник всяких крайностей. Но сейчас меня постоянно одолевают мысли о коммунистах. Я уважаю их и удивляюсь им. Разрушение памятника Гембешу, очевидно, дело их рук. А митинг нилашистов на прошлой неделе в городском саду? На нем присутствовало не менее двух тысяч головорезов. Окрестности городского театра были битком набиты, ожидался приезд даже самого Салаши. И на тебе, взорвалась бомба, весь митинг разбежался. Вы себе представляете, каков моральный эффект этого происшествия? Коммунисты вездесущи. Однажды подошел ко мне мой рабочий. Попросил помочь спрятать подшипники. Ведь он же рисковал головой, так как не знал, выдам я его военным властям или нет. Впрочем, может, и он коммунист, может, во всей стране такое же положение, как у меня в деревне, где мне знаком каждый дом, каждый двор, каждый стог соломы, где все тянется ко мне, все нянчило меня, охраняет меня.
— Я вас не узнаю, вы стали поэтом, философом, а главное — коммунистом.
— Нет, я не коммунист, — серьезно возразил Чути. — Но и не считал бы это звание для себя оскорбительным. Я не могу быть коммунистом из-за своей инертности. Я только размышляю, гадаю, дескать, действительно бывают такие часы, когда нельзя останавливаться на полпути, надо примкнуть к тем или другим, но…
— Вредно терзать себя подобными мыслями. Судьбы мира сего вершатся без нас, не наше это дело. Спрятаться. Ждать. Ибо чего стоит победа самой священной идеи, если человек отдал богу душу? Кого зарыли в землю, тот уже не проснется. Нет ни загробного мира, ни страшного суда, ни воскресения. В бесконечном времени нам предоставлена возможность только родиться. Повторения нет. Извольте же разумно распорядиться своей жизнью.
— Не могу согласиться с вашим суждением, Тибор. Оно эгоистично.
— Возможно. Но это, вопреки всем иным доводам, — единственная искренняя позиция. Я могу поверить, что материалисты правы. Материя объективна, извечна и вечна, могу ли я ее ощущать своим мозгом, этой крошечной частицей бесконечной материи, или нет? Белок синтезируется и распадается, атомы взрываются, и возникают солнечные системы, но моя жизнь есть нечто закрытое в самом себе. Вселенная мне не дает больше того, что я могу ощутить своими органами чувств. Если через пять минут после смерти у меня начнет разлагаться мозг, я больше уже не буду ощущать рек, неба, вкуса хлеба и сладости объятий. Перестану помнить о тех, кого я больше всего любил, забуду самое любимое свое стихотворение. Бесконечная материя будет продолжать свое существование, распадающиеся частицы моего тела будут пребывать в целом, в бесконечном. Но преходящая, слабая жизнь, мое сознание, мое «я» погибнет. Я должен защищать его всеми средствами сам.
— Мед потечет!
— О, простите, ведь это дорогой клад, — ответил Тибор и быстро подставил язык под стекающий с хлеба мед.
— Ваша логика может сделать человека только несчастным.
— Нет-нет, я поистине счастливый человек. Я довольствуюсь хорошей книгой, красивой картиной.
— А когда всего этого нет? Когда идет война?
— Память о прекрасном…
— А если и памяти нет? Если бы вы случайно оказались поденщиком, барским холуем? Если бы вы никогда не знали Одиссеи, никогда не слыхали о Леонардо да Винчи или Микеланджело?
— Тогда природа, ее красоты, цвета…
— Природа? А если бы вы родились в шахтерском районе? Я имею в виду не сибирские свинцовые рудники или сицилийские серные шахты. А Татабаню или Мечексаболч, где одиннадцати-двенадцатилетние ребятишки работают в сортировочном отделении за четыре филлера в день и через год отцы прибавляют сыновьям по пять-шесть лет, только бы их взяли в вагонетчики… Приходилось вам, Тибор, бывать в наших шахтерских городах? Дым, туман, копоть, немощеные, грязные улицы, в шахтах ручной труд, устройств по охране труда почти не существует, жара, заработки нищенские. Дети горняков даже двух классов не кончают.
«Я говорил вам о своей жизни, а не о жизни вообще», — собрался было ответить Тибор, но только свистнул, так как у него от меда заныл зуб.
— Знаете, Тибор, счастье начинается с того момента, когда человек впервые приносит обществу пользу, — сказал Чути, — И если вы инженер, то плавьте металл не только ради того, чтобы вам за это заплатили, а служите этим человеку…
— Служить человеку? Кто знает, когда делаешь добро своему собрату? Моя бабушка родилась в Трансильвании, она очень любила мамалыгу. А я терпеть не мог. Но тем не менее бабушка каждый день запихивала мне ее в рот, утверждая, что мамалыга полезна.
— Добро и зло, польза и вред — это не только вопросы вкуса. Туберкулез, несомненно, плохая вещь, а рабочее помещение с хорошей вентиляцией весьма хорошее дело. Сырая, грязная квартира — плохо, современная, солнечная квартира с ванной — хорошо.
— А как же иначе? Взрывчатка в шахте — полезная вещь, в снаряде — вредная. Мечта, вознесшая Икара к небесам, — хорошо, «Мессершмидт» — плохо. Чугун — хорошо, если из него делают печки и колеса паровоза, но если гранатные кожухи…
— Да, если гранатные кожухи… — пробормотал Чути. вздыхая. — Ну, попытайтесь разбудить вашего друга. Через полчаса поедем. Я подвезу вас на своей машине. Куда вас доставить? К родителям?
— Нет, ни в коем случае. Дома мне нельзя появляться из-за соседей. Есть у меня друг в больнице Святой Каталины, — ответил Тибор. — Если бы вы не отказали подбросить нас туда, я был бы вам благодарен.
— С большим удовольствием. Если только по дороге в нас не угодит какая-нибудь бомба.
Золотое дно
Кати Андраш работала в шляпном салоне «Милочка» на улице Шандора Петефи. Когда участились бомбежки, полковник Гуидо Галфаи прислал своей жене письмо:
«Я всегда полагался на твою расторопность и практичность, дорогая. Но сейчас умоляю больше не рисковать. Садись на первую попавшуюся машину и поезжай следом за мной в Шопрон. Брось к черту шляпы, сейчас не до них». Госпожа Галфаи показала письмо своей подруге Амалии и гордо засмеялась. Он опасается за нее! Вздумал советовать, чтобы она бросила это золотое дно! Она, конечно, поедет, но поедет, когда сочтет нужным, с полной шляпой золота!
В шляпном салоне не прекращалась работа ни днем, ни ночью. И хотя в момент, когда в дом попали две мины, потолок примерочного зала обвалился, огромное венецианское зеркало, журналы мод, мебель погибли и телефон с тех пор безмолвствовал, тем не менее от заказчиков не было отбоя. Графини, баронессы, жены министерских советников, генералов, даже несмотря на самые яростные обстрелы, или приходили сами, или, чаще, присылали своих слуг со всякого рода просьбами. Они дюжинами заказывали теплые меховые шапки, модные тюрбаны, муфты — вещи, необходимые для поездки на запад в нетопленых загонах, по холодным шоссе, с вынужденными стоянками из-за бомбежек. И платили за шляпы, почти не считаясь с расходами. Железная кассета госпожи Галфаи изо дня в день пополнялась новыми пачками стопенговых ассигнаций, драгоценностями, золотым ломом.
Из прежнего, выходившего во двор, темного и сырого помещения мастерская перебралась в настоящий подвал. Сначала под нее заняли опустевший дровяной склад. Сюда перенесли швейные машины, болванки, утюги, ценные колпаки, меха, материю, Шелк и гнули спины с раннего утра до полуночи при желтом свете стосвечовой лампочки. В крошечной каморке восемь девушек влажными от сырости руками, корчась от боли в пояснице, шили красные, синие, розовые тюрбаны. Они не успевали выполнять даже четвертой доли заказов. В середине ноября госпожа Галфаи решила расширить свое предприятие. Она дала начальнику ПВО и дворнику по пять тысяч пенге и за это получила в свое распоряжение весь дровяной подвал под фронтоном огромного дома, выходящим на улицу Шандора Петефи. Это, правда, означало, что дрова сорока семей надо было перенести в конец подвального коридора. К счастью госпожи Галфаи, топлива оказалось очень мало: часть семей — одни по собственной воле, другие по воле нацистов — скиталась где-то в Задунайском краю или в Германии.
Госпожа Галфаи, расширив свое предприятие, дюжинами принимала модисток. На единственное объявление сразу явилось не менее семидесяти молоденьких девушек и пожилых женщин. Они предъявляли уйму документов, метрические выписки, дорожные удостоверения, свидетельства о прописке, справки с места жительства, рассказывали путаные истории о бегстве из Трансильвании, о родственниках, у которых якобы собирались погостить, но не застали их дома, о воздушных налетах, о том, будто они опоздали на поезд, потеряли чемоданы и не смогли уехать. И, что удивительно, все они за гроши соглашались на любую работу, все готовы были отказаться от жалованья, только бы остаться здесь и получить тарелку горячей пищи.
— Смотри, это все еврейки… Ты когда-нибудь с ними влипнешь, — предупреждала госпожу Галфаи ее подруга, сорокапятилетняя старая дева Амалия, которой по фигуре можно было дать двадцать лет, а по морщинам на шее и все шестьдесят.
Амалия, между прочим, не интересовалась политикой и ненавидела войну исключительно из-за того, что у парикмахеров не стало перекиси водорода и хны, а ее пышные соломенно-желтые волосы успели отрасти на целых два пальца и были у корней совершенно седые.
— Ну и пусть, какое мне до этого дело, — отвечала госпожа Галфаи. — Работают хорошо, а остальное меня не касается. — После непродолжительного раздумья она добавляла: — Теперь столько кругом преступлений… не мешает иногда подумывать и о спасителе, о милости божьей…
В какой мере молодые беженки могли помочь хозяйке шляпного салона очиститься от земных грехов, не известно. Зато известно, что они помогли ей преуспеть в этом мире. Пятого ноября тысяча девятьсот сорок четвертого года госпожа Галфаи записала в своем зелененьком блокноте под графой «Состояние» тридцать четыре тысячи пенге наличными и сто граммов золота, а двадцать восьмого ноября — сто семьдесят пять тысяч пенге наличными и пятьсот граммов золота. «Что я, дура, прекращать сейчас… Поработаю еще хоть месяц».
В конце подвала лежали рядами соломенные матрацы. На них спали девушки, которые «не решались ходить домой из-за бомбежек». Как бы рано госпожа Галфаи ни приходила в мастерскую, эти работницы уже были за швейной машиной или у гладильной доски; они безупречно трудились до поздней ночи. Кому-то из них пришла в голову идея изготовлять, кроме шляп, непромокаемые дорожные саквояжи. Госпожа Галфаи показала своим заказчицам готовые образцы: клеенчатые и брезентовые сумки на молниях с потайными внутренними карманами. В первую же неделю она продала восемьдесят штук, и в ее кассете сумма возросла до двухсот тысяч.
У госпожи Галфаи разгорелись глаза. Она навестила одного из лучших друзей своего мужа, нилашистского генерал-губернатора Карчи Мохаупта, и с его помощью добилась того, что ее шляпный салон был объявлен военным предприятием. Разумеется, отдельного военпреда не назначили, но салон присоединили к мастерской по изготовлению медицинского инвентаря и хлебозаводу. Девушки получили военные удостоверения с фотокарточками, каждую неделю для них отпускали два литра растительного масла, два килограмма кукурузной муки и четыре килограмма бобов. Этим кормилась вся компания. Теперь госпоже Галфаи продовольствие не стоило ни гроша.
Сначала знатным заказчицам шляпы доставляли девушки. Но с тех пор, как мина разнесла на куски пятнадцатилетнюю Терку и вместе с ней погибла меховая шапка стоимостью в тысячу двести пенге, госпожа Галфаи заявила, что впредь шляпы будут выдаваться только в салоне после уплаты денег. Пусть тогда падают бомбы, пусть погибает от пуль заказчик, ей до этого нет никакого дела.
Кати Андраш как-то сказала, что могла бы пригласить еще одну девушку. Зовут ее Агнеш Чаплар, она бежала из Секейудвархея. Прекрасная модистка.
— Одним словом, еврейка? — спросила госпожа Галфаи.
— Да что вы, госпожа, вовсе нет. Это моя подруга детства.
— Впрочем, мне безразлично, пусть она будет хоть магометанка. Если умеет хорошо шить, приводи.
Поэтому-то Кати Андраш и побежала домой в хорошем настроении. Ну, Агнеш, становись модисткой. И еда будет, и постель, и сможем жить вместе, пока кончится осада. Не вечно же ей длиться.
Тетушка Андраш, как водится, всплакнула. До сих пор она постоянно сокрушалась и охала: «Катика, не надо тебе каждый день приходить домой, ведь кругом бомбят, стреляют, я так боюсь за тебя». И она мысленно провожала дочь: вот она идет по проспекту Ракоци, вот сворачивает на улицу Ваш. Господи, только бы не было налета… Но, если Кати совсем перестанет приходить, ей будет в миллион раз тяжелее. Что она станет делать, если целую неделю не увидит Кати? А то и целый месяц или больше? Ну что ж, она уже старая, больная, не ходить же ей вместе с дочерью в шляпный салон. А Кати как-никак хорошо устроена. И не голодна и броню имеет, значит, на окопы не погонят.
Кати и Агнеш вышли из дому рано утром. Агнеш чувствовала себя совсем хорошо и хоть не очень бодро, но вполне уверенно шагала рядом с Кати по мокрой от растаявшего снега улице. Ее отросшие волосы были заплетены в косы и заколоты сзади пучком. Она была бледна и очень худа.
Вместо летнего хлопчатобумажного платья пришлось надеть юбку и джемпер Кати, а за неимением пальто прикрыться теплым платком тетушки Андраш. Возле больницы Рокуша они сели в трамвай. Агнеш стояла на площадке пятьдесят третьего трамвая, испытывая опасение, что сейчас войдет Паланкаи или Анна Декань и закричит: а, попалась, пойдем-ка в военную комендатуру! Но в переполненный вагон садились одни незнакомые. хмурые, сердитые люди.
Какая-то женщина громко рассказывала: «Захожу я на почту, хочу сдать заказное письмо. Барышня и говорит мне: «В Кишпешт уже не принимаем…» Все слушают молча, неподвижные лица пассажиров не выдают ни страха, ни радости.
— Ну, слава богу, — произнесла Кати, когда они вышли на площади Аппони. — Знаешь, я волновалась не меньше, чем ты. Сейчас лучше не встречаться со знакомыми.
— Ой…
— Что такое? — спросила Кати.
— Ничего… — ответила Агнеш. — Я кое-что забыла дома.
— Ну, что?
— Да… не важно, книга… забыла на столе.
— В ней что-нибудь есть?
— Нет, просто… я очень дорожу ею. Я ее так берегла.
И на душе у нее вдруг стало тревожно и муторно. Не следовало ли и ей остаться там, где осталась книга? Было бы гораздо безопаснее.
Но вот они у цели. Перед ними огромный дом с проходным двором. Одни его ворота выходят на улицу Шандора Петефи, а другие — на улицу Ратуши. Девушки пересекли выложенный керамическими плитами двор, и Кати пошла вперед, указывая путь в мрачном, сыром подвале.
Госпожи Галфаи в мастерской не было. В такую пору она еще спала крепким сном в своей отдельной, увешанной коврами и отделанной шелком спальне, переоборудованной из дровяного склада.
Барышня Амалия встретила новую модистку с подозрением.
— Значит, вы договорились с госпожой Галфаи? А ты действительно шляпница? Разумеется, было бы лучше, если бы вы имели при себе аттестат. Странные эти трансильванские беженцы. Забывают, что необходимо иметь при себе свидетельство о своей профессии. Ну, не беда, тут есть одна девушка из Секейудвархея, она и подтвердит, знает ли вас и работали ли вы шляпницей, милая барышня Чаплар. Мария, пригласите, пожалуйста, Гизеллу Лайтош.
Агнеш побледнела и бросила взгляд на Кати.
Кати сердито повернулась к барышне Амалии.
— Не понимаю, госпожа Амалия, что вы хотите, ведь мы уже обо всем договорились с хозяйкой.
— Не обижайтесь, барышня Андраш, и не думайте, что я вам не верю. Но именно мне, заместительнице госпожи Галфаи, и полагается быть начеку, если наша начальница поступает легкомысленно. Вы, надеюсь, понимаете, что я не обязана устраивать здесь убежище для евреев или притон для коммунистов. Кто действительно знает свое дело, того мы охотно принимаем…
— Агнеш! Агнеш! Чаплар! — послышался ликующий возглас девушки, и две руки обвились вокруг шеи Агнеш. — Вот это сюрприз… как я рада тебя видеть…
— Гизи! Это ты?
— Ну, конечно, я. Гизелла Лайтош, собственной персоной. Когда ты приехала? — И Гизи Керн с такой силой обняла Агнеш. что, казалось, собирается задушить ее.
Барышня Амалия скисла. Она уже две недели подозревала Гизи Керн и готова была поклясться, что сейчас все выяснится, что Гизи Лайтош еврейка, что Каталин Андраш тоже еврейка, что все здесь евреи и она сможет выдать их начальнику ПВО. Начальник ПВО — красавец мужчина, светловолосый, светлоусый, точь-в-точь такой, каким представляла себе барышня Амалия идеального мужчину вот уже сорок лет. У него широкие плечи, бездонные черные глаза, а он даже не замечает ее. Вот если бы удалось когда-нибудь совершить героический подвиг! О. если бы пришлось по приказу начальника ПВО взбегать на крышу, по цепочке передавать полные ведра воды и тушить горящие балки… если бы довелось откапывать среди развалин раненых, если бы дорогой начальник ПВО, белобрысый Вальдемар Цинеге, тоже был ранен и лежал без сознания… Но раз ничего такого нет, то хотя бы найти нескольких евреев, пять-шесть девушек, и пойти сообщить, что она вопреки материальным интересам, вопреки своему чуткому сердцу, только из чувства патриотизма доводит до сведения господина начальника ПВО… Боже, как было бы хорошо…
— Я очень рада, что вы знакомы, — сказала она разочарованно. — Барышня Лайтош, покажите, пожалуйста, новой работнице ее место и дайте работу. А вас, барышня Андраш, попрошу проверить, чем занимаются гладильщицы.
Гизи отвела Агнеш в самый дальний угол подвала. Там она снова бросилась ей на шею, обняла и поцеловала.
— Здесь мой угол. Этот матрац мы притащим тебе, одеяло Кати тоже перенесем сюда. Посмотришь, как мы хорошо устроимся. У меня есть своя лампа, стакан для воды, котелок, две простыни, одна будет твоей.
В сумраке подвала Агнеш продвигалась ощупью.
— Какое ужасное место.
Гизи засмеялась.
— Ужасное? Рай земной. Я. Агнеш, уже успела побывать и в аду. Сначала на кирпичном заводе. Двое суток подряд мы стояли, тесно прижавшись друг к другу. Шел дождь. А у меня даже платка не было. Не ели, не пили и не имели права выходить из строя. Вокруг вооруженные нилашисты. Садиться нельзя. Одни теряли сознание. Другие мочились, будучи не в силах больше терпеть… Оттуда удалось бежать. Ночью. Мне уже было абсолютно все равно. «В крайнем случае пристрелят, — думала я, — кончатся все страдания сразу…» Затем с месяц работала судомойкой в санатории «Пайор». Устроилась по объявлению в газете с фальшивыми документами. Но и оттуда пришлось бежать из-за госпожи Геренчер.
— Госпожи Геренчер? Как она туда попала?
— К сожалению, я сама, скотина, привезла ее туда. Сжалилась, видишь ли. Думала, у нее на фронте муж, она осталась одна с маленьким ребенком. Мне тоже помогла соседка бежать с кирпичного завода. Ко всем надо быть добрым. К тому же для санатория как раз подыскивали судомоек. Даже обрадовались, когда я привезла работницу. В «Пайоре», да будет тебе известно, сейчас расположился немецкий лазарет, и венгерский персонал, разумеется, находится под присмотром нилашистского командования. Госпожа Геренчер пошла работать с превеликой радостью. Первый день готова была целовать мне руки и ноги, не знала, как благодарить. Я, дескать, спасла ее от голодной смерти. Госпожа Геренчер явилась в санаторий под своей фамилией, только в девичьих документах кое-что подтерла и числилась женой христианина-фронтовика. На второй день она уже блеснула своими способностями. Предложила новый метод работы: не только вытирать приборы, но и чистить их. Нашему бригадиру — отвратительный тип по фамилии Шаркань — это понравилось. Он похвалил госпожу Геренчер, и нам ничего больше не осталось, как, высунув языки, драить ложки, вилки, ножи. На четвертый день Шаркань поставил госпожу Геренчер присматривать за нами. С этого момента она стала швырять нам обратно тарелки, ложки, обзывать, то мы саботажницы, то жидовки. Я пригрозила ей, хотелось стукнуть ее по ногам так, чтоб она на всю жизнь охромела. В ответ госпожа Геренчер сказала, что, если я еще хоть раз открою рот, она донесет на меня, что я скрываюсь с фальшивыми документами да еще подрываю интересы тотальной войны.
— Уму непостижимо.
— Вот именно. Шаркань достал ей из какого-то нилашистского благотворительного фонда, вернее из какой-то разграбленной квартиры, платье, а для ребенка пару ботинок. Если война затянется, наша Мальвинка забудет всех своих предков и вступит в нилашистскую партию. Поэтому-то, когда я прочла, что в шляпный салон госпожи Галфаи набирают девушек, сразу же явилась сюда. Я не знаю никакого ремесла, и мне все равно, чистить посуду или шить шляпы. Здесь по крайней мере можно спокойно поспать.
— А твои родители?
Гизи Керн побледнела, и на ее глазах показались слезы.
— Мать еще в июне забрали.
Агнеш не знала, что ответить.
— Ну, Агнеш, приступим к работе. Боюсь, как бы на нас не осерчала барышня Амалия. Скажи, Аги, тебе приходилось бывать когда-нибудь в Секейудвархее?
— Никогда в жизни.
— Ну что ж, пока не заявится сюда кто-нибудь из тех мест, нам действительно опасаться нечего. А шляпы шить умеешь?
— Откуда мне уметь. Единственно, что я могу делать, так это с горем пополам заштопать чулки — в восемь ниток и толстой иглой. Кроме того, умею, конечно, пришивать пуговицы и вышивать крестом салфетки…
— Не много. Но можешь быть спокойна, здесь все такие же мастерицы, как мы с тобой.
— Гизике, когда же кончатся эти ужасы?
— Иногда мне кажется, что через час, а иногда я думаю, что нам уже не дождаться конца этих бедствий.
И, как бы в подтверждение ее слов, где-то далеко загрохотали орудия.
В бегах
Ферко Чаплар натер ботинком ногу. На пятке образовался кровавый пузырь, от которого ныла вся ступня. Но он, не замечая боли, продолжал тенью тащиться за своим другом. Прошло уже два дня, как они бежали из части. Съестные припасы давно кончились. Шинелей тоже нет; когда на станцию налетели бомбардировщики и все разбежались по полю, они не остались в вагоне. Дул ледяной ветер, грозно громыхали орудия, и рвались бомбы. Но Ферко Чаплар и Имре Немет все же решили не возвращаться на станцию, а ползком добраться до леса: будь что будет, они все равно не поедут в Германию. К рассвету они действительно достигли леса. Будь сейчас лето, они бы нежились под солнцем на склоне горы, поросшей дубами и липами; искали бы птичьи яйца, ежевику, грибы, пили бы воду из ручья, словом, жили бы, как у бога за пазухой. Ферко, между прочим, любил приключения и все мечтал когда-нибудь пожить так, как жили герои «Таинственного острова». Но сейчас лес казался враждебным, нагонял страх своими обледенелыми голыми ветвями. В дуплах не было меда, занесло снегом пещеры, в которых можно было бы развести костер, погреться, смастерить лук, стрелы, чтобы пойти убить зверя и зажарить его на вертеле… Стояла зима, суровая, злая зима. Стуча зубами, они прижимались друг к другу. Надо бы разжечь огонь, но нигде не было местечка, где бы можно было укрыться от снежной, леденящей бури, нельзя было найти ни единой сухой ветки. Да если бы и удалось разжечь костер, следовало бы ждать еще большей беды: на свет сразу прилетели бы самолеты…
— В лесу оставаться нельзя, — произнес наконец Имре. — Надо сходить в деревню и попросить еды.
— Но нас могут выдать жандармам.
— А мы не скажем, откуда бежали… Скажем, что мы… Что же сказать?
Они не знали, что делать.
— Лучше идти не в деревню, а обратно, на железнодорожную станцию, и сесть на первый попавшийся поезд.
— Но не здесь, а в городе. Здесь я бы не осмелился даже билет купить.
— Знать бы только, какой ближайший отсюда город!
Они посмотрели на небо, как люди, потерпевшие кораблекрушение. Над ними поблескивала Большая Медведица, но ведь Большая Медведица видна и в Балашадярмате и в Папе.
— Мы пришли в лес с востока и должны выйти с западной стороны.
— С какого востока, с юга…
— Скорее бы наступало утро, авось, что-нибудь придумаем.
На следующий день они никак не решались пускаться в опасное путешествие, но вечером, падая от голода и усталости, все же направились вниз по склону горы. На колокольне пробило полночь, когда они вошли в деревню. Ой, до чего же одинаковые и незнакомые здесь дома! Кто знает, к каким людям постучишься, к хорошим или плохим. Если бы найти стог соломы, можно было бы спрятаться в него. А может, забраться на чердак? Там тоже холодно. Собаки услышат, поднимут хозяев. А откроют ли им дверь на стук? Впустят ли в дом?
— Эх, куда-то надо же заходить. Назови быстро цифру.
— Пять.
— Постучали в пятый дом.
Это был красивый, приветливый каменный дом. На крыше, как сахарная пудра на сказочном доме — медовом калаче, белел снег. У ворот они даже звонок увидели, и, когда нажали кнопку, он весело задребезжал. Наверное, здесь живет врач или нотариус. Теперь уже все равно. Дверь открыла обходительная служанка. Она повела их на кухню, поставила перед ними миску картофельного супа и сказала, что сейчас позовет хозяина.
Лежанка еще не успела остыть, от желтого пламени керосиновой лампы на стене вырисовывались причудливые драконы. На краю печи потягивалась кошка с изумрудными глазами. Пришельцы рады были стащить промокшие ботинки, похлебать горячего супа. Все вокруг нагоняло сон; им хотелось отдаться неге и забыть обо всем на свете.
Сидя рядом плечо к плечу, Ферко и Имре уже храпели, когда в кухню вошли два жандарма и два нилашиста. В первый момент дезертиры даже не понимали, что от них требуют. Путаные обрывки сновидений после двухдневных мытарств и волнений все еще мутили их сознание. Только тогда они пришли в себя, когда босиком снова побрели по снегу.
Один из жандармов молчаливо и важно расхаживал позади всех. Другой — молодой, краснощекий, с бравыми усами, похожий на киноактера — подталкивал парней прикладом винтовки и громко ругался. Весь в черном, приземистый нилашист, безобразный с виду сморчок, держал винтовку наперевес и за всю дорогу не произнес ни единого слова, а только ухмылялся. Но его ухмыляющаяся физиономия с косыми глазами и отвратительными зубами досаждала им больше, чем ругань и пинки жандармов.
— Знаете, паршивцы, куда мы вас ведем? На виселицу. Расстрела вы недостойны, это для настоящих господ. Я бы для вас и веревку пожалел, подлое большевистское отродье, бросил бы в Хернад, да так, чтобы и кишки наружу повылезли.
Они прошли вдоль всей деревни. Уже светало, когда их привели к какому-то длинному зданию.
На стене ветхого строения висела облупившаяся вывеска; «Начальная народная школа». У ворот стояли вооруженные жандармы и нилашисты. Они втолкнули обоих мальчиков в какой-то полутемный сарай с заколоченными окнами.
Школьная комната была превращена в тюрьму: парты из нее вынесли, пол застелили соломой. На грязной соломе валялись пойманные дезертиры, бойскауты. Класс был набит битком. Завернувшись в рваные шинели, на иолу лежали, спали, стонали арестанты. Тощий молодой мужчина, нагнувшись к щели в заколоченном окне, что-то старательно шил. Ферко и Имре то и дело наступали на чьи-то руки и ноги, пока наконец привыкли к темноте.
Вдруг кто-то схватил Ферко за рукав.
— Иди сюда, возле меня есть место. Товарища тоже веди за собой.
— Спасибо.
— Очень есть хочешь?
— Суп ели ночью, но мало…
— Могу угостить рафинадом. Хотите?
И он достал из газетной бумаги два кусочка сахара; один отдал Имре Немету, а другой Ферко Чаплару.
— Большое спасибо.
— Здесь кормят не очень сытно.
— Ты давно уже здесь?
— Третий день.
— За что?
— Не спрашивай! Бежал.
— Из бойскаутов?
— Нет. Из трудового лагеря.
— Ты еврей?
— По вероисповеданию католик, но родители, до того как перейти в христову веру, были евреями.
— Сколько тебе лет?
— Шестнадцать.
— И как же ты бежал?
— Нас везли в Австрию. В пяти километрах от Шопрона загнали в какой-то обнесенный колючей проволокой лагерь. На часах стояли солдаты и иилашисты. Они отобрали у нас исправные ботинки, не давали есть, били. Однажды вечером устроили большую облаву. Бежал какой-то парень, но его не нашли. Тогда я тоже решил попытать счастья.
Ферко съел подаренный кусочек сахара и, обмякший, сидел на шинели, которой поделился с ним незнакомый юноша. Одной рукой он сжимал руку Имре Немета, а другой держался за плечо нестроевика.
— Ты хочешь спать?
— Нет. Рассказывай дальше, — пробормотал Ферко сквозь сон. Шепот товарища придавал ему смелости, он не чувствовал себя таким потерянным в этом мрачном, грозном мире.
— Бежал я не вечером. Рассвет — более подходящее время, не так зорко следят. К счастью, в проволоке не было электрического тока. Сорвал я с себя нарукавную повязку. Выбрался на шоссе. Погода была туманная, моросил дождик. Иду я по шоссе и вдруг вижу, движется мне навстречу вооруженный немецкий солдат. Ну, думаю, что мне делать, если он спросит, кто я такой. Брошусь бежать — стрелять начнет. А что, если попробовать спрятаться во рву? Но солдат наверняка уже меня заметил. Взял я себя в руки и пошел вперед как ни в чем не бывало. А он тоже приближается ко мне большими шагами. Когда мы поравнялись, я как-то случайно толкнул его. «Простите», — говорю я и иду дальше. Немец в ответ тоже что-то бормочет и, вижу, не думает спрашивать у меня документы — шагает себе, и ноль внимания. В шесть часов утра я прихожу в Шопрон, иду прямо на станцию. Купив билет, еду в Дьер. Выхожу из Дьерского вокзала, вижу — беда, у меня прямо дух захватило: на большой привокзальной площади облава. Жандармы, нилашисты хватают всех, кто попадет под руку. Гут уж мне живым не уйти. Я решаю ехать в Паннонхалму. Дело в том, что, пока наша рота стояла еще в Будапеште, какой-то наш парень из богатой семьи купил у папы римского индульгенцию на всю нашу братию. Она нам не помогла, нас все равно увезли вместе с другими ротами. Но индульгенция осталась у меня в кармане. Как-никак это все же охранная грамота; хотя она отпечатана на обычной бумаге, но на ней стоит печать папской нунциатуры и подпись Анджело Ротта. Все в порядке, думаю, папа в обиду не даст. Ночью как раз отправлялся в Паннонхалму пассажирский поезд. Помню только, что аббатство надо искать на вершине холма. Ох, и попал же я в переплет! Голодный, грязный, весь в фурункулах. Захожу в длинный сводчатый зал, а навстречу мне идет какой-то поп. Говорю ему: «Да славится имя господне!» Он мне: «Во веки веков!» — и спрашивает, что мне здесь, мол, надо. Я вынимаю свою охранную грамоту и протягиваю ему. Он даже не стал брать ее в руки, лишь издали прочитал, кивнул головой и велел следовать за ним. Привел он меня в перевязочный пункт, там мне дали мыла, горячей воды. Я вымылся. После этого мне перевязали израненную шею. Дали тарелку фасолевого супа и сказали, чтобы я шел с богом своей дорогой. Я давай просить, умолять, чтобы они меня не прогоняли. Буду дрова рубить, полы мыть, что угодно, только бы не погибнуть. Монахи говорят в ответ, что немцы и без того уже подозревают их, постоянно устраивают облавы, так что, мол, ступай, да поможет тебе бог. Одним словом, выгнали…
— А потом? — с тревогой спросил Ферко, как будто бы не догадываясь, чем должна кончиться эта история.
— Бродил я везде и всюду, спал в стогах, на чердаках, ел, что удавалось найти, украсть или выпросить, три дня назад поймали и сказали, что меня ждет военный трибунал. И теперь неизвестно, что будет. В крайнем случае повесят, хуже ведь не придумаешь. А это всего одна минута, сдавит горло — и готово.
Ферко, охваченный ужасом, молчал. Нечего сказать, хорошее будущее! Неужто и с ними так поступят? И, чтобы не выдать страха, спросил:
— А остальные?
— О, замечательные ребята. Вон там, в углу, сидит молодой дядя с усами и бородой. Он уже два месяца здесь мается; говорит, раньше у него было бритое лицо, но он решил не бриться до освобождения — зарок дал. Он священник, Яношем Иршаи зовут его.
— А как он попал сюда?
— Из-за какой-то проповеди. Он мне сам рассказывал.
— Из-за проповеди? — вмешался в разговор Имре Немет, подсаживаясь ближе. Они обнялись и крепко-крепко прижались друг к другу.
— Была у него сестра в Эстергоме, звали ее Иммацулата. Она в эстергомской больнице работала, сестрой была в родильном отделении. Когда жандармы вылавливали в Эстергоме евреев, не забыли и больницу. Зашли, конечно, и в родильное отделение. Иршаи говорит, что они там ужас что творили. Стаскивали женщин с коек, те на лестнице теряли сознание. Сестра Иммацулата хотела было заступиться за женщин, да никто не стал ее слушать. Тогда она спрятала двух малышей. Но жандармы заметили и угнали ее вместе с евреями. Когда про это узнал Иршаи, он в воскресенье проклял в своей проповеди всех, кто убивает немощных старцев, женщин и младенцев. На священника донесли, его схватили и привезли сюда. А теперь каждый день избивают и грозятся живого освежевать, но он плевал на все это.
Ферко с восхищением посмотрел на спящего человека.
На лице Иршаи не было и следа перенесенных страданий.
Он спал сладко, как ребенок или человек, у которого совесть чиста.
— А кто тот парень, что все время шьет? — шепотом спросил Имре Немет.
— А, Коля. Замечательный парень. Русский военнопленный.
Имре и Ферко одновременно повернули головы в ту сторону и широко открытыми глазами принялись рассматривать русского пленного. Вот они, значит, какие, эти русские! Если бы не сказали, мог бы принять за венгра. Такой же нос, такие же глаза, уши.
— Шьет Мирославу штаны. Коля на редкость порядочный человек. Увидел, что у Мирослава вместо штанов лохмотья, схватил свое одеяло, примерил, сложил и вот теперь шьет.
— А как же он выкроил?
— У Коли все есть, — ответил с искренним восхищением беглый нестроевик, — старым бритвенным лезвием скроил, нитки вытащил из материала и вот теперь шьет своей большой мешковой иглой. Я уже застал его за работой. Все время шьет. Не прекращает ни на минуту, пока хоть немного светло. Сказал, что через день штаны будут готовы.
— Он говорит по-венгерски?
— Нет. Что ты! Но знает немецкий. А с Мирославом объясняется по-польски.
— А кто этот Мирослав?
— Ну, это занятная личность, — прошептал худой паренек. — Такая история, какая с ним была, вам, пожалуй, и не приснится. Поверите, Мирослав уже побывал в лагере смерти. В лагере смерти! Ау… как его… в Аушвице… Электрический ток в проволочном заграждении, кругом сторожевые вышки… Там тысячами убивали людей, даже птица — и та не осмеливалась пролетать мимо. А Мирослав все-таки бежал со своим другом. Понял?! Они копали ямы. Мирослав присмотрел себе одну такую яму и несколько дней подряд бросал в нее ветки и доски. Когда их угнали на километр дальше… Может, я и не так рассказываю, как оно было, эта история так запутана и сложна, что ее не сразу запомнишь. Словом, когда они где-то дальше стали рыть ямы или что-то строить — я уже не помню, — Мирослав со своим дружком ухитрился раздобыть в лаборатории керосин и эфир. Вечером, когда всех гнали в бараки, они вдвоем спрятались в яме. Облили землю вокруг и доски в яме керосином и эфиром и спрятались. Когда на вечерней перекличке обнаружили, что двух человек не хватает, немцы зажгли огромные прожекторы и спустили собак. Весь лагерь, тысячи и тысячи людей, переживали за беглецов. Уже не раз находились такие несчастные, которым удавалось пробраться сквозь колючую проволоку под током, но их или убивали со сторожевой вышки, или ловили собаки. Всех обычно за ночь вылавливали. Но Мирослав и его дружок лежали в яме и не шевелились. Собаки пробежали рядом, но запах сбил их со следа. Как ни обшаривали прожектора всю местность, как ни смотрели со сторожевых вышек, а найти не нашли. Две ночи подряд немцы не гасили прожекторов — все искали. На третий день махнули рукой. Этого и ждали Мирослав и его друг. Два дня они неподвижно стояли в яме, голодные, коченея от холода. А на третью ночь, когда поиски прекратились, они пролезли сквозь страшную проволочную ограду и долго скрывались в болотах, лесах и у партизан. Они тоже стали потом партизанами и воевали где-то здесь возле Бестерцебан, но его друга пристрелили, а Мирослава пригнали сюда. Собираются везти куда-то дальше, чтобы передать самому высшему военно-полевому суду… Но Мирослав заверяет, что он все равно убежит, даже если его бросят в замок Иф или на Чертов остров, — не даст себя расстрелять. Коля тоже не думает сдаваться, он говорит, что через два-три дня сюда придут русские войска и освободят их.
Ферко внимательно слушал рассказ. У него страшно кружилась голова. Все казалось ему вздором: и отравленные газом люди, и два дня ожидания в яме, и ищейки, и паннонхалмское аббатство, и что он находится здесь и тоже предстанет перед военным трибуналом.
. — Что с нами будет?
— Надо продержаться как можно дольше, — проговорил худой парень. — Если не будет трибунала, мы все-таки выживем. Иршаи говорил, что один жандарм сказал ему по секрету, будто полковник, который был главным в военном трибунале, бежал в Сомбатхей и нас тоже погонят туда, как только придет приказ. Но если приказа не будет, тогда нам лафа! Жаль только тех бедняг, кто уже успел погибнуть. Здесь тоже было два хороших парня, кажется, отец и сын. Иршаи рассказывал, будто они бежали из штрафной роты. Их обоих прикончили во дворе. Перед расстрелом они роздали свои вещи, даже пальто оставили здесь. Как же их звали, погоди-ка… Карой Чаплар… конечно, отец и сын — оба Карой Чаплары.
Из груди Ферко вырвался истошный крик.
Иршаи, Коля, молодой человек с прыщеватым лицом, пожилой усач крестьянин, Мирослав — все сразу вскочили и подбежали к юноше. Ферко Чаплар без сознания лежал на полу.
Гости Иштвана Ача
— Какое сегодня число? — спросил Тамаш и принялся протирать кулаками заспанные глаза.
— Двадцать второе. Двадцать второе декабря тысяча девятьсот сорок четвертого года, пятница, если угодно.
— Ты уверен?
— Абсолютно.
— Хорошо, тогда сегодня захватим с собой удостоверения для четных дней.
— Верно.
Тамаш вскочил с постели. Босиком подошел к белому комоду и в верхнем ящике среди нескольких мотков цветных ниток, швейных принадлежностей, маленьких ножниц, флаконов одеколона и прочих девичьих вещей отыскал кожаную сумку и извлек из нее увольнительные. Кстати сказать, они заготовили себе два вида увольнительных. В одной значилось, что Тибор и Тамаш несут службу по нечетным дням, согласно же другой увольнительной — все четные дни они находятся в казарме, а в промежутках свободны от службы.
— Господин Керекеш, это ваша.
— Спасибо.
Тибор спрятал в карман свою увольнительную и принялся быстро одеваться. По привычке натянул наспех ботинки, торопливо побрился и, только налив в ладонь одеколон и похлопывая себя по лицу, рассмеялся. Черт возьми, к чему эта спешка, ведь им совершенно некуда спешить.
Прошло две недели, как они разыскали Иштвана Ача в больнице Святой Каталины. Пишта даже не удивился, когда к нему нежданно-негаданно заявились его бывшие одноклассники. Но все же предупредил, что в больнице им оставаться нельзя. «Временно вам придется переехать ко мне на квартиру. А потом увидим».
Иштван Ач, как правило, забегал домой всего на полчаса. Он редко спал дома. Осиротевшая комната Кати тоже была в полном распоряжении Гибора Кеменеша и Тамаша Перца. В первые дни Тибор бродил по городу в форме старшего лейтенанта, а Тамаш — в форме сержанта. В полицию они, конечно, не явились. В удостоверения Тибор внес некоторые поправки.
— Наконец мне пригодилось уменье, приобретенное в Высшей художественной школе, — произнес он довольным тоном, превращая Кеменеша в Керекеша, а Тамаша Перца в Перцела. Увольнительные, разумеется, тоже были изготовлены на эти фамилии.
— У нас великолепные документы, — с гордостью заключил он, глядя на плоды своей работы. — Надеюсь, мы будем помнить, какой день, и не станем предъявлять неподходящего удостоверения. Наши документы особенно хороши в том случае, если их никому не надо показывать.
По возможности они старались не выходить на улицу. Тибор целый день валялся на постели, слушал радио или читал. Библиотека Ача погибла, когда разбомбили его квартиру. Удалось спасти только несколько книг по медицине, анатомический атлас и «Учебник акушерства» Бургера. Их-то и перелистывал Тибор с особым интересом. У Кати тоже оказалась довольно приличная смешанная библиотечка томов в сто пятьдесят — двести, среди которых были «Имаго» Шпиттелера, исследования Меринга о Марксе. Между прочим, на столике чистенькой девичьей комнаты Тибор нашел и книгу Томаса Манна. Он взял ее в руки.
— Ага, «Подмененные головы». Хорошая вещь, — и положил обратно.
Тамаш Перц не мог терпеть безделья. За несколько дней он похудел до неузнаваемости. Спал плохо и, если представлялась возможность, помогал тетушке Андраш: рубил дрова, носил снизу воду, так как вот уже с месяц она не поступала на второй этаж, и даже помыл кафельный пол в кухне.
И сегодня утром Тамаш, как только оделся, быстро вышел к тетушке Андраш. Старушка стояла у керосинки и готовила эрзац-чай. Она уже издали улыбнулась Тамашу.
— Иди сюда, сынок, ваш завтрак готов.
— Мы не можем принять, право же, не можем…
— Радуйся, что у нас еще чай есть. Посмотри, я вам и кашу перловую сварила.
В кастрюле стояла перловка на воде, заправленная вареньем.
У Тамаша потекли слюнки.
— От чудных изделий тетушки Андраш нельзя отказаться.
— Ой, сынок, разве это изделия? Видел бы ты, как я стряпала в мирное время, когда живы были мой покойный муж и сын. Они очень любили голубцы. Я готовила их каждое воскресенье. Или секейскую капусту в сметане. Ой, дорогой сынок… будто Йошку своего вижу, когда на тебя смотрю, он тоже был таким добрым, всегда заботился обо мне…
И тетушка Андраш, отвернувшись к буфету, принялась вытирать глаза, а смущенный Тамаш уставился на носок своего ботинка и громко проглотил слюну.
Они втроем сели за стол и по-царски позавтракали. Сегодня была очередь Тибора вылизать кастрюлю. Тибор приступил к этой операции с предельной аккуратностью. Сперва он выскреб чайной ложечкой остатки каши и варенья. Затем, когда на стенках остался тоненький слой, Тибор после недолгих колебаний запустил палец внутрь и быстрыми, ловкими движе» ниями вылизал все подчистую. Теперь эмаль блестела так, что не было нужды мыть кастрюлю. Но Тибор продолжал вертеть ее перед глазами, все еще не в состоянии с нею расстаться.
— Ты что, начальник, не насытился?
— Нет, я сыт, только живот к спине прилипает.
— Ну, тогда немедленно составим план обеда.
— Хм… на сегодня в виде особого исключения — (расолевый суп. Тетушка Андраш, приготовьте, пожалуйста, кастрюлю.
— Ой, как славно, что вы поселились у нас, — ответила на это тетушка Андраш, — не будь вас, я, признаться, и не знаю, что бы делала от тоски.
— Меньше бы мыли посуду, тетушка Андраш. Пошли, Тибор, получать фасоль.
Фасолевый суп выдавали на улице Акацфа.
Предприимчивому коммерсанту пришла в голову мысль в осажденном городе, под шквальным огнем, под ливнем бомб, под открытым небом, среди рушащихся стен, в дыму и пламени торговать фасолевым супом. В самом деле, каждый день ровно в двенадцать часов из-под земли появлялись голодные гости. Буквально из-под земли: из подвалов, убежищ выползали на свет божий живые скелеты и, громко глотая слюну, выпученными глазами следили за тем, как эта толстуха Сатмари погружает в котел свой черпак. Платили за пустой фасолевый суп чем угодно: деньгами — восемь, десять, двадцать пенге, отдавали книги, кольца, шали, готовы были даже снять ботинки. Временами подходили к котлу и солдаты, они вовсе не обращали внимания на испуганную, пятившуюся перед ними, подозрительную компанию. В «столовой» иногда отпускали также рагу с жареным луком, без всякого жира. Это блюдо получали только привилегированные лица — военные и важные персоны, носившие нарукавные повязки начальников ПВО. Рагу имело сладковатый привкус. Перед тем как начинали его готовить, где-нибудь на пересечении улиц Акацфа и Дохань исчезал труп убитой лошади.
Вот уже десять дней, как Тибор обнаружил эту «столовку». С тех пор они с Тамашем ежедневно совершали опасную прогулку, которую называли «образцовым по своей смелости, упорству и наглости выполнением боевой задачи по приобретению провианта».
— Если когда-нибудь у меня будет внук, я ему расскажу, как его дед героически изо дня в день пробирался на улицу Акацфа, — прошептал Тибор, когда они вышли на угол проспекта Ракоци. Перед гостиницей Денеша Биро лежали немецкие зенитчики и с тревогой смотрели в сторону Восточного вокзала. Там шла бомбежка. Два истребителя, гоняясь друг за другом, с грозным ревом пролетали на высоте каких-нибудь ста метров над проспектом Ракоци, расписывая пулеметными очередями стены домов; как раз в этот момент Тибор и Тамаш пробегали по мостовой. Из часовни Рокуша за ними следил какой-то старый солдат и испуганно крестился.
— Ну, отпустило, — пробормотал Тамаш. — Так заболел живот, что я и про фасолевый суп позабыл.
— Эх ты, герой. А еще помышляешь стать партизаном и пустить на воздух «Асторию».
— Тоже сравнил… одно дело бороться против них, а другое подохнуть от какого-то немецкого истребителя… Ложись!
Самолет снова появился над Рокушем. Тамаш Перц, падая, что-то задел рукой. Он улыбнулся: перед его глазами со звоном прокатился крошечный игрушечный колокольчик — елочное украшение.
— Тибор, через два дня рождество.
— Если доживем, — пробормотал Тибор и зажмурил глаза.
Прождав несколько минут, они вскочили и побежали в сторону гостиницы Кесей, а оттуда мигом добрались до улицы Акацфа.
На месте «кухни» громоздились лишь развалины. Ни столов, ни печки нигде не было видно. Мина обрушила фронтон дома, и от третьего этажа до самой земли зияла брешь. В одной квартире на втором этаже стояли обеденный стол и громоздкий буфет, рассеченные пополам с такой точностью, как будто их распилили под линейку. С обгоревшей балки свисала колесами вниз детская коляска. Ветер вращал колеса, но коляска не падала, а продолжала мерно раскачиваться в воздухе, будто в ней все еще убаюкивали ребенка.
— Вот суп и готов.
— Готов.
— Хочешь, расскажу тебе анекдот. Как-то раз пошел мужик к зубному врачу вырывать зуб. Врач начал неудачно и только в четыре приема вынул корень. У бедного мужика уже искры из глаз посыпались. Возвращается он домой и на первом же перекрестке — бац! — его сшибает автомашина. Понимаешь, вместо того чтобы сбить по дороге к врачу…
— Бр-р-р, — сердито проворчал Тамаш, — вот так анекдот! Стало быть, и нас убьют на обратном пути.
— Мне так кажется. Рано или поздно убьют.
— Тогда доставай свой револьвер…
— Ну, спешить с этим пока нет нужды. Итак, прощай фасолевый суп.
Дойдя до угла, Тибор еще раз обернулся. А вдруг он ошибся и разбомбили только соседний дом. Но тут же безнадежно махнул рукой.
— Пусто. Даже лошади убитой нет. А у меня живот подводит.
До самого вечера играли в «шнапсли».
Правда, недоставало бубнового туза, его заменили картонкой, и раздатчик должен был сдавать карты с закрытыми глазами. Наконец Тибор посоветовал лечь в постель, по крайней мере меньше ощущается голод.
Вечером неожиданно нагрянул Пишта Ач. Он принес мешочек сушеных овощей и с полтора килограмма печенки.
— Овощи получил, печенка тоже очень полезна.
— Одним словом, конская печень, — сказала тетушка Андраш.
— Все это ничего, это дело привычки.
— Знаю, сынок, лошадь самое чистое животное, но я насытилась обрезками конины, когда мой покойный муж ходил без работы. Вспомнить страшно, пятьсот граммов обрезков на ужин целой семье.
— Отнести назад? — угрюмо спросил Ач.
— Что ты, что ты!.. Ты принес ее как раз кстати, спасибо, родненький.
— А это вам прислала Кати.
— Кати?
Тетушка Андраш обняла, поцеловала своего будущего зятя. Она до того обрадовалась весточке от Кати, что даже не посмотрела на подарок. Между тем подарок был не пустяковый — целый стакан растительного масла.
— Ты был у нее?
— Разумеется. Она чувствует себя хорошо. Просила передать, что к новому году закончится война, она вернется домой, и мы как следует выпьем. Надеюсь, к тому времени и воду пустят.
— Ой, дорогой ты мой!
Из кухни доносился запах керосина, масла и жареной печенки. Иштван Ач, Тибор Кеменеш и Тамаш Перц в предвкушении вкусного ужина молча сидели вокруг стола и шевелили ноздрями.
— Есть какие-нибудь новости, Пишта?
— Есть, Тамаш. Сначала для тебя отдельно. Через два-три дня получишь адрес.
— Через два-три дня? Не шути. Ведь к тому времени кончится война.
— Хватит ее еще и для тебя. К сожалению, ситуация очень тяжелая. Немцы сделали все, чтобы погубить Будапешт. Мосты заминированы. Вокруг города создаются укрепления.
— Пештскую сторону оборонять нельзя.
— Буду тоже… Они обречены и тем не менее продолжают бесчинствовать. Им все равно погибать, так лучше погибнуть вместе с нами.
Тибор встал, подошел к окну и нервно застучал пальцами по деревянной раме. Нижние стекла были выбиты. В комнате царила такая темнота, что читать можно было только при свечах.
Ач был хмур. Он знал и любил Тибора со времени гимназии. Дружба их началась с того момента, как они вдвоем сломали компас. Как-то во втором классе их обоих назначили дежурными на уроке естествознания. Перед уроком, видя открытую дверь, они проникли в кабинет физики и начали забавляться всякими хитрыми приборами, весами, блоками, маятниками. На длинном зеленом столе лежал компас. Это был замечательный компас; как его ни повернешь бывало, он неизменно указывал стрелкой на скелет, стоявший в углу. По мнению Ача, стрелка поворачивалась на юг, по мнению Тибора — на север. «Покажи». — «Ты покажи». — «Дай сюда». — И остатки компаса уже на полу. Пишта Ач побледнел как полотно. Сколько стоит такой компас? Сто пенге? Тысячу? Ач жил у матери, хилой, больной женщины, которая пять лет назад похоронила умершего от туберкулеза мужа, а потом стала добывать хлеб, работая вышивальщицей. Перед глазами мальчика все потемнело. Всему конец — и стипендии и освобождению от платы за обучение, и гимназии. Может быть, даже мебель заберут, чтоб возместить стоимость компаса… И он, не помня себя, вышел из кабинета. Остатки компаса вдвоем затолкали под стол, принесли в класс из кабинета естествознания заспиртованных ящериц, затем он сел за парту и, как сквозь сон, слушал рассказ учителя о безобидных ящерицах и грозных гадюках. На следующий день Пишта не пошел в школу, его лихорадило, температура поднялась до сорока градусов, он дрожал, бредил. Врач качал головой: «Надо ждать… что будет, тиф или менингит». В полдень пришел Тибор Кеменеш, принес ему в подарок «Таинственный остров» и шепотом сообщил, что все улажено, он уже говорил с господином преподавателем Чонтошем и взял на себя всю вину. И даже расплатился своими карманными деньгами. Тиф через полчаса прошел. Но с этого момента Иштван Ач всегда чувствовал себя должником. Он преклонялся перед Тибором, который во всем разбирался, занимался спортом, рисовал, знал немецкий, английский, итальянский языки, еще учеником четвертого класса написал в научном кружке работу о Ренессансе и нравился всем девушкам. Близкой дружбы между ними никогда не было, но Ач неизменно причислял Тибора к тем, к кому испытывал тяготение. Встречаясь с ним иногда то на студенческих сборах в Перуджи, то дома, то на улице, то на концерте в консерватории, Ач каждый раз ощущал в себе потребность поговорить о чем-нибудь с Тибором. Он любил спорить с ним, наслаждался смешными аргументами Тибора. За его легкомысленными и циничными замечаниями он всегда искал великодушного и чистого Тибора, который взял на себя всю вину за разбитый компас. Кати он никогда не говорил о Тиборе, опасаясь, что она скажет, будто он в каждом человеке видит лимонадного королевича, непорочную деву или ангела… и хотел бы обходиться с разбойниками так, как дигенский епископ Виктора Гюго. Да, Иштван Ач безусловно и беспредельно верил всем, одалживал книги, не запирал на ночь комнату, не следил за весами, когда покупал сало у мясника или хлеб в лавке, а идя по улице, улыбался каждому ребенку, улыбался прильнувшим друг к другу влюбленным… Тибор бежал из армии, стало быть, он выступает против войны и фашизма. Значит, если убедить его разумными доводами…
Тибор отошел от окна, засунул руку в карман и вынул лист бумаги.
— Ах, да. Изволь, Пишта, я слушал радио.
— ( Спасибо.
— И сегодня слушать? Может быть, удастся поймать радиостанцию Кошута.
— Было бы очень неплохо.
— Слушаюсь, полковник.
Ач взял листок и улыбнулся.
— Хотя ты не выносишь дисциплины…
— Внешне нет. Но, если за что-нибудь берусь, обязательно сделаю. Просто из спортивного интереса.
— Ты даже не спрашиваешь, зачем мне нужны эти сообщения.
— А зачем спрашивать?
— Полноте, — вмешался Тамаш. — Все равно ни до чего не договоритесь.
Ач принялся читать сообщения. Оперативная сводка: началось окружение столицы, партизанские бои в Нижних Татрах, рабочие Чепеля отказались выполнять приказ нацистов об эвакуации, в Дебрецене заседает парламент…
Ач, сверкая глазами, передал листок Тамашу.
— Почитай и ты… что же касается нашего друга Тибора, он тоже понимает, что мы правы, только не хочет в этом сознаться.
Тибор, уйдя с головой в свою работу, не ответил. Он снял ботинки и старался так натянуть пятку носка, чтоб не была видна дырка. Он по-прежнему неустанно заботился о своей внешности. Наконец ему удалось надеть ботинок, и он дружелюбно заулыбался Ачу.
— Проповедуй, проповедуй, доктор, ты мне не мешаешь.
Ач протер очки.
— Прошлый раз мы уже договорились, что человек может быть либо материалистом, либо идеалистом. Третьего пути нет.
— Ага.
— Ты согласился, что диалектическое мышление единственно правильнее. Верно?
— Верно.
— Признал также, что нельзя мыслить без органа мышления, то есть без материи.
— Признаю и сейчас, — любезно подтвердил Тибор, — но, оставаясь на позициях материализма, мне больше хотелось бы знать, сварилась ли печенка.
— Через пять минут, — послышался из кухни голос тетушки Андраш.
— Меня, между прочим, интересует не философская сторона дела, — сказал Тибор.
— Знаю, а конская печенка.
— Нет, я сейчас говорю совершенно серьезно, Пишта. Предположим, что вы правы, более того: я верю в вашу справедливость, что у графов необходимо отобрать землю и распределить ее среди крестьян и никто не должен жить за счет эксплуатации тысяч рабочих, но…
— Но?
Тибор замолчал, пожал плечами.
— Но вы не сможете это осуществить практически.
— Ты о чем?
— А о том, что для этого необходимы не люди, а ангелы.
Тамаш сидел в углу дивана и, теряя терпение, проговорил:
— Мне кажется, вы совершенно напрасно спорите. Сейчас вопрос не в том, что представляет собой диалектика и что надо делать с фабрикантами. Идет война, нацисты грабят город, заминировали мосты, устанавливают пулеметы на крышах домов и складывают боеприпасы в школах. Сейчас существует только один вопрос: как нам выпроводить отсюда немецкого шурина и покончить с войной, установить связь с силами сопротивления, а остальное успеется после войны.
— Нет, мы спорили не напрасно. Человек должен знать, к какому лагерю он примыкает, — произнес Ач.
Тибор кивнул головой.
— Разумеется. Дело лишь в том… Имеется, например, славный парень. Душой и сердцем коммунист. Такой, каким вы его себе представляете. Днем и ночью он ломает голову над тем, как осчастливить мир. Неделями не ест, распространяет листовки, оказывается в тюрьме, подвергается истязаниям, скрывается, попадает в черный список, не имеет права жениться, так как у него нет постоянной квартиры, нет работы, он каждую минуту рискует своей жизнью. Такой человек, очевидно, заслуживает того, чтобы после разгрома фашизма ему предоставили соответствующую политическую роль. Скажем, роль депутата парламента, вице-губернатора или в крайнем случае бургомистра.
— Конечно.
— Так вот, наш друг сначала захочет получить хорошую квартиру…
— Пожалуйста… в зависимости от общего положения с квартирами выделят и ему.
— Одну комнату, а?
— Сколько полагается. Две и даже три.
— Или он выгонит кого-нибудь из виллы на Швабской горе и переедет туда сам. Ну, ладно. На это он тоже имеет право. А почему бы нет? Он должен быть представительным, принимать гостей, ему нельзя жить как-нибудь.
— Он согласится только на такую квартиру…
— Ты учил меня диалектике. Воздействует на человека окружение или нет?
— Разумеется.
— Что же тогда будет с массой подхалимов? Что будет со льстецами, чиновниками, воспитанными в духе буржуазной морали? С рабочей аристократией? С хорошо оплачиваемыми частными инженерами, а? Разве они не будут оказывать влияния на твоих бескорыстных друзей? Не захочет ли твой дружок ездить на автомашине?
— А почему бы ему не иметь и машину, раз он будет выполнять ответственную и трудную работу?
— Разумеется, он должен ее иметь. Он и сынка своего будет возить на машине в школу… и жене позволит ездить на рынок, да что жена! Она будет поручать шоферу привозить покупки или кухарку пошлет на машине… И через год, через два, через десять твой дружок перестанет интересоваться улучшением общественного транспорта, потому что даже в бреду он не вспомнит, какие чувства испытывает человек, ожидая трамвай под проливным дождем с ребенком на руках, свертком под мышкой…
— Я верю, что существуют десятки тысяч бескорыстных мужчин и женщин, которые хотят быть руководителями не во вред, а на благо народа.
— Аминь. Я подожду.
— Как ты можешь жить таким циником?
— Спасибо, сообразуясь с обстоятельствами, вполне хорошо. Только я не верю, что люди вообще лучше меня. А между тем, будь я премьер-министром, или послом в Токио, или располагай я уймой денег — под уймой я имею в виду собственный самолет, яхту в Адриатическом море и полдюжины любовниц, — я бы прежде всего захотел иметь четыре квартиры, виллу на Рожадомбе и такую дачу на Балатоне, где бы вентиляторы отгоняли от меня мух в саду и на шесть километров вокруг стояли полицейские, чтобы никто не смел нарушать моего послеобеденного сна. Мне думается, любой человек охотнее станет есть финики, чем мороженую картошку, и охотнее наденет смокинг, чем рваные штаны, если они ему достанутся. C’est tout[32]. Кстати сказать, для меня совершенно безразлично, кто будет господствовать надо мной, только пусть меня оставят в покое. Я согласен с Кандидом. Будем выращивать свои сады. Об этом я, между прочим, говорил тебе уже не раз.
Тетушка Андраш внесла зажаренные в масле ломтики печенки. Так как не было хлеба, то она сварила сушеных овощей. Тибор и Тамаш, позабыв обо всем, уселись возле блюда. Иштван Ач был расстроен.
— Не могу спорить, ужасно… Чувствую правоту своих доводов, а выразить их не могу. Просто беда.
— Не сердись, Пишта, лучше поешь, пока мы все не съели, — ласково сказал Тибор и снова принял такой кроткий вид, какой запомнился Ачу с той поры, когда им было по двенадцать лет и когда Тибор положил ему на подушку «Таинственный остров».
Бег взапуски
Доктор Бардоци прибыл на службу после девяти часов.
Возле министерства стояли грузовые машины. Чиновники в синих форменных костюмах грузили на них ящики с документами. Бардоци задумчиво наблюдал за погрузкой — с минуты на минуту ожидалось прибытие распоряжения о переводе их главного отдела в Кесег. Затем взбежал по лестнице, прошел по коридору, который теперь, когда убрали дорожки и вынесли из приемной министра подставки для цветов и картины, представлялся гораздо длиннее и пустыннее.
Табличка на его собственной двери тоже показалась какой-то странной; стены, мебель, люди — все выглядело хмурым и ненадежным. Не было здесь ни огорченных, покашливающих клиентов, ни сварливой, толстой секретарши, которая два дня назад попросила разрешения загодя уехать в Кесег. Недоставало и застекленной двери в боковом коридоре — ее вырвала воздушная волна, — перед которой господин министерский советник Бардоци каждый день подолгу любовался собой. Все отсутствует, к чему он привык и что считал извечным: и нерушимый порядок, и благородные господа, и смешные анекдоты. Вместо этого шторы из темной бумаги, распоряжения по противовоздушной обороне, ящики с красными крестами в углу и кувшин для воды…
— Илике, почту, — заглянул он в секретариат.
Ах, да, нет Илики, нет почты. Нет младшего чиновника и даже практикантов нет, все побежали укладываться или прячутся в убежище, так как где-то уже грохочут орудия и по небу проносятся самолеты. На столе секретарши валялся свежий номер официальной газеты. Бардоци поднял, разрезал ножиком и принялся читать. Распоряжения о трансильванских беженцах, об ограничении железнодорожных перевозок, о полной эвакуации столицы. Без всякого интереса он бросил газету обратно на стол, и тут вдруг кровь застыла у него в жилах. На последней странице среди деловых сообщений он увидел объявление о заседании дирекции Завода сельскохозяйственных машин. Там же сообщалась повестка дня: уход в отставку генерал-директора и распорядителя Арманда Карлсдорфера, замещение вакантной должности и выборы новой дирекции.
— Мой дражайший тесть, как видно, с ума сошел, — произнес вслух Бардоци. Он бросился к телефону, набрал номер Завода сельскохозяйственных машин.
— Это ты, Дюри? — услышал он удивленный вопрос тестя.
На другой стороне провода послышался раздраженный голос Дердя Бардоци:
— Не святой же дух…
Карлсдорфер не сразу сообразил, в чем дело. Когда наконец понял, он, задыхаясь от возмущения, стал заикаться.
— Это могло случиться только с вами, дряхлый старик… — визжал Бардоци.
Карлсдорфер бросил трубку и ударил кулаком по звонку. Тери Мариаш испуганно просунула голову в дверь.
— Немедленно пришлите ко мне Татара. Да пусть захватит официальный вестник.
Татар вначале оторопел, но через полминуты план действий был готов.
Уже в дверях кабинета Карлсдорфера он замахал вестником и прежде, чем его превосходительство успел открыть рот, сам начал громко возмущаться.
— Вы видели, ваше превосходительство? Видели, что печатают газеты? Ум за разум заходит, чего только не приходится претерпевать. Этот нилашистский сопляк Паланкаи готов посягнуть на жизнь вашего превосходительства. Я предложил бы вам бросить все к черту и уехать на пару месяцев в Кесег или Сен-Готард, где вы сможете быть в безопасности.
Глаза Карлсдорфера метали молнии.
— Благодарю за добрые советы, господин управляющий. Но я остаюсь на месте. Не поеду в Кесег и никуда вообще не поеду. Могу вас заверить, что завод тоже не будет вывезен. Ни один ржавый гвоздь, ни один кирпич. А об уходе в отставку и обо всем этом паршивом деле я не хочу больше слышать. Немедленно же продиктуйте Мариаш опровержение на клевету в официальном вестнике и принесите мне почту.
Татар выбежал за почтой. Карлсдорфер позвонил в министерство внутренних дел, но зятя уже не застал.
Доктор Бардоци не успел отругать своего тестя, как тут же пожалел. Зачем было ссориться со стариком? Будет тот генерал-директором Завода сельскохозяйственных машин или нет, что ему от этого?
Он взял шляпу и поспешно вышел на улицу. В кабинке портье никого не было, дядюшка Конта больше не кланялся. В министерство входили и выходили люди, но никто и не собирался приветствовать господина советника; более того, все делали вид, будто не замечают его.
Бардоци пересек площадь Дис, затем пешком направился вниз по лестнице. В бытность свою молодым чиновником он всегда останавливался на верхней ступеньке лестницы и с гордостью смотрел на город. На бледно-голубую ленту Дуная, на приветливо и чисто улыбающиеся даже сквозь туман и дым крыши домов. «Это мое царство, — размышлял он в такие минуты. — Могу стать всем — главным советником, начальником главного отдела, может быть, даже статс-секретарем…» И вот теперь он снова задержался на верхней ступеньке и пристально посмотрел перед собой, но город скрывался в тяжелых тучах, был холодный, мрачный и враждебный. Дома, Дунай, гора Геллерт — все останется здесь. Только он убежит отсюда. А что он увезет с собой? Что? Каким он был счастливчиком, когда получил руку дочери начальника Государственного строительного управления его превосходительства Арманда Карлсдорфера. Как шикарно жили Карлсдорферы! Они занимали весь первый этаж дома на улице Дамьянича. Девять комнат, увешанные картинами, коврами, огромными серебряными блюдами, тонким, как яичная скорлупа, прозрачно-голубым фарфором. А в Геде им принадлежал огромный, раскинувшийся до самого Дуная фруктовый сад с полукилограммовыми зимними грушами, сладкими как мед, розовыми гроздьями винограда, фиговыми деревьями, крупными, с кулак, орехами — настоящий земной рай. А связи его превосходительства — он ездил в Алчуг на охоту в поместье эрцгерцога йожефа… Илонка Карлсдорфер, правда, на три года была старше Бардоци, но выглядела гораздо моложе. В министерстве с восхищением поздравляли его с удачным браком. Десять тысяч пенге приданого его превосходительство честно отдал Бардоци, но дальнейшие расчеты зятя пошли прахом. Сразу же после выхода замуж единственной дочери Карлсдорферов в их квартире на улице Дамьянича перестали устраивать домашние балы. Прекратились частые пирушки, не стали устраиваться именины, его превосходительство годами расплачивался за десятитысячный кредит, который он получил под фруктовый сад в Геде и семейные драгоценности. Старик даже не представил зятя эрцгерцогу Йожефу, так как еще до свадьбы поссорился с его высочеством. Как-то раз, охотясь в алчутском имении, господин Карлсдорфер застрелил очень красивого оленя. Он надеялся, что после охоты эрцгерцог пришлет ему рога, но вместо этого его высочество лично позвонил по телефону и с возмущением отчитал Карлсдорфера за то, что тот осмелился убить лучшего оленя перед самым носом у эрцгерцога и герцогов. Карлсдорфер готов был задохнуться, он покраснел, вспотел от гнева, затем закричал в телефон: «Если вам не нравится, то в другой раз не зовите».
И его больше не стали звать. Постепенно от него отказались знатные приятели. По воскресеньям за обедом собиралась только семья. Бардоци не выносил этих обязательных обедов. Не любил вкуса блюд, овощей со сметаной, майораном, лавровым листом, пирогов с запахом аниса, не любил дичи. Бардоци ценил только паприку и лук, за тарелку рагу из свинины или за тушеную говядину с черным перцем он готов был отдать все пирожки с творогом. Он не любил вина, разбавленного минеральной водой. Но больше всего его тяготили нескончаемые рассказы об оккупации и политические рассуждения самого Карлсдорфера. Он назло старику возражал ему и, как только выпивал черный кофе, сразу вскакивал со стула и обиженно убегал. Илонка плакала сначала у родителей, а вечером у себя дома, когда между ними затевалась ссора. На следующей неделе снова начинались просьбы, мольбы, уговоры, что так поступать нельзя, что мама будет очень огорчена…
Ну что ж, по крайней мере прекратятся воскресные обеды у тестя, раз и навсегда кончится эта жалкая жизнь. Он уедет отсюда, и уедет не с пустыми руками!
На площади Свободы неподалеку от Национального банка расположился взвод хмурых немцев с зенитной пушкой. Они равнодушно следили за длинным караваном грузовых автомашин, направляющихся в Буду. Все уходят, все увозят из этой страны. Может быть, Немешчани тоже уехали?
Но нет. Друга своего он застал в его старом рабочем кабинете.
Если бы возле окон не лежали мешки с песком и сквозь кружевные занавеси не проглядывал рулон черной бумаги для затемнения, можно было бы, пожалуй, подумать, что вокруг царит мир. Сигареты, джин, крепкий черный кофе…
— Ну-с, дорогой Дюрка, чем порадуешь?
Кресла здесь такие мягкие, что прямо тонешь в них. Костюм у Немешчани тоже из чистой шерсти и прекрасно скроен. Рюмки из хрусталя. На стене писанная маслом картина: на окутанную синим дымом комнату пристально взирает какой-то господин в вишневом ментике и шапке с перьями. Как здесь все хорошо!
— Ну-с?
— Видишь ли, в чем дело… мой тесть Арманд Карлсдорфер, как тебе известно, был генерал-директором на Заводе сельскохозяйственных машин. Но вчера подал в отставку. Об этом уже есть сообщение в официальном вестнике.
— А он не собирается взять свои слова обратно?
Бардоци пожал плечами.
— Возьмет или не возьмет, этого я не знаю: рассчитывать на это нечего. Да, пожалуй, и лучше, что старик подал в отставку. Сожалею, что приходится говорить подобное, ведь речь идет о моем тесте. Но ничего иного я сказать не могу. Он не разбирается в характере событий, совсем не понимает, что руководство предприятием… Эх, одним словом, тщетно я пытался втолковать ему, что ныне у нас не может быть иной цели, кроме всемерного служения тотальной войне. Верно?
— А как же иначе? Именно так.
— На практике это означает, что ценности необходимо вывозить на запад, причем, я так думаю, обязательно под контролем такого лица, имя и политическое поведение которого не вызывают никакого сомнения.
— Да, это верно. О каком предприятии идет речь?
— О Заводе сельскохозяйственных машин.
— Так. Ты поступил весьма любезно, что предупредил меня. Мы очень тщательно изучим это дело и найдем подходящую кандидатуру. Еще налить?
Бардоци придвинул рюмку, но рука его так дрожала, что кольцо застучало по стеклу.
— Кстати, как дела дома, Дюрика?
— Спасибо. Так себе. Живем помаленьку, — ответил Бардоци с унылым видом и посмотрел на прозрачный, как вода, джин. Да, тут он основательно промахнулся.
— Я отослал свою семью в Сен-Готард. А вы?
— Еще не знаю, — сказал Бардоци. — Не знаю. Сейчас, право, не знаю, что и делать.
— Ничего не скажешь, тяжелые времена.
— Да.
Наступила минута тягостного молчания. Бардоци понимал, что пришло время встать и проститься. Он и сам всегда поступает точно так же: сидит, откинувшись на спинку кресла, выпятив губы, и рассеянно смотрит в пространство, стуча по столу пальцами в ожидании, когда же наконец уйдет к черту посетитель. Но как уйти, если ему не удалось еще поговорить о самом главном? Он готов свернуть ему голову.
— Послушай, — неожиданно заговорил Немешчани, — я подумал сейчас, что не так-то легко откопать подходящего человека. Ты, наверное, знаешь этот завод… если бы ты, скажем, взял на себя…
— Изволь, а почему бы нет, если речь идет об интересах государства, — быстро ответил Бардоци и, схватив бутылку с джином, сам налил обе рюмки.
— Было бы очень хорошо, — закончил мысль Немешчани и, прищурив один глаз, посмотрел на разволновавшегося Бардоци.
— Ну, тогда…
— В течение двух дней я дам тебе знать. Немедленно затребую все документы.
— Спасибо, очень…
— Не за что. Я сам радовался бы этому больше всех. Ну, до свидания.
Не успел еще Бардоци сойти по лестнице вниз, как Немешчани затребовал документы, касающиеся распорядителя имущества Завода сельскохозяйственных машин. Доктор Эден Жилле старший, заместитель руководителя юридического отдела, сам принес досье. Это был высокий, худой мужчина, на голову выше своего первенца сына; когда-то он тоже отличался полнотой, об этом свидетельствовала его морщинистая, дряблая кожа, которая свисала у него на шее и на подбородке, как плохо скроенный воротник.
— Ты меня звал?
— Распорядитель имущества Завода сельскохозяйственных машин подал в отставку?
— Так точно-с.
— А кто его преемник?
— Студент юридического факультета Эмиль Паланкаи младший, вернее, юрист, вполне надежный человек, хорошо сведущий во внутренних делах предприятия…
— Вот как! Значит, все в порядке… впрочем, погоди. Будь любезен, оставь досье у меня.
— Но его ждет господин генерал-директор…
— С господином генерал-директором я только что разговаривал. Он придет в двенадцать часов. К тому времени ты получишь все обратно.
— Изволь… но я бы хотел узнать, зачем оно тебе…
Немешчани нахмурил лоб.
— Дела по управлению имуществом относятся к моей компетенции.
— Но ведь ты никогда… предложения всегда делает юридический отдел… разумеется, если ты желаешь… я только осмелился упомянуть…
— Через час получишь обратно.
— Как прикажешь.
Жилле обеспокоенно вздохнул и положил досье на стол. Немешчани достал из кипы бумаг опись имущества и, как только юрисконсульт вышел, погрузился в чтение. Доходные дома… неинтересно, заводские строения, промышленная железнодорожная ветка, базальтовая шахта… ничего интересного. И что собирался этот скотина Бардоци вывозить на запад? Ага! Иностранные заказы. Лондон, Стокгольм, Рим, Берн, Бомбей, не плохой улов — ценные бумаги, государственная задолженность… неинтересно. Но есть здесь и нечто иное — семейные драгоценности.
Он быстро набрал номер.
— Пишта? Можно зайти? Спасибо.
Немешчанк взял под мышку досье и быстро направился в президиум. В приемной председателя возле курительного столика сидел Жилле. Он побледнел, когда увидел вошедшего. Какое-то мгновение они смотрели друг на друга волком, затем Немешчани приветливо улыбнулся секретарше и зашел в широко распахнувшуюся перед ним дверь, обитую зеленым сукном.
Дирекция заседает
Тетушка Варга выпустила из рук кастрюлю с супом. Жидкость выплеснулась через край и образовала большую темную лужу на кафельном полу кухни. Красная эмалированная кастрюля подскочила, а затем опрокинулась, но тетушка Варга даже не нагнулась за ней.
Она продолжала стоять и, разинув от удивления рот, смотрела на появившегося в дверях Паланкаи в нилашистской форме.
— Сейчас?.. Заседание дирекции?..
— Да.
— С тех пор как вы не приходили, я даже не убирала.
— Ну вот, сейчас и уберете.
— Но мне некогда, господин Паланкаи. Вы разве забыли, что сегодня суббота. А завтра сочельник. К тому же так часто воздушные налеты, что я почти не бываю дома.
Паланкаи с раздражением стукнул по столу.
— Даю вам десять минут. Берите веники и ступайте. Если вы забыли, что работаете на военном заводе, так я напомню.
С этими словами Паланкаи хлопнул дверью и твердым шагом поднялся в контору.
Хм. Еще вчера он был практикант, а сегодня уже генерал-директор.
Что ощущал Наполеон после первой победы?
Паланкаи остановился около своего старого письменного стола, перелистал необработанные документы. «Книга поступивших счетов», казалось, смотрела на него с упреком. В нее вот уже несколько месяцев никто не вписал ни строчки. Паланкаи достал авторучку и под рубрикой «Наименование, количество, стоимость прибывшего товара и название фирмы-поставщика» красивыми печатными буквами несколько раз вывел: «Генерал-директор Эмиль Паланкаи младший, генерал-директор Эмиль Паланкаи младший». Он собрался уже рисовать свой автопортрет, как появилась и тетушка Варга с тряпкой для пыли и веником. Паланкаи только сейчас огляделся вокруг.
— Слушайте, тетушка Варга. А где ковры? И гардины?
Тетушка Варга побагровела.
— Я спрятала их в надежное место, господин Паланкаи, чтобы бомба, изволите знать…
— Вот как? А кто вас уполномочил на это? Через пять минут все должно быть на месте. Если пропала хоть одна кнопка, я велю вас немедленно арестовать.
Варга, громко охая и ругаясь, притащила из дровяного склада три ковра. Остальные она уже давно отвезла к своей сестре.
Но, к счастью, Паланкаи не считал ковры, он только подгонял ее с уборкой. Надо было торопиться, так как с минуты на минуту могли прийти господа.
Ровно в три часа один за другим появились все приглашенные лица: отец и сын Жилле, управляющий Татар со своим младшим братом.
Жилле старший раскрыл папку.
— Вот вам протокол, ребята. Это все, что мне удалось отвоевать.
— Но раз нет назначения, то нет и тридцати тысяч пенге гонорара, — сказал Татар.
— Ну, тогда попытайтесь достать сами, если сумеете. Этот протокол стоит не меньше. Вот он, в пяти заверенных экземплярах. Позвольте, Национальный банк назначение распорядителя отложил до тысяча девятьсот сорок пятого года. До тех пор ведение дел возлагается на дирекцию со всеми вытекающими отсюда правами и ответственностью.
— Да ведь это не так уж и плохо, — согласился Татар.
— Плохо? Отлично. Или я должен был позволить, чтобы Немешчани взял это в свои руки? Знаете, кого он хотел предложить в распорядители? Своего собственного сына.
Члены дирекции пришли в ужас. Эден целомудренно потупил взор.
Младший брат Татара, мужчина лет двадцати восьми, сидел в кресле Императора и молчал как рыба. Он как-то странно смотрел перед собой и дышал полуоткрытым ртом. Каждый раз, когда старший брат приближался к нему, он втягивал голову в плечи и, будто защищаясь от удара, подносил руку к лицу.
— Вытри губы, — раздраженно шипел Татар, в ответ на что брат в страхе доставал носовой платок и вытирал слюну.
Эден прошептал Эмилю на ухо:
— Посмотри, да ведь это…
— Знаю, у них отец был сифилитик… но вполне подойдет, чтобы загрести в карман денежки.
Тетушка Варга внесла графин с водой и покрыла снятым с дивана зеленым плюшевым покрывалом стол Ремера.
Ровно в четверть четвертого прибыла Тери Мариаш, которую Татар вызвал для ведения протокола.
Татар нажал на столе Императора кнопку электрического звонка. Звонок, правда, не работал, но тем не менее момент был настолько торжественный, что все встали.
— Братья хунгаристы, уважаемые члены дирекции, господа! Прежнее руководство отравило настоящее предприятие предательским еврейско-большевистским духом. Но мы…
— Золика хочет есть, — жалобно пролепетал Татар младший.
Господин управляющий побледнел. Щеки Эдена раздулись, как резиновый мяч, но он все же подавил смех. Остальные с прежним достоинством хмуро взирали на Татара, который достал из кармана кусочек сахара, сунул в руку брата и с силой дернул несчастного за пальцы.
— Слово имеет член дирекции господин Эмиль Паланкаи младший, — упавшим голосом объявил Татар и сел на свое место, ни на минуту не спуская глаз со своего младшего братца. А тот, присмирев, снова сидел молча.
Эмиль начал свою речь с разбора военной обстановки. Его, как и Татара, нисколько не смущало, что вся аудитория состоит из отца и сына Жилле, Татара и душевнобольного Золтанки. Он говорил, впадая в ораторский раж, любуясь звучанием своего собственного голоса. Упомянул японских воинов, которые, не щадя жизни, идут в атаку, говорил о могущественном германском союзнике, готовом отбросить врага за Волгу, о новейшем немецком чудо-оружии, о «прыгающих» танках, с хода перелетающих через вражеские окопы, об оружии, которое замораживает, превращает в хрупкий лед неприятельские орудия, самолеты и даже солдат.
Жилле-отец, закрыв глаза, думал о том, что он или сдерет сегодня с этих злодеев свои тридцать тысяч пенге, или поставит над ними крест. Эден откровенно зевал. Татар, сверкая глазами, следил за своим младшим братцем.
Тери Мариаш машинально вела протокол, чутко прислушиваясь к тому, что происходит на улице, — наверное, опять будет воздушная тревога. Уже совсем близко слышались глухие взрывы.
Паланкаи теперь и сам верил в то, что говорил.
— Наша дирекция призвана снова высоко поднять производительность предприятия, значительно превзойти довоенный уровень. Новые машины, новые заводские корпуса, благосостояние — вот что будет характеризовать предстоящий период. А теперь попрошу уважаемую дирекцию избрать генерал-директора и директора-администратора.
— Предлагаю избрать генерал-директором господина Эмиля Паланкаи младшего, — произнес Татар. — Нам всем известны его замечательные способности, талант.
— Предлагаю директором-администратором господина управляющего Дердя Татара, — встал Паланкаи младший. — Мы все высоко ценим его знания, преданность делу. В состав дирекции рекомендую доктора Эдена Жилле и Татара… как зовут вашего брата? Татара…
— Ура, ура! — возликовал Эден. — Что я должен подписать?
— Сейчас отпечатаю протокол, — сказала Тери Мариаш.
— Ладно. Только поторопитесь, дорогая, — произнес генерал-директор Паланкаи.
— Дядя Дюри позаботился обо всем, — заявил Татар и с улыбкой киноартиста, которому он подражал, полез к себе в портфель и вынул две бутылки шампанского. — Настоящее «Клико».
— Вот это да!
Тетушка Варга принесла стаканы, и господа, взволнованные величием момента, выпили.
Эмиль и Татар на минутку вышли в осиротевшую комнату госпожи Геренчер.
— Эмилио, давать им сейчас деньги?
— Черта лысого.
— Все-таки надо дать немного.
— Сколько у нас наличных?
— Вполне достаточно. Сто тысяч пенге.
— Ну, ладно. Эдену и вашему братцу дадим по пять тысяч пенге. Старому Жилле десять, а то он еще устроит скандал. И скажем, что в данный момент у нас нет больше наличных денег. Если им не понравится, пусть подают в суд.
— Ну, ладно. Тогда пошли и…
— Погодите, старина. Как с отъездом?
— Это мы обсудим потом.
— Зачем потом? Сейчас, немедленно. Русские у Эстергома. Вы что думаете, они будут ждать, пока мы уладим свои дела? Сегодня же ночью я съезжу в Шомош за машиной. Вы уполномочите меня на эту операцию, пока еще как прежний управляющий. В случае необходимости я могу заручиться приказом нилашистского командования. В понедельник утром вернусь назад, забегу в контору, прихвачу кассу, заеду за вами на гору.
— А как вы собираетесь изъять деньги? Один из ключей хранится у Карлсдорфера, а другой у меня.
— Я получу его в два счета.
— У Карлсдорфера? Как же, надейтесь!
— Не у него, а у вас.
— И не подумаю его вам давать. Чтоб вы уехали с денежками, а меня забыли здесь.
— Дорогой господин Татар, разве вы меня не знаете?
— Как же не знаю. Потому-то и опасаюсь.
— И считаете, что ключ от кассы я оставлю у вас? Я генерал-директор. Мне тоже необходима гарантия.
— У вас будет автомашина. Знаете, какая ценность нынче автомашина? Разве я смогу уехать, если не будет машины?
Паланкаи задумался.
— Ну, ладно. Пойдемте к господам.
Было уже совсем темно, когда Тери отпечатала протокол. Татар и Паланкаи взяли по одному экземпляру себе, остальные заперли в одном из письменных столов бухгалтерии.
— Пошли, так поздно уже не разрешается ходить по улице. К тому же опасно. Что ты там возишься, Эмиль?
— Погодите. Надо продиктовать еще одно распоряжение. Печатайте, барышня Мариаш. «Распоряжение номер один. Приказываю предоставить чиновникам Завода сельскохозяйственных машин отпуск по тридцать первое января тысяча девятьсот сорок пятого года. Причитающееся за отпуск жалованье подлежит выплате только по выходе на работу. Первого февраля все обязаны явиться на свои рабочие места. До первого февраля тысяча девятьсот сорок пятого года заводские чиновники и члены дирекции могут входить в контору только с моего личного разрешения. Генерал-директор Эмиль Паланкаи младший». Так. Дайте сюда, я подпишу. Будьте любезны, скажите Варге, чтобы она вывесила это распоряжение на дверях и следила за тем. чтоб оно выполнялось.
Перед уходом новоиспеченный генерал-директор со всеми простился за руку.
— В какую сторону пойдешь? — спросил он у Эдена, спускаясь вниз по лестнице.
— В больницу.
— Не хочешь пройтись со мной до Западного вокзала?
— Охотно.
Они расстались с остальными членами дирекции и поспешно направились на проспект Вильгельма. Возле скобяного магазина Ульриха Эмиль остановился.
— Не провожай, старина, я хотел только у тебя спросить. Хочешь ли ты поехать со мной?
— Куда?
— В Клагенфурт.
Эден свистнул.
— Старина!
— Ну?
— Я две недели уже не сплю, не могу придумать, как бежать. Машины нет, а…
— Что — а?
— С собой прихватить есть что.
— Именно.
— В больнице есть радий. Немного. Но ты знаешь, сколько стоит тысячная доля миллиграмма? Сто миллионов пенге.
— Не болтай вздор.
— Сейчас в этом острая нужда. Уверяю, такова цена.
— У тебя этот радий?
— Как же, разумеется, у меня, в портсигаре. По воскресеньям я ношу его в другом платье.
— Ты…
— Конечно, его у меня нет. Он хранится в свинцовой комнате, в свинцовом сейфе, в свинцовой кассете. Но он может оказаться в моих руках.
— Каким образом?
— Нужен приказ партии. Остальное — мое дело.
— Но раз он такой дорогой, то нельзя приказом давать огласку. Мои дружки тоже парни не промах…
— А мы пообещаем поделиться с тем, кто даст приказ, а потом смотаем удочки.
— Слушай, Эден, через час отходит мой поезд, я должен поехать в Шомош за машиной. А ты ступай в «Дом Верности» и отыщи брата Моштена. Скажи, что я прислал. Или погоди, я черкну ему пару слов.
Эден не замедлил включить свой карманный фонарь. Паланкаи достал авторучку и вынул из кармана картонную коробочку с сотней новеньких визитных карточек: «Эмиль Агошт Жолт Паланкаи из Паланки, окружной начальник бойскаутов, генерал-директор акционерного общества Завод сельскохозяйственных машин, председатель Хунгаристского совета».
На обратной стороне визитной карточки он написал несколько неразборчивых слов.
— Возьми. В ночь на понедельник заеду к тебе. Сразу после полуночи.
— Не беспокойся, я добуду радий.
— Мы станем миллиардерами.
— Мой старик будет поражен. Он все еще рассчитывает по простоте души, что с приходом большевиков он по-прежнему останется главным юрисконсультом Национального банка.
— Ну, а ты что, растрогался? Не собираешься ли остаться здесь со своим папашей?
— Нет, я только так, вспомнилось… Ни пуха ни пера, дружище.
— Не забудь же, брат Моштен!
Эмиль помчался бегом к Берлинской площади, Эден пошел в другую сторону, к остановке метро.
Спокойная ночь
Госпожа Карлсдорфер стояла в кухне и терла мак. Прислуга еще в ноябре покинула их. Встретилась с каким-то молодым шофером, который со своим начальством переехал в Шопрон, и после двухдневного знакомства вышла замуж. Вот поэтому-то госпожа Карлсдорфер и хозяйничает. Неделю назад ушла кухарка, плача и причитая. Вместе со своим внуком перебралась в провинцию к каким-то родственникам. Она до того боялась бомбежек, что по вечерам даже не решалась ложиться спать и часов в десять вечера, когда начинала реветь сирена, закатывала такую истерику, что ее успокаивал весь дом.
Слезы госпожи Карлсдорфер падали прямо в мак. Весь дом переселился в подвал. Снесли в убежище кровати и одежду в огромных чемоданах. Более зажиточные жильцы заплатили старому дворнику, и тот прибрал и оборудовал для них отдельные дровяные склады; стены увешали коврами, пледами, снесли туда радиоприемники, стулья, столы. Одни только Карлсдорферы по-прежнему оставались в своей квартире, так как старый Карлсдорфер настаивал на том, чтоб устроить семейный рождественский ужин. Жареной индейки, конечно, не будет, но зато удалось приберечь кусок корейки, из которого она приготовила блюдо с капустой, будет еще и калач с маком и вино… Но орудия беспрерывно грохочут, и кто знает, как доберутся к ним Илонка с мужем, ведь они живут далеко в Буде.
Госпожа Карлсдорфер, вздыхая, месила тесто для калача. Зачем только бог послал им такое ужасное испытание? Разве она недостаточно набожна и благодетельна? Разве мало она принесла жертв? Ведь она делала все. Даже на курсы медсестер ходила с дочерью и два раза в неделю по полдня работала в немецком лазарете. А с каким христианским смирением перевязывала она страшные раны, обмывала слабых, полумертвых мужчин, не отказывалась она и от работы, которую делают только святые и монашки. И всего этого мало, видимо, мало. Вот уже многие дни ее мучают кошмары. Да и карты не предвещают ничего утешительного. Дом окутается огнем, ближний родственник погибнет насильственной смертью… В прошлый раз гадалка даже хотела вернуть ей сто пенге, никак не соглашалась рассказывать, о чем говорят карты. Но она умолила слезами — будь что будет, она готова вынести все, что предначертано ей господом богом. «Бегите, бегите, — шептала вне себя прорицательница, — здесь вас ожидают одни опасности, смерть…» Но тщетно пытается она уговорить мужа. У нее даже не хватает смелости сказать, что ходила к гадалке. А Карлсдорфер то и дело твердит, что никуда он не намерен бежать, здесь жил, здесь и умрет. Как ни объяснял ему Бардоци, как ни плакала, как ни умоляла Илонка, чтобы отец вызвал в Будапешт заводскую машину и уехал с ними, он был неумолим. А жену и вовсе не слушал.
Калач пекся в духовке, капуста варилась на плитке. Госпожа Карлсдорфер тем временем решила позвонить на квартиру дочери. Сколько она ни звонила, никто не поднимал трубку.
— Оставь телефон в покое, — раздраженно произнес Карлсдорфер, — они и без того знают, что мы сегодня ждем их, или, может, уже вышли, или испортился этот паршивый телефон. Подумать только, зачем нужна была нам эта война, кто нас заставлял лезть вон из кожи.
— А разве в этом наша вина? Разве не русские стоят вокруг города? — заплакала жена. — Зря ты бога гневишь.
Карлсдорфер сердито отмахнулся. Он пошел к себе в комнату, включил радио и вертел ручку настройки до тех пор, пока не поймал Лондон. После позывных мужской голос начал передавать на английском языке последние известия.
Ровно в восемь часов госпожа накрыла на стол. На круглый курительный столик поставила елку и разложила под ней тщательно перевязанные цветными ленточками подарки: Илонке — связанную матерью шерстяную кофту, доктору Бардоци — кошелек и кожаные перчатки, внукам — сахар, старому Карлсдорферу — бутылку джина и пару новых сапог, хозяйке дома — теплые домашние туфли.
Карлсдорфер молча занял за столом место главы семьи.
Стенные часы пробили четверть девятого; их мелодичный звон долго разносился по комнате. «Может быть, еще немного подождать?» — хотела спросить жена, но Карлсдорфер сидел такой хмурый, что она не осмеливалась заговорить. Она со вздохом сложила на груди руки и, по-старушечьи шаркая усталыми ногами, сходила на кухню и принесла капусту. Странно, почему так долго нет Илонки и зятя? В прошлые рождественские вечера они уже в шесть часов собирались здесь, чтобы до всенощной молитвы закончить ужин… Какая страшная ночь, как громыхают орудия… Господи, не случилось ли с ними несчастье в дороге?
Есть не хотелось. Дорогая капуста в тарелках осталась почти нетронутой. Они не решались открыто посмотреть друг другу в глаза, лишь взглядывали исподтишка да каждый раз вздрагивали, когда где-нибудь близко разрывалась бомба, или же начинала мигать лампа, или когда часы отбивали четверть, половину, три четверти, затем девять, десять…
— Наверное, что-то произошло… — шептала жена.
Карлсдорфер, внешне сохраняя спокойствие, молча смотрел на скатерть.
— Иначе они бы пришли… хорошие дети, не стали бы нас обижать.
Глаза Карлсдорфера зловеще блеснули.
Жена скрестила руки.
— Может быть, они пытались звонить нам… не надо думать о них плохое… Давай пойдем к ним.
Карлсдорфер встал.
— Спокойной ночи, я лягу спать.
— Ляжешь? И оставишь меня в таком ужасном состоянии? Господом богом умоляю, именем невинного дитяти заклинаю, будь милосердным. А вдруг они попали в беду, лежат где-нибудь мертвые, а ты уже осуждаешь их. Пойдем, узнаем, что с ними, прошу тебя, умоляю…
— Надевай пальто, — сказал Карлсдорфер и встал.
Ночь была туманная, холодная, жестокая. Вместо звезд в небе сверкали вспышки снарядов. Вокруг все гудело, грохотало. Женщина в страхе прижалась к мужу и устало, тяжелыми шагами шла по опустошенному проспекту Андраши, по улице Иштвана Тисы, через Цепной мост в Буду. Где-то внизу, окутанный мраком, бурлил Дунай, на мосту стояли немецкие солдаты и жандармы. Двое стариков молча брели по грязному асфальту. Женщина тихонько всхлипывала, а мужчина шагал, как заводной, бессмысленно глядя куда-то вперед, на грозные языки пламени, то и дело разгонявшие непроглядную тьму.
По длинной лестнице, вырубленной на склоне горы, они добрались до виллы Бардоци. Все вокруг казалось покинутым и мрачным Громко дребезжал звонок, и долго отдавалось эхо, но никто не откликался. Карлсдорфер позвонил еще раз. В саду заскулила собака, а чуть погодя донесся женский голос, но не из виллы Бардоци, а из соседнего двора:
— Напрасно звоните, они уехали…
— Что? Куда уехали?
Но вот появилась и сама женщина. Посвечивая карманным фонарем, она подошла к уличной ограде; судя по всему, это была дворничиха из соседней виллы.
— Иисусе, да никак это вы, ваше превосходительство… Они еще вчера утром уехали на министерской машине со всей мебелью…
— Не может быть! Моя дочь бросила меня здесь! Даже не простилась с нами! Это невероятно! Единственная дочь!..
Карлсдорфер ничего не ответил на причитания жены.
— Наверное, Дюри, он решил уехать любой ценой… Господи, и в такое время… Кто знает, где они спят… — заплакала жена и, быстро семеня, поспешила за Карлсдорфером. Широко ступая своими длинными ногами, понурив голову, он уже ушел далеко и только на углу аллеи остановился, чтобы подождать жену.
Карлсдорфер не испытывал ни гнева, ни злобы: его одолевали усталость да чувство стыда. И это его дочь, воспитанная и взлелеянная им дочь! Связалась с немцами! Бежала в Германию! Разве не она вечно декламировала «Призыв» Верешмарти: «Здесь жить и умереть тебе дано».
Жена наконец нагнала его, взяла под руку и, идя рядом, продолжала тихо плакать. Как ужасно, что женщина своими слезами лишает мужчину крыльев. В студенческие годы ему так хотелось объездить весь мир, поскитаться по свету, но в ту пору мать осталась вдовой и со слезами умоляла не покидать ее одну… А потом, когда он женился…
На какой-то миг Карлсдорфером овладело желание отшвырнуть от себя плачущую, повисшую у него на руке жену, но потом вдруг в нем появилось чувство жалости и бессилия. Что ему, в сущности, надо в его шестьдесят восемь лет? Сидеть перед камином, читать газету «Цюрхер», выпивать свою утреннюю порцию кофе. Вот и все.
— Не плачь, — нежно сказал он, но от этих слов жена зарыдала еще громче.
Ворота уже были заперты. Только после долгого стука вышел наконец дворник. Охая, он принялся корить их, как это они осмелились так поздно покинуть дом? Ведь гражданским лицам в такую пору не разрешается даже на улицу выходить! Да и бомбы сыплются градом. Все жильцы переселились в убежище.
— Переберемся и мы в подвал, — сказала госпожа Карлсдорфер, — помогите нам перенести постель.
Зайдя к себе в кабинет, Карлсдорфер сел к письменному столу, облокотился на него и, охватив руками голову, замер. Не двигаясь и ни о чем не думая, он пристально смотрел на стол. Как сквозь сон, до него доносились из соседней комнаты шаги, разговор, скрип ящиков, шкафов. Все это казалось ему непонятным. Разве двумя-тремя этажами ниже менее опасно? А если вспыхнет пожар или дом обрушится? Лучше уж погибнуть в своем доме, чем пропадать, подобно крысам, где-то в подвале…
В соседней комнате стало тихо, но немного погодя снова послышались шаги, грохот передвигаемой мебели, звон ключей.
— Пойдем, душенька, в подвал, — услышал он умоляющий голос жены.
— Ладно, немного позже… Ты пока иди, я приду потом.
— Ведь бомбят же.
— Ладно, иди.
Карлсдорфер погасил свет и открыл дверь на балкон.
«Еще, чего доброго, схвачу воспаление легких», — подумал он, но эта мысль показалась ему сейчас прямо-таки смехотворной. Все вокруг до самого горизонта объято морем огня, а тут еще кто-то может умереть от воспаления легких или от истощения… Что там такое горит? Карлсдорфер впервые по-настоящему ощутил, как дорог ему этот город. Господи, а вдруг это горит центр или парламент… или мосты гибнут. Полковник Меллер утверждает, что нацисты заминировали мосты. Они способны на это, они на все способны… Они уничтожили, разграбили, расстреляли всю Европу… не оставили камня на камне в Сталинграде, погрузили в вагоны сокровища Парижа, превратили Лувр в конюшню, ограбили Флоренцию, надругались над Римом, превратили в нищих всех жителей Амстердама, стерли с лица земли Лидице, Орадур… для них наш Цепной мост ничего не стоит. Господи, Цепной мост! Может быть, сегодня он проходил по нему в последний раз.
— Я злодей… мы все злодеи, — громко воскликнул старый Карлсдорфер. — Я отдал свою дочь какому-то фашистскому проходимцу, и он убежал с ней на запад, к нашему извечному врагу. Мы ничему не учимся, все забываем…
В соседней комнате скрипнула дверь, но Карлсдорфер не заметил. Опершись о косяк балконной двери, он стоял, не в силах даже сделать два шага, добраться до кресла и сесть в него.
— Карлсдорфер, вы здесь?
— Эй, кто там? — очнулся старик.
— Эмиль Паланкаи, — послышался спокойный и наглый ответ.
— Что вам здесь надо? — с возмущением спросил Карлсдорфер. — Что вы бродите ночью по моей квартире?
— Я пришел за ключами.
— За какими ключами?
— От сейфа.
— Что? С какой стати?
— Если хотите знать, по праву сильного. Не вынуждайте меня применять оружие.
— Убирайся отсюда, нилашистская свинья. Убирайся…
— Дадите ключ?
— Две пощечины, наглый сопляк…
Паланкаи выстрелил.
Послышался болезненный, хриплый крик; в освещенной лучами прожекторов комнате Карлсдорфер пошатнулся и рухнул на дверь.
— Зло-дей!
Паланкаи, теперь уже спокойно прицелившись, выстрелил еще раз. Ночь оглашалась грохотом орудий, треском пулеметов, и поэтому пистолетного выстрела почти не было слышно. Паланкаи с полминуты стоял в нерешительности, затем осмелился подойти к старику поближе. Карлсдорфер лежал на полу без сознания, но еще дышал. Рубашка его была липкой от крови. Паланкаи обыскал карманы старика.
Черт бы побрал эту скотину. Отдал бы по-хорошему, так ничего бы такого не случилось… А теперь ищи хоть до скончания света, все равно не найдешь; может быть, он прячет ключи в другом месте… Кошелек, бумажник, носовой платок, сигареты и… ключи. Множество всевозможных ключей на одном кольце. Паланкаи принялся ощупывать их в темноте. Это, наверное, ключ от подвала, это от дверей… Возможно, этот? Это ключ системы Вертхейма…
Он быстро сунул ключи в карман и на цыпочках стал выбираться из чужой квартиры.
«Я убил, — думал он. — Как странно. И как легко».
— Ну как, нашли господина Карлсдорфера? — окликнула его внизу лестницы дворничиха.
— Что? Конечно… да… спасибо, — ответил Паланкаи и сломя голову выбежал за ворота. Мотор остыл, и только минут через пять удалось с большим трудом завести машину. Паланкаи готов был выть от нетерпения.
Габи Кет
Жильцы дома на улице Вереш Палне двадцатого декабря переселились в подвал. Верхний этаж дома снесла бомба, лестница грозно повисла в воздухе. Непрерывные круглосуточные воздушные налеты, и без того нарушившие обычный темп работы, не давали приготовить пищу, делали бессмысленной уборку, не позволяли уснуть. Госпожа Кет, ожидавшая с часу на час прибавления семейства, снесла в подвал даже вещицы будущего младенца и в отчаянии молилась, чтобы случилось чудо и война закончилась до того, как она родит ребенка. Соседки, опасаясь, что госпожа Кет разродится в подвале и им придется помогать при родах, не переставали уговаривать ее отправиться в какую-нибудь больницу.
— Я не могу, — плакала она. — Куда мне этого девать?
«Этот» — Габи Кет — не очень-то понимал, почему опечалены взрослые.
Ему, правда, очень недоставало отца, и он каждый день приставал к матери с вопросом, когда же папа вернется с войны. Все мальчику очень нравилось. В октябре его записали в четвертый класс начальной школы, но ходить туда не пришлось, так как запущенное школьное здание не имело подходящего убежища. Занятий не было, готовить уроки тоже не требовалось. Наказания, стояние в углу, подзатыльники, ругань — все было сейчас забыто. И юный Габор Кет наслаждался полной свободой и, с утра до вечера бегая по двору, играл со своими сверстниками в воздушную тревогу.
Восемнадцатого декабря в дом попал первый снаряд, а девятнадцатого — второй. С тех пор у детей пропала охота играть в войну. Присмирев, они жались возле своих матерей, тихо сидели в убежище и испуганно смотрели на мерцающее пламя свеч; они чувствовали, что наверху свирепствуют страшные силы, гораздо сильнее, чем их родители, учителя; они поняли, что значит смерть.
После того как в дом попала бомба, люди жили, как в осаде. Сложились другие взгляды на ценности и на мораль, отличные от тех, которых они придерживались в течение всей своей прежней жизни. Если раньше молодая девушка, прежде чем снять блузку, тщательно занавешивала окно, то теперь считалось обычным одеваться, раздеваться, мыться в общем убежище, и она нисколько не смущалась, что ее соломенный матрац лежит между железными кроватями двух мужчин. Столь бережно охраняемые сокровища: шторы, вазы, старинные картины, стенные часы, полированная мебель, рояли — сразу утратили ценность, но зато дерюга, мешочек сухих бобов стали бесценным богатством. Изменилось и отношение людей к труду. Женщины, которые раньше с утра до вечера следили за чистотой, мыли окна, вытирали пыль, натирали до блеска пол и заставляли гостя в восьми местах вытирать ноги, теперь равнодушно сидели на краю кровати, не обращая внимания, что на белоснежные, заботливо накрахмаленные кружевные наволочки падает паутина, а диван почернел от угольной пыли. Образцовые домашние хозяйки, которые мастерски готовили слойки, цыплят, мариновали зайчатину, сейчас с уважением смотрели на тех, кто без всякого жира умел одной щепкой сзарить горох в потрескавшейся задымленной печке.
Госпожа Кет целые дни сидела голодная и озябшая на своем соломенном матраце. Она отдала своей соседке тетушке Тере золотые часики и попросила, чтобы та взамен каждый день давала Габи тарелку овощного супа. Тетушка Тере честно выполняла свое обещание, более того, даже госпоже Кет приносила половник. Но госпожа Кет только головой крутила.
— Мне не надо, спасибо.
— Кушайте, ради бога, а то так обессилите себя, что и не родите.
Госпожа Кет пожимала плечами и отодвигала тарелку.
«Я все равно не выживу… — думала она в такие минуты. — Я не посмею… ребенок не виноват, что в такое время появляется на свет, но родители виноваты. Что с нами будет? Война, разруха, я не смогу дать ему молока, не смогу вынести на солнце. Мужа нет дома… не хочу рожать».
Но голодовка, казалось, не действовала. Госпожа Кет изо дня в день тяжелела все больше, будущая жизнь еще несколько раз энергично дала о себе знать, затем утихла и готовилась к своему рождению.
Как-то в полдень Габи ел кукурузную кашу, которую дала ему тетушка Тере, мать в это время с трудом передвигалась по коридору.
— Мама! — крикнул Габи, отставляя тарелку.
— Побудь здесь, — ответила мать. Габи встревожился, но остался сидеть на месте и, чтобы продлить удовольствие, принялся не спеша облизывать ложку.
Госпожа Кет поднялась в квартиру дворничихи. Молодая дворничиха со страхом ходила вокруг госпожи Кет, не зная, что делать. Где найти врача, акушерку? Куда пойти в этом несчастном городе? Какое-то мгновение она сердито посматривала на госпожу Кет. Видно, совесть не чиста, могла бы пойти куда-нибудь в другое место, раз уже начались схватки… добралась бы до Рокуша, может… Но, видя вспотевшее лицо госпожи Кет, устыдилась своих мыслей. Разве можно так думать, когда она тоже мать, у нее самой семилетняя дочка!
Весть, что госпожа Кет рожает, скоро облетела всех жильцов. Они окружили вниманием Габи, дали ему поесть, приласкали. Женщины то и дело бегали к дворничихе и тревожно перешептывались и переглядывались, когда к ним подходил мальчик.
Габи, как щенок, почуявший опасность, метался в страхе возле лестницы. Иногда ему казалось, будто он слышит крики матери, и в такие минуты он содрогался от плача. Раз он собрался уже зайти на кухню, но дворничиха высунула голову и закричала:
— Сейчас же ступай в подвал. Что тебе здесь надо?
В конце концов он все же спустился в подвал, лег на диван и со слезами на глазах уснул.
Проснулся он от мощного взрыва и крика. Убежище наполнилось тяжелым удушливым дымом. Визжали женщины, в адском хаосе матери искали своих детей.
Кто-то схватил Габи за руку и потащил через запасный выход по неизвестным подвальным коридорам на чужие дворы.
— Мама! Мама! — в ужасе кричал мальчик. — Я хочу к маме… где моя мама?
Они пришли в какой-то подвал. Из взволнованных рассказов взрослых Габи понял, что немцы где-то подложили ящик с боеприпасами и он взорвался. Затем один из мужчин взял его за руку и что-то спросил; стоявшие вокруг люди сразу заговорили:
— На фронте… Обвалилась квартира дворника… мать рожала…
Он не понимал, но, охваченный тревогой, громко плакал.
— Сынок, есть у тебя в Пеште родственники? — спросил у него мужчина с повязкой ПВО. — Можешь ты куда-нибудь пойти?
Он не понял.
— Здесь тебе нельзя оставаться, сынок. Твоя мама… твоя мама придет за тобой позже… Куда бы тебя определить на ночь?
Габи продолжал плакать.
— Я знаю дядю Дюри Татара, он живет на улице Изабеллы.
— Найдешь дорогу?
— Найду.
До сих пор понятие Габи о мире ограничивалось одним кварталом. На углу школа. Двумя домами дальше — бакалейная лавка. Напротив — магазин канцелярских товаров. Сюда он ходил сам. Если же они отправлялись в более длительные путешествия — в гости или встречали отца возле конторы, — мать вела его за руку, то и дело приговаривая: «Не беги вперед, Габи. Держись за руку, сынок. Будь осторожен, а то попадешь под машину». Теперь его никто не вел, никто не охранял, кругом была темная ночь, и, как в страшных сказках, дома оживали, начинали шевелиться, небо, подобное пасти змия, извергало огонь. За руку Габи цеплялась дочь дворничихи, семилетняя девочка с русыми косичками. Она тоже напрасно спрашивала сквозь слезы, где ее мама; девочку уговорили пойти вместе с Габи к дяде Татару, а мама придет потом. Дети не узнавали улиц. На площади Аппони они увидели кучу трупов. Проспект Ракоци казался бесконечным. А они шли и шли, все время спотыкаясь, и то один, то другой начинали громко плакать. Кругом ни одного взрослого, кто бы взял их на руки, показал дорогу, проводил. По улице с ревом проносились военные машины, танки. Все же Габи каким-то чудом нашел в темноте нужный дом. Но, сколько они ни стучались, в квартире никто не отзывался. Выбежали соседи, окружили, стали расспрашивать пла, — чущих детей. Пресвятая богородица, да ведь это сын Миклоша Кета… Ну что ж, не найти ему Татара, Татар теперь живет на горе.
Дети так жалобно плакали, что жильцы не знали, что и предпринять. Старая дворничиха заторопилась на кухню разбудить спящего, прибывшего на побывку сына-солдата.
— Шани, отвези этих детей на своем мотоцикле.
Шани до того хотелось спать, что он валился с ног, в полночь ему надлежало вернуться в казарму. Как же ему ехать? Но, недовольно ворча, Шани все же согласился. Он свезет детей на угол улицы Реге, а там, бог с ними, не станет ждать, пока они дознаются, дома Татар или нет.
— Он должен быть дома, куда ему деваться, ты только отвези.
В иное время Габи отдал бы все сокровища мира за такую поездку на мотоцикле, но сейчас он со страхом жался в коляске позади крохотной Жофи и трепетал от ужаса, когда полицейские останавливали мотоцикл и проверяли у водителя документы. А останавливали их почти на каждом перекрестке, и на Кольце, и на мосту, и даже на Швабской горе. А сколько шло встречных машин! Временами приходилось стоять по нескольку минут, и тогда Шани начинал ругаться, проклинать доброе сердце матери и свою глупость, детей, войну, весь этот ужасный мир. По улице Сечени у конечной станции фуникулера брела какая-то женщина с узелком за спиной. Солдат попросил ее проводить детей и постучаться в виллу на улице Реге. И, прежде чем женщина успела возразить, солдат дал газ и мотоцикл исчез. Оставшись на вершине горы, под сильными порывами холодного ветра, малыши громко заплакали.
Женщина, усталая, оборванная работница, после минутного раздумья взяла Габи и Жофи за руки и сказала:
— Ну, детки, пойдем искать вашего дядю.
Рождественская елка у Татара
Окна ремеровской виллы были тщательно замаскированы, оконные стекла заклеены черной бумагой и закрыты с улицы ставнями — сквозь них не пробивался ни один луч света.
Татар украшал рождественскую елку. В комнате горела массивная хрустальная люстра, и на елке, высотой до самого потолка, сверкало множество крохотных цветных лампочек. Татару даже удалось достать две пачки бенгальских свечей, почти пять килограммов конфет и печенья, крошечные колокольчики и ангелочков из марципана. Сейчас он стоял на верху лестницы и развешивал бублики. Его жена, держа в одной руке коробку с печеньем, вставала на цыпочки и протягивала другую руку. Она старалась угодить мужу, но Татара бесила молчаливая покорность, робость жены, ее печальный взгляд. «Сойду с ума… когда-нибудь я ее удушу», — думал он. Каждый раз, отлучаясь из дому, он страстно тосковал по жене. Этой весной, когда военный комендант стал придираться к его личным документам, Татар заявил о разводе, отослал жену к сестре и даже пальцем не пошевельнул, когда услышал, что ее интернировали. Он даже не спросил, за что. Однако вскоре после этого затосковал, ночи напролет видел ее во сне, нанял адвоката, добился освобождения и, заручившись фальшивыми документами, скрывал жену здесь, в вилле. И в то же время он проклинал себя и эту ведьму еврейку, которая приворожила его к себе, родила ему душевнобольного сына, хотя и удивительно красивого мальчика. И больше всего он ненавидел ее покорность, услужливость, страх. Порой ему казалось, что он готов выгнать ее ночью босиком на улицу, высечь, проклинать ее черные курчавые волосы, ее род. эх…
— Что ты тянешься? У меня тоже есть руки. Поставь на стол коробку и займись своим делом.
Жена втянула голову в плечи, быстро поставила коробку и, как побитая собака, выскользнула из комнаты.
— Не то перекосилась эта елка, не то черт знает что с ней такое. Нет вида, — недовольно ворчал Татар, спускаясь с лестницы.
— Ирен, — громко позвал он жену, — где ты, к черту шляешься в такую минуту? Почему не украшаешь елку? Я сам все должен делать?
Жена испуганно вошла, принялась неумело и торопливо привязывать конфеты к веткам. А Татар вышел из комнаты и захлопнул за собой дверь.
Он отправился в холл, разлегся там на диване и, глядя в потолок, погрузился в раздумье. Неужто это конец?! Придется всего лишиться: виллы, денег, легкой жизни — и бежать. Но что это за мысли? Почему конец? Ведь он же уедет с деньгами, с золотом. Если кончится война, поживет в свое удовольствие. А вдруг Ремеры начнут искать? Эх, пусть себе ищут. В крайнем случае он пропишется под чужой фамилией, только бы выбраться отсюда. Гм, Ремеры. Вот уже несколько дней его терзает неприятное чувство из-за письма. Жена Императора переслала ему записку. Она живет в Обуде, на кирпичном заводе, и просит оказать помощь, иначе ее увезут дальше. Татара нисколько не тревожили ни арест жены Императора, ни ее отправка в Германию; больше всего он был обеспокоен тем, что она все еще здесь, так близко, в Обуде. Он уже несколько месяцев считал, что после обыска в квартире Ремера эту госпожу давно увезли в Германию или Австрию или даже повесили. Если она содержится на кирпичном заводе… оттуда тоже ей не выбраться. Но тем не менее он не мог спать спокойно. А что, если она смогла достать шведский паспорт или вмешались лондонцы и она спасется, придет сюда, увидит, как он устроился в ее вилле, станет искать драгоценности, еще, чего доброго, помешает ему в последний момент… Надо будет завтра же утром распрощаться с этим проклятым местом.
— Дюри, тебя спрашивают, — заглянула к нему жена.
— Что… что ты хочешь?
— Пришла дворничиха и говорит, что тебя ищет какая-то женщина.
Татар побледнел как смерть и вскочил с дивана.
— Не пускайте ее… Никого не пускайте, я никого не знаю, какое мне до нее дело, прогоните прочь…
Жена пожала плечами и с испуганным видом вышла на кухню. Дворничиха покачала головой.
— Может, я все-таки ее пришлю, она сама лучше все объяснит.
— Нет… Если мой муж не желает, знаете, какой он?
Дворничиха повела плечами и прокричала вниз:
— Идите себе с богом.
Габи Кет и маленькая Жофи в страхе цеплялись за ограду. Женщина уже давно ушла. Она только вызвала дворничиху и тотчас же оставила детей на произвол судьбы. А что ей оставалось делать? К рассвету она должна добраться к себе домой в Кишпешт, ведь у нее дети заперты в квартире, а кругом не умолкает грохот орудий… Женщина еще раз оглянулась у перекрестка, и ей показалось, будто открылась калитка. Ведь они же пришли к знакомым. Двое таких крошек, что они ищут ночью на улице? Ох, все, что делается в мире, близко к сердцу принимать нельзя…
Двое малышей так и не поняли, что им прокричали из виллы. Некоторое время они еще плакали под оградой, голодные и сонные. Затем Жофи, громко всхлипывая, сказала:
— У меня есть тетя… тетя Жофи. Она живет возле рельсов.
— Каких рельсов?
— А где ходят поезда. Из ее окна видно, как дымит паровоз.
— Тогда это Западный вокзал, — обрадованно проговорил Габи.
— Верно. Вокзал.
— Пойдем туда.
— Пойдем.
Вниз идти было легче. Когда они спустились, уже светало. Оба так устали, что буквально засыпали на ходу, повесив головы и раскачиваясь вправо и влево, как пьяные. Жофи то и дело спотыкалась, обессиленная, садилась на камень, но Габи тащил ее все дальше и дальше. Если же Габи опирался о дерево или усаживался на кучу щебня, девочка со слезами упрашивала его не останавливаться. Тетя Жофи — родная сестра ее матери, у нее трое малышей, она даст им покушать, у детей есть игрушки, деревянная кукла и лошадка, только бы скорее добраться туда.
Двое мужчин в гражданской одежде и военных фуражках показали им дорогу к Дунаю. Если удастся выйти на Дунайскую набережную, останется только проскочить мост, а там уже недалеко и Западный вокзал.
— Так-то оно так, — ответил дядя в гражданской одежде, — но по какому мосту, глупенькие, вы пойдете, ведь моста Маргит уже нет. Да, его нет. Хотя не беда, переедете на пароме. Вы только доберитесь до моста, детки, а там уже пустяки.
Светало. Из темноты вырастали стены домов, но развалины теперь казались особенно странными и дорога — еще более бесконечной. Сколько тысяч шагов надо сделать ребенку, чтобы дойти от площади Сены до площади Палфи?!
По Дунайской набережной извивалась длинная колонна. Люди шли медленно, тяжело. Габи обрадовался: они, наверное, спешат к парому. И, напрягая все силы, дети устремились за колонной.
Колонна остановилась. Послышались крики, причитания, напоминающие протяжную, скорбную, жуткую песню. Дети оторопело попятились назад, до того страшной и грозной показалась им эта предрассветная картина. Над Дунаем полз туман, небо, вода, земля — все сливалось воедино.
Дети снова, но теперь уже осторожно стали приближаться к колонне. Но что это? Люди раздеваются на берегу реки. Что они, с ума сошли? Купаться собираются? Вооруженные винтовками нилашисты в черной форменной одежде и с повязками на рукавах — им они знакомы, приходилось видеть уже не раз — окружали толпу.
— А почему же мы стоим? — нерешительно спросила девочка.
— Пойдем.
Они подошли к колонне шагов на пятнадцать-двадцать, но тут произошло что-то непонятное. Два нилашиста оглянулись, подбежали к ним и схватили за шеи.
— Бежать вздумали? Паршивые иудеи!
— Дядя, пустите! — кричал Габи. — Дядя, я только к парому…
— Цыц!
И вот они уже в толпе среди старых дядей, тетей, среди множества детей. Вокруг них все плачут и никто не обращает на них внимания. Габи дергал какого-то молодого мужчину за пальто.
— Дядя…
Тот посмотрел на него пустыми невидящими глазами.
— Дядя…
Габи схватил за руки Жофи, и они устремились прочь из толпы, в сторону площади Палфи, но их тут же крепкими подзатыльниками возвратили назад.
— Дядя, я…
Мальчик почувствовал, как кто-то взрослый взял его за руку, повернул лицом к Дунаю, услышал крик Жофи, плач, странную песню.
И затем сразу все оборвалось.
Радик
Ач без стука ворвался в комнату Баттони.
— Янош, случилась беда.
— Что такое?
— Жилле принес изданный нилашистской партией приказ. Собирается конфисковать радий.
— Вот это новость. Откуда ты узнал?
— Меня только что вызывали в канцелярию. Все здание дирекции захватили нилашисты. Одни вооруженные сопляки… Жилле сидит у директора, он сам показывал мне приказ.
— А директор?
— Эта старая скотина? Он отдал распоряжение, чтобы я немедленно принес кассету с радием. Я попросил десять минут, сославшись на то, что сейчас как раз облучают больного, а сам скорее к тебе. Кассета у меня в портфеле.
— Тогда, Пишта, делай, как условились. Беги.
— Да. Но дело в том, что отсюда не выбраться. Жилле тоже не дурак. Поставил часовых у всех выходов.
— Попытайся спрятаться в старой котельной.
— Невозможно. Жилле знает план здания, как свои пять пальцев, и потом меня могут искать и на квартире.
— Ты все равно не пойдешь домой. Ты ведь знаешь, что тебе следует явиться к Шани.
— Да, но в квартире…
— Кажется, твоя невеста переехала?
— Она — да. Но у меня в квартире два дезертира.
— Ну, им крышка, — сказал мертвенно-бледный Баттоня. — Как ты мог допустить такую глупость, ведь каждый день надо было ждать этого.
— Теперь уже все равно… Но я не дам им погибнуть.
— Разумеется, — согласился Баттоня и тут же пожалел, что погорячился, ведь этим делу не поможешь. — Разумеется, никогда нельзя отказывать в помощи…
— Я кое-что выполнил. Уже давно мне приходила в голову мысль, что, если придется бежать… Ты помнишь маленькую ларингологическую операционную. Там где-то заделан проход, он ведет к часовне. А через часовню можно выбраться на улицу.
— Не из операционной, а из ванной, что рядом с приготовительной… Погоди-ка, я вспомнил, из ванной через окно можно проникнуть туда, где раньше кончался коридор.
Оба вздрогнули: на столе зазвонил телефон.
Баттоня поднял трубку.
— Доктор Ач?.. Да, только что был у меня… Да-да. Двое больных нуждались в радиевой обработке, но он сказал, что сегодня сеансы не состоятся. Минуту назад вышел… Да?.. Тогда, очевидно, направился к вам. Подождите минутку, он сейчас придет… Пожалуйста, я могу ему позвонить.
— Жилле не терпится, — сказал Баттоня, кладя трубку. — Тебя уже повсюду ищут.
— Как же попасть в операционную? По длинному коридору? Меня успеют сто раз схватить…
Вдруг раздался стук.
Баттоня вскочил и подбежал к двери. Ач, побледнев, отошел в угол и отвернулся.
За порогом стояла сестра Беата.
— Господин главный врач, прошу вас, идемте ради бога со мной. Выбрасывают больных из постелей, как бешеные… Весь коридор и лестница забиты нилашистами.
— Дорогая сестра Беата, скажите доктору Орлаи, чтоб она немедленно явилась ко мне. А сами пригоните, пожалуйста, сюда санитарную коляску.
Сестра Беата, не моргнув глазом, повернулась и ушла. Через несколько минут прибежала Мария Орлаи.
— Мария, прошу вас, срочно приготовьте ампулу апоморфина и шприц для внутривенного вливания. Пишта, надевай эту пижаму, прямо поверх своей одежды.
Баттоня отдавал распоряжения так спокойно, словно просил «проводить больного в электрокардиографический кабинет» или «разрешал больному встать, если завтра у него не повысится температура». В ходе всех этих приготовлений он говорил тихо, короткими фразами. Сестра Беата пригнала санитарную коляску-носилки. Иштван Ач, бледный как воск, лег на нее. Баттоня взял у Марии полтораста граммов крови и протянул полный стакан Ачу. «Выпей». Сам он отвернулся, чтобы не видеть, как Иштван Ач, зажмурив глаза, со вздрагивающим от отвращения кадыком принялся пить кровь. «Ужасно», — подумал главный врач и судорожно глотнул слюну, будто он тоже пил теплую кровь. Ужасно… но надо.
Когда он повернулся, то оказался белее самого Ача. Всю жизнь Баттоня вел мучительную борьбу с самим собой. Ему все было нипочем: и боль, и голод, и холод, и жара, и жажда. Но смотреть на страдания других он не мог. Собираясь стать врачом, он хотел спасти человечество от страданий. И вот уже два десятилетия не мог согласиться с тем, что его власть ограничена узкими рамками, что он не в силах что-либо сделать, стоя у постели умирающего, не в силах даже унять мучительную головную боль. Он закусывал губу, если приходилось делать укол больному, и несколько минут раздумывал, действительно ли необходимо произвести то или иное неприятное исследование. Ему надо было стать садовником, а не врачом. Когда в силу своей гуманности он выступил против фашистских зверств, все казалось ему ясным и простым. Он будет сражаться и, если понадобится, отдаст свою жизнь. Но борьба требовала иногда жертвовать чужой жизнью, заставляла его брать у Орлаи кровь, заставляла посылать Иштвана Ача на неизвестную опасность, может быть, даже на смерть, заставляла вовлекать во все это сестру Беату и Марию Орлаи…
Он наклонил голову и посмотрел на ручные часы. Через десять-пятнадцать минут подействует апоморфин. Десять-пятнадцать минут! Это — вечность! За это время нилашисты миллион раз могут прийти сюда.
Эден Жилле сидел в кабинете директора больницы. Директор через каждые пять минут жмурился, его очки сползали на нос. Он подхватывал их, поправлял. Прошло еще пять минут, он снова зажмурился. Эден тихо сидел на старомодном диване и, скрестив ноги, не без удовольствия наблюдал за своим начальником.
Гедеон Ванцак по милости божьей и Кароя Волфа вот уже пятнадцать лет занимал директорское кресло в больнице Святой Каталины. За это время кабинет нисколько не изменился, только кое-где потерся письменный стол и на стене вместо портрета Хорти появился портрет Салаши.
— Ну, так как же? — нагло спросил Жилле. — Сколько еще ждать?
— Вы же слышали, что я отдал распоряжение… через десять минут радий будет здесь.
— А письмо?
— Вы не можете желать всерьез…
Жилле пожал плечами и не ответил.
На носу Ванцака появилась крупная капля пота.
— Как я могу дать вам такое письмо? Ведь вы же ворвались сюда силой, сынок…
Эден выглянул в окно, давая этим понять, что его больше не интересует спор.
— И зачем вам это письмо, дорогой? Если удастся пробраться с радием в Вену, никакая собака у вас не спросит, где вы его взяли. Но если схватят русские, так те ничего не станут спрашивать, а просто повесят…
Жилле продолжал молчать. Ванцак вздохнул.
— Ну что ж, пусть будет по-вашему.
Он поплелся в соседнюю комнату и принялся диктовать секретарше письмо: «Доверяю господину доктору Эдену Жилле весь запас больничного радия…»
Эден подошел к внутреннему телефону.
— Рентгеновская лаборатория?.. Ач все еще не пришел?.. — Включите гинекологическое отделение… Нет?.. Даже не видели?.. Центральная, дайте мне кабинет Баттони… Не отвечает?.. Черт вас возьми, сколько мне еще придется ждать?.. Попрошу портье… Это вы, Ведреш?.. Позовите Калманфи… Шани, сколько вас стоит у дверей?.. Восемь?.. Будь добр, возьми двух человек и обыщи больницу… Да-да, Иштван Ач. Высокий, худой, впрочем, вам его покажет любая сестра… Приведите его ко мне. И не выпускайте ни души… Что?.. Драгоценности у больных?.. Берите, что хотите.
Ванцак вернулся с письмом. Оно было аккуратно подписано и снабжено печатью.
— Ну, старина, теперь ступайте, ищите доктора Ача. В прихожей вас ожидают конвоиры.
— Но…
— Никаких но. Я вам дам, старый разбойник. Вам бы хотелось, чтобы Ач вовсе не приносил ключей от комнаты, где хранится радий, да? Хотите спрятать от меня? Так вот, если через полчаса не отыщете своего друга, я вас расстреляю.
— Но позвольте, коллега…
— Ступайте, — ответил Эден, сверкнув глазами.
В палатах нилашисты вели облаву. Вооруженные подростки сбрасывали с коек мужчин, женщин, недавно оперированных больных, людей с воспалением легких — всех подряд. В терапевтическом отделении нилашистами руководил молодой человек с вьющимися волосами и расплющенным, как картошка, носом. Он останавливался то у одной, то у другой койки и выкрикивал: «Еврей!» Тщетно потом показывали больные свои метрики, справки о прописке. «Чую по запаху, — заявлял Мохаи. — Обыскать его вещи и пошли дальше».
Молодчики переворачивали все вверх дном в тумбочках, опрокидывали чемоданы больных, вываливали на пол недоеденное черешневое варенье… Кольца, ручные часы они забирали, а владельцев, босых, дрожащих от холода больных, отсылали в конец коридора.
В коридорах, у дверей и на лестничной площадке стояли по два вооруженных нилашиста. Они зорко следили за каждой открывающейся дверью: как бы кто не вздумал бежать. На первом этаже между терапевтическим и хирургическим отделениями тоже стояли два нилашистских наблюдателя. Одним из них был рыжий молодой человек с лошадиными зубами, по внешности которого из-за его неизменного оскала трудно было определить, когда он добр, а когда зол. Зато по виду другого, с его крысиной физиономией, сразу можно было определить, что это человек злобный.
— Нас всегда оставляют в дураках, — жаловался он рыжему. — Попадем в какой-нибудь склад: ты останься снаружи, постереги, говорят… Другие ныряют в квартиру, а ты стой на лестнице. За кого они нас принимают?
— Смотри, смотри, — сказал вместо ответа другой, с лошадиными зубами.
В конце коридора из комнаты главного врача выкатили коляску с больным.
Ее толкала пожилая сестра в очках, а рядом шла миловидная молоденькая врач. На носилках пластом лежал мужчина с закрытыми глазами. Когда они поравнялись с палатами, плечи мужчины дрогнули. Сестра остановилась и задержала коляску. Мужчина, корчась от боли, повернул в сторону голову, и из его носа и рта хлынула кровь. Белая простыня, каменный пол коридора, халат врача — все обагрилось кровью.
— Поехали дальше, — громко сказала Мария Орлаи.
Но оба нилашиста преградили им дорогу.
— Ну, что тут, куда направляетесь?
— Чего таращите глаза, лучше помогите, — прикрикнула на них Мария, — откройте дверь.
Нилашист с лошадиными зубами до того оторопел, что покорно подошел к двери и распахнул ее. Другой молча смотрел, как коляска проехала вдоль коридора и скрылась за поворотом, оставляя позади тоненькую полоску крови.
Еще качалась застекленная дверь, когда по коридору пробежал директор Ванцак в сопровождении трех нилашистов. Они направлялись к кабинету Баттони.
Но там уже царил полный порядок. Запачканные кровью иглы, стаканы были тщательно вымыты и стояли в шкафу. Баттоня сидел у стола и рассматривал рентгеновские снимки грудной полости. Он с раздражением взглянул на вошедших.
— Чего изволите?
— Где доктор Ач? — закричал еще с порога директор.
— От меня он давно ушел.
— Куда?
Баттоня пожал плечами, продолжая рассматривать рентгеновские снимки.
— Вы не должны покидать комнату, — крикнул начальник группы Калманфи.
— А мне все равно, — ответил Баттоня, занятый своим делом.
Ванцак и два нилашиста ушли, третий остался в комнате, сел на диван и зажал в коленях винтовку.
Баттоня чувствовал, как у него начинает судорожно сводить живот от нервного возбуждения, однако он не поднял глаз. Его беспокоила мысль, удалось Ачу добраться до условленного места или нет.
Калманфи проверил палаты, а потом принялся допрашивать стоящих на часах нилашистов. Не пропустили ли они кого-нибудь без проверки документов? Но те неизменно отвечали «нет».
Ванцак прямо-таки задыхался от ярости. Жилле совсем озверел. Он же приказал Ачу сходить в рентгеновское отделение и принести кассету с радием. Так почему же Жилле не сидит спокойно на одном месте, почему ему так не терпится? А Ач, куда он запропастился? Неужто вздумал проводить обход? Или, может быть, сам собирается украсть радий? Ну вот, и думай теперь. Но больше всего его мучит письмо. Если бы директор выдал радий по приказу, это было бы в порядке вещей. А с письмом только в беду попадешь. Прибудут на выручку подкрепления, «руководитель нации» вернется в Будапешт и посетит больницу. А больница Святой Каталины — без радия. Где радий? С ним бежал господин Жилле. Изволь отвечать за него. Если же, не приведи господи, немцы сдадут город… Но ведь тогда ему все равно, с радием или без радия…
— Я с вами разговариваю, слышите, вы, — окликает директора Калманфи и толкает его в бок, — пораскиньте своими глупыми мозгами, куда мог деваться этот врач?
Никогда еще Ванцак не чувствовал себя таким неспособным к мышлению, как сейчас. Он бегал за Калманфи с этажа на этаж, но доктор Ач словно сквозь землю провалился. Раз восемь они уже пробегали по коридору второго этажа, и раз десять рыжий наблюдатель с лошадиными зубами отвечал Калманфи, что он не пропустил без проверки ни одной души. Но тут в разговор вмешался нилашист с крысиной физиономией.
— Кого-то мы все же пропустили, какого-то мужчину вынесли на носилках оттуда, из той вот комнаты, — он показал на кабинет Баттони. — Куда-то за угол коридора.
— Кого?
— Говорю же, какого-то мужчину.
— Вы проверили его документы?
— Нет, он рвал кровью.
— А, рвало бы тебя денно и нощно, скотина ты эдакая. Если приказано у всех проверять документы… Куда его повезли?
— В ту сторону.
Калманфи и его люди бегом устремились по коридору вперед.
Слева в небольшом закоулке они увидели дверь. Калманфи дернул за ручку. Дверь оказалась запертой.
Нилашист с крысиной физиономией усердствовал, как только мог.
— Его занесли сюда, определенно сюда.
— Тогда открывай дверь.
Нилашист забарабанил кулаками по белой двери.
— Эй, откройте!
— У тебя, наверное, рябило в глазах, очевидно, повезли выше.
— Нет, я вполне уверен, вот следы.
На каменном полу блестели капли крови и тоненькая красная полоска — кровавый след резинового колеса.
— Пожалуйста, видно же, только сюда повезли…
— Ломай дверь.
Бледные от волнения Мария Орлаи и сестра Беата, стоя в маленькой операционной, слушали яростный стук в дверь. Иштвана Ача с ними уже не было.
Когда удалось проникнуть с носилками в операционную, Мария изнутри заперла дверь. Ач, ослабевший и бледный, встал и вымыл лицо после кровохарканья. Затем пожал женщинам руки и через окно в ванной влез в световой колодец. Когда за ним закрылось окно, он попытался ориентироваться в темном колодце; очевидно, было уже шесть часов вечера, если не больше.
В одной стене Ач обнаружил железную, покрытую ржавчиной дверь. Он попытался повернуть ручку, но его усилия оказались напрасными. Тогда он достал из кармана ключи, гвоздь и, волнуясь, попробовал открыть замок. По мнению сестры Беаты, дверь никогда не запиралась. Но почему же она не открывается? Проходили дорогие минуты. Мария и сестра Беата не оставят операционную до тех пор, пока ему не удастся бежать, сейчас они все трое попали в мышеловку.
В окне ванной иногда появлялась Мария: глаза Ача уже привыкли к темноте, и он видел силуэт врача, ощущал на себе ее тревожный взгляд. Было бы лучше всего, если бы они ушли в отделение и оставили его здесь одного…
И тут он вдруг даже не ушами, а всем существом услышал стук в дверь и крики в коридоре. Теперь уже нет времени возиться с ключом. Ач изо всех сил навалился на тяжелую дверь и потянул на себя.
Тем временем Калманфи и нилашист с крысиной физиономией с прежним ожесточением стучали в дверь операционной. Затем стук внезапно прекратился и послышалось нечто более страшное: щелкнул ключ в замке — дверь открылась.
Первым ворвался в операционную нилашист с крысиной физиономией. Ванцак скромно остался позади.
— Они везли, — указал нилашист на двух женщин.
Калманфи яростно закричал:
— Где тот мужчина, которого вы сюда везли?
Мария посмотрела на него в упор.
— Какой мужчина?
— Не тебе спрашивать, я спрашиваю, ты…
Глаза Марии сверкнули.
— Прошу не кричать на меня и не разговаривать таким тоном.
— Что-о?!
— Вот это женщина! — захохотал один из нилашистов. — Эта не побоится своей тени.
Калманфи побагровел.
— Кого вы сюда привезли?
Мария и сестра Беата молчали.
— Вы что, оглохли?
— Я уже вам раз сказала…
Калманфи подскочил и со всего размаха ударил Орлаи по лицу. Ей показалось, что у нее лопнула барабанная перепонка, однако на ее щеках не дрогнул ни один мускул. Она оперлась о стенку и молча посмотрела прямо в глаза озверевшему нилашисту; до чего же он был уродлив: толстые, похожие на лопаты руки, выступающий далеко вперед красный, как свекла, нос, вспухшая верхняя губа, густые, лохматые брови, а мигающие глаза напоминали глазки свиньи.
— Прятала своего любовника, скотина? Наверное, помогала бежать какому-то еврею! Доктору Ачу? А? Сестра, может быть, это ваш любовник? Вы обманывали своего жениха? Ведь вы же обручены с самим Иисусом Христом…
Нилашист с крысиной физиономией угодливо засмеялся после слов своего начальника; сестра Беата зажмурила глаза, но губы у нее даже не дрогнули.
— Все обыскать. Проверить, куда выходят двери, окна.
Через окно ванной комнаты два нилашиста спустились в световой колодец и, держа наготове гранаты и револьверы, принялись освещать фонарями стены.
Мария Орлаи чувствовала, как громко бьется ее сердце. Нервы напряглись до предела, слух улавливал малейший шорох. Сначала она услышала какие-то удары, крики, а потом револьверные выстрелы, один, другой, раздался сильный взрыв.
Сестра Беата все еще стояла с закрытыми глазами и бормотала «Отче наш».
Через несколько минут оба нилашиста вернулись. Они притащили с собой какого-то одноногого инвалида войны и доложили, что обнаружили проход в часовню, в которой молился этот подозрительный человек.
— Этого они везли? — спросил Калманфи у нилашиста с крысиной физиономией.
— Вроде бы он, — послышался неуверенный ответ. — Но, кажется, нет, тот был без усов и волосы светлее…
Одноногий, дрожа от страха, ждал своей участи. Ему было невмоготу стоять на одной ноге, к тому же, если не считать фальшивого отпускного билета, у него не было никаких документов.
— Кто, кроме тебя, был в часовне? — набросился на него Калманфи.
— Были еще монашки… несколько солдат…
— А кто входил в нее отсюда, со стороны больницы?
— Я не видел… я молился…
— Ну, мы еще послушаем твои молитвы! — зловеще прорычал Калманфи, который все больше сознавал, что они допустили какую-то непоправимую оплошность и Жилле их за это не похвалит. — Пошли-ка, пошли. И прихватите с собой и того типа, комната которого находится в конце коридора. Как зовут?
— Ванцак…
— Не вас. А того…
— Ой, понимаю-с, доктор Баттоня, — произнес директор.
— Вот именно, его.
— Послушайте, я больше здесь не нужен, я, видите ли, хотел бы уйти домой, к своим… — пробовал объясниться Ванцак.
— Цыц!
Главный врач, он же директор, замолчал и, повесив голову, побрел за остальными к своему кабинету. В кабинете взад и вперед расхаживал Жилле. Он готов был рвать на себе волосы.
Непонятно. Такой простой план — и не удался. Он явился с приказом к директору, вызвали Ача, потребовали немедленно принести кассету с радием. У ворот, в коридорах, у коммутатора поставили часовых — казалось, ни одна живая душа не могла отсюда уйти. Даже за двором следили, чтоб нельзя было выбраться по крыше дома. Заняли вход в котельное отделение. Собрали семьдесят евреев и сто три дезертира, и Ач все-таки сумел ускользнуть. Нет никакого сомнения, он скрылся. Если бы он находился в здании, его уже сто раз привели бы сюда. Не надо было посылать Ача за радием. Как он глупо поступил! Надо было пойти туда вместе с Ванцаком, а с этим бесполезным письмом подождать. Разумеется, теперь уже все равно.
Калманфи втолкнул в комнату всех задержанных: Яноша Баттоню, Орлан, сестру Беату и одноногого инвалида. Путаясь, он доложил о происшедшем. Из всего его рассказа Жилле понял лишь то, что Ача не нашли и вместо него привели этих четырех человек, которые, очевидно, знают, куда он исчез.
— Свяжите их, — тихим, спокойным голосом распорядился Жилле, — и этого, конечно, тоже, — показал он на Ванцака.
Калманфи подал знак своим молодцам в черной форме, и те веревками и поясными ремнями вмиг связали руки и ноги своих жертв.
— Снимите с них барахло.
Затрещала одежда. Ванцак, охнув, оттолкнул от себя локтями рябого подростка, который, хихикая, дернул его за галстук с такой силой, что чуть не удушил.
Эден сел за стол.
— Бейте до тех пор, пока не заговорят, — приказал он безразличным тоном Калманфи.
— Слушаюсь!
— Среди вас нилашисток нет?
— Есть. Они у коммутатора. Да и среди монашек…
— Позовите их сюда. Пусть они возьмут в шоры мужчин. Зажгите свет.
При свете свисающей с потолка люстры под матовым колпаком, лампы на письменном столе и двух принесенных из секретариата торшеров началось сатанинское представление. Орлаи и сестру Беату били поясами. Плеть оставляла на обнаженной груди и плечах кровавые борозды. Иногда ремень ударял по лицу; края губ, нос, лоб, покрывались кровью и потом. Женщины зажмурили глаза и молчали. Нилашисты в ярости кричали, сопровождая удары отборной бранью. Нилашистки орудовали по-иному. Они взялись за доктора Баттоню, Ванцака и одноногого — с визгом вонзали когти в лица связанных жертв, рвали им уши, носы, хватали за волосы и таскали по кабинету. Эден посматривал то на одних, то на других. Его уже не интересовало, скажут мученики что-нибудь или нет. Он не думал, когда и чем кончится истязание, свалятся жертвы замертво или их выпустят. Хотя он сидел неподвижно, но ему казалось, будто он и сам опускает плеть, впивается своими ногтями в живое мясо и ждет не дождется того момента, когда жертвы заохают, закричат, взмолятся о пощаде. Он забыл о времени, об Аче, о радии, обо всем. И вздрогнул, только когда задребезжал телефон.
— Что там?
— Это из проходной, кто-то спрашивает доктора Жилле.
«Кто-то» взял трубку из рук портье.
— Эден? Скорее спускайся. Говорит Паланкаи.
— А… ладно… иду, — ответил Эден, с трудом переводя дыхание.
— Есть радий?
Жилле на какую-то секунду задумался.
Паланкаи не возьмет его с собой, если он скажет, что не сумел достать радий. Впрочем, почему бы не взять? У него достаточно денег и золота. А впрочем, какое дело Эмилю… Важно, чтобы он его взял… Еще не хватало застрять здесь.
— Есть.
— Тогда живее, старина.
— Через две минуты буду внизу.
Жилле вскочил, оттолкнул стоявшего у дверей нилашиста и стремглав бросился вниз по лестнице, затем перебежал через усыпанный галькой двор и в мгновение ока был уже в главном здании. Со своей комнатой он простился мигом. Схватил только портфель и сунул в него коробку с драгоценностями, которую хранил до сих пор в письменном столе. На краю письменного стола стояла огромная хрустальная ваза. Второпях он задел ее рукой, ваза закачалась, свалилась на пол и, загудев, как колокол, разбилась на мелкие осколки.
«Какие грязные стены!» — это была последняя мысль, последнее удивление Эдена, когда он пробегал по коридору. Потом ухмыльнулся. А тех будут бить до утра… пусть бьют хоть до самой смерти.
«А если этот идиот захочет, чтобы я показал ему радий? Скажу, что ночью показывать нельзя, потому что он так светится, как настоящая Большая Медведица», — решил Жилле, выходя за ворота.
Но Паланкаи ничего не спрашивал. Он казался взволнованным и торопил Эдена поживее садиться в машину.
— Что ты так нервничаешь? — спросил Эден, когда они уже сидели рядом на переднем сиденье.
— Нервничаю? Русские заняли Бичке, вот что.
— Проскочим? — с тревогой в голосе спросил Эден.
— Хорошая шутка. Разве можно оставаться здесь с тремя килограммами золота, двумястами пятьюдесятью тысячами пенге и ста граммами радия?
— Что ты глупости городишь. Ста граммов радия и во всем мире нет, — раздраженно сказал Эден.
— Ну, тогда десять граммов, откуда мне знать. Сколько он стоит? Сто миллионов?
— Лучше подумай, сколько стоят наши головы.
Паланкаи, не отвечая, включил третью скорость. Неизвестно, почему на плохо освещенной дороге перед ним то и дело вставал образ Карлсдорфера.
В кольце
Ватар всю ночь не мог уснуть. Через каждые пятнадцать минут он смотрел на часы, вертелся, вздыхал.
В четыре часа утра у него уже не было сил совладать с собой. Он встал, перешел в другую комнату, сел перед рождественской елкой и постучал по веткам. Цветные серебряные шарики закачались, нити «ангельских волос» распустились, зазвенел крохотный колокольчик. От елки шел запах свеч, смолы, конфет. Гатар распахнул жалюзи, ожидая, что в комнату ворвется белоснежное зимнее солнце. Но за окном все было серым и безмолвным. Он снова сел в кресло и снова тряхнул ветки. Колокольчик несколько раз звякнул, затем со звоном свалился на пол.
К половине восьмого Татар ожидал прихода Паланкаи, но уже в шесть часов оделся и вышел в сад, затем спустился вниз по улице Реге к перекрестку, где по их уговору должна остановиться машина. Ценности он зашил в подкладку пальто, ключ от конторы звенел у него в кармане. Половина седьмого, без четверти семь, половина восьмого. Надо еще сто раз пройтись до ворот и обратно, и машина будет здесь. Девяностый круг он делает очень медленно, старается оттянуть время, вот уже без четверти восемь, но по-прежнему никого не видно. Не случилось ли какой беды с машиной? Следовало бы и ему поехать в Шомошбаню, а не пускать этого слепого щенка одного.
На землю медленно падали пушистые снежинки, Швабская гора казалась вымершей, во всех окрестных виллах окна были изнутри закрыты ставнями, а двери убежищ защищены мешками с песком.
Со стороны города доносился несмолкаемый глухой грохот, но ничего не было видно. Туман и снегопад скрывали огни пожаров.
Татар протянул ладонь. Как только упадет на нее пятидесятая снежинка, Эмиль будет здесь. На вязаные перчатки налипло не пятьдесят, а пять тысяч сверкающих, легких снежинок, но машина все не появлялась. Наверное, случилась беда, какое-нибудь большое несчастье. Еще раз отсчитать тысячу шагов, еще сто снежинок, затем пристально смотреть пять минут на стрелку часов — только бы оттянуть, отодвинуть признание страшного факта, что Паланкаи вовсе не приедет. Но ведь это невозможно, ключ у меня, и только вдвоем мы имеем право представлять фирму…
Прижавшись к ограде, он превратился в неподвижного снежного человека. Потом вдруг всплеснул руками. Бог ты мой! Да ведь мы же не здесь договорились встретиться! И он вспомнил, совершенно ясно вспомнил, что по уговору Татар должен зайти в контору, они встретятся у здания, вместе поднимутся… Ну, конечно же, на машине сейчас трудно было бы взобраться в гору. Господи, кто знает, как давно ждет его Паланкаи внизу? Что он ему скажет?
Татар сломя голову бросился вниз. Он не бежал, а несся, как ошалелый. Надо было спуститься на фуникулере… Куда там, разве он в состоянии ждать. На Итальянской аллее такси, конечно, не оказалось. У трамвайной остановки пришлось волей-неволей расхаживать взад и вперед целых пять минут. Мимо прошел молоденький солдат.
— Можете не ждать, папаша. Трамвая больше не будет.
— Как так не будет?
— А так, не будет. С сегодняшнего дня трамвай не ходит. Если хотите поехать в Пешт, то спуститесь на площадь Палфи к парому, это самый лучший способ.
Вместо того чтобы поблагодарить, Татар смачно выругался и бегом направился к площади Кальмана Тисы. Теперь уже минуты пролетали одна за другой. В половине десятого он вышел на площадь Кальмана Селла, а без пятнадцати десять добрался до парома. Паромщики только плечами пожимали, когда их спрашивали о времени отправления. На пароме теснилось уже человек двести. Со стороны Дуная дул холодный ветер, завывая в громоздящихся над водой обломках моста Маргит. Татар попытался было думать о городе, о расставании с близкими, о том, что скажут жена и мать, когда узнают о его отъезде, ему даже пришла в голову мысль, что следовало бы оставить денег хоть матери, но его все настойчивее и острее тревожил вопрос: застанет ли он Паланкаи.
Было уже далеко за полдень, когда он наконец свернул на улицу Хайош. От радости в груди запрыгало сердце: возле ворот стояла автомашина. Основательно запорошенная снегом, она, казалось, стоит здесь уже давно. Татар подбежал поближе и увидел, что это вовсе не автомашина, а остатки сгоревшего немецкого грузовика. В ужасе и растерянности Татар с трудом взбирался по лестнице в контору. Сердце давало перебои, казалось, он вот-вот задохнется.
Дверь была заперта. Рядом на стене висел приказ номер один, подписанный господином генерал-директором Паланкаи. Окоченевшими руками Татар принялся искать ключи, но в этот момент щелкнул замок, отпертый изнутри. Перед Татаром появилась тетушка Варга.
— Паланкаи здесь?
— Был здесь, — ответила женщина, в недоумении отступая назад. Татар казался ненормальным, страшным.
— Когда?
— Еще ночью.
— Вы что, с ума сошли? Какой ночью?
— Попрошу не кричать на меня, господин управляющий.
Я вовсе не собиралась сходить с ума. Он приходил сюда поздно вечером, почти в полночь. Открыл кассу и что-то взял там. Даже ковры, и те заставил меня упаковать, не говоря уже о кое-каких вещах Чаплар, забрал все и уехал. С ним приходил еще один господин, такой распухший, друг его Эден.
— Неправда!
— А зачем мне врать? — ответила тетушка Варга.
Татар оттолкнул женщину в сторону и ворвался в помещение. Касса была пуста. И никаких следов взлома.
Татар с трудом добрался до кресла Императора и сел. Он лишился способности думать, никак не мог примириться с мыслью, что Эмиль оставил его здесь. Почему он позавчера после собрания дирекции не взял больше денег? Надо было немедленно вернуться и унести деньги. Этот злодей… И Татар еще посылал на шахту распоряжение, сам звонил туда, чтобы Паланкаи выдали автомашину!
Что же теперь будет? Что будет? Войдут русские, вернутся Ремеры. Паланкаи бежал, а его застанут здесь… Вилла, драгоценности — все погибло. Его арестуют.
Нет. Надо бежать отсюда. Сесть на поезд, уехать как можно дальше. Попроситься на чужую автомашину. Он заплатит, отдаст все… Надо бежать…
Татар вскочил и, не прощаясь, ничего не объясняя, помчался из конторы к ближайшему, Западному вокзалу. На Берлинской площади почти не было гражданских пешеходов. На вокзале не стояло ни одного паровоза. Расхаживали одни только хмурые, сердитые солдаты. У внешнего пакгауза он нашел какого-то железнодорожника. Достал портсигар и угостил его сигаретой.
— Скажите, ради бога, когда отправляется поезд на Дьер, Шопрон, Сомбатхей или куда угодно.
Железнодорожник спрятал сигарету в карман и, чуть скрывая злорадную улыбку, спросил:
— Вы что, господин, с ума спятили? Разве не знаете, что сообщение прервано?
— Что?
— Конец. Поездов больше нет. Русские окружили Будапешт.
— И не… нельзя пробраться?
— Конечно, нельзя.
— С какого времени?
— С рассвета.
— Что же с нами будет?
Железнодорожник с серьезным видом пожал плечами.
— У кого какая судьба, то с ним и будет.
— Вы уверены, что нельзя пробраться?
— Уверен, как в том, что дважды два четыре. Отсюда уже ничего не увезти! Даже булавку.
Татара бросило в озноб. Сначала задрожали края губ, потом онемели руки, ноги, застучали зубы, а затем по всему телу пробежали конвульсии, будто в пляске святого Витта.
— Не может быть, не может быть… — бормотал он, как сумасшедший, направляясь обратно к парому. У Вишеградской улицы Татар громко закричал:
— Они не проскочат! Если есть бог на небе, они не проскочат! Даже булавку… даст бог, и они не улизнут, никто… Миру пришел конец.
Мы — законное государство
Доктор Амбруш Сентмарьяи стоял на террасе и смотрел в сад. Ржаво-красные виноградные листья раскачивались на ветру, забытая лиловая гроздь болталась на перекладине беседки. Моросил мелкий дождь, обмывая красную скамейку, голый орех, бурые и черные кочки на обледенелой земле; пролетали мокрые хлопья снега. Возле плюща среди утративших листья подруг стояла одинокая, чахлая хризантема и мужественно боролась со смертью. Сентмарьяи горько вздохнул.
— Пассивное сопротивление. Что ж, пусть будет пассивное сопротивление. Твоя тетушка Ида не дает мне покоя, все уговаривает укрыться в доме, находящемся под защитой шведского посольства. Скажи, что у меня общего со шведами? Я только и знаю, что у них столица Стокгольм и говорят они на какой-то смеси немецкого и английского языков. Чем для меня законы Густава Адольфа лучше наших собственных?
Тибор Кеменеш собрался было ответить, но старик схватил его за плечо.
— Ты только послушай, сынок, как обстоит дело с юридической точки зрения. Я кавалер серебряной и золотой медалей за храбрость… во время наступления контрреволюции я заслужил признания и был удостоен значка «Сигнум Лаудиус». Я был членом верховного суда и, помимо особых привилегий, получил право неприкосновенности жилища. Ну так вот, правительство Салаши упразднило неприкосновенность личности, но не аннулировало неприкосновенность жилища. Итак, в чем же заключается юридическая сторона положения? А в том, что, как только я выйду за порог своей квартиры, ее неприкосновенность сразу же теряет для меня силу, то есть я еврей, обязан носить желтую звезду и считаться со всеми ограничениями… Но, пока я не покидаю своего дома, меня оберегает его неприкосновенность на основании распоряжения Хорти за номером четыреста семьдесят пять дробь тысяча девятьсот сорок четыре. Дорогой сынок, Венгрия — это государство законов, и я верю в наш конституционный строй. Венгерскую конституцию уже не раз пытались растоптать, но юридические устои венгерского народа всегда побеждали. Сам Ференц Салаши — и тот вынужден был присягнуть конституции и присвоить себе титул «вождя нации», то есть заявить о своей готовности осуществлять власть в духе законов и конституции.
— А я все-таки посоветовал бы вам… — начал Тибор, но, раззадоренный своими собственными словами, Амбруш перебил его:
— История других народов полна убийств. Возьми, например, английских королей, или бесконечную грызню тори и вигов, или в Италии гвельфов и гибеллинов, погляди на династии Бурбонов и Валуа, вспомни Варфоломеевскую ночь или французскую революцию… У нас же дворянство не пожелало проливать кровь Эндре Второго и издало Золотую Буллу[33]. А как произошла наша величайшая революция? Какой-то поэт вышел на ступеньки Национального музея и обратился к толпе, которая слушала его, стоя под зонтиками.
— А Пакоздская битва? А Ишасег? Комаром? Шегешвар? Арад?
— Это случилось не по воле венгров, а по вине австрийского императора и русского царя… Голос Венгрии прозвучал в «Пасхальной статье» Ференца Деака… Да, дорогой сынок, нам чуждо насилие… Закон и порядок, закон и порядок — вот что правит миром. Я не сделаю отсюда и шагу. Твоей тетушке Иде мерещатся ужасы, она опасается, что дворничиха донесет на нас. Дворничиха — темная старуха, она вряд ли закончила три класса начальной школы. Ну что ж, пускай доносит. От этого мне ничего худого не будет. Закон, дорогой сынок, — прочная основа всей жизни… Пошли, хватит политики, поедим чего-нибудь.
Тибор хотел было возразить, но затем пожал плечами и последовал за стариком в столовую.
Тетушка Ида накрыла стол на троих. Алтвинский фарфор, белоснежная камчатая скатерть, тяжелые серебряные приборы с монограммами и тут же блюдо с фасолью. Сентмарьяи принялся медленно работать вилкой.
— Дорогая, не найдется ли у нас немного хлебца?
— К сожалению, нет ни кусочка.
— Ну и не надо. Рагу и без того получилось отменное. Ты, дорогая, непревзойденная кулинарка.
За обедом пили из граненых хрустальных стаканов колодезную воду, и притом маленькими глотками, так как ее приходилось носить ведрами из четвертого дома, а поскольку Сентмарьяи не могли выходить из квартиры, они покупали питьевую воду за бешеные деньги у своих соседей.
После обеда Сентмарьяи поцеловал жене руку. Тибор тоже поблагодарил за царское угощение и в благодарность за обед сбегал в соседний дом за водой, затем попросил у дяди Амбруша разрешения кое-что отпечатать на машинке.
— Изволь, проходи ко мне в кабинет.
На допотопной машинке работа продвигалась ужасно медленно. Надо было заполнить три бланка: один на имя Лайоша Кре чмара, другой — Антала Перге, третий — Белы Каша. Тибор почти отпечатал удостоверение на имя Лайоша Кречмара, когда во дворе послышался громкий крик.
— Всем, всем сойти вниз, — горланила дворничиха, до смешного толстая женщина лет сорока. Очевидно, она растолстела совсем недавно. Платье так плотно облегало ее фигуру, как будто она только вчера была подростком и вдруг выросла, да и юбка сантиметров на десять была выше, чем подобает носить женщине. — Срочно сходите вниз! Все до одного!
Тибор в ужасе оглянулся вокруг. Идти или нет? Если его поймают здесь, то беды не миновать. А что делать с почти готовым удостоверением?
В этот момент в комнату заглянул Сентмарьяи.
— Сынок, зачем-то зовут вниз. Пойдем с нами…
— Идите, я сейчас приду, — и он засунул бумаги с нилашистскими печатями под пишущую машинку.
Жильцы толпились в саду. Тут было лишь несколько перепуганных мужчин и женщин, пытавшихся утихомирить своих детей. У входа в квартиру дворника и около обросшей диким виноградом стены стояли два жандарма и два вооруженных нилашиста в гражданской одежде.
— Мужчинам предъявить свои военные билеты…
«Эх, пан или пропал», — решил Тибор и подошел к одному из нилашистов.
— Не откажите в любезности просмотреть мои документы вне очереди, я спешу на работу, — и он ткнул свое удостоверение нилашисту под самый нос. Тот прочел: «Завод взрывчатых веществ. Поселок Вацской дороги, Лайош Кречмар, 1919 год рождения».
— Можете идти, — сказал нилашист.
Тибор Кеменеш, стараясь ступать как можно спокойнее, направился к выходу, но тут его окликнул один из жандармов.
— Эй, вы, подойдите сюда, покажите-ка свое удостоверение…
«Ну, влип», — подумал Тибор и побледнел.
— Так вы, стало быть, живете не здесь, милейший? А что вы делали в этом доме?
«Удостоверения остались под пишущей машинкой», — похолодел Тибор. Он наклонился к жандарму и проговорил:
— Разве о любовных делах вы говорите вслух?
— Ну, это мы увидим потом. Становитесь вон туда, к стенке.
Посреди голой клумбы возвышалась крохотная гипсовая статуэтка ангела, который мертвыми глазами с безразличием взирал, как нилашисты и жандармы приказывали двум тридцатилетним мужчинам и супругам Сентмарьяи стать рядом с Тибором.
— Остальные ступайте прочь, — приказали они жильцам, — а вы, пятеро голубков, пойдете с нами.
Жандармы и нилашисты, разбившись парами, окружили маленькую группу и погнали ее со двора. Сентмарьяи шел впереди, что-то громко объясняя и возмущаясь, а его жена Ида, рыдая, семенила следом за ним. Потом шагали двое хмурых мужчин, у которых давным-давно были просрочены фальшивые к тому же отпускные билеты… Тибору Кеменешу казалось, будто все это происходит не с ним, а просто он видит, как по улице, окруженные злыми конвоирами, гуськом идут пять человек, втянув головы в плечи — на дворе моросил холодный дождь и стоял сырой туман.
С улицы Байза, застроенной виллами, они вскоре свернули на проспект Андраши и направились к грозному зданию «Дома Верности».
У ворот на улице Ченгери шедший впереди нилашист остановился.
Во дворе стояли белый кухонный стол и два коричневых стула. На одном из них сидел вдрызг пьяный мужчина в нилашистской форме. Отвалившись на спинку, он, казалось, скалил свои металлические зубы. На его рыхлом, жирном лице блестели капельки пота, глаза пристально смотрели на отдающего ему честь конвоира.
— Кого привели? Евреев?
Сентмарьяи вышел из строя, достал из бумажника кипу документов и положил их на кухонный стол перед нилашистом.
— Простите, пожалуйста, я доктор Амбруш Сентмарьяи, судья-пенсионер, профессор университета. Согласно распоряжению четыреста семьдесят пять дробь тысяча девятьсот сорок четыре, как кавалер серебряной и золотой медалей за храбрость…
Нилашист облокотился на кухонный стол и мутными глазами посмотрел на старика.
— …Несмотря на то, что датированное двадцать четвертого октября…
— Ты еврей или нет?
— Послушайте, именно этот юридический вопрос, осмелюсь…
— А ну-ка, стащите с него штаны.
Мертвенно-бледный от ужаса, Сентмарьяи завертел головой. Пьяный громко заржал, слюна потекла по его черному френчу. Полевые жандармы выступили вперед и схватили размахивавшего кулаками и не прекращавшего цитировать параграфы старика. Госпожа Сентмарьяи неистово взвизгнула и упала в подворотне. Стоявший позади нилашист пробрался вперед, чтобы тоже позабавиться.
Все это произошло в какой-то миг, а может быть, и того меньше.
Тибор Кеменеш вскинул вверх руки и, громко воскликнув: «Китарташ[34], да здравствует Салаши», — повернулся на каблуках. Сделал спокойно на подкашивающихся ногах десяток шагов затем быстро пересек проспект Андраши, свернул в переулок и помчался со всех ног. Вслед ему прогремели выстрелы. Один, два, четыре, восемь… По ком стреляли, по нему или по тем несчастным?.. Промокший, дрожащий от усталости Тибор вышел на улицу Роттенбиллер. Отсюда еще довольно далеко до улицы Пала Дюлаи. Тяжело переводя дыхание, он сел на груду камней. Мины, снаряды сотрясали землю. Бой шел, по всей видимости, еще не так близко — в каких-нибудь шести километрах! — но и здесь происходили невероятные вещи. Хотя в дом и не попал снаряд, с четвертого этажа, описывая огромное сальто, полетела на мостовую оконная рама вместе с занавесками, а через пару минут за ней последовала какая-то картина.
«Ну, пошли, пошли», — подбадривал себя Тибор и с трудом поднялся.
С рождества они перестали бывать на улице Ваш.
В сочельник праздничный ужин тетушки Андраш — двойная порция каши с вареньем — уже совсем остыл, когда домой заявился Пишта Ач. Он не стал много объяснять: «Собирайте, братцы, вещи, переедем. Мамаша Андраш переберется вместе с жильцами в подвал. Если меня будут разыскивать, она скажет, что не знает, куда я девался, два дня назад получил призывную повестку, ушел из дому и с тех пор не показывался».
Тетушка Андраш не осмеливалась даже слова вымолвить, только, ломая руки, ходила взад и вперед по комнате. Но на прощанье все же спросила:
— Когда же я тебя увижу, сынок?
— Не позднее чем через час после прихода Красной Армии. — ответил Ач и обнял свою будущую тещу.
Тибор и Тамаш не спрашивали, куда он их ведет. Ач устроил их на улице Дюлаи, в комнате на первом этаже. На кровати лежали подушки, одеяла. На шкафу стояло несколько банок с томатом и айвовым вареньем. В ящике валялись мужские носки, обломок карандаша. Кто же тут жил? Ач ничего не сказал. Лишь после того, как они разложили свои скудные пожитки, привели в порядок затемнение на окнах и, налив в жестянку прогорклого растительного масла, соорудили нечто вроде коптилки, он произнес торжественную речь:
— Ребята, это наше новое царство. Знаю, Томи, что тебе не терпится уйти, но до дальнейших, распоряжений придется посидеть здесь. Ходить разрешается только в крайнем случае. Впрочем, все мы трое — рабочие завода взрывчатых веществ в Вацском поселке. Вот вам удостоверения военного завода. Каждую неделю, Тибор, ты будешь продлевать их, ставя печать, которую сам же изготовишь. Если нарисуешь даже нилашистский крест, то маслом кашу не испортишь. Кстати, в квартире мы проживаем на законном основании, по полицейской прописке, кто не верит, пусть посмотрит. Тибор, с сегодняшнего дня ты господин Лайош Кречмар.
Кеменеш взял свою трудовую книжку, удостоверение военного завода и прописной листок.
— Но ведь здесь не Лайош, а Луйза.
— Хм, дело серьезное, — качая головой, произнес Ач. — Значит, тебе придется волей-неволей достать свои рисовальные принадлежности и заняться исправлением.
Тамаш тоже посмотрел удостоверение и прописной листок Антала Перге.
— Слушай, Пишта, на моем значится вместо Антала какая-то Анна.
— А вы не догадываетесь почему? Потому что в отличие от мужчин женщинам не требуется выписка из предыдущей квартиры. Итак, получив обратно бланки с пропиской трех девушек, нам остается только исправить имена. В полиции взяты на учет три невоеннообязанные девушки, а на наших прописных листах поставлены три настоящие круглые печати. Понятно?
Тибор за несколько минут сделал из Луйзы Лайоша, Анну превратил в Антала, а Беллу возвел в Белу. Затем они втроем отыскали дворника и начальника ПВО. Рассказали им, будто жили в Шорокшаре, но туда пришли русские и они прибыли сюда, чтобы и впредь служить тотальной войне, пока не прибудут войска, способные спасти положение. Начальник ПВО подозрительно разглядывал их прописные листки. Через минуту он исчез в своей комнате, а затем возвратился и сравнил свою прописку с пропиской новых жильцов. Печать была точь-в-точь такая же, даже на ножке буквы «Р» виднелось пятнышко. Очевидно, честные парни, хотя и глупые. Если бы он, начальник ПВО, жил в Шорокшаре и туда пришли русские, он ни за что не стал бы рваться в осажденный город, чтобы работать на заводе взрывчатых веществ и взлететь вместе с ним на воздух. Ну что ж, дело вкуса.
Таким образом, одноэтажный старый дом на улице Пала Дюлаи в официальном порядке принял их в свое лоно. Теперь оставалось только следить за тем, чтобы утром в половине шестого как можно заметнее выйти из дому, а потом по возможности незаметно вернуться назад. К сожалению, это оказалось нелегким делом. В доме было восемнадцать квартир с восемнадцатью кухонными дверями, выходившими в общий коридор, а за каждой кухонной дверью проживала любопытная женщина.
— Вы уже вернулись, господин Кречмар?
— А что же производят на вашем заводе?
— Почему вы не ходите во время воздушной тревоги в убежище?
— Удивительно, господин Каша, у вашего коллеги, господина Кречмара, совсем интеллигентное лицо, его скорее можно принять за адвоката…
Начальник ПВО ежедневно заходил к ним после обеда, требовал воинские документы, интересовался их военной специальностью. В конце концов Ачу надоело.
— Ребята, это к добру не приведет. С завтрашнего дня мы переходим в вечернюю смену. С утра будем спать, а в час дня уйдем из дому.
Так действительно было легче. Днем пытались доставать продукты. Тамаш проявил себя самым ловким. Однажды он принес два килограмма постного сахара. На улице Сенткираи толпа напала на склад магазина Штюмера. Тамаш тоже проник внутрь и узнал, что ночью немцы «обезопасили» шоколадный отдел. В результате их тщательной работы бесследно исчезли целые мешки какао, ящики с сахаром. Но на полу и на полках валялось огромное богатство. Озверевшие от длительного голодания женщины набивали карманы кексом и карамелью. Какой-то мужчина собирал в шляпу ликерное драже. Тамаш подхватил жестяную коробку и только дома решил проверить, что же он принес. Оказался постный сахар. Тибор обычно не вставал с постели. Он читал, слушал радио или предавался размышлениям. Ел принесенный Тамашем сахар, конину, пудинговую муку и клецки «Магги». Выполнял введенные Иштваном Ачем меры предосторожности, а потом укрывался с головой и спал.
Ач тоже редко покидал комнату. Если случалось уходить, то всегда брал с собой портфель. Как правило, он добирался только до проспекта Ракоци и знакомился там с новыми плакатами, объявлениями, приказами. Так, он узнал однажды, что военные документы уже недействительны и надлежит заполнить новые бланки. Неизвестно каким образом, но на следующий день он достал бланки. Их оставалось только заполнить, причем на пишущей машинке. А это оказалось не менее трудной проблемой, чем, скажем, добраться на мотоцикле до Млечного пути и обратно. Но Ач был крайне изумлен и обрадован, когда Тибор тотчас же потребовал поручить это дело ему: он знает одного человека, который имеет пишущую машинку и разрешит ею воспользоваться.
— А он не полюбопытствует, что ты собираешься на ней печатать?
Тибор засмеялся.
— Это самый кроткий и самый деликатный человек на свете. Ему и в голову не придет, чтобы кто-то поставил вместо своей чужую подпись, пусть даже под требованием на тряпку.
Тибор свернул на улицу Пала Дюлаи и только тогда подумал, с каким нетерпением ожидают его, наверное, Тамаш и Пишта. И тут же с отчаянием вспомнил, что документы остались у Сентмарьяи под пишущей машинкой.
Тамаш Перц и Ач действительно набросились на него, как только он переступил порог.
— Есть?
— Нет. Погодите, сейчас все расскажу, дайте только сесть.
Ач с волнением выслушал его рассказ.
Но кто сходит в квартиру Сентмарьяи за удостоверениями? Тибору не в коем случае нельзя появляться здесь. И вообще глупо посылать сейчас за ними мужчину.
Была еще девушка, которая могла согласиться на это дело, и это — Кати.
После недолгого раздумья Ач решил сходить к ней. Но неужто ему опять придется тащить с собой через весь город кассету с радием?
— Ребята, послушайте, портфель я оставляю здесь. Если до утра не вернусь, портфель следует зарыть под шкафом, под неприбитой половицей, а письмо, которое найдете в кармане моего пальто, пошлите по адресу.
— А почему ты можешь не вернуться? — оторопело спросил Тамаш.
— Я говорю это на всякий случай. Человеку положено делать завещание, если он отправляется в такую опасную дорогу: с улицы Пала Дюлаи на улицу Шандора Петефи. Будьте друзьями, обещайте мне это, а я, если найду на обратном пути убитую лошадь, притащу вам сердце на рагу.
Он улыбнулся им с порога, но, как только нырнул в сумерки улицы, улыбка тут же исчезла с его лица. Пожалуй, следовало бы прихватить с собой кассету. Но вдруг его ранят? Или схватят? Нет, он поступил правильно, что оставил кассету дома.
Черт его знает, что сейчас правильно, а что неправильно. Видно, никогда не кончится эта война.
Смысл жизни
Кати Андраш видела своего жениха перед рождественскими праздниками и с тех пор не получала от него никаких известий. А между тем она его ждала, очень ждала. Хотя бы на минутку забежал к ней. и если ничего не принесет, то пусть вместо рождественского подарка скажет ей несколько ободряющих слов. Ач не пришел и на Новый год, не явился, чтоб пожелать ей счастья в новом году. Не случилась ли с ним какая беда? Может, угнали куда-нибудь на запад? Пишта не такой парень. Он убежит даже Из запломбированного вагона, спрыгнет с мчащегося скорого поезда и вернется к ней. А что, если он ранен? Или… о, боже упаси, даже думать об этом страшно!
А ей так много хотелось бы сказать Пиште! Ходят всякие слухи. В убежище болтают, будто немцы заминировали мосты. Все до единого: и красивый кружевной мост Эржебет, и напоминающий изящную арку гордый Цепной мост, и мост Ференца Йожефа у горы Геллерт, — все наши уникальные сокровища. Рассказывают также, будто все подвалы загрузят боеприпасами и на каждой крыше поставят зенитное орудие. И, прежде чем убраться восвояси, обольют бензином и подожгут все дома. Но этому трудно поверить — где им взять столько бензина? Поговаривают и о том, будто каждое утро на Дунайскую набережную сгоняют евреев и дезертиров, выстраивают в шеренги, ставят лицом к воде и расстреливают всех подряд. В ночь под Новый год прошел слух, будто русские присылали своих парламентеров. Обещали якобы войскам беспрепятственный уход из города, перемирие, щадить мирное население, но немцы вместо того, чтобы на коленях благодарить, зверски убили парламентеров. Об этом рассказывал в убежище один учитель-пенсионер, и поскольку он некогда преподавал историю, то тут же припомнил о военных обычаях и о том, что даже готтентоты и полинезийские дикари не убивали парламентеров — никто, кроме нацистов. Но за это они еще поплатятся. Тяжелая артиллерия за одни сутки уничтожит город, да так, что от него и следа не останется, А мы и слова сказать не можем. Там, где убивают парламентеров, ни о каком международном праве не может быть и речи.
С тех пор прошло немало времени, и дома все еще не разрушены русской тяжелой артиллерией, но Кати и Агнеш очень тревожит этот слух. Ведь не так трудно поверить, что нацисты способны убить парламентеров. Правда, Кати убеждена, что даже и в таком случае русские не станут мстить городу. Агнеш спорит с ней: а почему бы им не мстить? Если нилашистам наплевать на Будапешт, почему же они должны щадить его?
Ох, почему же не приходит Пишта, почему не объяснит ей, где правда, а где ложь. Да и здесь, в шляпном ателье, столько перемен! В ночь под рождество исчезла госпожа Галфаи. Когда она уехала, никто не видел. Она увезла с собой и платья свои и ящик с деньгами и драгоценностями, оставила только неготовые шляпы, гладильные доски, тяжелые утюги, старые швейные машины и напуганных девушек. Барышня Амалия сообщила эту весть со злорадной усмешкой. Госпожа Галфаи уехала на запад, военное предприятие больше не существует, все увольняются и могут уходить по домам. И, поскольку девушки ни в тот день, ни на следующий не проявляли никакого желания уезжать, она решила уведомить об этом начальника ПВО.
В момент ее прихода начальник стирал белье в старом, облупившемся тазу.
— Вам следовало бы жениться, — сказала почтенная Амалия и лукаво улыбнулась. — Стирка дело не мужское.
— Верно. Что вам угодно? — спросил он с натянутой вежливостью.
Барышня Амалия уселась на стул. Начальник, насупив брови, наблюдал, как мнутся повешенные на спинку стула брюки.
— Дорогой господин начальник, мне очень неприятно, но долг патриотки обязывает… — и Амалия, прижав руки к груди, громко вздохнула. Но начальник ПВО, не поднимая головы, продолжал усердно отжимать свои тряпки. — Может быть, не все они еврейки, но по крайней мере половина… Лучше бы вы потребовали у них документы прежде, чем облава… я… это мой долг…
— Ладно. Сегодня же освободите мастерскую, перебирайтесь в общее убежище. А об остальном не беспокойтесь.
В тот же день начальник ПВО навестил Кати Андраш. Их беседа продолжалась примерно полчаса. Когда начальник ушел, Кати объявила в мастерской осадное положение. Был избран штаб из трех человек. Того, кто не подчинялся распоряжениям штаба, немедленно удаляли из мастерской. Военное предприятие и впредь будет существовать, только немного сбавит темп работы. Подвальный коридор возле дровяных складов забаррикадируют. У кого документы не в порядке, переберется туда и будет сидеть там безвылазно до тех пор, пока не кончится война. Несколько человек, чье положение не столь опасно, будут добывать продовольствие, ходить за водой и предупреждать остальных, если нагрянет облава…
Вальдемар Цинеге, он же служащий кафе «Фрателли Дейсингер» Ференц Барта, в мае месяце скрылся от мобилизации. Почему это он перекрестил себя в Вальдемара Цинеге? Так просто. Понравились ему эта фамилия и имя человека, пострадавшего от бомбежки, и он присвоил их, сделал себе фальшивые документы. Цинеге перебрался в дом на улице Шандора Петефи и, не дожидаясь назначения, самолично нацепил на рукав повязку начальника ПВО. Поскольку никто не возражал и не претендовал на эту должность, полную треволнений и беготни, и поскольку он мудро и справедливо улаживал споры жильцов, все уверовали в законность его полномочий. Он давно уже подозревал, что в шляпном салоне, именуемом военным предприятием, что-то не в порядке, но вовсе не думал докапываться до существа дела. А сейчас, во время разговора с Кати, ему пришла на ум блестящая идея.
— Барышня Андраш, я не стану проверять, у кого законные документы военного предприятия, у кого нет… У меня только будет к вам одна просьба. Примите нескольких рабочих, которых я сам предложу.
Кати раскрыла рот от изумления.
— С превеликой радостью, но ведь питание… удостоверения…
Вальдемар Цинеге, он же Ференц Барта, засмеялся.
— Давайте не будем играть в прятки. Вы хотите спасти кучу евреев и политических, а я хочу спасти восемь своих товарищей по армии. Вы спрячете и их, а я по возможности буду доставать фасоль, картошку и все передавать вам. Им не нужно ничего, даже удостоверений военного предприятия. Вы только забаррикадируйте семь-восемь отсеков дровяного склада и спрячьте там людей на эти несколько дней…
После этого мастерская заметно уменьшилась; здесь с трудом удалось разместить швейные машины, гладильные доски, две болванки и четыре постели. Во внутренней, скрытой части помещения восемь дезертиров и тридцать беженцев с нетерпением ждали конца этих «нескольких дней».
Так прошло рождество, прошел сочельник, наступил Новый год. а война все еще бушевала где-то тут, рядом, между домами.
Бомбардировки, голод, жажда, нилашистские облавы, немецкие приказы о строительстве укреплений из щебня, дверей, опрокинутых трамваев, магазинных жалюзи, тушение пожаров и спасение жизней… Каждая минута была полна ужасов, и все же создавалось впечатление невероятного однообразия. И дни и ночи казались бесконечными.
После Нового года по совету начальника ПВО пять работниц, которых жильцы дома знали и раньше и к чьим удостоверениям ни при какой облаве нельзя было придраться, перебрались в общее убежище. Двое остались сторожить в мастерской — на всякий случай.
Документы Агнеш тоже были более чем сомнительны. «Беженцев» из Секейудвархея скрывалось в Будапеште столько, что, по скромным подсчетам, в небольшом трансильванском городишке должно было бы проживать не пятнадцать тысяч, а пятьсот пятнадцать тысяч человек. Военное удостоверение шляпного салона было действительно только до пятого декабря. Но Агнеш не хотела перебираться в забаррикадированную часть подвала, ни за что на свете не хотела больше прятаться. Все ужасы недавнего одиночества и бессилия еще продолжали жить в ее сознании. Она не соглашалась проводить в заточении ни одного дня, ни одного часа.
— Да ведь мы и так живем в заточении… Из подвала все равно нельзя выходить, — уговаривала ее Кати.
— Пойми… здесь по крайней мере я могу ходить, передвигаться, а там совсем как было на складе.
«Ты ставишь под угрозу не только себя», — хотела сказать Кати; она была главной в избранной тройке, но у нее не хватило мужества приказать Агнеш. Она посоветовала подруге не спускаться в общее убежище, а остаться в мастерской в качестве охраны.
В тот день, когда Ач пришел в мастерскую, Агнеш сидела на закроечном столе в компании двух девушек и с самого утра спорила с ними о том, к чему больше подходит шпинат — к котлетам или глазунье. Видя, что им не договориться, девушки перешли к пирогам с маком. Эти пироги ежедневно входили в программу диспутов. Что лучше — лапша с маком, картофельное пюре с маком, клецки с маком, пироги с маком или маковая слойка? Ач еще в коридоре услышал спор и вместо приветствия, входя в мастерскую, сказал:
— Варите клецки, пеките слойку, и я готов решить ваш спор…
Девушки засмеялись. Они и сами вместо того, чтобы болтать, охотнее бы поели, но что поделаешь…
— Прекратите, а то мне станет дурно, — крикнула одна из девушек, — слюны полон рот… — Она на самом деле до того побледнела, что девушкам пришлось принести ей воды и они пообещали больше о пище сегодня не говорить.
Кати от радости побледнела, когда услышала от прибежавшей за ней Гизи Керн, что пришел Пишта Ач. Широко раскинув руки, она сломя голову помчалась ему навстречу.
«Как она похудела, — ужаснулся Ач, увидев ее издали. — От голода и от тревоги, — и, глядя в плачущие и в то же время смеющиеся, сверкающие глаза Кати, он смутился. — Как бы там ни было, я должен был прийти к ней после рождества».
— Катика!
— Пишта!
— Ну, не плачь, уже недолго осталось… вот увидишь.
— Но доживем ли мы?
— Разве такое можно спрашивать?
Ач пришел к Кати всего на несколько минут — попросить ее сходить на квартиру к Сентмарьяи, но о себе ничего говорить не собирался. Кати не должна знать, что он тоже скрывается, что больше не может вернуться в больницу, что он носит с собой кассету с радием. Кати ничего и не спрашивала, только с трепетом смотрела на Пишту, который рассказывал про маму, что она чувствует себя хорошо, что на фронтах положение весьма утешительное, что в Зугло уже вошли части Красной Армии, что Чепель освобожден, что Швабская гора тоже освобождена и теперь осталось ждать несколько часов, всего лишь несколько часов… А о том, как идут его дела, что творится в больнице, чем он занимается, получил ли броню — обо всем этом он помалкивал.
Кати хотелось попросить, чтоб Пишта остался с ней, но вместо этого она спросила, слышал ли он о советских парламентерах.
— Неужто правда, что немцы убили их?
— Правда.
— Но ведь тогда… тогда русские… тогда нас уже не защитит международное право… здесь не останется камня на камне!
— Русское командование не позволит, — прошептал Пишта, нагнувшись к самому уху Кати. — Пришла телеграмма войскам… город пощадят.
«Откуда ты знаешь?» — выразилось в недоуменном взгляде Кати, которая не сводила глаз со своего жениха.
Глаза Ача, его спокойная улыбка наполняют и ее сердце доброй надеждой. Да разве их может постигнуть беда, когда они так любят друг друга и так молоды?.. Идет весна, они будут свободны, в мае поженятся.
Ач молча смотрел на раскрасневшееся лицо Кати. Ему хотелось прижать ее к себе, защитить, приласкать и никогда больше не расставаться с ней. Но что поделаешь, хочешь или не хочешь, а надо сказать, зачем пришел.
Кати знала дом, где жили Сентмарьяи. Она не раз носила шляпы в соседнюю квартиру. Теперь она внимательно слушала, как надо проникнуть в ту комнату и что следует напечатать на почти пустых бланках.
Ач объяснял с нарастающим беспокойством. Каким простым казался ему план, пока он шел сюда. Но сейчас, когда приходится посылать Кати на это опасное дело, его охватывал страх. Ему самому страх был почти неведом. Он не боялся бомбежек, не испытывал страха даже тогда, когда пробирался в часовню, когда надо было перекочевывать с Тамашем и Тибором в другое жилище. Но сейчас беспокойство парализовало его. Он зримо представлял себе все опасности и ужасы, которые грозили Кати. Непрерывные бомбежки, разлетающиеся во все стороны осколки, воздушные волны, сотрясающие дома, пулеметные очереди из самолетов, летящих на бреющем полете, проверки документов, пьяные немецкие солдаты и нилашисты… А там, в квартире, если ее застанут на месте преступления… «Не пущу, не могу ее пустить…»
— Пишта, я не умею печатать на машинке.
Ач в первый момент таращил на нее глаза. Затем им овладела бурная радость. Ну, раз она не умеет печатать, значит, и не пойдет. Бланки надо заполнить тщательно…
— Но я возьму с собой Агнеш. Она умеет. К тому же вдвоем не так опасно…
Вдвоем не так опасно? Наоборот, одному человеку гораздо легче незаметно проникнуть наверх, чем двоим… но что поделаешь, раз это единственный выход.
Кати повесила на руку картонку со шляпами и вместе с Агнеш отправилась в путь. Ач сел на стул возле одной из швейных машин, придвинул к себе помятый фетровый колпак и принялся царапать его ногтем. Сейчас они вышли во двор… осматриваются, ждут, не летит ли самолет… Ой, задержались бы еще немного… Теперь они осторожно направляются к воротам, выходят на улицу Варошхаза, пересекают двор Ратуши… Господи, как бомбят… только бы они не прижимались к стенам, еще, чего доброго, поранят себя осколками стекла…
Он пытается думать о чем-нибудь ином, от напряжения у него начинает болеть голова.
Ему кажется, что он с незапамятных времен сидит в подвале. Из-под ногтей уже течет кровь, а он все еще продолжает царапать фетровый колпак; ноги онемели, но он не осмеливается пошевельнуть ими, встать — словно этим он ввергнет Кати в опасность, накличет подстерегающую ее смерть. Пожалуй, им пора бы уже вернуться. Нет, еще рано, ведь они должны отпечатать удостоверения… Машинка стучит… Эх… не надо было их пускать, лучше бы он сам сходил туда или по крайней мере пошел за ними следом, был бы рядом, оберегал бы от смертоносной пули… Господи, разве не ужасно, что не в наших силах оградить от опасностей того, кого мы больше всех любим?
А между тем девушки не задерживались ни на минуту. Прижавшись друг к другу и не озираясь по сторонам, они торопливо проходили по переулкам. Преисполненные сознания, что им поручили важное задание, они позабыли страх. Было совершенно темно, когда Кати и Агнеш нашли нужный дом. Совсем рядом грохотали орудия. В стенах зияли оконные проемы. Даже смельчаки, которые обычно днем поднимаются к себе наверх, чтобы сварить обед или выполнить какое-нибудь неотложное дело, и те в такую пору прячутся в подвалах. Девушки решили пробраться наверх вдвоем. Если дверь квартиры окажется открытой, а она должна быть открыта, потому что из-за пожаров запрещено запирать квартиры, Агнеш осторожно войдет в нее и проверит, нет ли кого дома. Кати тем временем покараулит на лестнице и при появлении людей трижды стукнет в дверь. Если кто-нибудь увидит Кати, то от этого ничего плохого не случится, потому что у нее картонка со шляпами и Кати может сказать, что пришла из шляпного салона Галфаи к графине Мицки…
Квартира Сентмарьяи действительно оказалась открытой. В прихожей никого не было. В комнатах тоже было тихо. Агнеш прошла на цыпочках в темноте шагов двадцать, затем, согласно полученной инструкции, переступила порог слева. Очутившись в комнате, она осторожно зажгла фонарик с синей лампочкой, направила свет вниз, увидела пишущую машинку. Бланки оказались на месте — очевидно, с момента ухода Сентмарьяи никто в квартиру не заходил. Чуть дрожащими руками Агнеш вставила бумагу в машинку. Дрожь эта была не от страха, а скорее от холода и волнения. Под наполовину заполненными бланками она нашла также вырванный из ученической тетради листок. На нем карандашом были написаны данные, которые следовало отпечатать на бланках. Агнеш поднесла листок поближе к лампе и чуть не вскрикнула. Почерк! Буквы! Она среди миллиона текстов узнала бы этот почерк, почерк Тибора! И слезы хлынули из ее глаз. Подобно тому как во время летней грозы вдруг разверзаются тучи и ливень обрушивается на луга, на крыши домов, зеленые обливные горшки на заборах, обшарпанные стебли подсолнечника, вздувая и вспенивая ручьи, образуя во дворах пузыристые лужи, — из глаз Агнеш хлынули слезы, но по мере того, как она продолжала плакать, на сердце у нее становилось все тяжелее и тяжелее. Ей хотелось вскочить, бежать на край света, только бы увидеть Тибора и рассказать ему обо всем, о своем заточении, о горьких семи месяцах. Может быть, Тибор был здесь, в этой комнате, Тибор!.. Может, он где-то рядом? Увидит ли она его? Встретятся ли они когда-нибудь? Нет, это невыносимо.
Она взяла себя в руки. Надо быстрее печатать. Кати ждет. И, когда она во второй раз посмотрела на листок, почерк показался ей чужим. Что за глупость, как мог попасть сюда Тибор? Ведь его угнали на фронт. Еще весной, когда к ней кто-нибудь приближался на улице, она, замирая от трепета, останавливалась: Тибор! Потом выяснялось, что это вовсе не Тибор, что этот человек даже не похож на Тибора. Не один он так пишет букву «р» или «т»… Но, закончив работу, она все же спрятала в карман маленький листок бумаги с данными заводского рабочего Лайоша Кречмара и много раз подряд погладила его пальцами.
Девушки, словно невесомые, быстро и бесшумно пробирались вдоль улицы Бенуар. На некогда красивой улице почти не осталось целых домов. Еще в июле американцы сбросили сюда «ковер». Кое-где остатки стен тянулись к небу, как закопченные, предостерегающие пальцы.
— Представь, Кати, в детстве я боялась темных стен.
Они улыбнулись. Неужто можно бояться даже стен? В следующую минуту с освещенного прожекторами сада взлетело дерево. Не ветка, а целое дерево. С кроной, ощипанной зимней стужей, стволом, с огромными, как змеи, корнями. Оно кружилось, кувыркалось в воздухе, затем, выровнявшись, врезалось в крышу противоположного дома. Дом задрожал, дрогнула земля, засвистел ветер, будто мимо них стремительно проносился целый лес. Агнеш и Кати, схватив друг друга за руки, пустились бежать. Казалось, их сердца бились громче, чем грохотали грозные орудия.
Ач был даже не в силах радоваться, когда обе девушки прибежали в мастерскую. Он только молча пожимал им руки, не смея благодарить. Разве можно выразить словами благодарность за такой поступок? Агнеш собиралась спросить, разузнать, чей почерк она видела на листке. Но при виде всех этих швейных машин, катушек, ниток, этого хлама, при свете свечи смешными и глупыми показались все ее мысли о том, будто Тибор где-то рядом… Кати и Ач долго прощались у выхода из подвала. Улыбаясь глазами и обещая на словах скоро встретиться, они сжимали друг другу руки.
Агнеш вернулась в мастерскую и разобрала постель. Второй «караульный», белобрысая, совсем еще молоденькая девушка, уже лежала, укрывшись одеялом.
— Слушай, Агнеш, — окликнула она, мигая сонными глазами, — сюда приходила стерва.
— Кто приходил?
— Барышня Амалия. Понимаешь? Притащила с собой начальника ПВО. Остановила его в подвальном коридоре и давай твердить, что из-за дров слышится людской разговор, там, дескать, скрываются люди. Вальдемар был весьма сдержан. Он сказал, что это исключено, что он сам заложил дровами конец коридора. Это, наверное, доносятся голоса из соседнего убежища. В конце концов Цинеге вынужден был пообещать Амалии, что завтра тщательно все осмотрит.
— Надо сказать Кати.
— Ладно, я скажу. Господи, только бы протянуть эти несколько дней…
— Конечно, протянем, — неуверенно сказала Агнеш, и ей опять очень захотелось поплакать.
— Представь себе, — снова затрещала белобрысая пятнадцатилетняя дочь врача-еврея, беженка из Печа, которую еще не так давно каждый вечер, укладывая в постель, целовала мать. Боясь темноты, девочка пыталась продолжать разговор. — Представь себе, благодаря Амалии нилашисты уже увели отсюда одну девушку, она выдавала себя за беженку из Бекешчаба. Звали ее Жофи Тимар. Однажды во время работы барышня Амалия крикнула: «Оша, подай ножницы». Никто не пошевельнулся. «Оша, тебе говорю». Молчание. Тут барышня Амалия торжествующе взревела: «Послушай, душенька, а ты ведь лжешь, ты не из Бекешчаба, потому что в Бекешчабе Жофи называют Оша». — И тут же позвала с улицы двух нилашистов, и те увели бедняжку. Выяснилось потом, что у Жофи мать была еврейка. Сама она была такая хорошенькая, прямо сказочная красавица…
«Боже мой. как же зовут в Секейудвархее Агнеш?» — подумала Агнеш. Скорее бы все кончилось…
Белобрысая девочка повертелась еще немного, а затем уснула. Агнеш снова достала из кармана записку и стала ее разглядывать. Теперь она уже не догадывалась, а была вполне уверена, что это почерк Тибора. В слове Кречмар после «к» буква «р» искажена, словно тот, кто ее писал, намеревался вывести сперва «е». Кеменеш. И год рождения совпадает с годом рождения Тибора: тысяча девятьсот девятнадцатый. Она принялась осыпать клочок бумажки поцелуями, словно это было любовное письмо, весточка от Тибора. Может быть, в том удостоверении, которое она писала, нуждался Тибор. Может быть, и он прячется от нацистов, может быть, именно этот клочок бумаги спасет ему жизнь. Если бы она знала это, то написала бы кровью своего сердца. Тибор… когда они снова увидятся?
Ажурное пламя свечи то совсем умирало, то рвалось ввысь, и по стенам подвала метались свет и тени. Агнеш распласталась на своем соломенном матраце и, как бывало прежде по ночам, слушала, слушала наземный грохот орудий, болезненное сердцебиение земли, переживающей родовые схватки. Лихорадочное, беспокойное, громовое сердцебиение. Приближался фронт.
Прошло уже семь месяцев, как она бежала с завода. Семь месяцев не видела матери, родного дома, семь месяцев пряталась в подвале, на складе, питалась милостыней. Вытерпела семь месяцев — более двухсот дней. И теперь ей кажется, что больше она не в силах вынести и двух дней, и двух часов. Все ее прежние надежды кажутся наивными и глупыми. Она надеялась, что немцы оставят город без боя, не станут минировать мосты, превращать столицу в последний нацистский рубеж, свой арсенал, фронт.
Надо было раньше, раньше сбросить с себя… Теперь уже поздно. Теперь уже только огнем и мечом можно прогнать их отсюда.
Монотонный грохот нагоняет сон, но Агнеш через каждые десять минут вздрагивает и тревожно прислушивается, не кончилась ли стрельба. Орудия не умолкают, где-то рушатся дома, дрожит и дыбится к самому небу израненная земля, все охвачено огнем и дымом. «Господи, приходите, приходите же! Сквозь огонь, кровь, страдания, все равно приходите! Сколько красоты в мире, сколько счастья! Не дайте умереть, спасите от страданий, приходите же скорее!»
Артиллерийская канонада усиливается. Со стены отваливается кусок штукатурки и падает к ногам Агнеш. Шум от падения заставил очнуться, оборвал ее моления. В голове Агнеш роятся всякие мысли, воспоминания.
«Я всегда хотела стать врачом», — воспоминание об этом пронизывает ее сердце так внезапно и отзывается во всем теле с такой болью, что глаза наполняются слезами. Она постоянно мечтала стать врачом, ее всегда влекли тайны жизни и смерти, процесс рождения и умирания. Врачи ей казались самыми сильными людьми в мире. В их власти прекратить боль, продлить жизнь. Врачи и только врачи способны стать хозяевами судьбы. И, пожалуй, врачи найдут когда-нибудь тайну вечной жизни. Она ни с кем не говорила об этой мечте, но знала о себе, что готовится стать врачом и, если вырастет, одна найдет средство от всех болей, исцелит детей от дифтерии и стариков, страдающих раком. И если иногда ею овладевал страх перед бесконечностью, если иногда голова ее шла кругом при мыслях о тысячелетиях истории или об астрономических расстояниях и массах, она всегда находила в сердце успокоение и поддержку: «Я стану больше, я буду бороться. Я буду врачом…» После окончания четырех классов начальной школы она хотела пойти в гимназию. Но, проплакав ночь, вынуждена была согласиться с решением родителей: средств хватает только на гражданскую школу. «Не беда, я все равно буду врачом». И она, кроме школьных заданий, с каким-то диким упорством учила тайком латынь и математику за первый класс гимназии. После гражданской школы приготовилась сдавать дополнительные экзамены по курсу гимназии. Но семейный совет принял решение, что с аттестатом коммерческого училища легче устроиться на работу. Теперь она уже не плакала. Надела пальто и ушла из дому и до самого вечера бродила по Дунайской набережной, комкая в кармане аттестат с одними отличными оценками. Потом уселась на прибрежный камень и стала глядеть на воду. Как бесконечна вода, сколько тысячелетий она омывает берег, сколько жизней возникло и кануло в вечность. Неужели произойдет такое большое несчастье, если она откажется от своей мечты? Может быть, из нее еще и не получится хороший врач. Какое-то мгновение Дунай манил ее к себе. Хорошо было бы умереть, кончить все сразу. Как бы оплакивали ее, как бы жалели. Но кому она этим отомстит? Кому собирается досадить? Да будь у родителей деньги, разве не отдали бы они ее в гимназию? А сколько ее соучениц были бы счастливы попасть в Высшее коммерческое училище, только бы продолжать ученье. Ведь их же никуда не берут! Тери Келлнер — круглая отличница, а ей все же не удалось устроиться продавщицей в «Диватчарнок»[35].
Как-то сразу постарев, она устало побрела домой. Казалось, будто мечты ее унесла вода. И вот восемь лет спустя она убеждается, что мечты эти продолжают жить и не дают ей покоя, как тогда.
Беспрерывно грохочут орудия. Это грохочет судьба. Надо отчитываться за прожитую жизнь. Правильно ли она поступила, что, оказавшись в беде, пряталась, спасалась, дезертировала? Если рассматривать только с точки зрения спасения своей собственной, личной жизни, то правильно. Но нравственно ли это? Нет. Ни в коем случае. Надо выбирать или жизнь, или смерть, но обязательно выбирать. Выбирать делами. Нельзя отступать в сторону. За свою судьбу мы сами ответственны.
Как грохочут орудия?
Какое у нее основание требовать, чтобы за нее сражались другие? Что она может сказать в свое оправдание? Разве то, что она заполнила три бланка? Только и всего, что сделала Агнеш Чаплар в борьбе против фашистской тирании. И она еще стоит на коленях, молится, чтобы другие пришли, пролили за нее кровь!
А там, в ночи, советские орудия изрыгали огонь на оборонительное кольцо нацистов. Не переставая, победно гудела, рокотала земля.
Тамаш Перц
Он легко нашел дом по адресу, полученному от доктора Ача. Поднявшись на второй этаж, он несколько растерянно остановился перед дверью номер четыре. Неужто он запамятовал? Разве его сюда послали? Ведь это комендатура. Пока Тамаш раздумывал, дверь открылась сама. В прихожей сгоял молодой фенрих.
— Тамаш? — тихо спросил он.
— Да.
— Мы тебя ждем. Заходи. Я — Орлаи.
Фенрих повел его через длинное, неприветливое помещение. Вся мебель в нем состояла из двух старых скамеек и стоячей вешалки для одежды. Стены были украшены плакатами: «Остерегайся шпионов».
Следующая дверь вела в канцелярию с четырьмя письменными столами под зеленым сукном, двумя пишущими машинками, шкафом для бумаг и сейфом. Две молоденькие машинистки с любопытством посмотрели на Тамаша Перца, когда тот входил следом за Орлаи к капитану Коллару. Разговор был короткий. Капитан как будто уже хорошо знал личные данные Тамаша и почти ничего об этом не спрашивал.
Поинтересовался лишь тем, какую тот прошел военную подготовку и участвовал ли в боях. Затем по-дружески пожал руку. Фенрих кивнул Тамашу головой, повел его в другую комнату, показал постель, дал кусок хлеба с жиром и кружку горячего чая.
В тот же день перед заходом солнца Тамаш Перц получил первое задание.
Впятером они спустились на площадь Лайоша Кошута и в сумерках незаметно пробрались к улице Кальмана.
— Берко, ты пройдешь к улице Хольд, а ты, Тамаш, останешься здесь и будешь прикрывать нас со стороны улицы Хонвед, — распорядился Миклош Орлаи.
Прячась за углом дома, Тамаш внимательно вел наблюдение. Все казалось заброшенным, пустынным. Кругом ни единого человека. Только над трупами солдат в зеленых шинелях, как в страшных сказках, стояли полуразрушенные стены да ветер гудел в поникших крышах домов. Мины разворачивали фасады зданий, и куски кирпича, осколки металла и обломки стекла градом барабанили по мостовой.
Берко скрылся из виду. Трое других юношей осторожно продвигались вперед. Посреди улицы Кальмана стояли четыре немецких грузовика. Их охранял один-единственный немец, но и он уже давно забыл о своих обязанностях и, прильнув к заднему колесу машины, курил сигарету, зажимая ее между ладонями.
Бесконечно долго тянулось время, пока трое приближались к машине. «Как странно, — думал Тамаш, — еще вчера я совсем не знал их, а теперь у нас одна жизнь и одна опасность смерти». Он немного сожалел, что его оставили здесь. Ему казалось, что в этой операции он обязательно должен поразить гранатой радиатор немецкого грузовика.
Становилось холодно, и Тамаш начал притопывать ногами. Вокруг царила тишина. Он медленно обернулся, чтобы снова посмотреть вслед своим товарищам, и у него внезапно похолодело на сердце: из одного дома на улице Кальмана вышла вооруженная группа эсэсовцев. Их было человек шесть или восемь, и они направлялись к грузовикам. Только бы ребята оглянулись, прежде чем бросать гранаты. Но если они не оглянутся?.. Ведь я же их прикрываю с тыла… Правда, я предполагал, что опасность появится со стороны улицы Хонвед, а их черт принес из какого-то убежища…
Тамаш был сам не свой. Мускулы пришли в движение, он инстинктивно выхватил из-за пояса первую гранату и швырнул ее в немцев. Не успела она взорваться, как он бросил вторую.
Тамаш увидел еще, как бежавшие в сторону улицы Хонвед гитлеровцы кинулись назад; кто-то истошно закричал по-немецки, дым, грохот… Он потянулся за третьей гранатой, но тут раздался страшный взрыв, взметнулось пламя. Автомашины… Что — то ударило его в плечо, он ясно почувствовал чью-то сильную руку, пошатнулся и увидел окровавленный рукав френча. Голова закружилась. Тротуар стремительно раздался вширь, дома уплыли куда-то вдаль… «Надо добраться до стены, — почему-то подумал он. — Туда, вон в ту нишу».
Проем в стене — запасный выход из убежища — был в каком-нибудь метре от Тамаша. Но прошло невероятно много времени, пока наконец ему удалось на животе и здоровом боку доползти туда. На снегу валяется рука, совершенно окоченевшая, оторванная женская рука и какая-то книга. Как быстро стемнело, только что он видел снег. Неужто он больше никогда не поднимется? Неужели он здесь погибнет? Напрягая все силы, Тамаш повернул голову. Сколько раз ему случалось проходить по улице Хонвед! Здесь, рядом, на улице Алкотмань они организовали с учениками коммерческого училища отряд бойскаутов. А на улице Марко их гимназия. Здесь он впервые поцеловал девушку, провожая ее домой. Был рождественский вечер. Девушку звали Аничка. Белокурая, худенькая словачка, она целых три года скрывалась в Будапеште… Она была дочерью врача из Бестерцебани. Ночью переплыла реку Гарам. Тогда он учился на первом курсе философского факультета. Денег не было, но хотелось чем-то порадовать ее на рождество. Шел снег, улица была такой же белой, как сейчас. Лед и снег покрывали весь мир. Аничка, одетая в тонкое демисезонное пальто, прижалась к нему. На Бульварном кольце Святого Иштвана они зашли в небольшую лавку музыкальных инструментов. Время было позднее, до закрытия оставалось не более получаса. В длинном, узком магазине царил полумрак… Единственный приказчик уже ушел домой, и владелец магазина, приземистый старичок в синем холщовом халате и домашней шапке, один укладывал на полки разбросанные губные гармоники и крохотные коробки с игрушками. Рождественский базар кончился, и весь этот товар остался на будущий год. Без четверти пять в лавку ввалилась запоздалая компания; они попросили показать граммофонные пластинки, без отбора купили несколько штук, одну поставили на проигрыватель: «Братец Петер Фекете, ты — неловкий малый, никогда не схватишь счастье за хвостик…» — и ушли. А они вдвоем по-прежнему стояли в магазине. Прослушали «Ave Maria» Шуберта, затем «Эгмонта» и любимую песенку Анички «Для Элизы». Затем проиграли менуэт Моцарта из симфонии «C-dur» и серенаду Хаффнера. Продавец с неохотой и подозрением доставал из коробки пластинки. Он вздыхал, несколько раз вынимал свои большие, как картофелина, карманные часы, посматривал на них и качал головой. Потом опустил железную штору над дверью, выходившей на Бульварное кольцо и, оставив включенной сорокасвечовую лампочку в кабинке для проигрывания, потушил везде свет, боясь, как бы полицейские не заметили нарушения закона о закрытии магазинов. Не раз он доходил до того, что готов был вышвырнуть их вон, сказать: «Я очень сожалею, но вам придется выбирать быстрее, мне пора закрывать свое предприятие, к тому же мне хорошо известно, что вы ничего не купите; люди в нынешние времена тратят деньги на сахар, муку, а не на пластинки». И спать ему хотелось, и настроение у него было препаршивое, но он все же молчал, потому что все-таки это покупатели, а вдруг они возьмут эту симфонию «C-dur». Сам черт не поймет этих оборванцев-студентов. Приходят сюда и неделями слушают бесплатно, а потом вдруг вопреки здравому смыслу, обрекая себя на голодание, покупают в подарок пластинки…
Тамаш клал перед Аничкой на диск пластинки, как влюбленный мужчина перед женщиной — драгоценный дар или шелковый отрез. Сидя на крохотном стульчике и прильнув головой к груди Тамаша, девушка с закрытыми глазами слушала очаровательные мелодии. Музыка была такой знакомой. «Эгмонт»: Татры, треск партизанских винтовок, леса и реки, раздолье. Менуэт Моцарта напоминал дом, веселое пламя в кафельной печи, игрушки, ласковую руку отца, потерянное счастье. Продавец, теряя терпение, топтался рядом.
— Дайте, пожалуйста, девятую симфонию Бетховена, — попросил Тамаш.
Последовал покорный вздох. Затем перед ними появилось девять пластинок. Тамаш одну за другой ставит их на проигрыватель, и вот уже звучат самые совершенные в мире мелодии, непрерывная буря чувств и желаний, от робких аккордов до апофеоза, до гимна радости.
— Спасибо… как-нибудь в ближайшее время… заглянем, — сказал Тамаш, когда прозвучал последний такт, и с бьющимися от радости сердцами они выбежали на узкий двор, а затем через ворота соседнего дома на улицу.
— Вот увидишь, мы действительно будем счастливы… Наступит мир, нас освободят… У тебя будет свой дом, больше не придется скитаться, — шептал он девушке, и, держась за руки, они шли по такой же заснеженной улице, может быть, именно здесь, по улице Хонвед, и громко пели. Аничка!.. Где сейчас Аничка? Угнали… Однажды он рассказал о ней какой-то девушке. Какая же хорошенькая была и эта девушка. Агнеш Чаплар, где она сейчас? Она тоже забудет его. Пройдет по улице Хонвед; может быть, вдвоем с Тибором, а может, и с другим… будет зима, такая же снежная зима, а они, прижавшись друг к другу, будут есть жареные каштаны… Странно, ничего не болит, а только хочется пить. И кругом непроглядная тьма. Неужели так поздно? Следовало бы добраться домой. Но нет, ему больше не вернуться туда. Флобер описывает смерть мадам Бовари. После последнего причастия священник смазывает ей маслом ступни, которым больше никогда не ступать… эту часть книги он, бледный от ужаса, перечитывал несколько раз подряд… Неужто и ему больше не ходить по земле, а, окоченев, безмолвно лежать здесь, как этот камень? Тогда к чему было убегать от немцев? Прятаться? Читать с Тибором стихи? Тибор увидит весну, увидит деревья… Но нет, ему никогда не познать чувства, когда взрывается граната и от этого на свете остается меньше фашистов, меньше опасностей, меньше развалин, тех, кто угрожает Аничке, Агнеш, городу, Дунайской набережной, всему, что красиво, ради чего стсит жить… ради чего стоит умереть…
Фенрих Миклош Орлаи только поздно вечером смог отправиться на розыски Тамаша. С малой надеждой он обыскал улицу Кальмана и улицу Хонвед. Его зоркие, привыкшие к темноте глаза лишь с трудом различали среди замерзших холмов мусора кирпичи, балки, человеческие тела, трупы лошадей. Освещая путь слабым светом фонаря, он, пригнувшись, прижимаясь к домам, продвигался вперед в надежде услышать стон.
Но то и дело взрывались бомбы и гудели от воздушных волн дома… «Очевидно, спасся», — подумал он, проходя в третий раз по улице Хонвед. Но тут он вдруг заметил, что у выхода из убежища что-то чернеет. Бледный человек неподвижно лежал на спине. Шапка валялась рядом, волнистые волосы прикрывали лоб. Глаза были полузакрыты. Орлаи схватил Тамаша за руку, расстегнул френч, прижал ладонь к сердцу, опустился на колени и несколько минут внимательно осматривал его.
Потом встал, снял шапку и перекрестился.
На рассвете приземистый, усатый начальник ПВО большого пятиэтажного дома у перекрестка отправился за водой. Увидев возле ворот труп, он выругался с досадой. Тоже нашел где умереть! Доставай теперь людей, лопаты, хорони его в этой мерзлой земле! Он взял длинного парня за ноги и потащил окоченевшее, тяжелое тело по осколкам снарядов, битому стеклу, искромсанным замерзшим трупам лошадей, через кочки и выбоины к соседнему дому. Затем вытер вспотевшую шею и пробормотал нечто вроде извинения перед окровавленным изуродованным безжизненным телом человека.
По небу плыли тяжелые, хмурые тучи. Одна из них разверзлась, пошел снег и покрыл толстым белым саваном лицо и сердце Тамаша.
Дневник
Многие дни подряд Мария Орлаи не ходила домой. Только передавала отцу весточку, что она жива-здорова, ничего с ней не случилось, и просила, чтобы он берег себя. Ей не хотелось, чтобы старик увидел синяки и кровоподтеки — следы нилашистских побоев. Но сегодня утром в больницу приходил ее старший брат, Миклош, и умолял сбегать домой.
— Что-нибудь случилось с отцом?
— Нет, что ты… Видишь ли, я солдат и не могу все время сидеть с ним, а ты ведь отца знаешь, никак не хочет спускаться в убежище. — Миклош, поцеловав сестру, на прощание сказал: — Если пойдешь домой, гы все-таки осмотри его.
В больнице работы было так много, что, казалось, ей не будет конца. Идя домой, Мария почувствовала, что от усталости у нее кружится голова. Она торопилась, над ней проносились самолеты, но она не останавливалась, а только прижималась порой к домам. Разве знаешь, где тебя подстерегает опасность?
В прихожей Мария увидела на вешалке пальто отца. В последнее время она всегда заставала старика дома. Он уходил к себе в кабинет и писал. Иногда до полуночи, а иногда до самого рассвета он не мог оторваться от письменного стола. Может быть, он заканчивает свой давнишний великий труд о профилактике кариоза зубов у детей. На протяжении четырех десятилетий он наблюдал, изучал кариозные молочные зубы, воспаление десен, искривление зубов у подростков. Составил статистическую таблицу о квартирных условиях школьников своего района, об их питании, о том, сколько солнечного света, молока, свежих фруктов получают дети. «Кариоз вызывает мучительную боль. И если говорить об осложнениях — тут речь пойдет о влиянии гнойника на суставы, уши, сердце, печень. А последствия плохого пережевывания пищи — желудочные заболевания, повреждения полости рта больными, кариозными зубами, опухоли… кариоз — народное бедствие, и, если бы у меня было сто жизней, я бы отдал их все на борьбу с этим заболеванием».
«Пожалуй, лучше, что старик увлекся работой», — думала иногда Мария, когда, озабоченная, заглядывала в кабинет и предлагала отцу ложиться спать, советовала следить за своим здоровьем. После смерти матери отец стал таким немощным, так внезапно постарел. Пусть пишет свой труд. Ничего, что во время ужина он бывает задумчив, иногда оставляет еду и что-то записывает в свой блокнот. Делая запись, он левой рукой всегда прикрывает бумагу. Это вызывает улыбку у Марии. Она тоже всегда так делала, когда писала, рисовала и к ней подходили подруги.
— Что нового, папа?
— Ничего, доченька.
— Ты очень занят?
— Очень.
— Принести еще чашку чая?
— Гм, спасибо, принеси или… впрочем, не надо, — и опять за карандаш и опять пишет.
Мария понимает отца, и тем не менее иногда ей неприятны эти слова, брошенные рассеянно и даже как-то неприязненно. Как было бы хорошо в эти тяжелые дни потолковать с отцом, опытным врачом, о разных проблемах, об интересных случаях из практики, попросить у него совета, помощи…
Ну, ладно. Мария поспешно вешает пальто и стучит в дверь отцовского кабинета. Разумеется, старик не ушел в убежище.
- Кто там?
— Это я, Мария.
Она в недоумении: отец открывает дверь ключом.
— Прекрасно… это ты. А я уже опасался, что опять идут те.
— Кто? — оторопело спросила Мария.
— Два жандарма, нилашист и немец. Они все время приходят сюда.
— Как так все время?
— И вчера. И позавчера. Сегодня ночью тоже были. Но Миклош не слышал, когда я открывал дверь.
Мария смотрела на отца, ничего не понимая.
— Он тоже спал дома, но так крепко, как медведь. Он так и не проснулся. Между тем я им кричал, чтоб они уходили… — сказал старик и встал. Одной рукой он пригладил свои короткие белоснежные волосы, а другой нервно застучал по столу.
— А что им надо?
— Ничего. Придут, постоят, тараща на меня глаза, погрозят пальцами и уйдут.
Мария была поражена. Галлюцинирует? Что это, мания преследования? Или действительно кто-то сюда приходит? Каждый день происходит столько непонятных и ужасных вещей, что и этому можно поверить. Как же быть?
Отец как будто несколько успокоился, рассказав дочери о страшных посещениях. Он повеселел, стал шутить, разговаривал за ужином. Спрашивал Марию о больнице, чего уже очень давно не делал. На ужин была печеная картошка. Старик взял в руку горячую картофелину и принялся рассказывать о своем детстве, о деревушке в долине Вага, о длинных зимних вечерах, о печеной картошке, о глубоком снеге.
— Спокойной ночи, доченька, пора спать, — поднялся он часов в одиннадцать ночи, погладил Марию по голове и направился к себе в комнату. Но, дойдя до двери, отпрянул назад.
— Они здесь! Пришли, проклятые!
Мария выпустила из рук тарелки.
— Папа, что с тобой?
Лицо старого врача стало пепельно-серым. Он прикрыл его руками и громко заплакал.
— Папа, что случилось?
Она осторожно проводила его в кабинет, уложила на диван, укрыла, дала ему снотворное. Доктор Орлаи судорожно хватался за руку дочери. Когда он уснул, Мария осторожно высвободила руку и стала в тревоге ходить по комнате. Нервное потрясение? Переутомление?
Она испытывала угрызения совести. Сотни больных осматривала, лечила ежедневно, а что отец чем-то заболел, не замечала.
Мария села за отцовский письменный стол и в раздумье принялась рассматривать давно знакомые вещи. Разбираемый на части череп, которым в детстве она пугала своих классных подруг, стеклянную пепельницу. И вдруг увидела свежеисписанные листы бумаги. Неторопливо перелистывая их, она машинально пробежала глазами по тексту и, когда до ее сознания дошел смысл нескольких фраз, оцепенела. Мария нагнулась вперед и взволнованно стала читать дальше:
«Сегодня в полдень за мной снова пришли и позвали в казарму Радецкого. Мне было предложено дать медицинское заключение о смерти двух женщин. Одной из них было лет двадцать восемь — тридцать, на теле были следы многократного, по-моему, двадцатипяти-тридцатикратного изнасилования. На левом боку между первым и вторым ребром две ножевые раны, на шее укусы. Я подписал заключение, что смерть произошла от паралича сердца».
Мария с ужасом читала новые записи:
«Рядовой солдат венгерской армии, примерно двадцати четырех лет. Одежда изорвана, половые органы изуродованы, оба глаза выколоты. Я подписал, что солдат погиб под пытками. Однако в действительности труп был изуродован через четыре-пять дней после смерти. Я обнаружил следы пулевого ранения: пуля вошла в левый висок и вышла на затылке. Она, безусловно, и явилась причиной смерти. Я констатировал также, что труп, несомненно, был доставлен в тыл с передовой и изуродован здесь, очевидно, с той целью, чтобы оклеветать русских, обвинив их в нарушении международного права, усилить страх перед русскими и вызвать ненависть к ним у венгерских войск, ведущих войну неохотно и плохо».
Затем на следующей странице:
«Знаю, что я должен был отказаться и не подписывать судебно-медицинский протокол. Подполковник Петерфи пригрозил мне расстрелом, и я подписал… дело в том, что обе ноги отрезали позднее, очевидно, через семь-восемь дней после смерти… Петерфи опять потребовал… но я не поставил своей подписи, а написал только «мендакс»… ложь, ложь и убежал… если догадаются… но невозможно… сойду с ума… труп был мерзлый и не менее недельной давности… семнадцатилетний юноша… обе ноги до колен…»
Записи становились все путанее, все непонятнее. Марии иногда казалось, что она сама лишилась рассудка… Ведь это же… ужасно!
— Сойду с ума! Сойду с ума! Сойду с ума!..
Услышав крики, Мария очнулась.
Отец сидел на диване. Он смотрел на нее мутными глазами и непрерывно повторял:
— Сойду с ума! Сойду с ума!.. Дай мне костюм… за мной идут, не могу же я идти босиком!..
— За тобой никто не придет, папа. Я никого сюда не пущу.
— Нет, придут. Влезут через окно, через дымоход, через печку. Мертвые на все способны.
Старик громко плакал, ломал руки и хватался за голову.
— Давай уйдем отюда, папа… Пойдем в больницу. Будешь там лечить больных, и никто тебя не найдет, — сказала Мария и в отчаянии не смогла сдержать горьких слез.
Орлаи счастливо засмеялся, как человек, освободившийся от какого-то страшного бремени.
— Пойдем сейчас… сейчас же пойдем.
Он поспешно надел в прихожей пальто, но тотчас же повернулся, бросился стремглав в кабинет и схватил со стола свой дневник. Затем ноги его подкосились, он посмотрел на стул.
— Уже поздно… они уже пришли за мной…
Мария с большим трудом уложила потерявшего сознание старик? на диван.
Прошитая длинной пулеметной очередью, затрещала оконная ставня.
Паровоз
Все произошло в течение нескольких часов.
Было около полудня, когда здание Завода сельскохозяйственных машин заняли немецкие солдаты. На заводской двор въехало три огромных танка, в заводские помещения втащили набитые соломой тюфяки, в окнах заводоуправления, выходящих на улицу Месеш, установили пулеметы.
Белый огонь в печах литейного и эмалировочного цехов стал краснеть, а затем постепенно погас совсем. Стук молота прекратился, краны остановились, в формовочном цехе сиротливо торчали наполовину заполненные формы.
Полковник Меллер дрожащим голосом прочитал приказ. Завтра в семь часов утра все мужчины, достигшие шестнадцати лет, вместе с трудоспособными членами семьи должны собраться на заводском дворе, имея с собой продовольствие на три дня. Кто не выполнит этот приказ, будет расстрелян на месте.
К четырем часам дня длинный товарный состав был полностью готов к отправке. На заводскую железнодорожную ветку согнали все вагоны, которые удалось разыскать и подать сюда. Под охраной немецких солдат и нилашистов около пятидесяти рабочих приступили к погрузке токарных станков, готовых деталей, формовочного оборудования.
Яни Чизмаш после оглашения приказа об эвакуации вместе с Яни Хомоком перетащил все свои книги к Габришу Бодзе. Семья Бодзы жила на другом конце улицы Месеш. В однокомнатной квартире ютилось шесть человек — сам Габриш, его жена, мать и три сына. Мальчики пяти, четырех и двух лет вместе с больной бабушкой теснились на железной кровати в кухне. Из-под перины виднелись лишь кончики мальчишечьих носов и три пары огромных темно-карих глаз. Худенькие, бледные личики, по-взрослому тревожные взгляды говорили о том, что они больше знают о голоде и воздушных налетах, чем о Спящей красавице и Снегурочке. Габриша не было дома, дверь открыла жена.
— Вы что собираетесь делать? — с беспокойством спросила она, не поздоровавшись.
— Не бойтесь, Аннушка, теперь уж и правда осталось всего три дня, а может, и того меньше. Пусть черт едет с ними. А мы спрячемся.
— Куда?
— На чердак, в подвал, в Буду, или же, в заброшенную печь.
— В такое время вы еще шутите!
— А почему бы и нет? Мне ведь от бомбы только одну ногу оберегать надо. Нет, серьезно, нужно книги закопать.
— Снесите в погреб, там столько сломанных половиц, суньте под какую-нибудь…
Книги удалось спрятать, но что будет с людьми?
За винным погребом бакалейной лавки Ковачевича был еще один погреб. Старый скряга Ковачевич держал там такие товары, о которых не должны были знать таможенные власти. Как ни скрытничал старик, но время от времени ему все же приходилось звать двух-трех парней, чтоб переставить мешки, перекатить бочки, и об этом укромном месте стало кое-кому известно. К вечеру там укрылось десяток рабочих семей и двадцать пять — тридцать дезертиров.
Яни умолял мать и отца воспользоваться этим убежищем, но старый Чизмаш, сидя за кухонным столом перед раскрытой дверью, наблюдал за заводским двором. Он видел немецкие автомашины, ряды товарных вагонов, зенитную пушку на крыше здания заводоуправления, видел, но не двигался с места. Если суждено ему умереть, то он умрет среди знакомых стен, у старого очага. Но прятаться под землей он не станет, он ведь не крыса и не крот, а человек. Рядом сидела жена; сложив на коленях руки, она тоже ожидала решения судьбы.
На заводском дворе медленно загружались стоявшие на путях вагоны. Руководивший работой Лорант Чути двигался неторопливо. «Эго нужно упаковать снова, — распоряжался он, — что это за работа… так нельзя укладывать плиты, унесите их обратно. Немецкие офицеры каждые пять минут торопили его с погрузкой. Какой-то капитан с изможденным лицом больного язвенника схватил Чути за воротник и стал осыпать грубыми ругательствами. Чути даже глазом не моргнул. Терпеливо выслушав поток ругательств немца, он повернулся, словно по команде, и стал удаляться.
— Ты куда? Застрелю!
— Я инженер, а не грузчик, — раздраженно ответил Чути. — Вас, возможно, интересует только груз. Меня же еще и то, доедет ли он до места. Пожалуйста, я могу нагромоздить как попало в вагоны токарные станки, но вы, господа, слыхали, я предупреждал господина капитана — половина станков в пути придет в негодность.
— Так пошевеливайтесь же, черт вас побери! — крикнул капитан, смачно ругаясь по-венгерски и на жаргоне немцев Будакеса.
Прапорщик Чути козырнул, возвратился к вагонам и по-прежнему неторопливо стал инструктировать рабочих, как грузить в вагоны фрезерные станки, изделия эмалировочного цеха, отливки, стеклорезки, шлифовальные круги.
Один из молодых рабочих тащил на спине мешок с песком, он сбросил его в вагон. Чути шел рядом с ним. Парень повернулся и со злостью сплюнул.
— Вздернуть надо бы таких инженеров! Зачем отдаете все этим?..
Чути покраснел, но, сделав вид, что не расслышал, прошел вперед.
Два вагона грузились самими немцами. В них складывали не заводское оборудование, а посуду, мебель, белье, даже детские игрушки — все, что доблестным союзникам удалось наворовать в покинутых жителями окрестных домах.
Около восьми часов вечера немцы отдали приказ приготовить состав к отправке. Светловолосый шумный немец с прыщеватым лицом, назначенный машинистом, стоял неподалеку от паровоза и рассказывал о своих любовных похождениях. Рассказ сопровождался выразительными жестами. Его дружки покатывались со смеху.
Кроме немцев, на заводском дворе почти никого не осталось. Бо́льшая часть нилашистов разбрелась по окрестным домам в надежде, что немцы кое-что оставили и на их долю. С обеих сторон поезда длинными рядами стояла вооруженная немецкая охрана. И тут произошло невероятное.
Паровоз вдруг тронулся с места, и притом сам собой. В будку машиниста никто, казалось, влезть не успел. Тронулся с необычной начальной скоростью. Труба его выбрасывала в серую ночь тысячи искр и языки пламени. Никому в голову не пришло вскочить на паровоз, остановить его, а тем временем паровоз уже выехал за ворота заводского двора и понесся по рельсам в сторону Цегледа.
Светловолосый Эрих на полуслове оборвал свой рассказ и во всю прыть помчался в комендатуру. В кабинете главного инженера он увидел старшего лейтенанта в эсэсовской форме. Тот как раз говорил по телефону. Он сердито махнул Эриху рукой — подожди, мол, за дверью. А когда через добрых десять минут позвал его в кабинет и до него дошла история об угнанном нечистой силой поезде, он весь побагровел. Офицер грозил дрожащему от страха солдату военным трибуналом, расстрелом. Почему он не был на паровозе? Почему он, болван, не вскочил на него, когда паровоз тронулся с места? И если он, скотина, проворонил-таки поезд, то почему не доложил немедленно, почему не сказал ничего, когда его выставляли за дверь, и главное, чего он сейчас ждет? Эсэсовец распорядился немедленно выслать погоню в составе десяти автоматчиков на мотоциклах.
Состав остановился в четырех-пяти километрах от завода.
— Слава богу, — радостно простонал прыщеватый Эрих и погнал мотоцикл по замерзшей кочковатой земле вдоль поезда. Когда он достиг головных вагонов, у него от ужаса полезли на лоб глаза. Паровоза впереди состава не было. Все вагоны были на месте. Даже таблички сохранились на каждом из них: «Подарок венгерского народа героическому германскому народу». Но паровоз как в воду канул. Такого бесовского наваждения он никогда в жизни не видел.
Немцы соскочили с мотоциклов, окружили поезд и начали тщательно осматривать все подряд: заглядывали под колеса, залезали в вагоны, шарили среди станков, чуть не обнюхивали рельсы, ринулись в акации, росшие по обеим сторонам насыпи. Ни паровоза, ни людей! Эриха, когда он вернулся к мотоциклу, трясло так, как не трясло, пожалуй, во время приступов тропической лихорадки два года назад у Тобрука.
А между тем паровоз был не так далеко, километрах в шести отсюда, в направлении Цегледа, в железнодорожном тупике. Несколько недель назад в этом месте предусмотрительные люди заботливо сложили металлолом. Нагромождение металла напоминало огромный тоннель. Паровоз и въехал в него. Три человека тотчас же соскочили с паровоза и сделали из обломков старых машин завал у входа в тоннель, такой высокий, что он полностью укрыл паровоз, а в это время одноногий машинист погасил в топке огонь. Из тендера он достал несколько свертков: одеяла, две двухкилограммовые буханки хлеба, кусок сала, несколько луковиц и двенадцать ручных гранат.
Четыре человека, тесно прижавшись друг к другу, сидели в кабине машиниста. Они почти не разговаривали между собой. Все их чувства и мысли были заняты одним: преследуют ли их? Ищут ли их? И дождаться ли им здесь окончания боев? Придут ли сюда этой ночью русские? Или в крайнем случае — завтра?
— Как бы то ни было, — сказал Лорант Чути, выражая их общую мысль, — но даже ради спасения одного токарного станка стоит…
— Звезда, смотри, Яника, звезда! — воскликнул Яни Чизмаш с задумчивой, ребячьей радостью. — Какая яркая звезда!
Яни Хомок посмотрел на небо. Над густыми ветвями леса из старого железа на небе, светившемся от артиллерийского огня и прожекторов, как раз над их головами мирно и приветливо мерцала звезда.
Рассвет
Семнадцатого января гитлеровцы удерживали лишь несколько десятков центральных кварталов пештской стороны города. Но эти кварталы немцы за несколько часов превратили в импровизированные крепости. Совершая каждые полчаса облавы, они выгоняли из убежищ всех здоровых людей строить укрепления. На крышах установили зенитные пушки, во дворах домов сложили боеприпасы. Этого даже господа министерские советники не решились одобрить. Попади один снаряд в гору ящиков с боеприпасами, и во всем доме никто в живых не останется.
Вальдемар Цинеге ходил по своим владениям мрачный и озабоченный. Он смотрел на женщин, которые с унылым видом варили суп в коридоре бомбоубежища. Сегодня даже обычной перебранки не было. Никто не отодвигал в сторону чужие кастрюли. Тесно прижавшись друг к другу, женщины стояли вокруг старенькой дымящей печки. Студента театрального училища из четвертой квартиры второго этажа просто нельзя было узнать. Прежде он сидит бывало, палец о палец не ударит. А тут взял вдруг топор из рук старухи Тот и принялся рубить щепки. А пятнадцатилетний сын хромого Козмы четыре раза переползал по заснеженному, покрытому ледяной коркой двору под непрерывным огнем автоматов и пулеметов в соседнее убежище за водой и доставленные им четыре чайника воды, не дожидаясь, пока люди станут просить, распределил между всеми.
В этот вечер каждый старался сделать доброе дело. Кто знает, что принесет эта ночь — жизнь или смерть?
Начальник ПВО перед тем, как пойти в убежище, осторожно осмотрелся. Он убежал от госпожи Амалии и уже дня четыре старался не попадаться ей на глаза. Амалия не поверила его объяснениям. Напрасно уверял ее Вальдемар, что в шляпной мастерской он нашел-таки группу прятавшихся евреев и тотчас же, не обращая внимания на их мольбы, передал их патрулю; напрасно убеждал он ее, что сам распорядился заложить коридор, чтобы никто не мог там скрыться. Госпожа Амалия каждые четверть часа приходила за ним и настойчиво требовала: «Идемте со мной, господин начальник, послушаем… там есть люди».
«Позову ее на крышу и сброшу в шахту лифта, — думал в отчаянии Вальдемар. — Всю свою жизнь я был вегетарианцем, я терпел, когда пили мою кровь комары, не убивал их, ждал, пока они насытятся… Я не решался сорвать цветок на клумбе, не хотел причинять вред живому созданию, но эту бестию я уничтожу».
— Господин начальник, — услышал он за спиной сюсюкающий голос, — дорогой господин уполномоченный… мой патриотический долг… я хочу поговорить с вами наедине…
Вальдемар Цинеге обернулся и тяжело вздохнул.
— С удовольствием, дорогая моя, только сейчас я должен осмотреть противопожарные средства, а затем мне еще нужно проверить наличие индивидуальных перевязочных пакетов… но, пожалуй, через час или лучше после десяти часов я с удовольствием прибуду в ваше распоряжение. Или, пожалуй, лучше, если вы придете ко мне в дровяной чулан, там мы сможем спокойно поговорить…
— Охотно, — ответила Амалия и пристально посмотрела в глаза уполномоченному.
Вальдемар принужденно улыбнулся, Амалия же с бьющимся от волнения сердцем возвратилась в убежище. Она, несомненно, понравилась Вальдемару, он ее любит и хочет остаться с ней наедине. Этот взгляд, улыбка… Госпожа Амалия вспомнила о кружевных шелковых ночных сорочках хозяйки — госпожи Галфаи. Господи, кому они нужны сейчас? Их, пожалуй, дюжины две наберется в шифоньере… и бомбежка сейчас вроде немного стихла. Нужно сходить и взять одну сорочку.
На лестнице не было ни души, но двери во все квартиры были распахнуты настежь. В каждой комнате — сломанные шкафы, выдвинутые ящики, на полу потоптанное сапогами белье — следы хозяйничанья немцев.
Госпожа Амалия ощупью пробралась в спальню Галфаи. Шкаф с бельем и здесь был раскрыт настежь, но на полке чудом сохранились две кружевные ночные рубашки. От белья распространялся приятный запах лаванды. «Найти бы еще пузырек одеколона», — подумала Амалия и продолжала шарить по полкам. Канонада вдруг усилилась. Бомбы стали рваться совсем близко. Из окна Амалия увидела горящую крышу дома, на стенках заплясали картины. «Черт с ним, с этим одеколоном, еще бомба попадет в дом», — в испуге подумала она и, схватив обе рубашки, выбежала из квартиры. В следующее мгновенье она была уже на улице. Вернее, улица как бы сама вошла в квартиру. Перед ней исчезли стены. Справа, слева, над ней не стало потолка. Барышня Амалия стояла на чудом сохранившемся куске перекрытия площадью в каких-нибудь два квадратных метра. Вокруг — страшная пропасть. Она стояла ни жива ни мертва от ужаса, с широко разведенными в сторону руками, с которых свешивались ночные сорочки. Она напоминала античную статую, вдруг появившуюся из земли при раскопках, к которой неизвестно как добраться, чтобы не сломать ее. А вокруг ни живой души. Внизу темная, страшная пропасть, вверху лучи прожекторов, мины, светящиеся ленты трассирующих снарядов. Барышня Амалия подняла к небу руки и во все горло заголосила:
— На помо-о-о-щь! На по-о-о-мо-о-о-щь! — голос ее можно было слышать так же, как жужжанье мухи во время урагана.
Кати Андраш весь вечер наведывалась из убежища в коридор, ведущий в шляпную мастерскую. Она очень боялась. Дом заняли эсэсовцы. В поисках выпивки и съестного они с мрачным видом шарили по всем квартирам, взламывали двери запертых кладовых, постукивали по стенам — нет ли где тайника со спрятанными ценностями. Они осмотрели чердак, прачечную, двор, а затем спустились в убежище. Здесь тоже все осмотрели, разбросали постели, узлы с одеждой, мешочки с фасолью, с кукурузой. В убежище они втащили какие-то ящики. Они вели себя так, словно были хозяевами этого дома. Граждане перешли из убежища в коридор. Оттуда они смотрели на расположившихся на их постелях угрюмых немецких солдат.
Начальник отряда эсэсовцев, молодой, очень нервный лейтенант в очках, чертил план разветвлений подвала. Вальдемар Цинеге, весь в поту от волнения, давал необходимые пояснения.
— В сторону улицы Шандора Пегефи есть два выхода, вот здесь в середине ряд окон, выходящих во двор, окна заложены мешками с песком… да, здесь можно пройти к зданию Ратуши. Вот здесь, через запасные выходы на улицу Кошута.
— А здесь? — спросил офицер и показал в сторону шляпной мастерской.
— Ничего. Там выхода нет. Та часть подвала отделена стеной… Выхода оттуда нет. Не-ет…
— Нет выхода? Ну, мы сами проверим.
Кати Андраш, побледнев как смерть, бросилась в мастерскую.
— Агнеш, что-нибудь… нужно немедленно спасать людей, нужно что-нибудь придумать… Сюда идут немцы, они хотят ломать стену… Им нужен выход на площадь Криштофа.
Агнеш молча, понимающе пожала Кати руку, опустилась за одну из машин, отодвинула в сторону болванку, несколько ящиков с обрезками тканей и пролезла в отделенную «стеной» часть подвала. А Кати в тревоге возвратилась обратно в убежище.
В той части шляпной мастерской, где прятались восемь солдат и тридцать женщин, было тихо и темно. Горела лишь одна коптилка. Люди лежали на соломе, кое-кто спал. Известие о надвигающейся беде подняло всех на ноги. Солдаты рассудили так: если немцам нужен выход, они будут идти вдоль коридора, а в дровяные чуланы, если есть на небе бог и он позаботится о нескольких десятках несчастных, немцы не заглянут. Разве что посветят по дороге фонариками. Штабеля дров в чуланах нужно сложить так, чтобы за ними можно было спрятаться людям. Если сидеть тихо, то, возможно, опасность их минует.
Без единого звука, при тусклом свете коптилки мгновенно исчезли с пола солома, разбросанные вокруг вещи, а в дровяных чуланах так быстро поднялись штабеля дров, словно это происходило в мультипликационном фильме.
— А вы возвращайтесь к себе, барышня Чаплар.
Но Агнеш не хотела уходить. Она вместе со всеми с невиданным проворством перекладывала дрова.
— Барышня Чаплар, следует разузнать обстановку, — почти тоном приказа сказал один из бородатых солдат. Он выглядел пожилым, у него был серьезный и представительный вид, но стоило ему побриться, сбрить свою бороду, и он выглядел бы, пожалуй, не старше двадцати двух.
Агнеш возвратилась к завалу, снова проползла сквозь баррикаду из старой печки, ящиков и швейной машины и осмотрелась. В мастерской не было ни души. Но из коридора, ведущего в общее убежище, доносился шум. Она незаметно вышла в коридор и увидела в толпе Кати. Протиснувшись к ней, Агнеш взглядом дала ей понять, что все предупреждены.
В коридоре убежища находилась группа левенте.
Все они были в штатском, но в форменных фуражках, на ногах у кого грубые туристские башмаки, у кого — полуботинки, на рукавах — красно-бело-зеленые повязки. Эти юнцы — были среди них и просто дети — уходили из дому резвыми, смеющимися, с пухлыми щеками, но сейчас все были на одно лицо — осунувшиеся от голода, с выступившими скулами, в глазах страх перед неминуемой смертью.
Съежившись, стояли они в коридоре чужого убежища, прижавшись друг к другу, словно видели в этом большую безопасность. Их командир, старший лейтенант, с головой круглой, как тыква, рисуясь перед немцами, устроил настоящие строевые занятия. Его окрики глухо отдавались под сводами подвала:
— Стой! Смирно! Кругом! Направо! Нале-во!
В пыльном коридоре и без того трудно было дышать. От бесчисленных взрывов со стен осыпалась копоть, падала штукатурка, паутина. А эти мальчишки, отчаянно стуча каблуками о пол, поднимали целые тучи пыли и еще больше загрязняли воздух. Круглоголовому лейтенанту, по-видимому, надоело без конца командовать.
— Смирно! — рявкнул он. Затем его хилое короткое тело вытянулось, и, покраснев как рак, он стал выкрикивать: — Левенте! Надежда нашей родины! Наши доблестные немецкие союзники сегодня ночью применят чудесное новое оружие! Приближается освободительная армия! Русские обращены в лихорадочное бегство! Нам выпала почетная задача: ровно в полночь атаковать русскую часть, которая все еще оказывает сопротивление здесь неподалеку. Даю вам пять минут на отдых. Попейте воды, освежитесь, чтобы пойти в атаку как подобает!.. Разойдись!
Мальчишки стали в очередь, Вальдемар Цинеге с добродушным видом наливал из ведра воду в подставляемые котелки. Женщинам было жаль дрожащих, истощенных подростков, некоторые давали стоявшим поближе тарелку супу или кусок мамалыги. Круглоголовый, поглядывая на своих подчиненных, которые, прислонившись к стене, жадно глотали остатки пищи, торопил их. А как только истекли пять минут, снова последовала команда: «Становись!» Старуха Тот, до сих пор боровшаяся сама с собой, наконец решилась. Она схватила кастрюлю с супом, отлила из нее немного в кружку для внука, а все остальное протянула левенте.
— Кушайте, ради Христа.
Четверо-пятеро подростков кинулись к кастрюле.
— Вы что, оглохли? — завопил офицер. — Назад!
Те остановились. Но один из них, смуглый, с большим носом, все же потянулся за кастрюлей, у него был такой вид, словно он готов был здесь, на месте, в эту минуту умереть за ложку супа.
— Если ты не оглох, так сейчас оглохнешь! — кричит круглоголовый и, подбежав к парню, отвешивает ему звонкую пощечину.
А суп, такой дорогой суп, мгновенно впитал голодный земляной пол подвала. Парень схватился за лицо — из-под пальцев от виска стекает тоненькая струйка крови.
— Ишь ты, мерзавец, еще подумают люди, что вы голодаете…
Женщины плотным кольцом окружили подростков. Эсэсовцы, устраивавшие барьеры из мешков с песком перед выходящими во двор окнами убежища, как раз в это время входили в подвал. Заинтересовавшись происходящим, они остановились. Один из немцев, фельдфебель, подошел вплотную к старшему лейтенанту с круглой, как тыква, головой и с удивлением поглядывал то на него, то, нахмурившись, на стоявших вокруг женщин.
Старшему лейтенанту кровь ударила в голову.
— Что здесь происходит? — заорал он на женщин. — Убирайтесь отсюда!
Но женщины не трогались с места. В тусклом свете свечи их лица казались еще более бескровными, глазницы — еще более темными, более глубокими — глаза и морщины голода, прорезавшие щеки. Подростки почувствовали в женщинах союзников, они поняли, что эти молчаливые свидетели не хотят выпустить их в ночь, отдать в объятия смерти.
— Господин старший лейтенант, ради бога, у меня в Комароме старая мать, вдова! — воскликнул светловолосый парень с безусым, еще не знавшим бритвы лицом. — Ради бога, не гоните нас на улицу, ведь у нас даже винтовок нет.
— Вы венгры, и у вас есть перочинные ножи!
— Господин старший лейтенант!
— Марш! На улицу!
Однако мальчишки не двинулись с места.
Эсэсовский лейтенант в очках, поняв, что происходит, тоже закричал:
— Марш! — и выхватил из кобуры пистолет.
Блеснуло оружие и в руке круглоголового.
Женщины немного подались назад, но дорогу не освободили.
В эту минуту подвал наполнился невообразимым грохотом, весь дом затрясся, со стен посыпались десятикилограммовые куски штукатурки. Это заговорили немецкие зенитные пушки, установленные на крыше. А сверху, заглушая все, неслись другие звуки, словно тысячи бомбардировщиков и истребителей одновременно пикировали на дом. Война добралась сюда, и бой сейчас шел здесь, рядом, за этот дом. На дворе, за стенами ревело, звенело, рычало все. Трещали пулеметы, рвались снаряды. Казалось, небо обрушилось на землю, ураган рвал тяжелые железные цепи, земля в муках и страданиях рождала великана.
Женщины не сводили глаз с направленных на них пистолетных стволов.
От очередного взрыва погасли свечи, и в дымном подвале тускло мерцали только огоньки карманных фонарей.
В возникшем замешательстве проворные руки вырвали из строя нескольких мальчишек. А пока немного осела пыль и зажглось несколько спичек, никого из ребят возле их командира уже не было. Женщины все в том же положении стояли в коридоре, прижимая к себе детей, молясь или неподвижно глядя вперед. Круглоголовый тоже стоял там на своем месте, но ствол его пистолета был теперь направлен в пол. Вальдемара Цинеге не было видно нигде.
Эсэсовский офицер смотрел на круглоголового.
— Какой-то странный подвал. Выход замурован, люди исчезают, как призраки. Ну, мы сейчас разберемся в этом сами.
А за стенами подвала ураган достиг своего апогея. Все слилось в единый страшный гул, сотрясающий весь мир.
Агнеш последней пробралась через мастерскую в дровяные чуланы. Кати, левенте, Вальдемар были уже там. Стало очень тесно, все сидели, прижавшись друг к другу. Каждый слышал напряженное, прерывистое дыхание соседей, тревожное биение их сердец. Гром, гул, грохот достигли такой огромной силы, словно там, наверху, у них над головой, по двору катились гигантские танки. Все это напоминало финал какой-то страшной симфонии, где скрипки и альты, фаготы и рожки, литавры и барабаны, трубы и кларнеты звучат одновременно, звучат с предельным напряжением, и вот-вот разорвутся рты, легкие, лопнут смычки и струны и последует ураган аплодисментов, взрыв бурной радости, засверкают миллионы огней…
Внезапно наступила тишина. Люди замерли.
Что это? Что сейчас будет? Какая новая опасность ждет их?
Агнеш почувствовала, что ее руки, ноги застыли, что сердце превращается в камень, вот-вот оно разлетится на части. Неужели то, что твердили немцы, правда — русские отступают и не освободят из фашистских когтей Будапешт? Что это за тишина? Что кроется за ней?
Она не знала, кто стоит рядом с ней в темном дровяном чулане; широко разведя руки, она обняла стоявших около нее. Остальные тоже подняли руки, чтобы обнять соседей. Так все и стояли, обнявшись, плечо к плечу, бежавшие из армии солдаты, подростки, швеи, прося друг у друга силы и поддержки, давая силу и поддержку друг другу.
Тишина была глубокой, всеобъемлющей. Так молчит зеркальная гладь воды в бездонных колодцах, пробитых в скале, так молчит лес перед восходом солнца, так молчит мать, улавливая слухом каждое дыхание ребенка, так молчит человек, когда решается вопрос о его жизни и смерти.
Но вот что-то звякнуло, стукнуло. Раз, другой, пятый, десятый.
Вскоре люди догадались: это кирками бьют в стену. Это орудуют немцы.
Объятия людей, вцепившихся друг в друга, стали еще более судорожными. Все затаили дыхание, закрыли глаза.
Звуки кирок, пробивающих стену, стали более громкими. Вот с шумом что-то обрушилось — кусок стены. Агнеш чуть не закричала во весь голос: стену ломали не изнутри, а снаружи!
Пока она соображала, дверь дровяного чулана с резким скрипом распахнулась. На пол свалилось со штабеля дров несколько поленьев. Яркий свет электрических фонарей упал на людей. Люди съежились, теснее прижались друг к другу, словно они стояли обнаженными в потоке света.
Луч света, будто разыскивая кого-то, прошелся по толпе людей, а затем погас. Сквозь распахнутые настежь двери проникал бледный свет.
Перед ними стоял солдат.
На плечах плащ, на голове шапка-ушанка, в руках автомат. Это был рослый мужчина с голубыми глазами и непокорной прядью русых волос, выглядывающей из-под шапки. Лицо его было в пыли и копоти, под глазами темно-синие круги, белые зубы сверкали: он что-то сказал и улыбнулся. Никто не понял его слов. Но то, как он улыбнулся, то, что в голосе его не было никакой злобы, подействовало успокаивающе. На шапке солдата — теплая красная пятиконечная звезда.
Агнеш вдруг поняла, что наступил мир. Что она жива.
В голубых глазах солдата было все: смех детей, яркие краски весенних полей, строящиеся дома под новенькой красной черепицей, веселый бег паровозов, лазоревое зеркало Балатона, мир, жизнь…
Солдат поднял руку и показал на выход из подвала. Всем своим видом он выказывал удивление — почему они не идут? Ведь они свободны.
Люди с землистыми, истощенными лицами, бледные дети бросились друг к другу в объятия, чтобы вместе насладиться этим незабываемым мгновеньем. Возбужденная толпа кинулась к лестнице, ведущей к выходу из подвала. Плача, смеясь, обьясняя что-то, опьяненные, стояли они во дворе; в снежном январском небе начинался рассвет. Агнеш вместе с остальными, судорожно глотая воздух, бежала по двору.
— Агнеш, Агнеш, выходи на улицу, — услыхала она голос Кати.
Взявшись за руки, девушки выбежали за ворота.
По улице шли солдаты с красными звездочками на шапках. Шли, шли и шли.
Они выходили из переулков, из подвалов, шагали через развалины, проходные дворы, а на широком проспекте Кароя сливались воедино, в бесконечную зеленую реку. Они не стучали сапогами, не отбивали шаг, не держали строгого равнения, не поднимали высоко ноги в парадном марше, а просто шли. Они шли под серым, дымным, закопченным небом, по улицам, покрытым окровавленными, замерзшими, заснеженными грудами щебня, мимо домов без окон, с зияющими проломами в стенах, среди оборванных, шатающихся от голода и плачущих от радости людей, шли, шли и шли.
Шли в белых маскировочных халатах и зеленых ватных куртках, шли пешком и ехали на окрашенных в защитный цвет танках, в повозках, сидя на сене и ящиках с боеприпасами, запряженных маленькими лошадьми, ехали молча и жуя хлеб, с заброшенными за спину автоматами, старые и молодые, невысокие и огромные, ростом в добрых два метра казаки, улыбающиеся и серьезные, плечистые парни и худощавые юноши, раненые с забинтованными головами и висящими на перевязи руками, девушки-регулировщицы с желтыми и красными флажками, генералы в грубых сапогах. На груди их — ордена за бои под Сталинградом и Севастополем. Они шли, протягивая линии связи и поворачивая стволы зенитных пушек, вспоминая сожженные украинские деревни и мечтая о возвращении домой после окончания войны, шли, шли и шли.
Людской поток переливался живыми, чудесными волнами, словно пришла в движение сама земля — поля с колеблемой ласковым ветерком нежной весенней порослью, луга со свежей и мягкой муравой. Нет-нет, это вовсе не земля. Море, зеленое пенящееся море — мать всего живого, море, безбрежная свобода… Оно катилось, могучее и нежное, безмолвное и рокочущее, неумолимо и победоносно, его удары все возрастали, становились все более могучими, они рвали цепи и сметали кандалы.
KLÁRA FEHÉR
A TENGER
Budapest 1956
КЛАРА ФЕХЕР
МОРЕ
РОМАН
Часть первая
Перевод с венгерского И. САЛИМОНА
Редактор А. СОБКОВИЧ
ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1959
Клара Фехер
МОРЕ
Художник С. Громан
Технический редактор Л. М. Харьковская
Корректор И. Н. Тимошкова
Сдано в производство 3/1V 1959 г. Подписало к печати 1/VI 1959 г. Бум. 60×921/16=12, бум. л. 24 печ. л. Уч. — изд. л. 24,7. Изд. № 12/4006. Цена 13 р. 85 к. Зак. № 2993
ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Москва, Ново-Алексеевская, 52
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Московского городского совнархоза Москва, Ж-51, Валовая, 28