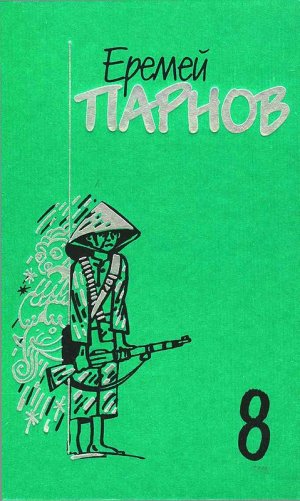
Красный бамбук — черный океан
Лето падения Парижа тысяча девятьсот сороковое было отмечено цветением миртов. В старинном вьетнамском месяцеслове на этот год сошлись знаки Металла и Дракона. Ему сопутствовала мужская стихия, которой противостоял мирт — цветок любви и смерти.
Глава 1
Фюмроля разбудил жестяный шелест цикад. Он испуганно встрепенулся, хотел вскочить, но тут же запутался в податливой марле антимоскитного полога. Казалось, все еще длится душный кошмар, заставивший его сбросить с себя льняную пижаму, ставшую такой же горячей и влажной, как измочаленные простыни, как эта враждебная подушка. Свою первую ночь в тропиках он провел ужасно. Сначала терзал один-единственный комар, контрабандно проникший сквозь заслоны из марли. Неуловимый, беззвучный, он неустанно тиранил доведенную до отчаяния жертву. Фюмроль метался под пологом, исступленно хлопая в ладоши, то и дело зажигал свет или распрыскивал одеколон. Но все было бесполезно. Едва он смыкал распухшие от укусов веки, как следовал новый ожог. Наконец, затаив дыхание и стиснув зубы, он подстерег и расплющил невидимого истязателя у себя на щеке. Теперь, казалось, можно было уснуть спокойно. Потянулись тягучие изнурительные минуты полусонного забытья, когда ночное сознание томит душу бесполезными сожалениями, заманивая утомленный ум в непроглядные лабиринты. Отчетливо и зловеще тикали часы у изголовья. Смутные тени перебегали по потолку. Борясь с бессонницей, Фюмроль поймал себя на том, что расчесывает укусы. Вспомнились настоятельные предупреждения знатоков, что этого делать не следует. Фюмроль смочил слюной разбухшие, налитые жаром пальцы и включил фен. Спать под феном ему, во избежание самых жесточайших простуд, тоже никак не советовали. Но уже не хватало сил ни думать, ни вспоминать. Отбросив к ногам мятую-перемятую подушку, Фюмроль осторожно выпростал из-под полога руку, нашарил бутылку анисовки и, лежа на боку, сделал несколько жадных глотков. Это, пожалуй, был самый разумный поступок за всю ночь, наполненную скрипами и плотоядным чмоканьем шнырявших по потолку бледно-розовых ящериц.
Проснувшись, Фюмроль взглянул вверх. Ящерицы исчезли. Только широкие лопасти фена с угрожающей силой метались под потолком. Его скрежет и вой заглушали мириады ножниц, стригущих кровельное железо. Цикады и комары в этой стране были одинаково беспощадны. За окном, затянутым мелкой стальной сеткой, разгорался скоропалительный день.
Вставая, Фюмроль обнаружил на постели бутылку. Удивленно покривившись, но так ничего и не вспомнив, он глотнул из горлышка и принялся за утренний туалет. Когда выбритый и благоухающий одеколоном, он присел у чайного столика, ужасы прошедшей ночи представились в несколько смешном виде. Он раскрыл черную лаковую коробочку и, насыпав серебристо-зеленого чая в тонкий фарфоровый чайник, плеснул из термоса кипятку. Потом долго смаковал золотой напиток, нежно пахнущий алым жасмином. С каждым глотком крепло почти животное ощущение довольства. Фюмроль неожиданно обрадовался тому, что молод, здоров, хорош собой и, кажется, чертовски проголодался. Выплеснув остывший чай из полупрозрачной, с прихотливым синего кобальта орнаментом чаши, он заварил еще щепотку и, дожидаясь, пока настоится, подошел к окну.
Во внутреннем дворике отеля кипела жизнь. Черноволосые миниатюрные женщины в черных шелковых брюках и светлых блузах таскали тюки с бельем, бой в малиновой ливрее спешил куда-то с утюгом, точил длинные ножи поваренок. И полным-полно было ребятишек: стройных девочек с любопытными, по-женски умудренными глазами и полуголых мальчишек, которые смеялись даже тогда, когда падали и разбивали себе носы. Там, внизу, еще плавал голубой сумрак, но небо над черепичными крышами наливалось ленивым зноем, недвижимы были перистые листья веерных пальм, широкие изодранные опахала бананов бросали причудливые тени на желтые стены домов. Запах помоев, которые выплескивались прямо во двор, смешивался с тревожным чадом сандаловых воскурений и сладостным дыханием незнакомых цветов. Фюмроля переполняло предчувствие необыкновенных и радостных перемен. Он ощутил себя моряком, выброшенным после кораблекрушения на незнакомый берег. Его ждала совершенно новая жизнь, и нужно было поскорее забыть о прошлом. Где-то там, за океаном, осталась униженная страна, которую заполнили колонны беженцев, пленительный пепельно-сизый город, чьи вечные мостовые искорежены стальными гусеницами черных танков и стонут под копытами чужих лошадей. Поскорее забыть обо всем, выбросить из сердца и памяти. Иначе дни, которые предстоит прожить под перламутровым небом Индокитая, станут для Фюмроля страшнее вчерашней ночи.
Допив чай, он распаковал чемоданы и переоделся в белое. В тропиках к протоколу относятся весьма снисходительно, и он еще накануне решил, что не станет дожидаться, когда вернут из глажки парадный мундир. Повседневный френч с погонами и орденской планкой почти не измялся, и в нем смело можно было предстать перед генерал-губернатором.
Он сбежал вниз по широкой лестнице, мимо пары фаянсовых слонов, которые несли на спинах вазы с диковинными растениями, и, насвистывая легкомысленную песенку, вошел в телефонную кабину. Вспыхнула красноватая лампочка.
— Соедините меня с резиденцией, мадемуазель, — попросил Фюмроль, дождавшись вопроса оператора. Ему несколько раз пришлось назвать свое имя, прежде чем трубку взял личный адъютант генерала Катру.
— Майор Фюмроль? — с ленивым удивлением переспросил адъютант. — Из Парижа?
— К сожалению, из Виши, — г-не удержался Фюмроль. — Я прибыл в Ханой только вчера вечером.
— Да-да, знаю, мы ожидали вас, майор… Сейчас я доложу его превосходительству.
В кабине сделалось душно. Фюмроль вынул платок, отер мокрый лоб и ногой приоткрыл дверь. Из мраморного вестибюля повеяло искусственным ветром, но прохладнее от этого не стало. Наконец послышался сухой, чуть надтреснутый голос Катру:
— Рад приветствовать вас в Индокитае, маркиз. Вы уже завтракали?
— Выпил чашку чая, мой генерал, — ответил Фюмроль, с сожалением прикрывая дверь.
— Вот и чудесно. Позавтракаем вместе. Через полчаса за вами заедет автомобиль.
Фюмроль поблагодарил и поспешно выскочил из кабины, сжимая в руке горячий платок. Проходя мимо зеркала, он обнаружил у себя на спине темное пятно. Недаром его предупреждали, что рубашку здесь придется менять чуть ли не каждый час.
В зале за столиками вдоль стен и перед деревянной стойкой бара уже сидело несколько офицеров: морской лейтенант, пожилой артиллерист, африканский стрелок, засунувший красный берет под погон, и несколько легионеров в малиновых эполетах. Небрежно вытянув ноги, они потягивали оранжад «бирли». Белые кепи лежали прямо на столиках, заставленных стаканчиками с молочной жидкостью. Фюмроль отметил, что здесь, как и в Алжире, предпочитают пить разбавленный водой анисовый «касси». Он с удовольствием прошелся бы по затененным акациями и карликовыми баньяанами улицам, благо они были обильно политы водой, а солнце еще не высоко поднялось над крышами. Да и вообще от «Метрополя» до резиденции было буквально рукой подать. Но приходилось считаться с местными предрассудками. Взглянув на часы, он присел за ближайший столик.
Из-за колонн неслышно выскользнула девушка в кружевном передничке и наколке и вопросительно уставилась на него черными непроницаемыми глазами. Одни лишь губы раскрылись в дежурной улыбке. Мановением руки Фюмроль указал на соседний столик, где пили анисовку. Проводив девушку взглядом, он отметил, что она красива той непередаваемо тревожной, волнующей красотой, которой отмечена чуть ли не половина молоденьких женщин этой страны.
«Когда вы вдруг поймете, — поучали его знатоки, — что местные красотки нравятся вам больше парижанок, значит, вы готовы и вам надо немедленно сматываться домой». Но то, что должно было произойти лишь через многие месяцы, случилось в первый же день, когда он сошел с парохода в Хайфонском порту. С грустной радостью он осознал, что тонкинские женщины уже теперь кажутся ему самыми прекрасными в мире. И это не удивило его. За спиной оставался пароход, океан и шумные порты полумира. Только Парижа больше не существовало. Некуда возвращаться и некуда дальше бежать.
«Какое утонченное, какое умненькое личико», — подумал Фюмроль, искоса наблюдая за официанткой. Вытерев столик, она налила ему «касси» и поставила мельхиоровый кувшинчик с колотым льдом. «Не пользуйтесь льдом, — опять вспомнилось чье-то наставление, — они наверняка делают его из некипяченой воды». Но атмосфера Востока уже проникла в сердце Фюмроля. Бестрепетной рукой он наклонил кувшинчик и разбавил анисовку талой водой. Тягучий ликер побелел, в стакане закружились слюдяные блестки выпавших кристаллов. Разом схлынуло напряжение, стало вольнее дышать и освежающий холодок пробежал по разгоряченной спине. Фюмроль забыл даже про влажное пятно на мундире. Человека, который только что чистил у себя в номере зубы, озабоченно макая щетку в налитый из термоса кипяток, уже не было. Он растворился, исчез, как растаявший лед. Фюмроль вновь взглянул в зеркало и остался доволен. Элегантный военный, цедивший, полузакрыв глаза, «касси», почти ничем не отличался от пропыленных красной глиной и прожаренных под экваториальным солнцем колониальных ветеранов. Разве что загар, который Фюмроль приобрел за две недели плавания, выглядел чуточку светлее.
— Вы надолго к нам, майор? — долетел до него небрежный вопрос.
Фюмроль приоткрыл глаза и медленно повернул голову. Морской лейтенант у стойки лениво поднял палец.
— Кто может знать? Надеюсь, что не навсегда.
— Мы все надеялись на это, — усмехнулся моряк. — А с другой стороны, чего бога гневить? Сегодня лучше здесь, чем там… Вы давно с дорогой родины?
— Не прошло и месяца, — ответил Фюмроль. — Но даже за такой срок она ухитрилась сделаться еще меньше.
— Бесноватый Адольф режет нас, как страсбургский паштет, — вступил в разговор пожилой легионер с выгоревшими добела волосами. — Впрочем, прошу прощения, — он прикрыл рот ладонью. — Молчу!
— Еще бы! — рассыпался неприятным смехом, но тут же закашлялся моряк. — Теперь боши — обожаемые союзнички… Здорово они загадили Париж?
— Не знаю, — покачал головой Фюмроль. — После перемирия я не был в оккупированной зоне. — Про себя он отметил, что люди здесь пока еще говорят откровенно. В Виши подобные разговоры, наверное, велись шепотом.
— Но положение на месте вы же должны знать? — нетерпеливо стукнул кулаком по столу морской лейтенант. — Или это военная тайна, которую можно доверить только губернатору?
«Здесь все про всех известно, — подумал Фюмроль. — Как в деревне».
— Прошу прощения, господа. Это за мной, — сказал он, кивая на окна, за которыми остановился раскрашенный маскировочными пятнами открытый «ситроен». — Резко встал, подписал счет и, зажав под мышкой кепи с кокардой и шнуром штаб-офицера, направился к дверям, которые услужливо распахнул перед ним сухонький швейцар-тонкинец. «Такое же умненькое лицо, словно вырезанное из потемневшей кости, и та же непроницаемая тайна в глазах», — успел подумать Фюмроль, переступая порог.
На миг его охватило предчувствие какого-то необыкновенного озарения, когда с вещей и явлений разом спадает покрывающая их мишура и все становится отчетливым и простым, как в детстве. Но неприятный истерический смех за спиной прогнал иллюзию.
— Привет папаше Жоржу! — выкрикнул моряк. Зазвенело разбитое стекло. — Он уже сидит на чемоданах.
Фюмроль вышел, не оглядываясь. Он не слышал, как товарищи урезонивали подвыпившего лейтенанта, и только в машине сообразил, что «папаша Жорж» не кто иной, как Жорж-Альбер-Жюльен Катру, генерал-губернатор французского Индокитая. «Сидит на чемоданах!» И это тоже известно…
Европейские кварталы поразили Фюмроля безлюдьем, тишиной и обилием цветущих деревьев. Порой мелькал затененный пальмами гамак, в котором покачивалась женщина с журналом в руках, или пестрая коляска с младенцем, утопающим в кружевах. Но сами двухэтажные особняки с солнцезащитными выступами и глубокими окнами, на которых были опущены жалюзи, казались вымершими. Переливались в косых лучах фонтанные струи. Неслышно падали на тротуар золотые, алые, желто-белые, фиолетовые лепестки. Лишь однажды, когда машина выехала на перекресток, перед ним открылась манящая сутолока туземной улицы с ее магазинчиками и фруктовыми лавками в нижних этажах, столпотворением велорикш, пестротой зонтов и бумажных фонариков. Среди женщин, которые были одеты в традиционные блузы и черные брюки, среди крестьян в коричневых домотканых одеждах и конусообразных шляпах из пальмовой соломы он заметил бритоголового монаха с кокосовой чашкой и астролога в черном халате, расшитом золотыми непонятными письменами.
«Все хотят знать будущее, — грустно улыбнулся Фюмроль, — но оно закрыто даже для самого прорицателя». Они проехали вдоль мутно-зеленого, как нефрит, озера, посреди которого виднелся остров с многоярусной башней. Женщины стирали белье, мальчишки удили рыбу. Звенел, покачиваясь на поворотах, обвешанный людьми трамвай. В зарослях ив прятался храм с чешуйчатой крышей, на гребне которой колючие драконы целовали солнечный круг. Фюмролю показались до странности знакомыми и эти извилистые чудовища на крыше, и горбатые мостики над темной водой, и скрюченные шелковистые ивы. Промелькнули миртовые кусты, белые ворота, которые стерегли причудливые изваяния воинов и неестественно желтые тигры, блеснуло загадочное золото иероглифов на красном лаке. Где, в каком заколдованном сне он мог видеть все это? Вспомнилась Япония. Нара, Киото. Золотой павильон над лотосовым прудом и темные синтоистские храмы под сенью криптомерий, где ручные олени шелковисто и горячо тычутся в руку. Нет, в Японии все было иным: краски, запахи, звуки и даже сновидения среди белого дня. Он инстинктивно прижал к себе массивный портфель крокодиловой кожи с номерным секретным замком.
«Ситроен» остановился перед высоким забором. Сквозь узорный чугун ограды виднелся розоватый Дворец под зеленой крышей, фонтаны, куртины штамбовых роз, веерные пальмы и кусты гибискуса, его белые ночные цветы только начали наливаться неистовой кровью дня. Проверив документы, сержант военной полиции вернулся в будку и включил рубильник.
Створки ворот стали медленно раскрываться. Шурша по влажному гравию, машина въехала под навес. Дворецкий в жемчужно-сером камзоле и парике с буклями мельком взглянул на визитную карточку и, взмахнув жезлом, торжественно провозгласил:
— Майор Валери-Гастон, маркиз де Фюмроль!
Только гулкое эхо было ему ответом.
Губернатор принял гостя в домашней куртке, расшитой бранденбурами, и сразу же провел в личные апартаменты, где в отделанной мореным дубом столовой резко белел накрытый на две персоны стол.
— Я забыл спросить о ваших вкусах, — улыбнулся генерал, разворачивая салфетку. — На всякий случай мой повар приготовил пулярку по-бресски и несколько сравнительно безопасных туземных блюд. Вы хорошо переносите острое?
— Вполне, — наклонил голову Фюмроль, опуская портфель у своего кресла. — Благодарю вас, мой генерал, — он ответил несколько принужденной улыбкой. — Пусть мои вкусы вас не смущают. Я не страдаю гастрономическим консерватизмом.
— Хорошо сказано! — довольно потер пухлые ручки Катру и вдруг сверкнул на гостя хитрым, понимающим глазом. — И это мне известно, маркиз… — Он отпил глоток минеральной воды и постучал по бокалу тщательно подпиленным ногтем. — Как видите, и к нам доходит «виши».
Фюмроль позволил себе вежливо поднять брови. Двусмысленная шутка генерала в равной степени намекала и на поставки минеральной воды, которые, очевидно, не могла прервать даже проигранная война, и на новые веяния в политике маршала Петэна.
— Вы уже три недели в пути, — как ни в чем не бывало продолжал Катру, — и очень торопитесь, потому что в портфеле у вас важные бумаги. Но что они значат, если в душе безверие и тоска? К тому же вы скверно выспались, — заметил он, пряча улыбку. — И, видимо, еще не научились уничтожать москитов под сеткой.
— От вас ничего не укроется, мой генерал. — Фюмроль принял более свободную позу.
— Да-да, чувствуйте себя как дома, милый маркиз, — Катру покровительственно кивнул. — И не судите меня строго за болтовню. Дела подождут. Нам некуда торопиться, потому что наш поезд давно ушел.
Мы знаем друг друга достаточно давно и можем позволить себе несколько минут откровенности. Тем более что хорошая еда располагает к остроумной беседе. — Он позвонил в серебряный колокольчик. — И вообще гостя принято прежде всего накормить. Вы же порядком проголодались.
— Я бы этого не сказал.
— Пустое, мой друг. Золотистый чай, который вы, наверное, отведали, встав ото сна, очень способствует выделению желудочного сока. Меня не проведешь.
— Сдаюсь, ваше превосходительство, — в знак капитуляции Фюмроль выдернул из кольца салфетку.
— Что ж, мой друг, вы лишь следуете примеру пославшего вас правительства, — нарочито кротко проворковал Катру и, подняв голову, оглядел Фюмроля тяжелым изучающим взглядом.
— Не совсем так, мой генерал, — трудно сглатывая комок в горле, криво усмехнулся майор. — Идея направить к вам уполномоченного по связи с японской стороной была выдвинута еще при правительстве господина Рейно, так что, с известной натяжкой, меня можно рассматривать как посланца сражающейся Франции, хотя и запоздавшего. В день подписания капитуляции в Компьенском лесу я болтался где-то между Сардинией и Суэцем… Извините, мой генерал.
Пожилой тонкинец в белых перчатках и безукоризненном смокинге бережно вкатил столик, уставленный всевозможными кушаньями.
— Чувствуете, какое благоухание? — генерал поднял сверкающую крышку, под которой в нежном облачке пара туманилась искусно нашпигованная курица. — Пулярка по-бресски! — Он довольно потер руки и приоткрыл следующий колпак. — А здесь?.. О! Креветки с ростками бамбука и проросшими пшеничными зернами! И еще изумительно нежные пирожки с мясом! Сразу видно, что Тхуан постарался ради гостя. Верно, Тхуан?
Скуластое, изъеденное оспой лицо повара озарилось мгновенной улыбкой. Он издал довольное ворчание и, не переставая что-то бормотать, ловко принялся сервировать стол: французские блюда на севрских тарелках, вьетнамские — в глубоких, украшенных голубыми драконами чашках.
— Не слишком ли обильно для завтрака? — поинтересовался Фюмроль, жадно вдыхая пряные запахи незнакомых блюд.
— Привыкайте к тропикам, мой дорогой. Днем вам будет не до еды. В жару спасает только зеленый чай. Сто раз успеете проголодаться, пока на землю снизойдет вечерняя прохлада… Лично я предпочитаю начинать день с фо — крепкого и острого мясного супа с рисовой лапшой. Это настоящая зарядка!.. Что будете пить, маркиз?
— Полностью полагаюсь на ваш вкус.
— Тогда «Мутон Ротшильд», Тхуан, — распорядился генерал. — Да, подай рыбный соус и чили. Будьте осторожны, — он пододвинул Фюмролю блюдечко с нарезанным крохотными кружочками красным перчиком. — Это настоящий тротил! Рекомендую смешать его с рыбным соусом. Кстати, Вьетнам — единственное место в мире, где употребляют рыбный соус. Мне нравится, хотя, скажу честно, эта штука на любителя. Тхуан получает его с острова Фукуок. Только там готовят настоящий янтарный ныок мам из мелкой рыбы нук, которая преет в соляных чанах под жарким солнцем. Вас это не смущает?
— Ничуть, — сжал зубы Фюмроль, почти теряя сознание от одного запаха рыбного соуса.
— Пожалуй, не стоит для первого раза, — пощадил его хозяин. — Камон, — поблагодарил он по-вьетнамски повара. — Можешь идти, Тхуан. Нет, постой! — Он повелительно щелкнул пальцами и указал на радиоприемник, стоявший на низком столике в окружении фарфоровых старичков с шишковатыми головами.
Перед тем как уйти, Тхуан поймал какую-то китайскую станцию и повернул колесико на полную мощность.
— Привыкайте, — снисходительно пояснил Катру. — Иначе здесь нельзя. Как говорится, даже стены имеют уши. Подслушивают все поголовно: японцы, немцы, голландцы, китайцы. Ну, как вам показалась пулярка?
— Превосходна! — чистосердечно похвалил Фюмроль. — Лучше, чем у «Максима».
— Не сомневаюсь! Моему Тхуану цены нет. В Париже он мог бы зарабатывать десятки тысяч франков.
— Надеюсь, он не знает об этом? — пошутил Фюмроль.
— Я твержу ему о прелестях заморской родины чуть ли не ежедневно. — Катру рассмеялся. — Только он никуда не поедет. У туземцев, знаете ли, необычайно развито чувство патриотизма. Слишком, я бы даже сказал, развито, гипертрофировано. Европейцу этого не понять. Такова специфика нашей проклятой страны. — Он помрачнел и замолчал. Потом закончил, вздохнув: — Меня Тхуан, кажется, любит почти так же сильно, как и свою родину.
— Вас это не радует?
— Я о другом, маркиз, — генерал раздраженно отбросил вилку. — Просто мы катимся в пропасть. Все ускользает из рук: Франция, Париж, проклятый и трижды благословенный Индокитай. Ничто уже не имеет смысла и не стоит усилий. Вы не согласны?
— В принципе вы правы, мой генерал, — деликатно понизил голос Фюмроль. — Но человеку свойственно надеяться на лучшее. Пока живешь, надеешься…
— В вас говорит молодость, — горько усмехнулся Катру, — неистребимая и слепая сила. А со мной все кончено, маркиз, — еле слышно выдохнул он и бессильно опустил руки.
Гремела странная музыка, отрывистый мужской голос выкрикивал речитативом слова на незнакомом языке, и надсадно гудел кондиционер, овевая затененную комнату благодатной прохладой. Фюмроль сделал вид, что всецело поглощен жареными креветками.
— Уже известен мой преемник, маркиз?
— Простите, ваше превосходительство?
— Мой молодой друг, здесь все только о том и говорят. Да и может ли быть иначе? В Виши никогда не простят мне голлистских симпатий, и если не сам маршал, то адмирал Дарлан уже подыскал более подходящую кандидатуру. Из чисто человеческой суетности мне хочется знать, кто он. Только не пытайтесь меня уверять, что в Париже об этом не было речи. В высшем колониальном совете, на Кэ д’Орсэ.
— Но Парижа нет, сударь, — прервал генерала Фюмроль.
…До боли отчетливо вспомнился день исхода, когда солнце, похожее на лунный диск, неслось в жирных клубах горящей нефти и лохмотья копоти засыпали каменные мосты Сены. Свой старенький «пежо» они с Колет бросили прямо на дороге. Ни за какие деньги нельзя было купить бензин. Пошли куда глаза глядят и с толпой беженцев добрели до Жанвиля. Чего искали они в этом жалком, запруженном людьми городишке, где их ждала лишь холодная ночь в придорожной пыли? Странно, но он почти ничего не помнит. Зачем? Почему? Даже лицо Колет с трудом удается извлечь из темноты. Как медленно, как непокорно возникает целостный образ. Его приходится собирать, словно разорванную в клочки фотографию. И вообще, все, что было до Тура, спрессовалось в неразличимую клубящуюся массу: встречи, дороги, ночевки, постоянные слухи о каком-то немецком десанте, мокрые от слез щеки Колет. «Где сегодня правительство? В Бордо? В Пуатье?» Сквозь крик и плач, сквозь гул самолетов в ночном небе, озаряемом лихорадочным лучом прожектора, до него донеслась непонятная, разорванная на слоги речь и звон гонгов.
Угрожающе зеленел огонек приемника. Чьи-то темные с искалеченными ногтями руки водрузили на белую скатерть блюдо с сырами: бри, пон-л’эвек, камамбер.
—…Не удивлюсь, если это случится уже завтра, — продолжал развивать свою мысль Катру, — или через неделю, когда в Сайгон придет «Пикардия». Это всего лишь случайность, приятная бесспорно, что вы обогнали фельдкурьера, который везет мне отставку… Попробуйте бри, он со слезой.
— Нет Парижа, — повторил Фюмроль, поежившись, словно в ознобе, и отчужденно сказал: — В Бордо или уже в Виши я встретил Мориса Палеолога. Если я не ошибаюсь, он говорил мне о Жане Деку.
— Так я и думал! — Катру раздраженно смял салфетку. — Адмирал Деку! Ну, разумеется, прихвостень Дарлана. Из той же шайки капитулянтов. — Он оживился, словно испытал внезапное облегчение, и заговорил совершенно свободно, не прибегая к двусмысленностям и недомолвкам: — Я стыжусь надевать генеральский мундир. Немцы положили нас на обе лопатки за какие-нибудь полтора месяца. Позиционная война, разумеется, не в счет. Для меня исход кампании стал ясен уже через две недели. Когда противник совершил прорыв у Седана и вышел к Ла-Маншу, все было кончено.
Подумать только: дважды за последние семьдесят лет судьба Франции решилась в одном и том же месте.
— Я тоже думал об этом роковом совпадении, мой генерал. После Седана семидесятого года была создана Третья республика, после Седана нынешнего ее умертвили.
— Да, сударь, комедия сыграна… А жаль!
— Сыграна ли, ваше превосходительство? — Фюмроль смочил пальцы в полоскательнице. — У нас еще осталась Северная Африка, которая на протяжении десятилетий была основным центром империи. Мы держим в руках Мадагаскар, обширные территории в Южной Америке, Сирию и Ливан, весь Индокитай с его рисом и минеральными ресурсами.
— Не знаю, как обстоят дела в Алжире или Тунисе, но Индокитай нам долго не удержать. Вы это знаете не хуже меня. В противном случае я бы не имел удовольствия принимать вас здесь, в Ханое. — Катру предупредительно раскрыл ящичек с манильскими сигарами. — Прежде чем мы пройдем в кабинет и займемся делами, — на его лице мелькнула пренебрежительная улыбка, — расскажите мне немного о подоплеке вашей миссии. Почему именно вас, а, скажем, не другого маркиза, носящего громкое имя византийских императоров, отправили за океан? Как это получилось? Только откровенно! Я готов первым подать пример. Признаюсь, что просил колониальный совет откомандировать в мое распоряжение Клода Морена, бывшего военного атташе в Токио. Но прибыли почему-то вы.
— Морен погиб от фугасной бомбы. И вообще в Туре была такая неразбериха, что сюда могли прислать кого угодно, первого попавшегося офицера из второго бюро или даже вовсе какого-нибудь консьержа из дома, где живут японские дипломаты.
— Тем не менее выбор пал на вас. Видимо, это не случайный выбор. Насколько я знаю, вы тоже находились на дипломатической службе в Японии, знаете язык… Притом вы, кажется, авиатор?
— Это не в счет. Летал на стареньком «амио»…. двести километров в час. Не удивительно, что меня подбили в первом же воздушном бою над Па-де-Кале…
— Мы уходим от темы, майор, — властно остановил его Катру. — Меня интересует Тур.
— В самом деле? Ну что ж, откровенность за откровенность. — Фюмроль замолк, собираясь с мыслями, затем, играя гильотинкой для сигар, спросил: — Про пощечину, которую получил Лаваль, знаете?
— Мы здесь как на краю вселенной, — уклонился от ответа Катру. — Расскажите.
— Когда мы с женой добрались наконец до Тура, судьба Парижа была уже решена и крепко пахло предательством. О капитуляции говорили совершенно открыто. Один из министров, с которым я столкнулся на пороге мэрии, признался, что новый главнокомандующий Максим Вейган считает наше положение безнадежным. Его предложение о перемирии с немцами одобрили оба заместителя премьера — маршал и Камиль Шотан. Но этого Вейгану показалось недостаточно, и он пошел на открытую провокацию. Когда состоялось очередное заседание кабинета, он вдруг с озабоченным видом поднялся из-за стола и куда-то удалился. Но не прошло и пяти минут, как вернулся и, держась за сердце, трагическим голосом сообщил: «Коммунисты завладели Парижем! В городе беспорядки. Морис Торез заседает в Елисейском дворце!» Выдержав драматическую паузу, Вейган потребовал немедленно начать переговоры о перемирии. «Мы не можем отдать страну коммунистам, это наш долг перед Францией!» Говорят, что эти слова он произнес, вскочив на стул. Ему даже аплодировали. Присутствие духа сохранил только Жорж Мандель. Он снял трубку и потребовал немедленно соединить его с префектом столицы. Разумеется, выяснилось, что все утверждения Вейгана — чистейший блеф. В Париже было спокойно, как на кладбище. Провокация не удалась. Но капитулянтские настроения уже прочно угнездились среди высших офицеров, правительственных чиновников и дипломатов, заполнивших в те дни не только гостиницы Тура, но даже старые замки на Луаре.
Пьер Лаваль не скрывал злорадства. Я как раз сидел в том самом кафе, где он произнес импровизированную речь перед господами с Кэ д’Орсэ. Он говорил, что всегда стоял за соглашение с Германией и Италией. Францию, видите ли, погубила безумная пробританская политика и авансы, которые делались Советам. «Если бы послушались меня, — закончил он, — Франция была бы теперь счастливой страной, наслаждавшейся благами мира». Рядом со мной сидел отец моего однополчанина, которого сбили в том же воздушном бою, что и меня. Он спокойно встал, подошел к оратору и вежливо осведомился: «Господин Лаваль?» Никто и глазом не успел моргнуть, как он отвесил бывшему премьеру полновесную оплеуху.
— Это как-то отразилось на вашей судьбе?
— Возможно. Инцидент привлек всеобщее внимание, и, когда японский посол потребовал встречи с премьером, кто-то из чиновников вспомнил, что видел меня в кафе.
— И вы взяли на себя роль переводчика?
— Разумеется. Японцы, как вы знаете, оказали сильный нажим, и было решено, не откладывая, послать в Ханой человека для связи. Я просто вовремя подвернулся под руку. Случай.
— Действительно случай, — покачал головой Катру. — Где ваша супруга?
— Она сейчас в Виши. Ожидает ребенка.
— А вы, получается, так и не доехали до нашей последней столицы?
— В тот день, когда национальное собрание размещалось в здании тамошнего казино, я сел на пароход в Марселе, — холодно отчеканил майор. — Вы удовлетворены, мой генерал? — Фюмролю показалось, что Катру чем-то разочарован. Возможно, он надеялся хоть одним глазком заглянуть в лабиринты политических интриг «новой Франции», запутанных и противоречивых. Случайность, выдвинувшая Фюмроля на важный дипломатический пост, в известной мере была предопределена царившей в верхах атмосферой безответственности и неразберихи, не могла приоткрыть закулисной раскладки.
Неслышно вошел Тхуан, и все так же благодушно ворча, смахнул со стола крошки щеткой из петушиных перьев, переменил холодную воду в стаканах и, склонившись к приемнику, издававшему прерываемый морзянкой треск, настроил его на другую передачу.
— Вы видели Черчилля? — спросил Катру.
— Я находился в здании мэрии, когда он вместе с Галифаксом и Бивербруком прибыл для беседы с Рейно и Вейганом. Обе стороны знали, что встречаются как союзники, быть может, в последний раз. Об операциях на континенте не было и речи. Англичан интересовало только одно: будет ли Франция продолжать войну в Африке. Как-никак у нас еще оставались обширные территории с семидесятимиллионным населением и непобежденный флот.
— Не все потеряно, как вы только что сказали? — задумчиво протянул Катру. — Не стану спрашивать о вашем личном отношении к генералу де Голлю, маркиз. В нынешних обстоятельствах это было бы нетактично.
Фюмроль промолчал. Нащупав ногой портфель, он стал следить за ящерицей на потолке, которая то надолго замирала, то, рванувшись вперед, ловко хватала зазевавшуюся мошку. Даже приемник не мог заглушить ее чмоканье, так похожее на ликующий смех.
— Не угодно ли пройти в кабинет, майор? — пригласил Катру, вставая, и, обернувшись к повару, бросил: — Проводи господина, Тхуан.
Кабинет генерал-губернатора напоминал контору преуспевающего адвоката. В застекленных шкафах палисандрового дерева вперемежку с книгами стояли фарфоровые вазы, курильницы из потемневшей бронзы и многорукие божки. Со специальных кронштейнов свисали причудливые коряги, на которых росли орхидеи. Из-за постоянно высокой влажности их не нужно было поливать, и они год за годом выбрасывали стрелки черно-красных и сиренево-желтых соцветий. Фюмроля поразило, что в шкафах горели мощные электрические лампы. Но он скоро понял, что виновата здесь все та же пересыщенная влагой атмосфера, в которой покрывается плесенью и гниет любая бумага. Окинув скучающим взглядом низкие резные столики с перламутровой инкрустацией и гипсовый бюст Марианны, олицетворяющий Францию, он остановился перед крупномасштабной картой, на которой были эффектно представлены все входящие в Индокитайский союз территории: Тонкин, Аннам, Кохинхина, Лаос, Камбоджа и арендованная у Китая Гуанчжоувань.
«Какая большая страна, — невольно пронеслось в голове. — Даже подумать смешно о том, что ее судьба будет зависеть от ничтожеств, заседающих в кабинетах, где еще недавно играли в рулетку. Бред!» А ведь еще вчера он верил в это. Неужели одной бессонной ночи и беглого взгляда из автомобиля на ханойские улицы оказалось достаточно для такого переворота? Что заставляет его сегодня думать совершенно иначе, чем вчера? Или просто настал миг кристаллизации, когда все, что он знал и видел, вдруг само собой выстроилось в систему и высветился из тьмы первозданного хаоса один-единственный ответ? Тогда где он? И знает ли его Катру?
Фюмроль нашел на карте китайский остров Хайнань, оккупированный недавно японцами. Это был ключ к Тонкинскому заливу, к Хайфону и дороге на Ханой, к Халонгу и угольным разработкам Хонгая. Не видеть этого мог только слепец. Он прибыл сюда, чтобы отдавать эту землю пядь за пядью, уступая все новым и новым требованиям коварного, сознающего свою силу врага. Чем же тогда он отличается от тех безвольных марионеток, которые вот так же, пядь за пядью, рвали его родину на куски? Катру может умыть руки. Он выходит из игры, не запятнав свое имя позором. И ведь не случайно он завел разговор о де Голле. В самом деле, почему боевой офицер Валери де Фюмроль не сбежал с корабля в первом попавшемся порту, чтобы пробраться в Англию? Почему он покорно готовился таскать каштаны из огня для людей, которые достойны презрения?
Вошел Катру в белом генеральском френче, на котором капелькой крови алела розетка кавалера ордена Почетного легиона. С первых же слов генерал-губернатор дал понять, что намерен держаться официально.
— Пакет при вас? — спросил он, повернув ручку приемника.
— Прошу, мой генерал, — Фюмроль поспешно достал из портфеля голубой конверт с черным грифом особой секретности. Катру распахнул дверцу вделанного в стену сейфа и, не глядя, бросил пакет на стальную полку.
«Господи, как далеко меня занесло!» — подумал Фюмроль, когда из приемника вновь полилась заунывная и влекуще-чужая мелодия. На этот раз хоть слова оказались знакомыми. Детским, чуть хриплым голоском японская певица пела про госпожу луну:
— Сегодня ночь полнолуния, — непроизвольно сказал вслух Фюмроль.
— Что? — не понял Катру, разбирая бумаги на столе.
— Прошу прощения, мой генерал, — досадливо прикусил губу Фюмроль.
— Садитесь, — Катру указал на стул и нажал кнопку на телефонном столике. — Вы в курсе наших проблем?
— Только в самых общих чертах, — честно признался Фюмроль. — У меня не было ни времени, ни возможности подготовиться. К счастью, на пароходе нашелся индо-китайский выпуск «Дальневосточного экономического обозрения», и я мог узнать, чем колония Кохинхина отличается от протекторатов Аннам и Тонкин.
— М-да, не слишком много, — Катру принужденно улыбнулся. — Впрочем, иного я и не ожидал. Люди, которые приезжали к нам в лучшие времена, тоже знали не больше вашего. Я пригласил господина Жаламбе, нашего специалиста по подрывным организациям, чтобы он помог вам поскорее войти в курс дела. Кстати, он же посоветует, где подыскать подходящее жилье. Рекомендую снять особняк. У нас это не дорого.
— Отлично, я не стеснен в средствах, — почувствовав скрытый вопрос, ответил Фюмроль.
— Тогда вам лучше всего подойдет дом напротив тюа[1] Мот-Кот — знаменитой пагоды «На одной колонне». При доме гараж и прелестный садик. Чиновник, который жил там… — генерал на секунду замялся, — одним словом, недавно выехал. А вот и наш Жаламбе! — поднялся он навстречу унылому господину с печальными глазами и необыкновенно крупным носом. — Знакомьтесь: майор де Фюмроль.
Жаламбе вяло пожал протянутую ему руку и тотчас же принялся ковырять во рту бамбуковой зубочисткой.
— Что нового? — осведомился Катру.
— А что у нас может быть нового? — пожал плечами специалист по подрывным организациям. — Ночью хлопнули одного АБ на улице Рыбных шашлыков. Вот и все новости. — Он зевнул и безучастно уставился в окно, к которому приникла очаровательная ярко-зеленая лягушка с оранжевым брюшком и лапками.
— Подслушивает, — пошутил Катру, проследив за взглядом Жаламбе.
— В ресторане Бо-Хо один китаец тоже пытался подслушивать, так его живо расчленили, — откликнулся Жаламбе. — Голову потом в Западном озере выловили.
— Вы же знаете, что я приемлю ваш юмор исключительно в гомеопатических дозах, — поморщился Катру. — И вообще, показали бы вы нашему гостю город. А?
Фюмроль с готовностью поднялся.
— Часик можно покататься, — поспешно заключил Катру.
— По-моему, нас просто выпроводили, — заметил Фюмроль уже в саду, осторожно касаясь зазубренного меча юкки. — Ваша? — кивнул он на роскошную «испано-сюизу», небрежно поставленную возле высокой папайи.
— После одиннадцати уже не работается, — сказал Жаламбе, включая стартер. — Мозги растекаются… Ты в «Метрополе» остановился?
— Прогулка разве отменяется?
— Наглядишься еще. — Жаламбе выплюнул зубочистку и на полном газу выехал из ворот. — Ничего хорошего нет в этом городишке. Прокатимся ночью — будет повеселее.
— А как же дом?
— И дом от тебя никуда не убежит. Главное — не торопиться. Усвой эту истину с первого дня, и все пойдет хорошо… Какой дом тебе нужен?
— Генерал говорил, что напротив какой-то пагоды сдается особняк с гаражом и садом.
— Ах, этот… Туда тем более не стоит спешить. Прежний жилец этого не понимал и очутился в Красной реке.
— То есть как это? — не сразу понял Фюмроль.
— Очень просто: утопили. Может, красные, может, буддисты, а скорее всего — японцы.
— Но почему? Почему?
— Мешал, значит. — Жаламбе смачно сплюнул. — Другого выхода не было.
«Это какой-то сумасшедший», — решил Фюмроль.
— А что это за АБ, которого тоже убили? — спросил он через некоторое время. — Вы только что говорили об этом у генерала.
— Антибольшевистский элемент, приятель. Из местных… Вечером могу свезти тебя в какой-нибудь «чайный домик». Девочки тут что надо.
Глава 2
Наступил сезон дождей. Скрылся за хмурой пеленой облаков синий горный хребет, тянущийся вдоль главной дороги с севера на юг и потому именуемый Долгим. Поздние муссоны дохнули электрическим запахом гроз, йодистой горечью гниющих по берегам водорослей. На свет жилья выползли жабы, в оконца бамбуковых домиков застучали тяжелые бронзовые жуки, закружились вокруг керосиновых ламп ночные бабочки и летучие муравьи, с треском опаляя прозрачные крылышки. Спиральной копотью завивался шаткий язычок огня. Шуршало и хлюпало в каждой щели. Невыразимой тревогой тянуло из леса, переливающегося холодными огоньками грибов и гнилушек, мигающего вспышками светляков. Но обманывало ожидание. Тучи не спешили пролиться дождем. Полыхал новый день оловянным заоблачным светом, и ночные гости оставляли убогий человеческий кров. Разве что вялые змеи забирались до срока в полые бамбуковые стволы, плетеные корзины, пустые, прихотливо изогнутые тыквы. В парном зное, наполненном звоном и стрекотом, забывалось смутное беспокойство. Но с каждым часом круче становился синюшный замес облаков, и желтый пар колыхался над сплошным ковром гиацинтов, затянувших болотные ямы. Пучеглазые рыбы выскакивали из жарких трясин, растопырив колючие крылья, карабкались по осклизлым заиленным стволам, чтобы испить мокрый освежающий воздух. Жадное нетерпение, и ужас, и радость, и боль различались теперь в шорохах леса. Исчезли муравьи, чьи величественные переселения истребительное пожаров; глубоко в землю ушли термиты и крабы, отливающие тусклой радугой пролитого бензина, забились в норы, затянутые волоконцами цепких корней. Только комары пуще прежнего плодились в переполненных водой чашках, подвешенных к стволам иссеченных кольцевыми надрезами гевей. Тонкой беленькой пленкой застывал латекс на дне, а сверху плавали букашки и мелкий древесный сор, кувыркались рогатые личинки ночных кровососов.
Как угадать в незримом лесном действе тайное единение, замешанное на крови? Крохотную алую каплю выпьет комар, чтобы продолжить свое беспокойное племя, но всю жизнь без остатка высосет каучуковый сок. Кому ведома конечная цель грандиозного превращения белой капельки латекса в протекторы военных грузовиков, водолазные костюмы, прокладки для бомбовозов, подводных лодок и танков? Еще не исполнились сроки. Еще не раз сезон дождей сменится радостным праздником урожая, прежде чем в год Деревянной Курицы буйвол владыки ада растопчет два миллиона сердец.
Придет пора, и станут тучи чреваты пылающим фосфором и термитом, как ныне они переполнены благодатной водой. Неужто началось? Повсеместно стекают с восковых лакированных листьев быстрые струйки и прячутся в прелую гниль. Но это только старая шутка горного леса, где на верхних невидимых этажах постоянно сгущается пар и выпадает дождем. Там, на головокружительной высоте, цветут орхидеи, их воздушные корни шевелятся, как щупальца морских анемонов. Там кричат попугаи, проносятся белки-летяги и кружат вампиры, когда из-за гор выплывает луна. Опять разбегаются в кофейных лужах круги и словно градины стучат по земле. Берегись! Это град из древесных пиявок.
Подлинный ливень ударит внезапно. Все потонет в едином потоке, шипящем, как паровозный пар. Облегченно и жадно вздохнут трясины. Горные джунгли оглушит рев водопадов и грохот обвалов. Теперь лишь бы выдержала кровля из рисовой соломы или пальмового листа, да не обрушилась бы дамба, защищающая прекрасное творение человека — рисовое поле.
В этот год Металлического Дракона реки Черная, Светлая и Тахо остались в своих руслах, зато Красная и Дуонг, огибающие Ханой, набухли в половодье и вышли из берегов. Когда солнце поднялось в обновленном безоблачном небе, люди не узнали родных мест. Речное русло и бескрайние нивы за ним превратились в сплошное, нестерпимо сверкающее синее зеркало.
Ртутными ручейками казались дорожки и тропы, сходящиеся у моста Лонгбьен. Мужчины и женщины в шляпах нон заспешили на рынок, неся в корзинах на бамбуковом коромысле домашнюю птицу, перец, бобы и длинные извилистые огурцы, маниок и бататы, гроздья бананов и рис, кокосы, креветки и крабов, плоды манго и красные пупырчатые личи на ветках. Здесь не ждут, пока схлынет вода и подсохнет красная, как томатная паста, глина. И в дождь, и в жару летят по шоссе, над которым смыкаются ветви акаций, крытые брезентом грузовики, обдавая фонтанами брызг бесконечную вереницу арб, запряженных буйволами, горбатыми желтыми зебу, или вереницы велосипедов, на которых ухитрились уместиться целые семьи. Крестьяне в домотканых, окрашенных отваром из дикого ямса одеждах легкой трусцой поспешают по обочинам. Засучив выше колен штаны, месят красную землю босыми ногами, не оборачиваясь на звонки велосипедистов, на истерические гудки машин. По обе стороны дороги рисовые чеки, неизменные и бесконечно разнообразные, как сама жизнь.
Отдельные картинки сменяют друг друга или творятся одновременно, подчиняясь неизменному циклу урожая, повинуясь вращению колеса судеб. Недаром астрологи в черных халатах с разрезами по бокам и белых шароварах бормочут, что унылое однообразие и пестрота разноликости только разные проявления изначальной пустоты. Вот терраса окрасилась самой чистой и самой ликующей зеленью рисовых всходов, и муаровым узором рябит меж ними вода. Тут же рядом — во времени или в пространстве — бородатый с загнутыми за спину рогами буйвол топчет сухую полову, а деревянный плуг за ним взрезает жирную борозду. Зверем умным и добрым зовут здесь буйвола. В загробном царстве он служит богу смерти, в подлунном мире равнодушно месит жидкую грязь, а голый мальчик у него на спине играет на бамбуковой флейте. Придет день, если еще не пришел, и тот же мальчик закинет сеть на залитое поле, чтоб наловить пресноводных креветок для соуса к клубням ку май, которые тушат с пахучими листьями таубай. Но людям, которые пришли из далекой заморской страны и понастроили серые доты на скрещениях дорог, у мостов, переправ, не знакома еда бедняков и неведом священный смысл многообразия и единства. У девушек, которые по колено в воде сгибаются над рассадой, они замечают лишь голые бедра. Но где-то совсем близко те же девушки, а быть может уже старухи с черными зубами, подрезают серпами золотые созревшие метелки. Пришедшим с оружием не дано увидеть единение многоликого. Встретив случайно узоры триграмм и эмблему двух рыб, они равнодушно пройдут мимо, не ведая, что были так близки к разгадке тайн бытия. Оттого и путь рисового зерна, путь смерти и возрождения, сокрыт от их глаз. Они знают лишь конечный результат: корзины, полные зеленого падди, и тугие мешки, которые быстроногие кули сгружают в черные трюмы судов. Но разве на весовой платформе кончается путь зерна? Разве числа на фондовой бирже или индексы Доу-Джонса могут стать итогом священной мистерии? Не знает конца и начала колесо прялки. Став человеческой плотью, рисовое зерно вновь будет причастие ко злу и добру, к великому круговороту жизни, к приливу и отливу ее.
Когда у крестьянина иссякают последние запасы, он все надежды возлагает на ближайший урожай: первый, который собирают в пятом месяце, или второй, чье время приходится на благодатный десятый. Недаром в народе говорят: «В восьмом месяце выгоняй буйволов, в третьем месяце — загоняй. В восьмом месяце — от голода оправляются, в третьем — умирают».
В год Металлического Дракона обильный разлив Красной обещал щедрую жатву. Перед закатом, когда золотые полосы легли на воду, было ясно видно, что вороны неподвижно сидят на мокро блестящих спинах буйволов. А еще появилось множество цапель, потому что рыба из реки пошла на поля, где ее легче поймать. Это тоже считалось благоприятным предзнаменованием. Старый Чыонг Ван Днем, залюбовавшись застывшей на одной ноге птицей, сказал:
— Вода в реке — рис на рынке.
Как и всякий крестьянин, он радовался счастливым приметам сытого полугодия. Хотя лично ему половодье сулило одни заботы. Его сампан с драконьими глазами на носу и счастливыми иероглифами по бортам и так уже слишком долго простоял на приколе, а теперь еще приходится ждать, пока спадет вода. Плыть по реке, у которой нет берегов, — чистейшее безумие. На такое могут решиться только сорвиголовы или опытные шкиперы, знающие каждое — полузатопленные теперь — высокое дерево, каждую трубу или крышу за дамбой. Нет, старый Лием не спешит распустить перепончатый, как крыло нетопыря, парус. Он слишком плохо знает Красную реку, чтобы рисковать сампаном, который дает ему не только дневную чашку риса, но и крышу над головой. Другого дома у них с внучкой нет и не будет. Они принадлежат к загадочному племени бродяг, которые родились и умрут на воде.
У этих людей есть свои города и плавучие рынки, куда приплывают тысячи сампанов и джонок, десятки тысяч лодок с гребцом на носу или на корме. Лиему случалось выходить по Красной в залив Бакбо и спускаться до самого Сиамского залива, заплывая и в Ка, и в Бенхай, и даже блуждать по запутанным рукавам цветущей дельты Меконга. Побывал он в стране кхмеров, у лао и в таинственных клонгах большой реки, которую сиамцы зовут Чаяпрая, а тэи — белые завоеватели с запада — Менам.
Чего только не повидал старый Лием в далеких краях! Он возил ныряльщиков за жемчужными раковинами, янтарные пластины каучука, которые коптят, чтобы предохранить от всепожирающих муравьев, копру, бананы и колючий плод, чье дыхание пахнет адом и чья нежная кремовая мякоть дарует райское блаженство. Тэи запрещают продавать сокровище джунглей в своих кварталах. Только на улочках старого города, в узких тупичках, где прямо на земле стоят корзины с личи, королевскими бананами и кроваво-красными, ощетинившимися черными волосами рамбутанами, можно по запаху отыскать продавца дуриана. Если плод еще зелен, запах кажется слабым, если он перезрел, то дух его донесется даже до озера Возвращенного Меча. Настоящие знатоки тщательно обнюхивают дуриан, выбирая тот, который в самой поре. И прикидывают на вес: спелый потянет меньше, чем это кажется с виду. Мудрые речи можно услышать от человека, умеющего ценить дуриан. Пока идет выбор и взвешиванье на палке с медными делениями, покупатель и продавец успевают раскрыть друг другу душу. И никто не осмелится им помешать. Остальные почтительно ждут, пока широкий нож, которым прокладывают дорогу в джунглях, разрубит колючий плод на четыре части. В каждой, как в вате, спрятаны две окруженные сладостной мякотью кости.
Потом у керосиновой лампочки, вокруг которой соберется вся семья, счастливец перескажет новости, услышанные от продавца — бывалого человека, повидавшего Винь, и Сайгон, и Бангкок. У людей маленький праздник. Стоит отведать дуриана, и он запахнет совсем по-другому. Как джунгли весной. Как источник в горах среди высоченной слоновой травы. Он — тайна леса, он — очарование ночи.
Лием возил дурианы, пока не умерла мать. Совершив печальный обряд, он надел белую повязку и пошел в храм поднести буддам рису с шафраном, фрукты и курицу. Поставив в вазу с песком курительную свечку, обратился к геоманту, чтобы тот указал благоприятное место захоронения. Геомант прогнал злых духов ароматным дымом курильницы и, накрывшись черным покрывалом, стал вопрошать землю. «Если ты хочешь, чтобы душа твоей матери поскорее обрела новую счастливую оболочку, обратись к монаху в пагоде города Локнинь. Он укажет нужное место». Лием щедро заплатил геоманту и поехал в Локнинь искать нового предсказателя. Локниньский оракул дал ответ только на восьмой день. Молча приняв пожертвование, вручил Лиему сухой лист пальмы, испещренный тайными знаками и древними иероглифами. Из почтения Лием не решился попросить геоманта прочесть предсказание. Это сделал ученый монах из библиотеки, где хранились сотни резных досок, с которых печатают священные сутры. Знаки на листе означали следующее: «Правление императора Кхай Диня. Год Тигра. Седьмой месяц. Второй день по лунному календарю. Отныне на поле будет колоситься рис, а в доме будут рождаться сильные сыновья и красивые дочери. Нгуен Ан Нинь».
Сообразуясь с планом, начертанным на пальме, Лием захоронил прах в указанном месте. Но, вопреки оракулу, сам в деревне Диньг-Донг не поселился и не стал высаживать рис. Оттого и не заколосилось его поле. Растратив все свои сбережения, он подался в дельту Меконга и занялся увлекательной и опасной охотой на водяных змей. И все-таки это был самый удачливый период в его жизни. Сыновей, правда, у него не прибавилось, но шестилетний Хоан рос здоровяком, а старшая дочка, красавица Суан, родила внучку, обещавшую стать столь же красивой. Потом Суан умерла от оспы, а жену Ло Тхи Динь, которую он взял из племени кхонтаев, смыло с палубы в тайфун. Когда же люди с запада забрали в армию сына и услали его за океан на войну, Лием остался с внучкой вдвоем. Умные люди советовали ему вновь попробовать перенести прах. Авось на сей раз улыбнется счастье. «Нет, — сказал Лием. — У реки свои повороты, у человеческой судьбы — свои». Он постиг закон жизни, которая дарует радость только затем, чтобы отнять. Счастлив только тот, кого уже не страшат никакие потери. Он продолжал ловить змей и, почти вопреки воле, всем сердцем привязался к внучке Хоанг Тхи Кхюе. В шесть лет на нее уже стали заглядываться люди, а монах, одиноко живущий в лесной пагоде за рекой Анхоа, сказал, что такие удлиненные личики и крохотные ножки бывают только у тайских принцесс. «На каменных плитах в покинутом храме Ангкорват видел я такие от природы длинные мочки, — с печальной радостью говорил отшельник, внимательно осмотрев девочку. — Столь удлиненные, к вискам глаза. Будь счастлива и благословенна, Белый Нефрит», — поцеловал он ее в лобик и подарил амулет — тигровый коготь с письменами и даосским знаком триединства, заключенным в круг.
На следующий год отца девочки, который служил на угольных разработках в Хонгае, арестовали и увезли в страшную тюрьму на остров Пулокондор. С того дня Лием впервые понял, что значит бояться. Это было тоскливое, ни с чем не сравнимое по глубине предчувствие неизбежной потери. «Лучше умереть вместе со всеми, чем жить одному», — сказал он себе и стал брать внучку с собой на охоту. Он почему-то был уверен, что беды приходят в дом украдкой, когда хозяин не видит. Пусть уж девочка будет все время на глазах. Постоянный страх за нее со временем не проходил, а лишь становился острее. А когда китаец, скупавший у Лиема змей, растолковал ему смысл иероглифов на когте, старик окончательно уверился в правильности своей бесхитростной жизни, несмотря на все ее потери и боль. «Страх потерь — преходящее счастье» — так читались письмена.
С тех пор как созрел скороспелый рис трех лун, из которого плетут самые красивые шляпы с картинкой, видимой на просвет, Лием и Белый Нефрит жили на одном месте. В узком, защищенном от тайфунов заливчике мирно стоял их сампан среди таких же стареньких лодок с глазами дракона. Когда по Красной проносился патрульный катер или быстрая канонерка, маленькая деревня начинала тихо покачиваться под переплеск воды. Скрипели мостки, перекинутые от сампана к сампану, колыхался зеленый покров водорослей. В плавучем поселке есть свои улицы и переулки, крохотный ресторанчик и даже «каттаук» — парикмахерская, где толстяк Зиой лихо орудует ржавыми ножницами и допотопной бронзовой бритвой. Скиталец Лием уверен, что в заливе живется не хуже, чем в городе. Полиция беспокоит не часто, а тэи и вовсе не суются в такие места. Все близко, все под рукой. Не надо стоять в очереди у водоразборной колонки — достаточно забросить на веревке ведро. Утром приплывет продавец риса, к вечеру завернет на своем челноке торговец лапшой из гороха маш. А если понадобится образок Будды или кончатся ароматные красные палочки, Лием может сходить в пагоду на горе, где растет священное дерево дай с белыми цветами. Они пахнут прозрачной горечью, навевающей успокоение и печаль. Новый бонза растолковал Лиему смысл надписи, высеченной на черной плите, которую поддерживает бессмертная черепаха. «Человек сам должен суметь разбудить в себе мужество. Иначе оно не придет к нему никогда», — сказал монах и повел Лиема к алтарю, на котором стоял Будда-мальчик. С бессмертной, все понимающей улыбкой он одной рукой показывал на землю, другой — на небо. Монах объяснил: «Ни обитатели неба, ни животные, которые неспособны оторваться от низменных забот, не могут найти истину. Только человек! Он один соединяет землю и небо». — «А что есть истина?» — спросил Лием. «Ее надо обрести самому», — ответил бонза и рассказал про князя Чан Хынг Дао, победившего китайских завоевателей. А когда Лием вновь пришел в пагоду, монах поведал ему о подвиге Нгуен Хюэ, поднявшего восстание тэйшонов. Конечно, Лием и раньше слышал эти священные для каждого вьетнамца имена, как знал он про сестер Чынг, про отважного Ле Лоя, чей меч и ныне хранит озерная черепаха. Но впервые довелось ему услышать, что легендарные герои, которые на протяжении веков спасали страну от захватчиков с севера, не только совершали подвиги, но и обрели истину! «Каждый из них нашел ее сам, — закончил монах. — Но она оказалась общей для всех. — И, помолчав, добавил: — Родина — вот единственная истина».
В дыму курений улыбался позолоченный мальчик, а бронзовые цапли на черепахах, как символы счастья и вечности, стояли перед алтарем. С того дня бонза больше не говорил с Лиемом об учении Будды. Он показал ему карту Вьетнама: «Это Родина. Вверху плодородная дельта Красной реки, на юге — мощное разветвление Меконга. Не правда ли, похоже на две корзины, наполненные рисом десятого месяца? А вот и «гань» — бамбуковое коромысло, на котором они висят. Это Долгий хребет — Чыонгшон. Но меч чужеземцев отсек корзины от коромысла. Для меня, для вьетнамца. Кохинхина — другая страна. Я не смею поехать в Сайгон без разрешения чужеземцев. А в Далате сидит император-марионетка, которого французы привезли из Парижа и вертят им как хотят. Разве такими были наши древние императоры? Изображение Бао Дая никогда не поставят в поминальном храме. Народ вычеркнет его из своей памяти». — «Рассказывают, что он прошел выучку у тэев?» — робко осведомился Лием. «Всякое учение достойно, — ответил бонза. — И тэи — такие же люди, как все. Не в том их вина, что они с запада. А в том, что завоеватели. Захватчики, которые столько раз вторгались к нам с севера, разве были лучше? Запомни, Лием, что люди, которые твердят о белой коже и о желтой коже, — или очень глупые, или враги. Нашей родине грозит новая беда, на этот раз с востока. Когда я слышу шепот о том, что вся буддистская Азия должна собраться под одной крышей, мне мерещатся убийцы, которые под видом друзей стремятся проникнуть в дом, чтобы, когда все уснут, перерезать хозяину горло».
«Как мне называть вас в своих почтительных думах?» — осведомился Лием. «Просто Танг.[2] Как у каждого буддиста, у меня есть тайное имя, которое назовут только в заупокойной молитве, — сурово и равнодушно ответил монах. — Так что тебе за дело, старик, до звуков, выражающих пустоту, коли истинного имени ты знать не можешь? — он пристально посмотрел на Лиема, и тот смущенно отвел глаза. — Пока ты видишь меня, зачем тебе слово? Останешься один — забудь обо мне. Понадобишься — найду».
Лием неторопливо потягивает крутой дым черного лаосского табака, и в бамбуковом кальяне хрипло рокочет вода. Он смотрит на крестьян, которые по колено в воде трудятся на рисовом поле, и размышляет о судьбе человека. Дано ли ему вкусить плоды труда своего? Лием знает, что пришло время жесточайших тайфунов. Поэтому, как бы ни был обилен разлив и благоприятны приметы, никто не может сказать, каков будет урожай десятого месяца. С неистовой силой обрушится очередной тихоокеанский тайфун на побережье, зальет террасы потоками соленой воды, и ни один зеленый росток не уцелеет. Если крестьяне вовремя не укрепят дамбы или чуть запоздают с посадкой, они могут не только потерять урожай, но и надолго загубить поле. Получается, что человек, соединяющий землю с небом, всего лишь игрушка ветра. Недаром эмблема «ян-инь» соединяет противоположности жизни.
О чем бы ни подумал сегодня старый Лием, он постоянно возвращается мыслью к монаху из пагоды на горе. Да и чему тут удивляться, если этот самый монах находится сейчас на сампане? Пока Лием покуривает на свежем воздухе, а внучка стирает на мостках праздничную тунику — нарядный лимонного цвета аозай, монах сидит внизу и за чашкой чая беседует с приятелями. Лием, конечно, догадывается, о чем говорят в тесной, разделенной висячими циновками каюте. Не впервой принимает он у себя ученого гостя. Высокая честь! И его городских друзей он тоже уже хорошо знает. Один из них студент, другой — монтер из «Сентраль электрик». Он сам так сказал. Лием знает правила вежливости. Потому и сидит на корме, что не хочет мешать умным людям обсуждать их важные дела. Так оно спокойнее. И чужой врасплох не застанет, если забредет ненароком на старый сампан.
Прохладой и миром дышат вечереющие дали. Над мачтой, на которой бессильно повис выцветший буддийский флажок, уже чертит стремительные фигуры летучая мышь. Угомонились куры в банановом садике на берегу. На соседнем сампане, похрустывая болотной травой, довольно хрюкают черные поросята. Кто-то играет на однострунном дане, и протяжная мелодия, то вздрагивая, то угасая, долго плывет над зеркальной водой, в которой отразилась на миг низко пролетевшая цапля. Парикмахер Зиой перестал возиться в бассейне с лотосами и тоже залюбовался рекой. Сейчас она и в самом деле красная, вернее, темно-багровая, будто остывающее железо в горне. Не успеешь моргнуть, как станет темно. В свайных домах у берега уже горят золотые звездочки. Такая же крохотная керосиновая лампочка теплится перед Лиемом. Света она почти не дает, зато радует сердце и отгоняет демонов ночи. Над ней приятно согреть кусок сушеной каракатицы или просто прикурить сигарету.
— А почему бы вам, дедушка, не послушать городские новости? — спросил, улыбаясь, монтер, выглянув из люка. — Они и вас касаются.
— Кому нужен неграмотный старик? — махнул рукой Лием. — Не хочется вас стеснять.
— Вы нам совсем не помешаете, — все так же с улыбкой, но настойчиво возразил парень. — Белый Нефрит, — позвал он негромко. — Можно вас на минуточку?
Девушка закончила стирку и с готовностью поспешила на зов. Даже про белье забыла. Но на полдороге спохватилась и вернулась назад. Так с тазом на голове, стройная и смеющаяся, она взошла на сампан. Белый с горьким запахом цветок был приколот к ее волосам. «И впрямь как тайская царевна», — залюбовался старик.
— Вы звали меня, братец Дык?
— Побудьте, пожалуйста, тут, наверху, прекрасная Хоанг Тхи Кхюе, пока дедушка Лием будет пить чай.
«Они знают друг друга по имени, и он назвал ее прекрасной», — дрогнуло сердце у старого Лиема. Но он ничего не сказал и покорно спустился вслед за парнем в синей спецовке. Поклонившись гостям, он присел на циновку в самом темном углу, но монах жестом пригласил его подвинуться ближе. На низком столике горела лампа «летучая мышь», на глиняной подставке стоял жестяной чайник с носиком в виде дракона и крохотные старинные чашки. Лием доставал их только по торжественным случаям. В обычные дни они с внучкой пользовались половинками кокоса. Семена лотоса и приторно-сладкую массу в банановых листьях принесли гости.
Монах пришел в простой крестьянской одежде. Только по бритой голове можно было догадаться, что он посвятил себя богу. И еще глаза, увеличенные стеклами сильных очков, открывали самоуглубленное спокойствие ученого человека. Как хозяин и старший по возрасту, Лием, преодолевая смущение, наполнил чашки.
— Вы говорили, что отец девочки умер? — В доме Лиема монах держал себя иначе, чем в пагоде. Иной становилась форма обращения к хозяину, менялся и весь стиль речи.
— Мы так решили с внучкой. С того дня, как его отправили на Пулокондор, от него не было вестей. Я справлялся в полицейском управлении, и мне сказали там, что он, наверное, умер.
Монах обменялся со студентом быстрым взглядом.
— Значит, полной уверенности у вас нет? — поинтересовался студент.
Лием только улыбнулся в ответ. Странный вопрос. В чем может быть полностью уверен человек на земле?
— Взгляните на эту карточку. — Студент вынул из бумажника пожелтевшее, в сетке трещин, фото. Монтер услужливо придвинул лампу.
— Конечно, это он, — прошептал Лием, не выпуская из рук фотографию, на которой в полный рост был изображен крепкий мужчина с винтовкой.
— Ошибки быть не может? — на всякий случай осведомился студент.
— Он это. — Лием снисходительно пожал плечами. — На память я пока не жалуюсь, и зрение у меня не такое уж плохое. С тридцати шагов могу расщепить стрелу арбалета о лезвие ножа.
— Тогда мы можем поздравить вас с большой радостью! — хлопнул в ладоши студент.
— Разрешите, я сбегаю сказать Белому Нефриту! — нетерпеливо вскочил на ноги монтер, хрупкий подвижный юноша с несколько приплюснутым носом, что придавало лицу обиженное выражение.
— Погоди, Дык, — задержал его монах. — Лучше споткнуться ногой, чем языком. Пусть скажет папаша Лием. Неожиданная радость подобна слишком сильному солнцу. Девочку надо подготовить.
— Отдайте ей карточку, дедушка, — кивнул студент и положил на столик небольшой узелок. — Тут немного денег, товарищ Лыонг откладывал их по пиастру. Он просил вас купить Хоанг самый красивый наряд.
— Это и вправду большая радость! — Лием потрогал куцую бородку. — Не знаю, как вас благодарить. — Значит, жив… И свободен? Как же это? — он беспомощно опустил задрожавшие руки.
— Ему помогли бежать с Пулокондора, — пояснил студент.
— Так, значит? — старик одобрительно поцокал языком. — А люди говорили, что оттуда не убежишь. — Он осуждающе покачал головой. — От дракона рождается дракон, от болтуна — болтун.
— Пулокондор и вправду страшное место, — сказал монах. — Но нет тюрем, из которых нельзя было бы убежать.
— Как внучка обрадуется! — Лием сладко зажмурился. — Позвольте мне кликнуть ее? — он просительно улыбнулся монаху, потом перевел взгляд на студента. — Пошлю ее в лавочку. Праздник-то какой! Как говорится, пришел гость в дом, нет курицы — давай утку.
— Приветствие ценнее подноса с едой, — ответил ему пословицей монах. — Конечно, ступайте к девочке, папаша Лием. Но только предупредите, чтоб никому не говорила. Это опасно для всех.
— Я понимаю, — подумав, кивнул старик.
— И не надо устраивать никакого пира. Мы еще немного поговорим и тихо разойдемся.
— Значит, так, товарищи, — сказал студент, когда старик ушел. Необходимо точно выяснить, что обещали японцам французы… А мы все гадаем: отзовут Катру или нет!
— Так люди говорят, — пожал плечами монтер Дык.
— Люди! — передразнил студент. — Факты нужны… Конечно, один губернатор вполне стоит другого. Катру — беспощадный и крутой человек, притом убежденный антикоммунист, но он не из тех, кто будет выслуживаться перед японцами. Поэтому его отставка, если это не выдумки, очень плохой признак.
— Не нам сожалеть о нем! — упрямо нахмурился Дык. — Не успел Даладье запретить компартию во Франции, как твой Катру позакрывал все наши газеты и клубы.
— Он такой же мой, как и твой, — спокойно возразил студент, пригладив рукой коротко подстриженные волосы. — Скажу даже больше. Власти начали наступление на демократические организации еще до начала войны в Европе, не дожидаясь директив. Еще в августе прошлого года были произведены обыски и аресты в редакциях «Дай най», «Нгай мой», «Нгыоймой» и «Notre voix»,[3] а месяц спустя только в одном Сайгоне закрыли четырнадцать газет.
— Тогда о чем разговор? — Дык раздраженно выплеснул остывший чай в таз. — Кто, как не Катру, подписал указ о конфискации всего имущества партии и профсоюзов? Пускай катится, пока цел!
— Не горячись, юноша, — подал голос монах. — Как ни жесток, как ни отвратителен империализм, откровенный фашизм много хуже. И если на смену администрации Катру придут люди из японского кэмпэтай[4], для Вьетнама наступят поистине ужасные времена.
— Вот и я о том же! — студент мимолетной улыбкой поблагодарил за поддержку. — Надо как можно скорее узнать о намерениях врага, чтобы попытаться сорвать возможную провокацию. Теперь ты наконец понял? — он обернулся к Дыку.
— Я-то понял, — вздохнул монтер. — Только что мы можем? Тысячи товарищей гниют в тюрьмах! Да и полиция совсем остервенела. Ты хоть знаешь, что в Ханое открыли четырнадцать новых участков? А принудительный набор в армию? На строительство дорог, аэродромов они тоже забрали…
— Знаю, — прервал его студент. — При желании мог бы кое-что и добавить. Например, про деятельность тайной полиции в провинциях Тхайбинь и Ханам. Только мы тут не для дискуссий собрались. Тебе поручено конкретное дело. Если ты не считаешь себя способным его выполнить, то так и скажи. Мы найдем замену.
— А теперь ты горячишься, — вновь вмешался монах. — Скажи, Дык, — он ободряюще потрепал юношу по плечу, — больше ничего не удалось выяснить?
— Пока нет, — он огорченно закусил губу. — Никто, по-моему, ничего определенного не знает. Можно лишь гадать о том, с чем прибыл из метрополии этот офицер. Одно достоверно: он не фельдкурьер.
— Уже кое-что, — монах убавил свет в лампе. — Необходимо все же выяснить, что это за птица. Простого майора во дворец не позовут… А теперь пора расходиться, друзья.
— Ты в город, Дык? — спросил, вставая, студент. — Пойдем вместе.
— Вместе? — замялся Дык. — Но я хотел помочь дедушке Лиему…
— Тогда тебе действительно лучше задержаться, — предупредил недоуменный вопрос студента монах.
Один за другим поднялись они по скрипучему трапу и, простившись с хозяином, тихо сошли на берег.
— Вы плачете, Белый Нефрит? — тихо спросил Дык, когда рубашка студента, мелькнув голубоватым отблеском, исчезла за поворотом дороги. — Отдайте мне ваш цветок. Расстанетесь с последней капелькой горечи.
Глава 3
После отставки правительства барона Хиранумы, принятой накануне окончательного разгрома военной группировки у Халкин-Гола, сменились еще два кабинета: Абе и Ионаи. Дипломаты, аккредитованные в Токио, гадали, кто сформирует новое правительство. Это было важно, хотя, несмотря на противоречивые метания японской дипломатии, общий политический курс страны оставался стабильным.
Провозглашенный Хиранумой принцип «Хаккоиту» — «Восемь углов под одной крышей» — проводился в жизнь с неуклонной последовательностью. Наиболее полное выражение он получил в программе «движения трех А», с ее предельно откровенными лозунгами: «Япония — лидер Азии», «Япония — защитник Азии», «Япония — свет Азии».
В буддистских странах такая пропаганда принесла определенный успех, несмотря на непримиримые противоречия между тхеравадским буддизмом и учением дзен северной школы, которому следовали в Японии. После большого наступления в китайской провинции Гуанси, предпринятого с целью захвата Нанкина, японские войска перерезали стратегические дороги во французский Индокитай. В распоряжении китайцев оставались только Бирманская дорога и железнодорожный путь Ханой — Куньмин. С этого момента вторжение в Тонкин стало вопросом времени. Ровно через неделю после начала войны в Европе министр иностранных дел Арита позволил себе несколько откровенных заявлений по поводу дальнейшей судьбы Индокитая и нидерландской Индии.
Государственный секретарь США Кордэлл Хэлл раздраженно высказался о планах включения стран Юго-Восточной Азии в сферу японского влияния. Но отношения между Вашингтоном и Токио, особенно после денонсации торгового договора 1911 года, и без того были натянутыми. Поэтому успеха американский демарш не возымел. А вскоре последовало поражение Франции и Голландии, и заморские территории остались без надлежащего прикрытия. Всего через несколько дней после капитуляции в Компьенском лесу Япония подписала договор о дружбе с таиландским правительством Пибула Сонграма, обеспечив себе выход к западным границам Индокитая и на юг Бирмы.
Английский посол Крейги, отправивший в прошлом году на Даунинг-стрит ликующую депешу о том, что кабинет Хиранумы отверг идею комплота с Германией, направленного против Запада и СССР, и высказался только за союз против России, забил тревогу. Беспокойство посла было вполне обоснованно. Поскольку вишистское правительство превратилось в германского союзника, свой первый удар Япония могла нанести по британским владениям: Бирме, Сингапуру, Малайе.
В Лондоне, на который волна за волной накатывали эскадрильи геринговских «штукка-бомберов», затаив дыхание ждали телеграфного сообщения из Токио. Имя нового премьера могло пролить хоть какой-то свет на ближайшие намерения японцев.
Стояло изнурительно жаркое лето. Насыщенная парами отработанного бензина морось мутной завесой висела в воздухе. Иностранные журналисты привыкли за последние месяцы вставать с первыми лучами солнца, когда на рыночном причале открывалась оптовая продажа рыбы. Одни дежурили перед воротами резиденции премьера, другие осаждали подъезды МИДа или телеграфного агентства Домэй Цусин. Однако историческим утром 21 июля почти весь корпус прессы собрался на площади перед императорским дворцом. Темно зеленели верхушки деревьев за высокой, сложенной из крупного камня стеной. Сумрачно блестела вода во рву, окружавшем дворец. Пошел час дракона, седьмой час утра, когда распространился слух, что император — тэнно — пребывает ныне в храме Иссэ. Именно там, перед алтарем предков, он и назовет, согласно обычаю своей божественной прародительнице — солнечной Ама-терасу — имена новых министров. Журналисты поспешно бросились к своим машинам, хотя прекрасно знали, что подступы к храму заранее перекрыла гвардия и токко кэйсацу — особая полиция министерства внутренних дел. Офицеры со звездочками в петлицах неторопливо прохаживались перед неподвижно замершим строем. Нечего было и пытаться обратиться к ним с каким-нибудь вопросом. Зеленая карточка прессы не оказывала на военных никакого действия. Да и едва ли сами они знали, что творится там под загнутой по углам черепичной крышей с колокольчиками, тускло бронзовеющей сквозь листву. Воротами неизвестности высился деревянный торий перед входом в запретный парк. Никто ничего не знал. Не было даже уверенности в том, что тэнно находится в храме. Возможно, он уже покинул в данную минуту храм и отбыл во дворец или, напротив, еще не приехал.
Иностранцам редко удавалось лицезреть невысокого замкнутого человека, именем которого была освящена политика могущественной дальневосточной державы. Да и самим японцам подобное счастье выпадало, как правило, раз в году. Слышать же речь небесного правителя, его божественный «голос журавля» могли только члены императорской семьи и приближенные.
В строгом соответствии с рангом вступали высшие сановники империи под сень криптомерий. Очистившись водой священного колодца, которую пили из серебряного черпака, они подходили к высокой курильнице и нагоняли на себя густой можжевеловый дым. Синтоистские жрецы в черных шапках едва успевали бросать в бронзовое чрево связки зеленых палочек. Когда последний придворный вошел в душистый сумрак храма, тэнно молитвенно сложил руки перед резной божницей. Бьющие из бокового забранного узорной решеткой окна пыльные струи света золотили генеральские галуны, бахрому свисающих с потолка флагов, барабаны и гонги. Жгучими точками тлели курительные палочки на алтаре.
Спокойно прозвучал в благоговейной тишине негромкий голос журавля. Кабинет министров вновь поручалось сформировать принцу Коноэ. В молитвенном сосредоточенном поклоне выслушали императорское решение приближенные. Торжественное богослужение в храме Ясукунидзиндзя, где навеки остаются души погибших за Японию воинов, решено было провести на следующий день. Операторы из радиовещательной корпорации «НК» спешно кинулись развешивать микрофоны. Но задолго до назначенной церемонии шифровальщики заперлись в бронированных помещениях посольских особняков и развернули свои таблицы.
Посол Крейги с облегчением перевел дух.
Специальный посланник фюрера доктор Херфер бросил неприязненный взгляд на посла Ойгена Отта и смял в кулаке спешное донесение, переданное через первого секретаря посольства. Его миссия провалилась.
— Моей, моей, аноне,[5] — безуспешно пытался связаться по прямому проводу с Виши корреспондент французского агентства Гавас.
Принц Коноэ слыл человеком умеренных взглядов, и большинство специалистов по японским делам склонялось к тому, что он не станет проводником жесткого курса. С экранов крупным планом замелькало аристократически утонченное лицо нового премьера. Не упоминая о «восьми углах под одной крышей», он выдвинул программу «Создания великой восточноазиатской сферы взаимного процветания», в которую предполагалось включить не только Индокитай, Индонезию и острова Южных морей, но также Бирму и Индию. Сэр Крейги вновь послал тревожную телеграмму.
— Вздор! — сказал, выплевывая окурок сигары, Уинстон Черчилль.
— Мы можем перебросить флот к Сингапуру за пятнадцать дней, — заверил его первый лорд адмиралтейства и спокойно добавил: — В случае надобности.
СС-штандартенфюрер Мейзингер рискнул напомнить посланнику Херферу, что именно при Коноэ имела место проба сил на русской границе в районе озера Хасан.
— Принц вовсе не такой миротворец, каким его пытаются представить, — заметил Мейзингер. — Просто он однажды обжегся и теперь захочет осмотреться. Возможно, через некоторое время его вновь удастся склонить к совместному выступлению против большевиков.
— Время? — раздраженно переспросил Херфер. — У нас его нет! — и бросил коротко: — Сроки.
Мейзингер ничего не ответил. Он знал, что у Херфера времени действительно нет, потому что из Китая вот-вот должен был нагрянуть новый уполномоченный фюрера доктор Штаммер. Для Херфера, потерпевшего неудачу в прямом давлении на японское правительство, смена кабинета означала крушение. Только безумец мог надеяться в считанные дни толкнуть на войну с Советами человека, который после хасанских событий ушел в отставку. Не говоря уже о том, что после заключения советско-германского договора японцы явно охладели к антикоминтерновскому пакту.
— Мне кажется, они ударят теперь по Индокитаю, — глубокомысленно произнес Мейзингер, выдавая за свою идею прогноз известного публициста Рихарда Зорге.
— А нам с вами поручено погнать их на Владивосток! — взорвался Херфер. — И у нас есть такая возможность. Как-никак Петэн теперь наш союзник и может позволить себе проявить неуступчивость в индокитайских делах.
Мейзингер вновь счел за лучшее промолчать. Подобный блеф был едва ли возможен. После заключения секретной договоренности о координации разведывательных служб японцы получили полную информацию о положении дел во французском Индокитае и были прекрасно осведомлены, о характере взаимоотношений рейха с правительством в Виши. И вообще, Херфер был отыгранной картой. Однако на следующий же день временный поверенный в делах Франции спешно взял билет на пароход, направляющийся в Марсель, и отбыл в Иокогаму.
С возвращением Коноэ к власти организованная им «группа завтрака» — неофициальный совет, состоявший из личных друзей принца — специалистов в самых разных областях политики и экономики, — приобрела вес влиятельного правительственного органа. «Группа завтрака» собиралась обычно в доме секретаря кабинета министров Кинкадзу. Непременными участниками ее были Усиба, личный секретарь принца, советник по китайским вопросам Кэн, влиятельные политические деятели Кадзами и Гото, советник токийского исследовательского отдела Южно-Маньчжурской железной дороги Одзаки и специалист по Индокитаю профессор Морита Тахэй. Именно ему было поручено подготовить небольшой доклад о состоянии экономики французского Индокитая.
— Рады будем послушать вас, Морита-кун, — с дружеской фамильярностью старшего обратился к Тахэю принц, — на ближайшем заседании. Встречаться теперь мы сможем непосредственно в резиденции, — милостиво улыбаясь, сообщил он почтительно окружившим его друзьям, и тут же добавил: — Как прежде.
Первое собрание группы было обставлено с некоторой торжественностью. Оно проходило в просторном помещении на двенадцать татами.[6] На лакированных столиках лежали папиросы и освежающие таблетки с пряностями. Раздвижные перегородки — сёдзи — были скрыты крупномасштабными картами различных районов Дальнего Востока. Больше в комнате ничего не было, если не считать бансэки — небольшого подноса с садом камней и токономы — ниши, где на простой полке стояла ваза с одним-единственным белым пионом. Но что это была за ваза! Настоящая селадоновая ига пятнадцатого века, оживающая от воды. В строгом соответствии с каноном дзен, цветок и ваза были в росе.
Морита Тахэй не мог сдержать невольного вздоха восхищения. Остальные участники группы тоже отдали дань тонкому вкусу принца и его удивительному чувству такта. Изысканно и вместе с тем ненавязчиво хозяин дома напомнил друзьям, что отныне им доступно все. Недаром же белый, самый чистый из всех, цвет заключает в себе все остальные краски. Один только Хадзуми Одзаки подумал тогда, что белизна пионовых лепестков может означать еще и траур. Но такова жизнь: миг наивысшего взлета всегда является началом падения.
Гостям подали соломенные корзиночки с влажными, напитанными горячим паром салфетками. После знойной духоты улицы было приятно вытереть лицо и руки. Ощутив первое дуновение свежести, Морита Тахэй свободнее устроился на татами и сложил веер. Его примеру последовали остальные. Мановением пальца принц распорядился подать чай. Деловые встречи не оставляют места для надлежащих церемоний. Поэтому чай разливали за ширмами. Было слышно, как мелодично звякнул мидзусаси — кувшин для подливания воды. Вышколенные лакеи с поклоном расставили тонкий фарфор и неслышно исчезли, забрав ширму с белыми журавлями и все принадлежности. В голубоватых чашках — с изображением бамбука в тумане — чаинки прямо на глазах распускались в яркие, казавшиеся еще живыми листки.
Пили в полном молчании, любуясь чудесной ига, особенно прекрасной в рассеянном свете, пробивавшемся сквозь тонкую бумагу окна. Морита Тахэй бережно опустил чашку. Синий бамбук на ней напомнил ему раннее утро на Западном озере в Ханое. Он приходил туда перед самым восходом, когда из темной дымки только начинают появляться белые бамбуковые стволы.
— Просим вас, Тахэй-сан, — с деловитой вежливостью обратился к нему принц.
Морита Тахэй согнулся в глубоком поклоне и, легко поднявшись с колен, остановился у карты.
— Мина-сан,[7] — начал он в коротком стиле докладов, который так нравился принцу, — позвольте мне привести некоторые сведения о трех индокитайских территориях, представляющих, в силу их географического положения, первостепенный интерес. Северная, Тонкин, и центральная, Аннам, имеют статус протекторатов и управляются верховными резидентами. Кохинхина, на крайнем юге, считается колонией, и ее возглавляет губернатор. На нее не распространяется ограниченный суверенитет вьетнамского монарха. Генерал-губернатору в Ханое, таким образом, подчинены все указанные территории, а также протектораты Камбоджа и Лаос. На этом позвольте мне покончить с ненужными подробностями и перейти к характеристике вьетнамского плацдарма как единого экономического целого. — Тахэй перевел дыхание и раскрыл записную книжку: — Девяносто три процента посевных площадей занимает рис. Однако урожайность его, в силу ряда причин, низкая — одиннадцать центнеров с гектара, что в переводе на нашу систему составит…
— Не надо, — остановил его Коноэ. — Просим далее, Тахэй-сан. Каков последний урожай?
— Пять с половиной миллионов тонн падди,[8] ваше высочество.
— Это меньше, чем нам бы хотелось, — заметил принц. — Впрочем, страна перспективная.
— Совершенно справедливо, — поклонился Тахэй. — Сальдо положительное, а покупательная способность пиастра по отношению к франку неуклонно растет, что вызывает приток капиталов из метрополии.
— Отсюда следует неизбежный вывод, — быстро сказал секретарь Усиба, — что французскую администрацию целесообразно сохранить.
— Во всяком случае, на первых порах, — согласился принц. — Но мы еще вернемся к этому. Продолжайте, Тахэй-сан.
— Существенную роль в торговом балансе страны играют плантации гевеи. Сбор прошлого года составил примерно семьдесят тысяч тонн чистого латекса.
— Какую площадь занимают посадки? — спросил Гото, считавшийся знатоком сырьевой проблемы.
— Всего сто тридцать три тысячи га, — ответил Тахэй, заглянув в книжку. — Это очень мало по сравнению с почти пятью миллионами, отведенными под рис.
— Следует изменить баланс, — улыбнулся Гото, переглянувшись с секретарем Усибой. — Гевея хорошо приживается на рисовых полях.
— Это едва ли возможно, — возразил Тахэй.
— Почему? — заинтересованно спросил принц.
— Рацион риса в стране исключительно низкий. Сто восемьдесят два килограмма на человека в год.
Это почти в два раза ниже среднего показателя для Азии.
— Ничего не значит, — отверг довод Тахэя принц, отличавшийся способностью легко улавливать суть вопроса на слух. — Очевидно, слишком велик вывоз во Францию…
— На таких второстепенных деталях, как чай, кофе, ваниль и перец, я не осмелюсь задерживать драгоценное внимание господ, — возобновил речь Тахэй. — Более существенны для японской экономики показатели, характеризующие топливо и стратегическое сырье.
— Нефть? — спросил секретарь Усиба.
— Пока не обнаружена. Зато есть превосходный уголь, практически не содержащий серы и фосфора. За последние пять лет его добыча увеличилась на сорок процентов и достигла двух с половиной миллионов тонн. Существенно также, что разработки находятся вблизи портов, что весьма облегчает вывоз.
— Хонгайское месторождение, — небрежно обронил Гото.
— Совершенно справедливо, — поклонился Тахэй. — Мне стыдно, что я не могу сообщить господам ничего нового. Они всё знают лучше меня.
— Как насчет олова? — спросил Гото. — Разумеется, богаче Малайи места на свете нет, но все же интересно было бы узнать.
— Пожалуйста, — об олове Тахэй знал на память. — Свыше полутора тысяч тонн. Значительно больше, однако, выплавляется цинка — двадцать одна тысяча. Еще в стране добывают железо, вольфрам, хром, свинец, каменную соль и фосфаты. О масштабах добычи драгоценных металлов, сапфиров и рубинов ваш слуга сведений не имеет.
— Сколько все это может составить в денежном исчислении? — спросил принц. — Ориентировочно?
— Франция ежегодно получает около миллиарда франков.
— Не удивительно, что столь прибыльное предприятие так искусно ограждалось от иностранных компаний, — сказал Кэн, раскрыв коробку папирос «Сикисима». — Но теперь настало время чуточку потесниться.
— Наши инвестиции в Индокитае не достигают и одного процента, — кивнул ему принц. — Значительно больше преуспели англо-американские фирмы. Так, кажется, Тахэй-сан?
— Особую активность проявляют нефтяные концерны «Тексас ойл», «Стандард вакуум ойл» и, разумеется, «Шелл», ваше высочество. Однако прямому внедрению они предпочитают кооперацию с местными финансистами, действуя через банк «Милле» и группу де Ванделя.
— Каждый старается поймать карпа на вареный ячмень, — улыбаясь своим мыслям, удовлетворенно кивнул Коноэ. — Я устал сражаться с горячими головами, которые все проблемы решают на ящике с песком. Как будто игрушечные танкетки — самоцель, а не средство политики. — Не называя имен, принц все же дал понять, кого он имеет в виду.
Молчавший до сих пор советник Одзаки насторожился. Решительных генералов, разрабатывающих тактику в ящике с песком, было слишком много. Он же хотел знать точно, о ком идет речь. От этого зависело будущее Японии, а возможно, и всего мира. Если на принца оказывает давление Итагаки, лично ответственный за Халкин-Гол и Хасан, то это еще не так страшно. Коноэ не из тех, кто повторяет ошибки. Да и печальный опыт Хиранумы еще достаточно свеж. Но Итагаки может войти в союз с тем же Хиранумой или Ионаи — тоже бывшим премьером, и тогда его позиции в высшем императорском совете значительно усилятся. Одзаки понимал, что вероятность нового столкновения с русскими в ближайшее время не велика. Коварство Гитлера и прямолинейная грубость немецкой дипломатии, единственным средством которой были угрозы, свели ее почти к нулю. Но надолго ли? Наконец, кроме Итагаки и отставных премьеров, были еще Тодзио и Уэда, Араки, Касахара и Накадзима. При всех поворотах политики главной военной целью для них оставался Советский Союз. Все эти соображения вихрем пронеслись в голове Одзаки. Он искал и не находил те единственно нужные и точные слова, которые могли бы побудить Коноэ высказаться определеннее.
— Спешащий краб в свою нору не попадет, — остановился он на старинной пословице и выжидательно умолк.
— Я не раз указывал, что планы в генштабе разрабатываются слишком односторонне, — принц ответил Одзаки мимолетным взглядом. — Основной упор делается на решение оперативных задач. Для Индокитая, готового, как перезрелое яблоко, упасть в траву, подобный подход не годится. Нельзя рассматривать страну с налаженной экономикой только в качестве оперативного простора для действий в Китае и Юго-Восточной Азии. Прежде всего следует думать о сырьевой базе. Вы согласны со мной, профессор Тахэй?
Это был риторический вопрос, и Морита Тахэй ограничился поклоном. Значит, пока речь идет только о Тонкине, отметил Одзаки, что ж, из всех возможных целей эта представляется наиболее достижимой. В случае успеха, Коноэ легко станет лавировать среди рифов.
— В чем я вижу нашу задачу? — продолжал развивать свою мысль принц. — Прежде всего в разработке совершенно новой стратегии. Военную силу необходимо гибко сочетать с политическими решениями. Недаром говорят, что стрела стоит три мона, а дикий гусь — восемьсот. Но на данном этапе и это нас не может устроить. Такая мудрость слишком проста для двадцатого века. Пусть стрелы дешевы, но я хочу сохранить их для тигра, а дикий гусь должен стать домашним. — Коноэ довольно облокотился на подушку.
Слушатели ответили ему восхищенным придыханием.
— Прошу вас, — удовлетворенно кивнул принц Тахэю.
— Позвольте мне закончить, ваше высочество. — Морита Тахэй согнулся в поклоне. — Любовь молчаливого светлячка жарче любви трескучей цикады. Прошу снисходительных господ забыть пустую болтовню их слуги.
— Примите нашу благодарность. — Коноэ жестом повелел докладчику остаться у карты. — Наш ученый друг ожидает ваших вопросов, господа.
— Сэнсей[9] рассказал нам много интересного, — поднял руку Гото. — Было весьма любопытно узнать что дикий гусь стоит теперь не восемьсот мон, — он с улыбкой склонился перед принцем, — а миллиард франков. Но возникает новый вопрос: будет ли дикий гусь нести яйца в неволе?
— Остроумно! — одобрил Коноэ. — Это и предстоит нам выяснить.
— На сегодняшний день Индокитайский банк в сто раз увеличил первоначальный капитал, — ответил Тахэй, по обыкновению прибегнув к фактам. — Несмотря на разгром в Европе, «Сосьетэ финансьер пур ля франс э ле пэи д’утр мер» и «Финансье де каучу» выплатили вкладчикам высокие дивиденды.
— Исчерпывающий ответ, — удовлетворенно отметил Коноэ. — Еще вопросы?
— Кому принадлежат основные предприятия? — спросил Гото.
— Промышленникам и финансистам из метрополии, так называемым колонам — французам, укоренившимся в Индокитае, а также туземным предпринимателям. На них, видимо, следует сделать основную ставку.
— Почему? — удивился Гото. — Разве они преобладают?
— Совсем напротив, туземный капитал составляет скромную долю. И все же именно ему необходимо отдать предпочтение. По двум причинам. Во-первых, вьетнамские предприниматели более склонны принять программу его высочества о взаимном процветании, во-вторых, я не знаю лучшего способа ослабить позиции европейцев.
— Пусть работают на нас, а ненавидят французов, — засмеялся секретарь Усиба. — Поделитесь вашим опытом, Тахэй-сан, вам есть чем похвастаться!
— Действительно, господа, из последней поездки по Кохинхине и Аннаму я вынес убеждение, что руководители «Хоа хао» и «Као дай» очень сочувственно относятся к идее панбуддистской Азии. Поскольку обе секты являются еще и крупными аграриями, мы решили, в виде пробы, оказать им некоторую финансовую помощь. Результаты превзошли все ожидания. В политическом соперничестве с европейским капиталом нам есть на кого опереться. Я могу назвать еще несколько политико-религиозных сект и такие чисто политические группы, как «Дай вьет куок са», «Вынгхонг», «Фук-Вьет».
— Как вы смотрите на принца Кыонг Де? — задал заранее приготовленный вопрос Одзаки. Он понял, что в проведении индокитайской политики Коноэ станет следовать советам Тахэя. Но каких именно взглядов придерживается всегда сдержанный и безупречно точный профессор, Одзаки не знал. Вопрос о Кыонг Де мог послужить пробным камнем. Если только Тахэй не уйдет от прямого ответа, можно будет судить о том, какую форму примет вторжение японской армии в заморские территории поверженной европейской державы.
— Видите ли, — начал издалека Морита Тахэй, — принц Кыонг Де, безусловно, делает большое и важное для нас дело. Его «Союз возрождения родины», или партия «Фук куок», объединяет всех антифранцузски настроенных вьетнамцев, проживающих в Китае. В нас он видит своего естественного союзника. И это действительно так. Было бы непростительной ошибкой сбросить со счетов такую политическую силу. Весь вопрос в том, насколько совпадают конечные цели. Кыонг Де откровенно рассчитывает, что с помощью наших войск сумеет возвратить себе трон. И это не беспочвенные мечты. Если мы действительно заинтересованы в том, чтобы выгнать французов и взять бразды правления в свои руки, то лучшей фигуры нам не найти. Под его белое знамя с красным иероглифом «Король» на первых порах встанут многие вьетнамские националисты. Но что будет потом, господа, когда вся многолетняя ненависть вьетнамцев к поработителям обратится против нас? Поверьте мне, это не такая страна, где чужеземный завоеватель может чувствовать себя спокойно. Поэтому, если мы хотим, чтобы дикий гусь успешно давал потомство, нам предстоит выработать принципиально новые и очень гибкие формы сосуществования с колониальной администрацией Виши.
— Таскать каштаны из огня чужими руками, как говорят французы, — не преминул пошутить секретарь Усиба.
— Нечто в этом роде, — согласился Тахэй. — В таком случае мы можем обойтись и без принца Кыонг Де. Пока же, позволю себе повторить, его пропагандистская деятельность достойна всяческих похвал. Во Вьетнаме прислушиваются к передачам с Формозы.
— Значит, принц уверен, что мы готовы вышвырнуть французов из Индокитая? — уточнил Одзаки.
— Полагаю, что так.
— Для этого есть основания, — сказал Коноэ. — У нас слишком много кавалерийских рубак, которые и помыслить не могут об ином решении.
— А вообще-то оно возможно, иное решение? — адресуя свой вопрос принцу, Одзаки подчеркнуто обратил взгляд на Тахэя.
— Надеюсь, господин советник, — с уверенностью в голосе ответил Тахэй. — В ходе нашей высокой беседы выкристаллизовались некие общие принципы. Остается теперь изучить возможности их применения и разработать всю операцию в деталях. А там уже жизнь покажет, что верно, а что ошибочно.
— Как вы, наверное, догадались, друзья, — заключил принц, — эта трудная и почетная роль поручена нашему Тахэю.
Одзаки машинально сунул под язык пряную таблетку «каору». Вопрос о сроках, который он намеревался задать, пришлось отложить до лучших времен.
— В нашем распоряжении считанные денечки, — сказал Коноэ, словно обладал способностью читать чужие мысли. — Поэтому академическое исследование будет протекать на фоне политических экспериментов, — он коротко рассмеялся. — Посмотрим, как прореагируют французы. Это будет полезно. У наблюдающего со стороны, как известно, восемь глаз. А начнем мы с ультиматума правительству Виши.
Глава 4
Фюмроль понемногу свыкался с жизнью в тропиках. Он приучил себя не торопиться и избегать волнений, обрел бесценную способность часами смотреть в потолок.
«Течение мыслей должно стать медлительным и бесцельным, как круговорот жизни в глазах аскета», — разъяснил ему Жаламбе, которого прозвали Monsieur le Second Bureau.[10]
Сняв особняк напротив пагоды, олицетворявшей спокойствие лотоса среди моря скорби, он не спешил с переездом. Утомившись после утренней прогулки, возвращался в «Метрополь» и молча садился за свободный столик в холле. Цедя зеленый абсент или ледяную анисовку, тихо дремал, пугаясь и вздрагивая, когда кто-нибудь заговаривал с ним. Потом поднимался в номер и, постояв под душем, весь мокрый валился на постель. Втянув живот и задерживая дыхание, пытался представить себя высохшим старцем, грезящим на камне у излучины тихой реки. Мелькали жестяные лопасти фена над головой, чмокали ящерицы, в мутном рокоте улиц, вибрируя, угасало эхо гонгов. Незаметно приходил вечер. Фюмроль надевал к ужину белый смокинг и спускался в ресторан. Ослепленный блеском люстр и сверканием обнаженных плеч, медленно напивался под рыдание скрипок. Уже оглушенный, он тяжело падал на скрипучее сиденье и, рискуя посадить аккумуляторы, вдавливал кнопку стартера. Очнувшись от надсадного воя, нащупывал педаль акселератора, резко бросал машину вперед.
Куда он мчался по темным улочкам, наводя ужас на велорикш? Зачем рисковал, ухитряясь в последний момент разминуться с таким же, как он, безумцем, неожиданно вынырнувшим из-за угла?
Шелестели задеваемые ветки деревьев сау, россыпью обманчивых звезд мелькали керосиновые огоньки на ночных тротуарах. Увидев впереди освещенные окна вокзала, он круто сворачивал и мчался к рынку Донгсуан, в старый город тридцати шести ремесленных улиц. Поневоле сбавив скорость, начинал петлять среди бесконечных лавок, выхватывая на лету фрагменты чужой жизни, рисовавшейся загадочной и лишенной смысла. И это почему-то привлекало его, словно запретный и властно манящий порок. Казалось, что стоит сделать лишь шаг в душный керосиновый мрак уличных лабиринтов, как вокруг сомкнется сладкое забытье. Фюмроль не думал о том, что и без того уже преуспел в неосознанном стремлении обрести нирвану. Разве не была его нынешняя жизнь столь же бесцельной и праздной? Разве воспоминания о прошлом, которые все еще не отпускали его, не казались похожими на запуганные видения задремавшего после сытного обеда жуира? Он не отдавал себе отчета в том, что бежит не от нынешнего полусонного существования, а от подлинных снов, тиранящих его по ночам.
Лицо Колет он забыл окончательно и уже не пытался воссоздать его из отдельных клочков. Однако она все еще снилась ему, принимая самые неожиданные облики, и он плакал по-детски навзрыд, забывая к утру обо всем. Но что-то все-таки оставалось и подсознательно, смутно волновало в течение дня, а к вечеру разрасталось и крепло, как зародыш грядущего кошмара. Во сне его навещали мать и отец, улыбаясь всеведущей улыбкой мертвых. Он рвался к ним всем существом, но что-то мешало, причудливо изменяясь, и он оставался один. Почему-то в его руках оказывался телефон, по которому — он знал это точно — можно вызвать родителей. Наконец-то он мог раз и навсегда узнать, что же с ними случилось и где они пребывают сейчас. Но не успевал он набрать первую цифру, как застопоривался наборный диск. Отчаянно торопясь дозвониться, Фюмроль разбирал аппарат, наугад соединял какие-то проводки и контакты, но ничего не получалось. Томительной памятью прежних снов он знал, что все напрасно и закончится ничем. И вправду — раскалывалось небо над полынной пустошью, шарили прожектора, разноцветные полосы трассирующих пуль со стрекотом впивались прямо в мозг. Фюмроль просыпался в липком поту. Было светло. За окном звенела жестяная завеса цикад. Колесо бытия сделало еще один оборот.
В часы ежевечерних поездок он изъездил город от южных ворот до северных, но так и не понял его. На улице Персикового цвета, где жили красильщики, пытался купить опиум, в Серебряном ряду искал холодное пиво. В очаровательных тупичках у Восточной стены он пропорол камеру и вынужден был оставить автомобиль до утра. Потом вся ханойская полиция искала безымянную улицу, на которой Фюмролю запомнился лишь каменный фонарь. Именно от полицейских он и услышал впервые пленительные названия: Барабанный ряд, улица Вееров и улица Золотых рыбок.
Стремительно накатывали сумерки, пробуждая в душе Фюмроля тревожную тоску. Неожиданно ему мучительно захотелось увидеть лицо Колет. Спрыгнув с постели, на которую еще не был опущен марлевый полог, он нашарил ногой плетеные подошвы с веревочной петлей для большого пальца. Долго сосредоточенно вспоминал, где может находиться портрет.
Рабочий стол, заваленный газетами и грудами нераспечатанной корреспонденции, стоял в углу у окна.
Выдвинув один за другим несколько ящиков, Фюмроль, к своему удивлению, обнаружил, что там кто-то основательно поработал. Бумаги, в том числе и те, которые полагалось хранить в сейфе, были сложены аккуратной стопкой. И это поразило его больше всего. Он хорошо помнил, что кое-как распихивал их по ящикам, едва успев пробежать глазами. Но этого мало! Он мог поклясться, что некоторые письма он видел впервые в жизни. Взять хотя бы это, напечатанное на бланке с японскими иероглифами. Откуда оно?
Фюмроль включил настольную лампу, но тут же пересел в кресло, выставив ноги на свет, чтобы не жрало комарье. Иероглифы читались совершенно однозначно: «Японская контрольная комиссия». Французский перевод чуть ниже означал то же самое. Но что это за комиссия и с каких пор она находится в Тонкине, Фюмроль понятия не имел. Пожав плечами, он отложил письмо, заварил чай кипятком из термоса и, подумав, пошел в душ. Постояв несколько минут под тепловатым щекочущим дождичком, насухо вытерся и надел кимоно, купленное несколько лет назад в токийском районе Асакуса. Стараясь не думать о письме, неторопливо, смакуя тонкий аромат, напился чаю. Выкурив сигарету «голуаз», почувствовал легкое головокружение. В мозгу было пусто и ясно, как после долгой болезни. Тщательно пролистав бумаги в столе, Фюмроль обнаружил еще два таких же бланка с грифом японской контрольной комиссии. При всем своем равнодушии и полной безалаберности, он просто не мог не обратить внимания на такой документ. Хотя бы один из трех. Последнее письмо, подписанное неким генералом по фамилии Нисихара, было отправлено вчера. Вытряхнув корзину с макулатурой, Фюмроль нашел желтый конверт. Он был аккуратно разрезан сбоку. Эта манера распечатывать конверты снимала последние сомнения. Фюмроль обычно надрывал уголок и небрежно вспарывал пальцем. И вообще он еще не просматривал корреспонденцию за вчерашний день. Как, впрочем, и за позавчерашний, кажется, тоже. Фюмроль спрятал конверт и принялся изучать письмо.
Японский генерал на плохом французском языке и со множеством ошибок настоятельно предлагал «офицеру связи господину майору Валери де Фюмроль незамедлительно прибыть для встречи, которая может состояться в помещении миссии на улице Гамбетта». Эту улицу Фюмроль, разумеется, знал. Она была в двух шагах от отеля и прямехонько вела к ночному бару «Паке». Он взял с подоконника недавно установленный полевой телефон, поставил его себе на колени, медленно снял трубку и вдруг понял, что оживает. В нем проснулось извечное любопытство охотника.
— Послушай, Жаламбе, — нарочито бесцветным голосом спросил он. — С каких это пор в Ханое находится японская миссия?
— А черт ее знает, — с тем же безразличием отозвался Жаламбе. — По-моему, с конца июня. Что-то в этом роде.
— И чем она занимается?
— Ты когда проснулся? — Жаламбе укоризненно вздохнул. — Облейся водой, и через двадцать минут встретимся внизу.
— Ладно, встретимся, — согласился Фюмроль. — Но только ответь на мой вопрос, Шарль. Это серьезно.
— Ты что, в самом деле ничего не знаешь про миссию?
— Так оно и есть. Господин генерал-губернатор, видимо, забыл ввести меня в курс дела. Это военная миссия?
— Разумеется. Японцы в категорической форме потребовали от нас полностью закрыть границу с Китаем и прислали инспекцию. Очень просто.
— В Париже… В Виши об этом знают?
— Должны знать. Впрочем, мы, кажется, поставили их в известность уже постфактум. Катру, как ты понимаешь, вынужден был согласиться. На рейде Хайфона болтался японский крейсер… Почему ты молчишь, мой мальчик?
— Соображаю, а это очень трудный процесс.
— Плюнь на все, Валери, — по некоторой замедленности речи можно было догадаться, что Жаламбе порядком нагрузился. — Пока вы подписывали капитуляцию там, мы подписали ее здесь. Так-то… Притом, кажется, на более выгодных условиях.
— Понятно. — Фюмроль поставил тяжелый, выкрашенный в защитный цвет аппарат на пол и, прижав трубку плечом, раскрыл карту. — Где находятся контрольные посты?
— Ты слишком многого от меня хочешь, красавчик, — Жаламбе игриво хрюкнул. — Ну да ладно, попробую тебе помочь… Записываешь? — спросил он после длительной паузы.
— Давай. — Фюмроль взял красный карандаш и приготовился нанести на карту первый крестик.
— Значит, так… Монгкай, Лангшон, Каобанг, Хазянг, Лаокай и, как ты понимаешь, Хайфон.
Картина вырисовывалась довольно неприглядная: японцы взяли под контроль все основные шоссейные и железные дороги, ведущие на север.
— У меня такое впечатление, что мы кувыркаемся в аквариуме.
— Что ты хочешь этим сказать? — в голосе Жаламбе проскользнуло недоумение. — Какой еще аквариум?
— Все видно на просвет, Шарль. Сегодня наблюдают, завтра начнут шарить сачком… Кто такой Нисихара?
— Бррр! Настоящее чудовище. Он чего-нибудь от тебя хочет?
— Я нашел у себя на столе три письма. Точнее — повестки, в которых мне предлагают немедленно прибыть для переговоров.
— Целых три? — растроганно спросил Жаламбе. — Тогда ты железный парень, маркиз. Преклоняюсь. Я бы не выдержал уже на втором.
— Что ты мне посоветуешь? — Фюмроль инстинктивно предпочел умолчать об истории с письмами.
— Поезжай. Не надо дергать тигра за усы. Нам всем это может дорого обойтись. Тебе от него еще не звонили?
— Насколько я знаю, нет.
— Значит, они просто накапливают документальный материал. Заметь, одно только твое молчание уже дает повод обвинить нас в нелояльности. Тебе не кажется странным, что шпик дает урок дипломатии?
— Шутки в сторону, Шарль. Ты уже имел дело с этим Нисихарой?
— Как тебе сказать? Этот самурай потребовал от нас копии картотеки. Как ты понимаешь, его интересуют прежде всего коммунисты. Своих людей они, естественно, знают лучше нас.
— И как ты смотришь на подобное нарушение суверенитета?
— Все ведь зависит от точки зрения. В нашем положении это лучше называть дружеской просьбой.
— Ты в самом деле так считаешь?
— А почему бы и нет? Если они хотят помочь мне выловить агентов Коминтерна, я не против. В конце концов, мы делаем общее дело. Вместе будет даже удобнее.
— И чем же это удобнее?
— Во-первых, можно будет дотянуться до тех, кто окопался на китайской территории. Я давно на них зубы точу.
— Ты имеешь в виду принца Кыонг Де, который призывает вьетнамский народ вышвырнуть заморских дьяволов?
— Иронизируешь? — хмыкнул в трубку Жаламбе. — Ну, давай-давай. Не знаю, как ты, а лично я благодарен судьбе, что застрял в этой забытой богом дыре. По крайней мере, от меня не требуют ловить для гестапо французов. Понял? А если азиаты хотят жрать азиатов, я не вмешиваюсь. Они ведь все такие одинаковые… Значит, увидимся в холле.
Фюмроль задумчиво опустил трубку. Ему ли было осуждать Жаламбе? Вспомнился день накануне исхода, начавшийся телефонным звонком из канцелярии премьера. Фюмроль примчался в резиденцию в тот самый момент, когда Поль Рейно говорил по прямому проводу с Лондоном. Секретарь приложил палец к губам и показал глазами на дверь. Не успел Фюмроль присесть, как она распахнулась и маленький премьер стремительным шагом пересек приемную. «Французские войска выступили», — бросил он на ходу. Он был бледен, и руки его дрожали.
Через несколько дней, когда фронт у Седана оказался прорванным, произошла новая перестановка. Заместителем премьера стал Петэн, а Даладье получил министерство иностранных дел. Вейган, которого назначили главнокомандующим, заявил, что его назначение запоздало на две недели. «Никаких шансов на спасение», — не уставал уверять он. Через Париж тянулись толпы беженцев из Бельгии и Голландии. Завывали сирены воздушной тревоги. С быстротой лесного пожара распространялись самые фантастические слухи. На Кэ д’Орсэ день и ночь пылали камины. Пепел сожженных бумаг летел над Сеной, по которой еще ползли какие-то баржи. Кто-то предложил сжечь архивы прямо во внутреннем дворе: документов было много, а верховное командование сообщило по телефону, что немецкие танки уже через несколько часов ворвутся в Париж. Но даже это официальное сообщение оказалось ложным. Противник еще не завершил операцию во Фландрии. Те, кто торопился поскорее сдать город, не скрывали своего разочарования. Под предлогом борьбы со шпионажем эмигрантов из Австрии и Германии согнали на стадионы. Никто не хотел даже слышать о том, что среди интернированных было много антифашистов. Гиммлер, который готовился лично прилететь в Париж, уже имел под рукой список лиц, подлежавших ликвидации. Газеты в один голос призывали бороться с «пятой колонной». Но гитлеровские агенты были повсюду: в редакциях тех же газет, в полиции, в армии и даже в постели самого премьера. Недаром графиня Эллен де Порт была частой гостьей в салоне Отто Абеца, равно как и любовница Даладье — белокурая маркиза Мари-Луиз де Крюссоль д’Юзэ. Жорж Мандель, правда, попытался произвести несколько арестов и даже закрыл откровенно нацистский листок «Же сюи парту». Но это уже был чисто символический жест. Во французских тюрьмах сидело несколько тысяч коммунистов и почти не было агентов гестапо. Эти агенты открыто охотились за списками арестованных и полицейскими досье.
Все возвращается на круги своя. Неминуемость японского вторжения стала еще очевиднее. Фюмролю предстояло вновь изведать паническое бегство, быть может пережить ужас и позор оккупации. Он решил не вызывать Колет в Индокитай. Если, даст бог, роды пройдут благополучно, пусть остается пока в Виши или переедет в Марсель. Он порадовался тому, что ничего не сказал Жаламбе об истории с письмами. Ведь он позвонил ему только затем, чтобы получить разумный совет. И это было вполне естественно. Жаламбе считался асом именно в таких деликатных делах. Но что-то уже изменилось в самом Фюмроле, едва он начал разговор, и потому он ничего не сказал. Застегивая перламутровые пуговки только что доставленной из прачечной крахмальной сорочки, Фюмроль продолжал обдумывать создавшуюся ситуацию. «Здесь все за всеми следят», — вспомнились слова Жаламбе. Вполне естественно, что стали следить и за ним, майором Фюмролем, которого удостоил вниманием сам Катру. Что же здесь удивительного?
Наблюдать за ним могли агенты разных служб, в том числе и работавшие на Жаламбе. Но письма из японской миссии никак не должны были заинтересовать ни кэмпэтай, ни второе бюро. Гестапо, которое тесно сотрудничало с японской разведкой, тоже не стало бы охотиться за такого рода корреспонденцией. Она могла интересовать и китайцев, и англичан, и американцев, но в первую очередь тех, для кого тайна переговоров по поводу Индокитая была вопросом жизни и смерти: местных националистов или же коммунистическое подполье.
Трезво прикинув все «за» и «против», Фюмроль решил сделать вид, будто ничего не произошло. Грядущая капитуляция перед Японией развязывала ему руки. Кто бы ни были те люди, которые держат его под неусыпным оком, они не враги ему. Не враги они, а возможно, даже временные союзники и той Франции, которая продолжает сражаться с фашизмом в отрядах маки, под лотарингским крестом генерала де Голля.
Перед тем как уйти, он вынул из внутреннего кармана пакет с секретными инструкциями, содержащими перечень максимальных уступок, на которые может пойти французская сторона, и бросил его на стол. Задержавшись перед зеркалом, сдул пушинку с атласного отворота, поставил на нуль рукоятку фена и потянулся к белой кнопке выключателя. Но лампа под потолком погасла сама собой. Еще час назад Фюмроль не обратил бы внимания на столь незначительное происшествие. Перебои с подачей электроэнергии случались и раньше и были, видимо, в порядке вещей. Не далее чем вчера тоже погас свет, и это заставило Фюмроля раньше, чем он собирался, спуститься к стойке, где хорошенькая официантка (кажется, ее зовут Мынь) уже зажгла свечи. Так даже лучше, подумал он, в потемках нащупывая замок, на самый крайний случай у меня будет хоть какое-то алиби. Да и пить при свечах приятнее.
Едва он захлопнул за собой дверь, зазвонил телефон. Дребезжащий зуммер врезался в кромешную тьму коридора, как сигнал бедствия. Преодолев минутное колебание, Фюмроль достал ключ.
— Я прошу вас приехать ко мне, — услышал он характерный голос Катру. — И, если возможно, незамедлительно.
Катру принял Фюмроля во внутренних покоях. У него на коленях, сладко зажмурившись, мурлыкала сиамская кошечка.
— Хочу проститься с вами, маркиз, — без всяких предисловий объявил генерал-губернатор. — На этих днях уезжаю.
— Уже? — попытался изобразить удивление Фюмроль. — Как внезапно. — Он знал, что маршал еще неделю назад подписал указ о назначении адмирала Жана Деку. — Без вас мне станет еще более одиноко.
— Наконец-то искреннее слово! — зоркий глаз колюче блеснул, он сделал отстраняющий жест, упреждая смущенные оправдания Фюмроля. — Ради бога, не делайте удивленного лица. В этой дыре всегда все известно заранее. И соболезнований тоже не надо. Я рад, что уезжаю. Можете мне верить.
— Не хочу выглядеть в ваших глазах лицемером, — Фюмроль несколько принужденно развел руками. — Но, как говорят японцы, этикет надо соблюдать даже в дружбе. Притом я действительно огорчен и даже подумываю об отставке.
— Не делайте глупостей. В Виши решат, что вы просто-напросто задумали сбежать к де Голлю.
— Почему бы и нет? — меланхолично спросил Фюмроль. — Впрочем, вы правы, если я надумаю так поступить, то сделаю это тихо. — Он усмехнулся: — А то еще, чего доброго, арестуют.
— Не мне напоминать вам о долге перед Францией, маркиз, — мягко произнес Катру, спуская кошку на пол. — Иди-иди, — пощекотал он ее за ушком. — Перед настоящей Францией, которая была, есть и будет. Вы меня понимаете? Это для нее вы обязаны любой ценой сохранить Индокитай.
— Полагаете, это невозможно?
— Вы, как я вижу, убеждены в обратном, очень жаль.
— Не стану скрывать от вас, мой генерал, — признался Фюмроль, вяло помахивая веером, — но я действительно не верю в то, что можно сдержать японцев.
— Тогда зачем вы здесь? — резко спросил Катру.
— И сам не знаю. Я все еще куда-то бегу, бегу, и не могу остановиться. А уж если быть до конца откровенным, то меня окончательно доконала весть о том, что мы собираемся передать японской полиции списки каких-то агентов Коминтерна. Клянусь честью, такое уже было, мой генерал, и совсем недавно. Меня мучит не столько сам факт, хотя он достаточно омерзителен, сколько навязчивое сознание того, что так уже было. Мы оба помним, чем закончилось все во Франции, и у нас нет оснований рассчитывать на иной конец тут.
— Откуда вам стало известно? — почти не разжимая обескровленных губ, спросил Катру.
— Это имеет для вас значение?
— Да, имеет. Потому что мне не сообщали о подобном требовании японской стороны… Это Жаламбе вам сказал?
— Нет, — Фюмроль медленно покачал головой. — У меня есть иные источники. Как-никак я послан сюда для связи с японцами.
— Слышал, что они не слишком довольны вашей деятельностью, — переменил тему Катру.
— Вы хотели сказать, бездеятельностью? — Фюмроль качнул веером фаянсового болванчика, и тот послушно закивал уродливой, непропорционально большой головой. — Так как же насчет списков, мой генерал? Это правда?
— Решайте сами, раз вы осведомлены много лучше меня.
— Значит, правда. — Фюмроль осторожно положил веер на резной столик, где нежно дымилась чашка ароматного чая с лотосом. В серебряных ажурных блюдечках лежали печенье и арахис, поджаренный с солью и сахарной пудрой. — Скажите, мой генерал, — спросил Фюмроль, рассеянно стирая с орешков тонкую шелуху. — Зачем мы всякий раз ослабляем себя перед решительной схваткой? Из трусости или по убеждению? Флагу с серпом и молотом над Елисейским дворцом Вейган предпочел свастику. Это мне понятно: он действовал по убеждению. Но здесь, в Индокитае, из которого нас все равно рано или поздно вышвырнут, чего мы так трясемся? Думаете, это хоть чуточку умиротворит японцев? Как бы не так! Я терпеть не могу красных. Еще с раннего детства. Когда слушал рассказы про якобинский террор, про какого-то из моих прапрадедушек, которому отрубили голову, у меня сердце ходило ходуном. Впрочем, это так, инфантильная чепуха… Но у меня действительно нет ни малейшей симпатии к коммунистам. И все-таки мне было бы приятнее увидеть в Париже Тореза — он хоть француз, а не эсэсовец в черной униформе. А уж здесь… он пренебрежительно махнул рукой.
— Что «здесь»? Договаривайте.
— Какая нам польза от того, что японцы арестуют еще несколько тысяч красных в Китае или в Гонконге? Будь моя воля, я под занавес, не задумываясь, вооружил бы вьетнамских большевичков. Уж они бы поддали японцам жару! Чего им терять?
— Простите, маркиз, но вы рассуждаете как дитя. Можно подумать, что с тех пор, как бонна читала вам про Дантона и Робеспьера, прошел месяц-другой, а не тридцать лет. Я тоже был бы готов сражаться рядом с коммунистом-французом против нацистов. Но вы не знаете местных условий, мой друг. Я сменил на посту генерал-губернатора Жюля Бревье, провозгласившего демагогический лозунг «ежедневной чашки риса», и только тем и занимался, что разгребал авгиевы конюшни. Это мне выпала нелегкая участь сражаться с кошмаром, который достался нам в наследство от печальной памяти Народного фронта. Легальная компартия, профсоюзы, забастовки? Для Индокитая это было смерти подобно. Можете верить моему опыту. И я рад, что именно мне удалось раздавить многоголовую гидру.
— Мне трудно что-либо возразить вам, потому что вы действительно долго варились во всей этой каше, а я всего лишь желторотый неофит. И если бы мы не готовились драпать отсюда, ваши слова, несомненно, произвели бы на меня большое впечатление. А так… Не все ли равно, кто тут останется после нас?
— Далеко не все равно. Я знаю Деку и отдаю себе отчет в том, что сегодня он здесь нужнее меня. Свобода от принципов дает большую свободу маневра. Уверен, что Деку тактикой мелких уступок и долгих проволочек удастся выиграть время и спасти Индокитай для Франции. С японцами можно хоть о чем-то договориться, а коммунисты… — Катру безнадежно махнул рукой. — Я уж не говорю про коллаборацию: Сталин и Гитлер — союзники. Именно поэтому мы были вынуждены вести стремительную и всестороннюю атаку на коммунистические организации. Только истребив их, мы сможем добиться того, чтобы Индокитай сохранил спокойствие и преданность Франции. Поймите, маркиз, что именно сложная военная обстановка толкала нас на безжалостные действия. Я хорошо изучил местные условия. Внутри страны Франция не встретила бы такой оппозиции, такого сопротивления своему присутствию и протекторату, если бы не компартия. Она насчитывает в своих рядах приблизительно тридцать тысяч членов, людей непреклонных, опасных, слепо верящих в свою доктрину.
— Тем более стоит попробовать привлечь их на свою сторону в противоборстве с Японией.
— Невозможно. Несмотря на фанатизм и вероломство японцев, они прагматики. Если им будет выгодно, они пойдут на любой, даже самый немыслимый компромисс. С коммунистами же договориться невозможно. Они идут до конца, не считаясь с потерями, и не успокоятся, пока не проглотят все целиком. Не только сотрудничество, но даже временное соглашение с ними…
Лихорадочно замигав, потухли лампы. Умолк голос диктора в радиоприемнике. Зеленый глазок индикатора остывал в глухой тьме.
— Черт знает что такое, — Катру раздраженно позвонил колокольчиком.
— И часто так бывает? — откинувшись в кресле, спросил Фюмроль.
— Последнее время чуть ли не ежедневно. Наверняка саботаж! Я приказал полиции произвести расследование, но они что-то не торопятся. Здесь вообще не торопятся. Тотальное размягчение мозгов. Но меня это уже не касается. Все свое уношу с собой.
Неслышно ступая, вошел с зажженным канделябром Тхуан и унес недопитые чашки.
— Да, чуть не забыл! — спохватился Катру. — Могу я обратиться к вам с просьбой?
— Сделайте одолжение, мой генерал. Все, что в моих силах…
— Безусловно, в ваших. Возьмите Тхуана, маркиз. Он один из немногих, к кому я искренне привязался в этой стране. Хочется передать его в хорошие руки. Вы не пожалеете.
— Рад услужить вам, только боюсь, что вашему кудеснику станет скучно. Я всего лишь одинокий чиновник, без друзей и без связей. Едва ли мне удастся создать подобающую обстановку в своей норе. Не случайно я все никак не могу расстаться с отелем.
— Как вы могли убедиться, Тхуан для меня не только кулинар, но и камердинер, и мажордом. Несмотря на то что в штате заполнены все вакансии, он работает за троих. И все потому, что сумел сделаться незаменимым. Он одинок и всю свою заботу перенесет теперь на вас. Вам будет уютно под его опекой.
— Мне остается лишь от души поблагодарить вас, — поддался уговорам Фюмроль.
— Это мне следует выразить благодарность.
— Скажите, мой генерал, сегодня электричество отключалось уже дважды? — сменил тему разговора Фюмроль.
— По-моему, нет. У меня весь вечер горел свет. А в чем дело?
— Мне показалось, что в «Метрополе» ток отключился несколько раньше. Возможно, просто перегорели предохранители… Как вы считаете, Америка вступит в войну?
— Рузвельт едва ли позволит нацистам доканать Англию. Но, с другой стороны, в конгрессе слишком сильны изоляционистские тенденции. Как вы находите Жаламбе?
— Своеобразный человек, — осторожно заметил Фюмроль.
— Это прирожденный охотник на двуногую дичь. Плюс ко всему у него начисто отсутствуют какие-либо принципы. Незаменимые качества для службы в колониях. С Деку он, безусловно, сработается.
— А я?
— Это ваш долг. Без вас Деку нелегко будет придать отношениям с японцам нужную тональность.
— Тогда прикажите Жаламбе хотя бы для острастки арестовать несколько японских агентов. В Азии не любят угроз, но уважают силу.
— Я уже не властен отдавать распоряжения, мой друг. Дождитесь Деку. Возможно, его вам и удастся убедить.
Глава 5
Приближался тэт чунг тху — один из прекраснейших дней года, когда под яркой и совершенной в своей завершенности луной пятнадцатой ночи люди встречают середину осени. Веселым карнавалом с затейливым фейерверком и пляской чудовищ в ярко раскрашенных масках из папье-маше празднуют на вьетнамской земле плодотворящее полнолуние. Неуловимый волнующий миг таинственного преображения природы, когда льдисто мерцает на листьях банана широкий след улитки и роса придает нефритовую полупрозрачность зеленым зернам риса.
В ночь тэт чунг тху поднимаются со дна морей перламутровые раковины и, приоткрыв створки, нежатся в лунном сверкании, придающем жемчужинам волшебный матовый холодок.
В эту ночь детям дарят сладости и затейливые игрушки. На рынке Донгсуан и ремесленных улицах долго не затихает праздничное столпотворение. Дети сами вылавливают из аквариумов золотых рыбок, выбирают в Бумажном ряду пестрые фонарики и веера. А в Серебряном ряду в театре Кайлыонг рокочут барабаны. Жизнь и смерть встречаются в осеннее полнолуние. Отмирает колос и остается зерно. Уходят старики и смеются дети. В поминальном храме дэне тлеют спиральные свечи перед темными статуями древних героев. Полыхает в небе, рассыпаясь дымными звездами, счастливый дракон — повелитель грома. Бойко раскупаются воздушные шары и хлопушки в лавках, а рядом мастер нарезает впрок ритуальное золото из тонкой фольги и многоцветные бумажные деньги. Его товар, внешне неотличимый от пестрой карнавальной мишуры, предназначен для печальных обрядов. Может быть, уже завтра на чьих-нибудь похоронах эти деньги и золото бросят в огонь. Струйкой прогорклого дыма отлетят они в небо, чтобы мог расплатиться усопший на заставах нездешних дорог.
В самый разгар карнавала из ворот главного губернского управления жандармерии, что находилось в Барабанном ряду, по соседству с «Обществом умственного и морального совершенствования», выехал крытый фургон. Завывая сиреной, он медленно продвигался сквозь оживленные толпы, заполнившие и тротуары и мостовые. Монтер Нго Конг Дык бежал за фургоном до самого озера и отстал только у белой тюа, когда, вырвавшись на простор, шофер в полицейской форме дал полный газ.
Когда жандармы оцепили помещение «Сентраль электрик», Дык находился на электростанции. И это спасло его. Узнав о начавшихся арестах, он, а с ним еще трое товарищей без промедления выбежали на улицу и разошлись в разные стороны.
Дык немного успокоился и смог трезво оценить положение. Он понял, что совершил ошибку, не договорившись с ребятами о встрече. Он остался совершенно один, без крова над головой и без денег. Домой возвращаться было рискованно, а студента Лe Виена взяли еще на прошлой неделе, после разгона солдатской демонстрации. Тогда же, узнав об арестах агитаторов на военных базах Тюха, Окап и Митхо, скрылся в неизвестном направлении Танг. Других явок Нго не знал. Слоняясь по улицам, он решил искать приют на сампане дедушки Лиема. Там можно было спокойно выждать несколько дней, пока уляжется азарт погони, чтобы попытаться потом установить связь хотя бы с ребятами на электростанции. Прежде, однако, следовало узнать, кого взяли. Дык знал, что задержанных доставляют на внутренний двор, куда, разумеется, не проберешься. Он рассчитывал только на случай. Вдруг фургон остановится перед главным подъездом, и хоть на миг покажется чье-то знакомое лицо или кто-нибудь из арестованных ухитрится бросить записку. Но, кроме машин, которые то въезжали, то выезжали из железных, выкрашенных ярко-зеленой краской ворот, он ничего не увидел. Лишь однажды показалось, что в сумраке зарешеченного оконца мелькнуло скуластое лицо студента Ле Виена, и Дык безотчетно побежал за машиной.
«Как глупо», — подумал он, провожая ее взглядом. Оставалось одно: искать приюта на сампане.
Дедушка Лием встретил Дыка как родного. Заметив однажды, что молодой монтер теряется и бледнеет при виде внучки, старик стал считать его женихом. «Девочке и вправду пора замуж, — с бесхитростной мудростью рассуждал он. — Недаром говорят, что лиана взбирается ввысь только благодаря дереву. А Дык парень надёжный, несмотря на свою молодость, выбился в синие куртки,[11] и ей не придется голодать в его доме. Главное, была бы любовь, а все остальное придет само. Когда любишь, так и клубень водяного каштана кажется круглым, а не любишь — даже плод мыльнянки станет кривым».
— Здравствуй, внучек, здравствуй, — ласково обнял его Лием. — А мы с внучкой уже заждались тебя.
— И что это вы, дедушка, говорите! — гневно притопнула крохотной ножкой Хоанг Тхи Кхюе. — Вовсе я не ждала. Это у вас с ним какие-то дела, — она решительно тряхнула длинной косой и убежала, ловко перепрыгивая с сампана на сампан, бросив на бегу: — Ну я рада вам, старший братец.
Дык что-то смущенно пролепетал и сунул старику пакетик леденцов, купленный им на последние деньги в Сахарном ряду.
— А ведь у меня и вправду есть дело к тебе, — сказал Лием. — Мудрый Танг просил передать, что ожидает тебя у миеу Красного бамбука, близ Пагоды Благоуханий. Вижу, ты готов кудахтать, как курица над креветками, — похлопал он юношу по плечу.
— Так оно и есть, дедушка! — радостно рассмеялся Дык. — Это первая счастливая весть за долгие дни тревоги и горестей… А куда Хоанг Тхи Кхюе убежала? — Ему показалось, что разом минули беды, кончились все испытания. Пританцовывая от нетерпения, он рвался на берег, где под коричневой завесой воздушных корней баньяна его ждала девушка.
— Эх, парень! — сочувственно вздохнул Лием. — За приливом придет отлив. Радостный день недолог — короче вершка. Прежде чем прыгать на одной ножке, подумал бы, как станешь добираться до пагоды.
Старик был, как всегда, прав. До Тюа Хыонг — священной для каждого вьетнамца Пагоды Благоуханий — было километров шестьдесят — путь неблизкий. Тем более что пролегал он через городки и реки прилегающих к столице провинций Хадонг и Шонтэй, где у каждой переправы, у каждого городского шлагбаума стоял полицейский пост. Если Дыка действительно ищут, то ближайшие заставы уже оповещены о его приметах. Даже если и удастся выбраться из Ханоя по реке, все равно не избежать расспросов на переправах Хадонга и Шонтэя в полицейских будках близ мостов и переправ.
— Чего молчишь? — поинтересовался Лием, завертывая в лист бетеля орешек арековой пальмы и щепотку известки. — Хочешь? — предложил он Дыку.
— Нет, спасибо, дедушка, — отказался монтер. Он не любил бетель, от которого рот поминутно переполняется красной, как кровь слюной и обморочно холодеет в висках. — Я все прикидываю, как мне поскорее добраться до места.
— Экий ты прыткий. Сто путей — тысяча ошибок. Не о быстроте думать надо, а о надежности. Я не спрашиваю тебя, зачем ты едешь к мудрому Тангу. У рыбы бонг своя печень, у рыбы боп — своя. — Лием сплюнул за борт алую жижу. Губы его потемнели. Живее полилась речь. — Я не стану докучать тебе советами, сынок, но послушай, что мы надумали с внучкой. Сампан…
— Неужели собираетесь плыть?! — обрадовался Дык.
— Что ты суетишься и выскакиваешь вперед, как слепой колдун перед свадьбой? — выказал неудовольствие Лием. — Да, я решил поставить парус. Вода улеглась, ветры дуют благоприятные, и сампан в полном порядке. Я на днях его осмотрел, немножко законопатил, и теперь на нем можно плыть хоть до Сайгона. Старая рубаха, да ладно заштопана. Понял?
— Спасибо вам за все, дедушка, — с чувством промолвил Дык.
— Можешь не благодарить, сынок. Нам и без того пора было сниматься с места. Засиделись.
— Но вы же, наверное, намеревались плыть в залив Бакбо?
— Какая разница, куда плыть? Без длинных дорог не узнаешь, хорош ли конь. Собирались в Бакбо, а пойдем на Вьетчи. Ясно? А там попробуем спуститься по реке Дай и доставим тебя прямо к переправе Дук. Доволен?
— Еще бы, дедушка! Я ведь так привязался к вам и сестрице Кхюе… — он замолк, испугавшись, что сказал слишком много.
— Мы тоже полюбили тебя, — спокойно ответил Лием и, словно все у них было решено и договорено, ввернул подходящую пословицу: — Девушка без мужа — что лодка без руля, парень без жены — что конь без узды.
— Да я бы с радостью, — залился краской Дык. — Только не знаю, как Белый Нефрит… И притом у меня же ничего нет.
— Как так ничего? А голова? Руки? Ценнее этого, сынок, в мире только сердце. Скажу тебе прямо, что лучшего мужа для внучки и не желаю. А уж как с ней поладить, ты сам решай. Тут я тебе не помощник. Девушка знаешь как? Бранит того, кто выпивает бутылку, а замуж выходит за того, кто выпивает две. Вот и смекай.
— Вы думаете, она не станет возражать, если я поплыву с вами?
— А ты сам ее об этом спроси, не будь трусом.
— Но она хоть знает, куда мы направляемся!
— Все, что решает сделать мужчина, уже давно решила за него женщина. Когда пришли с вестью от Танга и внучка узнала, что ты поедешь в Пагоду Благоуханий, она сама велела мне ставить парус. И то правда, надо же возблагодарить Будду за счастливое воскрешение ее отца из мертвых? Как ты думаешь?
— Еще бы! — с горячностью откликнулся Дык. — Легче вырваться с того света, чем из клетки Пулокондора.
— Вот и ладно. Вместе и пойдете по священным местам, а я подожду вас где-нибудь у переправы. Прошло мое время карабкаться в гору. — Лием выплюнул жвачку и подтолкнул Дыка: — Теперь можешь идти…
На другое утро старый сампан тихо вышел из заливчика и, ловя попутный ветер напруженным парусом, медленно поплыл против течения Красной реки. Потянулись бесконечные рисовые поля, окаймленные пальмовой порослью. Изредка меж стволов мелькали белые тюа. Темные католические соборы угрюмо высились на холмах. За сто с лишним лет острые шпили с крестами так же примелькались, как крыши из рисовой соломы, печи для обжига кирпича и черные доты у переправ.
К тропам, ведущим в знаменитые пещерные храмы и тюа, затерянные в непролазных джунглях, можно было приблизиться только на лодке. В долбленых челнах, которым не страшны заросшие болотными травами отмели, отплывали паломники от дощатой пристани Дук.
Выше и ниже ветхого мостика, уже за излучиной, в реку впадали два узких канала, петлявших среди залитой водой низины, где, утонув по самые ноздри, прохлаждались буйволы, а мальчишки и старики с восхода и до заката удили рыбу. К гротам Пятигорья и самой Тюа Хыонг вел первый проток — Иен. То разветвляясь, то вновь смыкаясь в единое русло, увлекал он лодку в край бесконечных болот. Его русло терялось среди цветущего луга, над которым веял дурманящий голову аромат. Даже взглядом нельзя было проследить прихотливый ленточный извив. Берега то расступались, когда он терялся в озерах, то сужались в глубокий каньон, над которым нависали переплетенные лианами стволы и спутанные корневища.
Грациозно нагнувшись над тихой водой, девушка в остроугольной шляпе без устали гребла носовым веслом, проталкивая тяжелую лодку мимо заросших розовыми лотосами сплавин, сквозь шуршащий заслон тростника. На других лодках тоже гребли девушки. С незапамятных времен весло стало женским орудием в стране вьетов. Готовя себя к материнству, из поколения в поколение всходили гибкие вьетнамки на нос тяжелой лодки. Мужчина, как правило старик, оставался сидеть сзади, чуть подправляя кормовым веслом.
В лодке, которая везла Хоанг Тхи Кхюе и Нго Конг Дыка, сидели еще двенадцать паломников: три жизнерадостные старухи, с зубами, покрытыми черным лаком, две молодые пары и семья из Хайфона. Как вскоре выяснилось, хайфонцы перепутали челн. Пагоду Благоуханий они, оказывается, посетили еще вчера, а теперь намеревались обойти гроты вдоль другого протока. Первым понял ошибку отец семейства.
— Куда же это нас везут? — поинтересовался он, когда лодка приблизилась к храму Чинь. — Разве мы тут не были? — толкнул он локтем жену, кормившую грудью ребенка. Она смущенно улыбнулась в ответ: ей было все равно, куда ехать. Старый дремлющий дедушка и мальчик, слушавший пение цикады в ротанговой клеточке, тоже не выказали особого огорчения.
— Вот так раз! — отец семейства почесал затылок и указал пальцем на деревянный настил, исчезающий в тростниковых дебрях: здесь-то я и потерял вчера свою чашку.
Старухи подняли его на смех. Он сначала попытался оправдываться, а потом махнул рукой и засмеялся.
— Это бонзе не надо отыскивать дорогу к пагоде, а я простой человек… Да и какая разница, где ставить свечку? Будда всюду один, он простит.
Хайфонец быстро смекнул, что вторичное посещение святынь тоже дает кое-какие преимущества, и с видом знатока начал рассказывать о каменной статуе Будды, гудящей, как бронзовый колокол, чудотворном озерце «Драгоценная небесная вода» и гроте Шонтэй, где когда-то государи любили играть в шахматы. Насмешницы старухи слушали его затаив дыхание. Из-за черноты лака приоткрытые рты их выглядели беззубыми.
Лодка пристала у небольшого базарчика. Под навесами из пальмовых листьев торговали связками курительных палочек, ладанками, амулетами, священными заклинаниями. Хоанг Тхи Кхюе и Дык повесили на грудь пластинки с Буддой на лотосе, украшенные пятью разноцветными шелковинками, олицетворяющими стихии, и весело зашагали в гору.
Полуденный зной был в самом разгаре. Раскаленный воздух звенел от стрекота насекомых. Слепил глаза тяжелый неистовый свет.
— Надо было нам напиться кокосового молока внизу, — посетовал Дык, останавливаясь, чтобы перевести дух.
— Мы еще не начали подъем, а ты уже устал, — поддразнила его Хоанг Тхи Кхюе. — О-хо-хо! — вздохнула она, запрокинув голову.
Перед ними высилась почти отвесная, заросшая цепкой ползучей растительностью стена. Мечевидные зазубренные листья и длинные стебли с загнутыми шипами делали ее неприступной. Узкая каменистая тропка, круто уходящая вверх, совершенно терялась в первозданных дебрях. Пчелы-мясоеды сонно вились над исполинскими, болезненно изогнутыми цветками, источавшими душный тлетворный запах. В каменных расселинах дремали большие зеленые ящерицы с оранжево-пятнистым брюшком, медленно переползали по мостам из лиан почти неразличимые в листве жуки-богомолы.
Какой невероятный, всепоглощающий порыв подвигнул человека поселиться в диких джунглях, где все враждебно, чуждо людской природе и где, кроме немыслимой удаленности от суетных соблазнов мира, нельзя ничего обрести? Год за годом и век за веком вырубали отшельники каменные ступени и белым щебнем, чтобы не заплутать в ночи, мостили тропы. В известковых кавернах горы воздвигали они алтари, метили священным знаком источники, из многотонных каменных плит, странно звучащих под ударами, высекали богов и чудовищ.
Трудный путь, который предстояло пройти паломникам, олицетворял идею творения. Намекая на восьмеричное восхождение к совершенству Нирваны, где обрывается круговорот перерождений, он должен был напоминать еще и о титаническом труде безымянных строителей. Паломники, приезжавшие сюда из многих провинций, едва ли задумывались над глубинным смыслом буддистской догматики. Но, с детских лет познав истинную цену труда, они уважительно склонялись перед памятью тех, кто перекинул мосты через пропасть и воздвиг на вершинах каменные символы бессмертия и красоты.
Сверкая желто-зеленой глазурью, стояли многоярусные башни перед зеленым пологом дикого леса. В них хранился пепел и угли погребальных костров. И прежде чем почтить богов, люди молитвенно складывали ладони перед этой горсточкой праха.
Вместе с другими паломниками Кхюе и Дык зажгли благовонные палочки перед позолоченными статуями, наряженными в праздничные одежды, и, взявшись за руки, отправились в дальнейший путь. Спускавшиеся вниз с улыбкой уступали им дорогу, нараспев повторяя слова непременного благословения:
— А-зи-да фа-ат!
Лица людей светились радостью исполненного долга.
— Ази-да фат, — ответил на очередное приветствие Дык. — Скажите, Белый Нефрит, — обратился он к девушке, потупя взгляд, — о чем вы просили богов у алтаря?
— Я благодарила за весть об отце. Не сердитесь на меня, старший брат, но этого требовал обычай. И не думайте, пожалуйста, что я забыла ваши наставления. — Она лукаво заглянула ему в глаза. — А зачем вы сами поставили свечку, если не верите в милость святых отшельников?
— Мы должны вести себя, как все, — ответил Дык. — Иначе на нас могут обратить внимание… И еще мне захотелось, — запинаясь добавил он, — чтобы моя свеча курилась рядом с вашей.
Обогнув возвышенность, они вышли на открытое место. Жаркий иссушающий ветер с лаосских гор дул теперь прямо в лицо. В глаза летела колючая известковая пыль. С лесистого склона скатывались черные лоснящиеся черви, похожие на кольца марсельской колбасы.
— Давайте поскорее пройдем это место, — трудно дыша, сказала девушка. — За поворотом должна быть тень, и мы сможем немного передохнуть.
Но им еще долго пришлось взбираться по каменистой тропе под палящими лучами солнца. Давно осталась позади хайфонская семья, решившая закусить на берегу лесного ручья, и влюбленная парочка, которая останавливалась во всех уединенных уголках. Одни лишь старухи упрямо шагали вслед, оглашая стрекочущее безмолвие джунглей стуком посохов и возгласами «Ази-да фат!»
С детства приученная к долгим походам, Кхюе легче переносила трудности подъема. Только на открытых участках, где не было деревьев, защищавших от солнца и жаркого дыхания губительных лаосских долин, ей становилось немного не по себе. Стремясь быстрее миновать мертвые, добела выжженные пространства, она прибавляла шаг. Дык едва находил в себе силы не отставать. Потомственный горожанин, к тому же болезненный и хрупкий, он обливался потом и учащенно дышал, поминутно отирая локтем горячий лоб, на котором налипли раздавленные мошки. На одном из поворотов он всей тяжестью налег на сухой ствол, нависающий над дорогой, но перевести дух не удалось. Тонкая, как палец, змея, приютившаяся среди ветвей, высунула острую головку и сгинула в траве. Дык тихо вскрикнул, неуклюже отпрыгнув в сторону.
— Что случилось? — обернулась Кхюе.
— Змея, — с трудом выдохнул он. — Зеленая и длинная, как лиана.
— Это древесная, — объяснила девушка. — Не пугайся, — и подала ему руку.
Будь Дык сейчас один, он бы ничком свалился под первым же деревом и оставался бы там до тех пор, пока не выровнялось дыхание и не просох пот. Перед глазами колыхалась жаркая красноватая мгла. Ему казалось, что он не сможет сделать ни шага дальше. Почти теряя сознание, он все-таки продолжал взбираться все выше и сам поражался тому, что еще может идти. Сквозь пот, заливавший глаза, он видел только белый дымящийся щебень и раскаленное небо за ним. Втягивая воздух сквозь стиснутые зубы, мысленно считал шаги, то и дело сбиваясь со счета и начиная сызнова. Щадя его, девушка пошла медленнее, терпеливо дожидаясь, когда он отставал. Она уже ни о чем не спрашивала, а только подбадривала веселыми возгласами.
— Осталось совсем капельку! — неустанно повторяла она. Но до конца все еще было далеко и негде даже присесть на узкой тропе. Среди устилавшей редкие ниши пыльной сухой листвы шуршали лесные клопы и многоножки. Дык пришел в себя от ласкового прикосновения.
— Здесь мы отдохнем, старший братец, — тихо сказала девушка, увлекая его в густую тень пальмовой кровли.
Там, на бамбуковых, устланных циновками подмостках блаженно подремывали усталые путники. Добродушная толстуха с яркими от бетеля губами распаренным черпаком из кокоса щедро разливала чай. В кипящем чане вместе со свежими чайными листьями мелькали ветки. С первыми глотками горьковатой обжигающей жидкости Дык обрел способность воспринимать мир во всей его полноте. Вкусный запах дыма щекотал ноздри, он радовался беззаботному смеху голых ребятишек, кувыркающихся в пыли, и полной грудью вдыхал живительный, почти осязаемый сумрак. В дальнем углу сидел худой старик. У его ног стоял горшок с вязкой зеленоватой жидкостью, в которую он обмакивал тонкие бамбуковые стрелы. Перед домашним алтариком стояло блюдо с белыми и лиловыми лепестками. В дыму курений смутно золотились подношения: бананы, плошка риса, медная кружка с водой. Дык не заметил, как его сморил сон. Пока он спал, не выпуская из рук чашки, Хоанг Тхи Кхюе обмахивала его плетеным веером. Оживленно болтая с хозяйкой, она не спускала глаз с тени, которая острым углом медленно наползала на тропу. Надо было вновь отправляться в дорогу.
— Не иначе, твой муж рос неженкой, — толстуха дружелюбно подмигнула девушке. — Смотри не разбалуй его вконец. — Она засмеялась, отчего серебряные мониста тонко зазвенели на ее пышной груди. — Пусть он теперь отгоняет от тебя мух, а ты поспи. Жена и муж во всем должны быть одинаковы, словно палочки для еды.
— Некогда, матушка, — стараясь не встретиться с хозяйкой глазами, заторопилась Кхюе. — Нужно успеть все обойти и вернуться к лодке. — Она осторожно погладила Дыка: — Вставай.
Приободренные отдыхом, они зашагали по горячему щебню, вспугивая стрекоз. О близости пещер свидетельствовали все чаще встречавшиеся каменные жертвенники, где шелестели на ветру засохшие цветы. Окруженные колючей изгородью ананаса, одиноко высились деревянные божницы, насквозь источенные термитами. На расчищенном от ползучих растений известковом склоне были высечены магические символы, позеленевшие от времени и туманов.
Наконец тропа выровнялась и впереди показался красный мостик, за которым виднелись ворота с иероглифами и вечный спутник тюа — дерево дай. Отчетливо несло сыростью и сладковато-удушливой вонью помета летучих мышей.
Когда Кхюе и Дык вошли под своды пещеры, им показалось, что они заглянули в ад. Глубоко внизу клубились густые пары, пронизанные жгучими точками тлеющих свечек. Густой запах можжевельника и сандала царапал горло, ел глаза. Высоко под каменной аркой гулко перекатывалось эхо. Потревоженные летучие мыши метались во мгле. От вечного дождя, которым проливались охлаждавшиеся под каменным сводом испарения, земля под ногами разбухла и сделалась скользкой. Переход от ослепительно жаркого полдня к моросящему мраку был настолько резок, что начал бить простудный озноб. Пропитанные курениями душные волны тумана не позволяли разглядеть лики богов. Изваянные из прозрачного кальцита, они словно изнутри наливались красноватым свечением, представая в новом обличье, тревожа и усыпляя нескончаемой изменчивостью. Все ниже становились гладкие своды, нависавшие причудливыми складками, напоминавшими досковидные устои баньяна. Порой кто-то из паломников пробовал постучать по ним камнем, и тогда вся пещера наполнялась тревожным и гневным рокотом. В нем явственно различался то звон угасающей бронзы, то надтреснутый жалобный вой, от которого замирало сердце. Хотелось поскорее вырваться из этого удушливого, то в жар, то в холод бросающего тумана. Но сзади напирали все новые толпы, и оставалось только идти вперед, вздрагивая невольно от скользкого прикосновения гладких стен. Блуждая под тихим дождем от алтаря к алтарю, паломники теряли ощущение времени и окончательно запутывались в лабиринте. Лишь безотчетно повинуясь нетерпеливым толчком в спину, они в конце концов оказывались под той же самой оплетенной лианами и корнями аркой, с которой начинали свое нисхождение в подземелье.
Такова была легендарная Пагода Благоуханий. Поражая воображение, она одновременно навевала забвенье. Мало кому удавалось припомнить потом внутреннее убранство пещерной тюа, облики ее богов и героев. В неверном, причудливо преломленном озарении мерещились фантастические видения, мнились знамения и вещие знаки. И чем меньше запоминалась паломнику таинственная пещера, тем сильнее начинало работать его воображение, когда он, вернувшись в родные края, принимался повествовать о виденных чудесах.
Подобно остальным, Кхюе и Дык были вынесены людским потоком на площадку, откуда они впервые заглянули в туман преисподней. Следом за ними показались и знакомые по лодке молодожены. Обрадованные новой встречей, обе пары, словно стремясь поскорее освободиться от наваждения, решили продолжить обход святынь вместе.
— На обратном пути мы могли бы как следует осмотреть храм Тхиентю, — предложили молодожены.
— Это было бы чудесно! — закружилась на одном месте Кхюе. — Давайте так и сделаем. Ты согласен?
— Разумеется, — Дык задумчиво улыбнулся в ответ, но тут же опомнился и, обращаясь к молодоженам, попросил: — Возьмите ее, пожалуйста, с собой. Мне нужно еще навестить знакомых… — он запнулся и, глядя в сторону, бросил: — В общем, увидимся в лодке.
В пещеру он вступил, упрямо нахмурив брови. На сей раз она не произвела на него столь сильного впечатления.
— Я ищу часовню Красного бамбука, — обратился он к первому же монаху, которого сумел различить в полумгле только по бритой голове.
— Пройди к главному алтарю, — был ответ. — Там тебе укажут дорогу.
Часовней Красного бамбука назывался небольшой грот, соединенный с пещерой долгим извилистым коридором. Престарелый тучный монах вручил Дыку электрический фонарик и наказал придерживаться правой стороны подземного перехода.
— Пробуй правой рукой стену, и Ты не заблудишься, — повторил он, приподнимая край шелкового занавеса, за которым чернела округлая дыра. — Тебе сюда.
Танга он нашел в голой сумрачной келье. Все ее убранство составляли циновка и кокосовая чашка.
— А где ваши книги? — удивился Дык.
— Мне приходится работать в другом месте. Ничего не поделаешь. Я просил приюта и получил его. Взамен от меня требуется только одно: подчиняться здешнему уставу.
— Монахи знают, кто вы?
— Они меня ни о чем не спрашивали, — улыбнулся Танг. — А ты сразу начал с допроса.
— Вы мне не доверяете? — вспыхнул Дык.
— Если так, то зачем ты здесь? — спокойно возразил Танг. — Никогда не стремись узнать больше, чем это нужно для дела, — он мельком глянул на юношу. — Легче перенести допрос, когда тебе и в самом деле нечего сказать врагу. Если, кроме боли, ничто не мучит, можно перетерпеть.
— Что еще может мучить?
— Страх проговориться… Но не будем больше об этом, парень. У нас слишком мало времени.
Танг подсел поближе к окошку и принялся внимательно рассматривать привезенные Дыком фотографии. — Ты знаешь, что здесь? — спросил он, бережно упрятав отпечатки в черный пакет.
— Догадываюсь. За день до ареста студент говорил о письме Петэна новому генерал-губернатору. Это оно?
— Ты привез очень важные сведения. Угроза японского вторжения нависла над нашей страной. Что тебе поручено передать на словах?
— Японский посол в Виши Кото Сотомацу потребовал от Дарлана признания преимущественных позиций Японии на Дальнем Востоке, — на одном дыхании выпалил Дык. — Он настаивал на предоставлении японской армии некоторых льгот в Северном Индокитае.
— Так и сказано: «некоторых»? Ты ничего не перепутал?
— Все верно, товарищ Танг.
— Под этим расплывчатым определением скрывается страшное слово — оккупация. — Танг вынул из конверта снимок. — Вот что маршал Петэн пишет в секретном послании адмиралу Деку: «Я приказал моему правительству открыть с Японией переговоры, которые, избегая рокового для Индокитая конфликта, должны сохранить наши основные права». — Он повернул отпечаток к свету. — Студент не говорил тебе, где именно удалось сфотографировать письмо?
— Нет. Он же не знал, что его возьмут… Но я думаю, что там же.
— Похоже, что так, — задумчиво кивнул Танг. — В углу есть пометка «Фюмролю — для сведения» и неразборчивая подпись… Возможно, самого Деку.
— Значит, товарищи рисковали не зря, — вздохнул Дык.
— Да, бумаги исключительно ценные. Вишисты, судя по всему, готовы уступить. Они продали свою страну, теперь продают нашу. Для нас это не явилось неожиданностью. Меня другое смущает. Слишком уж беспечен этот новый майор. Тебе не кажется?
— Не знаю, — честно признался Дык, польщенный тем, что такой человек, как Танг, интересуется его мнением. — Я не задумывался над этим. Радовался удаче, и все.
— И напрасно. Не забывай, что АБ следуют за нами по пятам. Массовые аресты, в ходе которых мы лишились самых лучших товарищей, должны послужить нам суровым уроком.
— Вы думаете, что письмо… — робко начал Дык.
— Может оказаться началом широко задуманной провокации? — досказал за него Танг. — Да, такая мысль у меня шевельнулась. Меня очень настораживает поведение этого Фюмроля. Я встречал европейцев, которые совершали под влиянием тропикантос поистине безумные поступки. Но ни один из них не швырялся с таким поразительным постоянством секретными документами. Боюсь, что это неспроста. Либо он не тот, за кого себя выдает, и тогда его появление в Ханое нужно рассматривать как начало крупной полицейской операции, либо… — Танг не договорил. — Одним словом, как бы радость не обернулась слезами, — быстро закончил он.
— Что же теперь делать? — растерянно спросил Дык.
— Прежде всего тебе следует убраться подальше, — как о чем-то давно решенном объявил Танг. — Далее, — он начал загибать пальцы, — раз и навсегда прекратить канитель со светом, которая наверняка привлекла внимание тайной полиции и к электростанции и к вашей «Сентраль электрик»… И, наконец, последнее: следует внимательно приглядеться к Фюмролю. На мой взгляд, он работает слишком топорно для контрразведчика из метрополии. Кроме того, сведения, которые мы получили благодаря его действительной или мнимой халатности, сомнения не вызывают. Мы перепроверили это по другим источникам.
— Тогда я совсем ничего не понимаю, — развел руками Дык.
— Хорошо, разберемся, — успокоительно заметил Танг. — Я посылаю тебя курьером во Вьетбак. Необходимо срочно уведомить партийное руководство о ходе японо-вишистских переговоров.
— Я готов, товарищ Танг. — Когда ехать?
— Немедленно… Ты здесь один?
— Меня привез на сампане дедушка Лием. Если нужно, мы сегодня же отправимся в обратный путь. Сестрица Кхюе, наверное, уже ждет возле лодки.
— На сампане тебе появляться больше не следует.
— А как же Кхюе? Она без меня не уедет.
— Я сам предупрежу ее, — сказал Танг. — Тебе все равно нельзя оставаться в Ханое, — объяснил он. — Да и выбирать особенно не приходится. Арестованы почти все наши курьеры. Вся надежда на тебя, Дык. Не подведешь?
— Не подведу, товарищ Танг.
— Я дам явку в Фули. Там тебе помогут побыстрее пробраться на север. Возможно, придется перейти границу. Но это уже решат товарищи на месте. Возьми, — улыбнулся Танг, возвращая пакет с фотографиями. — Повезешь дальше. Забудь обо всем, кроме задания. Положение очень трудное. Мы потеряли связь с заграничными центрами. Родина в опасности, товарищ, и многое зависит от тебя.
Глава 6
В Токио стояла почти такая же жара, как в Ханое, и столь же трудно дышалось в пересыщенном влагой воздухе. Фюмроль искал спасения в чудесных парках японской столицы, прекраснее которых не было, по его мнению, нигде. Часы, свободные от выматывающих душу переговоров и бесконечной протокольной канители, он проводил под вековой сенью криптомерий Уэно. С выпуклого, почти кукольного мостика любовался ручьями, в которых играли многоцветные карпы, или искусственными водопадами, сбегавшими с живописных, умело декорированных зеленью скал. От причудливых, ветвями стелющихся по земле сосен и ив его тянуло к аскетической прелести каменного сада, где строгие линии причесанного граблями гравия бросали вызов застывшему хаосу девяти причудливых каменных глыб. С какого бы места ни пытался он смотреть на каменный сад, никак не удавалось увидеть все девять. В этом была какая-то загадка, простая и неразрешимая, как жизнь. Сами собой всплывали полузабытые понятия: «еэн» — очарование, «югэн» — таинственное, «едзе» — недосказанное. В каменном бесцельном совершенстве мнился остановленный миг непостижимого космического творения. Стихийная необузданность, постичь которую немыслимо, ибо она соединяет в себе и цель творения и его процесс. Таинственное очарование недосказанности. «Ничто — это целостность, из которой рождается все». Он долго силился вспомнить, откуда эти слова.
«Нихон но бы» — красота Японии вновь властно брала душу в полон. Было нестерпимо жаль себя, Францию, утонченный и бесконечно талантливый японский народ и эту страну, сотворенную по канонам немыслимого совершенства. Все слепо неслись навстречу гибели, грозя неисчислимыми бедствиями потрясенному миру.
Проходя вечером по Западной Гиндзе, он остановился у столика, где сидел с гадательной книгой старик в черном синтоистском колпачке с хвостиком.
— Что меня ждет? — спросил Фюмроль, положив на столик, скупо озаренный свечой, бумажку в пять иен.
Старик прищурился и, злобно улыбнувшись, прошипел:
— На твоем лице я вижу знаки «тайке». Они пророчат неминуемую гибель, белый дьявол.
Фюмроль не поверил, но, вопреки разуму, сердце тоскливо заныло. Даже хироманты были отравлены расовой ненавистью. На другой день он держался с японскими генералами с такой непроницаемой твердостью, что министр иностранных дел Дарлан сделал ему раздраженное замечание. Если бы не заступничество нового генерал-губернатора адмирала Жана Деку, Фюмроля могли отстранить от участия в переговорах. Адмирал, против которого он заранее настроился, был ему крайне несимпатичен. Но внешне он держался вполне прилично, и неприязнь понемногу сгладилась.
В Индокитай Деку привез из Виши большой портрет маршала Петэна и чрезвычайные законы. Он начал с того, что приказал Жаламбе принести личные дела всех мало-мальски заметных сотрудников административного аппарата.
В «Метрополе» за стаканчиком аперитива уже назывались возможные жертвы готовящейся чистки. Несколько офицеров, не дожидаясь решения своей судьбы, поспешили перелететь в Малайю, где заявили английским властям о своем решении примкнуть к Свободной Франции.
По странной случайности воцарение нового генерал-губернатора в бывших апартаментах Катру совпало с переездом Фюмроля в особняк напротив тюа Мот-Кот. Стараниями Тхуана дом был доведен да такого немыслимого блеска, что у Фюмроля заныло сердце. Глядя на подстриженный газон, на ручную обезьянку, срывавшую с деревьев папайи спелые желтеющие плоды, Фюмроль почти стыдился своих чемоданов, которые изрядно пострадали от гостиничных крыс. Вскоре, кстати, выяснилось, что понесенный ими в «Метрополе» урон не ограничился внешним видом. Фюмролю стало не по себе, когда он обнаружил, что термиты перемололи в труху паспарту с портретом жены. Пришлось довольствоваться фаянсовым болванчиком — прощальным подарком Катру. Поставив его на роскошный красного дерева письменный стол, Фюмроль потерял интерес к устройству гнездышка и, кое-как рассовав по ящикам наваленное барахло, рухнул на необъятную кровать с балдахином на витых столбах. Когда же в сопровождении жандарма, притащившего ящик бордо, ввалился Жаламбе, жизнь покатилась по наезженной колее.
К вечеру Фюмроль уже не мог отличить новое обиталище от ставшего таким привычным гостиничного номера. На столе валялась нераспечатанная корреспонденция, которую доставил дежурный мотоциклист. Невзирая на героические усилия Тхуана, по полу шныряли исполинские тараканы и где-то над балдахином чмокали вездесущие ящерицы. К изысканному ужину, который повар приготовил в честь новоселья, Фюмроль почти не притронулся. По обыкновению бурча под нос и качая головой, Тхуан унес недопитую чашку шоколада, почти доверху набитую окурками сигарет «голуаз». А утром позвонили из резиденции. Новый генерал-губернатор вызывал майора к одиннадцати часам.
В полной уверенности, что его выгонят на все четыре стороны, Фюмроль остановил свою машину перед воротами. Голова раскалывалась, во рту ощущался кислый металлический вкус.
— Я много слышал о вас, маркиз, — встретил его с распростертыми объятьями Деку. — Рад теперь познакомиться лично. — И без всякого перехода заявил: — Собирайтесь. Послезавтра мы вылетаем в Токио на переговоры с японцами. Господин Дарлан включил нас в свою команду. Я только что получил из Виши все документы. — Он взял из сейфа большой конверт с грифом канцелярии главы государства. — Прошу вас внимательно изучить и подготовить свои соображения. Доложите в самолете.
— Мы разве летим? — зачем-то спросил Фюмроль.
— Увы, — развел руками адмирал. — С посадкой на Формозе. Откровенно говоря, я бы предпочел пароход, но ничего не поделаешь — промедление смерти подобно. Итак, до послезавтра, майор. Не смею вас задерживать. Нет, впрочем, погодите… Вы, кажется, работаете на дому?
— Совершенно верно, ваше превосходительство. Я тут сравнительно недавно и еще не успел пустить корни. — Фюмроль сознавал, что его оправдания звучат по меньшей мере наивно. — И вообще, — он осклабился и с нагловатой непринужденностью воспитанника Сен-Сира добавил: — роль миссии связи настолько двусмысленна, что едва ли мне необходима латунная вывеска и триколер[12] на фронтоне.
Деку молча выслушал его и предложил сесть.
— Задержитесь еще на несколько минут, майор, — с озабоченным видом он расположился в кресле, на котором еще лежала подушечка Катру. — У меня мелькнула идея, которую стоит обмозговать. — Адмирал коснулся рукой лба. — О чем мы говорили? Ах, да! — вспомнил он, взглянув на пакет в руках Фюмроля. — Я хотел спросить, есть ли у вас надежный сейф? Нет? Это непорядок. Срочно заведите. Пока же ровно в восемь к вам будет приезжать офицер и забирать документы.
Фюмроль поморщился.
— Да-да, мой дорогой! Прежде всего режим! — Деку многозначительно поднял палец. — В тропиках люди склонны распускаться. На это принято смотреть сквозь пальцы. Что ж, я понимаю. Но придется подтянуться, господа. Родина, труд и порядок, — глубокомысленно повторил он любимый лозунг Петэна. — Этого требует от нас великая национальная революция… Теперь относительно возглавляемой вами миссии. Я наслышан, что вы хорошо знаете Японию? Весьма ценно в нынешних обстоятельствах. Отныне, помимо вашей основной деятельности, вы займетесь — только это секрет! — разработкой новой политики. Необходимо что-то противопоставить японской пропаганде «Великой Восточной Азии». Вы понимаете? В противном случае мы потеряем колонии. Мне кажется, что наша политика должна развивать в среде индокитайской элиты и местного населения чувство признательности к Франции, желание остаться верными французскому знамени. Возможно, нам придется пойти на известные перемены. Лично мне представляется заслуживающей внимания идея создания федерации солидарных и автономных государств со столицей, скажем, в Далате, где пребывает ныне двор императора Бао Дая. Это современно.
Стоит подумать и о восстановлении пышных церемоний, которые так обожает простонародье. Для начала можно было бы реставрировать дворец в древней столице Хюэ. Это должно понравиться. Одним словом, вы понимаете, в каком направлении надлежит работать. Я решительный противник военного консерватизма. Жизнь постоянно заставляет искать новые формы. Неизменным должен оставаться лишь основополагающий принцип: «Великая французская родина — защитница и опекун индокитайской федерации». Мы не можем позволить себе роскоши антияпонской агитации, но кто мешает нам превозносить отечество?
От генерал-губернатора Фюмроль вышел со смешанным чувством брезгливости и интереса.
В Токио, где ему пришлось почти безотрывно находиться рядом с Деку, это ощущение лишь окрепло. Сравнив одного адмирала с другим, Фюмроль понял, в чем дело. Обоим им выпала жалкая роль, и японцы всячески постарались подчеркнуть это на переговорах. Но если Дарлан вел себя, как затравленное животное, то впадая в излишнюю угодливость, то принимая позу оскорбленной добродетели. Деку подкупал простотой и чувством собственного достоинства. Фюмроль видел, каких внутренних усилий стоило это генерал-губернатору. Сравнение было явно не в пользу министра иностранных дел. Что бы там ни было, но свой крест Деку нес с достоинством и стойко придерживался полученных инструкций. Дарлан, сдававший одну позицию за другой, счел за благо поскорее скрыться за кулисы.
Подписав соглашение о признании преимущественных прав Японии в Индокитае, министр заторопился с отъездом. Перед отлетом, отвечая на вопрос корреспондента печатного концерна «Майнити», он сказал:
— Между правительствами Новой Франции и могучей Японии достигнуто полное единство взглядов. Обе страны не пожалеют усилий для противодействия коммунистическим проискам на Дальнем Востоке во имя мира и взаимного процветания.
— Не может ли господин министр уточнить, о каких именно происках идет речь? — спросил представитель концерна «Асахи», отличавшегося более либеральными тенденциями.
— Я говорю о международном коммунистическом заговоре вообще, — туманно ответил Дарлан, размахивая на ходу зажатой в кулаке перчаткой. Он торопился, то и дело выскакивая вперед из-под услужливо раскрытого над ним зонта. Вспышки магния отражались в дождевых лужах. Обменявшись прощальным рукопожатием со своим японским коллегой, Дарлан отозвал в сторону адмирала Деку.
— Значит, вы решили задержаться в Токио еще на денек? — спросил он, нервно озираясь.
— Так точно, — по-военному отрапортовал Деку. — Японцы настаивают.
— Вот и отлично. Очевидно, они хотят обсудить детали. Проявите разумную твердость.
Деку молча опустил веки. Оба прекрасно понимали, что следующим шагом японцев станет размещение военных контингентов на севере. Простора для политической игры не было.
— Теперь многое зависит лично от вас, — пробормотал Дарлан, пряча глаза.
— Боюсь, что они выжмут меня, как губку, — печально пошутил Деку.
Но его опасениям не суждено было оправдаться.
Судя по всему, японцы считали переговоры законченными. Из беспощадных и почти до неприличия жестких контрагентов они неожиданно превратились в радушных хозяев. Генерал-губернатору Индокитая была оказана честь, которой не удостоился министр Дарлан. Вопреки протоколу, его сразу же после проводов главы делегации принял сам Коноэ. Японский премьер держал себя с Деку так, словно тот был главой союзного правительства, а не колониальным чиновником поверженной и расчлененной страны.
Внимая изысканной вежливости Коноэ, который, отослав переводчика, перешел на безукоризненный французский язык, адмирал таял от удовольствие. Изгладилось даже разочарование, которое он испытал, когда обнаружил, что облик японских улочек и быт местной бедноты напоминают ему Вьетнам. «Конечно, они азиаты, — думал он о японцах. — Но зато какие! Высшего порядка! Ведь даже Гитлер назвал их арийцами Востока».
— Мы с вами ближайшие соседи и должны жить по-соседски. — Принц поднял чашечку с подогретым сакэ. — За ваше здоровье, Деку-доно!
Приложив руку к сердцу, как это делали шейхи в Северной Африке, Деку вопросительно покосился на Фюмроля.
— Приставку «доно» употребляют в обращении к военным, — шепнул майор. — Это почетно.
— Должен ли я теперь выпить за его здоровье? — так же шепотом спросил Деку.
— Едва ли. — Фюмроль позволил себе чуточку сарказма. — Он ведь не только премьер, но и принц.
— Понимаю, — кивнул Деку, не почувствовав шпильки, и молча выпил сакэ, показавшийся ему отвратительным.
Едва коснувшись чашки губами, Коноэ поставил ее на поднос.
— В знак признания давних усилий Франции в развитии индокитайской культуры и экономики, — сказал он, — правительство его величества намеревается направить в Ханой представителя в ранге чрезвычайного и полномочного посла.
Это была уже не просто вежливая декларация, но серьезный политический акт. С одной стороны, он свидетельствовал о высоком значении, которое придавала Япония индокитайским делам; с другой, вольно или невольно, намекал на некую форму независимости заморских территорий от метрополии.
Ограничившись легким поклоном, который равно можно было принять как за выражение благодарности, так и за проявление официального интереса. Деку скосил глаза на майора. Фюмроль одобрительно опустил веки. Он пытался в эту минуту разгадать тайный смысл японского заявления, вне всяких сомнений тщательно продуманного. «В чей адрес аванс, — лихорадочно гадал Фюмроль. — Бао Дая? Кыонг Де?» Не глядя, согласно японскому этикету, на принца, он краем глаза следил за его тонким одухотворенным лицом, на котором играла обаятельная, ничего не говорящая улыбка. Даже в неуловимых мелочах Коноэ не проявил и тени превосходства. Но одного взгляда, брошенного на него и Деку, было достаточно, чтобы понять, кто диктует условия.
— Мне было чрезвычайно приятно побеседовать с вами, господин Деку, — принц, казалось, не заметил, что адмирал не обмолвился даже словом. — Уверен, что мы видимся не в последний раз. Я слышал, в Ханое много интересных памятников? — вне всякой связи с предыдущим неожиданно спросил он.
— Совершенно справедливо, ваше высочество, — адмирал наконец-то мог раскрыть рот.
— Чуть ли не двести древних пагод?
— Абсолютно точно, ваше высочество, — подтвердил Деку, хотя слышал эту цифру впервые.
— Один мой друг, специалист по индокитайским древностям, хотел бы поработать у вас некоторое время. Это возможно?
— Нет никаких сложностей, ваше высочество. Я сделаю все, чтобы ваш друг чувствовал себя в Ханое как дома.
— Позвольте выразить вам свою признательность, господин генерал-губернатор, — по знаку Коноэ от стены отделился Морита Тахэй, — и представить нашего выдающегося специалиста профессора Тахэя. Уверен, что это имя вам хорошо известно, поскольку господин Тахэй неоднократно бывал в Тонкине и Аннаме, проводил раскопки в Камбодже.
— Само собой разумеется, — расплылся в улыбке Деку, — оно известно каждому культурному человеку.
Фюмроль, который, как и Деку, впервые услышал о японском специалисте, оценил светскую непринужденность адмирала.
— Тахэй-сан дважды посещал Ханой, но с нетерпением исследователя рвется туда вновь. Он приедет как частное лицо, — неуловимо изменив интонацию, четко произнося каждое слово, Коноэ заговорил короткими фразами. — Как всякий истинный ученый, он ищет уединения и не хочет, чтобы о нем заботились. Я склоняюсь перед этим капризом, хотя, поверьте, господин адмирал, с неохотой отпускаю от себя друга. — Японский премьер недвусмысленно давал понять, что отныне ответственность за безопасность его неофициального эмиссара ложится на колониальные власти.
— Господину профессору не придется жаловаться на нас, ваше высочество, — сдержанно пообещал Деку. Характер истинных занятий японского археолога сомнений у него, естественно, не вызывал. Настораживало лишь внимание, которое уделил Коноэ столь незначительной проблеме. По сравнению с ожидаемой высадкой японских войск деятельность еще одного шпиона, пусть даже самого высокого класса, казалась совершеннейшим пустяком.
Фюмроля, который много лучше Деку разбирался в особенностях японского характера, тоже несколько удивил интерес принца к миссии своего протеже. Оба они не допускали и мысли о том, что истина в данном случае лежала почти на поверхности. Всерьез взявшись за решение индокитайской проблемы, Коноэ пришел к выводу, что Морита Тахэй принесет ему больше пользы, если разберется во всем на месте. Оставалось лишь обеспечить необходимые удобства, что принц и сделал с присущей ему очаровательной твердостью. Пусть это считалось слабостью, но он любил своих друзей.
Последнюю ночь в Японии Фюмроль провел в старинном отеле «Бивако» на берегу задумчивого озера Бива с тихой и сладкой водой. Всю ночь шел дождь, барабаня по черепице. Поужинав крабом с корнями садового чертополоха гобо и орехами дерева гингко, Фюмроль рано уснул и, видя приятные сны, сознавал, что ему сладко и безмятежно спится под шум дождя. Проснулся он среди ночи от осязаемого ощущения близости Мынь. Шаря рукой по простыне, он долго не мог смириться с разочарованием. Его руки и губы помнили вкус ее кожи, трепетное биение под левой грудью.
Коварны плоды гингко — древнейшего дерева на земле.
Глава 7
Под именем Хо Куанга перебрался Нгуен Ай Куок[13] на новое место. Расположенная к югу от реки Янцзыцзян китайская провинция Хунань напоминала о родине рисовыми полями вокруг озера Дунтинху, зеленью бататовых листьев, чайными плантациями в защищенных от муссонных ветров долинах. Даже здешние горы населяли племена мяо, туи и яо, знакомые ему по Вьетнаму, по горным лесам Чиангмая в стране Сиам. Только иными были краски, только сторонне блистала холодная медь утреннего неба. Красноцветные почвы утомляли глаза лиловатым оттенком, мутная желтизна заболоченных низин навевала тоску. Чужим ощущался и запах паленого кизяка в вечерний час, когда пленки тумана оседают на синих волнах гаоляна. А в страшном месяце засух, в августе, когда над выжженными травами пролетали горные ветры, все оттенки съедала желтоватая удушливая пыль. И тогда все вокруг казалось враждебным.
На окраине Чанша, где временно поселился Нгуен Ай Куок, бродили стаи голодных собак. Почти круглый год не просыхали вонючие лужи на унылых, заваленных грудами отбросов улицах. В квартале бедноты, где жили рикши и рабочие с фабрики зонтиков, не было ни канализации, ни водоразборной колонки. Но после сырости и зловония одиночки в гонконгской тюрьме даже барак мог показаться роскошью. Тем более что Нгуену приходилось скрываться в джунглях и на сампанах, ютиться в матросском кубрике, ночевать в жалких меблирашках Парижа. Слишком он привык довольствоваться немногим и был уверен в том, что профессиональный революционер обязан делить с пролетариатом все тяготы жизни. Он брался за любую работу: подстригал кусты букса в садах и убирал снег на парижских бульварах, разносил закуски и пиво в открытых кафе и ретушировал фотографии, забрасывал уголь в ненасытно гудящий зев домовой топки и мыл бочки на камбузе тихоходного купца с длинным названием по черному борту: «Адмирал Лятуш Тревиль». Менять города его вынуждала конспирация, но работал он, чтобы жить. И так было всюду: в Европе, Азии, Африке.
Бывал он и в Москве, куда впервые пробрался, преодолев невероятные препятствия, и где простился с великим вождем. Дрожа от непривычной стужи, перебегал от костра к костру. Поземка мела по заснеженным улицам, бесконечной черной рекой вилась молчаливая очередь. В общежитии Коминтерна замерзли чернила, и Нгуен записал огрызком карандаша: «При жизни он был нам отцом, учителем, товарищем, советчиком. Теперь — он путеводная звезда, ведущая нас к социальной революции».
Желтоватое пламя в закопченном стекле керосиновой лампы напоминало ему о Москве далекого двадцать четвертого года. В ту ночь, когда он, содрогаясь от кашля, писал закоченевшими пальцами слова о вожде, на длинном столе общежития горела такая же лампа…
Сегодняшний день обрадовал Нгуен Ай Куока. Коммунистическое подполье на севере Вьетнама сумело наконец восстановить связь с Восточным бюро Коминтерна. Вместе с письмами и документами курьер привез даже бутылочку рыбного соуса. Недаром же говорят, что чем дольше остается вьетнамец на чужбине, тем чаще снится ему рыбный соус. Но вести с родины оказались неутешительными. Со дня на день Япония могла оккупировать страну. Как только в Европе вспыхнула война, Нгуен Ай Куок понял, что японская экспансия не ограничится китайским конфликтом. Приходилось считаться и с возможностью провокаций со стороны Китая. Через вьетнамских эмигрантов стало известно, что немецкие военные советники при штабе Чан Кай Ши разрабатывали планы прорыва к морю через Тонкий. Для стратегов Небесной империи это был привычный и хорошо изученный путь. Опасность вторжения гоминьдановской армии заставляла Нгуена оставаться в Китае. Зарубежные центры компартии Индокитая уже готовили на такой случай защитные меры. Судя, однако, по документам, которые доставил курьер, Япония готовилась первой вступить в Индокитай. Секретный договор с Виши полностью развязывал ей руки.
Нгуен понял, что близится тот самый решающий шаг, в предвидении которого партия создавала подпольные центры. Первыми после Мюнхенского соглашения перешли на нелегальное положение кадровые работники Бакбо. Затем, уже после начала военных действий, ушли в подполье коммунисты Чунгбо, а в Куангчи партийные учреждения даже были переведены в горы. Опыт последних месяцев показал, что именно в горных районах следует развернуть организованное антифашистское движение. Нгуен Ай Куок не ошибся, когда еще в Гуйлине разработал план создания революционной базы в провинции Каобанг. Горные джунгли и бесчисленные пещеры станут надежным укрытием для крохотного зерна, из которого взрастет золотой колос свободы. Народные массы Каобанга лучше, чем в других районах, подготовлены к революционным боям. Отсюда легче распространить движение на равнину, здесь налажены связи с братскими коммунистическими партиями других стран. Нгуену Ай Куоку было приятно узнать, что товарищи, которым он предложил перебраться из Китая на родину, уже прочно обосновались в Каобанге и начали создавать партизанские отряды. Вьетнамскому народу есть чем встретить незваных гостей. Вместо того чтобы смиренно надеть на шею еще одну фашистскую петлю, он раз и навсегда сбросит с себя все путы угнетения.
Прямое дерево не боится умереть стоя.
Нгуен всматривался в свое отражение в грязном стекле, за которым колыхался жидкий крахмал хунаньской ночи. В расплывчатой синеве темнели впадины глаз, тускло различались изможденные щеки, бородка, так удлинявшая лицо, высокий морщинистый лоб. Туманны были судьбы его многострадальной страны, мировая война только начиналась, и все еще качалось на тоненьком волоске. Но конечная цель уже была поставлена. По легкому замиранию сердца, которое сменилось вскоре усиленной гулкой пульсацией, по дрожи, на мгновение пробежавшей по телу, он понял, что время пришло.
Было ли это мгновенным озарением, даруемым лишь верой, яростной и непоколебимой? Точным знанием и расчетом, когда готовый итог с непостижимой неизбежностью возникает из мглы? Или смутным ощущением личной причастности к незримым до срока историческим сдвигам? Нетерпением, наконец? Решено, он возвращается на родину.
Занавесив окно, чтобы с улицы не увидели огня, Нгуен возвратился к шаткому столику и обмакнул перо в чернила. Приткнувшись к стене, спал на кане юноша-курьер, и смутная улыбка на припухших губах говорила, что ему снятся счастливые сны. Нгуен Ай Куока ожидала бессонная ночь. Нужно было ответить на все письма, набросать свои соображения об особенностях антиимпериалистической борьбы на новом этапе и попробовать написать короткое стихотворение, чтобы самому темному и неграмотному кули было легко найти свое место в общем строю. Воспитанный в доме интеллигентного конфуцианца, Нгуен Ай Куок еще мальчиком научился слагать стихи. Но всякий раз его поражает неподатливость древней канонической формы, когда в нее приходится вмещать политический лозунг.
Утро заявило о себе музыкальной разноголосицей бродячих мастеровых и торговцев. Звеня медными тарелками, прошлепал по лужам точильщик, потом деревянные палочки старьевщика отщелкали свой нехитрый мотив. Гулко рокотал барабан продавца ниток, разносчик сладостей нещадно колотил в гонг.
Тут же память перенесла его в Сайгон. Он услышал стрекот цикад и деревянную колотушку торговца бананами. Неожиданно четко, почти осязаемо встал перед глазами однорукий разносчик сладкого бакныма. И как только ухитрялся он так туго завертывать в пальмовые листья рис и фасоль, пересыпанные семенами лотоса, клейкими от сладкого тростникового сока? Нгуен с удивлением поймал себя на том, что его все еще занимают смешные заботы юных лет…
Он задул лампу и поднял бумажную штору. За окном сочился мелкий надоедливый дождь. Увязая в раскисших колеях, надсадно скрипели тяжелые тачки. Тускло блестели мокрые зонтики. Мужчины и женщины в одинаково синих брюках месили темно-красную грязь, напоминавшую мясной фарш. Длинные халаты, косички и корзины, корзины, корзины.
Пора было будить гонца. Он все еще спал, подложив под щеку ладонь, и Нгуен Ай Куок пожалел юношу. Пусть спит, пока может. Когда в дверь постучали, он спрятал письма, убрал в ящик перо и чернильницу, закрыл спящего ширмой. Быстро оглядев комнату, откинул запор. Увидев за дверью Лыонга, приложил палец к губам:
— Входите, пожалуйста, только тихо. У меня человек отдыхает.
— Кто? — покосился на ширму Лыонг.
— Наш земляк, — лукаво прищурился Нгуен Ай Куок. — Дорогой гость.
— Неужели восстановилась связь? — обрадовался Лыонг. — Какие вести?
— Разные. Когда соберутся товарищи, обсудим.
— Сегодня не придется. — Лыонг бросил взгляд на окно. — Мне показалось, что за домом следят. На всякий случай вам нужно срочно сменить квартиру.
— Неприятная новость. — Нгуен Ай Куок озабоченно кивнул. — Интересно бы узнать кто. Если китайцы, то это еще полбеды. Они могут приставить соглядатая просто так, на всякий случай. Трудно придется, правда, когда такой случай настанет. Тут уж вам припомнится все. Вы не заметили?
— По виду как будто китаец. Он, к сожалению, поспешил скрыться, и я не запомнил. К тому же по внешности не определишь, в чью пользу он шпионит…
— Это так. Китаец может с таким же успехом работать и на французскую, и на японскую разведку.
— Даже в китайской Красной армии полно шпионов и антибольшевистских агентов.
— Ну, ничего не поделаешь, будем перебираться. Вы постарайтесь незаметно вывести паренька, — Нгуен Ай Куок кивнул на ширму. — А я попробую изменить внешность. Птицы зовут в свою стаю. Пора на родину, добрый друг.
— Не так просто подготовить ваше возвращение.
— Я понимаю и не тороплю вас. Но для начала я хочу перебраться поближе к границе. А это для вас привез курьер, — Нгуен Ай Куок протянул Лыонгу засушенный стебелек горечавки.[14] — Привез из дому. Поздравляю, товарищ.
— Дочь! Значит, они все-таки ее разыскали… Она, наверное, стала совсем большая.
— Мы еще дождемся счастливых минут, — Нгуен Ай Куок ободряюще подмигнул.
Глава 8
Китайский остров Тайвань, отторгнутый Японией в 1895 году по Симоносекскому договору, занимал в планах японского генерального штаба важное место. Именно здесь, на Формозе, как теперь именовался Тайвань, отрабатывались основные элементы операции «Прыжок на юг». Горные цепи Синьгаошань и Цыгаошань, лагуны и заболоченные астуарии Западного побережья превращали остров в естественный полигон, на котором набирались опыта части, предназначенные для ведения боевых операций на Малайском архипелаге и во французском Индокитае.
Влажные тропические леса, где водилось тринадцать видов ядовитых змей, и мангровые заросли тоже играли не последнюю роль.
В специальном центре — часть № 82 — дислоцированной на острове армии разрабатывался сложный комплекс исследования местных условий. Малярия и древесные пиявки, ядовитые плоды и обычаи лесных племен — все подвергалось скрупулезному изучению. Особое внимание придавалось таким, казалось бы, второстепенным темам, как, скажем, «древесные породы» или «мед лесных мух». Подобные «мелочи» зачастую становились в джунглях вопросом жизни или смерти. Солдат обучали разжигать костер из влажной древесины и поддерживать его горение в парной атмосфере лесов, показывали, как прижигать сигаретой насосавшуюся крови пиявку, чтобы она отвалилась, не оставив в ранке — иначе образуется незаживающая язва — клочков ротового отверстия. Военные ветеринары дотошно присматривались к поведению лошадей, которых одолевали москиты, инженеры тщательно вымеряли градус поражения гранатами в условиях травяных джунглей, открытых болот и болот в центре леса.
Создавались новые виды смазок, рассчитанные на высокую влажность, противогрибковых кожных мазей, таблеток для быстрого обеззараживания воды. В бараках, на скорую руку возведенных из бамбука и тонких досок, вычерчивались профили далеких южных островов, составлялись таблицы приливов и отливов, штабные офицеры с витыми аксельбантами наносили на карты береговые укрепления Сингапура, Пенанга и Кота-Бару, штудировали порядок несения караульной службы в британской (Малайя), голландской (архипелаг), американской (Гавайи) и французской (Тонкинское побережье) армиях.
Японские резиденты на местах спешно добирали через свою клиентуру — парикмахеров, поваров, часовщиков и коммерсантов — недостающую информацию. Днем и ночью радисты в наушниках заполняли тетради бесконечными колонками цифр.
По странной случайности, мощная радиостанция, с которой вещал на Вьетнам принц Кыонг Де, находилась в непосредственной близости от шифровального отделения, куда поступали разведданные со всей Юго-Восточной Азии. Барачный городок, к которому примыкал палаточный лагерь, был расположен в пригороде Тайбэя, называвшегося теперь Тайхоку. У контрольно-пропускного пункта и на вышках с прожекторами стояли длинноствольные пулеметы «намбу». По другую сторону отгороженной шлагбаумом железнодорожной ветки находился небольшой аэродром с травяным покрытием. Под тихим дождем, который приносит на северную часть острова северо-восточный муссон, уныло мокли одномоторные «накадзима». Но небо над угрюмой стеной леса заметно просветлело, и в сероватой желтизне проявились очертания гор. По всей видимости, приближался очередной тайфун. И хотя полосатый «сачок» безжизненно свисал с мачты, яростный ветер мог налететь с минуты на минуту. Техники в мешковатых комбинезонах уже снимали маскировочные сети, чтобы загнать самолеты в ангар.
К аэродрому примыкало единственное в зоне двухэтажное здание из железобетона, в котором размещался секретный отдел — мозг и сердце всего предприятия. Впрочем, сами офицеры спецслужбы именовали свой отдел «компанией висельников» — «дар нави». Кто-то из шутников даже приколотил к двери дощечку, на которой черной тушью был нарисован повисший на веревке человечек. Но ее вскоре сорвал сокрушительный тайфун, пронесшийся над островом в августе. Тогда же были сломаны и верхушки росших поблизости изысканно тонких сахарных пальм.
Подполковник Арита, начальник отдела, приказал спилить торчащие, как палки, стволы и засадить голое место бананами. На банановых пальмах он демонстрировал молодым офицерам фехтовальные приемы самураев.
— Это горизонтальный удар, — объяснял он, срезая со свистом верхнюю часть ствола. — Он называется «полет ласточки». Изящно, не правда ли? Но для начала я рекомендую испробовать более простое «опускание журавля». Вот так! — последовал молниеносный удар наискось. — Удар наносится от левого плеча к правому бедру. Левши, разумеется, поступают наоборот, — добавил Арита под общий смех. Когда от банановой поросли остались лишь желто-зеленые слезящиеся пеньки, подполковник бережно вытер фамильный меч на длинной костяной рукоятке шелковым платком. — Надеюсь, что вскоре мы сможем потренироваться на живых моделях, — улыбнулся он, обнажив крупные, немного торчащие вперед зубы.
Самурайские забавы прервал адъютант, подполковника срочно вызывали в штаб. Офицеры почтительно расступились. Об Арите ходили разные слухи. Кое-кто уверял, что он уже испробовал в Китае «кимотори» — древний ритуальный обряд, при котором самураи съедали печень побежденного врага. О том же, что под видом кули подполковник облазил все восточное побережье Малайи от Кота-Бару до Джохорского пролива, знал весь Тайхоку. Недаром Ариту прозвали «Келантанским духом». Высадившись с подводной лодки на песчаном, заросшем пальмами берегу, он углубился в леса и по реке Келантан добрался до Куала-Края. Оттуда уже по железной дороге он проследовал в Джерантут, чтобы вновь уйти в жуткие дебри Паханга. Даже те, кто с блеском выдержали обязательный экзамен на выживание, то есть три недели продержались в джунглях на обычном трехдневном рационе, называли анабазис Ариты чудом. Человек на такое не способен. Только дух. Или, в крайнем случае, заведомый висельник. Отсюда, вероятно, и пошло название особого отдела.
Генерал Итагаки тоже был наслышан о подвигах «Келантанского духа» и поэтому с интересом взглянул на невысокого смуглого офицера. Как и положено разведчику, внешне он ничем не выделялся. Лишь светлые пятна на щеках свидетельствовали о том, что совсем недавно все лицо этого человека покрывали жуткие гнойники, искусно нанесенные лучшим военным хирургом. Итагаки, сделавший карьеру в штабах, отдавал должное таким, как Арита, людям практики — непревзойденным мастерам-одиночкам. Конечно, он мог вызвать разведчика из Итигайя в военное министерство. Но генералу захотелось на месте приглядеться к человеку, на котором он остановил свой выбор. В новом плане, что разрабатывал Итагаки, предусматривалась заброска в тыл противника целого отряда диверсантов. На этих людей генерал тоже решил посмотреть лично. Важно было убедиться в том, насколько успешно смогут они работать во взаимодействии. Итагаки знал, что все «висельники» являются членами тайного офицерского общества «Черный океан», к которому принадлежал и он сам. Но не это определило его выбор. Человеку, для которого военная операция сводилась к графикам, таблицам и сводкам, чрезвычайно импонировал педантизм, с каким подходили в части № 82 к разработке очередных заданий. В какой-то мере она была его детищем, которым хотелось гордиться. После образования Манчьжоу-Го на месте китайской Маньчжурии, захват которой столь тщательно распланировал Итагаки, его идеей фикс сделался «Прыжок на юг».
Дальнейшее продвижение в Китае явно застопорилось, и следовало срочно изыскать другие возможности. «Прыжок на север» — иначе говоря, новая операция против СССР — скорых лавров не обещал. Оставался, таким образом, южный вариант. Но он тоже был сопряжен с риском. Если Франция, Голландия и даже Великобритания могли быть сравнительно быстро выведены из игры, столкновение с могущественной, обладающей колоссальным промышленным потенциалом Америкой грозило многими осложнениями. Поэтому плану Итагаки сопутствовал дерзкий, но тщательно выверенный план, над которым работали в штабе адмирала Рюносукэ Кусака. С соперничеством США на Тихом океане предполагалось покончить одним ударом.
Генерал молчаливо изучал взглядом застывшего перед его столом офицера в простом кителе с выкрашенными в защитный цвет звездочками на двупросветных петлицах. Коротко доложив о себе, он не вытянулся в струнку, но и не принял свободную позу. Избегая встретиться с генералом глазами, не пытался и отвести их в сторону. Итагаки остался доволен первым впечатлением, хотя и испытал некоторое разочарование. Он ждал большего.
— Садитесь, подполковник, — указал Итагаки на стул. — Вы догадываетесь, зачем я здесь?
— Догадываюсь, господин генерал.
— Курите, — Итагаки пододвинул раскрытую коробку папирос «сикисима».
— Благодарю, господин генерал, я не курю.
— Наверное, жуете бетель? — пошутил Итагаки.
— Это больше пристало кули, — без улыбки ответил Арита. — И в лесу можно всегда отыскать листья.
— Предусмотрительно, — одобрил генерал. — Говорят, отсутствие курева причиняет страдание… А как насчет сакэ?
— Только перед операцией.
— Ваши люди тоже придерживаются столь строгих правил?
— Да. Я стараюсь отучать их от вредных привычек.
— Интересно, как вы обходитесь с заядлыми курильщиками? — положив ногу на ногу, генерал со вкусом выпустил тонкую струйку дыма.
— Забрасываю в джунгли. Волей-неволей они начинают искать бетель.
— И что же, после возвращения они не тянутся к сигаретам?
— Таких я забрасываю еще раз. Кто выживает, приучается жевать лист.
— Круто, но разумно. — Генерал отложил погасшую папиросу и с живостью наклонился к собеседнику. — Итак, свершилось, подполковник. Ваша догадка правильна. Мы идем на юг. По графику ровно через двадцать одну неделю у вас все должно быть в полной готовности. В свое время Танака говорил, что для завоевания Китая необходимо взять Маньчжурию и Монголию, а для завоевания мира нужен Китай. Замкнутый круг в некотором роде. Но кое-что сделано, да, кое-что сделано, — он удовлетворенно откашлялся. — Располагая ресурсами Китая, мы можем перейти к завоеванию Индии и Центральной Азии. Вполне закономерно, что, прежде чем ударить по Бирме и Малайскому архипелагу, следует устранить китайский инцидент. Как вы прекрасно понимаете, для этого нам первым делом требуется взять в свои руки южную границу. Операция в Индокитае явится, таким образом, и первым этапом «Прыжка на юг» и завершающей стадией китайской кампании. И здесь я вспомнил о вас, подполковник Арита. Вы мне нужны вместе с вашими «висельниками».
— Это большая честь для всех нас, господин генерал, — не слишком поспешно ответил Арита. — Выходит, сначала Индокитай? — спросил он, но вопросительная интонация почти не ощущалась в его сдержанной и предельно скупой речи.
— Он станет для ваших питомцев маленькой репетицией. Потом я брошу их в Бирму, Малайю, на Зондские острова.
— Большая честь, — повторил Арита. — Сроки остаются прежние?
— Для маленькой прогулки — да, в Индокитае вы должны быть завтра. В крайнем случае — послезавтра.
— Я готов. — Арита вскочил с места и вытянулся. — Но мои люди еще не прошли необходимой подготовки. Понадобится еще не менее десяти недель, прежде чем они смогут свободно действовать в заболоченных мангровах или сражаться под муссонными ливнями в лагунах. Еще не все из них сдали экзамен на выживание, господин генерал. Им еще предстоит овладеть искусством незаметно передвигаться в джунглях, бороться с неведомыми болезнями. Быть готовыми в любую минуту вступить в схватку с врагом. Кроме американских мин и английских огнеметов, они должны изучить келантанские духовые трубки, отравленные шипы даяков и дьявольские ловушки, которые ставят на лесной тропе вьетнамцы. На все это требуется время. Десять недель — минимальный срок, — закончил он твердо и сел.
— Очень хорошо, — не проявил никакого неудовольствия Итагаки. — Как я уже сказал, обучение должно быть полностью закончено через двадцать одну неделю. Потом ваши люди сами станут учителями. В ходе военных действий они будут передавать свой драгоценный опыт миллионам наших солдат, которых мы швырнем в джунгли юга. Вы не поняли меня, подполковник Арита. Индокитайская операция не потребует от ваших людей слишком больших усилий. Достаточно того, что они уже умеют. Кстати, когда я их увижу?
— Как прикажете, господин генерал. — Арита взглянул на часы. — Можно минут через сорок.
— Даже так? Прекрасно, Арита, превосходно… Давайте завтра, в семь утра… А после продолжим разговор. У вас есть вопросы?
— Только один, господин генерал. Если мне требуется быть в Индокитае завтра, вылететь необходимо сегодня.
— Я употребил слово «завтра» фигурально, — объяснил Итагаки. — Если ваши «висельники» оправдают мои ожидания, к переброске можно будет приступить дня через три, не ранее. Не такое уж я чудовище, чтобы не дать людям времени на сборы. Кроме того, мы сначала передислоцируем команду на Хайнань. Пусть ребята полюбуются видом Тонкинского залива с востока, придут немного в себя. Вы будете приданы пятнадцатой армии, подполковник Арита. Ей выпала честь первой вступить во французский Индокитай. Но путь проложите вы. Надеюсь, что это не будет сопряжено с большими трудностями. Так что пусть «висельники» не спешат повязывать белые «хасимаки» смертников, — генерал коротко хохотнул, найдя собственные слова забавными, и с нескрываемым удовольствием взялся за свои схемы и графики. — Значит, в семь.
Глава 9
Возвратившись из Токио, Фюмроль застал в доме Мынь. Без малейшего смущения девушка приняла из его рук портфель и тотчас вернулась с рюмкой анисовой. Смахнув со стола муравьев петушиной щеткой, она опустила жалюзи и выскользнула из комнаты. Фюмроль следил за ней со смешанным чувством радости и удивления.
— Мынь, — позвал он, не прикоснувшись к рюмке, — мне нужен портфель. — Затем хлопнул в ладоши. — Тхуан!
Они явились почти одновременно. Мынь обеими руками прижимала к животу тяжелый портфель, а Тхуан держал кокосовую скорлупу с прелестной орхидеей.
— Вот, господин, — буркнул он, осклабясь. — «Arenda Zu». Собирался подвесить на веранде.
— Отлично, Тхуан, — кивнул сбитый с толку Фюмроль. — Я оторвал вас от дел только затем, чтобы поздороваться. Здравствуйте.
— Здравствуйте, господин. Добро пожаловать домой. Как долетели?
— Благодарю. — Фюмроль поманил Мынь. — Оставь портфель и ступай… Это ваша работа? — проводив ее взглядом, он повернулся к Тхуану. — Или она сама пришла? — Он открыл новенький сейф и переложил в него из портфеля наиболее важные документы.
— Господин недоволен? — уклонился от прямого ответа повар. — Девушку можно отослать назад.
— Нет, зачем же… — смутился Фюмроль. — Просто я как-то не ожидал увидеть ее у себя. — Он отвел глаза от изъеденного оспинами и вечно улыбающегося лица повара. — Кому все же принадлежала инициатива?
Вопрос прозвучал отрывисто и отчужденно. Почти так же, как щелканье запираемого замка.
— А говорили, что Мынь нравится господину…
— Кто говорил? — спрятав ключ, продолжал расспросы Фюмроль. Горячая волна, которая прихлынула к горлу, когда он увидел девушку, сменилась тоскливым отливом. Он чувствовал себя совершенно открытым. Отовсюду следили за ним чьи-то холодные, затаившие недобрую тревогу глаза.
— Не знаю, господин, — помедлив, ответил Тхуан. — Многие так считали.
— Проклятый город! — Фюмроль сжал кулаки. Он с трудом сдерживался. Сказывалось напряжение последних дней, изматывающая дорога и гнусная эта морось, от которой изнутри запотевает часовое стекло. — Воистину проклятый город. Тут все за всеми следят. — Он понял, что механически повторяет чужие — Катру? Жаламбе? — слова, и устало пробормотал: — Каждому есть до тебя дело.
— Похоже, господин перегрелся на солнце, — сочувственно покачал головой Тхуан. — Я принесу пузырь со льдом.
— К черту пузырь, к черту все! — Фюмроль поднялся, отшвырнул ногой портфель и, пошатываясь, направился в спальню. Он помнил и свой последний вопрос и то, что Тхуан на него не ответил, но все вдруг стало ему безразлично. Голова переполнилась теплой медлительной жидкостью, в которой красноватыми вспышками один за другим угасали возбужденные центры.
Рухнув ничком на постель, Фюмроль крепко зажмурился, чтобы не видеть больше черных мелькающих точек. «Это, наверное, тропикантос», — успел подумать он, теряя сознание. Но это был всего лишь сон, глухой изнуряющий сон среди бела дня, от которого человек встает опустошенным и разбитым. Смутно догадываясь, что спит, Фюмроль готовился разрушить сковавшее его оцепенение и не мог. Недоставало ни желания, ни сил. В состоянии полнейшей каталепсии он ощущал атласные прикосновения маленьких пальцев, догадывался, что его раздевают и переворачивают головой на подушки.
Когда Тхуан бережно разбудил его, Фюмроль долго не мог понять, где находится. Казалось, что он все еще спит в токийском отеле «Коксай-Канко», и было лишь пугающе непонятно, почему поменялись местами кровать и окно. Он сел, оперевшись на подушки, и одичало помотал головой. В такт приливающей к вискам крови болезненными толчками возвращалась память. С подносом, на котором дымился горячий шоколад, подступила Мынь. Присев бочком на постель, она подала ему чашку и серебряную розетку с профитролями. Под кружевом блузки нежно обозначились маленькие крепкие груди. Безотчетно повинуясь памяти детства, Фюмроль выпятил нижнюю губу и капризно поморщился, но маслянистый и белый шоколад выпил с удовольствием. Ему было немного стыдно встречаться взглядом с Тхуаном. Он и сам не понимал теперь, для чего было затевать никчемный допрос. Разве не приучил он себя воспринимать жизнь как некую изначальную данность, чьи сумбурные проявления не зависят от желания и воли? Смешно огорчаться и протестовать, если неожиданный ход событий разбивает наши мечты, но еще более нелепо противиться удобному стечению обстоятельств. Мынь пришла к нему, и незачем допытываться, как и почему это получилось.
Ободряюще кивнув девушке, он вытер губы салфеткой.
— Никогда не пробовал такого!
— Белые бобы, только что получены с юга, — удовлетворенно проурчал Тхуан. — Прикажете почту?
Он принес стопку газет, несколько казенных пакетов — один из них был помечен грифом контрольной комиссии — и два конверта с красным штемпелем французской авиапочты. Почерк жены Фюмроль узнал в первое же мгновение. Сбросив все остальное на пол, он обеими руками схватил это маленькое письмецо с голубой маркой, запечатлевшей пароход «Нормандия». Разрывая дрожащими от нетерпения пальцами хрустящую бумагу, подумал о том, что жизнь любит затягивать тугие узлы. Надо же было именно сейчас — не раньше и не позже — получить весть от Колет! И притом эта марка. Впрочем, ее Колет могла преднамеренно выбрать. С «Нормандией» у них было связано много приятных воспоминаний… Жена писала, что роды прошла удачно, но девочка — «девочка!» — повторил про себя Фюмроль — родилась слабенькая. И сама она тоже еще не оправилась от родов и очень волнуется за крошку Люсьен…
Люсьен! Они вместе выбрали это имя, а если бы родился мальчик, его бы назвали Виктором… Далее Колет заклинала его беречь себя, жаловалась, что страшно устала от постоянной тревоги и тоски. «Временами мне кажется, что я больше не выдержу, — писала она, — но стоит девочке заплакать, как я бегу к ней, и сами собой ко мне возвращаются силы. Если все закончится благополучно и доктор Милле не наложит свое беспощадное вето, мы сядем на первый же пароход, идущий в Индокитай».
— Тхуан! — позвал Фюмроль, сглатывая подступившие слезы. Он вскочил с кровати, переоделся в свежее, приятно холодящее кимоно и, подобрав на ходу желтый пакет, влетел в кабинет. — Тху-а-ан! — пропел он, бережно пряча письмо в верхний ящик сейфа.
Послание генерала Нисихары так и осталось непрочитанным. Вспоров пальцем конверт, Фюмроль только взглянул на дату, аккуратно проставленную на бланке, и потянулся к корзине. Можно было не сомневаться, что после токийских переговоров японская сторона предъявит новые, куда более жесткие требования.
— Завтра вечером мы принимаем гостей, — довольно потирая руки, объявил он своему повару и домоправителю, который опять притащился с орхидеей. — Стол накроете в большой гостиной, на пять персон. Черепаховый суп, лангустины, шампанское. — Он победно прищелкнул пальцами. — Одним словом, вы понимаете.
Бережно прижимая цветок к груди, Тхуан удовлетворенно заворчал.
— Что вы там бубните? — улыбнулся Фюмроль. — Не разберу.
— Мне приятно, что у господина будут настоящие гости, — чуть более внятно произнес повар. — Значит, в дом пришло счастье.
— Вы угадали, мой друг. У меня родилась дочь. Не знаю, надо ли радоваться тому, что в мире, который раскалывается на части, появилась маленькая маркиза, но я почему-то счастлив.
— Позвольте принести вам свои поздравления, господин. Дети — это единственное, ради чего стоит жить. Надеюсь, это не последняя радость. Как говорится, старшая дочь — нянька для младших.
— В самом деле? Весьма остроумно, Тхуан. Что ж, будем надеяться. — Фюмроль вдруг заметил цветок в скорлупе. — Вы все так и таскаетесь с этим орехом? — Раскрутив вокруг пальца цепочку с ключом, он беззаботно разлегся в качалке. — Бросьте его куда-нибудь.
— Никак невозможно, мой господин. Это «Arant hera» — редкого оттенка вишневого бархата. — Тхуан бережно провел рукой по гладкой округлости ореха. — Перевернется, не будет цвести… Корзина уже опять полна, — он виновато переступил ногами. — Господин позволит?
— Что? — Фюмроль проследил за его взглядом. — Ах, корзина. — Он небрежно махнул рукой. — Конечно, Тхуан. — И по обыкновению предупредил: — Бумаги сожгите… А я, знаете ли, что-то опять устал. Никак не приду в себя после дороги. Если будут звонить, скажите, что не велел будить.
Закрыв за собой дверь спальни, Фюмроль сунул под подушку пистолет, выключил свет и, тихонько приоткрыв дверь, юркнул под сетку. В настороженной темноте он чутко прислушивался к скрипам и шелестам ночи. Спать совершенно не хотелось. Мимо приоткрытой двери прокрался на цыпочках повар.
— Это вы, Тхуан? — захлебываясь сонной зевотой, спросил Фюмроль.
— Я, господин.
— Послушайте, — капризно растягивая слова, пожаловался Фюмроль. — По моей постели опять пробежала крыса. Когда это кончится? — Он шумно зевнул. — Неужели нельзя сходить в аптеку за мышьяком? — Улыбаясь в темноте, он ждал ответа.
— Не надо отравы, господин. — Тхуан, как и ожидалось, воспротивился. — Потерпите немного, и я принесу большую змею, которая прогонит крыс. Мы ведь не знаем, кем они были в предшествующих рождениях и в каком облике возродятся вновь. Зачем же отягчать себя такой ответственностью?
— Вы убиваете голубей к столу? Потрошите рыбу?
— Так назначено человеку.
— А если на вас нападет убийца с ножом?
— Человек обязан защищать себя и своих близких.
— Выходит, что только крыс нельзя убивать?
— Можно убить отдельное вредное животное, господин, — с терпеливой кротостью объяснил Тхуан. — Но грех посягать на целый род. Тем более что от яда могут погибнуть и вовсе невинные существа: муравьи, жабы, улитки, сверчки. Завтра достану змею.
Ничего не ответив, Фюмроль мирно задышал.
— Господин, — шепотом позвал Тхуан и выжидательно затаился. Убедившись, что хозяин уснул, он закрыл дверь.
Лежа с открытыми глазами, Фюмроль вновь стал вслушиваться в шорохи затихающего дома. Когда тонко проскрипели ступени винтовой лестницы, — очевидно, Тхуан спускался к себе, — включил ночник и раскрыл томик Поля Валери.
Силясь понять ускользающий смысл завораживающих, сладкой печалью туманящих строф, вновь и вновь перечитал стихи. Жалко затрепетало сердце, когда почудилась близость разгадки. Нечто неизмеримо большее, нежели утраченное вино, о котором писал поэт, раскрылось вдруг в шаманской магии ритма.
Около часа ночи совсем неслышно пропела деревянная ступенька под чьей-то легкой ногой. Фюмроль погасил ночник и вытянулся на постели. Борясь с нетерпением, медленно просунул руку под подушку. Нащупав насечку рукоятки, вытащил пистолет и затаился, выжидая. Стараясь думать о чем-нибудь совершенно постороннем, он гнал от себя всякие сомнения в разумности задуманного. Он решил, и пусть будет, как будет. Но чем упорнее пытался он переключить мысль на другое, тем острее грызло сомнение. Чего он добивается, в самом деле? Что хочет узнать? Не лучше ли все оставить как есть и продолжать тянуть свою жалкую, но для кого-то такую удобную, такую чертовски необходимую роль? До тошноты осязаемо он уже знал, что через минуту пожалеет о содеянном. Не много мудрости требуется, чтобы разрушить в единый миг кем-то кропотливо возведенное строение. Но что случится потом? Мысли Фюмроля были запутанны и противоречивы. Почти уговорив себя отказаться от вмешательства в чужую игру, он понимал в глубине души, что уже не сможет остановиться. Она перестала быть чужой, эта игра. Партнер допустил фальшивую ноту, и Фюмролю захотелось смешать фишки. Глухое подозрение, шевельнувшееся в нем, когда Мынь уносила портфель и форменное кепи, успело вызреть в жгучую уверенность. Она-то и не давала ему покоя. Он не мог более продолжать игру, которую вел с безымянным партнером, потому что в нее была вовлечена Мынь. Пусть в нем говорила слепая гордыня, но он ничего не мог с собой поделать. Вчера еще можно было позволить себе добровольное ослепление. Но партнер не понял его и сделал оскорбительную попытку навязать свои условия. Примириться с этим Фюмроль не пожелал, хотя и понимал, что, переехав из «Метрополя», он первым нарушил некое шаткое равновесие, восстановить которое, видимо, удалось только с помощью Мынь. Что же мешает ему и впредь притворяться беспечным ротозеем? Разве он не рад, что Мынь поселилась под его кровом? Или в нем проснулась вдруг гордыня потомка неукротимых маркграфов, которых не могли остановить ни эшафот, ни дуэль? Тому, кто нащупал его слабое место и пытается извлечь из этого пользу, он вынужден преподать урок.
Откинув полог и мягко спрыгнув с кровати, Фюмроль бесшумно отворил дверь. Чтобы попасть в кабинет, нужно было завернуть за угол и пройти до конца коридора. Ковровая дорожка мягко заглушала шаги. Остановившись под дверью, толкнул ее плечом и боком проскользнул в комнату.
— Оставаться на месте, — спокойно сказал он, поднимая пистолет. — При первом движении буду стрелять.
Было необыкновенно тихо. Мынь, прикусив до крови губу, замерла у распахнутого сейфа, а хрупкий юноша, склонившийся над столом, лишь поднял голову и тоже застыл, не сводя с пистолета расширенных и странно неподвижных глаз. В беспомощном свете перекальной лампы их лица выглядели обескровленными. Густые геометрически четкие тени казались врезанными в стены и светлый паркет.
— Не бойтесь, — Фюмроль с трудом подбирал нужные слова. Все, что он собирался сказать раньше, — язвительное, высокомерное — начисто вылетело из головы. — Я не причиню вам вреда. — Он приблизился к Мынь и требовательно раскрыл ладонь: — Дайте ключ.
Она медленно повернулась, осторожно вынула ключ из скважины и зажала его в кулачке.
— Дайте же! — Фюмроль попытался поймать ее запястье, но она вырвалась с неожиданной силой и отпрыгнула в сторону. С легким звоном упал на пол металлический прут. Можно было не нагибаться. Фюмроль почему-то так и подумал, что это будет отмычка, на скорую руку выточенная в кустарной мастерской. — Быстро спроворили! — попытался он шуткой разрядить напряжение. Но Мынь ответила таким яростным, таким ненавидящим взглядом, что ему стало не по себе.
Юноша у стола наконец выпрямился и выпустил из онемевших рук фотоаппарат. Фюмроль, от которого не ускользнуло это движение, с облегчением отвел глаза.
— Позвольте полюбопытствовать, — опустив пистолет, он прошел к столу. В ярком прямоугольнике, который бросала защищенная отражателем перекалка, лежала раскрытая папка с текстом заключенного в Токио секретного соглашения. Рядом аккуратной стопкой были сложены инструкции министерства иностранных дел, меморандумы контрольной комиссии и тот маленький листочек, который он получил от Колет.
— Фирма «Цейс», — заметил Фюмроль, взглянув на аппарат. — Но, надеюсь, вы не на гестапо работаете?
И вновь шутка повисла в воздухе. Вьетнамцы, казалось, не замечали Фюмроля, а он мучился от сознания непоправимой ошибки и лихорадочно искал выхода из опасного тупика. С запозданием он понял, что создавшаяся ситуация грозит гибелью не только этим молодым туземцам, но и ему самому. Передать их полиции он не мог. Отпустить на все четыре стороны — тоже. Они либо выдадут его, когда вновь попадутся, либо, того хуже, надумают прибегнуть к шантажу.
— Кто вас послал? — спросил он, укоряя себя за поспешность. Конечно же вопрос следовало сформулировать иначе. Не удивительно, что они молчат. — Поймите меня правильно, молодые люди, — он решил зайти с другой стороны. — Мне нет дела до ваших тайн. Но прежде чем решить, как с вами поступить, я хочу знать, кого вы представляете. Чью сторону?
— Вьетнам! — разжал губы юноша.
— Вот как? Превосходно! — Фюмроль демонстративно раскрыл аппарат и, вытащив кассету, засветил пленку. — Можете забрать, — сделал он первый примирительный жест. — И это тоже. — Включил настольную лампу, выдернул из розетки вилку перекалки. — За какой же Вьетнам вы сражаетесь? За красный? Или за национальный?
Они молчали.
— Я слишком уважаю себя, чтобы прибегнуть к угрозам, — вздохнул Фюмроль, соображая, куда сунуть мешавший ему пистолет. — И слишком хорошо знаю Дальний Восток. — Не найдя ничего лучшего, спрятал оружие за пазуху и туже завязал пояс своего кимоно. — Но вы мне не оставляете другого выхода… Мынь, сделайте милость, положите все это на место, — он взглядом указал ей на документы. — А вы, молодой человек, спрячьте орудия преступления.
Поколебавшись, юноша уложил принадлежности для съемки в плетеную сумку, затем вопросительно взглянул на Мынь, но она лишь вызывающе улыбнулась в ответ и, сложив руки, прислонилась к стене.
— Позвольте, это сделаю я? — юноша обернулся к Фюмролю.
— Ничего не имею против. — Фюмроль отодвинулся, чтобы не мешать вьетнамцу. — Благодарю, — кивнул он, когда все было уложено, и запер сейф. — А теперь ответьте на мой вопрос, и даю слово офицера, что сразу же отпущу вас.
Они молчали.
— Хорошо, будь по-вашему, — выдержав долгую паузу, пожал плечами Фюмроль и распахнул дверь. — Тхуан! — крикнул он в темноту. — Немедленно поднимитесь ко мне!
Когда вбежал перепуганный, казавшийся заспанным повар, Фюмроль вынул из сейфа банкнот в сто пиастров.
— Заплатите мадемуазель Мынь за месяц вперед, Тхуан, — распорядился он безучастным тоном и, не обернувшись, вышел. — Проводите молодых людей без излишнего шума, — бросил уже в коридоре. — Час поздний.
Наутро оба сделали вид, что ничего не произошло. Лишь за кофе Фюмроль позволил себе саркастически заметить:
— Возможно, я и буду принимать у себя в доме дам, любезный Тхуан. Вам же, если это необходимо, советую взять в помощники представителя мужского пола.
Глава 10
Менее получаса понадобилось «висельникам» подполковника Ариты, чтобы отрезать небольшой приморский городок Дошон от Хайфона.
Перед рассветом вблизи берега всплыла субмарина. Несмотря на волну, гулко бившую в стальной борт, матросы развернули на палубе резиновые лодки и быстро присоединили надувные патрубки к баллонам высокого давления. Шипение сжатого воздуха заглушил свист перекатывающейся волны. Арита взял из рук капитана ночной бинокль и осмотрел горизонт. На берегу не было заметно никакого движения. Скупо проблескивал маячок. В узкой бухте, где прятались от тайфуна рыбачьи джонки, безжизненно мерцали убогие огоньки. Ближние островки, окаймленные голубоватым мерцанием пены, легко различались невооруженным глазом. Особо опасны были, однако, зазубренные кромки подводных рифов. Ариту беспокоили эти коралловые рифы, сплошь обросшие устрицами. Острые, как бритва, осколки раковин могли распороть резину. Данные аэрофотосъемки позволили выбрать наиболее безопасный путь к берегу. Но при такой волне лодки легко могли отклониться от курса. Не случайно Арита выбрал для высадки час наивысшей точки прилива.
Оттолкнувшись от субмарины, «висельники» схватились за легкие алюминиевые весла. Ветер оказался попутным. Трепетавшие над китайским берегом зарницы высвечивали мокрые камни по левому борту и серебристый силуэт подлодки, готовой, в случае надобности, прикрыть десант огнем крупнокалиберных пулеметов.
Когда под резиновым днищем угрожающе зашуршало битое стекло раковин, Арита включил электрический фонарик и просигналил в сторону моря о благополучном прибытии. С трудом удерживая мотавшиеся на волнах лодки, десантники собрали снаряжение и попрыгали за борт. По пояс в воде, подняв над головой оружие, побрели они к затаившемуся во мраке берегу.
На субмарине задраили люк и приготовились к погружению. Надутые резиновые лодки швыряло и крутило в коралловых лабиринтах. Пути назад не было. Ступив на топкий вонючий берег, где под ногами шныряли тысячи крабов, японцы развязали водонепроницаемые мешки и надели убогие, но чистые и аккуратно залатанные платья вьетнамских крестьян. Операция «Черный океан» вступила в решающую фазу. Десантники пересекли узкую полосу пальмовых посадок и по крутому, заросшему папоротниками склону выбрались на дорогу, ведущую в Дошон. Через пятнадцать минут они уже входили в город. Арита не спускал глаз со светящегося циферблата. Все было рассчитано до минуты.
Пока ударная группа занимала жандармерию и почту, тройки «висельников» с автоматами в руках обходили хижины, в которых ютились рикши. Без лишних слов японцы забрали десять велоколясок и согнали арестованных на маленькую базарную площадь. Под угрозой немедленного расстрела всех заставили сесть на землю и обхватить руками затылок. Для острастки Арита лично зарубил приемом «опускание журавля» местного телеграфиста, хотя все телефонные и телеграфные провода уже были перерезаны.
Конфискация колясок придала операции необходимое ускорение. С этого момента десант разделился на четыре группы: первая взяла под контроль дорогу на Хайфон, вторая устремилась к паромным переправам, третья осталась в городе, а последняя, во главе с Аритой, двинулась в сторону узкого, выдающегося в залив мыса, где была намечена высадка войск.
Взлетела зеленая ракета и, нарисовав в небе дымную дугу, рассыпалась над лесистым холмом. Арита взглянул на часы. Первая группа уложилась в срок. На дороге были установлены мины нажимного действия, а перед шлагбаумами вывешены надписи на французском языке: «Проезда нет. Войсковые маневры».
Потом с небольшим запозданием — видимо, возникли непредвиденные осложнения — громыхнули два взрыва и взвилась малиновая ракета. Уничтожение паромных переправ знаменовало собой окончание операции. «Висельники» выбились из графика всего на двенадцать минут. Арита взял ракетницу и собственноручно пустил в небо три желтые, чуть змеящиеся на морском ветру полосы. Ответный сигнал с борта крейсера «Аятосан — Мару» едва прорисовался на полыхнувшем желто-зеленым огнем горизонте, потому что над морем уже взорвалась заря.
Невзирая на медленный, но упорный дождь, забряцали цикады. На мокрой, льдисто отсвечивающей лужицами литорали женщина с ребенком, привязанным за спиной, собирала ракушки. Косые струи, казалось, тонкими спицами пронизывали ее остроугольную накидку из грубого пальмового волокна. Гнилостной прохладой повеяло с моря.
— Скажите, чтобы поскорее уносила ноги, — Арита указал ракетницей на женщину. — Чтобы духу ее не было. — Он раскрыл планшет с крупномасштабной картой. — Очистить все побережье от мыса до бухты. Даже бегущей лошади нужен кнут.
Через два часа началась высадка. Худой оборванный рикша, скрестив на груди руки, с надменной улыбкой следил за тем, как прыгают в море солдаты в защитной форме, как торопливо бредут по воде, стараясь не замочить карабины.
Лейтенант Цудо, укрывшийся от дождя в коляске с поднятым верхом, подобострастно заметил:
— Эти олухи так и рвутся в бой, господин подполковник. — Наверное, даже не догадываются, что двери открыты.
— Ничего, — ухмыльнулся Арита. — У них еще все впереди.
Шесть тысяч солдат, высадившихся в Дошоне, прошли хорошую подготовку на острове Хайнань. Отметив время, которое понадобилось войскам, чтобы закрепиться на берегу, Арита вынужден был признать, что действовали они неплохо. И все же этот десант больше походил на маневры, чем на боевую операцию. Благодаря «висельникам» не было сделано ни единого выстрела.
Арита приблизительно знал, какие события предшествовали вторжению в Индокитай с моря. Подписанная в Ханое конвенция разрешила Японии разместить к северу от Красной реки контингенты в числе шести тысяч человек. Кроме того, французская администрация соглашалась передать японской стороне три главных аэродрома: в Ханое, Хайфоне и Фулангтхыонге. Переброска же войск к китайской границе вообще не лимитировалась никакими квотами. При желании японцы могли гнать через Индокитай эшелон за эшелоном. Одним словом, для ведения боевых операций в Китае отнюдь не требовалось внушительных демонстраций, подобных только что совершенному десанту. Они преследовали иную, чисто политическую цель.
— Дипломатическое давление должно быть подкреплено военным, — с присущей ему прямотой заявил премьеру Коноэ генерал Итагаки.
— Реализация дальнейших планов целиком зависит от индокитайского плацдарма, — твердо заявил прилетевший из Китая генерал Ямасита, которому была поручена разработка Малайской операции.
Обоих генералов решительно поддержали на военном совете Анами и Араки. Коноэ колебался. План, который усиленно разрабатывал Морита Тахэй, еще не был готов, и неуклюжая военная демонстрация могла разрушить саму идею совместного управления. Идея же казалась принцу все более заманчивой, потому что французская сторона безропотно выполняла японские требования. Конец сомнениям положил все тот же Итагаки:
— В генштабе полагают, ваше высочество, что небольшая разведка боем только ускорит разработку оригинального плана правительства. Мы должны продемонстрировать готовность добиваться удовлетворения наших законных интересов любыми средствами. Вишистские эмиссары, которые торговались с нами из-за каждого солдата, сделаются сговорчивее под дулами пушек.
— Вы меня убедили, — сдался премьер. — Но пусть они сначала подпишут.
Японская двадцатипятитысячная армия получила приказ о выступлении ровно через час после подписания военной конвенции.
Деку отказывался верить сообщениям о том, что, японцы перешли границу в районе Лангшона и быстро продвигаются на юг.
— Но зачем? Зачем? — схватившись за голову, он метался по кабинету. — Ведь они получили все, что требовали.
— Вы связались с японской комиссией, майор? — Фюмроля он встретил как спасителя. — Немедленно поезжайте к ним, умоляю!
— Японцы уверяют, что им ничего не известно, ваше превосходительство. — Фюмроль старался скрыть душившую его ярость. — Говорят, что это какое-то недоразумение.
— Пусть сейчас же запросят Токио!
— Я уже обращался к ним с такой просьбой.
— И что же? — упавшим голосом спросил Деку.
Фюмроль молча развел руками.
— Как же быть? Я отдал приказ оказывать противнику лишь чисто символическое сопротивление.
— Мы и без того отступаем, — пожал плечами Фюмроль. — Нам не привыкать. В отдельных местах, правда, завязываются короткие перестрелки, но это не оказывает никакого влияния на ход событий. Японцы берут город за городом и быстро продвигаются в глубь страны.
На все запросы и звонки генерал-губернатора японские представители отвечали вежливыми уверениями в вечной дружбе. О событиях на севере Индокитая они, по их словам, ничего не знали, а связаться с Токио якобы все не удавалось. Фюмролю посчастливилось дозвониться до японского министерства иностранных дел, но трубку снял какой-то низший чиновник. Кроме обещаний «доложить при первой возможности», Фюмроль ничего не добился. Из Виши приходили панические депеши, в которых предлагалось соглашаться на все. Но невозможно было достигнуть согласия без переговоров. А пока японские представители искусно уклонялись от всяких контактов с колониальной администрацией, пятнадцатая армия, преследуя отступающие французские части, совершила молниеносный бросок вдоль дороги Лангшон — Ханой. Сам Лангшон был взят почти без боя на второй день наступления.
— Все равно мы не можем противостоять столь превосходящим силам, — попытался оправдаться Деку.
И он, и Фюмроль не спали уже третьи сутки. Не хватало времени даже на бритье. Дни и ночи пролетали в бесцельных переговорах и консультациях. Правительство бомбардировало резиденцию телеграфными приказами, которые едва успевали расшифровывать. Выполнить же их не было никакой возможности. Вербальные ноты и меморандумы, направленные японцам, оставались без ответа. Они словно проваливались в черную пустоту. Когда пришла весть о высадке большого отряда японских войск на морском побережье у Дошона, Деку совсем опустил руки.
— Мы взяты в плен. Крах неминуем. Мне остается только пустить себе пулю в лоб.
— Не болтайте глупостей, адмирал! — впервые Фюмроль говорил совершенно искренне. — Лично вы тут совершенно ни при чем.
В этот момент Фюмроль остро раскаивался в собственной глупости. Вместо того чтобы пугать пистолетом застигнутых врасплох молокососов, ему следовало связаться с их руководителями. В обмен на оружие они бы наверняка согласились переправить десяток-другой французов к англичанам. Он уже знал, что после нескольких самовольных перелетов транспортные самолеты стояли в ангарах, а истребители заправлялись только для короткого боя в индокитайском небе. Видя, как скучающие, обозленные пилоты слоняются по кабакам или сбиваются в подозрительные кучки, нетрудно было догадаться, о чем они говорят между собой. Он и сам, случалось, вел подобные разговоры с глазу на глаз. Оставалось лишь сожалеть об упущенных возможностях. Он мог бы сражаться над Ла-Маншем, а уготовил себе японский плен. Только в припадке тропикантос можно было совершить столь непоправимую ошибку. Непостижимый, как Будда, Тхуан едва ли пойдет на контакт. Да и не было уверенности в том, что он знал о проделках Мынь. С той ночи никто уже не пытался открывать сейф — Фюмроль специально приклеил тонкую шелковинку — или распечатывать корреспонденцию.
Через несколько часов после высадки в Дошоне японские бомбардировщики атаковали Хайфон. Тройка вертких двухмоторных «мицубиси» обрушила бомбовый груз на густонаселенные районы вблизи порта. Было разрушено несколько домов, во многих местах полыхали пожары. Соломенные кровли вспыхивали, как спички. От огня погибло больше людей, чем от осколков. Полубезумные худые старухи бродили по выжженным пустырям, разыскивая под обрушенными обуглившимися балками своих мертвых. Запрокинув искаженные страданием лица, они поднимали костлявые кулаки.
В тот день вьетнамцы впервые увидели жуткие следы, которые оставляет на теле льющийся с неба фосфор.
— Это форменная война, — прокомментировал Деку сообщение по прямому проводу из Хайфона. — Какой ужас! — Он устало прикрыл глаза рукой. На более сильное проявление эмоций уже не хватало сил. В нескольких словах пересказал Фюмролю последние новости. — Зачем нужна была эта комедия с подписанием?
— Это фашизм, ваше превосходительство, с присущим ему вероломством. Я знаю, что в «Новой Франции», — Фюмроль не удержался от брезгливой гримасы, — такие слова нынче не в моде, но других просто не существует. Это фашизм.
— Зачем вы так, майор? — Деку поморщился, как от зубной боли. — В такую минуту…
— Ни один наш истребитель не поднялся!
— Ах, оставьте! — оборвал генерал-губернатор. — Вы сами авиатор и должны понимать, что наши развалины не могут соперничать ни с «зеро», ни с «мицубиси». Чем предаваться бесполезным сожалениям, лучше подготовьте «молнию» в Токио. От моего имени. — Деку отнял от лица руки. В беспощадном свете дня Фюмролю показалось, что адмирал за одну ночь состарился на много лет. — Пишите. — Он встал и прошелся по кабинету, где днем и ночью жарко пылали лампы в книжных шкафах. — Прошу о немедленном прекращении боевых действий. Предлагаю японскому десанту беспрепятственно войти в Хайфон… Это все.
— Следовало бы поставить в известность Виши.
— Потом. — Деку указал на груду шифрованных телеграмм. — Если эта мера утихомирит Токио, они только обрадуются. — Он локтем смахнул правительственные депеши на пол. — Чем больше японцы успеют нахапать, тем жестче будут их условия.
Арита недоумевал, почему к трем часам пополудни, когда наступает трудный час обезьяны, японский десант неожиданно приостановил наступление. Остановившись на полпути к Хайфону, он занял круговую оборону. Задымили полевые кухни. Солдатам раздали бобовую пасту «мисо» для утреннего супа и прессованные водоросли. Еще раз мельком взглянув на карту, Арита сжал зубы. До Хайфона было рукой подать. Он лежал открытый и беззащитный в глубине синего полукружия, и, как жертвенные курения, застыли над квадратами улиц белые струйки дыма. Не иначе, политики в Токио опять откололи номер. Вместо того чтобы брать город, начнут теперь политический торг.
Арита, принимавший участие в путче молодых офицеров 26 февраля 1936 года, когда были убиты премьер Сайто и министр финансов Такахаси, издавна ненавидел политиков. Это они лишили Японию первозданной естественности и простоты отношений, окружили трон тэнно толпой карьеристов и трусов, для которых собственные интересы превыше славы родной страны. Но ничего, настанет день, и «Черный океан» хлынет на Токио… «Висельники» не повторят ошибок молодых офицеров. Уж они-то раз и навсегда очистят Ямато от плесени.
Арита сел в коляску и велел прапорщику Иде везти себя обратно в Дошон. Он испытывал то особое чувство глубочайшей безысходной потерянности, которое во всей полноте можно определить только японским словом «сабисиса». В состоянии сабисиса, когда жизнь представляется лишенной смысла, самураи прибегают к ритуальному самоубийству, вспарывая себе живот. Командир «висельников» не знал, что японские войска остановились на точно означенном рубеже, о чем было договорено между канцелярией Коноэ и генеральным штабом. Не предвидел он и того, что спустя несколько часов будет получен приказ мирно войти в Хайфон. Свое мучительное состояние он разрядил на французе-учителе, который, на свою беду, ехал навстречу на велосипеде.
— Разве вы не видели объявления о маневрах? — вежливо спросил Арита. Учитель, который видел перед собой лишь вьетнамского бедняка в шляпе нон, позволил себе резкое замечание. Тогда Арита выхватил из коляски знаменитый меч работы Масамунэ, с которым почти никогда не расставался, и продемонстрировал перед Идой безупречный «полет ласточки». Разрубленное тело убрали с дороги лишь тогда, когда приступили к разминированию.
Глава 11
Дерево вынг, дарующее человеку плод, исцеляющий восемь болезней, цветет по весне. Но выдаются отдельные годы, когда лиловые венчики с алой густой бахромой появляются среди темной свисающей до самой земли листвы поздней осенью.
Так случилось и в осень Металлического Дракона, когда в траве по берегам зеленых озер печально угасали фиолетовые огоньки. По древнему обычаю, праздничный стол окаймляют цветами — белыми с желтой серединкой дай, лиловыми лепестками миртов и дерева вынг. Только не было радости на вьетнамской земле в тот год. Зеленые, тиной обросшие черепахи, всплывающие у Нефритовой башни, чуждались людей.
Вслед за войсками, которые прочно обосновались в Тонкине, из Японии хлынул поток цивильного люда. Приезжали предприниматели и банкиры, бродячие актеры и гейши, специалисты по индотибетской медицине, глотатели огня и ойран — проститутки высшей квалификации. Даже днем эти хрупкие дамы появлялись на улицах в черных, расшитых золотом кимоно, с нарумяненными щечками и длинными заколками в лаковых волосах, причесанных в стиле момоварэ.[15]
Открылось множество ресторанчиков с типично японскими вывесками на занавесках, где подавали суси с сырой рыбой и кальмарами, лепешки моти к супу из морской капусты, соленую редьку дайкон и листовую хризантему сюнгику. В европейской части Ханоя обосновались филиалы могущественных компаний «Мицуи» и «Мицуи буссан кайся». Японскому капиталу удалось завоевать прочные позиции в горнодобывающей промышленности. Большой процент прибылей от добычи железных и марганцевых руд Тхайнгуэна поступал теперь на текущий счет фирмы «Индосина санге кайся», лаокайские фосфаты взяла под контроль «Джепаниз майнинг компэни», а «Компэни де кром де л-Эндошин» — название для разнообразия было выбрано французское — получила исключительную привилегию на хромовые руды Тханьхоа. Японским промышленникам сопутствовал успех. Возможно, потому, что они охотно вкладывали капитал в области, которые французские компании считали невыгодными. Там же, где у Франции были крепкие позиции, оккупанты действовали силой. На оловянных и вольфрамовых рудниках, принадлежавших фирмам «Сосьете дез этэн э Вольфрам дю Тонкэн» и «Сосьете д’этэн дю Тонкэн», они просто-напросто разместили солдат.
Само собой разумеется, что подданные тэнно, столь отважно принявшиеся осваивать далекие земли, не могли остаться без специального обслуживания. Еще в токугавской Японии восемнадцатого века существовал знаменитый «Омэцкэ сэйдзи» — режим ока. С той поры полиция не жалела усилий, чтобы оградить японских граждан от тлетворного влияния иноземцев. Не удивительно поэтому, что и в Ханое, недалеко от филиала «Иокогама спеша бэнк», разместились отделения токко кэйсацу и кэмпэтай.
Шеф кэмпэтай Уэда прилетел прямо из Токио. Его «дарай» приземлился на ханойском аэродроме, над которым теперь развевался белый с красным кругом в центре японский флаг. Господин Жаламбе счел своим долгом лично встретить японского коллегу, с которым в течение последних месяцев поддерживал весьма тесные отношения. Он даже прослезился, когда увидел сбегающего по трапу полного улыбающегося господина в роговых очках.
— Добро пожаловать в наши владения! — торжественно приветствовал он гостя.
— Очень хорошо, господин Второе Бюро, — ответил на ломаном французском языке Уэда, блеснув золотыми коронками. — Будем работать.
— Моя машина к вашим услугам, — почтительно пожимая пухлую короткопалую руку, предложил Жаламбе. — Разрешите отвезти вас в город?
— Спасибо. Не полагается, — не переставая улыбаться, Уэда мягко отстранил Жаламбе и поспешил навстречу генералу Нисихаре, возглавлявшему контрольную комиссию. — Увидимся потом, — небрежно проронил он на ходу.
Жаламбе не оставалось ничего другого, как присоединиться к свите и последовать за шефом кэмпэтай.
Так он и ехал до самого моста Лонгбьен, построенного в 1902 году по проекту знаменитого Эйфеля. Его новенький «рено» занимал последнее место в кортеже автомобилей, следовавших за раскрашенным желто-зелеными маскировочными пятнами «опелем».
— Какие новости, господин генерал? — спросил Уэда, сжавшись на раскаленном сиденье.
— Вы разве не получили нашего последнего донесения? — Нисихара ткнул шофера в спину золотой чашечкой длинной японской трубки.
— Никак нет. Мне пришлось задержаться на Формозе. Арита недавно возвратился из ваших краев и рассказывает много интересного. А что случилось?
— В Бакшоне вспыхнул мятеж. Положение очень серьезное. Железнодорожное движение парализовано диверсиями, на шоссе то и дело взрываются самодельные мины.
— Неужели армия не может навести порядок?
— Это не так просто, — генерал снял мутное от пота пенсне и попытался протереть стекла кусочком замши, — когда имеешь дело с невидимым врагом. Саботажники находят приют в каких-то жутких деревнях, которые даже не нанесены на карту, прячутся в лесах. И вообще наши доблестные солдаты оказались неподготовленными к туземным сюрпризам. Тигровые ямы с зазубренным колом на дне и ядовитые стрелы — это еще полбеды. Но что вы скажете насчет глиняных бомб, начиненных экскрементами, которые провалялись неделю в джунглях? Достаточно крохотного пореза, и вас не спасет никакая медицина. Жаль, я раньше не знал, что вы будете у Ариты. Вместо того чтобы рассылать глупые инструкции из Тайхоку, он бы лучше приехал в Дошон поучиться. Слышали, какой скандал он устроил в Хайфоне? Не дали ему взять город, видите ли! Приказы генштаба для него уже ничто… Вы случайно не осведомлены, кто его продвигает?
— Очень интересно, — невнятно пробормотал Уэда, занимавший видное место в обществе «Черный океан», и дипломатично перевел разговор: — Значит, мятеж все еще не подавлен?
— Боюсь, что он только разгорается! Продвижение наших войск приостановилось. Мы оказались между двух огней. Французы восстановили фронт и требуют, чтобы мы оставили Дошон и отошли к границе; мятежники сковывают нашу активность. Потери, которые мы несем, правда, не столь значительны, зато боевой дух армии существенно пострадал. Не знаю, чему там обучает своих головорезов Арита, но пятнадцатую армию вьетнамские штучки явно застали врасплох.
— Кто поднял мятеж? Французская разведка?
— Ничуть не бывало. Французы сами обеспокоены развитием событий на севере. Тут явно поработали большевики.
— Удалось кого-нибудь поймать?
— Конечно! Диверсантов и заложников каждое утро публично расстреливают на центральной площади Дошона.
— Слишком вы, господа военные, скоры на расправу, — подосадовал Уэда. — Следовало бы нас подождать.
— Жаль, что вы не получили подробное донесение.
— Ничего, я ознакомлюсь с ним на месте. Надо будет на французов нажать. В конце концов, это их протекторат, пусть выправляют положение.
— Но они отказываются что-либо делать, пока мы де отведем войска! — возмущенно фыркнул генерал.
— В самом деле, какая наглость, — насмешливо покачал головой Уэда. — А вам не кажется, что по-своему они правы?
— Не кажется, — отрезал генерал.
— Ничего, я думаю, мы сумеем договориться.
В тот же день, даже не отдохнув с дороги, Уэда нанес визит профессору Тахэю, обосновавшемуся в маленьком домике возле вокзала на улице Травяной ряд, где некогда торговали сеном для слонов, лошадей и скота. Оставив ботинки у порога, Уэда ступил на татами и согнулся в подобострастном поклоне. Почтительно шипя, он передал хозяину привет от секретаря Усиби и рассыпался в уверениях преданности. Если в разговоре с начальником контрольной комиссии он держался как равный; то к Тахэю — личному другу самого премьера — проявил явное подобострастие. Служанка принесла дзабутон, поставила перед гостем корзинку с горячей салфеткой.
— Я позволил себе привезти вам дуновение родного ветра, сэнсей, — сидя поклонился Уэда, развязывая фуросики, крепдешиновый платок с белыми журавлями, в котором лежали спелые персимоны. — Мне говорили, вы любите эти плоды. Я купил их в Каябаси.
Хозяин ответил молчаливым поклоном и, закрыв глаза, принял позу дзадзэн — неподвижно застыл, скрестив ноги. На нем было простое хаори — короткое верхнее кимоно. Не смея первым начать беседу, Уэда украдкой оглядел комнату, единственным украшением которой был какэмоно — свиток с каллиграфической надписью: «Вы рисуете ветку и слышите, как свистит ветер». На противоположной стене была прикноплена карта Индокитая.
— У вас дело ко мне? — с присущей ему прямотой спросил Тахэй, когда служанка подала чай. — Пожалуйста, не стесняйтесь, Уэда-сан.
— Вы очень добры, сэнсей. Я спешно прилетел, чтобы просить вашего совета, — солгал Уэда.
— Наверное, вас взволновало известие о событиях в Дошоне?
— Не стану скрывать, оно перевернуло все мои планы.
— Не только ваши, Уэда-сан… Вы знаете, что я предупреждал о том, что такое может случиться? Но меня не послушали.
— Я прилетел сюда только затем, чтобы все исправить, — вновь солгал Уэда, заискивающе шипя.
— К счастью, это еще возможно. Но прежде нужно отвести войска. Это в ваших силах? — выразил сомнение Тахэй. — Другого выхода просто нет.
— Изложите мне свой план, сэнсей, — вкрадчиво попросил Уэда. — С тем, чтобы я мог немедленно доложить военному командованию. Уверен, что в свете новой ситуации оно более благосклонно отнесется к вашим, к нашим, — поправился он, — предложениям.
— Все очень просто, Уэда-сан. Французы сидят в этой стране около ста лет и превосходно научились справляться с любыми неожиданностями. Вы согласны? Так пусть они и впредь занимаются внутренними делами. В противном случае мы увязнем здесь по уши, и все идеи превратить Индокитай в удобный плацдарм для дальнейшего проникновения на юг превратятся в ненужные клочки бумаги.
— Но мы не можем обойтись без военного присутствия, а французы встречают его в штыки. На переговорах в Токио Деку, как я слышал, торговался из-за каждого солдата.
— Здесь-то и коренится основная ошибка. Беда в том, что французские власти сомневаются в искренности наших намерений. И чем дальше, тем больше. Последние наши действия только укрепили их самые худшие подозрения.
— Но должен же быть выход из замкнутого круга? Пока не ликвидирован китайский инцидент, мы не можем позволить себе отвлекаться на умиротворение вьетов. И я целиком согласен с тем, что необходимо заставить французов выполнять взятые на себя обязательства. Мы, со своей стороны, готовы помочь им в борьбе с коммунистическим подпольем. Это отвечает нашим интересам.
— Ваше начальство придерживается такого же мнения?
— Точно не знаю, — уклонился Уэда, — но думаю, что смогу с вашей помощью убедить.
— Собственно, именно на этом и построен мой план. Юридически и геополитически мне удалось обосновать идею совместного протектората. Став нашими официальными союзниками, французы иначе станут относиться и к ограниченному военному присутствию.
— Ограниченному? — Уэда знал, что по плану генштаба количество японских солдат в Индокитае предполагается в короткий срок довести до ста тысяч, что потребуются не только новые аэродромы или военно-морские базы, но и полный контроль над всем транспортом, радио и телефоном. Но понимает ли это Тахэй? — Вы позволите мне ознакомиться с вашими разработками? — осторожно осведомился он.
— К сожалению, не могу пойти вам навстречу, — сухо ответил профессор. — Моя работа предназначена лично для господина премьера Коноэ, и было бы, согласитесь, странно, если бы кто-то прочитал ее раньше его.
— Она уже закончена?
— Почти. Я уже готовился возвратиться на свою кафедру в Киото. Но последние события подарили мне новые аргументы в защиту идеи совместного протектората. Поэтому я решил задержаться, чтобы дополнить отчет новыми данными. Пожалуй, придется взять младшую жену.
— Буду счастлив порекомендовать вам хорошую японскую девушку, сэнсей. Что бы вы посчитали нужным сделать уже сегодня для стабилизации положения?
— Дать авторитетное обещание отвести войска и без промедления начать новый раунд переговоров с колониальной администрацией, — четко перечислил Морита Тахэй. — Господам на Итигайя придется ясно усвоить одно: вводить войска в Индокитай следует не в ходе военной операции, а с разрешения союзной администрации… Другое дело, что добиваться такого разрешения, — он добавил с легкой усмешкой, — можно и с помощью военных угроз. Главное — это действовать постепенно. Начинай взбираться вверх снизу. Ошибается тот, кто надеется пройти эту страну форсированным маршем.
Шеф кэмпэтай понял, что профессор не только в курсе военно-стратегических планов, но, возможно, и сам принял косвенное участие в их разработке. В его отчете почти наверняка присутствуют и графики и расчеты поэтапного проникновения в Индокитай. С таким человеком можно было бы вести себя с большей откровенностью. Но что-то в Тахэе раздражало и настораживало Уэду. Может быть, слишком явное превосходство? Или обладание неким тайным знанием, дававшее право взирать свысока не только на него, офицера тайной полиции, — это можно понять, — но и на высший генералитет! Или того хуже — на самого принца! Вот что было нестерпимо. И чем он гордится? Своим знанием индокитайских черепков? Дальше он ничего не видит. А что Индокитай? Всего лишь звено в гигантской цепи.
— Позвольте принести вам глубочайшую благодарность, — Уэда коснулся лбом татами. — Уверен, что мы плодотворно станем вместе работать. Теперь последний вопрос. Разрешите?
— Прошу вас, Уэда-сан.
— Мне нужно коротко переговорить с другом. С глазу на глаз. Есть такое место в Ханое?
— Я бы порекомендовал вам Храм Литературы. Теперь туда почти никто не заглядывает. Очень удобно.
— Храм чего? — удивился Уэда. — Литературы?
— Да, Ван Миеу, это можно перевести как Храм Словесности, Храм Литературы. Он построен еще при короле Лe Тхань Тоне Просветителе в 1070 году. Говорят, что манговые деревья вокруг — ровесники храма. Едва ли, конечно… Но это, бесспорно, обворожительный уголок. Не стану утомлять вас рассказами о каменных стелах, на которых высекались имена выдающихся ученых, или о башне у «Колодца небесного блеска», где обсуждали стихи. Едва ли это доставит вам удовольствие. Но секреты акустики узнать, безусловно, стоит. Я бы не советовал вам останавливаться в том месте, где поэты пели свои стихи, аккомпанируя на струнной луна. Каждое ваше слово будет слышно в любой точке храма, даже на берегу. С точностью совершенно удивительной учтено влияние ограды, деревьев, отражательная способность озерной глади. Зато у задних ворот вы можете беседовать без опасений. Вас не услышат, даже если начнете кричать. Лучшего места не найти.
— Вы дали необыкновенно мудрый совет, сэнсей, и крайне для меня полезный. Я тут пока на птичьих правах и ничего не знаю.
«Для настоящего разведчика, — с удовлетворением подумал Уэда, — все может оказаться полезным. В том числе и древние черепки. Этот профессор знает свое дело».
Позвонив Жаламбе, он назначил встречу у задних ворот Ван Миеу, слово в слово повторив изречение, которое почерпнул в беседе с Тахэем.
— Не удивляйтесь, сударь, что я выбрал для свидания столь необычное место. Разве не в шуме бамбука путь к просветлению? Разве не в цветении сакуры озарение души? — и в привычной манере закончил: — Завтра нам предстоит докапаться до истины. И очень спешно.
Они встретились перед вечером, когда золотой свет над крышами навевает томление и тревогу, а осенняя листва деревьев сау кажется источающей кровь. Вспугивая ящериц, прошли мимо изъеденных временем скамей, где в черных замшелых трещинах поселились улитки и вездесущие муравьи.
— Картотека, которую вы любезно согласились нам передать, — с места в карьер начал Уэда, когда они остановились у каменной арки со знаком неба, — оказалась довольно любопытной. Когда мы сравнили ваши данные с собственными, выявились занимательные подробности. Есть шансы затравить крупного зверя.
— В самом деле, господин Уэда? — Жаламбе облегченно вздохнул. — Рад, что сведения принесли пользу.
— Будем планировать крупную облаву. Пусть ваша тайная полиция целиком переключится на коммунистов. Crimes, affaires[16] — все побоку. Это не убежит, это успеется. Мы войдем в контакт с нашими службами в Китае и затянем на шее большевиков петлю.
— Об этом я всегда мечтал, но не было возможности подобраться со стороны Китая. Англичане нам не очень помогали, так как не были заинтересованы в спокойствии и процветании французских владений.
— А мы заинтересованы, господин Жаламбе! И докажем это на деле. Рад сообщить, что ваши данные помогли нам напасть на след виднейшего деятеля Коминтерна. Совместными усилиями мы должны его взять. Сразу почувствуете, насколько тише станет в Тонкине.
— Весьма лестно. Однако должен сказать, — тонко возразил Жаламбе, — что не только вьетнамские эмигранты, но и местные красные доставляют много хлопот. У них большая и разветвленная организация, притом умело законспирированная. Бить надобно с двух концов.
— Приятно, что наши мнения совпадают. Мы со своей стороны тоже готовы снабдить вас полезной информацией. Возьмем общих клиентов под совместный надзор, выявим связи и поставим капкан. Дело привычное.
— Завтра же можно наметить конкретные мероприятия. Не согласитесь ли побеседовать с моими сотрудниками?
— Ни в коем случае. Я в Ханое не более чем гость. Вы, я говорю о французах, тут полноправные хозяева. Но мы готовы помочь вам навести в вашем доме порядок. На дружеской основе, неофициально. Так прошу и доложить его превосходительству, господину генерал-губернатору Деку.
— Совсем не обязательно посвящать адмирала в мелочи полицейского сыска, — с видом сообщника подмигнул Жаламбе. — Мы с вами можем решить все сами.
— Это так. — Уэда проявил настойчивость: — Но, пожалуйста, доложите, что японские власти свято почитают суверенитет Франции и не будут вмешиваться во внутренние дела Индокитая.
— Означает ли это неучастие в оперативной работе? — решился задать прямой вопрос Жаламбе.
— С юридической точки зрения — да, — откровенно ответил Уэда. — Мои люди, не жалея сил, помогут вашим во всем, что касается сыска. Но производить аресты будете вы.
— Понятно… — протянул Жаламбе.
— В отдельных случаях я попрошу у вас разрешения принять участие в допросе. Не откажете?
— Что за вопрос! — Жаламбе сделал широкий жест. — Можете хоть живьем изжарить.
— Зачем же? На то у вас имеется гильотина. Судебные формальности остаются в ведении французской стороны. — Уэда совершенно открыто диктовал свои условия. — Лично от вас, господин Жаламбе, требуется только одно. Вы должны развязать нам руки. Предупредите своих людей и, разумеется в мягкой форме, дайте понять генерал-губернатору, что кэмпэтай не потерпит никакого вмешательства в свою деятельность… Вы умеете играть в го, господин Жаламбе?
— Нет. — Француз был явно озадачен. — Это что за игра?
— Японская. Но не имеет значения. Просто там есть такая операция, как окружение крепости. Я намерен приступить к ней немедленно. — Уэда вынул из бокового кармана фотографию. — Подберите все, что у вас имеется на этого человека.
«Вот и мы работаем на гестапо», — меланхолично отметил Жаламбе.
— Какое спокойное лицо, — усмехнулся он, рассматривая снимок. — Почти аскетическое умиротворение. Интеллигент, конечно?
— Кадровый работник компартии, — кивнул Уэда. — Канбо, как говорят здесь. Очень опасен.
Глава 12
В Европе начинался февраль сорок первого года, когда в Индокитае наступил год Металлической Змеи, отмеченный знаком женской стихии.
По древнему обычаю, на тэт покупают веточки цветущего персика. Это счастливый символ долголетия, потому что персиковое дерево в садах небесной хозяйки Запада Туэй Выонг May расцветает лишь раз в три тысячи лет. Казалось бы, зачем человеку такая длинная жизнь в этом преисполненном страдания мире?
Но недаром говорят, что и умирающий от голода сын на тэт. Ханойские улицы в новогодний праздник стали розовыми от персикового цвета. На рынке бойко шла торговля глиняными свинками с даосским кружком счастья на прогнутом животе, карликовыми деревьями, осыпанными золотыми монетками мандаринов, и красочными лубками, на которых были изображены грозные тигры — хранители стран света, сильные карпы в прозрачном потоке и, конечно, «Четыре красавицы». Все продавалось нипочем, должники стремились расплатиться с долгами, и, вопреки мрачным предсказаниям, всем хотелось верить, что новый год принесет хоть капельку счастья.
Даже монахи, сменившие по случаю праздника крашенные растительным соком одежды на оранжевые тоги, открыто предавались веселью. Жизнерадостные ханойцы обменивались благопожеланиями, перемежая изысканную торжественность канонических формул солеными шутками и анекдотами на злобу дня.
Многие принесли домой с рынка не только новогодние угощения — пирог бань тьынг да сушеную рыбу, — но и написанные от руки квадратики зеленоватой бумаги. Как они только попали в корзину? То ли вместе с лубком, свернутым в трубку, то ли пиротехник подсунул в коробку шутих?
«Да здравствует Единый национальный фронт борьбы против французско-японских фашистов в Индокитае! Восстание в Бакшоне и Намбо перерастет во всеобщее восстание!»
Японцы, которые тоже празднуют лунный Новый год, всячески старались продемонстрировать ханойцам свою духовную близость. Украсив ворота домов традиционными ветками сосны и бамбука, они добавили и нетленный персиковый цвет. По всем канонам икэбаны это выражало возвышенную идею вечного единства и благополучия.
До благополучия было, однако, далеко. Положение Индокитая существенно осложнилось после инцидентов на границе с Сиамом, которые к новогодним празднествам переросли в открытый вооруженный конфликт.
Новое правительство Таиланда — так теперь стала именоваться страна — начало тайные переговоры о размещении на своей границе с Малайей японских войск. Это было рискованно, поскольку англичане могли опередить Японию и занять приграничные районы Таиланда, и в то же время соблазнительно, ибо возникал шанс получить назад южные провинции, отторгнутые Великобританией в 1909 году. Правительство Коноэ, в свою очередь, обещало премьеру Пибулу Сонграму, взамен плацдарма для нападения на Малайю и Бирму, щедрую компенсацию за счет французского Индокитая: камбоджийские провинции Баттамбанг и Сиемреап и часть территории Лаоса к западу от Меконга. Японии вторжение тайских войск в Индокитай давало двойной выигрыш, поскольку укрепляло ее позицию в обеих странах и позволяло оказывать добавочное давление на администрацию Деку.
Тайская армия нанесла ряд поражений французским войскам и в первой половине января прорвалась в Камбоджу в районе Пойпет — Сисафон.
Фюмроль с пеной у рта убеждал Деку бросить на западную границу всю наличную авиацию.
— Вы же видели, как реагируют японцы, встречая энергичный отпор! — доказывал он. — Не мы, а вьетнамские крестьяне заставили их отступить.
— Коммунисты, — уточнил Деку.
— Не суть важно. Главное, что противник отброшен.
— Союзник, — с тонкой улыбкой заметил генерал-губернатор.
— Отчего бы и нам, французам, не продемонстрировать силу? Мы проиграли войну с бошами, уступили японцам, неужели и перед Бангкоком склоним головы? Непостижимо! Я сам готов вести самолет.
Но Деку предпочел бросить авиацию на подавление нового восстания в Намбо. После отхода японской армии за порядок в стране вновь отвечали французские власти. И все же Фюмролю удалось отыграться. Действуя через сочувствовавших де Голлю офицеров, он за спиной генерал-губернатора вошел в тесный контакт с командующим флотом, который при первой возможности атаковал тайские корабли. Неожиданный рейд французских торпедных катеров у острова Чанг обошелся Таиланду чуть ли не в половину всего флота.
Его величество король Аманда Махидон пришел в отчаяние. Сидя на троне под белым девятиярусным зонтом, он в резкой форме потребовал отставки премьера. Лишь клятвенное обещание Пибула Сонграма в течение двух недель закончить конфликт без потери занятых областей удержало его от крайних мер. Он не верил, что после такого поражения его страна может остаться в выигрыше. Спасти честь тайского королевства могло только чудо. Но Пибул Сонграм не бросал слов на ветер.
Под угрозой нового ультиматума правительство Коноэ принудило Деку заключить перемирие. Акт подписания состоялся на борту японского крейсера «Натори-мару», стоявшего на рейде Сайгона. Тайские войска остались на завоеванных рубежах. Пибул Сонграм окончательно уверился в могуществе союзников и под покровом глубочайшей секретности готовил почву для ввода в страну японских дивизий.
Фюмроль, который после церемонии подписания напился в сайгонском отеле на рю де Катина, дал по физиономии Жаламбе.
Утром, страдая от головной боли, он бегло просмотрел присланные из Виши данные радиоперехвата. Радиостанция Свободной Франции в Браззавиле коротко сообщала о том, что генерал Катру успешно выполнил свою миссию в Каире и возвращается в Лондон. Ниже следовал полный текст телеграммы де Голля, направленной из Браззавиля в Каир на имя Катру:
«Назначаю Вас Верховным комиссаром Свободной Франции на Востоке и представителем главы Свободной Франции и Совета обороны империи с полномочиями принимать любые меры, которые вы сочтете необходимыми, и устанавливать любые контакты с местными английскими гражданами и военными властями. В зону вашего действия входят Сирия, Балканы, Египет и Судан».
Фюмроль не знал, что Катру ездил в Египет по прямому поручению Уинстона Черчилля, который еще до миссии в Каире втайне от де Голля предложил бывшему генерал-губернатору возглавить французское Сопротивление. Катру решительно отклонил лестное предложение. Но в Египет поехал. Самолет, привезший Катру из Каира, приземлился в аэропорту Хитроу, и экс-губернатор сразу же увидел возле трапа «верного Пятницу» британского премьера — Брендена Бракена. Когда окрашенный в защитный цвет «роллс-ройс» через Баркли-сквер и Трафальгар-сквер выехал на Даунинг-стрит, Катру обратил внимание на то, что здание казначейства, расположенное рядом с резиденцией, сильно пострадало от бомб.
— Какие жуткие все-таки разрушения! — не удержался от восклицания генерал.
— Да, — односложно ответил Бракен. — Сэр Уинстон примет вас в подвале. Теперь мы обедаем там.
После супа и холодного мяса в желе бригадный генерал де Голль поднял бокал с портвейном за старшего по званию экс-губернатора Индокитая.
— Поступаю в ваше распоряжение, генерал, — открыто улыбнулся Катру.
— Вот пример истинного благородства, — одобрил Черчилль, не выказывая своих истинных чувств.
Сампан дядюшки Лиема стоял теперь на реке Ньюэ — притоке Красной — тихой заводи, где скрытные выпи высматривали среди осоки и ирисов жирных лягушек. Обложенный со всех сторон зелеными ветками, он почти не отличался от плавучих островков, которые, застряв у заболоченного берега, пускают цепкие корни. Лием любил праздновать тэт на второй день, когда спокойно, без суеты, друзья собираются у огонька за чашкой густого горячего фо. Это истинно народное блюдо, доступное рикшам и кули, равно любезное и бездомному бродяге и солидному отцу семейства, который, позавтракав чашкой фо, будет сыт дотемна. Он хорош в любое время года и в любом месте: в зимнюю прохладу, когда любители фо собираются у печурки близ автобусной станции, в осеннюю страду на рисовом чеке, в малярийном чаду каучуковой плантации.
Ветерок, пролетающий над рекой, далеко разносил дразнящий запах мясного бульона, щедро заправленного кориандром и перцем. Гости дядюшки Лиема не уставали нахваливать фо.
— Даже фо-кон-вой из слоновьего мяса, который едят принцы, не идет ни в какое сравнение с вашим волшебным фо, — одобрительно поцокал языком Танг, пришедший на пир в оранжевой тоге.
— А перец какой! — подхватил Дык. — Все нутро огнем горит.
— Чем перец злее, тем место счастливее, — наставительно заметил Танг и поднял крохотную чашечку с рисовой водкой. — Пусть река Ньюэ принесет вам удачу, дядюшка.
— Я старый человек, — отмахнулся Лием. — И ничего мне не надо. Но хочется, прежде чем умру, увидеть свободную родину и погулять на свадьбе детей. — Он обнял Кхюе и Дыка. — Разве я многого прошу?
— Большего не бывает, дядюшка, — без улыбки ответил Танг. — Счастье родины и счастье детей… Что может быть выше? А вот о смерти вы рановато заговорили.
— И о свадьбе, — упрямо тряхнула головой Кхюе. — Можно ли думать о семье, когда идет борьба? — Она не удержалась от вздоха. — Нет, не скоро будет наша свадьба. Но мы все равно жених и невеста. Дык сам поднес мне бетель, и я приняла его.
— Какая ты сознательная стала, моя девочка. — Танг погладил ее по руке. — И как выросла за этот тяжелый год. — Он взглянул на юношу, который потупясь сидел над нетронутой чашечкой водки. — Ну, а ты что думаешь на этот счет?
— Белый Нефрит права, — тихо ответил Дык, не поднимая глаз. — Мы не принадлежим себе.
— Верность познается во времена больших смут, — сказал Танг. — Наступит и для вас радостный день.
— Зачем ждать и страдать порознь? — возразил Лием. — Пусть вместе страдают. Дружные муж и жена могут вычерпать до дна Тихий океан. Разве не так?
— Это уж им самим придется решать, — уклонился от спора Танг. — Славно, однако, мы отметили праздник. Я, признаться, уже забыл мирный запах домашнего очага… Пора и за дело приниматься. Ты проводишь меня? — обратился он к Дыку.
— Позвольте мне пойти с вами? — попросил Лием. — Пусть они хоть сегодня побудут вдвоем…
— Вы совершенно правы. — Танг похлопал юношу по плечу. — Я как-то забыл, что ему завтра предстоит дорога. Совсем одичал в монашеской келье. Перестал понимать простые вещи. Того и гляди, стану святым, — пошутил он. — Я помогу вам спустить лодку, дядюшка.
Оставшись одни, Кхюе и Дык долго молчали, пристально следя за догорающими угольями в очажке. Под тихий плеск воды и шелест осоки хорошо было думать и вспоминать. Временами за бамбуковой загородкой поднимали возню попавшие в трюм крабы.
— Ты обещал научить меня писать, — нарушила молчание девушка.
— Обязательно. Как только смогу надолго задержаться в Ханое, мы начнем уроки.
Оба знали, что это будет не скоро.
— Я бы хотела помогать тебе переписывать зеленые квадратики.
— Глупенькая, — улыбнулся Дык. — Листовки не обязательно должны быть зелеными. Просто попалась такая бумага… Но я бы тоже хотел, чтобы ты нам в этом помогала.
— Это важно?
— Очень. Люди должны знать правду. Можно перекрыть реку, закрыть колодец, но кто может зажать народу рот? На этот раз нам понадобится много листовок и на них должно быть больше слов. Без типографии никак не обойтись. Поэтому я и тороплюсь. А то бы мы могли не расставаться хоть целую неделю.
— Я понимаю… Кто написал листовку? Ты?
— Нет, мне такое пока не по плечу. Это товарищ Танг постарался. Я хоть и был тогда в Намбо, но у меня даже слов таких не найдется. Очень трудно написать о том, что видел.
— Расскажи.
— Восставшие держались целый месяц! Когда японцы начали отводить войска, чтобы пустить обратно французов, народ не захотел возвращения кабалы. Прежняя власть развалилась, как прогнивший плод. Во многих общинах и уездах товарищи установили новые, революционные порядки. Понимаешь? Кусочек нашей земли стал свободным! И это могло бы стать началом полного освобождения. Но не стало. Наших разгромили. Французы бросили против них авиацию. Целых двадцать бомбардировщиков! Многие деревни были сожжены дотла, тысячи мирных жителей нашли смерть под бомбами, сгорели заживо. А потом нагрянули каратели. Жандармы поголовно истребляли все население некоторых восставших деревень. Особенно отличился жандарм Пэтай. Он не жалел даже детей. Тюрьмы были набиты до отказа. Но если ты думаешь, что арестованных ждал суд, то горько ошибаешься. Людей буквально пришивали друг к другу колючей проволокой и бросали в море.
Вот как закончилась попытка обрести свободу. Зная о том, что в Бакмо и Чунгбо еще не готовы к восстанию, руководящие товарищи просили партком Намбо подождать с выступлением, но весть о его подготовке уже облетела весь город и люди сами вышли на улицу. Они пошли на верную смерть. Теперь видишь, как необходимо всем и каждому узнать о событиях в Намбо? Послушай, что пишет товарищ Танг. — Дык прилег на циновку и, повернувшись к свету, нашел запомнившееся ему место: «Пусть зверская расправа с нашими братьями укрепит наши сердца и раздует в них пламя возмущения. Пусть Намбо станет для нас примером героизма и трудным уроком на будущее». Вот как умеет сказать товарищ Танг.
— Раньше я бы плакала, узнав про такое. Теперь — нет!
— Правильно, Белый Нефрит. Мне было очень приятно, когда товарищ Танг похвалил тебя. Казалось, что это он мне хорошие слова говорит. И еще я очень обрадовался твоему решению помогать нам с листовками. Если о каждом случае народного возмущения люди станут узнавать вовремя, врагам придется туго. Еще продолжался террор в Намбо, когда отказались подчиняться приказам солдаты. В знак протеста против кровавых зверств они захватили блокпосты в Тёранге и Долыонге и двинулись к городу Винь. Как только партия узнала о восстании, она обратилась к народу с призывом поддержать солдат. К сожалению, они не сумели долго продержаться.
— Я хочу быть с вами, — прошептала девушка.
— Кажется, на сей раз они у нас в кармане, — сказал Уэда, опуская бинокль. — Взгляните на тот островок, прилепившийся к берегу, господин Жаламбе. Вам не кажется подозрительным поднимающийся над ним дымок?
— Может, горит что-нибудь? — усомнился Жаламбе, приникая к окулярам.
— Чему же гореть, если вокруг вода? Нет, когда мои люди дважды засекли поблизости от реки этого субъекта, я сразу смекнул, что они скрываются на воде. Мы обшарили квадрат за квадратом, прежде чем обнаружили эту сплавину. Не сомневайтесь, что она скрывает лодку. Больше спрятаться негде.
— С берега туда не очень-то подберешься. Трясина.
— Прикажите оцепить дамбу, — процедил Уэда сквозь стиснутые зубы. — Живо на катер! Я останусь наблюдать здесь. На случай, если они попытаются скрыться в траве, оставьте мне снайпера.
Глава 13
Конспиративная квартира, которую Уэда снял для деликатных встреч, находилась в туземной части города. Это была убогая хижина из обмазанного глиной тростника, затерявшаяся в извивах грязного переулка, настолько узкого, что туда едва могла въехать арба. Рядом находилась велосипедная мастерская, где бесперебойно стучали молотки по железу, и заброшенная кумирня. Напротив же был пустырь, загороженный рекламным щитом, на котором румяный вьетнамец, беззаботно покуривая опиум, прикладывался к бутылке с «мартелем».
Оставив машину возле кинотеатра «Мажестик», Жаламбе нашел рикшу, который довез его до трамвайного депо. Выпив из горлышка бутылочку оранжада возле уличного лотка, он с видом беззаботного фланера двинулся мимо скудно освещенных магазинчиков. Как и везде в Южной Азии, дома на этой торговой улице были двухэтажные. Наверху грязно и скученно жили люди, внизу помещались лавки, ресторанчики, мастерские. От улицы их отделяла только раздвижная решетка. Передняя стена с витринами и стеклянной, как на рю Гамбетта, дверью начисто отсутствовала.
Жаламбе казалось, что из темных глубин за ним неусыпно наблюдают сотни враждебных глаз. Он всегда неуютно чувствовал себя в туземных кварталах, особенно по вечерам, когда острее слышен запах где-то бормочущих нечистых вод и шныряют под ногами обнаглевшие крысы. Если бы не дурацкие капризы японца, он бы нипочем не вылез из машины. Белые люди вообще не ходят пешком. Это дурной тон. Но ему сейчас приходится подчиняться. От свидания с Уэдой ничего хорошего для себя он не ждал. Из парочки, взятой на сампане, до сих пор не удалось выколотить ничего путного, а канбо, за которым так усиленно охотится Уэда, словно сквозь землю провалился. Есть от чего прийти в уныние.
Брезгливо морщась от чада жаровен, где над углями шипели нанизанные на спицы бананы, он пересек улицу и пошел вдоль глухой ограды, за которой колюче темнела драконья крыша тюа. Сунув для успокоения руку в карман с пистолетом, быстро огляделся и шмыгнул во тьму проклятого переулка. Здесь уже не было не только уличных фонарей, но и тротуаров. Помои выплескивались прямо на улицу. Где-то играла заунывная мяукающая музыка, из окон несло не то сладким угаром керосина, не то опийным дымом. Под ногами жирно блестела жидкая грязь. Жаламбе подумал, что японцы недалеко ушли от вьетнамцев, если их тянет в такую клоаку.
«Не мог подыскать уголок поприличней, обезьяна, — уныло подумал Жаламбе. — Того и гляди, всадят нож между лопаток. В переулке красных фонарей и то безопаснее».
Вспомнив освещенные витрины, в которых сидели «говорящие хризантемы» всех цветов кожи, Жаламбе крепче сжал горячую рукоятку пистолета. Там, среди шатавшихся по злачным местечкам сенегальцев, марокканцев и пьяных легионеров, он мог бы чувствовать себя в безопасности. Не то что в этой канаве, где в каждой щели мерещатся свирепые, суженные нестерпимой ненавистью глаза.
— С чем пришли, Господин Второе Бюро? — встретил его вопросом японец.
— Пока обрадовать нечем, — развел руками Жаламбе. — Но есть основания полагать…
— Это я уже слышал от вас в прошлый раз, — грубо перебил японец, продолжая приветливо улыбаться. — Когда же вы наконец перестанете пить и начнете работать?
Жаламбе молча проглотил обиду. Возразить по существу ему было нечего, а оскорбления его не задевали.
— Как мои красные? — Уэда акцентировал слово «мои». — Что вам удалось из них вытянуть?
— Мы работаем с ними, — излишне бодро заявил Жаламбе. — Они от нас не уйдут.
— Это не работа! — ударив кулаком по столу, вскочил Уэда. — Я слушаю вас, господин Жаламбе, — сказал он, садясь на место. — Продолжайте.
— Не исключено, что девчонка действительно ничего не знает. Она производит впечатление форменной дикарки. Кусается и воет. Но парень! — не спрашивая разрешения, Жаламбе закурил. — Нам удалось установить его личность. Это некто Нго Конг Дык, мелкий служащий «Сентраль электрик». Мы его давно разыскивали.
— Теперь он у вас. И что же?
— Не все сразу, — сказал Жаламбе, деликатно отгоняя дым в сторону. — Впрямую расколоть не удалось, поищем другие возможности… Он сейчас в тюремном лазарете. — Он старался не смотреть на японца. — Пусть немного передохнет.
— Я принимал вас за контрразведчика, господин Жаламбе, — пренебрежительно процедил Уэда. — А вы просто заштатный chasseuer.[17] Я отказываюсь с вами работать… Интересно, в новой Франции найдется хоть парочка профессионалов или все остались в немецкой зоне? Придется проконсультироваться с господином послом Сотомацу.
— Зачем же так ставить вопрос? — Жаламбе притворился глубоко обиженным. — Неужели вам не приходилось иметь дело с крепкими орешками? Быть того не может.
— Приходилось, — признал Уэда. — И хотя средний процент таких людей не очень велик, всегда есть вероятность нарваться. Огорчительно, что наша совместная работа началась именно с такого неприятного случая. Может быть, вы просто неудачник, господин Жаламбе? Если так, то мы не сработаемся. Невезение заразительно.
Жаламбе сидел с опущенной головой, как проштрафившийся школяр, и растирал пальцами сигаретный пепел.
— Скажите, господин Жаламбе, — вкрадчиво осведомился Уэда. — За что вас ударили по физиономии в баре отеля «Катина»?
— Вы уже знаете? — дернулся, как от электрического разряда, Жаламбе. — Впрочем, что же тут удивительного. — Он осуждающе поцокал языком. — Просто безобразная пьяная драка, господин Уэда. Вы, японцы, победители, и вам не понять психологии побежденных.
— Са-а,[18] — озадаченно кивнул Уэда. — Любопытная точка зрения. Но почему господин Фюмроль именно вас посчитал ответственным за уступку тайской стороне?
— Вероятно, потому, что ему было проще дать по морде мне, а не генерал-губернатору. Наконец, я оказался ближе. Можно сказать, подвернулся под руку. Очень просто.
— Вы, оказывается, циник, господин Жаламбе. Нехорошо. На вашем месте я бы почувствовал себя смертельно оскорбленным. Почему вы тут же не зарубили наглеца?
— Где уж мне, — ухмыльнулся Жаламбе. Он не мог понять, издевается над ним этот жирный прилизанный азиат или же говорит всерьез. — Фюмроль аристократ, наверное скрытый масон и все такое прочее… А я плебей, господин Уэда. Мои предки не дрались на дуэлях. У меня вообще нет предков. Если верить Дарвину, то я произошел непосредственно от обезьяны.
— Са-а, — повторил Уэда. — Парадоксально. — А что, — спросил он, круто меняя тему, — господин Фюмроль остался недоволен условиями перемирия?
— Вас это удивляет? Стоило нам впервые за двадцать лет одержать маленькую победу, как нас тут же принудили капитулировать. Тут хоть кто взвоет.
— Выходит, вы оправдываете господина Фюмроля?
— Оправдываю? Скорее я его просто понимаю, а понять — значит простить.
— У меня создалось впечатление, что он очень непоследовательный человек. Сам не знает, чего хочет. Он из тех, кто, полюбовавшись зацветающей вишней у ворот Курамон, приходит потом с топором, чтобы срубить эту вишню. Любя Японию, он ухитряется ненавидеть японцев. Боюсь, что он плохо кончит.
— Фюмроль интересует вас? — насторожился Жаламбе.
— Как вам сказать, — уклончиво качнул головой Уэда. — К партнеру всегда приглядываешься… Не провали вы дело с этими речными голубками, я бы, возможно, предоставил вам шанс расквитаться.
— Простите, господин Уэда, но я не совсем понимаю…
— Все крайне просто, господин Жаламбе. Человек вашей профессии мог бы понять с полуслова… Вас не очень удивит, если я признаюсь, что мы начали следить за господином Фюмролем с того самого момента, как он высадился в Хайфоне?
— Ах, вот в чем дело! — догадался Жаламбе и с живейшим интересом спросил: — И что же?
— Так вот, любезный, — Уэда снисходительно смерил собеседника взглядом. — Ваш пациент, которого вы зачем-то уложили на больничную койку, был частым гостем господина Фюмроля. Неоднократно замечен и сфотографирован. Это, собственно, и позволило нам выявить его контакты. Они весьма разнообразны. От вьетнамской эмиграции до большевистского подполья в Ханое. У меня есть подозрение, что этот хрупкий юноша был связным между интересующим нас лицом и господином Фюмролем. Видите, как мы много теряем из-за вашей нерасторопности? — с железной последовательностью он вернулся к началу разговора. — Пора взяться за ум.
— Постойте, постойте. — Жаламбе схватился за лоб. — Кажется, я начинаю кое-что понимать. — Он отрицательно покачал головой. — Вы попали в самую точку, но тем не менее вы ошибаетесь, сударь. Фюмроль тут ни при чем. Французский маркиз и немытые туземные коммунисты! Смешно. Тут дело другого рода. Этот самый Дык разыскивался нами в связи с саботажем на электростанции. Понимаете? Еще прежний губернатор обратил внимание на перебои в подаче энергии, которые совпадали по времени с разного рода мероприятиями властей. Вот такая штука. Фюмроль только жертва подобных забав. Простое сопоставление фактов позволяет легко вычислить искомое неизвестное. Это некто Тхуан, повар, перешедший к Фюмролю в наследство от Катру. И как это раньше не приходило мне в голову? — Он ударил себя по лбу. — Словно кто глаза занавесил!
— Надо брать, пока не ушел.
— Фюмроль в этот час может оказаться дома, — озабоченно вздохнул Жаламбе.
— Вы что же, боитесь его? — презрительно скривил губы Уэда.
— Не в том дело. Незачем показывать ему нашу кухню. Пропал повар — и все.
— Вероятно, вы правы, — вынужденно согласился Уэда. — Можете найти способ выманить его из норы?
— Раньше это не составило бы никакого труда, — Жаламбе принялся сосредоточенно обкусывать ногти. — Но теперь, когда отношения слегка осложнились… Вот если бы натравить на него губернатора! Предлог нужен. — Он нетерпеливо закружился на месте. — Железный предлог. Послушайте, Уэда, — спросил он с фамильярной деловитостью, — каковы будут условия мира с Таиландом?
— Зачем вам? — Полные губы Уэды сжались в ниточку.
— Мне на такие секреты, извините, плевать, а предлог нужен солидный. Что мне сказать Деку? Какие новости не терпят отлагательства?
— Япония поддержит притязания Таиланда? Это не секрет. Мир будет подписан в Токио? Новость, не заслуживающая особого интереса, — Уэда принялся размышлять вслух. — Скажите, что тайская армия начала новое наступление.
— Источник информации? — мгновенно отреагировал Жаламбе.
— Сошлитесь на меня. Утром я принесу его превосходительству извинения за ошибку.
— Тогда я бегу! Пока выберешься из этой чертовой дыры, сколько времени потеряешь…
— Погодите, — задержал его Уэда. — Выйдем вместе. У меня поблизости спрятан автомобиль.
— Отлично! Подбросите меня до моей лавки.
— Нет. Сначала вы пошлете людей к господину Фюмролю и позвоните генерал-губернатору. Как только майор уедет, пусть без промедления входят в дом. Если мы с вами чуточку и опоздаем, то не беда. Главное, чтоб птичка не упорхнула.
— Как, вы тоже желаете?..
— Не хочу, чтобы вы наделали глупостей с самого начала. Новый шанс едва ли скоро представится.
Мадам Деку ожидала Фюмроля на верхней ступеньке лестницы. На ней было смело открытое платье из лазоревого шифона и обворожительная эгретка, отделанная перьями белой цапли.
— Как это мило с вашей стороны, — она протянула руку для поцелуя. — Я очень рада, что Жан наконец вытащил вас.
— Чудесная вещь! — похвалил эгретку Фюмроль. — Местная?
— Ах, эта… — с деланным безразличием она прикоснулась к перьям. — Жан купил ее на Борнео, когда гостил у губернатора Саравака… Не выпить ли нам по чашечке кофе?
Они проследовали в столовую, где все осталось в том же виде, что и при прежнем хозяине. Даже выражение значимой сосредоточенности, промелькнувшее на лице Деку, когда он включал приемник, напомнило Фюмролю Катру.
— Вещи переживают людей, — усмехнулся Фюмроль, но тут же спохватился и, обращаясь к хозяйке, галантно заметил: — Поэтому мне так нравятся эти прелестные перья. Уж они-то не смогут пережить вас, сударыня.
Генерал-губернатор сдержанно улыбнулся, а ее превосходительство погрозила Фюмролю пальчиком:
— Что за мрачные мысли, маркиз?
— К сожалению, у нас нет оснований для веселья, — заметил Деку, — но об этом после.
И хотя радио ревело во всю мощь и вокруг стола сновали только вышколенные лакеи-французы, он не начинал делового разговора. Кофе пили в полном молчании, если не считать неизбежных вопросов: «Cafe au lait?», «Cafe-creme?», «Citron?».[19]
Томясь от скуки, Фюмроль выстраивал кусочки сахара в столбик и выжидал, когда его размоет ограниченный золотым ободком чашки кофейный океан. Он пытался представить себе, как исчезали в темном водовороте мраморные капители Атлантиды. Если чайная церемония уподобляла пузырьки тающей пены бренному существованию человека, то что мешало предаваться размышлениям «дзэн» за кофе? Вольнодумец маркиз не находил особой разницы.
Наконец пытка кончилась, и мужчины могли уединиться в кабинете.
— Плохие новости, — отрывисто молвил Деку. — Тайская армия перешла в наступление. Пибул Сонграм требует компенсации за потопленные суда. Вот уж никогда бы не подумал, что буддисты так агрессивны.
— Япония наверняка вновь предложит свое посредничество. Насколько я знаю, они хотят, чтобы соглашение было подписано в Токио.
— Но пока суд да дело, таи слопают еще кусок.
— Откуда сведения?
— Из японских источников.
— Возможно, это провокация. Попробуйте срочно связаться с Луанг Пробангом. У меня создалось впечатление, что тайские министры более чем удовлетворены достигнутым.
— А если нет?
— Тогда отдайте приказ флоту атаковать.
— Вы с ума сошли! Японцы сразу же вцепятся нам в горло.
— Если бы вы не поспешили умиротворить Бакшон и Кохинкину, ваше превосходительство, у нас были бы козыри для контригры. Теперь они в сносе.
— Политика — не карточная игра, майор, — наставительно заметил Деку. — У нас не было другого выхода. Красные в Бакшоне убивали наших администраторов, нападали на военные лагеря, грабили обозы, жгли долговые расписки. Это был форменный разбой.
— Разгул черни всегда отвратителен, — кивнул Фюмроль. — И навести порядок, безусловно, следовало. Возможно, предпринятые меры и оказались излишне крутыми, но в таком деле всегда неизбежны издержки. Тут у меня с вами нет разногласий. Я о другом, мой адмирал. Почему мы допустили, чтобы вьетнамцы восстали главным образом против нас? Лучше бы они со всей силой обрушились на японцев. Нам следовало бы вести себя тоньше. Отчего бы не пообещать коммунистам кое-какие уступки? Пусть они увидят разницу между нами и японским гестапо. Если нам, конечно, удастся доказать, что такое различие есть, они пойдут на союз. Пусть вынужденный, пусть временный, но союз, который позволит нам противостоять самурайскому шантажу. Вы же видели, как повели себя японцы, когда сделалось жарко. Пусть они, а не мы боятся восстания.
— Я внимательно выслушал вас, — заложив руки за спину, Деку прошелся по кабинету. — У меня возникло ощущение, что вы неправильно ориентируетесь в расстановке сил. Следует исходить из того, что Япония — наш партнер, а не из обратного, как поступаете вы. Другого не дано. С коммунистами немыслимо вступать в любые отношения, — он остановился перед портретом Петэна. — Есть вещи, в которых необходимо проявлять неукоснительную принципиальность. Так учит нас маршал. Забудьте политиканские компромиссы печальных времен Народного фронта. Отныне и вовеки — коммунисты враги цивилизации. В переговорах с японской стороной прошу исходить из этого основополагающего принципа.
— Прошу простить меня, ваше превосходительство, — Фюмроль встал, — но я полагал, что вы призвали меня для консультаций. Очевидно, я ошибся.
— Сидите. — Деку властно указал на кресло. — Вы действительно ошиблись, но ошиблись по неведению, ибо не информированы о закулисных сторонах проблемы. Да, мы сурово подавили мятеж в Бакшоне, но нашими жертвами стали в основном темные крестьяне. Коммунисты сумели сохранить свои вооруженные отряды. Они отвели их в недоступные горы, в пещеры. Они ждут своего часа. А события в Кохинхине? Нам удалось перехватить документы, в которых был указан срок восстания. Только поэтому мятеж удалось подавить в зародыше. Вы изволили наградить господина Жаламбе пощечиной, а он в тот день арестовал многих коммунистических главарей. — В его голосе прозвучали мягкие нотки. — Не сердитесь, Фюмроль, но я желаю вам добра. Вы все еще живете политическим багажом тридцать шестого года, а времена изменились, и очень существенно. Ваше сердце разрывается между безумцами, которые последовали за авантюристом де Голлем, и патриотами, не оставившими родину в ее трудный час. Пора определиться. По своему рождению, воспитанию и образу мыслей вы наш. Так переболейте же поскорее детской болезнью фрондерства, или не миновать беды.
Тхуана окатили водой и вновь поставили перед столом, за которым сидел Жаламбе. В снопе света, бившем из рефлектора, четко различалась каждая оспина, каждая морщинка на искалеченном побоями лице. Разбитые губы безотчетно складывались в неизменную улыбку.
— Тяо бак, — поздоровался по-вьетнамски Жаламбе.
— Тяо ань, — приветливо прохрипел Тхуан.
— Comment уа va?[20] — спросил Жаламбе, исчерпав свой вьетнамский лексикон.
— Pas bien[21].
— Сами виноваты, — окончательно перешел на французский Жаламбе. — Разве можно быть таким упрямым? — пожурил он. — Ну да ладно. Хет.[22] Скажите, кому принадлежат эти вещи, и вас отвезут домой.
Тхуан молча опустил голову.
— Может быть, вам трудно разглядеть из-за света? — Жаламбе направил рефлектор на салфетку, на которой лежали две перекальные лампы, штатив и примитивная отмычка. — Теперь лучше?
— Спросите его о чем-нибудь другом, — Уэда подал голос из темного угла. — А то как доходит дело до этих злосчастных предметов, на беднягу нападает столбняк. Мы же знаем, что это не его причиндалы.
— Конечно, не его, — подхватил Жаламбе. — И отпечатки пальцев на них чужие. Это чужое? — Он утвердительно кивнул, подсказывая арестованному ответ.
— Нет.
— А чье?
— Не знаю.
— Но мы нашли отмычку и лампы у вас в сундучке… Вы знаете этого человека? — Жаламбе наклонился над столом и приблизил к глазам Тхуана фотографическую карточку. — Он спрятал у вас свои вещи?
— Нет.
— А этого? — Жаламбе быстро схватил другой снимок. — Этого молодого человека? Его зовут Нго Конг Дык, и он сознался, что частенько вас навещал. Как видите, мы всё знаем, и запираться больше бессмысленно.
Тхуан облизал саднящие губы.
— Только одно слово, и вы свободны. — Жаламбе наклонился, словно боялся не расслышать. — Да или нет?
Повар не ответил.
— Вам действительно чертовски не везет, господин Жаламбе, — сочувственно прокомментировал Уэда. — Третий случай.
— Гастон! — потеряв терпение, рявкнул Жаламбе. В комнату на цыпочках вбежал низенький лысый человечек с близко посаженными глазами. Массируя костяшки пальцев, он выжидательно уставился на Жаламбе.
— Придется повторить, Гастон.
— Постойте, — вмешался Уэда. — Мы только даром теряем время. Пора испробовать более эффективные методы. Пусть с него снимут одежду.
Жаламбе кивнул. Тхуан безучастно, как манекен, дал себя раздеть.
— Привяжите к скамье, — велел Уэда. По знаку Жаламбе Гастон кликнул еще одного жандарма, и они вдвоем бросили арестованного на пол. Затем перевернули ножками вверх тяжелую скамью из эбенового дерева.
— За руки и за ноги, — уточнил японец и бросил моток провода. — Теперь бензин, — со значением произнес он, когда все было сделано. — Будете говорить? В последний раз спрашиваю.
Лежащий ничком Тхуан лишь прохрипел невнятно.
— Что он сказал? — не понял Уэда.
— Ничего, — покачал головой Жаламбе, знавший манеру повара. — Это он так дышит.
— Тогда начинайте, — махнул рукой Уэда.
Но начинать жандармам не пришлось, потому что он сам отвинтил крышку канистры и обмакнул в бензин свой платок. Наклонившись над узником, бережно положил платок ему на поясницу. Когда чиркнула спичка, Жаламбе невольно зажмурился. Но тотчас же широко раскрыл глаза и крепко вцепился в подлокотники кресла. Вопль, в котором уже не было ничего человеческого, хлестнул его как бичом. Тошнотворно запахло паленым. Уэда неторопливо загасил пламя каблуком, топча распластанное внизу тело, которое конвульсивно корчилось и билось, пронзительно светлое на черном фоне доски. Крик оборвался и перешел в пугающе сиплое бульканье. Узник, вытянувшись в струну, неестественно вывернул голову и вдруг зашелся в пароксизме кашля, заливая лавку и пол хлынувшей изо рта кровью.
— Что это? Вон там? — запинаясь прошептал Жаламбе, не сводя глаз с жуткого кровяного сгустка.
— Кажется, он откусил себе язык, — безмятежно разъяснил Уэда. — Досадно.
Глава 14
Древние вьетнамцы считали себя прямыми потомками богатыря Хунта, рожденного от небожительницы и дракона, охраняющего мир. У последнего из Хунгов, восемнадцатого государя Хунт Выонг, подросла красавица дочь, к которой посватались горный дух Шон Тинь и дух вод Тхюи Тинь. Не зная, кому отдать предпочтение, государь пообещал руку прекрасной Ми Ныонг тому, кто первый успеет поднести свадебные подарки. Горный дух вышел победителем. Он привел во дворец слона с девятью бивнями, коня с девятью гривами и бойцового петуха с девятью шпорами и забрал принцессу в королевство лесов и гор. Пришедший вторым дух вод швырнул вдогонку победителю яростную всесокрушающую волну. Это был первый тайфун, прокатившийся над Вьетнамом. Но несокрушимой осталась твердыня каменных стен. И ветер стих, и схлынули воды с полей, где в поте лица своего человек выращивал рис, чтобы накормить детей и животных. С тех пор каждый год в памятный день свадьбы Ми Ныонг и Шон Тиня море обрушивается на вьетнамское побережье, а горные леса секут бесконечные проливные дожди. И каждый год неистовое противоборство стихий завершается торжеством повелителя гор и лесов. На смену сезону муссонов неизменно приходит сухой сезон.
Да и может ли быть иначе, если великий дракон — прародитель Хунгов — зорко стоит на страже гармонии мира. От Ханоя, который долго назывался Тханглонгом — городом Взлетающего дракона, он летит на могучих крыльях к югу, где Кыулонг — Девять драконов Меконга — вливаются в океан. Заканчивается мирный дозор в Халонге — в лазоревом заливе Опускающегося дракона, среди тысячи яшмовых островов.
Только нет мира над Долгим хребтом вот уже две тысячи лет. А мощи первого Хунта покоятся в дэне, куда каждую весну со всей страны устремляются толпы паломников. Проснись, могучий государь!
Покинув Пагоду Благоуханий, Танг перебрался в провинцию Виньфук, расположенную к северо-западу от Ханоя. Убежище он нашел в пещере на горе близ города Вьетчи. Престарелый священнослужитель Тхить Тьен Тяу предложил ему поселиться в заброшенной тюа, примыкавшей к обширному комплексу дэнов — поминальных храмов государей Хунт, приютившихся под сенью горного леса. Но Танг предпочел остаться в сыром известковом гроте, куда вела незаметная тропка, круто огибавшая замшелые скалы, нависшие над темным ущельем. Внизу в непроглядных зарослях бамбука бежал ручей, через который был перекинут деревянный мостик, вверху рос колючий можжевельник.
— Люблю слушать шум бамбука ночью, — объяснил свое решение Танг, бродя с отцом Тяу по заросшим травой дворикам, где среди развалившихся надгробий зеленели каменные бассейны для лотосов. Их давно затянула ряска. Узорную решетку оконных кругов опутала густая липкая паутина, в которой покачивались на ветру большие мохнатые пауки. Смертью и запустением веяло в стенах древнего дэна, где в глубоком колодце хранился прах легендарного Хунга — первочеловека и короля.
— В своем «Слове о живописи» Ван Гай рекомендовал писать бамбук на закате у хижины, где есть цветы и молодые побеги бамбука, — благосклонно кивнул Тяу. — Глядя на такой бамбук, каждый услышит его шелест, почувствует, что тут живет отшельник. Ветер пробегает, бамбук шелестит под луной. Вы избрали праведный и благой путь просветленности.
— «На ветру, в ясную погоду, под дождем, в росе — бамбук каждый раз имеет разное положение, — Танг процитировал слова другого великого живописца. Ли Каня, — и каждое заключает особую идею и закономерность».
— В последних лучах солнца бамбук, растущий в ущелье, окрашен прозрачным отсветом рубина, — заметил отец Тяу, тонко давая понять Тангу, что многое знает о нем. — Надеюсь, что, созерцая внешнее, вы сумеете познать внутреннее и обретете удовлетворение. Если вас не испугали ни сырость, ни наползающие в пещеру светящиеся тысяченожки, то к чему пустые слова?.. Едим мы за общим столом на восходе и в полдень, как везде.
Через три дня нового отшельника, поселившегося за Яшмовым камнем, навестил молодой человек с пучком волос на затылке. Видимо, он вступил в известную своими прояпонскими симпатиями секту «Хоа-хао» совсем недавно, потому что косичка едва отросла.
— Я получил вашу записку, учитель, — почтительно поздоровался он.
— Садись, — Танг указал на циновку и отодвинул карбидный фонарь. — Это еще что за маскарад? — удивился он, когда гость повернулся боком.
— Все правильно, учитель. Я нанялся на плантацию опийного мака, принадлежащего секте. Прикрытие не хуже любого. Притом совсем близко, на реке Ло.
— Здесь, допустим, такое сойдет. А в Ханое? Только навлечешь на себя пристальное внимание контрразведки.
— Я слышал, французы теперь сотрудничают с японцами.
— Сотрудничают они против нас, а друг с другом грызутся пуще прежнего. Всех японских агентов Жаламбе берет на учет. Одним словом, придумай себе другую прическу.
— Будет поручение?
— Ты не ошибся, Кыонг, — голос Танга едва заметно дрогнул. — И очень опасное.
— Я готов, учитель.
— Ты знаешь о наших потерях, Кыонг?
— Нгуен Ван Кы брошен в сайгонскую тюрьму, Нго Конг Дык и Мынь — на Пулокондор.
— Так, — кивнул Танг и тихо добавил: — Фан Данг Лыу тоже в тюрьме, Тхуан замучен жандармами, Хоанг Тхи Кхюе отправили в публичный дом для японской солдатни. Мне трудно посылать тебя на задание, которое сопряжено с большим риском. Я надеялся выполнить его сам, но по моим следам идут ищейки. Мне нельзя показываться в Ханое.
— Понятно, учитель. Что нужно сделать?
— Избежать колючек соя и не напороться на шипы ганга. Ты знаешь, как арестовали Дыка и Хоанг Тхи Кхюе? Как выследили Мынь?
— Я должен встретиться с этим французом?
— И как можно скорее. Но помни, яйцо лежит на краешке стола. Мне легче отрубить себе руку, чем послать туда нового человека. Ты особенно дорог мне. Но именно поэтому я выбрал тебя, Кыонг, лучшего моего ученика… Теперь слушай меня внимательно. — Танг поборол волнение и заговорил с суховатой четкостью: — Всех, кто работал с Фюмролем, рано или поздно взяли. В любом случае за ним пристально наблюдают. Только жизненно необходимые для нас сведения могут оправдать принесенные жертвы. Восстания на севере и на юге, как ты знаешь, были жестоко подавлены. Но не будь их, страна оказалась бы под двойной оккупацией. В ходе борьбы нам удалось создать боеспособные отряды, накопить драгоценный опыт народовластия. Может пройти десять и двадцать лет, но крестьяне не забудут, что мы, коммунисты, отдали им землю реакционных помещиков, справедливо поделили рис. Одним словом, события не застали нас врасплох, и этим мы во многом обязаны сведениям, которые приносили Студент, Дык, Мынь и товарищ Тхуан. Не исключено, что мы имеем дело с тонкой игрой французской контрразведки, которая, помимо основной задачи подавления освободительного движения, пытается ослабить натиск японцев. Это подозрение усиливается и странной непоследовательностью Фюмроля. Я не запугиваю и не пытаюсь отговорить. Я лишь знакомлю тебя с обстановкой. Собираясь оседлать дикого слона, изучи его нрав. Идя на риск, необходимо осознать степень риска. Данные, которые мы получали от Фюмроля, он подсовывал нам почти открыто. Причем это зачастую делалось ошарашивающе неуклюже. Теперь ты знаешь все. Товарищи, которые передавали сведения, повторяю, арестованы.
— В чем заключается мое задание?
— Занять их место. Ценность получаемой информации — кстати, она всегда была абсолютно надежной — оправдывает любой риск. Ценой одной жизни мы спасаем сотни, тысячи… Как видишь, я ничего от тебя не скрываю. Вывод делай сам.
— У меня возникло одно сомнение, учитель. Не в обычае контрразведки снабжать подпольщиков достоверными сведениями. Пойти на такое они могли только под давлением крайних обстоятельств.
— Не исключено, что так и есть.
— Вряд ли, учитель. Они бы не стали тогда арестовывать всех подряд. Мне кажется, что тут, не сговариваясь, в тайне друг от друга, работают сразу две руки: одна зачем-то подкармливает жертв, другая хватает их с алчной всеядностью акулы.
— Молодец, Кыонг. Твоя оценка совпадает с моей. Как видишь, я не случайно остановился на тебе. Мне и радостно и очень больно.
— Не беспокойтесь, учитель. Я попытаюсь избежать всех и всяческих колючек. Надеюсь, что смогу разобраться в загадке.
— На это не нацеливайся. У тебя просто не будет времени. Если за Фюмролем следят, что почти несомненно, тебя довольно быстро схватят.
— Неужели такой высокопоставленный чиновник не более чем подсадная утка?
— Не забывай, что его охраняют и охрана теперь настороже. Она и может оказаться той самой акулой, что бросается на любую добычу.
— В таком случае другая рука — сам Фюмроль… Что же ему нужно от нас? Чего он хочет?
— Вот мы и подошли к главному, Кыонг. — Танг плотнее закутался в одеяло. — Холодновато… Тебе ни в коем случае не следует являться к нему домой. Подстереги его на улице, когда он будет один, в баре, на берегу Западного озера, куда он приезжает иногда по утрам полюбоваться туманом. Скажешь ему, что тебя послал Тхуан.
— Тхуан? — удивился Кыонг. — Но ведь он…
— Да, ты скажешь, что в предвидении ареста Тхуан просил тебя заменить его.
— В должности повара? Но я совсем не знаю французской кухни!
— В роли связного. Ты назовешь себя вьетнамским патриотом и предложишь Фюмролю работать с нами.
— Едва ли он согласится.
— Неизвестно. Мынь и Дыка он вызывал на контакт. Выслушай его условия, если, конечно, они будут. Действовать придется самостоятельно. Никаких явок не даю. Сюда не возвращайся. После выполнения задания проберешься к нашим в Каобанг. Я уже буду там.
— Много времени потеряем.
— Иначе нельзя. Можешь привести хвост. Если Фюмроль согласится на тех или иных условиях помогать нам, сразу же дай знать. Тайник, где оставить письмо, я назову потом.
— А если не согласится?
— Поступай по обстановке. Но только не ставь никаких условий, не угрожай ему. Выскажи свои предложения и жди ответа. Потом решишь, как поступить.
— Он может потребовать немедленных гарантий.
— Едва ли. Он умный человек и поймет, что тебе нужно будет запросить инструкции.
— Какие доказательства я смогу, в случае необходимости, представить? Вдруг он примет меня за провокатора?
— Резонный вопрос. — Танг задумался.
— Нет никаких доказательств, — прервал молчание Кыонг.
— Пожалуй, что так, — согласился Танг. — Вот и скажи ему об этом. И еще скажи, что знаешь про каждую бумажку, которую он оставлял на столе, про Мынь и про Дыка.
— Полиция тоже может про это знать.
— Пусть он сам судит о твоей искренности.
— Я должен быть искренним?
— Предельно искренним. Не называя имен и явок, можешь ответить на все его вопросы. Они последуют, не сомневайся, иначе зачем ему было допытываться у Дыка и Мынь.
— С пистолетом в руке?
— Попробуй встать на его место, Кыонг. Он ведь тоже рискует.
— Еще бы! Оттого меня и волнуют доказательства.
— Твоим паролем будет готовность убить и умереть самому. Других доказательств, как ты сам сказал, нет. Дай ему заглянуть к себе в душу.
— Он фап.[23] Я знаю о том, как помогали нам французские коммунисты. Но он не из таких. Едва ли он захочет понять нас.
— Что ж, тем хуже для него… И все же мне почему-то кажется, что он сам ищет связей. Не обязательно с нами, но все-таки ищет! Обстановка в мире нынче очень сложная, Кыонг. Я бы не стал делить людей только на коммунистов и некоммунистов. Ты же сам знаешь, что одни французы сражаются с фашизмом, другие — служат ему. Тхуан считал, что его хозяин не одобрял политику Виши. Здоровый ложится вдоль, усталый — поперек. У нас нет другого выбора — нам необходим этот француз. Но будь начеку. Не крути усы у спящего тигра — тигр проснется, останешься без головы. И не забудь срезать косичку. — Танг бережно провел рукой по волосам Кыонга. — Я верю в твою звезду, мальчик. Старый бамбук дает молодые побеги. Они должны жить сто лет.
Глава 15
Как завидишь на веточках конга пепельно-красные листья, спеши посеять рис на рассаду. Трижды пылает лихорадочным румянцем конг в круговороте года. Когда он в первый раз загорится, в предгорьях сеют ранний рис мо, затем — зе, а в третий, последний раз — лим, который уберут только в десятом месяце. Сама природа указывает крестьянину наилучшее время посева и жатвы. Но темен и смутен язык природы. Только зоркому глазу, способному найти синих птичек в синей листве горного леса, откроется тайное действо, где каждому цветку и каждой твари отведено особое место, назначен строжайший срок. В одиннадцатом месяце рвут листья тяма, из которого варят индиго. Когда зацветает фать, наступает черед бобов. Только чуткое ухо, могущее различить в свисте тайфуна рокот спелых кокосов, внемлет грозному ликующему гулу, в котором слиты от века первый крик и последний бессильный протест.
Как отличить мертвое от живого, если горы рождают лес, а дождь плодотворит стонущую землю? Исполнятся сроки древних пророчеств, и «горы, далекие от моря, станут морем, удаленным от суши». Но пока горы твердо стоят на своих местах, и леса, карабкающиеся по склонам, приноравливаются к закону вершин. В долинах, наполненных жарким туманом, они подступают к подножью свирепым напором джунглей. Травяные непролазные дебри, в которых слоны незаметны, словно мыши, сменяются вечнозелеными дубами, лианы и бамбук дубрав — замшелыми соснами тунг.
Крутыми витками льнет к склону тропа, приближаясь к вершине. Исчезают сосны, и только одинокая часовня белеет над темной облачной пеленой да жесткий стелющийся кустарник недобро шуршит под лаосским ветром, сжигающим лепестки. Зато какие манящие дали открываются с перевала! Округло изогнутые ступени рисовых полей окружают курчавую замшу холмов, строгие ряды чая, как набегающие волны, разбиваются в белой пене опийного мака. Лист, прогоняющий сон, и млечный сок, дарующий оцепенение смерти. Их рождает одна земля, млеющая в томительном зное, расцвеченная радугой солнечного тумана земля. Противоположный обрыв, опутанный вечным серпантином все той же дороги, ныряющей в пади и взлетающей под облака, тоже дрожит и сверкает за радужной пылью. Неподвижными выглядят сбегающие с него потоки, зеленой паутиной видятся тугие сплетения ползучей крапивы, узлы и петли хищных лиан. Не разглядеть сквозь дрожащую солнечную завесу дупла пещер — зеленая пряжа рвущихся к небу джунглей скрывает подземные лабиринты. В сезон дождей, который длится с апреля до сентября, и вовсе нельзя обнаружить пещеру.
Конг впервые украсился алыми листьями, когда Нгуен Ай Куок под именем «Старик Тхи» перешел границу, чтобы укрыться в горах Каобанга. Настала долгожданная минута. После бесконечных скитаний он поселился на родине в безымянной пещере поблизости от китайской границы. Стоя перед входом, он мог видеть лишь нагромождение выветренных скал, непроницаемую стену джунглей и блеск струи, бегущей в глубокой промоине. Даже небо над головой было срезано зубчатой стеной. Но это было родное небо.
Он знал, что свобода никогда не приходит сама. Был сделан всего лишь шаг на долгой дороге борьбы. Впереди ждали испытания и тяжелые потери. Но это был не простой шаг. Нгуен Ай Куок всем существом ощутил историческую своевременность этого шага. За ним стоял глубокий анализ международной политики, точная оценка современного положения страны, ее нелегкий многовековой опыт.
Маленькая пещера в уезде Хакуанг стала первым центром грядущего освобождения. Для Нгуен Ай Куока она значила нечто гораздо большее, нежели простое укрытие в горах, где он мог спокойно работать. Отсюда должен был начаться великий освободительный поход.
Нгуен Ай Куок работал почти круглые сутки. Утром он спускался в долину, устраивался на плоском камне и принимался за перевод. Вторую половину дня посвящал подготовке к Восьмому пленуму Центрального Комитета, писал письма, беседовал со связными, по тайным тропам пробиравшимися в Северные горы, делал выписки из зарубежных газет. И только ночью, когда в джунглях, дышащих запахом весенних цветов, начинали перекликаться звонкие птицы ты куи, садился за стихи. Слишком полна была душа хмельным ощущением родины, слишком нетерпеливо стучало сердце. При свете коптилки спешил он излить свой восторг, обостренное ощущение силы и радости жизни. Но классически строгая форма стихотворения, предназначенная для выражения отвлеченной философской идеи, сопротивлялась яростному натиску чувства. Нгуен Ай Куок кропотливо отделывал стих, убирая все лишнее. Оставалось главное: основная идея и глубочайшая вера в ее торжество.
Перед ним действительно раскрывались неоглядные просторы, хотя горизонт его был сужен и срезан ближайшей горой. Полной грудью вдыхал он влажный ветер отчизны, вновь и вновь открывая для себя забытые радости жизни. Ощущение дерзкого счастья помогало ему работать, и очень жаль было тратить время на сон. Он вставал до рассвета с предчувствием праздника.
Работая над переводом, Нгуен Ай Куок подсознательно продолжал размышлять о насущных делах и ближайших задачах. Невольно сопоставлял сегодняшний день с тем неумирающим прошлым, которое всегда помогало ему найти наилучшее решение. Порой сопоставления казались обнаженно ясными: зажатая кольцом белогвардейщины и интервентов Россия и освобожденный район, который он мыслил создать на Севере. Но чаще, отказываясь от прямых аналогий, он останавливался на методе, на генеральной идее, которая служила путеводной звездой. Если после первой мировой войны было создано первое в мире социалистическое государство, то и эта война неизбежно закончится победой революции в разных странах. Поэтому его партия должна возглавить общенациональную борьбу за освобождение, привлечь на свою сторону как можно больше революционных сил, сплотить воедино разные слои народа. Не узкое сектантство, а лишь широкий диалектический подход мог обещать победу. Поднять на борьбу весь народ может только идея спасения родины. Ныне, в условиях японской оккупации, партия должна официально провозгласить создание Лиги борьбы за независимость. И возглавить ее!
Чем больше самых разнородных слоев населения объединяет Лига, тем последовательнее должна осуществляться руководящая роль партии. Диалектика подсказывала точную тактическую формулировку. Только на такой основе можно привлечь к борьбе самые разнородные элементы. На данном этапе каждый штык, каждая пара вьетнамских рук должны принять участие в свержении двойного гнета. Не следует отвергать помощь даже националистически настроенных помещиков. Лозунг «Земля тем, кто ее обрабатывает» должен поэтому проводиться постепенно, дифференцирование. В первую очередь крестьянам нужно отдать земли колонизаторов и предателей. Сейчас, как никогда, дело национального освобождения превыше всего.
Пусть же в каждом сердце неумолчно зазвучит священный призыв родины, пусть каждого вьетнамца вдохновит героизм предков.
Демократическая Республика Вьетнам — вот главный лозунг! Подготовительная работа по созданию Вьетминя[24] была начата партией задолго до официального провозглашения Лиги. Перед началом войны в китайских провинциях Гуанси и Юаньнань работала большая группа вьетнамских коммунистов. В их числе были руководящие деятели партии Фунт Ти Киен, Фам Ван Донг, Во Нгуен Зиап, By Ань. Приехав в Куньмин из Яньани, представитель Коминтерна Нгуен Ай Куок выдвинул идею создания массовой организации, которая не только по существу, но и по названию являлась бы общенациональной.
Вскоре коммунисты перенесли центр своей деятельности в район, непосредственно граничащий с Вьетнамом. В небольшом городке Цзинси, отстоящем от границы всего на сто километров, произошло важное событие, ускользнувшее, однако, от недреманного ока китайской контрразведки. Штаб-квартира вьетнамских эмигрантов, чья антияпонская деятельность всячески поощрялась гоминьданом, перешла к коммунистам и превратилась в организационный центр Вьетминя. За городом начали действовать ускоренные курсы агитаторов для работы на родине. Первая группа выпускников — их было всего сорок — к началу нового года уже вела тайную агитацию среди населения Каобанга. Неудивительно, что именно в этом районе решено было провести очередной партийный пленум. В щедрый желтозем Каобанга были брошены первые зерна грядущей государственности. Родная земля бережно укрыла их до срока, чтобы потом каждое зерно проросло колосом.
Когда Восьмой пленум начал работу, в Лиге спасения родины в Каобанге насчитывалось почти две тысячи человек: брошенные зерна дали побеги.
Танг, пробравшийся на пленум в Северные горы вместе с представителем партийной организаций Тонкина, увидел легендарного Нгуен Ай Куока уже на митинге.
— Объединение! — Нгуен Ай Куок, заканчивая выступление, выбросил вперед крепкую тонкую руку. — Поднимайтесь, соотечественники, по всей стране! Сплачивайтесь, объединяйте силы для свержения захватчиков! Несколько столетий тому назад, когда над нашей страной нависла страшная опасность — вторглись с севера армии иноземных захватчиков, императоров Юаньской династии, старейшие люди страны, собранные на сход государем, страстно призывали своих детей подняться на борьбу с врагом. Народ был спасен от страданий и ограбления. Добрая слава наших предков живет в веках. Вы должны последовать их славному примеру. Общими усилиями свергнем господство японцев, французов и их лакеев. Спасем наш народ от гибели. Время настало, оно зовет нас на бой!
Танга он принял в тот же вечер в своей пещере. Пригласил подсесть поближе к костру, чтоб не заели комары, и предложил накидку, сплетенную из листьев сыти.
— С непривычки можно замерзнуть. — Его изможденное, но энергичное лицо не покидала добродушная улыбка. — От камней веет могильным холодом. Но, как говорится, если беден, то раскидывай умом. Холод заставляет меня раньше просыпаться. Иду к ручью, на работу.
— Я привык, — коротко ответил Танг. — Скоро год, как ючусь по пещерам. Сегодня здесь, завтра там…
— И где же ваша последняя квартира? — с живостью поинтересовался Нгуен Ай Куок. — В какую нору вас загнали?
— В дом государя Хунта.
— Не так плохо. — Нгуен Ай Куок, казалось, обрадовался. — Мне самому приходилось ходить в монашеской тоге, и уверяю, что это не самое тяжелое испытание для революционера, товарищ Танг.
— Совершенно с вами согласен, — ответил мимолетной улыбкой Танг. — Только теперь я скорее отшельник, нежели монах.
— Тоже полезно! Чудеса вы уже творить научились. Мне приятно лично выразить вам свое восхищение. Материалы, которые вам удавалось получать, сыграли важную роль. Товарищу Чыонг Тиню, мы избрали его генеральным секретарем, не пришлось жаловаться на отсутствие информации в самый тяжелый для нашей родины час. Еще раз спасибо.
— К сожалению, мы скоро можем потерять главный источник сведений. По всей вероятности, миссию связи предполагается преобразовать в генеральный комиссариат по франко-японским отношениям. Очевидно, туда направят новых людей.
— Постарайтесь заблаговременно приспособиться к новым условиям. События не должны застать нас врасплох. Тем более что приходится считаться с реальной угрозой японской оккупации. Пленум дал глубокий анализ причин и хода развития войны. Наша победа будет во многом зависеть не только от событий в индокитайском районе, но и на других материках. Война на Тихом океане почти неизбежна, а немецкие фашисты готовятся напасть на Советский Союз. Это будет стоить человечеству неисчислимых жертв, но в конечном счете ускорит гибель империалистических и фашистских группировок. Приходится пристально следить за развитием мировых событий и, в частности, сопоставлять их с полученной от вас информацией. Так что постарайтесь.
— Постараемся, товарищ Ай Куок.
— В своей работе вы тоже должны шире смотреть на отдельные явления. Вне связи с мировой политикой трудно правильно оценить глубину франко-японских противоречий и последствия сговора между Токио и Виши. Но не это определяет стратегию партии. Наша революция является неразрывной частью мировой революции. Судьба народов Индокитая тесно связана с судьбой Советского Союза. Мы не одиноки в своей борьбе.
— Я передам ваши слова товарищам, — сказал Танг. — Они окрылят их так, как окрылили меня.
Пройдет чуть более месяца, и он мысленно возвратится к этому разговору, припомнит каждое слово Ай Куока о вьетнамской революции, Советском Союзе и о войне.
Из дальнейшей беседы Танг заключил, что донесений, которые должен был доставить на север Кыонг, партийный штаб не получал. Выходило, что опытный и закаленный подпольщик не сумел пробраться в назначенное место. Тангу было трудно в это поверить. Конечно, связного могли перехватить в пути или выследить еще в Ханое, когда он шел на встречу с французом. Но Танг скорее склонялся к тому, что Фюмроль-то и передал Кыонга в руки полиции. Затосковало сердце. Танг видел, какое значение придавало партийное руководство документам из миссии связи, и понимал, что поступил правильно. Но мысль о судьбе любимого ученика не давала ему покоя.
Глава 16
По представлению премьера Коноэ его величество тэнно пожаловал профессору Киотского университета Тахэю орден Благословенного сокровища второй степени. Доктрина двойного протектората была принята. Даже в генеральном штабе поняли, что эксперимент блестяще оправдался. Отныне Япония могла воздействовать на колониальную администрацию Индокитая, не прибегая к военным демонстрациям.
Прежде чем предъявить Деку новое требование, Коноэ, по совету Тахэя, приказал в спешном порядке покончить с таиландским конфликтом.
Переговоры открылись в Токио под председательством японского министра иностранных дел. Несмотря на упорное сопротивление французской дипломатии, Пибул Сонграм добился для своей страны значительных уступок. Под давлением высокого посредника Виши уступило Таиланду свыше семидесяти тысяч квадратных километров индокитайской территории. В награду за столь выгодный договор Таиланд обязался обеспечить Японии выход к границе с Малайей. Японский посол в Бангкоке господин Цубогами предложил на рассмотрение Пибула Сонграма секретный план, разработанный отрядом № 82 на Формозе. В четвертом пункте плана выражалась надежда, что тайская армия передаст в распоряжение союзной японской армии пятнадцать тысяч комплектов военного обмундирования.
— No problem,[25] — заверил посла премьер-англоман.
— Прошу, ваше превосходительство, назначить время и место передачи, — заявил посол. — Мы бы предпочли военный аэродром, потому что предполагаем направить в ваше распоряжение офицера связи и необходимое количество транспортных самолетов.
О том, что роль офицера связи поручена хорошо известному в Таиланде Арите, посол предпочел умолчать.
Пибул Сонграм прекрасно понял, что четвертый пункт является ключевым, и поспешил согласиться.
— У королевского правительства это не встретит возражений, господин посол. Но мне кажется, что превосходный японский план станет еще превосходнее, если между нашими странами будет существовать формальное состояние войны, которое фактически лишь укрепит традиционную дружбу.
Дальнейшее проведение столь оригинального плана в жизнь было временно приостановлено событиями первостепенной важности. В ночь на 22 июня Германия без объявления войны напала на СССР. Первые дни военных действий были отмечены быстрым продвижением немецких армий в глубь советской территории. Для Токио война не явилась неожиданностью. Еще раньше фюрер и рейхсканцлер Гитлер заранее сообщил японскому послу в Берлине точное время открытия военных действий на восточном фронте, потребовал от Японии разорвать недавно заключенный с СССР пакт о нейтралитете и выступить на Дальнем Востоке в назначенный час. Посол пообещал немедленно проконсультироваться со своим правительством. Коноэ порекомендовал воздерживаться от конкретных обязательств и выждать. Теперь, когда план «Барбаросса» стал очевидным фактом, в Токио приступили к пересмотру своей внешней политики.
Новый специальный посланник фюрера доктор Улах и посол Отт возобновили атаки на японское правительство. Из имперской канцелярии полетели в посольство в Токио шифровки с требованием усилить давление и любой ценой добиться от Японии обещания вступить в войну. На приеме в германском посольстве военный министр Тодзио дал понять, что в недалеком будущем следует ожидать важных решений. Все знали, что генерал является активным сторонником «Прыжка на север» и упорно домогается власти. Отт поспешил отправить в Берлин пространное донесение. Из неофициальных источников посольству стало известно, что вопрос о войне с Россией будет 2 июля решаться на высшем императорском совете. Японская контрразведка энергично пресекла попытки абвера узнать о предстоящем событии более подробно. Оставалось терпеливо ожидать известий из дворца. Для посла Отта они оказались неблагоприятными. Из-за разногласий между участниками совета решение было отложено.
Германское посольство направило спешную шифровку в имперскую канцелярию:
«В японской армии все еще помнят Халкин-Гол. В настоящее время Япония предпочитает воздержаться от нападения на Россию до более благоприятных времен; что же касается Англии и США, то вопрос, возможно, будет решен положительно: взоры Японии устремлены на Юго-Восточную Азию и на владения США и Англии на Тихом океане».
Отт обратился в канцелярию премьера и МИД с просьбой предоставить ему новую встречу с Коноэ. Принц выразил согласие на аудиенцию, не назвав, однако, точной даты. Это был вежливый отказ. Посол рейха мог вновь убедиться в том, что угрозы и требования особого успеха не приносят. На настойчивые телефонные звонки заведующий протокольным отделом отвечал извинениями и обещаниями. Премьер, по его словам, все еще очень занят.
Рабочий день принца действительно был расписан по минутам на неделю вперед. Все свое внимание он уделял теперь созданной по его инициативе «Дай ниппон кеа домэй» — организации Великояпонского союза развития Азии. Вырисовывались отличные перспективы, и было жаль тратить силы на бесплодные дискуссии с Тодзио, Анами и им подобными. Ради личной власти они готовы пойти на любую авантюру.
Чтобы развязать себе руки, Коноэ задумал провести новую реорганизацию правительства. Но прежде необходимо было четко определить позиции в отношении России. И не только определить, но и подробно аргументировать, чтобы с цифрами в руках отмести любое сумасбродное предложение на императорском совете. Премьер твердо намеревался выжидать решительного поворота в войне на Западе. Тем более что его азиатская политика уже приносила ощутимые плоды. Нет, он не повторит ошибки. Пусть Гитлер благодарит Японию за то, что Квантунская армия вынуждает русских держать за Уральским хребтом крупные военные силы. На большее Токио пока не пойдет. Нетерпеливый немецкий посол подождет. В эти напряженные дни Коноэ не мог даже выбрать минуты, чтобы созвать «группу завтрака». Только для профессора Тахэя и советника Одзаки кабинет премьера был открыт в любой день и час. С Тахэем принц работал над картами Юго-Восточной Азии, с Одзаки решал «русский вопрос».
— Война с Россией ничего нам не даст, — горячо убеждал Одзаки. — Кроме заснеженных просторов Сибири, освоить которые нашей экономике пока не под силу, мы ничего не получим. А она и так нам достанется, если Гитлер действительно возьмет Москву. И Приморье — тоже будет наше. Зачем же спешить? Зачем рисковать? Америка и Англия придут в восторг, если мы дадим втравить себя в эту войну. Они получат прекрасный шанс нанести удар на Тихом океане в тот самый момент, когда мы истощим последние нефтяные резервы. Кстати, ваше высочество, российские пространства и российский мороз сожрут все наше горючее. Едва ли нам удастся добиться значительных успехов до наступления зимы, — советник замолк, давая Коноэ время переварить мысль, и под конец высказал главное: — С азиатскими планами придется тогда распроститься. Видимо, надолго.
— Ваша аргументация производит впечатление, Одзаки-кун, — признал премьер. — Я доложу об этом на высочайшей аудиенции. Военные обычно оперируют числами дивизий, самолетов и танков. Однако успех войны решает прежде всего экономика. Тут вы целиком правы. Мы слишком зависим от внешних источников сырья.
— И поэтому не можем позволить себе затяжную войну. Страна обеспечена нефтью в лучшем случае на полгода. Даже если России придется сражаться на два фронта, ее военный потенциал одержит верх. Прежде чем начать такую войну, нам следует завладеть сырьевой и энергетической базой Китая. Наша экономика напряжена до предела. Только по военному займу государственный долг достиг двенадцати миллиардов иен.
— Достаточно, Одзаки-кун. — Коноэ окончательно укрепился в своем первоначальном мнении. — Думаю, на сегодня хватит. Посмотрим, какое впечатление произведет все это на некоторых членов кабинета. Вы знаете, о ком я думаю.
— Несомненно, принц. Надеюсь, что вы их раздавите своими доводами. — Одзаки отдал придворный поклон, но в последний момент не удержался от замечания: — Кстати, военные действия на западном фронте протекают не столь гладко, как заверяет нас господин Отт.
— Вы окончательно вошли в роль адвоката Советов, Одзаки-кун, — пошутил принц.
— Японии, ваше высочество.
Германскому послу было заявлено, что в настоящее время правительство Японии намерено придерживаться пакта о нейтралитете. Министр иностранных дел выразил сожаление, что его высочество премьер все еще не может принять господина посла для личной беседы, но обязательно сделает это в дальнейшем.
Высший военный совет, на котором в военном мундире, но без знаков различия присутствовал тэнно, рекомендовал генеральному штабу усилить давление на тихоокеанском театре.
Перед тем как передать соответствующие инструкции в МИД, Коноэ принял Мориту Тахэя.
— Вы уверены, что США и Великобритания не вмешаются? — спросил принц.
— Не знаю, — откровенно признался Тахэй. — Я разрабатывал только французский аспект индокитайской политики. Но мне кажется, они проглотят и эту пилюлю, если не выразит протеста Дарлан. А здесь я спокоен. Соглашение о совместной обороне — надежная правовая основа для взаимоотношений с Виши. Французам деваться некуда, мы их загнали в угол.
— Вашу миссию, Тахэй-кун, трудно переоценить, — польстил принц. — Пока вы в Ханое, я спокоен за Индокитай. Прошу вас не торопиться с возвращением. Дождитесь посла и помогите ему на первых порах. Это моя личная просьба.
— Вы оказываете мне высочайшую честь, ваше высочество.
Chargé d’affaires[26] французского Индокитая была вручена нота, в которой Япония заявила о своих претензиях на базы в Кохинхине и Камбодже. Аналогичный документ поступил и во французское посольство. Под ним стояла подпись Коноэ, скрепленная его личной печаткой. Пока Деку и Фюмроль ломали голову над ответом и запрашивали инструкций, министр Дарлан и японский посол Сотомацу подписали в Виши соглашение о совместной обороне, которое давало Японии право вести войска в Южный Индокитай. По настоянию Сотомацу количество войск в тексте специально не оговаривалось. В полное распоряжение японской армии передавались также аэродромы в Нячанге, Бьенхоа, Сайгоне, Сокчанге, Пномпене, Компонгчате, Сиемреапе, Дананге и морские порты Кохинхины.
Западные державы, как и ожидалось, предпочли не вмешиваться. В полном порядке и без единого выстрела на южном побережье высадилось пятьдесят тысяч японских солдат.
Жаламбе обедал в штабе экспедиционного корпуса на берегу Красной реки. Построенное еще в 1873 году, это угрюмое здание носило невинное наименование «Отель де ля Концессьон». Внутри оно и впрямь напоминало фешенебельную гостиницу: отделанная бамбуком и красным деревом бильярдная, библиотека с удобными креслами из кордовской кожи, превосходный ресторан, где повар-марселец готовил настоящий буай-бесс из четырнадцати сортов рыбы.
Дежурный офицер с повязкой на рукаве застал Жаламбе за десертом. Перед ним стояла недопитая бутылка «реми мартэн» и тарелка с оранжевыми, истекающими соком ломтиками папайи. Похоже было, что Господин Второе Бюро порядком на взводе.
— Вас там спрашивают, — доложил дежурный. — Какой-то туземец.
— Г-гоните прочь, — махнул рукой Жаламбе, едва не опрокинув рюмку. — П-пусть приходит з-завтра. В управление.
— Он предъявил карточку «элемент АБ».
— Ну, тогда другое дело. — Жаламбе взглянул на офицера помутневшими глазами и уронил голову. — Д-давайте его с-с-сюда. — Он раскрыл объятия, словно готовился принять в них агента, дежурного, весь мир.
— Это невозможно. — Офицер брезгливо отстранился. — Если хотите, я могу вызвать кого-нибудь из вашего заведения.
— Не надо. — Жаламбе усилием воли заставил себя собраться. — Пусть подождет у входа. Анри! — он попытался ударить кулаком по столу, но промахнулся. — Две чашки крепкого кофе, Анри. — Вы меня очень осуждаете? — обратился он к офицеру. — Не надо. Все равно это уже не наша армия и мы доживаем тут последние денечки. Пусть же нам будет весело, черт возьми!
Проглотив залпом чашку кофе, пошатываясь побрел к выходу. В туалетной он сунул голову под кран. Но это не принесло облегчения — вода оказалась слишком теплой. Оставалось прибегнуть к испытанному методу: сунуть два пальца в рот. Закончив неприятную процедуру, Жаламбе с отвращением допил кофе и вышел на белый свет. Раскаленная медь неба болезненно сверкнула в глаза.
— Это ты, Конг? — Жаламбе поморщился и, потирая темя, подошел к щуплому вьетнамцу в безукоризненно белом тропическом костюме. — Что там у тебя?
Агент с улыбкой приложил палец к губам.
— Ну ладно, садись в машину.
— Мне удалось нащупать штаб коммунистов, начальник, — выпалил Конг, когда они уединились в кабинете. — Уезд Хакуанг, провинция Каобанг. Где-то в горах, недалеко от границы. Там у них целый подпольный город. Обучают молодежь стрельбе, обращению со взрывчаткой. Даже газету свою издают. — Он достал сложенный вчетверо зеленый листок, на котором темнели неровные, плохо пропечатанные линии строк. «Вьет нам док лап» — «Независимый Вьетнам». Издает сам Нгуен Ай Куок!
— Он тоже там? — Жаламбе присвистнул. — Ничего себе! А ты молодец, Конг, — похвалил он, щупая газету, словно материю покупал. — Опять зеленая?
— Сами бумагу делают, — объяснил Конг. — Из бамбука. В джунглях.
— Давай теперь по порядку. Где большевистский связной?
— Его больше нет. Так получилось.
— Хорошо, рассказывай.
— После того как он подошел к майору в дэне Бронзового барабана на Западном озере, мы не спускали с него глаз.
— Об этом знаю. Дальше. — Хмель развеялся, и только красные с полопавшимися капиллярами белки напоминали, что Жаламбе совсем недавно был безнадежно пьян. — Майор передал ему бумаги?
— Передал. Своими глазами видел.
— И где они?
— Не знаю, начальник. Я потом обыскал труп. Ничего не было. Или успел спрятать за эти дни, или запомнил и уничтожил.
— Как он добирался.
— Через Бакзанг и Тхайнгуэн. Я проводил его до самого конца. Он-то и навел меня на штаб.
— Странно, что они послали на такое дело неопытного мальчишку. — Жаламбе бросил на агента недоверчивый взгляд. — Тебе не кажется?
— Мне просто повезло, начальник. В Тхайнгуэне у нас есть человек. Еще с тридцать пятого года. Связник пошел прямо к нему. Оттуда мы добирались уже вместе. Он принял меня за своего. Но держался замкнуто. Я понял, что игра пошла по-крупному, и не навязывался.
— Почему пришлось убрать?
— Опять встреча, начальник. На сей раз неожиданная. В Каобанге. Попался парень, который знал меня как АБ. Пришлось прикончить обоих. Другого выхода не было.
— Правильно сделал, Конг. Опять лесной отвар?
— Больше мне ничего и не нужно, начальник. Бамбуковая спица и зеленая мазь. Не успели и глазом моргнуть. Я обыскал обоих, но ничего не нашел. Оставаться в Каобанге было нельзя, идти дальше — рискованно. Я и так узнал слишком много. У них там большая конференция. Вся верхушка собралась: Ай Куок и остальные.
— Покажи где, — Жаламбе подвел его к крупномасштабной карте.
— Только уезд знаю. — Конг очертил небольшой кружок. — Где-то здесь. Если мы займем перевалы, — он ткнул пальцем в нужные точки, — здесь, здесь, здесь и перекроем выходы из долин — тут они окажутся в мышеловке. Медлить нельзя, начальник, поэтому я и решился прийти за вами в отель. Не мог ждать.
— Что же, Конг, орден Почетного легиона я тебе, конечно, не обещаю, но если мы их накроем, тебя ждет хорошая награда. Останешься доволен.
— Спасибо, начальник.
— Послушай, Конг, я давно хотел спросить, почему тебя так называют? В насмешку, что ли? Конг — это значит красный. Правильно?
— У нас одно слово может определять много разных понятий. Зависит от тональности произношения.
— И есть шестнадцать слов, обозначающих нечто одно, — усмехнулся Жаламбе — Лягушку, например, — он чмокнул кончики пальцев. — Знаю. Так почему все же ты Конг?
— Есть такой кустарник. Его листья краснеют несколько раз в году. Как и я, начальник.
Глава 17
С началом дождей в пещере Танга поселилось множество жаб. Влажно шлепая по отшлифованным подошвами безымянных отшельников камням, они вспрыгивали на циновку, завороженные скучным светом масляной лампы. Блестки отраженного пламени переливались в безумно вытаращенных глазах.
— Весело тут у тебя, ничего не скажешь, — поежился Лыонг, выбирая местечко посуше. — А комарье! — движением руки он попытался развеять заунывно гудящий столбик. — Почти как на Пулокондоре.
— Ничего. Рассказывай, Лыонг. Как там дела?
— Плохо. Они обложили нас со всех сторон и начали методично сжимать кольцо. Если бы не отряд Тю Ван Тана, нам пришлось бы плохо. В Нари они устроили засаду. Видно, надеялись разом захватить весь ЦК. Но мы прорвались. Хоть и дорогой ценой, но прорвались.
— А как он?
— Не беспокойся. Все руководство в безопасном месте. Центральный Комитет принял решение перевести основные вооруженные силы ближе к границе. В Тхайнгуэне оставлен только небольшой отряд Тана. Он уже ведет партизанскую войну. Если бы ты видел, что делалось в городе, когда люди узнали, что Гитлер напал на Советский Союз! На каждом дереве, в каждом окне появились красные флаги. Наши товарищи в тюрьме разрывали рубашки и окрашивали их собственной кровью. Пусть все видят, что и в тюрьмах продолжается борьба.
— Мировая революция и мировой фашизм. Нгуен Ай Куок предвидел решающую схватку… Большие потери?
— Очень, — Лыонг хмуро кивнул. — В отряде, который прикрывал наш отход, убито восемь бойцов, троих взяли жандармы. Теперь, как всегда, каратели отыграются на мирном населении. В Нафао, Динька и Ланзыа уже строят лагеря. Нарочно выбирают самые малярийные места вблизи болот и обносят их колючей проволокой. По всем деревьям развесили свои лозунги: «Трудолюбие, Семья, Родина», «Здоровье во имя служения Родине», «Государственная революция» и тому подобное. О какой родине идет речь? И что это за штука такая: «государственная революция»? Очередной фашистский бред. Ничего, теперь они узнают, что такое партизанская война. Мы не дадим им ни минуты покоя. Бюро ЦК считает, что партизаны должны сочетать боевые действия с широкой политической агитацией. В том числе и среди вражеских солдат. Пусть они знают, за кого и против кого воюют.
— Нам следует усилить борьбу с предателями.
— Об этом тоже шла речь. Пощады элементам АБ не будет. Не сомневайся, товарищ Танг, мы найдем гадину, которая привела жандармов.
— Я сразу подумал, что тут не обошлось без измены.
— Они стали грязно работать. Когда мы нашли тела убитых товарищей, то сразу приняли меры предосторожности, иначе каратели могли застать врасплох.
— Какие тела, Лыонг? — насторожился Танг. — О ком ты говоришь?
— Разве тебе ничего не известно? — удивился Лыонг. — Тогда приготовься услышать горькую весть. От руки предателя погибли твой Кыонг и еще один прекрасный парень, с которым мы вместе бежали с Пулокондора.
— Где это было? — стиснув зубы, спросил Танг.
— Все расскажу. — Лыонг сочувственно коснулся его руки. — Кыонг оставил документы. Из-за них я, собственно, и приехал сюда. В Тхайнгуэне он передал их товарищам из отряда Тана.
— Почему они не переправили дальше? Знали же, что я буду ждать в Каобанге? Нет, тут что-то не так! — Танг порывисто встал и, подойдя к лазу, зачерпнул пригоршню дождевой воды. Смочил глаза и лоб. — Очень все странно.
— Ты послушай, как было дело, — мягко подступил к нему Лыонг. — Нам было очень непросто распутать эту нить. Где ты назначил встречу Кыонгу?
— В Каобанге. Мы договорились, что я буду его ждать.
— Но он пришел первым? Так?
— Да, я опоздал. Не успел даже на пленум.
— Что-нибудь случилось?
— Обыкновенная малярия. Она свалила меня по дороге. Пришлось заползти в хижину сборщика каучука. Неделю простучал зубами.
— Понятно. — Лыонг сосредоточенно всматривался в черный провал, за которым изматывающе стучал дождь. — Дай мне самому сначала во всем разобраться, — он порывисто обернулся. — Я потом все объясню.
— Как хочешь, — безучастно откликнулся Танг. — Пока я валялся, Кыонг погиб. Теперь мне многое ясно.
— Ты не должен так думать! — запротестовал Лыонг. — Мы только люди, а потому с каждым из нас может случиться беда. Разве ты нажил малярию на курорте?
— Не имеет значения.
— Нет, имеет! — повысил голос Лыонг. — Но хватит об этом. Убитых мы не вернем, а отомстить за них обязаны. Я приехал, чтобы найти предателя, Танг, и ты должен помочь мне.
— Этот француз…
— Он не виновен, — уверенно сказал Лыонг.
— Откуда тебе знать об этом? — в голосе Танга проскользнуло раздражение. — Мы потеряли стольких людей. Видишь ли… — он хотел еще что-то добавить, но только махнул рукой.
— Фюмроль согласился помогать нам.
— Кыонг ничего об этом не написал.
— Зато он все рассказал в Тхайнгуэне.
— Тем более странно, почему он не оставил записку.
— А если не хотел засветить тайник? Если почувствовал за собой хвост? Вы же все равно должны были встретиться в Каобанге!
— Допустим. Но кто-то ведь выдал Кыонга?
— Только не Фюмроль. Я видел документы, которые он передал. Среди них была карта складов оружия и боеприпасов. Один из них находился как раз в Тхайнгуэне. Понимаешь теперь, почему Кыонг не стал ждать?
Танг кивнул.
— Он передал карту командиру отряда. На следующую ночь ребята Тана напали на склад. Они взяли ящик винтовок, сотню гранат, горные минометы и крупнокалиберный пулемет. Своей смертью Кыонг дважды спас всех нас.
— Я понимаю, — тихо сказал Танг.
— Как видишь, Кыонг принял единственно правильное решение. Для тебя он, на всякий случай, оставил записку.
— Где она?
— Бумага размокла, но я все помню. Он сообщал о Фюмроле, о карте, о том, что будет тебя ждать в условленном месте. Не надо себя терзать, Танг, твое опоздание ничего не изменило. За Кыонгом по пятам следовал враг.
— Кто?
— Пока неизвестно. Удалось установить, что в Каобанг Кыонг прибыл не один. С ним был еще какой-то человек. Кто он, как выглядит и каким путем вкрался к Кыонгу в доверие — мы не знаем. Не исключено, что именно он навел жандармов. В истории с засадой у Нари тоже много неясного.
— Почему ты думаешь, что предателя нужно искать здесь?
— Не здесь, в Ханое.
— Я это и имею в виду.
— Простая логика подсказывает, что Кыонга, прежде всего, могли взять на заметку именно там. Прежде чем навестить тебя, я попробовал понаблюдать за Фюмролем. К нему не подступиться. Накрыт частой сеткой. Его передают от одного к другому — наблюдение круглосуточное.
— Полагаешь, что такой человек, как Кыонг, мог этого не заметить?
— Я тоже задал себе такой вопрос. И нашел на него единственный ответ.
— Допустим, — кивнул Танг. — Слежка могла резко усилиться, когда тайная полиция поняла, что Фюмроль работает на нас. Тогда чего они ждут?
— Очевидно, собирают доказательства измены и заодно поджидают новую добычу. Теперь попытка контактировать — стопроцентный арест.
— Хорошо, что мы не разучились понимать друг друга с полуслова, — одобрил Танг.
— Так я и рассудил. Конечно же им нужны доказательства. Вот если бы они взяли Фюмроля на явке, да еще с картой, — он присвистнул, — тогда бы ему сразу пришел конец.
— Да, тут гильотиной пахнет. Надо бы ему помочь, Лыонг. Теперь я вижу, что он порядочный малый. И многое для нас сделал.
— Кыонг тоже просил об этом.
— Стоп! — Танг ударил кулаком по циновке. — Значит, Кыонг видел слежку?
— Нет, — устало покачал головой Лыонг. — Ничего он не видел. Фюмроль сам сказал ему, что хочет бежать из Индокитая.
— Странная просьба. — Танга все еще мучили подозрения. — Такой человек мог найти сотни способов. Тебе не кажется, что тут готовилась западня?
— Не торопись, дружище. Ты не даешь мне слова сказать… Фюмроль не один. С ним несколько летчиков. Они хотят бежать в Малайю или Сингапур.
— К де Голлю, значит, навострились. — Танг задумчиво устремил взгляд на огонек, покачивающийся в скорлупке с древесным маслом. — Трудно, конечно, загадывать далеко вперед, но хотел бы я знать, куда направят самолеты эти бравые парни после войны. Опять к нам?
— Вполне возможно. Но Фюмролю нужно помочь. Пользы от него теперь никакой.
— Вот я и думаю, брат Лыонг, как к нему подступиться…
— Раз так говоришь, значит, уж что-то надумал, — засмеялся Лыонг. — Я тебя знаю.
— Есть один план. Только придется идти на поклон к твоему тестю.
— К папаше Лиему? — помрачнел Лыонг. — Что же, старик не подведет. — Он замолк, собираясь с мыслями. — О Белом Нефрите никаких известий?
— Если бы я хоть что-то знал о твоей дочери, то не стал бы томить.
— Понимаю.
— А без Лиема нам не обойтись.
— Ну и прекрасно, — заставил себя улыбнуться Лыонг. — Буду рад повидать моего старика. Где он теперь?
— Мы достали ему баркас с мотором, — оживился Танг. — На таком не то что змей ловить, а до Филиппин добраться можно! Только похудел старик, стал как высохшая цикада… Плачет по девочке.
— Когда я смогу с ним увидеться? — Лыонг прикурил от фитилька сигарету.
— Завтра с утра и отправимся, — ответил Танг, прислушиваясь к шуму воды.
— Я смогу у тебя переночевать?
— Конечно.
Фюмроль не слишком удивился, когда застал у себя в саду Жаламбе. После сайгонского инцидента они, правда, старались пореже попадаться друг другу на глаза, но в последние дни наметилось определенное потепление. Инициативу проявил Господин Второе Бюро. В «Метрополе», куда по старой памяти Фюмроль заглядывал выпить рюмку-другую «касси», Жаламбе как-то подсел за его столик. «Хватит дуться, маркиз, — сказал он, протягивая руку. — Давай забудем нашу маленькую ссору. Мы оба тогда хватили через край». Фюмроль в ответ только плечами пожал, но Жаламбе, решив, видимо, что добрые отношения восстановлены, проявлял с тех пор подчеркнутое дружелюбие. Встречались они по-прежнему редко, но при встречах обменивались рукопожатием.
— Входи, — посторонился Фюмроль, толкнув дверь ногой.
— Может, на ветерке посидим? — Жаламбе с, жадностью вдохнул ночную свежесть. — Надо ловить минуты без дождя. Скорей бы проходили эти чертовы муссоны.
Они прошли в беседку, увитую вьющимися розами. Старая китаянка, которую Фюмроль взял почти что с улицы, включила свет и замерла в ожидании.
— Есть будешь? — спросил Фюмроль, рухнув в плетеное кресло.
Встав на колени, китаянка сняла с него ботинки и убежала в дом за горячими салфетками.
— Где ты отыскал это чучело? — поинтересовался Жаламбе. — Неужели не нашлось помоложе? Сказал бы мне, что ли…
— Есть будешь? — Фюмроль повторил вопрос. — Сиси, — поблагодарил он китаянку, с наслаждением вытирая лицо.
— Ты и по-китайски умеешь? — Жаламбе уважительно причмокнул. — Скажи своей крокодилице, чтоб принесла папайи. Я на ночь не ем.
— Так, чему обязан? — поинтересовался Фюмроль, поливая соком круглого лимончика роскошную ярко-оранжевую плоть папайи.
— Есть предложение, — не обращая внимания на сухой тон хозяина, Жаламбе разлил анисовую. — Тебе с водой?
— Какое? — все так же отчужденно спросил Фюмроль, внимательно следя за тем, как белеет в стакане пахучая жидкость.
— На той неделе лечу в Сайгон. Могу и тебя захватить.
— Встречать японцев? — криво улыбнулся Фюмроль и отрезал: — Нечего мне там делать.
— Ну и глупо! В Кохинхине сейчас настоящий рай. Елисейские поля, бар «Голубой бриллиант», — развалившись в кресле, Жаламбе принялся живописать прелести сайгонской жизни. — Свежайшие овощи из Далата, вот такие лобстеры! — он отмерил до локтя. — А уж «говорящие хризантемы», о-ла-ла! — закатил глаза к потолку. — Один раз увидеть и умереть. Я знаю прелестное местечко — «Дворец пятисот девушек» называется…
— Погоди, — властно пресек его излияния Фюмроль. — Ты за этим пришел?
— Не хочешь, не надо, — сплюнул Жаламбе. — Думал, тебя заинтересует, — он сделал обиженное лицо. — А зашел я без всякой задней мысли. Выпить по старой дружбе, поболтать. Мне противно, маркиз, когда всякая шваль болтает о наших с тобой отношениях. Пусть заткнутся, в конце концов. Мы работаем рука об руку, и у нас нет проблем.
— Положим, проблем у нас хватает. Да и работаем мы не вместе, а скорее друг против друга. Я не то чтобы этому радуюсь, просто такова жизнь.
— Интересно, — дернул щекой Жаламбе. — Лично я против тебя не играю.
— Лично! — усмехнулся Фюмроль. — Какие уж тут личности… Слыхал анекдот о дураке, который одновременно ставил и на красное и на черное?
— Считаешь, это про нас?
— Угу, — кивнул Фюмроль. — Каждый из нас радуется очередному выигрышу, а вся команда проигрывает.
— И команда эта, разумеется. Французская-республика? Идеалист маркиз героически пытается спасти для нее Индокитай, а какая-то сволочь из второго бюро портит ему всю игру. Браво! — Жаламбе поаплодировал. — Выходит, я продался японцам?
— Скажем лучше — капитулировал. И не ты один.
— Не надоело паясничать? Пора наконец взглянуть правде в лицо, милый майор. Вместо того, чтобы благодарить маршала…
— Позволь! — Фюмроль сделал отстраняющий жест. — Я ни слова не сказал про господина Петэна. Про новую Францию — тоже. Так что не надо меня провоцировать.
— Делать мне больше нечего. — Жаламбе залпом допил свой стакан. — Зато я, если позволишь, скажу. Да, мы должны благодарить маршала за то, что он вытащил нас из пекла. Пусть многое безвозвратно потеряно, но хоть что-то все-таки удалось сохранить. И даже не это главное. Франция больше не жалкая жертва, она теперь в лагере сильных — вот что важно!
— Ты случайно не Адольфа Шикльгрубера имеешь в виду? — Фюмроль вцепился в плетеные прутья и усилием воли поборол желание швырнуть бутылку в маячившую напротив потную физиономию. Но Жаламбе, казалось, доставляло удовольствие дразнить его.
— Почему бы и нет, маркиз? Ты только посмотри, где сейчас Гитлер! Он уже оттяпал изрядную часть России и рвется к Москве.
— И русские, я слышал, — Фюмроль прикрыл глаза и мертвенно улыбнулся, — объявили свою столицу открытым городом, а правительство перевезли на Черноморское побережье.
— Кто сказал тебе подобную чушь? — попался на крючок Жаламбе.
— Чушь? — подавив мгновенный порыв, Фюмроль сделался необыкновенно спокоен. — Просто я подумал, что они возьмут пример с нас. Однако нет. Эти варвары почему-то предпочитают стоять насмерть.
— А в итоге? Боши берут город за городом.
— Подождем пока подводить итог. — Фюмроль демонстративно поднялся. — Ты извини, но я хочу пораньше лечь.
— О, разумеется, — поспешно вскочил Жаламбе. — Если красным улыбнется фортуна, я не буду в претензии… Значит, не хочешь в Сайгон?
— Нет, — коротко бросил Фюмроль. — Увидимся. — У него создалось впечатление, что Жаламбе приходил пустить пробный шар. Неужели он в самом деле полагал, что Фюмроль захочет прокатиться с ним по злачным местам Сайгона? Едва ли. Не настолько он наивен. Но зачем-то он все-таки приходил? Фюмроль позвонил в колокольчик.
— Мадам Цинь, — спросил он служанку, — мною никто не интересовался?
— Никто, господин.
— Ну, а разносчики, посыльные, коммивояжеры? — Зайдя за ширмы, изображавшие муки ада, он переоделся в легкое кимоно. — Попробуйте вспомнить каждого, кто приходил к нам сегодня, вчера, позавчера. Вы с кем-нибудь разговаривали?
— Из стаба приезали сетку от гланат ставить.
— И что же?
— Сказала, господин не боится. Не надо, сказала.
— Правильно, мадам Цинь. Кто еще?
— Молочник, — она стала загибать пальцы, — плачка…
— И о чем же вы с ними беседовали?
— Ни о чем, господин. Как всегда.
— А меня интересует другое, не как всегда, мадам Цинь. Были необычные встречи, беседы?
— Слепой волшебник заходил.
— Здесь почти все волшебники слепые. Чего он хотел?
— Кусать, господин, но я не дала.
— И напрасно, мадам Цинь, накормить голодного — наша обязанность, особенно волшебника.
— Плостите, господин, — она упала на колени.
— Хорошо, мадам, хорошо, — Фюмроль нетерпеливо притопнул ногой. — Подымитесь! Я не сержусь. Кто еще, кроме волшебника?
— Телефонисты со станции. Вчела.
— Что? — оживился Фюмроль. — Это уже интересно! Зачем им понадобилась наша скромная обитель? Смелее, мадам Цинь! Я жду.
— Пловелить аппалат. Сказала, господин кабинет запилает. Нельзя.
— Молодчина! И что же они?
— Полутались, ушли.
— Благодарю за службу, мадам Цинь, — он протянул ей десятипиастровую ассигнацию. — Можете отдыхать, — и ловко убрал руку от поцелуя.
Итак, вчера телефонисты, сегодня Жаламбе. Связь могла быть и случайной, но поразмыслить над ней стоило. После встречи у дэна Бронзового барабана никто Фюмроля не беспокоил, и он уже начал нервничать. То, что Жаламбе вновь набивается в приятели, следовало расценить как настораживающий признак.
Фюмролю стало душно, и он распахнул кимоно. Мысль о том, что, передав карту, он, возможно, подписал свой смертный приговор, вновь обдала его тревожным жаром. Он потянулся налить себе немного анисовой, как что-то резко ударило за спиной и в дубовую панель, рядом с его, Фюмроля, чудовищной тенью, впилась тонкая стрелка. Он бросился на пол и шарахнулся в сторону от окна. Затаив дыхание, подполз к выключателю и погасил свет. Сомнений быть не могло: его хотели убить. Успокоившись, он подошел к стене и нащупал стрелу. Вырвать ее оказалось далеко не просто. Пробив стальную противомоскитную сетку окна, она крепко застряла в дереве.
В спальне Фюмроль тщательно осмотрел бамбуковый прутик с заостренным и слегка обожженным в огне концом. Стабилизатор, вырезанный из пальмового листа, был частично сорван. Обычная стрела от вьетнамского арбалета «но», с которым охотятся на некрупных зверей. Когда хотят убить наверняка, острие обмакивают в отвар ядовитой лианы. Заостренный конец выглядел совершенно сухим. Фюмроль, знавший уже тлетворно-смолистый горьковатый запашок яда, приблизил стрелу к носу. Она не была отравлена.
Нетерпеливо взволновалось сердце. Запахнув кимоно, Фюмроль твердым шагом прошел в кабинет. Зажег свет, включил настольную лампу и, повернув кресло к столу, выдвинул передний ящик. Среди бумаг и мелкой конторской дребедени нашел лупу.
«Хайфон. Левый берег реки Кам. Таверна «Золотая черепаха». Утро Бронзового барабана. Каждую неделю с 7 до 9. Проявляйте осторожность. Вас подозревают, за вами следят».
Фюмроль вынул зажигалку и сжег тончайший завиток, тщательно вклеенный в расщеп оперения. «С семи до девяти, — повторил он про себя. — Час тигра. Счастливый час».
Глава 18
Пятнистый бронетранспортер с трудом одолевал подъем. Шофер с нашивками солдата второго года службы включал перед поворотами первую передачу, и шестерни издавали надсадный рев. Сидевшие сзади Тахэй и Уэда невольно хватались за стальные скобы. Временами казалось, что окутанный душным облаком пыли, прокаленный на солнце гроб не удержится на такой крутизне. Но виток за витком машина упорно ползла в гору.
Тахэй свыкся с тяготами пути и легко переносил духоту, дребезжащую тряску и постоянную близость головокружительного обрыва. Пересаживаясь с военных самолетов в автомобили, он мотался по заводам, каучуковым плантациям и рудникам.
Уэда счел своим долгом сопровождать высокого представителя в столь ответственной инспекционной поездке. Помимо того, что шеф кэмпэтай лично отвечал за безопасность профессора, ему показалось полезным самому познакомиться с основными экономическими центрами страны.
«Все решает сырье, — не уставал убеждать его Морита Тахэй. — Аэродромы, военно-морские базы — это великолепно, но, к сожалению, слишком бренно. Самолеты сбивают, подводные лодки топят. Если мы не обеспечим себе расширенного воспроизводства вооружений, то нечего надеяться выстоять в затяжной войне. Миллион иен, вложенный в местную экономику, радует меня куда больше, чем еще одна дивизия, высаженная в Сайгоне или Дананге. Вы превосходно справляетесь со своими обязанностями, Уэда-сан. В перспективе они станут куда многограннее. Саботаж в промышленности должен заботить вас не менее, если не более, чем диверсии на военных объектах. Притом не столь важно, кому сегодня принадлежит фирма. Сегодня на ней может быть французская или вьетнамская вывеска, а завтра дело отойдет к нам».
Уэда почтительно слушал, поощряя собеседника благоговейными придыханиями: «хай». Широта интересов Мориты Тахэя производила сильное впечатление. Его знания казались всеобъемлющими, а память — феноменальной. Наблюдая за ним во время переговоров, Уэда не раз подмечал в глазах партнеров удивление. В каждой отрасли промышленности или агрокультуры Тахэй умел продемонстрировать высокий профессиональный уровень. Лишь в области политического сыска он казался настоящим младенцем. И это как-то примирило Уэду со щедрой одаренностью подопечного, позволяло в глубине души относиться к нему снисходительно.
За неделю они сумели посетить судоремонтные верфи «Бошон» в Сайгоне, плантации гевеи компании «Мишлэн» в Фужиенге, намдиньские шелкопрядильные фабрики и цинковый завод в Куангиете. И везде Тахэй ухитрился дать точные и, как показалось Уэде, важные для Японии инструкции.
— Третий и седьмой цеха следует переключить на производство парашютного шелка, — распорядился он в Намдине.
— В Сингапуре и на Пенанге к гевеям подсаживают перечную лиану. Тогда деревья меньше болеют, — посоветовал директору компании «Мишлэн».
Он знал, какие требования предъявляет к химическому составу цинка японская радиотехническая промышленность, сколько гектаров рисовых полей необходимо пустить под джут и какие соли требуется добавить в краску, чтобы предохранить корпуса судов от обрастания. Теперь же, когда бронированный автомобиль тащил их на угольные разработки Хонгая, Уэда внимал пространным рассуждениям на геологические темы.
— Хату — настоящее геологическое чудо! — восторгался Тахэй. — Угольный пласт залегает здесь по всему хребту, а антрацит добывают открытым способом, начиная с вершины.
С каждым новым поворотом они все выше возносились над овалом сверкающей бухты с ее тысячами причудливых скал, над дымящейся трясиной мангров, наступающих на море. По другую сторону хребта остались электростанция, причалы и краны порта, маленький поминальный храм с базарчиком под тентом.
Путь на Хату пролегал сквозь девственные джунгли. И только встречные грузовики и бамбуковые столбы, согнувшиеся под тяжестью энергокабеля, напоминали о присутствии человека. Под самыми колесами проносились вереницы обезьян, пестрые крикливые попугаи качались на тонких ветках.
У одноэтажного розового домика главной конторы японских гостей уже поджидал инженер-француз мсье Депре, заранее предупрежденный по телефону. Рассыпавшись в приветственных любезностях, он втиснулся в горячее, пахнувшее смазкой чрево транспортера и, сняв пробковый шлем, пустился в объяснения:
— Хату, господа, это как бы перевернутая шахта, где добытый уголь выдается не на-гора, а, напротив, стремительно летит с горы вниз, на погрузочный двор. Наша компания надеется в недалеком будущем полностью электрифицировать разработки и механизировать весь процесс добычи. Впрочем, кайло себя тоже оправдывает. Труд здесь дешев, и сотня-другая кули с корзинами за спиной вполне способна перетаскать суточную добычу. Близость порта еще более повышает рентабельность предприятия. Наш антрацит почти не содержит серы, и его очень охотно покупают другие страны. Англичане в Малайе, например, предпочитают брать наш уголь.
Тахэй слушал Депре с непроницаемым лицом, а Уэда изобразил заинтересованное внимание, хотя француз не сообщал ничего нового.
Высокогорные разработки производили сильное впечатление. Где-то на самом дне циклопической котловины затерялись банановые садики и хижины шахтеров, вдоль узкой ртутно блистающей змейки ручья высились холмы песка и щебня, серебристо-черные горы подготовленного к отправке антрацита. Маленький паровозик и вагонетки напоминали жучков. По сравнению со ступенчатым амфитеатром горной чаши все, что находилось внизу, выглядело кукольным, почти нереальным. Невольно приходила мысль, что в котловине спряталась от мира крохотная страна лилипутов, куда спускалась лестница из страны исполинов — двадцатиметровые уступы вели в иной мир, скрытый от глаз ослепительной жутью неба и зеленой чашей соседней вершины.
Даже дым и грохот взрывов, в которых рождались уходящие вниз ступени, не могли развеять эту высотную иллюзию.
Бронетранспортер остановился возле рабочего, всей тяжестью налегавшего на перфоратор. Вздувшиеся мышцы тряслись.
— Потом отверстие расширяют с помощью электрического сверла, — счел долгом пояснить Депре.
Тахэй понимающе кивнул и заглянул в готовый шурф. Уходящая в скальный грунт труба была осыпана по краям измельченной в муку породой. Невдалеке рванул динамит, и кусок скалы откололся, обнажая матовую поверхность угля: тяжелая пыль взметнулась по ветру. Когда облако улеглось, лица японцев сделались такими же мертвенно-серыми, как потные тела рабочих, кузова самосвалов и баки компрессоров.
— Прошу прощения, господа, — извинился француз. — Но вы сами просили показать вам весь процесс.
— Ничего, все в порядке, — сказал Тахэй, прочищая забитые каменной мукой ноздри и уши.
В свежую стену антрацита уже вгрызались раскаленные зубья экскаваторного ковша, оставляющие за собой длинные борозды.
— Хотите на верхнюю отметку? — запрокинул голову Депре.
— Нет, и так все ясно. — Тахэй облизал губы и выплюнул едкую густую слюну. Она была почти черной. — Производство ведется образцово. Но этого недостаточно, господин Депре. Вам придется по крайней мере удвоить добычу в течение ближайшего года.
— Это невозможно! — заикнулся было француз. — И так наши покупатели…
Но Тахэй остановил его властным жестом.
— Отныне весь уголь станем забирать мы. В том числе и предназначенный к отправке. Порту уже даны указания загружать углем только суда под японским флагом.
— Но, господин Тахэй! — Депре в отчаянии схватился за грудь. — Мы же понесем страшные убытки!
— Платите рабочим меньше, — порекомендовал Тахэй. — А спрашивайте с них больше. Рецепт простой, — он поучал инженера ровным бесцветным голосом, старательно произнося французские слова. — С нашей помощью вам предстоит ликвидировать диспропорцию между объемом добычи и проходки, провести дальнейшую геологическую разведку, наладить бесперебойный транспорт.
Гулкие такты отбойного молотка сменились пронзительным визгом бура. Говорить стало невозможно. Раскаленная пыль, как искры с точильного круга, врезались в кожу.
— И еще, — воспользовавшись минутной паузой, продолжал Тахэй. — Поощряйте рабочих в свободное время обзаводиться хозяйством. Пусть строятся, заготавливают в джунглях бамбук, сажают больше бананов, гороха, производят батат. Настанет день, и вы сможете выплачивать им лишь символическое вознаграждение. Они еще станут благодарить за то, что живут и кормят семьи на вашей земле.
— Это невозможно, — упавшим голосом, но уже почти механически повторил Депре.
— В иных обстоятельствах возможно. — Тахэй поставил ногу на ступеньку автомобиля. — Теперь, пожалуйста, поедем смотреть документацию. Прошу, — пригласил он француза и Уэду, не проронившего за все время ни слова. — Нам следует уточнить ближайшие планы реконструкции.
Взмокший инженер безропотно полез в кабину. Вечером того же дня Тахэй и Уэда вылетели с военного аэродрома в Хайфон. На очереди были цементный завод и горючее «Компани франко-азиатик де петроль».
— Отныне ни один литр бензина не должен продаваться без вашего ведома, Уэда-сан, — сел на своего любимого конька Тахэй, когда самолет набрал высоту. — Допускаю, что контрабанда коммунистических газет «Юманите» или «Пария» доставляла французам много хлопот. Недаром они расходовали на элементы АБ гораздо больше средств, чем на охрану хранилищ горючего. Результаты такой близорукой политики не замедлили сказаться. Не знаю, как обстоит дело с большевистской агитацией, это ваша компетенция, но цистерны горят по всей стране. Подобное положение нетерпимо. Потеря только одной тонны бензина наносит ущерб, несоизмеримый со всей подпольной деятельностью.
— Хай, — согласно выдохнул Уэда, втайне смеясь. Сверхчеловек опять рассуждал как ребенок. Что он мог знать о вьетнамском подполье! Диверсии на нефтехранилищах были только закономерным следствием. А начиналось все с тайных собраний, с листовок, отпечатанных на самодельной зеленой бумаге. Он благословлял небо, что за всю эту деятельность, как изволил выразиться Тахэй-сан, отвечал пока Жаламбе.
— Надо нажать на Деку. Пусть усилит охрану, — сказал Тахэй.
— Вновь и вновь убеждаешься в торжестве ваших планов, — польстил Уэда. — Очень удобно, когда есть с кого спросить. Французский правящий аппарат быстро приноравливается к нашим требованиям. В глубине души они должны нас ненавидеть.
— Скрежет зубов сушеной сардинки, — пренебрежительно отозвался профессор. — Лишь бы боялись. Когда генерал Мацумото пожаловался, что аэродром в Кампонгчате находится в неудовлетворительном состоянии, я тоже сказал ему: «Нажмите на французов». Результат налицо: ныне там превосходное покрытие.
— Хай. Мой случай посложнее, Тахэй-сан, — решил посоветоваться Уэда. — Мне бы надо нажать на китайцев.
— Китай, Уэда-сан, больная проблема для всех нас.
— Я в более узком плане, — объяснил Уэда. — Конечная победа доблестной Квантунской армии близка, но полиция не может ждать, на то она и полиция. Меня все больше беспокоят коммунистические базы у северной границы.
— Да, это достаточно серьезно, — в вопросах политики Тахэй чувствовал себя вполне уверенно и понял шефа кэмпэтай с полуслова. — Руководство гоминьдана видит во вьетнамской эмиграции действенную антияпонскую силу. Боюсь, китайцы плохо разбираются в истинной природе своих союзников. Большой человек не занимается маленькими детьми. Следовало бы ему раскрыть глаза. Хоть мы и воюем с китайцами, но я остаюсь о них высокого мнения. Если они узнают, что под их крылом приютились агенты Коминтерна, то быстро переменят позиции. В прозрачной воде, как известно, рыба не живет. Надо вывести Вьетминь на чистую воду.
— Я тоже склонялся к тому, чтобы нажать на сей раз на китайцев. Весь вопрос, через кого? Англичане связаны по рукам и ногам союзом с русскими. Американцы не станут помогать, потому что заинтересованы в смуте у нас в тылу. Французам, которые стали нашими союзниками, Китай просто-напросто не поверит. Кто же тогда остается?
— Немцы, — незамедлительно откликнулся Тахэй. — Они держали в штабе Чан Кай-ши военных советников и пустили там крепкие корни. Подкиньте материалы на вьетнамских большевиков гестапо, а там видно будет. Я так думаю, что тигр и дракон вместе не уживутся.
— Но нам они красных все равно не выдадут. Даже в лучшие времена англичане не отдали французам Ай Куока.
— Тем не менее он сидел в Гонконге за решеткой. Какая вам разница, кто будет стеречь красных: гоминьдановцы или сюртэ?
— Хай, — не нашелся что возразить Уэда. — Трудная, однако, задача.
— Жить вообще трудно. Это умереть легко.
Двухмоторный «ситэй», на котором они летели, уже касался колесами мокрой посадочной полосы, когда в каких-нибудь ста метрах впереди из темноты вынырнул новенький «амио» с трехцветными кругами на крыльях. Пилот «ситэя» рванул рычаги управления на себя и взмыл в воздух, едва избежав катастрофы.
— Золотые слова, — пробормотал Уэда, переводя дух.
Люк Гранжери, едва не врезавшийся в японский самолет, тыльной стороной ладони отер заливавший глаза пот.
— Это же надо, черт возьми, в самый последний момент! — Он выключил моторы.
Винты беззвучно вращались. Сквозь их волнистые круги виднелись огни вышки, несколько освещенных прожектором пальм и муравьиные фигурки людей, бегущих по полю. По фонарю кабины монотонно стучали капли.
— Да, чуть было не отправились на тот свет, — высунул голову Фюмроль, скорчившийся в ногах Клода Маре, сидевшего на месте стрелка-радиста. Японец описал над пальмами плавную дугу и пошел на второй заход.
— Разве этот аэродром тоже передали японцам? — удивился Люк, стаскивая с головы шлемофон.
— Как видишь, — угрюмо буркнул Клод. — Что теперь станем делать?
— А ничего страшного, — Люк беспечно свистнул. — Могли же мы ошибиться? Выйдем как ни в чем не бывало.
— Боюсь, они несколько удивятся, увидев, как из двухместной машины вывалится святая троица, — меланхолично возразил Фюмроль. — У тебя еще много горючего. Люк?
— Минут на двадцать.
— Что ж, придется упасть в море. Поднимай самолет!
— Я еще не до конца спятил, Валери. — Люк зубами вытянул из пачки сигарету. — Это почти верное самоубийство.
— А ты предпочитаешь военно-полевой суд?
— Хватит болтать! — рассвирепел Клод. — Немедленно в воздух!
Люк послушно включил зажигание.
— Кретины! — процедил он, выплевывая незажженную сигарету.
— По крайней мере, у нас будет время подумать, — примирительно заметил Фюмроль. — Японцы уже совсем рядом.
— Раньше надо было думать, — огрызнулся Люк, бросив машину в сторону моря. — Хотел бы я знать, на что вы надеялись, когда пустились на авантюру?
— Ты, как погляжу, сохранил благоразумие и остался дома, — мрачно пошутил Клод. — Я вот хотел бы знать, почему нас так напугали японцы. Или мы надеялись, что свои встретят нас с духовым оркестром?
— Смейтесь, смейтесь, — предупредил Люк. — Веселиться вам осталось семнадцать минут. Попробуй придумать что-нибудь путное, маркиз.
Но что можно было придумать? Люк сказал правду. Они в самом деле пустились на авантюру.
Лишь у одного из них — Фюмроля — выбора не было. Потеряв надежду избавиться от назойливого наблюдения, Фюмроль поехал в расположение третьей эскадрильи еще раз посоветоваться с друзьями. На их беду, был канун условного дня, а самолет Гранжери стоял под заправкой для ночного полета. Соблазн оказался слишком велик, и они решились. Даже скептически настроенный Люк поддался неожиданно нахлынувшему на них и такому упоительному безумию! Дьявольщина! Они были по-настоящему счастливы, когда оторвались тогда от земли. Как жаль, что все так быстро кончается. За миг ослепительного восторга приходится расплачиваться по самому большому счету.
— Конечно, мы поступили как дети, — ни к кому не обращаясь, произнес Фюмроль. — Но это было так заманчиво.
— Ты идиот, маркиз, — через силу улыбнулся Клод.
— Пятнадцать минут, — сказал Люк.
— Ничего, мальчики, — философски заметил Фюмроль. — Хуже смерти с нами уже ничего не случится. Сколько твоя авиетка сможет продержаться на плаву, Люк?
— Минуты четыре.
— Это уже кое-что, — Фюмроль был настроен явно оптимистически. — Ты сможешь мягко сесть на воду?
— Ночью? В тайфун? — Люк скептически покачал головой. — И главное, зачем?
— Дай карту, — Фюмроль требовательно дернул Клода за ногу. — И посвети мне фонариком.
— Двенадцать, — монотонно объявил Люк, взглянув на светящийся циферблат.
— Какой курс? — поинтересовался Фюмроль, склоняясь над планшетом. Размытый эллипс света, словно из небытия, вырывал контур береговой линии, разветвленную дельту своенравной реки Кам и бисерную россыпь островов. — Высота? — И, не дожидаясь ответа, отдал приказ: — Держи прямо на архипелаг Драконьего Жемчуга. — В его голосе звучал металл. — Набрать высоту!
Шанс на успех он оценивал как один из ста. Из прежних бесед с Жаламбе он вынес впечатление об островах Драконьего Жемчуга как о вольном уголке, где нашли приют люди самых отчаянных профессий: ловцы жемчуга, контрабандисты, торговцы наркотиками и даже пираты. Недаром туда заходили подозрительные малайские прао, джонки из Гонконга и Макао, поставлявшие живой товар для всевозможных леди-стрит Сингапура, Батавии, портов Южных морей. Там кишмя кишат шпионы, но официальные власти предпочитают держаться в тени. Оставалось надеяться на удачу и пистолет, а также на тридцать тысяч франков, которые Фюмроль, в предвидении подобного случая, постоянно держал при себе.
— Как говорят мои любимые японцы, — он залюбовался зодиакальным трепетным светом, озарившим над головой плексиглас, когда машина вынырнула из облаков, — умирая, теряешь все.
— По-моему, Клод не ошибся, — сказал Люк. — Ты действительно идиот, маркиз, но твои шуточки почему-то поднимают настроение.
— Постарайся дотянуть и не врезаться в рифы, — посоветовал Фюмроль. — Если заглохнет мотор, планируй, сколько хватит сил.
Глава 19
В сайгонском дэне Вечной памяти озабоченно обсуждали дурную примету: курица, взлетев на бронзового слона, подаренного сиамским монархом, пропела петухом.
Перед застекленным ящиком с фотографиями вьетнамских солдат, павших на полях сражений в первую мировую войну, поставили воду и горку цветов.
Японская оккупация почти не сказалась на внешнем облике города. Военные суда стояли далеко на рейде, а вновь прибывших солдат спешно распихивали по гарнизонам.
Французское командование освободило для союзников несколько зданий. За высокими, обнесенными колючей проволокой заборами взвились флаги с алым кружком. По торжественным дням новые хозяева исполняли «Камигаё» — свой государственный гимн. Все выглядело вполне благопристойно.
Бомбардировщики «гленн-мартен» стояли в ангарах. У накрытых чехлами истребителей «кюртисс» днем и ночью маячила охрана. Пилоты шепотом обсуждали дело аспиранта[27] Корде, приговоренного к двадцати годам каторги за попытку увести самолет. Выступая по французскому радио, Петэн жаловался:
— Я ощущаю скверный ветер, который дует из многих районов Франции. Беспокойство овладевает умами. В души вкрадывается сомнение. Авторитет правительства оспаривается. Приказы выполняются плохо. Настоящий недуг охватывает французский народ.
Военная жандармерия безуспешно доискивалась, кто пометил знаком лотарингского креста территории Свободной Франции на карте, висевшей в офицерской столовой.
Падало солнце в малярийную дымку реки Сайгон, по берегам которой гнили сваи сколоченных на скорую руку хижин. От жутких клонгов тянуло мозглой горечью, чадом подгоревшего масла и рыбным соусом. Жизнь шла своим чередом. По крайней мере, дневная жизнь. Зато ночи были непостижимы. Ни фонари бульваров, ни сияние реклам над козырьком кино «Капитоль», где шла «Девушка моей мечты», не могли противостоять их вкрадчивому обману. Наполненная угрозой ожидания тьма казалась еще непрогляднее вблизи освещенных окон, а подозрительный шорох явственно и неотвязно выплывал на просторы пустеющих площадей.
Рыдали скрипки в ночных кафе «Пагода» и «Адмирал», гремел хорал в кафедральном соборе, ухали барабаны в храме каодаистов, где в одном ряду с китайской Гуанинь и христианскими святыми застыли изваяния Наполеона и Виктора Гюго. Центр города чем-то напоминал карнавал в анатомическом театре. На всем лежал отпечаток надрывного фарса. Тщетным было стремление заглушить подступившую к горлу смертельную немоту.
В палатах больницы святого Грааля корчились умиравшие от ожогов матросы с нефтяного танкера, сгоревшего прямо в порту. В переполненной курильне на рю д’Ормэ хрипели слюной тонкие опийные трубки. Слуга, следивший за лампочками, на которых калили шарики наркотика, обнаружил, что один из клиентов — капитан марокканского полка — мертв. Под лопаткой у него торчал малайский крис.
— Assasinê,[28] — констатировал вызванный на место происшествия врач.
— C’est la guerre,[29] — пробормотал в ответ жандарм.
Одутловатый китаец, хозяин заведения, равнодушно накрыл мертвое тело грязной простыней.
Это и вправду была война, пришедшая без единого выстрела. Новый день приносил новые беды. Болезненно сжималось сердце при одной только мысли о будущем. Люди не желали даже слышать про завтра. Кресло перед столиком хироманта на рю Пастер часами пустовало. Казалось, что парням в пробковых шлемах и девушкам, пристроившимся на багажниках велосипедов, нет никакого дела до танков, стальными траками выворачивавших асфальт, и надсадно гудящих в воздухе аэропланов. Сплошной поток велосипедистов и рикш раздавался перед встречной машиной и вновь смыкался за ней, как вода. Непроницаема была глубь этой вечно спешащей волны. И та же скрытная темная влага мелькала в глазах чернозубых старух, коричневых курток[30], чистеньких серьезных студентов.
После отставки третьего правительства принца Фумимаро Коноэ власть окончательно и бесповоротно перешла в руки армии. Военный министр Тодзио, возглавивший кабинет, был известен как решительный сторонник немедленной войны с Америкой. В своем варианте плана «Прыжок на юг» он настаивал не только на захвате всей Юго-Восточной Азии, но даже Индии и Австралии.
Тодзио давно рвался к власти, не брезгуя никакими интригами и провокациями. По его приказу токко кэйсацу начала собирать компрометирующий материал на принца Коноэ, когда тот еще находился у власти. Совершенно случайно, в поле зрения полиции попал советник Одзаки. Когда выяснилась его причастность к иностранной разведке, шеф токко кэйсацу долго не решался доложить военному министру, что личный друг премьера и участник «группы завтрака» — иностранный шпион. Когда все же решился и, набравшись мужества, поехал на Итигайя в министерство, Тодзио встретил новость восторженно.
— Немедленно произведите аресты, — приказал он. — Разбираться будем потом.
Но мудрый полицейский все же решил подождать, пока Тодзио свалит Коноэ. Это событие произошло 18 октября 1941 года. На первых порах новый премьер оставил за собой военное министерство и вдобавок взял еще портфель министра иностранных дел. В тот же день был арестован советник Одзаки. А в министерстве на Итигайя принялись в пожарном порядке доводить запланированную операцию на Тихом океане. Война планировалась молниеносная и тотальная.
Индокитайскую доктрину Тахэя Тодзио лично перечеркнул черной тушью. Его устраивали только решительные меры, сулившие немедленный результат.
26 ноября японский посол адмирал Номура был приглашен в государственный департамент, где Кордэлл Хэлл вручил ему ноту с требованием вывести японские войска из Индокитая.
«Наше правительство считает сейчас необходимым заявить правительству Японии, что, если японское правительство предпримет сейчас какие-либо дальнейшие шаги в осуществлении политики или программы военного господства над соседними странами при помощи силы или угрозы силой. Правительство Соединенных Штатов будет вынуждено предпринять все возможные шаги, какие оно сочтет необходимыми для охраны законных прав и интересов Соединенных Штатов и американских граждан и для обеспечения безопасности Соединенных Штатов».
Безопасность, таким образом, была поставлена на второе место. Прежде всего речь шла о «правах и интересах». Американские товары проникли на вьетнамский рынок еще в тридцатые годы. США экспортировали в Индокитай хлопок, текстильные изделия, электрооборудование, сельскохозяйственную технику, горючее. Особую активность проявили «Стандард вакуум ойл», «Шелл» и «Тексас ойл». К началу войны в Европе годовой экспорт американских товаров достигал трех миллионов долларов, а импорт, состоявший почти целиком из каучука, превысил одиннадцать миллионов. К осени сорок первого года Америка располагала во Вьетнаме разветвленной и хорошо законспирированной агентурной сетью.
Номура сразу же понял, о чем прежде всего идет речь в заявлении американского правительства. Но изменить уже что-либо было не в его власти. «Нота Хэлла» — именно так суждено было ей войти в историю дипломатии — запоздала по меньшей мере на четыре месяца. Обе стороны понимали, что столкновение стало неизбежным. Американская военная разведка перехватила шифровку, адресованную в японское консульство в Гонолулу. Новый министр иностранных дел адмирал Тойда давал генеральному консулу Кито следующие инструкции:
«Отныне в сообщениях о судах надлежит иметь в виду следующее:
1. Акваторию Пирл-Харбор разделить на пять секторов. По секторам сообщать предельно кратко.
Сектор А — акватория между островом Форд и арсеналом.
Сектор В — акватория южнее и западнее острова Форд.
Сектор С — бухта Ист-Лox.
Сектор Д — бухта Мидцл-Лох.
Сектор Е — Вест-Лох и все проходы к нему.
2. Касательно линкоров, крейсеров и авианосцев сообщать только о тех, которые находятся в гавани. По возможности указать, какие из судов находятся у причала, какие на рейде, какие в доках, а также класс и тип. Обратить внимание на случаи, когда к причалу пришвартовывают больше двух кораблей».
Радиоперехвату не придали особого значения. Гавань Пирл-Харбор была превосходно защищена. Да и глубина в 30 футов не позволяла провести торпедную атаку. Для успешного торпедирования необходим был как минимум семидесятипятифутовый слой. Так полагали американские специалисты.
В японском морском генштабе утвердилось иное мнение. В бухте Кагосимо до деталей была воспроизведена обстановка Пирл-Харбора. Причем роль острова Форда успешно играл остров Сакурадзима. После того как самолеты, несущие торпеды, снабженные новыми стабилизаторами К-2, сделали несколько пробных атак, стало ясно, что глубина — не препятствие.
День рейда на Пирл-Харбор был назначен и получил условное обозначение Н. Нападение на Малайю планировалось на Н плюс один день.
Президент Рузвельт и Уинстон Черчилль встретились на борту линкора «Принц Уэльский» близ Ньюфаундленда. Английский премьер вновь поднял вопрос об ускорении военных поставок.
— Знаете, как определяет словарь Вэбстера неузаконенный брак? — неожиданно спросил он президента. И процитировал на память: — «Соглашение между мужчиной и женщиной о вступлении в брачные отношения без церковной или гражданской церемонии. Такое соглашение доказуемо письмами, заявлениями или поведением сторон. Во многих юридических институтах такой брак не признается». — Он выдержал эффектную паузу. — Наши отношения целиком подпадают под такую формулировку.
В штабе 25-й армии, расположенном в Сайгоне, заканчивались последние приготовления к операции АР (Малайя) и АХ (Таиланд). Генералу Ямасите оставалось лишь уточнить задачи, возложенные на разведку, приданные соединения и ударный отряд «висельников» из части № 82. Желая придать совещанию определенный символический смысл, командующий распорядился подать на обед в офицерской столовой холодный сакэ, рис, соевый суп, соленые огурцы и сушеные каштаны — полный набор, который положен японскому воину, идущему в сражение.
С молчаливым одобрением он наблюдал за тем, как подполковник Арита отставил в сторону свою чашечку. В кабинете генерала поставили два ряда столов, накрытых, как на высшем военном совете, крупноклетчатыми скатертями. Кресло самого Ямаситы водрузили у стены, слева от портрета тэнно, изображенного в мундире и каскетке с белыми перьями. По другую сторону от государя висела зашторенная карта. Точные копии ее были розданы всем участникам совещания.
Щеголеватый адъютант с витым аксельбантом услужливо раздвинул шторки и передал генералу сандаловую указку с ритуальным изображением кукиша, символизирующего мужскую силу. Коренастый, похожий на боксера среднего веса Ямасита, скрипя сапогами, подошел к карте, усеянной жирными овалами соединений и стрелами ударов.
— В составе двадцать пятой армии, — начал Ямасита сухим невыразительным голосом, — находятся императорская гвардейская дивизия под командованием генерал-лейтенанта Нисимуры, пятая пехотная дивизия генерал-лейтенанта Мацуи, дивизия «Хризантема» и пятьдесят шестая пехотная дивизия, составляющая оперативный резерв. — За весь доклад он ни разу не взглянул на карту. — Нам приданы следующие силы и средства: третья танковая бригада с восьмьюдесятью танками, сорок четыре скорострельные пушки, двадцать четыре горных орудия, два полка тяжелых полевых орудий с сорока восьмью гаубицами и шестнадцатью пушками калибра сто миллиметров, шестьдесят восемь тяжелых зенитных орудий, девять саперных рот, четыре роты связи, восемь отделений радистов, четыре полка железнодорожников, два специальных штурмовых батальона, шесть рот мостов и понтонов, четыреста пятьдесят девять самолетов войсковой и сто пятьдесят самолетов военно-морской авиации. С моря нас поддержат крейсер, десять миноносцев и пять подлодок. План операции вкратце таков, — отбросив указку, генерал остановился возле стола, за которым сидели старший офицер оперативного отдела капитан первого ранга Куросимо, капитан-лейтенант Такабэ — командир лодки-малютки специального назначения — и Арита. — Главные силы под прикрытием с моря и воздуха в ноль часов тридцать минут высаживаются в районе Сингоры и Паттани и захватывают переправы через Перак. Наступление наращивается за счет непрерывного десантирования. Форсировав реку, наши части устремляются в направлении Джохор-Бару и Джохорского пролива. Конечная цель — овладение Сингапуром. Группировка, высадившаяся на восточном побережье у Кота-Бару, тоже устремляется к югу. Так, господа, выглядит общий замысел.
План Ямаситы основывался на тесном, выверенном до минут взаимодействии ударных отрядов с наступающими соединениями. Предполагалось, что частям пятой дивизии, которая должна была захватить аэродромы Сингоры и Паттани, окажут поддержку специальные войска, одетые в таиландскую форму. Они должны были тайно высадиться на таиландском берегу задолго до дня Н и обеспечить все необходимое для штурма английских позиций у Алор-Стара и Бентонга; другому отряду, но в японской форме, поручалось помочь восемнадцатой дивизии («Хризантема») после десанта у Кота-Бару овладеть береговыми укреплениями.
Завершив операцию, атакующие дивизии соединятся в районе Джохора для броска на Сингапур. Резервные части сосредоточиваются в бухте Камран, под Кентоном и на Хайнане; пятая и восемнадцатая дивизии — на Хайнане. Погрузка на десантные суда Н минус три, высадка — в полночь после дня Н.
— За пятнадцать дней до Н мой штаб оставляет Сайгон и размещается на борту транспорта «Рюимару», — закончил Ямасита. — Мы высадимся вместе с боевыми порядками пятой дивизии у Сингоры. Вопросы, господа!
— На случай, если англичане уничтожат дамбу, нам потребуются дополнительные плавсредства, — сказал Куросимо, представлявший на совещании начальника Объединенного флота.
— Это задача возложена на господина подполковника, — Ямасита краем глаза взглянул на Ариту.
— В ходе малайской операции ударные отряды будут действовать вдоль побережья на каботажных судах, — доложил Арита. — Уверен, что мы сумеем захватить достаточное количество небольших лодок. Прошу обеспечить нам защиту от английского флота.
— Господин контр-адмирал? — Ямасита перевел взгляд за Кусаку.
— Мы можем выделить несколько торпедных катеров, — пообещал Рюносукэ Кусака.
— Я бы хотел еще две-три лодки-малютки, — попросил Арита. — Одну из них лично для меня.
— Правильное соображение, — одобрил Куросимо.
— Хорошо, подполковник, — согласился Кусака. — Мы дадим вам две субмарины.
— Три, адмирал, — Ямасита сделал пометку в блокноте. — Еще вопросы?
— Позвольте мне, господин главнокомандующий, — слова попросил директор информационного бюро Хироси Симомура, прилетевший утром из Токио.
— Внимание, господа, — Ямасита, известный тем, что никогда не улыбался, одарил высокого гостя благосклонным кивком. В Сайгоне уже было известно, что на последней аудиенции его величество уделил Симомуре, вместо положенных по этикету тридцати минут, целый час.
— В министерстве иностранных дел меня попросили вновь напомнить армии о важности таиландской операции. Ее следует провести с особой деликатностью. — Симомура бросил взгляд на сидящего напротив Ариту. — С военной стороны она задумана безупречно и сомнений не вызывает. Важно соблюсти политическую чистоту, господа. Наши друзья в Бангкоке весьма этим озабочены. Не прибегая к кровопролитию, нам следует создать впечатление, что Таиланд подвергся внезапному нападению и лишь под давлением оккупационных войск согласился удовлетворить наши требования. Мне хотелось бы знать, в каком состоянии находится ныне именно эта, наиболее тонкая часть плана АХ.
— Подполковник Арита? — Ямасита сделал вид, что сам в подобные мелочи не вникает. — Что там у вас? Надеюсь, все в порядке, как всегда?
— Мои люди уже несколько дней находятся в Таиланде, — доложил Арита, — и держат под контролем дороги к малайской границе. На них тайская униформа, а язык они держат на привязи.
— Я так и знал, что вы нас не подведете, — удовлетворенно констатировал Ямасита. — Все идет в соответствии с планом, господин Симомура. Два полка дивизии Коноэ уже оставили Сайгон и размещаются сейчас на исходном рубеже у таиландской границы. В ночь после Н им приказано вступить на сопредельную территорию и с максимальной быстротой пробиваться к Бангкоку. Соглашение, которое должен будет подписать под прицелом наших орудий Пибул Сонграм, лежит в кармане у майора Такеноути.
Несмотря на серьезность момента, Хироси Симомура рассмеялся.
— Меня всегда поражала быстрота и легкость, с которыми армия решает вопросы международной политики, — объяснил он свое поведение и поспешил уточнить: — Приятно поражала.
— Не вижу ничего удивительного, — холодно заметил Ямасита. — Просто точный расчет.
— Разумеется, господин главнокомандующий, собственно, это я и имел в виду.
— В таком случае совещание закончено, — Ямасита поднялся и грузно навис над столом. — Мне остается добавить лишь следующее. Для прикрытия транспортов все самолеты с индокитайских аэродромов будут подняты в воздух. Поэтому с сегодняшнего дня армейская авиация находится в состоянии повышенной готовности. Все свободны, господа. Подполковника Ариту прошу задержаться.
Глава 20
Джонка, в которой находился Фюмроль, уже приблизилась к малайскому берегу, когда налетел тайфун. Лесистые горы султаната Тренгану, окутанные облачной пеленой, вскоре совершенно скрылись из виду. На море, катившее длинные пенистые валы, опустилась сочащаяся влагой мгла.
После крушения у островов Драконьего Жемчуга, когда погибли Люк и Клод, Фюмроль не переносил качки. Как только джонку стало бросать из стороны в сторону, он лег на самое дно и попытался уснуть. Его словно втягивало в бездонную, бешено вращающуюся воронку из черного непрозрачного стекла. Под свист ветра и тяжелые удары волн ему грезились мертвые лица друзей и рваные дыры на обожженном дюрале, куда с ненасытным бульканьем проваливалась морская вода. Во тьме вспыхивали какие-то блестки, но он не знал, что это: сверканье коралловых песков, слизистый отсвет рыбьей чешуи или просто круги бешено вращающихся винтов. Потом ему пришло на ум, что так могут слепить глаза только груды пустых жемчужниц, гниющих под беспощадным полуденным солнцем. Значит, нет никакой джонки и никакого тайфуна, а только длится изнурительная сьеста за стеной, сложенной из кусков коралла. Он все еще болен и бредит взбаламученным морем, горькой солью, скребущей гортань, дымящимся раскаленным светом.
Безумно терзает жажда. Значит, с минуты на минуту приподнимется плетеный полог, пахнёт опаляющим ветром и рыбак Фыок поставит у изголовья кружку охлажденного чая. Будет длиться и длиться блаженное безумие, когда целительная пахучая влага по каплям процеживается сквозь запекшиеся горькие губы, навевая покой и забвенье. Или час Фыока еще не пришел?.. Пока трупы в летных комбинезонах качает волна, Фыок словно не существует в мире. Его долбленая лодка с балансиром появится в ту минуту, когда Фюмроль останется с морем один на один. Но прежде острые рыбьи зубы вспорют плотную непромокаемую ткань и пожрут разбухшее белое мясо. А световая сетка будет дрожать в зеленой таинственной глубине лагуны. И голубые лангусты опустят антенны усов на сломанные плоскости скоростного «амио».
«Какая забавная татуировка у Фыока, — вспоминает Фюмроль, прорываясь сквозь бред. — Многоцветный крылатый дракон. Клеймо небесного хозяина. Пролетая утром над морем, он мечет синий и розовый жемчуг. Зачем мы забрались так безумно далеко? Скорее прочь. Люк! Здесь владения дракона, и он дохнёт на нас огнем».
К ночи джонку отнесло дальше на север, и она оказалась в зоне затишья. Тайфун пощадил крохотное суденышко, обрушив всю свою разрушительную мощь на экваториальные острова.
Помолившись перед алтарем предков, шкипер поблагодарил богов за спасение. Морского духа он умилостивил связкой раковин каури и гирляндой цветов. Теперь можно было позаботиться и о пассажирах. Мальчишка-прислужник насыпал в очажок углей и раздул огонь. Фюмроль пришел в себя, когда чайник уже вовсю позвякивал жестяной крышкой. Насквозь промокшие люди с нетерпением ожидали горячего ободряющего глотка. Фюмроль с трудом разлепил набрякшие веки и огляделся. В белом свете карбидного фонаря крохотная каюта выглядела особенно убого: плетеная циновка, куча мокрого тряпья и канатная бухта, на которой пристроилась худенькая женщина, безуспешно пытавшаяся покормить грудью орущего младенца. Напротив сидел камбоджиец в саронге с засушенным осьминогом в руках. Заметив, что белый пришел в себя, он с хрустом отломил щупальце и предложил полакомиться.
Фюмроль отрицательно покачал головой. Рот наполнился вязкой слюной. Он опять ощутил себя распластанным на колючем коралловом песке, когда его рвало океанской водой. Он с жадностью схватил алюминиевую кружку и выполз на палубу. На свежем ветру стало легче. Обжигаясь, глотал крутой кипяток, смотрел в непроглядную темень, где слабо вспыхивали голубоватые пенные гребни.
Рассвет застал джонку вблизи суши. За кромкой прибоя серела песчаная гряда. К воде подступали выгнутые ветрами одиночные пальмы, за которыми непроницаемо темнела стена молодой поросли.
— Кота-Бару, — пояснил шкипер-малаец. — Берег Страстной любви. Лучший орех и самые красивые мадам, — он игриво подмигнул Фюмролю.
«Безумное путешествие, — подумал тот, — «Пьяный корабль» Рембо». Вспомнились строки:
Капитан-лейтенант Такабэ опустил ручки перископа и пригласил Ариту полюбоваться красотой восхода.
— Море словно фарфор, на который упали лепестки красного жасмина, — выспренне произнес он, отходя в сторону. — Взгляните, господин подполковник. Кстати, там у самого берега болтается какая-то скорлупка. Не знаю, стоит ли расходовать на нее энергию.
Арита приник к окулярам и развернул перископ. Опаловые оттенки зари его не волновали.
— Джонка в самом деле жалкая, — сказал он, оценив обстановку. — Но если учесть, что вчерашний тайфун порядочно потрепал нашу добычу, то не стоит ею пренебрегать. Для Джохорского пролива такая посудина вполне сгодится. Одним словом, не жалейте аккумуляторов, капитан.
— Есть! — откликнулся Такабэ и приказал подготовиться к всплытию. «Малютка» «И-168» всплыла в каких-нибудь ста ярдах от джонки. Такабэ счел ниже своего достоинства тратить время на столь мизерный приз и послал лейтенанта Симоду.
— Какой страны судно? — крикнул он в мегафон по-английски, высунувшись из люка. — Почему нет флага?
Шкипер вопросительно взглянул на француза.
— Индокитай, — ответил за него Фюмроль и выплеснул за борт остывший чай.
Длинные волны лениво перекатывались через низкую палубу и неслись к берегу, где розовели на глазах пески.
— Немедленно оставить судно! — распорядился лейтенант. — Или мы откроем огонь.
— На борту женщины и дети! — прокричал в ответ Фюмроль и, догадавшись, с кем имеет дело, добавил по-японски: — У нас нет никаких плавсредств. Позвольте нам хотя бы подойти поближе к берегу.
— Нет, — отрезал японский моряк. — И так достаточно близко. Волна небольшая.
— Спорить бесполезно, — Фюмроль повернулся к шкиперу. — Надо лезть в воду, иначе они нас потопят. Вы сумеете объяснить пассажирам?
Он ожидал паники, детских криков и слез. Но люди встретили нежданно свалившуюся на них беду с удивительным спокойствием. Женщины покорно стали привязывать детей к себе за спину. Шкипер принес несколько пробковых поплавков.
— Неужели нет ни одной лодки? — спросил Фюмроль.
— Одна есть, — поколебавшись, ответил шкипер. Видимо, он приберегал ее для себя. — Только плохонькая. Больше четырех человек она не поднимет.
— Превосходно! — обрадовался Фюмроль. — В лодку сядут женщины с детьми. Кто не умеет плавать? — спросил он, с трудом подбирая вьетнамские слова. Но на судне, которое шло с островов Драконьего Жемчуга, плавать умели все.
— Тогда за борт, дамы и господа! — скомандовал он. — Японцы не станут ждать ни одной лишней минуты, — и первым начал раздеваться.
Перед тем как прыгнуть с кормы, вынул из-за пазухи пистолет и зашвырнул его в море. Поведение шкипера и пассажиров произвело на него неизгладимое впечатление. Такие общие понятия, как мужество или покорность судьбе, казались обезличенным примитивом. Фюмролю неожиданно открылось нечто совсем иное, чему еще не придумано точного названия. Он понимал, что многие из его французских знакомых не увидели бы здесь никакой загадки. Ничего не стоило отмахнуться поверхностным определением: «Фатализм Востока». Фюмроль же жаждал постичь глубинную мудрую суть человечности, которая обозначалась столь ясно только в резком столкновении с фашистским варварством. Но не осталось времени на размышление.
Он вынырнул и, жадно вдохнув, вновь погрузил лицо в волну, смывая слезы. Боже, как это было некстати!
Субмарина, задраив люк, начала погружаться. Передав на ближайший катер координаты оставленного судна, она устремилась на поиски новых жертв.
Выбившись из сил, Фюмроль лег на спину. Лишь теперь он понял, насколько ослаб после болезни. Все, кто плыл с ним на джонке, уже были далеко впереди. Черные головы, как поплавки, выскакивали из пены накатившегося вала. Скоро они выйдут на берег и поспешат укрыться в зарослях, скорее всего даже не вспомнив о странном французе, который все время спал и почти ничего не ел.
Небо вновь заволокли темные, как дым пожарищ, облака. Северо-восточный муссон, как всегда, дал знать о себе дождем. Было приятно лежать с закрытыми глазами и ловить ртом прохладные сладкие струйки. Волны медленно пригоняли Фюмроля к берегу. Он знал, что в столице султаната Келантан Кота-Бару расположена крупная военная база англичан. От друзей, которые бывали на здешнем аэродроме, он слышал об укрепленном районе в развилке реки. Пусть не удастся отыскать англичан в мангровом лабиринте дельты, но что помешает ему пробраться в город? От побережья до Кота-Бару было всего два километра. Волна у берега стала круче. Фюмроля развернуло и начало бросать. Он едва успевал отдышаться, как в затылок ударял новый шипящий гребень и с гулом прокатывался над головой, увлекая в черную впадину, в которой пузырились белые пятна тающей пены. Галечные зерна, поднятые со дна, обрушивались с водоворотом, забивая уши и ноздри. Фюмроль задыхался и почти потерял сознание, когда его, обессиленного и оглушенного, выбросило на утрамбованный приливом жесткий песок.
Отдышавшись, он вытряс из ушей крупинки кварца и встал на нетвердых ногах. Горизонт покачивался перед ним, словно он находился в кабине самолета. Кое-как добрался до ржавого корневища вывороченной пальмы и присел на заиленный ствол.
Весь берег был усеян трупами. Дождь хлестал по защитным мундирам, неестественно вывороченным рукам, продолжавшим сжимать оружие, заливал широко открытые остекленевшие глаза. Пенистые языки слизывали песок с мокрых армейских ботинок. Повсюду вперемешку с кокосами валялись гранаты и стреляные гильзы. Берег лениво всасывал в себя стабилизаторы неразорвавшихся мин, жестянки с патронами, обрывки пулеметных лент. Вывороченные разрывом кратеры были заполнены мутной водой, в которой барахтались крабы. Комки окровавленной ваты и безобразные клочья разорванных тел привлекли белоголовых грифов, которые, несмотря на дождь, уже терзали добычу, зорко и ненавидяще оглядываясь по сторонам.
Пальмы со срезанными верхушками помогли Фюмролю определить направление огня. Берег был обстрелян из леса, возвышавшегося над зарослями молодых кокосов у речной излуки, отрезанной от моря полосой дюн. Там, среди зазубренных сабель дикого ананаса, лежало еще больше японских трупов, чем у моря. Солдаты были без пилоток. Белые хасимаки смертников красноречиво говорили об их презрении к смерти. Они совершили «таи атари», добровольно принесли себя в жертву. Приняв на себя огонь первой линии английской обороны, они умостили дорогу новой волне, которая ворвалась в лес, чтобы навсегда остаться на минном поле.
Индийские солдаты, лежавшие в мокрых траншеях, не ожидали столь неистового, самоистребительного штурма: вместо того чтобы залечь перед опутанными колючей проволокой минными заграждениями, японцы бросились в атаку. Не успевала осесть поднятая взрывом земля, как в дымящуюся воронку прыгал новый самоубийца в белой повязке, чтобы взлететь на воздух на метр ближе к английским дзотам. Так шаг за шагом, по горячему праху товарищей, смертники прорвали первую линию обороны и приняли штыковой бой.
Так их учили в малярийных болотах Формозы, ради этой минуты гнили они месяцами в джунглях Хайнаня. Их тренировали минеры, военные инженеры, разведчики, артиллеристы, мастера каратэ и виртуозы ближнего боя. Они узнали этот исхлестанный дождями берег и этот затаившийся лес, мангрову и речку, колючую проволоку и яму, наполненную кислым дымом взорванного тротила.
Быть может, еще вчера эти молодые, полные сил парни не знали, что их день так неотвратимо близок. Но прозвучала труба, и они выбежали на палубу транспорта «Авигасан-мару». Прощальная чаша сакэ раскрыла перед ними врата смерти.
«А теперь идити и умрите», — дал им последнее напутствие командир. С этой необратимой минуты меж ними и миром живых разверзлась пропасть. Командир отдал честь, повернулся, как на параде, и поспешил к трапу. Его ожидала подводная лодка, их — бессмертие. Больше, чем бессмертие. Небожители с розовых облаков уже готовились заключить их в благоуханные объятия.
«Не обращайте внимания на то, что после взрыва требуха ваших друзей болтается на ветках, — учил командир. — Сами они уже давно в Западном рае Амиды».
Франклин Делано Рузвельт завтракал в Овальном кабинете с Гарри Гопкинсом, когда неожиданно позвонил Нокс:
— Перехвачена телеграмма из Гонолулу, господин президент! Командующий нашими силами на Гавайях сообщает всем постам, что началось воздушное нападение!
В два часа пять минут пополудни президента усадили в кресло на колесах и вывезли в коридор, где уже дожидался взволнованный до крайности Кордэлл Хэлл.
— Пирл-Харбор… — начал было госсекретарь, но Рузвельт остановил его мановением руки:
— Знаю. Вызовите обоих послов, этих Номура и Курусу… Заслушав ответ, выпроводите их холодно и вполне официально. Это война.
«Каким бы преступником и негодяем ни был японский подданный, — убеждали газеты, — становясь под боевые знамена, он освобождается от всех грехов. Япония воюет во имя императора, и ее войны — святые войны. Те, кто погиб в них со словами: «Да здравствует император», — были ли они хорошими или плохими людьми, становятся богами».
Фюмроль понял, что опоздал. Оглушенный ударами волн, он не слышал дальних разрывов, а муссонная завеса съела черную гарь. Но можно было не сомневаться в том, что японцы находятся в Кота-Бару. В душной одури джонки он проспал начало новой войны. Идти было некуда. Фюмроль огляделся. Высоко на дюнах приютились под пальмами тростниковые хижины. Скорее всего, хозяева покинули убогий кров, когда прогремели первые залпы. Косой дождь заливал пустые окна. Груда кокосовой скорлупы была разнесена взрывом гранаты или мины. В луже лежал труп. Над жердями ограды возвышались красные драконьи головы лодок. Очевидно, их вытащили так далеко, чтобы не смыла волна. Стащить такую лодку в море одному было не под силу.
Фюмроль решил переждать дождь в хижине. Его уже бил озноб, начинала подкатывать привычная тошнота. Он слишком долго пробыл в море и наглотался соленой воды. Лавируя между уткнувшимися в землю телами, поднялся на дюны и перелез через изгородь.
В дальнем от оконной двери углу он увидел женщину. Свернувшись клубком, она безмятежно спала на сухих листьях, закрыв исцарапанной грязной ладошкой лицо. Ее длинные и тонкие пальчики были выгнуты, как у тайской танцовщицы. На одном из них скупо блестело серебряное колечко с вьетнамским иероглифом долголетия. С худенькой шейки свешивался белый тигровый коготь.
Глава 21
«Бог благословил Японию! — торжественным, дрожащим от восторженного волнения голосом вещал токийский диктор. — Поэтому Японии удалось столь быстро и успешно завершить свои операции против врагов! Первый тур войны победно завершен! И мы вправе заявить: «Победа будет за нами!»
Начавшаяся 7 декабря дерзкой атакой на Пирл-Харбор война на Тихом океане действительно протекала для Японии необычайно успешно. К февралю сорок второго года, когда наступил лунный год Водяного Коня, военный флаг «Хино-мару» развевался почти над всей Юго-Восточной Азией. Японские войска заняли Таиланд и Малайю, Филиппины и Гонконг, Новую Гвинею и Соломоновы острова. Южную Бирму и, наконец, вожделенный Сингапур, где на набережной расстреляли семьдесят первых попавшихся заложников: малайцев, индийцев, китайцев и англичан. Так генерал Ямасита дал понять покоренным, что наступили новые времена.
На следующий день после нападения на Пирл-Харбор генерал-губернатор Деку и посол Есидзава подписали новое соглашение, в котором французская сторона торжественно подтверждала свою готовность «всеми имеющимися в ее распоряжении средствами сотрудничать с Японией в деле совместной обороны».
По этому соглашению союзное военное командование его величества тэнно могло установить полный контроль над вооруженными силами, транспортом и средствами связи. К началу войны в Индокитае количество японских войск превысило 75 тысяч человек. Страна была окончательно превращена в военный плацдарм для наступления на юг.
Черный океан вышел из берегов.
Стараясь заслужить расположение ставшего всемогущим Уэды, Жаламбе лучших агентов бросил на поиски неуловимого Танга. Первым напал на след коммунистического агитатора вездесущий Конг. Как только стало известно, что Танг скрывается в дэне государей Хунт, Жаламбе поднял на ноги всю жандармерию. В ночь на рождество, когда добрые католики мирно проводят праздники в кругу семьи, военные грузовики остановились у белых, осененных драконами ворот дэна. На поимку одного-единственного человека было брошено семьдесят шесть полицейских, вооруженных автоматами и гранатометами. Рассыпавшись цепью, они окружили гору и взяли под прицел все мосты и дороги. Операция должна была начаться с первыми лучами солнца.
Но когда рассвело, Жаламбе понял всю сложность стоящей перед ним задачи. Прочесать лес на горе, обшарить каждый заросший непроходимым бамбуком овраг и каждую пещеру оказалось не так просто, как это выглядело на плане. Можно было впустую угробить и день, и два. Тогда Жаламбе принял, по его мнению, единственно разумное решение. Подозвав трех дюжих охранников, он сделал знак достать из кузова носилки.
— Дуйте на самый верх, и поживее, — распорядился он, устраиваясь поудобнее. — Туда ведет только одна дорога.
Священник Тхить Тьен Тяу встретил нежданных гостей на мосту перед маленькой часовенкой с провалившейся крышей.
— Чем мы обязаны приходу высоких гостей? — спросил он на ломаном французском языке. — И почему гости пришли в святое место с оружием?
— Не слишком ли много вопросов, святой отец? — одернул его Жаламбе, не слезая с носилок. — Я должен осмотреть вашу тихую обитель.
— Вы избрали неудачный час для экскурсии, — монах не скрывал враждебности. — До утренней трапезы мы никого не принимаем. Пусть ваши люди с оружием немедленно покинут наши пределы.
— В самом деле? — Жаламбе насмешливо прищурил глаз. — Стоит мне пальцем пошевелить, и сюда придет рота солдат. С пушками. С лошадьми.
— Вы жестоко раскаетесь в своих несправедливых действиях, — величественный священнослужитель надменно вскинул голову. — Оставьте нас и воздержитесь от непоправимой ошибки.
— Велите проводить нас в пагоду Красного бамбука, святой отец, — потребовал Жаламбе.
— Здесь нет такой.
— Ваше назначение открывать истину, а не утаивать ее от ищущих, — в притворном смирении Жаламбе возвел глаза к небу.
— Шестой патриарх учит, — монах словно не обратил внимания на неприкрытую издевку. — Нигде нет никакой истины, не надо пытаться увидеть истину где-либо. Если ты воскликнешь: это истина, значит, то, что ты видишь, не есть истина. Если же ты сам достиг истины, отделился от ошибок, то твой дух и есть истина. Если же твой дух не отделился от ошибок, то это не истина.
— Белиберда какая-то, — фыркнул Жаламбе. — Где пагода?
— Я не знаю такой. Пусть люди с оружием удалятся. Я проведу тогда вас в мою келью, и вы своими глазами убедитесь, что в дэне нет тюа с таким названием. У нас есть отпечатанный план.
— Значит, это какой-нибудь тайник! — продолжал упорствовать Жаламбе. — Вы же так любите давать возвышенные названия всяким крысиным норам.
— Зачем вы поселились в стране, чьи обычаи вам так ненавистны? — Тхить Тьен Тяу с сожалением, словно на безнадежно больного, взглянул на пришельца. — Уходите от нас. — Он повернулся спиной. — Храм с подобным названием есть только вблизи Сайгона. Здесь не ищите его.
— Пусть будет по-вашему, — переменил тактику Жаламбе. — Не уходите. Я хочу сделать вам одно предложение.
Монах выжидательно обернулся.
— Отдайте мне человека, который прячется где-то тут, и будем считать инцидент исчерпанным. Договорились?
— К нам приходит много людей, чтобы укрыться от обманчивой иллюзии. Не знаю, кого вы ищете.
— Так это мы сейчас устроим, святой отец, — обрадовался Жаламбе и спрыгнул на землю. — На всякий случай я захватил с собой его портрет.
— Нет! — монах протестующе выставил руку. — Храм не место для охоты на людей. Прошу вас уйти.
— Даю вам час на размышление. — Жаламбе швырнул фотокарточку под ноги отцу Тяу. — Если я не заполучу этого типа, то мои люди не оставят камня на камне от вашего вороньего гнездышка. Советую крепко поразмыслить. Ровно через шестьдесят минут начнется штурм.
Монах молча повернулся и зашагал прочь. Перед входом в часовню он задержался и, указав на круглое окно, каменная решетка которого была выполнена в виде сложного иероглифического знака, промолвил с угрозой:
— То, что есть, — не есть; то, что есть я, — не есть я; то, что будет, — не будет. Запомните это, невежественные чужеземцы.
Жаламбе, пренебрежительно сплюнув, дал знак уходить. Жандармы сложили носилки и покорно побрели за начальником. Спускаясь по известковым ступеням, Жаламбе тщился найти достойный выход. Можно было не сомневаться в том, что монах не выдаст Танга. Непреклонная твердость отца Тяу произвела на француза сильное впечатление. По сути, это он себе дал час на размышление, чтобы избежать немедленных, скорее всего опрометчивых действий. Что же, ничего не поделаешь. По истечении часа он прикажет своим парням перевернуть все вверх дном. Ради десяти тысяч пиастров награды мальчики могут и попотеть. Если же монахи, как это бывало, окажут сопротивление, он отдаст приказ забросать их гранатами. Иного выхода он не видит. Крыса, которую загнали в угол, поневоле начинает кусаться.
Оставалось ждать еще двадцать минут, когда на горе показалась процессия. Монахи были в желтых одеждах, какие надевают в праздники или перед алтарем с буддами. Впереди шли подростки с барабаном и гонгами, за ними в окружении клира важно шествовал отец Тяу. Его зачем-то поддерживали под руки два послушника с колокольчиками в руках.
«Неужели решились?» — подумал Жаламбе. С замиранием сердца прислушивался он к звукам далекой музыки, не отрывая глаз от желтых пятен, мелькавших среди зеленых соломин бамбука. Процессия то возникала во всем своем странном великолепии на открытых местах, то пропадала вслед за дорогой в лощинах, осененных кустами, увешанными бумажками с молитвенными пожеланиями. И тогда только уханье барабана долетало к подножию горы, да смутно угадывался нежный перелив колокольчиков.
«Хотел бы я знать, что они придумали», — тревожился Жаламбе, обкусывая ногти. На всякий случай он приказал взять оружие на изготовку. Монахи были способны обрушить на головы полицейских град камней и черепицы.
«Черт бы побрал этих буддистов. Проповедуют смирение, полную отрешенность от мирских треволнений, а доходит до дела, дерутся, как пьяные матросы, которым все дозволено. Ничего у них не поймешь».
Жаламбе нервно закурил сигарету, но, сделав две-три затяжки, втоптал ее каблуком в траву. Стыдливая мимоза съежилась, открывая серебристую изнанку тонко расчлененных листиков. Он шагнул с обочины на дорогу. Жандармы, которым передалось смутное волнение, тоже побросали сигареты и, клацая затворами, приблизились к воротам в стене. Напряженное ожидание повисло над всеми. Грозные удары барабана раздавались все ближе. В их бьющей по нервам размеренности ощущалась трагическая неотвратимость.
Неожиданно барабан умолк, колонна остановилась перед последним спуском, и принаряженные монахи повернулись лицом к дороге. Казалось, что их ноги касаются драконьих гребней на черепичном покрытии арки. Молитвенно сложив руки, они затянули заунывный, исполненный скрытой страсти гимн. Затем от процессии отделилась небольшая группка. Впереди шел тощий старик в черном халате, а следом за ним двинулись к лестнице монахи, ведущие Тхить Тьен Тяу.
Жаламбе почудилось, что священник плывет над землей. Глаза его были полузакрыты, а на губах застыла до странности неподвижная гипсовая улыбка. На мощеной площадке перед воротами старец в черном очертил невидимый круг и замер возле фаянсового слона с вазоном. Коротко остриженные послушники вывели отца Тяу на середину и бережно усадили на землю. Не меняясь в лице, он принял асану лотоса и, сложив руки дощечкой одна над другой, впал в сосредоточение.
Действо протекало в настороженном молчании. Монахи на склоне горы и жандармы на дороге внизу равно не спускали глаза с медитирующего монаха. Всех точно сковало какое-то оцепенение. Жаламбе не успел опомниться, как черный старик, изогнувшись в дугу, скользнул куда-то вбок и вдруг оказался рядом с Тяу. Наклонившись над сидящим, он что-то такое сделал и отскочил в сторону. За спиной Жаламбе раздался возглас удивленного ужаса. Кажется, он и сам не сдержал стона, когда увидел, как вокруг Тхить Тьен Тяу взметнулось пламя. Почти прозрачное и неяркое в нежном утреннем свете, оно, казалось, не жгло, а лишь невесомо ласкало покатые плечи, сложенные руки, отчетливый рельеф искаженного чудовищной улыбкой лица.
Жуткий смысл происходящего окончательно дошел до сознания только в тот момент, когда желтая тога покрылась отвратительно черными, быстро расширяющимися дырами. Жаламбе хотел закричать, рвануться вперед, но ноги, налитые неверной расслабляющей тяжестью, словно приросли к дороге. Он только ловил воздух широко открытым ртом и, как рыба, выброшенная на прибрежный песок, с каждым глотком ощущал головокружительное удушье. Словно не воздух пил, а невидимое пламя, которое сжигало пузырчатую трепещущую ткань легких.
Отец Тяу все улыбался в огне, который, нащупав плоть, загустел и окрасился свирепыми дымными языками. Звездным дуновением вспыхнули ресницы и седые короткие волосы. Откуда-то набежавший ветер шатал гневно гудящий костер, и тогда казалось, что улыбка еще живет и колеблется на мертвом лице. Никто из монахов так и не пошевелился, даже звука не проронил. В настороженном молчании проводили они своего настоятеля в вечность.
Жаламбе не мог вспомнить, отдал ли он приказ рассаживаться по машинам, или это произошло само собой. Стараясь не встречаться друг с другом глазами, жандармы забрались в фургоны, и тяжелые армейские грузовики нетерпеливо рванули с места. Хотелось поскорее убраться подальше, раз и навсегда выбросить виденное из головы. За всю дорогу до Ханоя никто и словом не обмолвился о происшествии. Будто ничего не случилось во дворе дэна Хунг.
— Идиот! — взорвался Уэда, когда Жаламбе поведал ему о событиях в храме первого короля. — Вы проворонили изменника Фюмроля, упустили Танга и вдобавок опозорились. Завтра о событиях в дэне узнает весь Индокитай! А впрочем, — под влиянием новой мысли он сменил гнев на милость, — ничего страшного. Со всяким может случиться. Вы садитесь, — приветливо указал на стул и пододвинул коробку папирос. — Но Конга я у вас забираю.
— Но позвольте, Уэда-сан, — робко заикнулся Жаламбе, озирая роскошные покои, в которые перебрался шеф кэмпэтай.
В этот кабинет, заставленный королевской, инкрустированной цветным перламутром мебелью, Господин Второе Бюро явился теперь по вызову, как скромный клерк к генеральному директору. После того как соглашение вошло в силу, служба Жаламбе почти официально перешла в подчинение кэмпэтай. Уэда, который и раньше не слишком церемонился с французским коллегой, скоро усвоил высокомерно-снисходительную манеру обращения. Господином Второе Бюро он его больше не называл. Да и не существовало уже ни второго бюро, ни настоящего генерального штаба. Флот в Тулоне был взорван, а Свободная Франция объявила Японии войну. Все встало, таким образом, на свои места. Уэда из партнера превратился в полноправного хозяина и без стеснения мог диктовать свою волю. Оставалось одно: беспрекословно повиноваться.
— Истинное мастерство познается в сравнении с бездарностью. Для такого чуткого инструмента, как господин Конг, нужна опытная рука. Так что я беру его у вас в воспитательных целях.
— Понимаю, Уэда-сан. Завтра же пришлю его к вам.
— Сегодня, любезный. Пусть поработает с нами. Мечом, изготовленным оружейником Масамунэ, нельзя резать редьку. Кстати, вы можете поздравить японскую разведку с крупным успехом. — Уэда выдержал необходимую паузу. — В Китае арестован Нгуен Ай Куок.
— Я просто не успеваю приносить поздравления японским друзьям. — Жаламбе изобразил неподдельный восторг. — Победа следует по пятам за победой! Воистину можно гордиться силой, которая поражает одного врага рукой другого… И что же, Чунцин намерен передать его нам?
— Об этом и не мечтайте. Достаточно того, что они держат его под замком. Будем же радоваться тому, что поймали карпа на вареный ячмень. — Уэда раскрыл лежащее на столе досье. — Недурная добыча! — Он скороговоркой выхватил несколько строк: — «Нгуен Ай Куок, что означает Нгуен-патриот, с одиннадцатого по шестнадцатый работал на пароходах французских и английских компаний, потом жил в Англии, США. В семнадцатом переселился во Францию. Во время работы Версальской мирной конференции вручил участникам меморандум с требованием предоставить независимость Индокитаю. В декабре двадцатого в качестве представителя трудящихся колоний участвовал в съезде французских социалистов. После раскола соцпартии и образования партии коммунистов вступил в ее ряды». — Уэда отбросил досье. — Видите, господин Жаламбе, что такое французская полиция? Лидер вьетнамских большевиков был, оказывается, в числе основателей французской компартии! Неслыханно! И подумать только, что такой человек был бы сейчас на свободе, не поспеши мы с экстраординарными мерами. Как вы назовете такой порядок?
— Маршал Петэн покончил с таким «порядком», Уэда-сан.
— В самом деле? — шеф кэмпэтай с сомнением прищурился. — Но работать приходится нам, японцам? Так, Жаламбе? Я прочел в досье, что Нгуен Ай Куок был приговорен в двадцать девятом году к смертной казни. К сожалению, заочно. Почему приговор не был приведен в исполнение? Разве для французской полиции не является обязательным постановление французского суда? Почему, в конце концов, вы не добились от англичан передачи его в ваши руки? Он же почти два года провел в гонконгской тюрьме. Одним словом, мне трудно говорить с вами о задачах политической полиции. Инцидент в дэне Хунт ясно свидетельствует о вашей полнейшей неспособности усвоить эти задачи. А посему перейдем к экономическим проблемам. Наш посол поставил в известность господина генерал-губернатора, что Японии в этом году понадобится в два раза больше риса, чем мы получили от вас в прошлом году. Кроме того, мы надеемся, что поступления денежных средств тоже возрастут примерно вдвое и достигнут ста миллионов пиастров. Ваша задача, Жаламбе, обеспечить порядок в стране. Никаких бунтов, никаких протестов. Господин посол Есидзава не желает принимать петиции от голодающих деревень. Это не наша забота. Вы поняли меня?
— Безусловно, Уэда-сан. Согласно плану профессора Тахэя…
— Забудьте этот план и это имя, — прикрикнул Уэда. — Отныне вся полнота власти принадлежит только чрезвычайному и полномочному послу его величества. На днях посол представит генерал-губернатору обширную программу экономических и аграрных преобразований. Нам понадобятся площади для новых аэродромов, военных лагерей, конных заводов. Для удовлетворения потребностей в текстильном сырье и смазочных материалах представляется целесообразным разбить обширные плантации хлопка, джута, конопли, арахиса и клещевины. На вас, Жаламбе, возлагается ответственность за мирное осуществление столь болезненных операций, как отчуждение земель. Считаю необходимым предупредить об этом заранее. Таким образом, у вас есть время на подготовку.
Шеф кэмпэтай невольно подражал Морите Тахэю. Ему недоставало широты, всеобъемлющего понимания проблемы и общей культуры. Но манеру профессора, быстроту суждений и отточенность формулировок он усвоил. Тахэй, который в глазах Уэды был уже конченым человеком, все еще оставался эталоном для подражания.
— Мы предполагаем в десять раз увеличить площади под текстильные культуры, — отчеканил Уэда, внутренне любуясь собой, — и в три раза — под масличные.
Жаламбе побледнел. Названные японцем цифры превзошли самые худшие ожидания. В Индокитае не было свободных земель. Технические культуры, следовательно, предполагалось выращивать на рисовых полях. Это означало одно — голод и массовую смертность в городе и деревне. Тем более, что японцы намеревались с каждым годом забирать из страны все больше и больше риса. Того самого проклятого риса, чьи посевные площади должны были пойти под джут. Получалась жуткая самозатягивающаяся удавка. Жаламбе слишком хорошо знал эту страну. Нечего было надеяться на то, что она безропотно позволит уморить себя голодом. О каком же порядке, о каких мирных операциях могла идти речь?
Из кабинета он вышел пошатываясь. Уэда взвалил на его плечи непосильное бремя. Глубокая озабоченность собственной участью не позволяла Жаламбе сосредоточиться на истинной сущности нового ультиматума союзников. Людей, которым предстояло умереть за японский джут, он поэтому воспринимал как некую абстракцию, выраженную единицей со столькими-то нулями. Иначе можно было просто сойти с ума. Об этом не следовало думать. Твердая же уверенность в том, что обреченные не пожелают умереть спокойно, вызывала откровенное раздражение. Почему его неповторимая судьба должна зависеть от кишащей одноликой массы, с которой он связан только волею случая? Он чувствовал себя глубоко оскорбленным и поэтому несчастным. Спасительная мысль о том, что со временем все как-нибудь утрясется и сгладится, не успела даже вызреть в мозгу, как ее пожрал огонь. Безумное танцующее пламя, в котором плясала и корчилась издевательская усмешка Тхинь Тьен Тяу.
…То, что будет, — не будет…
Оставшись один, Уэда удовлетворенно облизал губы. Улыбнувшись своему отражению в туманной глубине полированного дуриана, он вынул толстую японскую авторучку. Зажав ее между средним и указательным пальцем, набросал тезисы экстренного сообщения для радио и прессы. Когда вертикальные столбцы иероглифической скорописи покрыли лист тонкой рисовой бумаги с жемчужными жилками, Уэда оттиснул в левом углу красный квадратик личной печатки. С этим прохвостом Жаламбе ему решительно повезло. Даже своими неудачами Господин Второе Бюро лил воду на японскую мельницу. Когда бежит сумасшедший, за ним бегут и разумные.
Стараясь прямо не задевать французские власти, японцы продолжали расширять пропаганду паназиатских идей. В Индокитае этим непосредственно занималось бюро информации при дипломатической миссии в Ханое. Случай самосожжения буддийского монаха, посрамившего «белых дьяволов», явился подлинной находкой для японских властей. Уэде было приятно обставить молодчиков из бюро. Он сам доложит обо всем послу. Несомненно, что Есидзава одобрит идею придать акту самосожжения широкую огласку. Пусть вьетнамское население узнает о нем из японских уст. Сначала по радио, затем из газет, а после можно будет подумать и об иллюстрированном очерке на страницах «Тан А».[31] Пусть пошлют фотокорреспондента в дэн Хунта. Это придаст сообщению нужную политическую окраску. Само собой разумеется, об истинной подоплеке инцидента разумнее умолчать. Важно само явление, а не его причины. О том, что монахи прятали большевистского агитатора, не следует даже заикаться. Основной упор должен быть сделан на взаимоотношение между духом Азии и духом Европы вообще. Так можно подчеркнуть расовую, религиозную, культурную близость между народами обеих стран и привлечь симпатии местного населения. Пусть все видят, что Япония не только не участвует в репрессалиях французских властей, но, напротив, всячески борется за интересы азиатов. Только так и можно создать в народе необходимую опору, чтобы в нужный момент и безболезненно принять на себя управление бывшей французской колонией.
Уэда не сомневался, что проведение аграрно-экономической программы в жизнь существенно приблизит этот вожделенный миг. При мысли о том, как он ловко использует в своих целях французских чиновников, Уэда приосанился. Он даже подумал о том, что кое в чем сумел обскакать самого Мориту Тахэя. Принудить жертву выкопать себе могилу способна лишь божественная воля. Дух Ямато — «Яматодамасий».
Глава 22
На китайской границе Нгуен Ай Куока поджидали агенты политической полиции гоминьдана.
— Нгуен Ай Куок? — имя, которое назвал румяный китаец с фигурой атлета, прозвучало как чужое.
— Хо Ши Мин. — Ай Куок вынул документы.
— Мы знаем, что у вас много кличек, — полицейский офицер даже не взглянул на бумаги. — Но больше вам не придется менять имена. От китайского закона скрыться нельзя. Телега тронется — колокольчики зазвенят, — ухмыльнулся он, лучась самодовольством.
Порой и недалекие люди, сами того не ведая, высказывают пророчества. Имя Хо Ши Мин, которое означает Умудренный, вьетнамский вождь оставит себе до конца дней. Но китайская полиция не будет иметь к этому никакого отношения.
— Обманывая людей, обманываешь себя, — продолжал разглагольствовать китаец. — Вы заигрались, товарищ большевик. — Он вывалил на шаткий бамбуковый столик пачку фотографий. — Нам известен каждый ваш шаг.
Скосив глаза на фотографии, Хо Ши Мин понял, что китайцы в самом деле знают о нем многое. Он был заснят в самых различных местах: в Марселе, Париже, Гонконге, Хунани. Оставалось лишь гадать, почему его арестовали именно теперь.
— Офицер истребляет людей, — привел Нгуен Ай Куок китайскую пословицу, — а чиновник только трогает кисть. Разумно ли нацеливать оружие на союзника? Или Китай не стонет, как и мы, под японской пятой?
— Надеть на него колодки, — распорядился полицейский. Казалось, он испытывал чувственное наслаждение от своей власти. С плотоядной улыбкой на женоподобном лице следил он за тем, как арестованного бросили на земляной пол, как связали ему за спиной руки и замкнули вокруг тонкой жилистой шеи половинки тяжелого с круглой прорезью бруска.
В этой унизительной процедуре было столько ненужной, не вызванной обстоятельствами жестокости, что Хо Ши Мин не удержался от замечания:
— Недаром у вас в народе говорят, что чиновник убивает улыбкой. — Он не мог ворочать головой и потому, поднимаясь с земли, всем телом повернулся к офицеру. — Вы бы лучше японских шпионов ловили.
— Вьетнамцы такие же наши враги, как и японцы, — ударом кулака офицер чуть не сбил его с ног. Тесные колодки сдавили горло удушливой болью. — Вы всегда воевали против нас.
Зализывая соленую трещину на губе, Хо Ши Мин подумал о том, что с палачами не спорят. Этот полицейский, удивительно похожий на манекен в витрине магазина, все равно ничего не поймет. Типичный для китайских чиновников великоханьский шовинизм и классовая ненависть превратили его в слепое орудие.
«Кости и зубы императора, — вспомнилось классическое определение китайской службы безопасности. — Осенний министр».
Хо Ши Мин не мог знать, что на его счет получены точные указания из Чунцина. Поэтому он приготовился к самому худшему. Не составляло секрета, что китайская полиция нередко расправлялась с арестованными. Чаще всего их просто не доводили до тюрем.
Камера, в которую затолкали Хо Ши Мина, представляла собой каменный колодец без окон и вентиляции. По осклизлым стенам стекала вода. Крохотная лампочка в проволочном колпачке висела под самым потолком. В красноватом свечении угольной нити жидкая грязь на полу казалась кровавой слизью. Над узеньким ровиком у дальней стены клубились зловонные пары. Людей было так много, что они могли только седеть, обнимая колени, или подпирать отвратительные липкие стены. Вместо нар на земле валялись раскисшие соломенные циновки. Когда глаза освоились с багровой мглой, Хо Ши Мин разглядел, что все заключенные были в исподнем. На многих белье истлело и превратилось в лохмотья.
Застенки Гонконга в сравнении с этой уездной ямой выглядели санаторием. Лишь через много месяцев, когда позади остались восемнадцать тюрем Нанкина, Гуйлина, Учжоу, Лунцзиня, Босе, Лючжоу и прочих уездов Гуанси, Хо Ши Мин понял, что есть места пострашнее вонючего склепа, метко прозванного «Кротовой норой». Кормили, впрочем, везде одинаково: миска вареной чумизы и кружка воды на весь день.
— Только тот, кто ест пресное, может посочувствовать кошке, — пошутил он, впервые отведав тюремного варева, и, чтобы товарищи по заключению поняли, объяснил: — У нас кошек кормят вареным рисом и овощами без соли.
— Рисом? — недоверчиво переспросил кто-то.
— О, кошки во Вьетнаме — ценные звери, — Хо Ши Мину было приятно рассказывать о родине. На короткое время забывались унизительные тяготы заключения, отступала неусыпная давящая тревога. — Их продают в специальных клетках, словно сказочных птиц. Купить кошку может только состоятельный человек. Бедняку она не очень-то и нужна. Крысам у него нечем поживиться.
В камере засмеялись. Даже рабочий с фарфорового завода, который отлеживался после пытки, перестал стонать.
— Если я когда-нибудь выйду отсюда, — прошептал он запекшимися губами, — то на все деньги, какие только заработаю, выкуплю птиц. Пусть не томятся в клетках.
— На-ка попей, — Хо Ши Мин отдал ему свою воду. — После побоев всегда жажда одолевает. По себе знаю. А насчет птичек я тебе вот что скажу. Любовь к живым существам начинается с любви к человеку. Сперва людей нужно из клеток выпустить, а потом птиц.
На другой день провокатор, которого по древнекитайской традиции подсадили в камеру, шепнул надзирателю, что новый заключенный ведет большевистскую агитацию. Хо Ши Мину дали десять палочных ударов по пяткам и перевели в другую тюрьму. Когда он шел под конвоем на вокзал, в небе льдисто поблескивали звезды. Было ветрено и прохладно. Он радовался ветру, прилетевшему, быть может, с далеких гоби, ночной свежести и этой вынужденной прогулке, прервавшей монотонное однообразие «Кротовой норы». Пыль душно царапала горло, а он все вдыхал полной грудью тревожный холодок ночи и никак не мог надышаться. Преследовало ощущение, будто в легких навечно застоялась тюремная гнусная вонь.
В тюрьме города Гуйлина, прозванной «Обителью небесной благодати», поскольку ее периодически заливало полыми водами реки Сицзян, Хо Ши Мин долго вспоминал этот сладкий лёссовый ветер, разбередивший душу призрачным предчувствием воли.
После бессмысленного допроса, на котором пальцы рук зажимали в бамбуковые тиски, он очутился в железной клетке, где нельзя было даже выпрямиться в полный рост. Так началось знакомство с «Обителью». Местная администрация, видимо, решила сломить его одиночным заключением. Китайцам было невдомек, что он привык к молчанию и сырости пещер, что его не пугают ни размеренный стук капель, ни шорохи одичалых изголодавшихся крыс. Угнетало другое: полное отсутствие вестей с воли и засаленное белье, которое не разрешали сменить. По его расчетам, со дня ареста прошло четыре месяца. Он вспоминал лица друзей, зажмурившись пытался представить себе горные долины, джунгли, перевалы, на которых спят облака. Тоска и постоянное ощущение беды — главные недруги заключенного. Он был бы счастлив разделить с друзьями самые горькие испытания, даже встретить смерть, но только бы с ними, только бы вместе. Все казалось, что без него им придется совсем плохо. Что мог он противопоставить подтачивающему силы влиянию безвестия?
Вера в конечную победу правого дела, убежденность в исторической неизбежности этой победы давали ему силы перенести физические тяготы: голод, боль, омерзительное ощущение пластами сползающей кожи. Лишь с нарастающим чувством тревоги день ото дня становилось труднее справляться. Отчаянно, до слепоты хотелось знать, что происходит в мире. Когда его арестовали, фашистские полчища подступили к Волге, а на юге Вьетнама ежедневно высаживались японские батальоны. Он удивительно слитно воспринимал трагические события, происходившие на родине, и ожесточенные бои на другом конце света, где, наверное, уже наступила зима и все утонуло в снегах. Здесь было не только ясное понимание расстановки сил, не только естественное для коммуниста чувство пролетарской принадлежности к первой на планете стране рабочих и крестьян. С присущей поэтам образностью мышления Хо Ши Мин почти физически и притом одновременно осязал холод заснеженных подмосковных полей и гниль трясин, куда каратели оттеснили патриотов Лангшона.
Боль неделима. Она заполняет целиком человеческое сердце. А человек всегда и везде остается человеком. Он может заставить себя претерпеть любые муки, но не ощущать их не в его власти. Ни убежденность, ни вера не могли защитить узника от самого высокого чувства — страдания. Судьба родины, судьба мировой революции решалась в эти дни за стенами «Обители». Он должен был выстоять ради дела, в которое столь безраздельно верил. Но чем ему было обуздать свое разрывающееся от неизвестности сердце? Человек, если он верит не в промысел божий, а в дело рук человеческих, обречен на страдание во имя любви. И тем выше, тем жертвеннее это страдание, чем сильнее любовь. На помощь приходили стихи. Когда нечем и не на чем стало записывать, он заучивал их наизусть.
Он не задумывался над тем, хороши или нет сочиненные им строки. Для него это было нечто гораздо большее, чем просто стихи. Всю глубину тревоги и смертельную горечь перелил он в слова. Они вылились в формулу веры и клятву любви. Так он боролся с отчаянием, выползающим из липкой настороженной тьмы, отражал натиск безумия, подстерегавший в тишине, наполненной звоном капель и сонным бормотанием нечистых вод.
Когда, исколотого иглами, с распухшими, вывороченными в изощренных пытках суставами, его швыряли назад в клетку, он чувствовал себя победителем. Высшей наградой для него стали бессильные проклятия палачей. Имена, которые ему называли, свидетельствовали о том, что друзья живы и продолжают бороться. Строка за строкой складывался «Тюремный дневник», ставший действенным оружием борьбы. Попав в сравнительно сносные условия, Хо Ши Мин поспешил записать сочиненные строки. За месяцы тюремных скитаний он окончательно поседел, зубы его без боли вывалились из кровоточащих десен. Только улыбка осталась прежней.
Он все стерпел, не уступил ни пяди, и дух его остался непоколебимым. Это, собственно, и вынуждало гоминьдановские власти переводить его из одной тюрьмы в другую. Но на вокзалах, во время коротких остановок на разъездах, в зарешеченном товарняке и в кузове полицейской машины Хо Ши Мин ухитрялся узнавать главное: Сталинград стоял.
В Китае, который присоединился к антигитлеровской коалиции, эту весть невозможно было бы скрыть.
От тюрьмы до тюрьмы, под строжайшим конвоем, скапливал Хо Ши Мин силу свою и волю несокрушимую. Китайские тюрьмы во многом были подобны японским, но одна существенная особенность обращала почти в ничто всю их тщательно продуманную бесчеловечную систему. Подкупить японского надзирателя было почти невозможно. Китайские же чиновники испокон веков славились своей продажностью.
Поэтому Хо Ши Мин не слишком удивился, когда его вызвали — событие в тюрьме неслыханное! — на свидание. Надзиратель, только что тиранивший узника мелкими притеснениями, которые в условиях изоляции превращались в бесконечную пытку, разительно переменился. Непрестанно улыбаясь и почтительно придыхая, он принес мыло, таз теплой воды, чистое белье и длиннополый китайский халат с широкими, косо обрезанными рукавами. Как хотелось продлить блаженные минуты мытья! Пусть скверное мыло обжигало изъязвленные плечи, а вода скоро остыла, все равно это было ни с чем не сравнимое наслаждение. Когда, запахнувшись в слишком просторный халат, Хо Ши Мин поднимался по железной загаженной лестнице к свету, его переполняла нетерпеливая бунтующая радость. Напрасно он убеждал себя в том, что за этим кратковременным взлетом неизбежно последует нисхождение в склеп, в котором предстоит пребывать неизвестное число месяцев или даже лет. Почти инстинктивно стараясь уберечь себя от горечи возвращения в клетку, он старался умерить опасную для заключенного вспышку восторга. Но тело не слушалось доводов рассудка; истомившись в тесном колодце, оно жадно тянулось к солнцу, воздуху, буйно рвалось на простор.
В комнате свиданий, разделенной надвое вертикальными стальными прутьями, Хо Ши Мина ожидал Лыонг. Увидев беловолосого высохшего старика, закутанного в непомернно широкий халат, он вздрогнул, но тотчас же, рванувшись вперед, вцепился в решетку.
— Что с вами сделали? — непослушными губами пролепетал он.
Только теперь Хо Ши Мин понял, насколько изменила тюрьма его облик.
— Ничего, брат, — стараясь говорить внятно, но не узнавал своего пришептывающего голоса. — Не смотри, что зелена кожура, — зато красная сердцевина.
— Зубы?! — Лицо Лыонга страдальчески исказилось, и он еще крепче сжал прутья.
— Возьмите себя в руки, — твердо остановил его Хо Ши Мин. — У нас нет времени на пустяки. — Глянув на надзирателя, присевшего в углу, он перешел на вьетнамский язык: — Давайте побыстрее о главном. Как наши? Что нового?
— Под Сталинградом окружена большая фашистская группировка, — жарко зашептал Лыонг. — Только бы не выскочили из котла!!! Гитлеровцы несут потери и на других фронтах. И еще радостная весть: оказывается, Сталинград защищает шестьдесят вторая армия, которой командует Василий Иванович Чуйков. Тот самый Чуйков! Военный атташе в Чунцине! Чем больше побед будет у Красной Армии, тем труднее станет гоминьдановцам держать в застенках вьетнамских коммунистов. В Бакшон-Воняе партизанская война продолжается. Нам удалось в крайне тяжелых условиях сохранить свои силы. Это вызвало новый подъем революционного движения по всей стране. Товарищам из отряда спасения родины радостно сознавать, что они тоже вносят свой вклад в общую борьбу с фашизмом. Все крайне обеспокоены вашей судьбой. Очень трудно было напасть на ваш след. Теперь, думаю, дело пойдет легче… Вам очень тяжело?
— Вы же видите… Я веду нечеловеческий образ жизни, но не сдаюсь. Как вам удалось добиться встречи?
— Деньгам законы нипочем. Надеюсь, что в скором времени ваше положение улучшится. Вьетминь становится широким и мощным движением, и китайские власти вынуждены с ним считаться.
— Свидание окончено, — встрепенулся надзиратель, заслышав шаги на лестнице.
— Постойте, — властно нахмурился Лыонг. — Мы еще не все сказали друг другу. — Он приник лбом к решетке. — Что передать нашим? Они очень ждут!
— Постарайтесь запомнить стихотворение.[32]
— Так, — сказал Лыонг, открывая глаза. — Запомнил. Все передам.
— Свидание закончено! — китаец потянул заключенного за полу халата.
— Удалось наладить производство хинина? — выкрикнул Хо Ши Мин, обернувшись в последний раз.
— Да-да, не беспокойтесь! — Лыонг отчаянно затряс решетку. — Заводы в джунглях работают! — Он понял с запозданием, что забыл передать самое важное, и, не заботясь о конспирации, прокричал в захлопнувшуюся дверь: — Дороги опять наши!
Он так и не узнал, услышал ли его истошный вопль Хо Ши Мин.
Дороги Каобанг — Лангшон и Каобанг — Баккан — Тхайнгуэн были жизненно необходимы для партизанского движения. Перед тем как перейти китайскую границу, Хо Ши Мин распорядился взять их под военный контроль. Жаль, если он не узнает, что отряды спасения родины выполнили его последний приказ. Но радостная весть не минует узника, чей слух обострен безмолвием и грозными шорохами каменных стен. Лыонг, который сам провел несколько лет в тюрьмах, сообразил это уже потом, когда отвязался от навязчивого преследователя, поджидавшего его у железных ворот.
Глава 23
С падением правительства Коноэ индокитайская миссия Тахэя потеряла всякий смысл. Но его пока не отзывали, и жалованье из Токио поступало исправно. Нравственный кодекс «бусидо» не позволял ему напомнить о себе, и он продолжал вести прежний образ жизни, словно ничего не произошло. Полоса перемен обозначилась с прибытием посла Есидзавы. Он принял Тахэя с холодной вежливостью. Проронив несколько ничего не значащих слов о заслугах всеми уважаемого профессора, друга принца и кавалера высоких орденов, дал понять, что никаких указаний на его счет не получил.
— Пусть пока все остается по-прежнему, сэнсей, — заключил он, милостиво отпуская именитого визитера. — Ваши ценные советы могут еще понадобиться, и я уверен, что вы не откажете моим сотрудникам в советах. На первых порах мне рекомендовано сотрудничать с администрацией господина Деку.
Это «на первых порах» прозвучало яснее всяких указаний. Налицо была полная перемена тактики. В тот же день Тахэй рассчитал сотрудников и спрятал бумаги в сейф.
Покончив с экономикой и политикой, профессор с головой ушел в научные изыскания. Его глубоко увлекла загадка бронзовых барабанов. Зеленые от патины крышки этих необычных инструментов, пришедших из тьмы веков, воскрешали далекое прошлое. Но как оно было похоже на настоящее! Не здесь ли заключался секрет очарования? Какой простор открывался воображению, какие вспыхивали неожиданные аналогии, замыкая причинной связью дали пространств и глубины времен!
Рельефные фигурки любовных пар невольно наводили Тахэя на размышления о тайной сути тантрических церемоний. Вспоминались непальские храмы в Патане и Бхадгаоне, великая Кама-Сутра Индии, запечатленная в каменных колоссах Каджурахо. Властительное притяжение любви, плодотворящая космическая мощь природы. Изучая бронзовые рельефы, Тахэй лишний раз убеждался в мудром совершенстве простой, непритязательной жизни. В тех же свайных домах по сей день живут люди на Меконге и Красной реке, а многовесельные лодки с драконьими головами плавают по Чаяпрае, те же руки взрыхляют землю и сажают банан, делают зонтики из листьев бумажного дерева и ткут полотно. Крутится колесо надмирной прялки, и вечно повторяется прихотливый узор полотна. Откуда пришли мастера, отлившие из вечной бронзы исполинские рокочущие котлы с зодиакальным узором и солнечным кругом? Где впервые возникли вещие квадраты стран света, чье тайное заклятие и поныне сберегает Азия в своих храмах и пещерах? От Бирмы до Явы, от Таиланда до Малайи, от страны кхмеров до Тонкина хранит матерь-земля зеленую поющую бронзу.
Особый интерес у Тахэя вызывали запечатленные в металле сцены рисосеяния и сбора урожая. Получалось, что рисоводство пришло в Юго-Восточную Азию не из Китая, а, напротив, вопреки единодушному мнению историков Запада и Востока, было заимствовано китайцами у южных соседей. Рисовое зерно шло таинственным путем бронзовых барабанов, ныне сокрытым толщей земли. Сакральные знаки космоса и любви стерегли эту невидимую дорогу.
Теперь, когда у него появился досуг, Тахэй решил основательно заняться культурой барабанов. Поиски ее отдаленных следов начал с Ханоя и его окрестностей. В деревеньке Батчанг, где живут гончары, срисовывал орнаменты с фарфоровых черепков, а в Западной пагоде очистил от улиток и паутины резную деревяшку с изображением сказочного животного. Такой же птицеголовый буйвол украшал один из барабанов.
В тюа Стопы Будды и в дине — общинном доме в Серебряном ряду нашел изображения дракона, отличные от традиций Ли и Чан. Зато посещение Донг-ко — храма Бронзового барабана — разочаровало Тахэя. Ритуальное сокровище дэна существенно отличалось от благородных древних форм. Местный бонза сказал, что настоящий барабан, изготовленный самим королем Хунгом, пропал в незапамятные времена, а тот, что стоял ныне перед алтарем у морского ореха, чьи очертания напоминали женское лоно, отлили в прошлом веке.
«Барабаны, колеблющие свет луны», — вспомнилась веьтнамская песня. Подобными скромными радостями и огорчениями были наполнены дни его новой жизни. На улице Северных лекарств он купил хэшоуняо — легендарный настой горных целебных трав, возвращающий молодость. Казалось, что жить предстоит еще очень долго. Впереди виделось много интересной работы и брезжили контуры того невыразимого единства, в котором найдется точный ответ на любой из вопросов, когда-либо волновавших его. Иероглифический свиток в токонома он заменил изображением мандзи — символа вечности.
Известие об аресте Одзаки огорчило Тахэя, но не более. Они никогда не были особенно близки. Слухам о том, что Одзаки занимался шпионажем, профессор не поверил. Наверняка бедняга стал жертвой клеветы. В борьбе за власть ведь не брезгуют никакими средствами. Не случайно же арест был произведен в тот самый день, когда ушел в отставку Коноэ.
Тахэй не сомневался в том, что принц рано или поздно сумеет вытащить друга из беды. О том же, что кто-то может попытаться связать дело Одзаки с ним, профессором Моритой Тахэем, он и подумать не мог. Но проходило время, об Одзаки не было никаких известий, а положение Тахэя почти незаметно, но день ото дня неуклонно изменялось к худшему. Уэда, который буквально и слова не мог вымолвить без подобострастного придыхания, перестал приходить в гости. Посол Есидзава «забывал» присылать приглашения на приемы и протокольные встречи. Командующий гарнизоном под благовидным предлогом забрал автомобиль. Наконец настал день, когда Тахэй обнаружил за собой слежку. Сначала он решил, что ошибся и ничего подобного просто не может быть, но жизнь доказала обратное. Пришлось принять успокоительную версию о французской разведке или агентах Вьетминя. В глубине души он конечно же знал, что это не так. Нынешнее его положение едва ли представляло хоть какой-нибудь интерес для иностранцев. Иное дело — свои.
Визит комиссара токко кэйсацу развеял последние иллюзии. Он держался почтительно и не задавал нескромных вопросов. Разговор вертелся вокруг общих тем, и лишь брошенное невзначай упоминание об Одзаки показало, куда устремлены интересы секретной полиции.
— У вас есть какие-нибудь доказательства против меня? — напрямик спросил Тахэй.
— Боже упаси, сэнсей! — притворно ужаснулся комиссар. — Как вам даже могла прийти подобная мысль, — он рассмеялся. — Ничего подобного нет и быть не может. Все равно что замахнуться лапкой кузнечика на императорскую карету.
— В таком случае попрошу вас без лишних слов объяснить цель прихода.
— Я только выполняю приказ, сэнсей, — комиссар казался смущенным. — Простите меня.
— Какой приказ? — Тахэй был предельно лаконичен. — И чей приказ.
— Нас интересует ваша корреспонденция. — Заметив, что лицо собеседника напряглось, комиссар поспешил поправиться: — О, разумеется, не вся, а только письма некоторых, точно поименованных лиц.
— Вам поручено произвести у меня обыск?
— Что за ужасное подозрение! Скорее цветы вырастут на камне, — я бы не посмел взглянуть вам в глаза. Вот если бы вы сами согласились помочь нам… — он выжидательно замер.
— Короче говоря, вы просите у меня разрешения ознакомиться с корреспонденцией? Я правильно вас понял?
— Да, это так, сэнсей. Но, повторяю, решение принадлежит вам.
— Мне остается только радоваться тому, что от меня еще что-то зависит. Завтра или послезавтра я уже не смогу отказать в подобной просьбе. Не так ли?
— Не знаю, сэнсей, — уклонился комиссар.
— Будете смотреть здесь или возьмете с собой?
— Я бы предпочел для начала ознакомиться на месте.
— И немедленно?
— Если такова будет ваша воля.
— Я могу изъять переписку сугубо личного характера?
— Как угодно, — комиссар помрачнел. — Не смею воспрепятствовать.
Тахэй понял, что против него у токко кэйсацу ничего нет. Да и быть не может. В противном случае они бы не стали церемониться. Но все равно, это пляска на лезвии меча. Полиция явно боится, что он может уничтожить компрометирующие документы. Лишь тонкая паутинка пока удерживает их от крайних мер. Какой узкой сделалась грань, отделяющая честь от позора. Не разместиться, не устоять.
— Прошу вас дать мне сорок минут, — Тахэй принял решение, — на приведение в порядок сугубо личных дел. Вот ключ от сейфа, где хранится корреспонденция, — он с поклоном вручил всю связку, продетую сквозь костяную нэцке в виде трех обезьянок. — Извините, что вынуждаю вас ждать.
— Это мне следует извиняться. Охотно подожду.
— Служанка подаст вам все необходимое, — поднялся с татами Тахэй.
В спальне он остановился перед алтариком предков. Низко поклонился портретам матери и отца. Пустая комната, откуда, как обычно, утром вынесли постель, навевала грусть и успокоение.
Насыпав корм в круглый аквариум с рыбками, Тахэй раздвинул перегородку, отделявшую кабинет. Из фамильного ларца вынул завернутые в огненный шелк изящные принадлежности для сэппуку — ритуального самоубийства — и присел у столика с лаковыми коробочками для туши и кистей. Строго по правилам каллиграфии написал прошение об отставке и официальное извинение за самоубийство.
Оставалось теперь только выбрать подходящее место. И в этот миг Тахэй пережил сатори, то самое внезапное озарение, которого никак не мог достичь по системе дзэн. Он увидел, как страшный демон в короне из черепов вращает разделенное на шесть секторов колесо. В мелькании обода слились воедино формы перерождений. Замкнулась и предстала единой цепь причин и следствий. Служа смерти, он ускорил и неизбежное свидание с небом. Теперь он знал, где это надлежит сделать.
Сад исключался, поскольку пролитая на землю кровь была равносильна признанию вины. Но он не ощущал себя виновным перед теми, кто не оставил ему никакого выбора. Была иная, действительная вина перед миллионами неизвестных существ, о которой он не подозревал до потрясения сатори. Ее нельзя было смыть кровью, а пустота, в которую он уходил, измельчала на атомы и мысли и формы. Пока длилась жизнь, существовала и вина. А потому он не был властен обагрить кровью белизну татами, как намеревался сделать это до озарения, ибо красное на белом, словно флаг «Хино-мару», означало полное отсутствие всяких грехов. Оставалось одно: уйти на террасе, где росли орхидеи. Пусть благородная розовая древесина примет струю отлетающей жизни.
Тахэй откупорил длинную темную бутылку. Это был черный сакэ с порошком кунжута и пеплом, который пьют только при расставании. Он приберегал ее для прощального вечера, чтобы распить с друзьями, а выпьет в одиночку, расставаясь с собой. Прежде чем пригубить первую чашечку, обмакнул пальцы в сакэ и, разбрызгав по воздуху, напоил духов. Это было его прощание с Азией.
Закрыв глаза, вызвал в воображении сочувственную улыбку бога последнего странствия. Пусть подарит милость человеку, которому никто не сказал напутственный слов: «Спокойной смерти».
Распахнув кимоно, Тахэй пил чашу за чашей. Когда до истечения испрошенного им срока оставалось совсем немного минут, он уже был сильно пьян. Раскрасневшийся, с сентиментальной улыбкой на устах, он напоминал человека, который провел удачный вечер с гейшами и вот-вот собирается возвратиться домой. Ему и в самом деле пришла пора прощаться.
Надев белую рубаху, он прошел на веранду. Сел на теплые доски, положил рядом письма, неторопливо развязал огненный шелк. Как притягательно блестела на нем синеватая сталь и желтая резная слоновая кость! Последняя иллюзия, которую многие принимают за главную прелесть жизни. Мононо аварэ — очарование вещей.
Встав на колени, Морита Тахэй обнажил кинжал и вогнал его себе в живот. Затем нащупал на шее сонную артерию и полоснул по ней острым тончайшим лезвием. Друга, который мог бы оказать ему последнюю помощь, рядом не было, и поэтому прошло неведомо сколько времени, прежде чем он умер. Боль не мучила его остротой, и, впадая в расслабляющий сон, ему не пришлось ни о чем пожалеть.
Токко кэйсацу в гостиной терпеливо ждал.
Глава 24
Фюмроль встрепенулся от бьющего в глаза электрического света. Над ним стоял японский офицер в маскировочном комбинезоне.
— Stand up![33] — скомандовал офицер, расчетливо ударяя носком ботинка под ребра. Очевидно, он принял полуголого европейца за англичанина.
— Не бейте, — задохнулся от боли Фюмроль и заговорил по-японски: — Я такой же офицер, как и вы. — Он с трудом поднялся. — Пожалуйста, обращайтесь со мной по-человечески.
— Вот как? — Японец осветил его, медленно ведя луч от головы к ногам. — Где же в таком случае ваша форма? Знаки различия?
— Мне пришлось добираться вплавь.
— С ней? — Японский офицер направил фонарь на девушку, сидевшую на коленях в углу.
— Нет, — Фюмроль со стоном схватился за ушибленный бок. — Она была здесь, когда я вошел.
— Выведите девку, — приказал офицер и неожиданно ударил Фюмроля двумя твердыми, как рог, пальцами в солнечное сплетение.
— Что вам тут надо? — спросил он, когда подозрительный белый пришел в себя. — Где научились японскому языку? С каким заданием посланы?
— Я скажу это только высшему начальнику, — попытался выиграть время Фюмроль. После пережитой боли в нем тряслась каждая жилка.
— Перед вами подполковник императорской гвардии. Если не хотите, чтобы стало еще больнее, отвечайте точно и коротко.
— Я офицер связи при губернаторе французского Индокитая. — Фюмроль решил не скрывать правду. — Наше судно было задержано японской субмариной у побережья Кота-Бару.
— Какое именно? — подполковник перешел на французский.
— Джонка.
— Как оказались на столь жалкой посудине?
— Мой самолет потерпел аварию.
— Майор Фюмроль? — поинтересовался японец и, не дожидаясь ответа, иронически поклонился: — Рад неожиданной встрече. — Откуда плыли?
— С островов Драконьего Жемчуга.
— Где другие пилоты?
— Мертвы, господин подполковник. С кем имею честь?
— У тебя нет больше чести, шваль! — взорвался японец и ребром ладони рубанул Фюмроля по затылку. — Давайте сюда девку, — позвал он, высовываясь из окна. — Живо!
Солдаты бросили девушку к его ногам.
— Кто он? — спросил подполковник, толкая ногой потерявшего сознание француза. — Как здесь оказался?
— Не знаю, господин, — она едва понимала чужой язык.
— А ты?
— Хоанг Тхи Кхюе, господин.
— Каким ветром тебя занесло в Малайю?
— Не знаю, господин, — девушка втянула голову в плечи, словно ожидая удара.
— Где твой дом? — японец догадался, что она просто не поняла вопроса. — Как попала сюда? — постучал он по бамбуковому столбу, поддерживающему крышу.
— Сайгон, господин. — Она спрятала лицо от слепящего света, но луч вновь ударил в глаза.
— Сидеть! — прикрикнул японец. — Как же ты очутилась в Малайе?
— Малай-а? — она по складам повторила явно незнакомое слово. — Не знаю, господин.
— Как называется твоя страна? — подполковник проявлял поразительное терпение.
— Вьетнам.
— А эта?
— Вьетнам.
— Где Сайгон, идиотка?
— Далеко, — она махнула рукой на темный квадрат окна. Японец машинально повернул голову.
В разрывах невидимых туч влажно лучились звезды. Дождь прекратился и стало слышно, как шумит неспокойное море.
— Джонка? Сампан?
— Сампан, господин, — она обрадованно закивала. — Сампан «Нянь люа».[34] Тайфун налетел. Три, четыре, пять, — начала загибать пальцы, — шесть дней кидало. Потом из моря Железный сампан. Японский господин в трубу кричал: «Плыви сам, плыви сам!»
— Наконец-то! — усмехнулся полковник. Его позабавила мысль о том, что судьбы таких разных человеческих существ, как беглый француз и эта полудикая вьетнамка, столь смешно и нелепо пересеклись по его вине.
Железная воля генерала Ямаситы, которому понадобились суда, предопределила, наверное, сотни подобных встреч, разметала по ветру бессильные намерения и жалкие жизни. Ямасита приказал, а он, подполковник Арита, исполнил, добыв за три дня охоты свыше двухсот судов. Все остальное — капризная прихоть случая: встречи, разлуки, гибель и этот тайфун, который, описав петлю, пригнал к Малайскому полуострову десяток лодчонок с индокитайского юга.
Фюмроль, придя в сознание, застонал и сделал попытку встать.
— Вы можете расстрелять меня, — цепляясь за жерди, он с трудом выпрямился. — Но не смейте прикасаться ко мне, животное!
— Хотелось бы разъяснить ваше незавидное положение, — обернулся японец. — Я могу расчленить вас на кусочки или передать господину Деку. Скорее всего, он пошлет вас на гильотину. Или вы больше предпочитаете киматори? Надеюсь, не надо объяснять, что это такое? Слово за вами, господин капитан.
— Майор, — зачем-то поправил Фюмроль. На него нахлынуло непонятное изнеможение, он пошатнулся и рухнул на земляной пол.
— Какие слабые нервы, — пожурил подполковник. — Похоже, вы знаете, что такое киматори. Но не волнуйтесь, мне не нужна печень малодушного. Еще, чего доброго, заразишься падучей.
— Малай-а, — растягивая слоги, повторила Хоанг Тхи Кхюе.
— Что? — не понял японец. — Вышвырните эту обезьяну, — он перевел фонарь на Кхюе. — Она меня больше не интересует.
С моря донесся низкий протяжный гудок.
— Катер, господин подполковник, — козырнул один из солдат.
— Да, пора возвращаться, — Арита встал с разостланной плащ-палатки. — А я еще не решил, как поступить с задержанным. — Он поставил ногу Фюмролю на грудь. — Вы еще не умерли?
— Чего вы хотите от меня? — не выдержал тот и со стоном перевалился на бок. — Каковы ваши условия?
— Так, — удовлетворенно констатировал Арита. — Торг начался. Как это во вкусе белых людей, — ему доставляло странное удовлетворение играть с поверженным врагом, как кот с мышью. Что ж, он и сам удивляется своему великодушию. Отпустил зачем-то перепуганную дикарку, хотя принципиально никого не отпускал, а теперь церемонится с полутрупом, который ему также совершенно не нужен. Зачем? — Итак, вас интересуют условия, — так ничего и не надумав, возобновил он зловещий диалог. — Точнее, одно-единственное условие. Короче говоря, жизнь. Вы хотите жить?
— Что вам от меня нужно? — собрав последние силы, Фюмроль выпрямился, хватаясь руками за гладкие колена бамбукового столба.
— В том-то и весь трагизм вашего положения, майор, что ничего. Все, что можно, вы уже продали. Вам нечем расплатиться даже за жизнь, а она ведь так недорого стоит.
— Тогда добейте меня. Но зачем издеваться, мучить?
— Не понимаете? А один ханойский дурак по имени Уэда уверял меня, что вы до тонкости изучили дух Ямато и вообще очень опасны. Нет, вы не знаете нас. И безвредны, как раздавленная колесом змея. Не забыли, как зовут нашего бога смерти? Если вы были в Нара, то должны помнить грозного владыку, пляшущего на буйволе с мечом и капканом в руках. По бокам его стерегут перевитые змеями ино.[35]
— Эмма.
— Верно, Эмма. Индийцы зовут его Яма, китайцы — Янью, монголы — Эрлик. Звучит сходно, и люди умирают одинаково: монголы, китайцы, малайцы. Под Кота-Бару мы нашли полевой госпиталь, в котором лежали индийские солдаты из второго Пенджабского полка. Один из моих «висельников» облил их бензином и выстрелил из ракетницы. Вы, конечно, считаете, что он поступил жестоко? Это не так. Мы воюем во имя освобождения Азии и поэтому считаем изменником любого азиата, поднявшего на нас оружие. Пусть индийцы знают, что объятый пламенем Яма уже скачет на них и земля трясется под копытами. Англичан и австралийцев мы, к вашему сведению, только расстреляли. Как видите, мы делаем различие между людьми, тогда как белые подходят к нам, служителям духа, со своей меркой. Попробуйте заслужить жизнь.
Скрипя зубами, Фюмроль отчаянно старался удержаться на ногах. Он был гол, беззащитен и бесконечно унижен. Ему хотелось сейчас умереть. Только безболезненно и спокойно, подобно засыхающему дереву, как говорят японцы. Он беззвучно плакал.
— Или легкую смерть, — Арита, казалось, читал мысли. — Ничто — это целостность мира, из которой рождается все и куда возвращается все. Реальный мир только манифестация этого всеобщего небытия, его частное воплощение, зыбкое и мимолетное, как отражение в воде. Выбирайте, что вам ближе.
— Пожалуйста, застрелите меня, — тихо сказал Фюмроль.
— Хорошо, я сделаю вам предложение. — Арита, казалось, не расслышал. — Кажется, мне удалось найти приемлемое решение. Вы стремились к де Голлю? Что ж, это только естественно. Мы готовы оказать вам необходимую помощь. Сражайтесь за Францию, бейте немцев, выполняйте приказы ваших начальников. Когда вы понадобитесь Японии, мы вас найдем. Как видите, условия достаточно мягкие. Считайте это капризом, но мне почему-то захотелось сохранить вам жизнь. Долг не позволял сделать это просто так, без всякой компенсации. Я придумал приемлемое решение. Не исключено, что вы погибнете в бою. Или ваши услуги вообще не потребуются. Всякое может статься. Вы почти ничем не рискуете. Никто не помешает вам, наконец, просто лишить себя жизни.
Фюмроль почти поверил в искренность японца. Еще секунда, и он бы сдался, но тягостное предчувствие скорой гибели мешало ему сказать «да», навязчиво подсказывало, что враг просто забавляется его беззащитностью и смертной страдой.
— И вы отпустите меня просто так? Под честное слово? — Он ждал ответа с замиранием сердца, с трепетной надеждой, за которую себя ненавидел.
Арита презрительно усмехнулся. Ему действительно захотелось спасти этого человека, и он был готов отпустить его под честное слово. Своим вопросом заурядного торгаша француз сам все испортил. Нет, он не человек духа. Обыкновенное мясо. Пусть пеняет теперь на себя.
А Фюмроль не сводил жадных, тоскующих глаз с японца, как будто бы что-то мог разглядеть за слепящим электрическим кругом.
— Я полагал, что вы поняли, о чем идет речь. Наш договор мы оформим по всем правилам в ближайшем населенном пункте, после чего вы получите деньги, паспорт нейтральной страны и билет до Лондона, — отчеканил подполковник. — Так, вы согласны?
— Нет! — выкрикнул Фюмроль. В ту же секунду Арита выстрелил и, не оглядываясь, вышел из хижины.
— Господин подполковник! — подскочил к нему поджидавший у порога лейтенант Ида. — В лесу обнаружено четыре совершенно целых танка «Матильда» и два танка «Валантайн». Мои ребята могли бы…
— Отставить, — оборвал его Арита. — Это не наша задача. Быстро на катер.
Он подумал, что зря отпустил девку. Надо было хотя бы отдать ее солдатам. Они заслужили маленькое развлечение: денек был жаркий.
— Где мой меч, Ида? — спросил он.
— Здесь, господин подполковник! — держа на вытянутых руках завернутую в шелк драгоценную реликвию, выступил верный оруженосец из темноты. — Прикажете поискать еще пленных?
— Сейчас уже поздно, но завтра я, быть может, смогу показать прием в стиле Мусаши. Самый трудный.
— Ребята очень обрадуются, господин подполковник. Они готовы за вас в огонь и воду. Они уже близко. Слышите, как поют?
Это была знаменитая «Уми юкаба» — песня бесстрашных, в которой «висельники» кощунственно заменили слово «император» именем своего командира.
— Скажи им, чтобы они так больше не пели.
Приняв меч, Арита пошел к морю, над которым трепетали молнии дальних гроз.
Глава 25
Год Водяной Овцы Нго Конг Дык встретил на Пулокондоре. Прежде чем попасть на острова, расположенные в восьмидесяти километрах от дельты Меконга, он около года провел в сайгонской тюрьме, где заслужил репутацию «нгоанко».[36] Перед самым тэтом его вместе с другими упрямцами заковали в цепи и швырнули в полицейский фургон. Ударившись головой о железную стойку, он потерял сознание. Очнулся только у причала, где автоколонну с узниками уже ожидало судно, курсирующее между Сайгоном и Пулокондором. Скованные одной цепью заключенные в последний раз вдохнули свежий воздух и побрели к люкам, извергавшим смрад нечистот и протухшей воды. Их так и не расковали. Весь путь до каторжной тюрьмы они провели в полной темноте среди крыс и москитов, которые поколениями плодились в стальном чреве старого брандера.
По случаю Нового года тюремщики были пьяны и настроены благодушно. Ограничившись поверхностным обыском и несколькими зуботычинами, они на скорую руку рассовали новоприбывших по камерам. Надзиратель корпуса С, куда попал Дык, даже произнес прочувствованную речь:
— Мы рады приветствовать столь избранную публику на нашем знаменитом курорте, — он залился пьяным смехом, хотя повторял свою остроту перед каждой новой партией заключенных. — Все вы отъявленные негодяи, но у каждого будет возможность исправиться. Помните это. Неисправимые у нас долго не живут. Они переселяются на небо, хотя я далеко не уверен, что там их ожидает теплый прием. Вы находитесь на острове, выродки. Остров, полагаю, вам известно, со всех сторон окружен водой. Можете биться головой об стенку, орать, объявлять голодовку — нас это не волнует. Голодовки мы даже приветствуем — вновь последовал приступ хохота, — больше риса достанется птичкам и кошечкам. Ваши жалкие жизни стоят не дороже бланка, который мы аккуратно заполняем после смерти каждого мерзавца, не пожелавшего стать порядочным человеком.
В камере Дык встретил старых знакомых: студента Лe и Тон Дык Тханга, с которым познакомился в сайгонской тюрьме.
Тханга любило все коммунистическое подполье. В девятнадцатом году он поднял красный флаг на крейсере «Вальдек Руссо», стоявшем на рейде Одесского порта, и по приговору военного трибунала целых семнадцать лет провел в каменном мешке Пулокондора. Когда во Франции победил Народный фронт, Тханга выпустили на свободу. По возвращении с Восьмого пленума он был вновь арестован в Кохинхине. Его выследил элемент АБ.
Нго Конг Дыка приняли в камере как своего.
— Витамины привез? — первым делом спросил его студент.
Дык прошел в сайгонской тюрьме хорошую школу и прекрасно знал, что называют политзаключенные витаминами духа,[37] без которых в тюрьме не прожить.
— Про Сталинград уже знаете? — поинтересовался Дык, развязывая мешок. — Или после известия о поражении японского флота у острова Мидуэй время для вас остановилось?
— Он еще шутит! — возмутился студент. — Мы знаем, что Красная Армия окружила фашистов и им предъявлен ультиматум. Чем кончилось?
— Чем должно было кончиться, тем и кончилось. — Дык весело оглядел окруживших его товарищей. — Полная победа! Разгромлены десятки отборных дивизий, огромное количество пленных, среди которых двадцать четыре генерала и сам Паулюс. На других фронтах советские войска тоже продвигаются вперед, освобождают город за городом. На китайско-бирманской границе армия центрального правительства оказывает упорное сопротивление японцам. Ну как, хороши витаминчики?
— Ты хорошо запасся, парень, — одобрил Тханг. — Сведения первый сорт.
— И свежие! — Лe поднял над головой кулак.
— Знал, куда еду! — Встретив своих, Дык приободрился. Даже рана на голове, загноившаяся за дорогу, как будто бы мучила меньше. — Так что поправляйте, товарищи, здоровье. Тебе особенно нужно за себя взяться, Ле, — он озабоченно всматривался в посеревшее, осунувшееся лицо друга, почти сплошь покрытое мокнущими струпьями. — Совсем отощал.
— Ты лучше на себя посмотри, — отшутился Ле. — Могуч, как Ли Онг Чаунг! Чем это тебя? — он осторожно прикоснулся к ране на голове. — Болит?
— Пустяки. В машине стукнулся.
— Дайте мне бальзаму, — попросил Тханг. — Есть еще вести? Нгуен Ай Куок?
— О товарище Хо Ши Мине ничего нового. — Дык покорно дал смазать рану. Утихшая было боль вспыхнула с новой силой. — Они по-прежнему держат его в тюрьме. Но наши товарищи считают, что после Сталинграда китайцы станут покладистее. Генеральный секретарь исполкома гоминьдана У Дэн-чэн долго говорил о разгроме фашистов по чунцинскому радио.
— Известно хоть, в чем его обвиняют? — спросил Тханг.
— В шпионаже. Гоминьдановцы считают, что товарищ Хо Ши Мин перешел границу для встречи с китайскими коммунистами. Они начали пытать его еще в Цзинси, но ничего не добились.
— И не добьются, — повторил Тханг. — Я знаю Ай Куока больше двадцати лет. Пусть он ездил по разным странам, а я сидел на Пулокондоре, связь между нами не прерывалась. Он мне даже стихотворение прислал. «Что бы там ни было — все стерплю…»
— «Я им ни пяди не уступлю», — продолжил Дык. — Эти стихи поют во всех политических тюрьмах Индокитая, товарищ Тханг.
— Новенький правильно сказал, — от стены отделился высокий человек с искалеченной в пытках рукой. — В мире единый фронт против фашизма. Это рано или поздно дойдет до всех. Гоминьдановцы вынуждены будут освободить нашего вождя. Они сейчас являются основной силой, противостоящей японцам, и не должны ослаблять антифашистский лагерь. Китайским коммунистам тоже следует понять, кто является главным врагом. — Он подошел к Дыку. — Будем знакомы. Фам Динь Тян из Хюэ. — Заметив единственно дозволенную в тюрьме миссионерскую брошюрку в руках новичка, пошутил: — Никак, решил нас в христианство обращать?
— Совершенно верно, товарищ Тян, — протянул ему книжку Дык. — Найдется лимон или лайм? Глава девятая. Со слов: «Тогда Он, войдя в лодку…»
— С этим, к сожалению, придется подождать до первой прогулки, — огорчился Тян. — Такими сокровищами на Пулокондоре не балуют. Скоро сам увидишь, чем нас тут потчуют. Щепотки соли не допросишься.
— Соли! — усмехнулся Ле. — Наш достопочтенный боров, надзиратель, нарочно старается подсунуть вместо нее негашеную известь. Забавляется. Есть у нас еще и санитар по прозвищу мсье Аспирин. Если кто заболеет, он посыплет ему рис порошком аспирина и был таков. Пусть у тебя язва желудка, туберкулез или амебная дизентерия — ему наплевать. Одним словом, не вздумай болеть и не проси добавки.
— Что ты стращаешь паренька, Ле? — вмешался Тханг. — Судя по всему, он изучил полный курс арестантских наук. — Он похлопал новичка по плечу. — Не пропадет. Что там в брошюре?
— Задачи Вьетминя! Получено из резервной зоны безопасности в Тхайнгуэне. Партия считает, что рабочие и крестьяне должны стать основным костяком демократического фронта борьбы против японских фашистов. Это главное. Но на определенных условиях мы должны быть готовы вступить и в коалицию с группировкой де Голля, привлечь на свою сторону китайских эмигрантов. При помощи союзников и умелом использовании противоречий в стане врага антифашистское восстание победит.
— Спасибо тебе, товарищ. — Тханг протянул руку за евангелием. — Всем задание: добыть лимон. Пока же будем готовиться к празднику. Девятнадцатый год встречаю тэт за решеткой и каждый раз радуюсь, как малыш, которому подарили красный конверт с новенькими денежками. — Он хлопнул себя по лбу: — Ну что за неисправимый дурак!
Заключенные рассмеялись. Витамины духа, принесенные новичком, и близость праздника подняли настроение.
— А если рассудить, то чего нам не хватает? — продолжал забавлять товарищей неугомонный Тханг. — Тэт принято встречать всей семьей. Так? Вот мы и собрались вместе. Съехались, можно сказать, из самых разных мест, бросив важные дела. Может быть, нам нужны гости? Или хотя бы один, первый, который, согласно обычаю, является предвестником счастья на будущий год. Пришел к нам такой гость? — Он лукаво покосился на Дыка.
— Пришел! — хором откликнулась камера.
— Принес он нам долгожданную весть о великой победе героической Красной Армии?
— Принес! Еще как принес!
— Значит, будет у нас счастье в новом году?
— Непременно!
— Тогда скажите, чего у нас нет, — он с притворным возмущением развел руками. — Чем вы недовольны?
— Всем довольны! — по заведенному порядку отозвались заключенные.
— Ракет нет, — послышался чей-то одинокий голос.
— Ракет? — изумился Тханг. — Кто сказал, что в небе сегодня не будет ракет? На нашем благословенном острове хоть и нет цивильных лиц, но у господ охранников и надзирателей есть семьи. Неужели замечательные ребятишки наших заботливых сторожей обойдутся без новогоднего фейерверка? Никогда не поверю!
— Это будет скучный фейерверк, дядюшка Тханг, — под общий хохот заметил Лe. — В доме палачей не бывает искреннего веселья.
— Во-первых, ты ошибаешься, студент, — возразил Тханг, — веселиться умеют даже палачи, а во-вторых, с меня достаточно мысли о том, что в Москве наверняка будет салют по случаю взятия какого-нибудь неизвестного нам города. Короче говоря, все, что надо для счастья, у нас есть. Даже бань тэт, приготовленный из настоящего клейкого риса и зеленого горошка. Уважаемые тюремщики оставили нас в покое. Целых два дня нас не будут выводить на работы! Целых два вечера мы проведем за пиршественной беседой. Нами получены роскошные подарки из соседних камер и посылки с воли, в которых чего только нет: пирожки, королевские бананы, лангустины, кокосы, слоеное печенье и даже креветочный соус. Пусть потом опять настанут дни тягот и голода, у нас найдется о чем вспомнить. Поэтому я предлагаю такой порядок. Гость и счастливый вестник пусть немножечко передохнет. Все мы знаем, к сожалению, что такое дорога на Пулокондор. Остальные могут начать подготовку к празднику. Нам предстоит прибрать дворец и накрыть столы для пира. Студента Ле я тоже предлагаю освободить от домашних хлопот, потому что друзьям наверняка хочется побыть вдвоем.
— Правда, замечательный человек? — не скрывая восхищения, спросил студент, подсаживаясь поближе к Дыку.
— На воле его тоже очень любили, — кивнул Дык. — Преподает?
— Английский. Нашу школу организовал товарищ Фам Ван Донг.
— А я целый год занимался биологией. После победы пойду в университет.
— Почему именно биология? — удивился Ле. — Мне кажется, тебе бы больше подошла математика. Я читаю товарищам курс тригонометрии. Это очень важно для военного дела.
— И я здесь обязательно стану заниматься, потому что мы должны быть готовы принять участие в борьбе. Но, когда наступит мир, пойду в доктора. Хочу помогать жизни. Слишком много смертей и боли. Мы все в долгу перед жизнью. Знаешь, погиб и мой Белый Нефрит?
— Не может быть, Дык! Это какая-то ошибка.
— Я получил весточку от дедушки Лиема. Ошибка исключается. Хоанг Тхи Кхюе бежала из Сайгона перед самым началом войны на Тихом океане. Их сампан остановили японцы и приказали всем пассажирам прыгать в воду. Наверное, она утонула.
— Она же плавает как рыба! С детства на реке.
— Среди доплывших до берега ее не было. Это случилось возле Малайи.
— Как они там очутились?
— Тайфун. — Дык обнял приятеля. — Вот и все, не будем больше об этом. Для заключенного такие мысли страшнее всякого яда. Теперь я совсем один, у меня нет ничего, кроме Родины.
— Не установили, кто выдал сампан дедушки Лиема?
— Нет, Ле, пока ничего не известно. Ты знаешь, ведь именно там я встретил последний тэт! Всего год прошел, а кажется, что целая жизнь. Нас взяли на второй день праздника. Теперь я только и делаю, что вспоминаю.
— Не надо вспоминать. Ищи предателя.
— Как? — горько усмехнулся Дык. — Вокруг бетонные стены и море. Мы скованы по рукам и ногам.
— Зато мысль свободна. Ты должен вспомнить всех, с кем встречался незадолго до ареста, и каждого перебрать по косточкам. Это твоя святая обязанность. Предатель, возможно, все еще творит свое грязное дело. Хуже нет, чем взрастить в доме лисицу.
— Я даже не уверен, что тут действовал предатель. Жандармы и сами могли выследить. Разве не так?
— Могли, — согласился Ле. — Но разве ты не знаешь, что прежде всего мы обязаны подумать о шпионе? Вспомни, как были арестованы наши товарищи. Меня ведь тоже выдал провокатор.
— Знаю. Товарищ Танг рассказывал. Мы разоблачили и обезвредили оборотня.
— Вот видишь! Нет, ты просто обязан напрячь память. Если появятся какие-нибудь подозрения, мы найдем способ снестись с волей.
— Здесь, на Пулокондоре? — удивился Дык. — А вообще-то конечно. Отец Белого Нефрита бежал именно из этой тюрьмы. Деньги только нужны. Здесь дорого?
— Не очень. Все надзиратели купили свои должности у начальника сектора. Он человек без принципов. Для него тюрьма лишь рынок, где нужно наладить образцовую торговлю. Поэтому цены у нас твердые, в зависимости от поста, который занимает охранник. Того, кто отпирает камеры и водит на прогулку, можно купить за двадцать монет. Это мелкая сошка. Наблюдающего за свиданиями этим уже не умаслишь: у него должность дороже и выгоднее. Как-никак может присвоить себе любую передачу. Да и денег у вольных побольше, чем у нашего брата.
— Ясно. Вопрос, значит, упирается в деньги.
— На нашем черном рынке все идет в дело: сигареты, еда, опиум. За письмо на волю берут двести пиастров. У Родена есть такая скульптура «Мыслитель». Не иначе, заключенного изобразил. У тебя есть памятка для выявления элементов АБ?
— Нет, товарищи не успели снабдить.
— И напрасно, — студент был рад вновь взять шефство над младшим товарищем. — Тогда слушай и запоминай: «Он любопытен, часто выспрашивает одного человека про другого, тайком вскрывает письма. Он не жалеет денег на одежду, на угощение и вообще всегда бывает при деньгах. Он время от времени исчезает в неизвестном направлении. Он встречается с подозрительными людьми, распространяет ложные слухи, стараясь преувеличить силы империалистов и посеять страх среди революционеров. Рассказывает клеветнические истории, пытаясь очернить хороших товарищей и подорвать к ним доверие. Часто берется за рискованные задания, стремясь завоевать доверие, бывает, выполняет то, что другие никак не смогли бы сделать…» Усвоил? Теперь можешь действовать.
— Скажи сначала, — попросил Дык.
Студент повторил.
— «Часто выспрашивает одного человека про другого», — прошептал Дык. — Я буду над этим думать.
— Хватит шептаться в углу, — подошел к ним Фам Динь Тян. — Давайте лучше почитаем стихи. Чья сегодня очередь? — обернулся он к дядюшке Тхангу.
— Разрешите, я прочту, — попросил Дык. — Перед отправкой сюда мы разучили стихи о верности, которые пришли из далекой России.
— Молодцы! — обрадовался Тханг. — Льенсо муон-нам![38] — воскликнул он, подняв кулак. — Начинай, счастливый гость.
— Их написал поэт Си-Ма-Ноп, — сказал он и, вскинув голову, затянул:
Голос чтеца оборвался на самой высокой ноте, он закрыл лицо руками и отвернулся.
Глава 26
Жаламбе скинул сорочку, подлил в тазик кипятку из термоса и нехотя сел за рабочий стол. Попробовав пальцем, не горячо ли, погрузил в воду набухшие от жары ноги. Любимая обезьянка по кличке Гарсон, прикованная длинной цепочкой к полу, прыгнула к хозяину на колени и с нежной деловитостью принялась слизывать с его кожи кристаллики соли. Стало щекотно. Жаламбе засмеялся и, отогнав обезьянку, почесал волосатую грудь.
Перед секретным совещанием во дворце хотелось подобрать материал, рисующий секретную службу в более выгодном свете. Но похвастаться было нечем. Самую дееспособную агентуру переманили японцы, и контрразведка все больше уподоблялась тайной полиции. Причем в наихудшем, провинциальном варианте. Конг превратился в типичного агента-двойника. Вполне вероятно, что он работал еще и на китайцев. Жаламбе запомнилась поговорка о листьях, краснеющих трижды в году. Он подозревал, что недалек день, когда виртуоз-оборотень переметнется к американцам. Морское сражение у атолла Мидуэй изменило соотношение сил на Тихом океане, и со дня на день могло начаться решительное контрнаступление. Затяжные бои за Гвадалканар показали, что японский блицкриг захлебнулся. «Неизвестно еще, где раньше высадятся союзники, — размышлял Жаламбе, — на Окинаве или здесь, в Индокитае. С открытием второго фронта в Европе они будто бы не очень спешили. Еще есть время сориентироваться и хорошенько взвесить решительный шаг. Русские переломили бошам хребет и в решительном темпе забирали обратно свои города. Как только они начнут брать чужие, англо-американцы поспешат им навстречу. А это значит, что рано или поздно де Голль вступит во Францию. Надо быть законченным идиотом, чтобы сомневаться в том, за кем пойдет страна. Вчерашний эмигрант превратился в национального героя, вернувшего Франции честь и веру в себя, а престарелого маршала открыто называют изменником. Только прощелыга Дюкоруа, не краснея, продолжает именовать Петэна спасителем отечества, для многих он просто предатель». Жаламбе раскрыл досье, заведенное на генерала Мордана. Еще год назад собранных контрразведкой материалов было бы вполне достаточно, чтобы, по меньшей мере, сорвать с него золотое шитье. Какое счастье, что Жаламбе удержался тогда от соблазна. Никогда не следует сжигать за собой корабли.
Все эти годы Мордан продолжал тайно сноситься с представителями Свободной Франции. Не далее как неделю назад он встретился с деголлевским эмиссаром, который спустился на парашюте в районе Халонга. Жаламбе знал, что Деку тоже какими-то путями проведал об этой встрече, но ничего не предпринял. Это ли не знамение времени? Неужели хитрец вздумал переметнуться? Отчего бы и нет? Ему надо спешить. Он слишком тесно связан с Дарланом, чтобы позволить себе дожидаться, когда пробьет без четверти двенадцать.
Жаламбе плеснул в стаканчик «касси» и, со вкусом прихлебывая, принялся изучать последние декреты генерал-губернатора. Деку явно старался заручиться поддержкой феодальной монархии и мандарината. Он реставрировал дворец в Хюэ, восстановил старинные церемонии, столичная пресса начала широко пропагандировать всевозможные выставки, литературные конкурсы и народные ремесла.
Что ж, подобные меры были разумны, и любая власть поставит их генералу в заслугу. Он не побоялся изменить статут администрации, упразднив архаичное разделение чиновничества на индокитайское и европейское. Н это тоже правильно. Франция в ее нынешнем положении не может позволить себе унижать Индокитай. Жаламбе мысленно одобрял даже такую меру, как запрещение обращаться к туземцам на «ты». Сам он продолжал «тыкать» своих агентов, не делая, впрочем, исключения и для французов, но любил поболтать на досуге о «новом курсе», «политике уважения», «дружеских контактах» и прочей ерунде.
Вызывало недоумение другое. Уравнивая туземцев в правах, открывая школы, Деку не только делал упор на моральное и патриотическое воспитание, но и рьяно насаждал культ Петэна. Этого Жаламбе и не мог понять. Неужели адмирал не видел, что дни «национальной революции» сочтены? Едва ли. Иначе бы он нашел возможность поставить контрразведку в известность о махинациях Мордана.
«Ставит на двух лошадей сразу? — спрашивал себя Жаламбе и вновь был вынужден констатировать: — Почему бы и нет?»
Именно для этого он приблизил к себе Дюкоруа, пришедшего на смену беглецу Фюмролю. До чего все-таки сильны кастовые связи на флоте! Весь Ханой потешался, когда генерал-губернатор придумал красавчику моряку курьезную должность комиссара спорта и молодежи. Но вскоре острякам, прохаживавшимся насчет «юного спортсмена» и мадам Деку, стало не до смеха. Дюкоруа быстро разработал систему военно-спортивной подготовки молодежи и открыл отделения комиссариата по всему Индокитаю. Надо было видеть, как этот новоявленный Бальдур фон Ширах принимает парад бойскаутов или дерет глотку на трибуне. Следует признать, что его факельные шествия и велогонки имели известный успех. Часть молодежи удалось оторвать от Вьетминя и от «Пан-Азии». Но то, что было хорошо в сорок втором, не годится для сорок третьего. Деку не мог этого не понимать. Значит, он действительно ставил на двух лошадей, а точнее, неудержимо раздваивался, как амеба.
Пока Дюкоруа насаждал «здоровье во имя служения Родине», повсюду плодились, как комары после дождя, публичные дома, опиекурильни и казино. Жаламбе, хорошо изучивший районы красных фонарей Ханоя и Сайгона, лучше кого бы то ни было понимал, насколько одно дополняет другое. Именно в двойственности проявлялась изменчивая целостность Деку — гениальнейшего проводника обреченной и жалкой политики.
Жаламбе понял, что ему не стоит спешить. Он будет держать равнение на адмирала. Такой человек не упустит спасительного мгновения и, не теряя лица, перейдет на службу новой власти.
Обезьянка вскочила на стол и закружилась на одном месте. Оскалив зубы, она ударила хозяина в грудь детским трогательным кулачком.
— Что, Гарсон, пи-пи захотел? — рассеянно спросил Жаламбе и отцепил карабин ошейника. — Ну, побегай в саду, — он вспомнил стихи Рембо, которые читал однажды Фюмроль:
Какая ерунда лезет в голову. А ведь надо на что-то решиться. Деку — политик, и он по-своему зарабатывает оправдательный ценз. Франция находится в немыслимом положении, и любой на его месте делал бы то же самое. Разве скрытый голлист, Катру, не балансировал на канате, как ярмарочный плясун? Старый циник Мордан тоже вынужден с благородной рожей лизать японские ягодицы и козырять инспекторам из Виши. Таковы житейские реалии. Зато каждый втихомолку копит добрые деяния словно благонравные детки из сказок Перро.
Что могут поставить ему, Жаламбе, в вину, если, не дай господь, настанет столь тягостный час? Сотрудничество с японцами? Весьма проблематично. Пусть Свободная Франция воюет с Хирохито, у Новой Франции с ним союз. А Франция едина, поэтому неизвестно еще, как будет. Какие-нибудь ходы всегда найдутся. Единственная улика — это картотека. Официально ему никто не приказывал передавать ее волкодаву — Уэде. Все знали, но делали вид, что ничего не происходит. Умыли руки, короче говоря, соблюли невинность. Но это прежде всего касалось коммунистов. Весьма важное обстоятельство! Если только не случится мировая революция, оно сработает на него. Он хорошо делал свое дело, стараясь не особенно задевать соседей: гестапо, Сикрет Интеллидженс сервис, СИА.[39] Остается последний камень на шее: агентура. И этого не простит никакое правительство. Даже Народный фронт. Он и сам не понимает теперь, как дал обвести себя вокруг пальца. Сложная и разветвленная паутина элементов АБ, которую его предшественники годами плели с необыкновенным терпением, попала в лапы Бульдога. Хорошо еще, что нет свидетелей. Впрочем, как это нет? Есть: Конг-оборотень, сам Бульдог и…
Итог получается неутешительным. Но в том и сила точного логического анализа, что, доведя до крайней точки падения, он указывает ранее незаметные тропки наверх. Период растрепанных чувств закончился. Жаламбе отыскал заветный путь.
Опрокинув тазик с остывшей водой, он прошлепал к сейфу, оставляя на розовом драгоценном паркете быстро высыхающие следы. Судя по отпечаткам, у него было плоскостопие. Вынув список явных японских агентов и прояпонски настроенной интеллигенции, он возвратился в кресло, допил неразбавленное «касси» и, схватив красный, остро отточенный карандаш, начал делать пометки. Сначала вычеркнул матерых профессионалов Волкодава, затем крупных политических деятелей, аристократов, связанных с принцем Кыонг Де, и главарей религиозных сект. В сетях осталась мелкая рыбешка: явно скомпрометированные шпионы, подозрительные иностранцы, наиболее крикливые туземцы и несколько двойников. Эту категорию агентов он отметил особо, потому что знал о близости по крайней мере троих к гестапо. Как раз то, что нужно. Жаламбе злорадно ухмыльнулся.
Проставив гриф секретности, он вызвал дежурного.
— Гастон Птичья Морда, — благодушно проворковал он, — есть работа. Пусть срочно перепечатают и поднимут картотеку. К вечеру должны быть все адреса. Аресты произвести на рассвете.
— Слушаюсь, начальник.
— Постой, — удержал Жаламбе. — Только никакого радио! Ты понял? Японцы давно знают наш код. Пошли людей самолетом: Хайфон, Сайгон, Хюэ и Далат.
— А как же Винь и Намдинь? — спросил Гастон, проглядев список.
— Черт с ними, потом как-нибудь.
— Все равно не успеем, начальник.
— Тогда завтра, — Жаламбе устало поморщился. — Только чтобы одновременно. Акция должна быть внушительная — это главное. Если кто и сбежит под шумок — не беда. Усвоил?
— Вполне.
— Тогда валяй… Конг не звонил?
— Как сквозь землю провалился. Не иначе, ухлопали.
— Почему ты так думаешь? — осторожно спросил Жаламбе. — Хочешь? — он постучал ногтем по бутылке. — Тогда садись.
— По-моему, коммунисты наступили ему на хвост. — Гастон взял с подоконника термос с колотым льдом. — Не могу без разбавки.
— Он столько раз уходил… — неопределенно заметил Жаламбе. — Как же это?
— Точно не знаю, начальник. Надо у Виктора спросить.
— Гони его сюда. И еще, Птичья Морда, сделай милость, поищи Гарсона. Он что-то долго не возвращается. Ушел на клумбы мой Гарсон, его пошел искать Гастон! Гениально, не правда ли?
«Случай спешит навстречу тому, кто действует», — подумал Жаламбе, оставшись один.
Развинченной походкой вошел хрупкий, изящный юноша с мечтательным лицом поэта. Несмотря на молодость, он восемь лет провел в Индокитае и заслужил репутацию талантливого контрразведчика. Ему поручали всегда наиболее тонкие операции, требующие игры воображения.
— Садись, Виктор, — с грубоватой фамильярностью Жаламбе обнял его за плечи и силой усадил на стул. — Хочешь? — прозвучал звонкий щелчок по стеклу. — Прости, я забыл, что ты пьешь только кофе. Что там за история с Конгом? Я знаю, что он переметнулся к Уэде, и был очень удивлен, когда Гастон сказал, будто он опять выплыл. Это верно?
— Не совсем, — Виктор Лефевр откинул со лба прядь волос и небрежно бросил на стол папку. — Собственно, тут все материалы, патрон. Проглядите.
— Давай-ка вместе. Как ты на него вышел?
— Случайно. Цепочка тянется из Пулокондора. — Лефевр не скрывал томления и скуки. — Вы хотите со всеми подробностями, патрон? — Увидев лужу под столом, он несколько оживился. — Неужели Гарсон опять нашалил? Вот уж не думал, что у обезьяны такой могучий пузырь.
— Пустое, Виктор! — Жаламбе поддал ногой медный тазик. — Это я.
— Для вашей комплекции чересчур скромно, — пошутил Лефевр. — Началось с того, патрон, что мы перехватили записку. Пожалуй, вам лучше все-таки сначала взглянуть на нее.
— Я не понимаю этой дурацкой азбуки! — вспылил Жаламбе.
— Переверните страницу. Есть перевод.
«Бал у мамаши. Почта цветов. Любопытный почтальон. Уточнить, не он ли повторил шутку с младшей дочерью. Плохо, если он».
— Понятно, — Жаламбе подпер щеку рукой и приготовился выслушать интересную историю. — Кто-то кого-то проверяет. Итак?
— Совершенно верно, патрон. Один наш старый знакомый…
— Постой, Виктор, — с непривычной для него живостью Жаламбе выхватил из папки записку. — Тут только копия. Где же оригинал? Вы взяли связного?
— Боже упаси. Что за кошмарное подозрение, патрон? Я не спускаю с него глаз.
— Отлично, мой мальчик! Именно это мне и хотелось узнать. Но я тебя слушаю, продолжай.
— Ни для кого не секрет, что на Пулокондоре не продается только свобода. Вернее, продается и она, но только за очень большие деньги. Сайгонские ребята поэтому берут на прицел всех визитеров и под благовидным предлогом устраивают им обыск. Порой попадаются любопытные вещицы. Помните, патрон?
— Ты имеешь в виду типографию в джунглях?
— Не только. К сожалению, контрагенты тоже не слишком доверяют продажной охране. К подобной переписке они прибегают в самых крайних случаях, да и то соблюдают большую осторожность. Попробуй разберись в этой белиберде. — Лефевр притворно зевнул. — «Бал цветов», «Мамаша», «Дочка» — экий сентиментальный вздор. Правда, наши живодеры умеют развязывать языки, и порой нам удается узнать, что скрывается за таким лепетом. Но вы знаете, патрон, что я не одобряю подобных методов. Притом они не очень эффективны. Связной или умирает, ничего не сказав, или действительно ничего не знает. Зачем связному знать? Нонсенс. На счастье, в ту пору я оказался в Сайгоне как раз в тот момент, когда задержали паренька с этой запиской. Мне понравился ее инфантильный настрой, и я отпустил курьера, предварительно отчитав за легкомыслие. Остальное, как понимаете, было делом техники. Рассуждая от обратного, я размотал клубок и вышел на старого знакомого. Это некто Нго Конг Дык, монтер из «Сентраль электрик».
— Не помню, — наморщив лоб, покачал головой Жаламбе.
— А я помню. Костоломы из второго отдела испортили мне всю игру. Они так отделали бедного мальчика, что пришлось положить его в лазарет. Сейчас он отдыхает на Пулокондоре.
— Дальше, — нетерпеливо бросил Жаламбе.
— Далее я взялся за записку. Вновь поднял дело о «Сентраль электрик» и нашел там милый групповой снимок костюмированного бала. В костюме цветочного Гермеса был не кто иной, как господин Конг. Все стало ясно. «Сентраль электрик» — мамаша, дочь, вернее дочернее предприятие — «Юзин электрик» в Намдине. Именно там, с моей помощью, Конг, предварительно погрузив весь город во тьму, угнал в джунгли состав с рисом. Бесподобное предприятие, снискавшее ему славу героя и любовь товарищей. Видите, как просто. Правда, должен сознаться, что чертовски помогла фотография. Сентиментальные забавы юных электриков и хорошеньких продавщиц, оказывается, тоже приносят пользу. Итак, стало совершенно ясно, что Конга проверяют, а когда проверят, попытаются убрать. Поскольку теперь он не наш человек, можно даже сказать, совсем не наш человек, я предпочел выждать.
— Умница! Вы всегда были умницей, господин Лефевр! — впервые в жизни Жаламбе обратился к подчиненному в вежливой форме.
— Что с вами, патрон? — удивился Лефевр.
— Я очень доволен тобой. — Жаламбе с облегчением вздохнул. — Предоставим мальчишку Конга его судьбе. Пусть получит свое. — Жаламбе настолько вошел в роль негодующего супруга, обманутого коварством жены, что совершенно искренне позабыл о том, как своими руками отдал агента Уэде.
— Я так и подумал, — по-своему понял его Лефевр. — Когда свершится то, что должно свершиться, мы «цап-царап» и вытащим мышку из норки. По-моему, хорошая ожидается мышка.
— В самом деле? — встрепенулся Жаламбе. Профессиональный инстинкт охотника властно заставил его переключиться. — Куда привели следы?
— Прямехонько в Пагоду Благоуханий.
— Опять «Красный бамбук»?
— Похоже на то, патрон.
— Жаль, — огорчился Жаламбе. — Мне бы не хотелось вновь сталкиваться с буддистами. Принц Кыонг Де раззвонил о том случае на весь мир.
— Не надо преувеличивать, патрон. Я уже планирую охоту. Дичь того стоит. Постараемся взять без излишнего шума.
— В этих горах и пещерах? Ты с ума сошел, мой бедный Виктор.
— Ничуть. Не забывайте, что теперь мы станем ловить на живца. Неужели не выманим на такую приманку, как Конг? Быть того не может.
— Думаешь, он сам захочет убрать Конга? Сомневаюсь.
— Все равно будет пожива, а там, глядишь, и новый след обнаружится.
— Что ж, — Жаламбе покачал папку на ладони, словно прикидывая на вес. — Твоя логика, как всегда, безупречна… Действуй.
— Значит, даете благословение?
— Разумеется. Не понимаю, почему ты раньше молчал.
— Хотелось собрать побольше фактов. — Лефевр бросил на патрона насмешливый взгляд. — Не думал, что вы так скоро дадите себя уговорить. Учитывая деликатность момента… — он не договорил.
— Что ты имеешь в виду?
— Господина Уэду.
— Мы не в ответе за действия коммунистов. — Жаламбе бросил папку на стол: — Возьми. Не говоря уже о том, что я полчаса назад отдал приказ об аресте японских шпионов по всей стране. Только это пока сугубо между нами.
— Ну! — не поверил Лефевр. — Неужели началось?
— Да, мой мальчик, считай, что битва за Францию в Индокитае началась! — напыщенно изрек Жаламбе, почесывая грудь. — Тебя не шокирует мой вид?
— Ну что вы, патрон, я привык.
Глава 27
Развевающиеся аозаи прекрасных дочерей Хюэ напоминают утренние ирисы в заливных лугах Ароматной реки и цветы мирта в лунную ночь. Щемящая нежность сжимает сердце, когда в пятнистой тени манговых деревьев возникнет, как из облачка цветочной пыльцы, женщина в лиловом, а затем внезапно растает в конце аллеи, где окаменевший извилистый дракон стережет прах королей. Странное наваждение старой столицы, чудо, длящееся из века в век. Кто знает, где суждено вновь увидеть лиловую незнакомку? На золотом ли от рисовой соломы поле, у зеленого ли пруда, затянутого плавающими водорослями бео, у источника ли, бьющего из розовой скалы? Кто она: фея, прикованная заклятьем к могильным холмам, или дочь гончара, живущего в лачуге у развалин городской стены? Нужно ли доискиваться ответа? Есть двери, куда не стоит стучаться. Вот императорские усыпальницы, где остановилось течение дней. Хитроумные ограды защищают покой несуществования от малейшего дуновения. Не только дурные ветры, но и само естественное движение воздуха противно Духу вечности, которая есть изначальная пустота. И потому мертва вода позеленевших прудов и недвижимы на ней сухие сосновые иглы.
А у дороги на юг растет старый баньян, увешанный горшками с известью для бетеля. Седая крестьянка, чье лицо как обожженная растрескавшаяся глина, бросит белую капельку вместе с кусочком арека на лакированный лист. Ее лиловый аозай утратил первоначальный оттенок, побурев от красной пыли и зноя. Купив жвачку, путник пойдет своей дорогой, лишь мимолетно прикоснувшись к чуду. Не заглянув в глаза старухи, чьи близкие умерли от голода в этом году, не заметив за ржавой бахромой воздушных корней молельню в дупле исполинского дерева, посвященную злому духу.
Все просто и понятно в мире, если человек пренебрегает мелочами, не вникает в потаенную суть вещей. Когда-то поэты называли Хюэ городом лиловых красавиц. Имя как формула, в которой истина пребывает в совершенном, законченном естестве. Мы не задумываемся над истоком названий. Жуя бетель, не помышляем о том, что в крошечном древесном листике дремлет плоть природы, где все замкнуто само на себя в немыслимом и неповторимом совершенстве. Зачем нам знать тогда, почему красавицы имперской столицы возлюбили лиловый цвет? У каждого города есть своя чарующая тайна.
Император Бао Дай избегал Хюэ, проводя большую часть года в горах Далата, где зимой и летом ртутный столбик показывает одну и ту же температуру: + 15 °C. Климат долгожителей и мудрецов, когда мысли не отвлекаются от возвышенных материй, а в теле приостанавливаются процессы старения. По крайней мере, так уверяет лейб-медик Тинь.
— Человеческие органы, ваше величество, — объяснял он, — подчиняются пяти стихиям, планетам и странам света. Необходимо жить в одном месте, где влияния обнаруживают уравновешенность и постоянство. Только в этом случае ясно видна связь между органами. Когда болен орган-дочь, нужно лечить орган-мать. Только шарлатан станет сразу лечить больную печень. Истинный врач окажет сначала воздействие на материнское начало и облегчит состояние легких. Позвольте пульс… так, все пять пульсов бьют нормально. Не советую вашему величеству долго задерживаться в Хюэ. Человек, выйдя на солнце, стремится вернуться в спасительную тень.
Бао Дай прибыл в Хюэ, чтобы освятить восстановленный дворец. Его сопровождала пышная свита придворных, мандарины высших степеней и даже представители дипкорпуса во главе с послом Есидзавой. По случаю церемонии императора облачили в желтое, расшитое драконами платье.
Жан Деку ревниво посматривал в сторону японского посла. Оба вели себя так, что их можно было принять за приближенных, которые оспаривают друг у друга монаршую милость. В известной мере это было игрой, навеянной торжественностью обстановки, желанием польстить безвольному владыке, чей суверенитет постепенно урезали почти до уровня буффонады. Атмосферу театральных подмостков усиливало и принужденное поведение придворных, не успевших освоить новый церемониал. Одни кланялись без особой нужды, другие садились на пол, чтобы, по обычаю таиландского двора, не возвышаться над монархом. Вышколенному церемониймейстеру приходилось то и дело одергивать растерянных мандаринов, словно провинившихся школяров. Не переставая чаровать улыбкой, он метался от одного к другому, стремясь каждому напомнить его место и роль или указать на оплошность.
Однако сквозь пышную мишуру театрализованного действа со всей обнаженностью поступила циничная политическая реальность. Показная роскошь нового двора должна была облечь во плоть худосочный призрак национальной автономии. Этого требовало не только франко-японское соперничество, но и возрастающее влияние Вьетминя. Но какова природа власти, что даже фантомы ее становятся объектами жесточайшего соперничества. Когда процессия приблизилась к драконьей лестнице двора деловых аудиенций, Деку заволновался всерьез. Ему вдруг почудилось, что японец может нарушить порядок прохождения свиты и первым последовать за Бао Даем в тронный зал. Но все прошло благополучно.
Стоя по правую руку от императорского балдахина, Деку с облегчением и тайным стыдом корил себя за мнительность. Как он мог даже подумать, что японцы, с детства скованные властью традиций, способны не соблюсти этикет. Встретившись глазами с Есидзавой, он приветливо улыбнулся ему. Казалось, что Франция выиграла важную битву. Что там ни говори, а японцы окончательно поняли, что одним им не справиться. Решительные меры Жаламбе, — узнав о них, Деку вынужден был принять успокаивающие капли, — кажется, прошли безнаказанно. Во всяком случае, Есидзава и словом не обмолвился. Очевидно, не такое у него прочное положение, чтобы идти на конфликт. И вообще японцы явно присмирели. Об этом свидетельствует хотя бы инцидент в деревне Донгшон, где крестьяне убили солдата, принуждавшего их вырвать посаженный рис. Вместо того, чтобы предпринять карательную акцию, военное командование предпочло уладить дело. Жаламбе дословно передал слова офицера, обращенные к жителям: «Дорогие вьетнамские братья, зачем вы убили нашего солдата, который невежливо заставлял вас сеять джут? Военнослужащих, которые поступают нехорошо, народ имеет право только связать и отвести к начальству. Избивать же до смерти — нельзя». Весьма показательное выступление. Японцы как огня боятся партизанской войны в тылу и предпочитают выставлять на передний план военную силу французов. Они даже пытаются заигрывать с Вьетминем. Подобное коварство чревато известной слабостью. Франция получает необходимую свободу маневра и может ответить жестокостью на жестокий курс.
После банкета с шампанским и тостами Деку уединился с японским послом у лотосового бассейна, куда только что запустили золотых рыбок всевозможных раскрасок и форм.
— Как вам понравился тронный зал? — поинтересовался он, задыхаясь под тяжестью парадного мундира.
— Великолепно, ваше превосходительство. Эти фрески, раскрашенные колонны, резное драгоценное дерево просто неподражаемы. Ханьский стиль, правда, чувствуется, но утонченность деталей накладывает на все отпечаток особой изысканности. — Есидзава, поправив бутоньерку в петлице, выдержал паузу. — Я слышал, будто на русском фронте появилась французская эскадрилья? «Нормандия», кажется? Ваши пилоты летают на советских самолетах. Если учесть, что так называемая Свободная, или, вернее, Сражающаяся Франция находится с нами в состоянии войны, то вам понятна будет моя особая озабоченность. Говорят, многие у вас симпатизируют генералу де Голлю.
— Господин посол прекрасно осведомлен о том, что мое правительство ничего общего не имеет с движением де Голля. — Деку попытался улыбкой смягчить резкость ответа. — Что же касается симпатий и антипатий, то я предпочел бы говорить на языке фактов. Есть что-нибудь конкретное?
— У нас имеются сведения, что на вверенный вашему превосходительству территории приземлился голлистский представитель, который вошел в контакт с одним очень высокопоставленным лицом.
— Вы располагаете доказательствами или только агентурными данными? Если представите доказательства, то подразумеваемое вами лицо пойдет под трибунал.
— Я удовлетворен решительным заявлением вашего превосходительства, — предпочел отступить Есидзава.
Деку перевел дух. Стало ясно, что доказательств о встрече Мордана с парашютистом у японцев нет.
Конфликта с голлистами, которых в войсках становилось все больше, следовало избежать любой ценой. Особенно теперь, когда Италия капитулировала, а русские неудержимо продвигаются на запад. Об эскадрилье, в которой сражались французские летчики, он, естественно, знал. По слухам, среди них находился и один офицер из Индокитая. «Уж не Фюмроль ли? — сразу же подумал Деку, услышав новость. — Хоть его самолет и упал тогда в море, но на войне всякое бывает».
— Когда вы предполагаете справиться с беспорядками на севере? — Есидзава зашел с другого бока. — В Каобанге и Бакшон-Воняе положение обострилось до крайности. Коммунистические банды, которые вы оттеснили к границе, вновь возвратились на свои базы. Вьетминь контролирует оба берега реки Кау. Я вынужден почтительнейше напомнить вашему превосходительству о букве и духе договоров между нашими странами. Создается впечатление, что французская сторона пренебрегает взятыми обязательствами. Это будет иметь самые серьезные последствия.
— С моей точки зрения, господин посол не совсем правильно оценивает обстановку. В настоящий момент военное командование планирует крупную очистительную акцию на севере. Уверяю вас, что вскоре там воцарится спокойствие, — пользуясь неофициальностью обстановки, Деку попытался с грубоватой прямотой переменить тему. Его все больше раздражали постоянные требования и придирки японцев. — В такой чудесный вечер хочется говорить о чем-то более возвышенном. Мы еще успеем обсудить наши прозаические заботы. Когда я в последний раз был в Японии, меня чрезвычайно увлекла охота с бакланами. Наш лодочник отбирал у проворных птиц добычу и тут же жарил ее в кипящем масле. Необыкновенное впечатление.
— Совершенно с вами согласен. В Японии есть много очаровательных развлечений, как и везде, наверное. Индокитай, например, славится лягушками, выращенными в живом кокосе, китайцы не знают себе равных в приготовлении черепах. Между прочим, господин генерал-губернатор, из Китая поступило досадное известие. Десятого сентября из тюрьмы в Лючжоу был освобожден Нгуен Ай Куок. Если вы помните, его арестовали в Циньси чуть больше года назад. Не успел он выйти на свободу, так созвал обширное совещание организаций и партий, ведущих подрывную деятельность. Это равно неприятно и нам, и вам. Если к Вьетминю присоединятся Дайвьет, Лига за освобождение, Секция интернациональной организации против агрессии и прочие, то нам придется иметь дело с еще более серьезным противником. Поэтому необходимо как можно скорее подавить очаги сопротивления внутри страны. Весть об освобождении Ай Куока почти наверняка вызовет активизацию партизанского фронта. Надеюсь, ваша администрация сумеет дать должный отпор.
— Благодарю, господин посол, за своевременное предупреждение. Новость действительно не из приятных. Я немедленно поставлю в известность органы безопасности.
— Кстати, ваше превосходительство, — Есидзава сделал вид, что вспомнил о каком-то пустяке. — С господином Жаламбе происходят в последнее время странные вещи. Он словно забыл, на каком свете находится. — Небрежно поигрывая тростью, он обогнул бассейн, затем доверительно приблизился к Деку и, коснувшись костяным набалдашником шелкового в шесть отсветов цилиндра, с неприкрытой угрозой сказал: — Вместо того чтобы бороться с большевистским подпольем, этот человек выискивает мифических японских шпионов. Смею выразить свое крайнее удивление. Надеюсь, арестованные вскоре будут освобождены.
— Должен признаться, что ваше заявление застало меня врасплох, господин посол, — осторожно заметил Деку. — Меня не поставили в известность, что произведены какие-то особые аресты. Возможно, вы не совсем правильно информированы. Однако обещаю во всем внимательнейшим образом разобраться. Если шпионы действительно являются мифическими, их отпустят на свободу. Ручаюсь. — Он взял посла под руку. — Что еще может сказать губернатор?
Деку казалось, что заключительным вопросом он обезоружил японца. В самом деле, нельзя же требовать от ответственного администратора, чтобы тот открыто признал, будто знает о шпионаже и вынужденно терпит его. Есть вещи, о которых не принято говорить. Есидзаве пришлось довольствоваться весьма двусмысленным обещанием. Безмятежно проглотив горькую пилюлю, он не замедлил взять реванш:
— Иного ответа я и не ожидал. — Он благодарно поклонился, ясно давая понять, что надеется на решение в благоприятном для себя смысле. — Перед лицом общего врага нам надлежит крепить боевое единство. На сем позвольте оставить вас, господин генерал-губернатор, и пожелать вам приятно провести время в Хюэ. Его величество пригласил меня на лодочную прогулку по реке.
Деку даже не был уведомлен о том, что затевается подобная прогулка: Бао Дай явно хотел встретиться с японцем без свидетелей. Иначе бы он не взял его на реку, где подслушивание почти исключалось. События принимали серьезный оборот. Неужели флирт японцев с Кыонг Де был только отвлекающим маневром? По сути, именно это вынудило французские власти противопоставить более весомую фигуру Бао Дая. Но как только Франция публично воздала этой пустышке высочайшие почести, японцы резко переменили тактику. Вольно или невольно, Бао Дай становился крупной фишкой на зеленом поле политической рулетки. Тайное соперничество за власть над колонией выливалось в открытую схватку за власть над коронованной марионеткой. Оставшись в одиночестве у пронизанной светом разноцветных ламп воды, в которой лениво плавали пучеглазые длиннохвостые рыбы, Деку осознал тяжесть поражения.
Он еще не знал о том, что на японском военном самолете в Хюэ прилетел из Сингапура Чан Чонг Ким, известный историк и филолог, неоднократно подвергавшийся преследованиям со стороны французских властей. Не столько за свои крайние националистические взгляды, сколько за связь с японской разведкой. В начале года Уэда лично перевез его в Бангкок, а затем и в Сингапур, в роскошный особняк на Орчардроуд. Есидзава придавал большое значение первой встрече Бао Дая с Кимом, на которого возлагал основные надежды.
— Япония, ваше величество, является освободительницей народов-братьев, — разглагольствовал Есидзава, сидя под балдахином императорской галеры. Красный, покрытый золочеными завитками дракон медленно скользил по черному зеркалу реки к морю.
Легкий бриз приятно овевал разгоряченные лица. — С нашей помощью страны Азии скинут ненавистное ярмо белых варваров, — покончив с общими положениями «Движения трех А», посол перешел к конкретным проблемам. — Вашему величеству известно, что мы предоставили независимость буддистской Бирме?
— Мы знаем об этом, — ответил за императора Чан Чонг Ким. — Божественная воля осеняет японское знамя.
Бао Дай понимал, что независимость Бирмы такая же фикция, как и его сегодняшнее вступление во дворец деловых аудиенций. Японские войска не собирались покинуть Рангун. Не ушли они и из союзного Таиланда, предоставившего коридор для наступления на северных и южных соседей. Но лично его, по крайней мере на первых порах, устраивала даже фиктивная, но исполненная всех атрибутов величия власть.
— Вьетнам — страна древней цивилизации, — Есидзава не спускал глаз с императора, сидевшего по другую сторону столика, уставленного вазами с фруктами и сладостями. Проникнуть в мысли этого немногословного сдержанного человека, сменившего императорский желтый цвет на скромный тропический костюм, было не просто. — Недалек день, когда вы, с нашей помощью, сможете расторгнуть договор о протекторате с Францией и обрести независимость, — выбросил главный козырь посол.
Бао Дай не спешил с ответом. Открытый союз с Японией был для него пока опасен, а тайный не сулил ощутимых выгод. Приходилось поэтому следовать мудрой тактике благожелательного бездействия. Пусть японцы окончательно распростятся со вздорной идеей посадить на трон пройдоху Де, а там будет видно.
— Мне хочется ответить вам словами нашего древнего мудреца Нгуен Зы, господин посол. — Бао Дай прочел стихи столь же бесцветно и невыразительно, как говорил: — «Тридцать с лишком лет правил он во дворце, тридцать лет державу берег. Все Четыре Моря и Девять Земель у его простирались ног». Мы ничего не пожалеем для друзей, которые принесут нам независимость.
Глава 28
Лием угостил дорогого гостя сваренным в стволе бамбука рисом, приправленным бальзамкой. Извинился за скверный рыбный соус, красноватый и мутный.
— Обойдемся без него. Дрянной соус — не приправа к свиным почкам, — пошутил Танг. — Был бы рис.
— Плохо с рисом. Отнимают у людей последнее. Ни на что внимания не обращают. Плевать им на засуху, на неурожай, скидки не жди. Я слышал, что крестьянам приходится покупать рис на черном рынке?
— Так обстоит дело почти повсюду, — подтвердил Танг. — Люди продают с себя все, только бы выполнить поставки. Чтобы предотвратить голод, мы призвали народ захватывать продовольственные склады. Отряды спасения родины раздают по деревням почти весь отобранный у врага рис.
— Трудное это дело. Кругом шпионов понасажали. За каждым зернышком следят: сколько, мол, и откуда.
— За этим, собственно, я и пришел. Нужна ваша помощь. — Танг разложил крупномасштабную карту и прибавил света в лампе. — Лягушки-то как раскричались. — Он прислушался к трубному клокочущему мычанию в прибрежных лугах. — Я сперва подумал, что это буйвол ревет.
— Радуются, что прошли дожди. Так и лезут на баркас. Я, конечно, не против: мясо у них белое и нежное, как у знаменитых кур из Донгхо. Только надоели.
— Значит, так, — Танг отогнал назойливого комара, — пришел час расплаты. Лисица, которую мы вырастили, разоблачена. Подозрения нашего Дыка подтвердились.
— Кто этот оборотень? — спросил Лием, сцепив задрожавшие пальцы.
— Через пять дней он приедет сюда. — Танг указал место на карте. — Проток Иен перед переправой Дук.
— Я возил туда моих детей. Счастливое было время…
— Мы встречались с Дыком на горе, а предатель теперь будет ждать на мосту за островом. Он осторожен и сам выбрал место встречи. Я понимаю, чем он руководствовался.
— Да, туда незаметно не подойдешь. — Лием склонился над картой. — Река, обтекающая остров, кругом болота, а мостик отовсюду виден как на ладони.
— В этом вся трудность. Это ловушка. Жандармы наверняка спрячутся у переправы и в зарослях на горе. От моторных лодок не скроешься. Вся надежда на ваш опыт.
Старик долго смотрел на карту, освещенную красноватым керосиновым язычком, словно надеялся прочитать на ней свою судьбу.
— Я вот что надумал, ученый человек, — поднял он глаза на Танга. — Пустите меня. Отомстить палачу моих детей я должен сам. Да и жить мне осталось недолго. Пусть жизнь завершится достойно.
— Такая работа не для вас.
— Почему? Даже уродливый как черт может волочиться за девушками. Справлюсь.
— А как же Будда?
— Он все поймет.
— Что ж, дядюшка, — Танг кивнул с печальной улыбкой. — Если вы твердо решили, не стану отговаривать. Отправляйтесь на реку Дай. Только с одним условием. Я не хочу посылать вас на верную смерть. Попробуйте придумать что-нибудь получше. Никогда не поверю, чтобы старый ловец водяных змей не нашел способа незаметно подобраться к врагу. — Сложив карту, он передал ее Лиему. — Подумайте, дядюшка, а я к вам завтра зайду.
— Нечего ждать до завтра, — проворчал старик. — Я и так знаю все, что нужно.
С наблюдательной вышки у переправы Дук была видна залитая водой низина протока Иен. Сквозь дождевую дымку проступали деревья на дамбе и желтый извив ручья, раздваивающегося перед островом, за которым смутно чернела трапеция бревенчатого мостика.
— Не повезло нам с погодкой, — сказал Жаламбе, тщательно протирая окуляры бинокля, синевато отсвечивающие просветленной оптикой. — Все смазано. Прямо как нарочно.
— Вы слишком мрачно настроены, патрон, — возразил Виктор Лефевр, — не стоит портить кровь из-за шального муссона. Денек не так уж плох. Не ливень — и уже слава богу. Пусть себе капает. Уж как-нибудь человеческую фигуру не проглядим.
— Все разлилось, взбухло. Могут и ускользнуть.
— Куда им деться? Лодка не иголка. Притом на равных с нами, патрон. Для выстрела им придется подойти ближе.
— Более удобного места не нашлось? — буркнул Жаламбе, приникая к биноклю. — На горе могут не увидеть ракеты.
— Мне казалось, что Конг представляет для вас второстепенный интерес. — Лефевр прикурил от окурка новую сигарету. — Когда хочешь выгнать зверя, лезешь к нему в логово. — Он приставил бинокль к глазам. — Его еще нет? Ну что ж, наберемся терпения… Я почему-то не сомневаюсь, что Конг придет.
— Он ничего не заподозрил?
— Кто его знает. Мне пришлось идти ва-банк. Иначе бы мы просто не узнали, где состоится столь нежное рандеву.
— И не надо, — сплюнул Жаламбе. — Коммунисты превосходно обошлись бы без нашей помощи. Поймаем мы их или нет, еще неизвестно, а Конга твоя непомерная щедрость могла насторожить.
— Щедрое обещание, патрон, не щедрость. Я искренне надеюсь, что мне не придется отслюнить ему две тысячи пиастров. Но пообещать пришлось. Только так удалось уговорить его еще разок поработать на старушку Марианну![40] Эта сумма помогла двойнику и рот заткнуть. Едва ли он заикнулся об этом Уэде.
— Почему?
— Кэмпэтай в таком случае не преминула бы вмешаться, а это сорвало бы операцию. Нет добычи — нет и денег. Я дал ясно понять, что монах нужен мне лично… Из карьерных соображений.
— Человека, который способен швырнуть на ветер две тысячи, едва ли ждет успешная карьера.
— Не будьте сквалыгой, патрон. Зачем мертвецу деньги?
— Ты так уверен в успехе?
— Коммунисты рискуют много больше нас. Надеюсь, они не промахнутся.
— А если?
— Тогда Уэда может узнать о наших шалостях, и вам придется меня прикрыть, — меланхолически ответил Лефевр.
— Меня бы кто прикрыл, — огрызнулся Жаламбе. — Хорошо тебе рисковать, богатенькому наследничку. Тоже мне игрок!
— Разве у нас есть где поиграть? — Лефевр курил сигарету за сигаретой. Волнение он прикрывал бесшабашной бравадой. — Настоящая игра только в Гонконге или в Макао. Вот бы махнуть на недельку в Гонконг, пока там еще сидят наши японские союзнички… Стоп, патрон, — он крепко сжал плечо Жаламбе. — Будь я проклят, если это не так! Слева от острова!
— Где? — Жаламбе навел бинокль в указанную точку. На глинистой ленте ручья контрастно различался челнок и гребец в нем, ловко орудующий кормовым веслом. Скрываясь порой за травами, челнок заметно приближался к мосту.
— Почему ты думаешь, что это именно он? — В решительные минуты у Жаламбе начиналось бурное слюнотечение. Он едва успевал сплевывать. Дьявольщина! Словно с неба свалился.
— Наверняка скрывался где-нибудь в зарослях, — Лефевр брезгливо отодвинулся, — осматривался. Он всегда был чертовски осторожен. Клюнул все-таки, каналья.
— На нем, кажется, коническая шляпа. Это, часом, не вьетминь?
— Не смешите меня, патрон. Они не явятся первыми на подобное рандеву. Тоже небось прячутся в какой-нибудь заводи. Придется нам попотеть, прочесывая такое болото.
— Лишь бы все удалось, — Жаламбе поменял руку на бинокле. — Теперь я вижу, это действительно он.
Когда на мосту возникла фигура в шляпе нон, старый Лием начал раздеваться. Спрятав одежду под широкими листьями, он прижал к животу деревянное ложе арбалета и с усилием натянул тугую сплетенную из волокон лианы тетиву. Затем сунул в рот тростниковую трубочку и, лежа на спине, сполз по мокрой траве в воду. Она приняла его без всплеска.
Жаламбе и Лефевр не выпускали биноклей. Конг стоял к ним спиной, ожидая, как видно, что лодка появится из-за поворота, со стороны Пагоды Благоуханий. Положив локти на деревянный брус, он глядел в неспокойную мутную реку, пронизанную спицами дождя.
— Что-то они не торопятся, — выказал признаки нетерпения Лефевр, бросая недокуренную сигарету. — Пора бы уж и появиться.
— Появятся, — уверенно изрек Жаламбе. — Другого пути у них нет.
— Наконец вы воздали мне должное. Благодарю, патрон. — Лефевр зарядил ракетницу. — Скорее бы, что ли.
— Мне тоже не терпится быстрее промочить глотку.
Но прошел час, а на мосту ничего не изменилось. У людей на вышке затекли руки. В глазах, покрасневших от напряжения, замелькали назойливые стеклянистые червячки.
— Если так будет продолжаться, он уйдет, — сказал Лефевр, опуская руки. — А мы околеем. — Придерживая бинокль на груди, сделал несколько энергичных приседаний. — Давайте наблюдать по очереди, патрон.
— Заткнись, — уронил Жаламбе, не повернув головы. — Если они так и не появятся, то придется тебе ликвидацию взять на себя.
— И не подумаю, патрон. Вы же знаете, что я не мастак на такие штучки.
— А если я тебя очень попрошу?
— Неужели вы настолько боитесь Уэду? По-моему, нам давно пора перестать пресмыкаться перед японцами. Чем дальше, тем их дела идут все хуже и хуже. Американцы перешли в наступление на Маршальских островах. Того гляди, начнут бомбить Индокитай. Тут уж не до государственного переворота, которого так боится наш милый Жан.
— Merde, — сквозь зубы выругался Жаламбе. — Еще один политик на мою голову выискался. Если ты не хочешь, чтобы тебя прижали за старые грешки, а это можно сделать хоть сейчас — сам знаешь, — он не должен уйти отсюда живым. Учти, Виктор. Ты меня знаешь.
— Хватит стращать! — Лефевр топнул ногой. — Приказы отдавать легко. А как это сделать? Как? — он почти кричал. — Вы же знаете Конга! Он всадит в меня отравленную деревяшку, едва я успею схватиться за пистолет. Дайте двоих жандармов с автоматами, и я привезу его труп.
— А что потом станешь делать с этими жандармами? Постой! — испуганно вскрикнул Жаламбе. — Что же это такое?! — Трясущимися пальцами он стер с линз туман. Человек на мосту исчез. — Я же не сводил с него глаз! Не мог же он растаять в воздухе?
— Почему бы и нет? — Лефевр быстро обрел прежний дерзко-ироничный тон. — По-моему, вы плохо протерли стекляшки, патрон. Дело сделано. Он валяется на бревнах настила.
— Но это немыслимо! — Жаламбе обдало жаром. Борясь с набегающей слюной, он еще не смел радоваться. — На расстоянии выстрела из снайперской винтовки никого не было. Готов дать голову на отсечение!
— В таком случае ее уже нет у вас на плечах. — Лефевр пустил малиновую ракету. — Быстрее на катер!
Вздрогнув от выстрела, Жаламбе взглядом проследил за извилистой дымовой линией, косо взвившейся над каепутовыми и капоковыми деревьями дамбы. Подождав, пока огненная клякса погасла, отразившись напоследок в залитой пойме, неторопливо направился к лестнице.
Видит бог, он скромный человек и не требует от судьбы слишком многого. Меньше всего он был расположен сейчас кого-то ловить. Чутье подсказывало, что не следует создавать вокруг убийства переметнувшегося элемента большой шум. Уже в моторке, которая неслась, заливая низкие берега мутной волной, он еще раз взглянул в бинокль, но ничего не увидел, кроме бескрайнего травяного поля под тихим дождем.
— Что, если лодка подобралась оттуда? — он неопределенно обвел рукой горизонт. — Какая там может быть глубина?
— Едва ли, — Лефевр скептически качнул головой. — А вообще-то в этой проклятой стране все возможно. Никогда не забуду, что дал обвести себя вокруг пальца.
— Не казнись, — придя в хорошее настроение, милостиво утешил Жаламбе, — я тоже был уверен, что единственный путь — это река.
— Но теперь мы их ни за что не поймаем! — сжал кулаки Лефевр. — Прочесать всю низину немыслимо.
— Считай, что они уже ушли, — кивнул Жаламбе. — С той стороны дамбы у нас даже оцепления нет.
Когда они, зачалив катер за сваи, взбежали на мост, послышалось тарахтенье моторов. Это мчались моторки с жандармами, сидевшими в засаде у подножия горы. Все шло по плану. И ракету увидели, несмотря на дождь, и вовремя поспели к мосту, чтобы захватить неприятеля с двух сторон. Только некого оказалось окружать.
Конг лежал ничком, разметав сведенные последней судорогой руки. Его ногти процарапали по мокрому дереву отчетливый след. Голова была непокрыта. Шляпа, по всей видимости, скатилась в речку, где ее подхватило течение. Жесткие длинные волосы успели намокнуть.
— Вот оно как, — вздохнул Жаламбе, обнаружив в затылке бамбуковую стрелку с оперением из пальмового листа.
— Выстрел, очевидно, произведен из-под воды, — констатировал Лефевр. — Слыхал я о таких фокусах, а видеть не приходилось.
— Теперь любуйся, сопляк! — взорвался Жаламбе, играя на публику. — Такого человека не уберегли. А?
Глава 29
Конец сорок четвертого ознаменовался новыми успехами союзников на всех фронтах величайшей в истории войны. Советская Армия, принявшая на себя основную тяжесть фашистского нашествия, очистила от захватчиков родную землю и начала преследовать врага на его территории. История отсчитывала последние дни провозглашенного Гитлером «тысячелетнего» рейха. Долгожданный второй фронт был открыт только шестого июня уходящего года. Англо-американские войска пересекли, согласно плану «Оверлорд», Канал и, высадившись в Нормандии, двинулись к западным границам Германии. В августе был освобожден Париж, и к власти пришел де Голль.
Победы на восточном фронте привели Японию к полной политической изоляции. Ось Берлин — Рим — Токио перестала существовать. Пришедшее на смену кабинету Тодзио правительство Койсо было не властно предотвратить или хотя бы отсрочить неизбежный финал. Началась непрерывная полоса поражений. Английские войска разгромили японские дивизии в Бирме, американцы высадились на Филиппинах. Под контролем союзников оказались основные морские коммуникации Японии. Пытавшиеся вторгнуться в Южный Китай армии вынуждены были перейти к позиционной войне. На отдельных участках далеко растянутого фронта гоминьдановские войска перешли в наступление. В самой Японии прошли антивоенные демонстрации.
Таков был этот победный решающий год, отмеченный во вьетнамском месяцеслове мужским знаком и символами Обезьяны и Дерева.
— Через год или полтора у нашего народа будет возможность добиться свободы, — сказал Хо Ши Мин, тщательно проанализировав обстановку.
Цепляясь за ускользающую власть, колониальная администрация Индокитая уступила японскому давлению и развернула широкие карательные операции в районе опорных баз Вьетминя. Так адмирал Деку прореагировал на вулканические толчки, возвещавшие приход новой эпохи. Для собственного успокоения он выдумал странную теорию треугольника, включавшего Францию, Японию и Индокитай. Событий, которые выходили за рамки этой поистине маниакальной схемы, для него как бы не существовало. Даже вступление союзных армий в Париж он воспринял как чисто юридический акт, предваряющий период более или менее значительных перемен. Возможно, он и в самом деле надеялся, что все ограничится лишь формальным актом смены правительственного кабинета. Пока же этого не произошло, старец в генеральском кепи, висевший над рабочим столом губернатора, продолжал оставаться символом высшей власти. О том, что впавший в маразм изменник фактически вышел в тираж, спокойнее было не думать. Бюрократическая переписка, не способная ничего изменить, создавала убаюкивающую иллюзию нерушимого порядка. Ведь маршалу так нравилось это слово…
Той же ночью, когда англо-американские части грузились на суда, чтобы вступить вскоре на нормандское побережье, представитель де Голля приземлился на парашюте в Лангшоне. Остановив первый попавшийся французский автомобиль, он беспрепятственно добрался до Ханоя, где вручил генералу Мордану приказ начать борьбу с японскими оккупантами. Только таким путем, по мысли де Голля, можно было сохранить французский протекторат после окончательной победы над фашизмом.
На другой день Мордан, ссылаясь на преклонный возраст, подал прошение об отставке с поста главнокомандующего французскими силами в Индокитае. Развязав себе руки, начал собирать верных людей. Согласно разработанному им плану, французские войска должны были нанести удар по главным военным базам. В случае неудачи предполагалось отступить в джунгли Вьетбака или, перевалив хребет, уйти в Лаос. Вскоре самолеты союзников, уже начавшие бомбить вьетнамские порты и железные дороги, стали сбрасывать на парашютах оружие, предназначенное для голлистского подполья. Во Вьетбаке, Лаосе, Чунгбо и Намбо все чаще стали приземляться самолеты с военным снаряжением и продовольствием.
В это время в стране вымирали от голода целые деревни, а бойцы Вьетминя сражались самодельными саблями. Пока голлисты готовились выступить в Тхайн-гуэне, на территории бакшонской революционной базы шли ожесточенные бои между французскими карателями и отрядами спасения родины. Вспыхнуло и продолжалось больше месяца восстание в уезде Воняй.
Подготовка к восстанию полным ходом шла и на революционной базе в Каобанге. Межпровинциальный партийный комитет Каобанг — Баккан — Лангшон предложил созвать совещание, чтобы назначить день выступления. Именно в этот момент возвратился на родину Хо Ши Мин и приказал отложить заседание партийного комитета:
— Период мирного развития революции уже миновал, но время всенародного восстания еще не пришло. Если мы сейчас ограничимся только политической борьбой, то этого будет недостаточно для развития движения. Однако немедленное развертывание вооруженного восстания приведет к тому, что враг сможет сосредоточить силы и подавит восстание. Скоро нужно будет перейти от политической борьбы к вооруженной, но пока главное внимание следует обратить на политическую борьбу. Важно найти наиболее подходящие формы для развития движения. Если народ уходит в джунгли и ведет военные действия оттуда каждый раз, когда появляется враг, то такая тактика встретит значительные трудности. Необходимо добиться того, чтобы люди, не выпуская из рук оружия, могли трудиться на своих местах. Для этого следует разработать эффективную систему предупреждения, чтобы нас не застали врасплох.
Кадровому революционеру, в прошлом ханойскому учителю Во Нгуен Зиапу было поручено создать вооруженный отряд пропаганды.
— Отряд должен опираться на народ, — объяснил Хо Ши Мин, — тогда враг не сумеет его уничтожить. Руководящим ядром станет партийная ячейка. Это основа организации. Война сопротивления, которую мы ведем, является всенародной. Нам предстоит вооружить и поднять на борьбу всю страну. Поэтому, сосредоточивая силы для создания первой воинской части, мы сохраним вооруженные формирования на местах. Они станут действовать вместе с отрядом, окажут ему действенную помощь. Военно-пропагандистская работа подымет массы и подготовит основу для предстоящего восстания.
Двадцать второе декабря в уезде Нгуенбинь молодой командир Зиап устроил смотр первому регулярному формированию Вьетнамской освободительной армии. Отряд насчитывал всего тридцать четыре бойца. Вооружение состояло из легкого пулемета, двенадцати винтовок, двух пистолетов и семнадцати кремневых ружей.
Сама природа превратила горные джунгли Каобанга в неприступную крепость. Девственные леса, где водились тигры, леопарды, гималайские медведи, косули и кабаны, укрыли заводы и фабрики, на которых отливались примитивные пушки, изготовлялись мины, лекарства, одежда и бумага для тайных типографий. К естественным препятствиям: отвесным склонам, заросшим колючками и ползучей крапивой, пропастям, стремительным потокам и непроходимому частоколу бамбука — добавились хитроумные ловушки, подстерегавшие чужеземцев на каждой лесной тропе. Кроме самодельных мин и традиционных ям с заостренными кольями, карателей подстерегали незаметные капканы, точно нацеленные самострелы и каменные лавины, готовые обрушиться с гор при первом же опрометчивом шаге. О каждом незнакомце, появившемся на горных дорогах, через десять минут уже знал начальник охраны. Патрульную службу несли даже дети. Перекликаясь птичьими голосами, они зорко сторожили все входы и выходы в заповедные джунгли.
Не только ночью, когда кишащий пиявками и змеями лес внушал вражеским лазутчикам почти суеверный ужас, но и днем далеко не каждый решался окунуться в зеленый омут, из которого редко кому удавалось возвратиться назад. Скоростные «амио» последней модификации и малютки «морен» могли кружить над лесом до скончания времен. Сверху горы были похожи на округлые валуны, сплошь облепленные моховой замшей. Ни малейшей скважины нельзя было обнаружить в этом непроницаемом пологе леса. Даже на бреющем полете, когда самолет, казалось, готов был чиркнуть плоскостями о кроны величественных бангов, не удавалось заглянуть в чащу.
Бомбы сбрасывались большей частью вслепую. Но проходило несколько дней, и паутина вьюнков затягивала рваную рану на земле, а в воронках, которые сами собой наполнялись водой, мальчишки расселяли пресноводных креветок. Не приносили особого успеха и зажигательные бомбы. Влажный лес не желал воспламеняться, и, когда выгорали последние крохи фосфора или термита, черную проплешину заволакивало непроницаемое облако дымного пара. Если крестьяне не высаживали на пепелище кукурузу, неистовые джунгли быстро залечивали страшный ожог. Неуязвимый, непроницаемый лес казался необитаемым. Когда замирала разбуженная взрывом ударная волна, ни звуком, ни колыханием ветки не нарушал он вечной настороженной тишины. Подраненные деревья оставались стоять, намертво скованные цепями лиан. Потом, подточенные гнилью и паразитами, они беззвучно падали в перегной.
Сомкнув кольцо окружения, каратели надеялись, что отряды Вьетминя не смогут долго оставаться в джунглях. Но проходили месяцы, атака следовала за атакой и всякий раз захлебывалась, встреченная метким расчетливым огнем.
По тайным дорогам, которыми пользовались торговцы опиумом и контрабандисты, носившие серебро в Бирму, на базы доставлялись боеприпасы, мешки с рисом и то, что казалось желаннее всех благ мира, — серая каменная соль. Ее раздавали по крупинкам, как самое драгоценное лекарство. Для детей не было большего лакомства, чем упоительно скользкий кристаллик, так быстро тающий на языке. Охотники, жившие продажей шкур, тигровых костей, оленьих рогов и медвежьей желчи, приносили в партизанский лагерь туши убитых зверей, спеленутых питонов, которых называли «живыми консервами», и чудодейственные лекарства: клубни там-тхат, освежающий корень гау, тигровый жир.
Бывалый человек не пропадет в лесных дебрях. Родная земля всегда укажет ему дерево, могущее утолить голод и жажду, врачующее болезни и раны. На затерянных в глуши полянах, куда в лунные ночи выползает полакомиться термитами пугливый панголин, росли бобы, маниока, дающая белую тапиоковую муку, стручковый перец. Наливался сахарным соком тростник на заболоченных старицах. Со стволов хлебных деревьев свешивались тяжелые колючие плоды, чья клейкая мякоть слаще целебного меда лесных мух. Гигантский бокен с корой, усеянной шипами, дарил мыло для мытья головы, стирки шелка и шерсти. Даже масло для освещения не забыли припасти щедрые духи лесов.
Недруга же здесь на каждом шагу подстерегала беда. Неловкого парашютиста, застрявшего среди ветвей, могли заживо обглодать пчелы-мясоеды. Оставшаяся в ранке присоска пиявки порождала незаживающую язву, жабья слизь или сок опрометчиво рассеченной лианы выжигали глаза. Ни еды, ни отдохновения не обрести в джунглях незваному гостю. Обманчивый, налитый соблазнительной спелостью плод эклонга таит яд, неотличимый от рыночного клубень батата может навсегда отнять голос, купание в безобидной речке грозит непонятной болезнью, которую не умеют лечить европейские доктора. Даже случайное прикосновение к мертвой ветке способно разбудить немыслимый живой ад. С беспечального детства, едва начав узнавать мир, запоминают вьетнамцы мудрую истину: «Дернешь лиану — взбудоражишь весь лес».
Первой операцией отряда Во Нгуен Зиапа явилось дерзкое нападение на блокпосты в Файкхате и Нангане. Командиры опорных пунктов противника были убиты, а солдаты разоружены. Блестящий успех окрылил людей. Весть о том, что загнанная в джунгли горстка бойцов сумела победить многочисленные и хорошо оснащенные гарнизоны, разнеслась по всему Бакшону. Всего через неделю отряд превратился в целую роту, состоявшую из трех полных взводов. Его штаб размещался в землянке. Узкий лаз прикрывала живая занавесь ползучего огурца, унизанная ярко-желтыми цветами.
При свете «летучей мыши» Лыонг изучал план каобангской тюрьмы. Нужно было срочно вызволять Танга, задержанного жандармским патрулем в двух днях пути от Тхайнгуэна. Тайная полиция в любую секунду могла установить личность арестованного и переправить его в Ханой. Тогда все будет кончено. Видного коммунистического руководителя, за которым почти десять лет безуспешно охотилась полиция нескольких стран, вне всякого сомнения, передали бы кэмптэтай. Лыонг, прошедший через Пулокондор и китайские тюрьмы, ясно представлял себе, что ожидает товарища.
О том, чтобы напасть на Каобанг, не могло быть и речи. Сил одного взвода и нескольких партизанских отрядов, рассеянных по округе, явно недостаточно для успешного штурма города. Оставалась одна-единственная возможность — побег. Для этого было необходимо заслать в город ловкого, хорошо знающего местные условия человека.
Шум наверху отвлек его. Стоявший на часах боец из племени мео, по прозвищу Кай[41], пререкался с кем-то из своих соплеменников. Лыонг, немного знавший язык, прислушался.
— Командир занят и не любит, когда его беспокоят по пустякам, — различил он голос своего часового.
— Шпионка — это не такой уж пустяк, Кай! — возразил незнакомый голос. — Пусти меня к командиру.
— Я тебе не Кай, а товарищ боец А Пао. Посиди тут с ней, пока командир выйдет.
— А ты из каких мео, — попробовал зайти с другой стороны невидимый упрямец, — из черных или синих?
Лыонг невольно улыбнулся. Деление единого народа на кланы, отличавшиеся друг от друга только цветом одежд, казалось ему игрой, недостойной взрослых людей.
— Из черных.
— Что-то не похоже, Кай, прости, боец А Пао. Ну-ка, скажи, как будет «далеко»? — Слово «далеко» неизвестный произнес по-вьетнамски.
— Кле, — недоуменно ответил А Пао.
— Никакой ты не черный, а самый настоящий пестрый мео. Черный бы обязательно сказал: «клиа». А ну, зови командира! Постыдись хоть этих детишек, которые задержали шпионку. Что они о тебе подумают?
— Почем ты знаешь, что она шпионка? — чувствовалось, что А Пао дрогнул.
— Конечно, шпионка! Кто такая, сказать не хочет. На все вопросы твердит одно: «Ведите к товарищу Лыонгу».
— Что тут у вас за базар? — щурясь от дневного света, спросил Лыонг и огляделся. На почтительном расстоянии от А Пао, сжимавшего винтовку с примкнутым штыком, стоял юноша в характерной одежде черных мео. Поодаль, в окружении притихших ребятишек, сидела под банановой пальмой маленькая изможденная женщина.
— Ба,[42] — только и сказала она, поднимаясь с земли.
Глава 30
Получив от нового японского посла Мацумото приглашение срочно прибыть в Сайгон на переговоры, Деку вызвал к себе Жаламбе.
— Как вам это нравится? — он передал начальнику секретной службы послание, отпечатанное на бланке японского посольства. — Почему нельзя было собраться в Ханое?
— Сдается мне, что тут ловушка. — Жаламбе напрягся, чтобы унять дрожь в руках. — Надо хорошенько обдумать, стоит ли ехать.
— Полагаете, они не могут арестовать нас здесь? — Деку явственно выделил слово «нас». — У них повсюду свои люди. Каждый шаг наш известен. Вы зря поторопились с арестами. Не следовало раздражать японцев.
— Но позвольте, ваше превосходительство, — Жаламбе беспомощно развел руками. Меньше всего он ожидал, что в такую минуту адмирал захочет свалить на него вину. — Все мои действия были так или иначе согласованы с вами…
— Вот именно: «так или иначе», — Деку брезгливо отвел глаза, — вам придется поехать со мной.
— Это необходимо? — пролепетал Жаламбе. Он бы многое отдал, чтобы остаться на сей раз в стороне.
Деку даже не удостоил его ответом. Выхода не было. Адмирал принуждал доиграть роль до конца.
— Когда? — уныло спросил Жаламбе.
— Вылетим завтра утром… Кстати, — Деку заговорил будничным тоном, — я давно не получал от вас сведений о японцах. Они что, забрали у вас и эту агентуру?
— Японское командование явно что-то готовит, — уклонился от прямого ответа Жаламбе. — В страну на днях введена свежая дивизия. И вообще повсюду заметна повышенная активность: на базах, в посольстве, во дворце императора.
— Бао Дай уклонился от встречи со мной.
— Он днем и ночью совещается с японским послом, — глубокомысленно изрек Жаламбе и добавил почтительно: — Следует соблюдать величайшую осторожность.
— Поздно. Решение о перевороте принято.
— Откуда у вас такие сведения?
— Позвольте мне оставить при себе источник информации. Скажу вам даже больше. Японцы не только в курсе бесконечных приготовлений Мордана — об этом знает любой ханойский парикмахер, — но и ваши потуги выслужиться перед голлистами не прошли мимо них. Ситуация предельно упростилась. «Новая Франция», — Деку горько усмехнулся, — сметена в мусорный ящик, и бывшие союзнички уже не связаны с нами даже формальным договором. — Он вышел из-за стола и наклонился над Жаламбе. — Не думайте, что я срываю на вас собственное бессилие. Будем смотреть правде в глаза: мы с вами полностью обанкротились. Остается одно: мужественно встретить неизбежное.
Жаламбе сидел опустив голову.
— Может, поторопить Мордана? — вяло предложил он, не веря в успех. — Я понимаю, что шансов практически нет, но мы могли бы прорваться в Китай. По крайней мере, умрем с оружием в руках.
— Поздно, — повторил генерал-губернатор. — Японцы начеку. Нам не дадут даже выйти из дворца. Есть только один путь — на аэродром.
— Думаете, удастся бежать? К американцам? — по-своему истолковал Жаламбе.
— Будьте мужчиной, — Деку рывком опустил жалюзи. Подымающееся солнце беспощадно било в глаза, — тем более что нашей безопасности едва ли что-нибудь угрожает. Ни мы, ни наши трупы никому не нужны.
— Я думаю не о себе, — Жаламбе попытался надменно вскинуть голову. — О Франции!
— Франция тоже обойдется без нас. Я вас более не задерживаю. Собирайтесь в дорогу. Если Мацумото вздумает поинтересоваться арестованными, обещайте ему выпустить всех. Без оговорок.
— Я уже отдал распоряжение. В тюрьмах остались одни коммунисты.
— Быстро сориентировались.
— Есть надежда, что обойдется?
— Едва ли. Но мы обязаны использовать малейший шанс.
Когда на другой день в сайгонском губернаторском дворце открылись переговоры, Деку почудилось, что судьба подарила ему этот крохотный шанс.
Не смея верить неожиданной отсрочке, прислушивался он к монотонным словам посла Мацумото, пункт за пунктом перечислявшего новые обязательства французских властей.
Оказывается, японцы вызвали генерал-губернатора в Сайгон вовсе не для того, чтобы совершить какие-то насильственные недипломатические действия, чего он так опасался. Речь шла всего лишь о подписании соглашения о поставках риса на 1945 год. И хотя Деку знал, что риса в стране практически нет, он с радостью поставил подпись под договором. Судьба вновь предоставляла ему возможность выиграть время. Война шла к концу, и вместо риса японцы могли получить лишь бесполезный клочок бумаги. Правда, сразу же по возвращении в Ханой он должен был дать указание чуть ли не вдвое срезать и без того ничтожную карточную норму, но это его не слишком заботило. Еще один документ, еще одна подпись — какая разница? Ничтожная, чисто символическая цена за упоительное право облегченно перевести дух и хоть на минуту перестать думать о том неопределенно-гнетущем финале, которого он так устал ожидать.
После подписания соглашения состоялся дружеский а-ля фуршет. На столах стояли блюда с фаршированными омарами, повар-китаец нарезал розовые, нежнейшие ломтики ростбифа. Живописную пирамиду фруктов увенчивали ананасы и сайгонский деликатес под названием «женская грудь». Несмотря на приторную сладость, фрукты прекрасно утоляли жажду.
В честь японских партнеров подали суси с сырой рыбой, креветками и осьминогом. На специальных треножниках стояли оловянные сосуды с подогретым сакэ. Пили за дружбу. За успех и взаимное процветание. Японцы держались с уклончивой вежливостью, старательно обходя все острые углы. О перемене статута колониальной администрации не было сказано ни слова.
Деку, которому кусок не лез в горло, с тревогой и надеждой ловил благоприятные признаки. Вопреки логике, хотелось верить словам и улыбкам, которых требовал элементарный протокол. В конце концов подыскалось убедительное объяснение: для японской экономики, подорванной войной, рис стал основной проблемой. В самом деле, если нечем кормить солдат и рабочих военных заводов, то даже горючее, смазка и текстиль отходят на задний план. Индокитай остался последним относительно мирным уголком на континенте, и японцы не желают рискованных перемен.
Встретив тоскующий, как у побитой собаки, взгляд Жаламбе, Деку надменно приосанился.
«Его унылый нос свисает, как у тапира, — мелькнула мысль. — Ничего, пусть помучается».
Жаламбе искательно просиял и с бокалом в руке бросился к адмиралу.
— По-моему, все идет ничего, — жарко зашептал он, торопливо отхлебывая вино. — Непонятно только, почему не пришел Мацумото.
Отсутствие посла тревожило и самого Деку. Он далек был от личных обид и не придавал особого значения протокольным тонкостям. Если японский посол хотел подчеркнуть, что не считает более индокитайского генерал-губернатора равноправным партнером, то и господь с ним. Не было бы хуже.
Положение разъяснилось к вечеру, когда японский офицер связи «предложил» — именно так было сказано — французской делегации к девятнадцати часам собраться в конференц-зале.
Увидев каре жандармов вокруг овального стола переговоров, Деку понял, что все кончено. Жуткий одутловатый Уэда стоял чуть ли не рядом с послом. Как и Мацумото, он был при цилиндре, в визитке и серых в полоску брюках.
Не снимая перчаток, Мацумото зачитал ультиматум своего правительства. Япония требовала немедленной передачи под свое командование всех вооруженных сил и полиции Индокитая.
— Срок вам, господин генерал-губернатор, дается два часа, — закончил посол, вручая ноту.
— Он немыслимо короток, ваше превосходительство, — процедил сквозь зубы Деку. — Чтобы созвать экстренное совещание, нам сначала нужно возвратиться в Ханой. — Мысли прыгали, и он едва сознавал, что говорит. — Притом мне необходимо снестись с Парижем… На все это требуется время…
— Два часа, — повторил Мацумото, отступая в сторону.
Вперед вышел Уэда.
— Просу, — он предупредительно указал адмиралу на дверь.
Четко, как на параде, от стены отделились два жандарма со звездочками в черных петлицах и вытянулись по обе стороны от Деку.
— Но позвольте? — для возмущения не хватало сил. — В чем дело? — вяло пробормотал адмирал. — Я вынужден протестовать…
— Просу, — с той же предупредительностью поклонился Уэда. — И вас тозе просу, — обратился он к остальным членам делегации.
Печатая шаг, жандармы отделили французов друг от друга и вывели в коридор.
— Вас сюда, — Уэда махнул рукой в сторону губернаторского кабинета. — А вы сюда, позалуста, — цепко схватил он за рукав Жаламбе. — Позалуста! — толкнул его к лестнице.
Взятых под стражу французов по двое разместили в служебных помещениях. Одному лишь Деку предоставили отдельные апартаменты, состоящие из приемной и кабинета, к которому примыкала комнатка отдыха с диваном и туалетом.
Переступая порог, он услышал сзади револьверный выстрел, и тотчас же прозвучал визгливый возглас Уэды:
— Пытался бежать!
Деку не обернулся. На несгибающихся ногах прошел к столу и рухнул в кресло. Двери за ним закрылись. Оглядевшись, зачем-то поднял и прижал к уху телефонную трубку. Ему ответила глухая настороженная тишина. Аппарат был отключен.
Не дожидаясь истечения двухчасового срока, японская армия атаковала французские части по всей стране. Тщательно спланированная операция развивалась с хронометрической точностью. Еще не истекло данное Деку на размышление время, а главные гарнизоны были окружены и ликвидированы: либо захвачены в плен, либо, в случае сопротивления, уничтожены. Кирасирский разведывательный полк средних танков, состоящий из двух эскадронов новеньких машин «Сомюа» и «Д-2», капитулировал без единого выстрела. Только разрозненным группкам общей численностью в пять тысяч человек, удалось пробиться к китайской границе, где они были интернированы гоминьдановцами.
Покончив с армией, насчитывавшей вместе с туземными частями 115 тысяч солдат, японцы приступили к арестам гражданских лиц французского подданства. Сверяясь с заранее составленными списками, японская жандармерия обходила банки, заводы, госпитали и частные дома. Арестованных на первых порах сгоняли на площади, базары и в парки. Французская оккупационная армия перестала существовать, а вековая колониальная администрация распалась, как карточный домик.
На следующий день диктор токийского радио зачитал сообщение об упразднении колониального статута французского Индокитая, и в тот же день посол Мацумото вручил императору Бао Даю официальное предложение о союзе с Японией.
Бао Дай не замедлил огласить подготовленный на такой случай указ, который начинался со слов о восстановлении независимости Вьетнама, а заканчивался клятвами верности «Директивам манифеста великой Восточной Азии».
Посол представил императору полномочного представителя Екояму, которому передавались функции верховного резидента Аннама, и порекомендовал назначать на ключевые посты верных людей. Господин Канака получил пост директора Центрального банка, а полпред Ёкояма любезно согласился взять на себя бремя управления экономикой. В Тонкин и Кохинхину тоже были посланы представители подобающего ранга.
— Наконец, еще одно, ваше императорское величество, — посоветовал напоследок посол. — Комат[43] во главе с профранцузски настроенным господином Фам Куинем, вероятно, следовало бы распустить. Профессор Чанг Чонг Ким, которого я имел честь вам представить, надеюсь, не откажется возглавить кабинет специалистов, куда войдут самые выдающиеся светила вашей науки, искусства и экономики. Военные, я думаю, вам не нужны. Зачем Аннаму министерство обороны, если могущественная японская армия зорко стоит на страже его национального суверенитета?
Замкнутый молодой человек в желтых, расшитых серебряными драконами одеждах согласился с послом и коротко поблагодарил за мудрую помощь. Больше всего его разочаровала скаредность директора банка Канаки, который выделил ему из общего бюджета в триста миллионов пиастров едва десятую часть.
С такими средствами можно было содержать двор, но не править страной. Глава «кабинета специалистов» поспешил уверить монарха в обратном:
— За исключением обороны, ваше величество, мы держим в своих руках все рычаги государственной власти. Разрешите ознакомить вас с новыми эдиктами? — Чан Чонг Ким скороговоркой зачитал наиболее важные куски. — «Все периодические издания, книги, театральные спектакли, выступления, программы, объявления и тому подобное по-прежнему подлежат представлению на рецензию. Нарушившие этот указ подвергнутся суровой каре».
— Какой? — поинтересовался Бао Дай.
— Это дело юристов, ваше величество, — Ким выхватил новый лист. — «Смертная казнь предусматривается для следующей категории лиц. — Он начал перечисление: — Кто умышленно разрушает частично или полностью мосты, канализационную систему, каналы, шлюзы, оросительные сооружения, железные дороги и так далее, оборонные объекты, наземные и речные коммуникации, дамбы, общественные и государственные учреждения, склады, электроустановки, оборудование и машины; создает партии в составе от девяти человек и выше, разрушает, захватывает или повреждает склады с зерновыми, пищевыми продуктами, прочими товарами, рисом».
— Последнее особенно важно, — заметил Бао Дай. — Нападения на рисовые склады учащаются с угрожающей быстротой. Смертная казнь тут единственно разумная мера. Я согласен. Но не кажется ли вам, что по случаю независимости мы должны что-то такое сделать для народа?
— А как же, ваше величество! — обрадовался Ким, с ловкостью фокусника выхватывая новый эдикт. — Конечно же нам как воздух нужны популярные меры! Вот проект о всеобщей амнистии политзаключенных, кроме коммунистов, само собой разумеется. Французы, кстати сказать, оказали нам последнюю услугу. Отступая, они в ряде мест забросали тюремные камеры гранатами и тем самым избавили казну от лишних ртов.
На следующее утро, после того как эдикты были вывешены на видных местах, весь Вьетнам уже знал текст листовок, наклеенных прямо на императорский указ:
Глава 31
С неумолимой неизбежностью всходит посеянное. Но не джут, не гевея, не кусты клещевины проросли на рисовых полях, а сама смерть пробилась к небу из красного праха, и четыре ветра разнесли ее по всем уголкам вьетнамской земли.
Истребительная лавина голода прокатилась над страной, от Северных гор до Куангчи и Тхыатхиена. На равнине Бакбо и в Чунгбо обезлюдели целые уезды. Ошалевшие от человечины тигры бродили меж вымерших домов, тучи грифов, не способных взлететь, чернели на мертвых дорогах.
Захватив власть, японская армия возобновила прерванный переворотом натиск на опорные зоны и базы Вьетминя. На смену фашизму вишистскому пришел откровенный японский фашизм, провозгласивший политику устрашения.
Женщинам, пытавшимся утаить для голодавших детей корзинку риса, вспарывали животы, захваченных партизан пытали прямо на месте, за помощь Вьетминю рубили голову. Сотни обезображенных трупов оставались лежать на крестьянских полях, возле алтарей предков, обсаженных ананасом и кактусовидными «костями дракона». Некому было зажечь ароматные палочки, некому схоронить мертвых.
Битва за рис стала важнейшей задачей революции. Сразу же после японского переворота были захвачены рисовые склады в провинциях Бакзианг и Бакнинь. В провинции Виньен коммунисты распределили между бедняками около ста тысяч тонн зерна, конфискованного у японцев, французов и реакционных помещиков. В мае рабочий отряд совершил нападение на склады в Дайло, а на Красной реке удалось задержать доверху нагруженный рисом японский пароход.
Народ останавливал джонки и грузовики с продовольствием. Во время налетов американской авиации, когда японские солдаты прятались в бомбоубежища, партизаны совершали смелые нападения на армейские хранилища. Даже в самом Ханое рабочие захватили склады на улице Бакнинь, около городской бойни, в Ta-пи, Фадене и Моккуанняне.
Голод унес каждого десятого вьетнамца, но все-таки смерть отступила перед стойкостью и бесстрашием обреченных. После захвата рисохранилищ рыночные цены на рис резко упали. Под нажимом Вьетминя даже помещики открыли для голодающих свои закрома. Битва за независимость стала битвой за жизнь.
Близился конец войны. В поверженном Берлине был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии. Япония осталась одна перед лицом объединенных наций. Вооруженные силы Вьетминя, слившиеся в Освободительную армию, неудержимо расширяли зоны свободы, в которых вся власть передавалась народно-революционным комитетам.
Еще в начале мая Хо Ши Мин перебрался из Каобанта в опорную зону имени Хоанг Хоа Тхама. Здесь, в городке Танчао, родилась освобожденная зона Вьетбак — прообраз народного Вьетнама.
Японские войска несколько раз безуспешно пытались атаковать Вьетбак со стороны реки До. В конце июня они предприняли наступление на Танчао и Хонгтхай, но, попав в засаду на перевале Тян, понесли большие потери и отступили. Кавалерия и моторизованные группы отошли по дороге № 13 в направлении Тхайн-гуэна, стрелковые части по горным тропам пробрались в провинцию Туенкуанг.
Это была последняя атака на освобожденную зону.
Взяв Каобанг, отряд Во Нгуен Зиапа, насчитывавший уже две тысячи бойцов, двинулся на Тхайн-гуэн.
Перед тем как покинуть город, Хоанг Тхи Кхюе положила три розовых лотоса на пороге камеры, где погиб Танг. Жители рассказали, что, уходя, французские жандармы швырнули туда связку гранат. Над братской могилой бойцы дали залп из винтовок и автоматов.
Шестого августа с боем был взят Тхайнгуэн.
В этот же день в 8 часов утра операторы радиолокационной станции Хиросимы засекли в небе две «летающие крепости» «Б-29». Взвыли сирены воздушной тревоги. Бомбардировщики все набирали и набирали высоту. Радио объявило, что это разведывательный полет. Жители вернулись к прерванным занятиям. В бомбоубежищах остались только раненые и старики. Люди на улицах следили за полетом американских самолетов, серебрящихся в летнем солнечном небе. Те, у кого были бинокли, видели, как у ведущего самолета распахнулись створки бомбового люка и вслед за этим раскрылся купол парашюта.
Потом полыхнул нестерпимый свет.
Сообщение «Домэй Цусин» достигло столицы в полдень. Однако сведения о масштабах катастрофы поступили лишь к вечеру из штаба второй армии через радиостанцию в Курэ. На следующий день срочно опубликовали коммюнике, в котором говорилось, что после налета небольшого числа бомбардировщиков городу нанесен большой ущерб.
«Причины расследуются».
Восьмого августа японскому послу в Москве было объявлено, что начиная с утра девятого августа Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией. Верная союзническому долгу, Советская Армия начала мощное наступление сразу в четырех направлениях: на Чанчунь и Шеньян из Забайкалья, совместно с монгольскими войсками на Чэндэ, Цзиньшоу и Чжанзякоу, на Гирин и Харбин из Владивостока, на Харбин и Цицикар из Хабаровска и Благовещенска. Одновременно Тихоокеанский флот высадил десант в Северной Корее, на юге Сахалина и Курильских островах. Над отборной Квантунской армией нависла угроза уничтожения.
Министр иностранных дел Того с рассветом был уже у дома премьера Судзуки.
— Я требую немедленно созвать высший военный совет, — сердито заявил он. — Проволочки слишком дорого обходятся Японии. Если мы хотим сохранить хоть что-нибудь, войну следует немедленно кончать.
В одиннадцать часов над Нагасаки взорвалась еще одна бомба нового типа. Известие об этом не сразу достигло императорского дворца, где в душном бомбоубежище полным ходом шло совещание.
Императорский дворец был разрушен прямым попаданием бомбы еще в мае. Жилые покои переместили в помещение библиотеки, под которой находилось бомбоубежище. Чтобы попасть в него, нужно было пройти сначала в здание министерства двора. После влажной жары затхлый воздух подземелья навевал сонное оцепенение. Судзуки клевал носом. Когда все собрались, его разбудили.
— В свете последних событий, — прошамкал Судзуки, забывший второпях в стакане нижнюю челюсть, — вторжения советских войск в Маньчжурию и взрыва атомной бомбы в Хиросиме, Япония более не может продолжать войну. Я считаю, что у нас нет другого выбора, как принять условия Потсдамской декларации. Я хотел бы знать ваше мнение.
Члены совета ответили настороженным молчанием. Семидесятисемилетний Кантаро Судзуки, привыкший дремать во время заседаний, напряженно всматривался в лица министров и генералов. Он страдал глухотой и боялся не услышать очередного оратора.
Наконец слово взял бывший премьер адмирал Ионаи.
— Мы не добьемся ничего, если не выскажемся со всей определенностью, — сказал он с присущей ему прямотой. — Принимаем ли мы ультиматум противника безоговорочно? Предлагаем ли встречные условия? Если да, то настаиваю на немедленной дискуссии.
Разгорелся спор. Военный министр Анами и оба начальника генеральных штабов отказались признать саму идею капитуляции.
За десять минут до полуночи в бомбоубежище, сопровождаемый адъютантом, вошел император.
Все встали, согнулись в глубоком придворном поклоне и, отведя глаза от тэнно, заняли свои места.
Вентиляция едва работала. У Судзуки от спертого воздуха мутилось сознание.
— Зачитайте Потсдамскую декларацию, — обратился он к главному секретарю Сакомидзу.
Затем поклонился тэнно и, потупя взор, принес извинения за то, что высший совет и кабинет не смогли прийти к единому мнению.
— Позвольте начать опрос? — он вновь поклонился в сторону золотой ширмы, перед которой сидел тэнно. — Попрошу высказаться господина министра иностранных дел.
Того сжато повторил аргументы в пользу капитуляции.
— Господин военно-морской министр?
— Присоединяюсь к мнению министра иностранных дел, — заявил Ионаи.
— Господин военный министр?
— Категорически возражаю! — вскочил со своего места Анами. — Страна должна сражаться до конца! Исход битвы за Японию никем не предрешен до тех пор, пока она не закончилась. Но если суждено сдаться, то необходимо настаивать на соблюдении четырех условий: сохранение императорского строя, право на самостоятельное и бесконтрольное разоружение, судить японцев могут только сами японцы и ограниченный ввод оккупационных сил.
Утренние газеты вышли с двумя заявлениями на первой полосе: кабинета и генерала Анами. Сидя в душных склепах бомбоубежищ, японцы пытались разгадать смысл столь противоречивой публикации. От бомбовых разрывов глухо сотрясалась земля. Распространился слух о том, что третьей жертвой атомной бомбардировки станет Токио.
В десять утра в кабинет Анами на Итигайя вошла группа офицеров во главе с подполковником Такэситой.
— Капитуляции не будет, — в бешенстве прошептал Такэсита. — Если она состоится, господин военный министр должен будет поразить себя мечом.
Анами ничего не ответил.
— Нам стало известно, что «миротворцы», — презрительно осклабился майор Хатонака, — собираются вас убить.
— Вздор, — процедил военный министр.
— По крайней мере, мы не должны идти на капитуляцию без определенных гарантий, — пошел на компромисс начальник оперативного отдела, полковник Арао. — Кому же возглавить в этот час Японию, как не вам, господин генерал? Необходимо без промедления арестовать капитулянтов, взять под защиту императора и объявить страну на осадном положении. С нами лучшие люди страны: начальник генерального штаба армии Умэдзу, командующий восточным военным округом Танака, командир первой гвардейской дивизии Мори и полковник Арита, принявший на себя командование армией в Индокитае. Решайтесь же!
— Ваш план слишком расплывчат, господа, — покачал головой Анами. — Ему не хватает детальности. — И повелительным жестом предложил офицерам удалиться.
— Нет! — Такэсита, приходившийся генералу шурином, схватился за саблю. — Вы должны заручиться у тэнно согласием бросить в атаку камикадзе.[44] Они принесут нам победу.
— Я хочу сперва повидаться с Умэдзу, — Анами вышел из-за стола и, глядя в одну точку, направился к дверям. Офицеры нехотя расступились. — Пойдемте со мной, Арао, — бросил он на ходу.
Умэдзу встретил военного министра удивленным взглядом.
— Вы разве с ними? — спросил он, кивая на Арао.
— Я пришел узнать ваше мнение, — ответил Анами.
— Переворот обречен на неудачу, — отрезал начальник штаба. — Я не пойду на авантюру.
— Но вы же дали свое согласие? — вспылил полковник Арао.
— Да, восемь часов назад, — подтвердил Умэдзу.
— Что же изменилось за столь короткий срок?
— Очень многое, — Умэдзу смахнул на пол ворох телетайпных лент. — Русские сломили наше сопротивление и планомерно продвигаются в глубь Маньчжурии. С Квантунской армией покончено, а без нее наше дело гиблое.
— Но остается Индокитай! — Арао не желал смириться с очевидностью.
— Жалкие десять дивизий, — горько усмехнулся Анами.
— Притом и они не в наших руках. — Умэдзу холодно взглянул на Арао. — Вы приняли желаемое за действительное, полковник Арита убит.
— Этого не может быть, — Арао упрямо топнул ногой.
— При попытке зарубить мечом капитулянта посла он был застрелен офицером кэмпэтай, — не скрывая неприязни, отчеканил начальник штаба.
— Извините, господа, — Анами поднялся. — Мне пора на совет.
Он спустился в бункер за пять минут до появления тэнно. Члены совета были несколько взбудоражены обмороком, который случился с премьером Судзуки. Анами презрительно пожал плечами и отер со лба пот мокрым, черным, как половая тряпка, платком.
Император прибыл, как обычно, в военной форме без знаков различия.
— Господин премьер скверно себя чувствует, — доложил главный секретарь, — и едва ли сможет вести заседание.
— Нет-нет! — престарелый глава кабинета вскочил с поразительной живостью. — Опасения господина Сакомидзу абсолютно беспочвенны, — сегодня он не забыл челюсть и говорил внятно. — Ваше величество, — обратился он к тэнно, — поскольку членам правительства так и не удалось выработать единое мнение, мы просим вас высказать окончательное решение. Извините нас.
В наступившей затем тишине кто-то всхлипнул. Барон Хиранума, возражавший против капитуляции, разрыдался. Адмирал Ионаи плакал молча.
— Я внимательно выслушал аргументы той и другой стороны, — прозвучал в наступившей внезапно тишине «голос журавля». — Мое мнение, однако, не изменилось. Я считаю, что продолжение войны не сулит ничего, кроме дальнейших разрушений. — Император вытер мокрое лицо. — Если мы продолжим войну, Япония будет полностью уничтожена. И хотя многие из вас испытывают законное чувство недоверия к государствам-противникам, я полагаю, что немедленное окончание войны лучше, чем зрелище полностью уничтоженной Японии. В нашем сегодняшнем положении у нас есть еще шанс на возрождение. Моя судьба меня не заботит. Поскольку народ Японии находится в неведении относительно создавшегося положения, я знаю, что люди будут потрясены, узнав о нашем решении. Если в этом есть необходимость, я готов выступить по радио. Особенно неожиданным наше решение может показаться войскам. Я готов сделать все от меня зависящее, чтобы объяснить им наши действия. Прошу кабинет министров немедленно подготовить рескрипт, объявляющий об окончании войны.
С этими словами тэнно удалился из бункера.
В министерстве двора испещренный многочисленными поправками текст императорского рескрипта поступил к переписчикам. К вечеру, когда каллиграфы закончили работу, обнаружился досадный пропуск. Переписчик стоял ни жив ни мертв. Раньше за такую ошибку он мог очутиться в тюрьме. Но все менялось в расползавшемся по швам мире. Главный секретарь просто указал, куда поместить пропущенную колонку.
Через час тэнно поставил подпись — «Хирохито», дату — «Четырнадцатого дня восьмого месяца двадцатого года эпохи Сева» (под этим именем он короновался) и приложил большую императорскую печать.
Записанный заранее на пластинку рескрипт решено было передать по радио в полдень 15 августа. Министр Анами к этому времени уже был мертв. Он совершил сэппуку в своем загородном доме. На паркете, с которого были удалены татами. Пусть о его вине судят высшие силы. Мир, который он покидал, внушал ему отвращение.
Глава 32
На крутых поворотах истории, на роковых ее перекатах, может возникнуть иллюзия, что судьбы людей творятся по заранее предначертанным планам. В шуме стремнин, в грохоте низвергающихся водопадов мнится трубный зов рока. И уже не жаль ни могучих судов, которые, не слушаясь руля, разлетаются в мельчайшие щепы, ни утлых челнов, затянутых в водовороты, ни безвестных пловцов, вышвырнутых на неведомый берег. Ни сожаления, ни ужаса, одна лишь растерянность. Опасная иллюзия эта подстерегает не только тех, чей ропот не слышен в оглушительном реве стихии, но и тех, кто еще вчера почитали себя хозяевами жизни. Приходит неизбежно миг, когда стремительная лавина событий изнутри взрывает обреченное уничтожению. Предопределенные всем ходом истории перемены вырываются из-под контроля, и непостижимый полет их стремительно опережает волю и мысль политических банкротов, мнивших себя властителями.
Современникам не дано проследить путь революции через сердца и судьбы людей. Сознательно или нет, все они — ее участники: либо творцы, либо противники. Сторонних наблюдателей просто не может быть, ибо немыслим человек вне истории.
Когда по японскому радио после гимна «Камигаё» прозвучал «голос журавля», Освободительная армия уже несколько дней штурмовала города и стратегические центры страны. По приказанию комитета восстания полк имени Танга, которым командовал Льюнг, выступил из Танчао в направлении дельты Красной реки.
Обходя укрепленные пункты, занятые японцами, отряды Вьетминя продвигались к столице с запада и с северо-запада через Тхайнгуэн и Тхайенкуанг. На всем пути Освободительной армии власть переходила к народу. Красные знамена с золотыми звездами взвивались над крышами, заводскими трубами, над смотровыми вышками опутанных колючей проволокой блокпостов, где рядом с японскими «намбу» еще стояли французские зенитные пулеметы калибра 12,7.
Ночью тринадцатого августа Национальный комитет восстания, в который вошел и Во Нгуен Зиап, отдал приказ № 1:
«Армия и народ всей страны!
Пришел час восстания!
Наступил час для завоевания армией и народом Вьетнама независимости Родины!
Мы должны действовать как можно быстрее, с беспредельной смелостью и величайшей осторожностью!
Родина требует от нас абсолютной самоотверженности.
Победа будет за нами!»
В этот час Тонкинский обком партии получил директиву ЦК о захвате власти в Ханое и переходе к восстанию во всех провинциях, административных центрах и городах Тонкина.
К ночи ветер с Тонкинского залива нагнал непроницаемую облачную пелену. Набирающая полную силу луна и звезды словно растаяли в мглистой мороси. Только светляки прерывисто вспыхивали среди мокрой листвы и красноватый свет коптилок жирно просачивался сквозь волглые циновки.
Сонное забытье окутало хижины и раскисшие от дождей скотопрогонные тропки крохотной деревушки Тьен в ханойском пригороде Ту Лием. Но неспокойный затаившийся город то и дело давал знать о себе неясным гулом и зловещим привкусом гари. В японских штабах по ночам сжигали секретную документацию.
Посасывая хрипящий кальян с лаосским табаком, старик Лием чутко прислушивался к влажным шелестам ночи. Тяжело шлепались жабы в траве. Тревожно вскрикивали бессонные птицы. Темный домик в глубине огороженного живой неприступной изгородью крестьянского двора казался вымершим.
Лием, которому было поручено охранять военно-революционный комитет Ханойского горкома, знал о подготовке к восстанию, но никак не думал, что все решится в эти короткие предрассветные часы и в этом доме, чьи крохотные оконца так тщательно занавешены одеялами из нежной шерсти алжирских верблюдов.
В эту судьбоносную ночь на шестнадцатое августа в город прибыл член обкома Нгуен Кханг. Немедленно было созвано чрезвычайное совещание городского комитета партии и избран военно-революционный комитет в составе пяти членов. Склонившись над планом города, они уточняли последние детали операции.
— Поражение Японии не даст нам немедленной независимости, — сказал Кханг. — Предстоит преодолеть огромные трудности и препятствия. Действовать надлежит решительно и гибко. На нас с вами возложена задача — организовать мощное выступление народных масс. Мы обязаны сорвать жалкие попытки марионеточной власти справиться с положением. К утру во всех жизненных центрах города должны сидеть наши люди. Ясно? — И, не дождавшись ответа, заключил: — Тогда по местам, товарищи.
Утром Домэй Цусин опубликовало в Ханое официальное сообщение о безоговорочной капитуляции. Японский представитель сразу же передал всю полноту власти Фан Ке Тоаю — наместнику императора Бао Дая в Тонкине. Из центральной тюрьмы выпустили всех политических заключенных. Город украсился наскоро выкрашенными императорскими желтыми флагами.
В императорском дворце спешно состоялась консультативная ассамблея. Лидеры партии «Дай Вьет» предложили всем противникам Вьетминя образовать единую коалицию. Глава прояпонской группировки Нгуен Суан Ты призвал провести на площади перед театром манифестацию верности Бао Даю и «мужественному борцу за свободу» премьеру Киму. Митинг назначили на вторую половину дня, когда немного спадет жара.
Когда организаторы, после дружеского завтрака в «Метрополе», пришли на соседнюю площадь, она была полна народом и гудела, как растревоженный улей. Оратору не дали даже взойти на трибуну. Над толпой поднялось исполинское алое полотнище с золотой звездой. Члены ударных групп скандировали лозунги:
— Поддержка Вьетминю!
— Долой марионеток!
— Вьетнаму — полная независимость!
— Да здравствует наш Хо Ши Мин!
Утром девятнадцатого вся столица была украшена алыми полотнищами с золотыми звездами. Прекратили работу заводы и фабрики, ставни, решетки и жалюзи опустились на темные окна магазинов. Овощные базары и рынок Донгсуан впервые за многие годы были пусты. Дождевые потоки смывали солому, окровавленную рыбью чешую да скользкую кожуру бананов. Все центральные кварталы и ремесленные улицы были заняты отрядами Освободительной армии и патрулями самообороны. Из пригородов и уездов Тханьчи, Тхыонгтин, Фусуйен, Хоайдык, Зиалам, Данфыонг в Ханой прибывали все новые толпы крестьян, вооруженных допотопными ружьями, серпами и широкими черными ножами, на скорую руку сработанными в деревенской кузне.
Казалось, прорвалась дамба, бессильная сдержать напор разлившейся в половодье Красной реки. Бунтующая стихия все прибывала, мешая в уличных водокрутах маковые лепестки флагов с малиновыми и красно-коричневыми оттенками крашенных соком крестьянских одежд.
И каждый стремился пробиться в центр, на площадь перед городским театром, откуда гулко раскатывалось по всему Ханою победное эхо.
— Долой Чан Чонг Кима!
— Создадим правительство Демократической Республики Вьетнам.
— Солдаты, с оружием в руках вступайте в боевые ряды фронта Вьетминь!
Словам не давали замереть, повторяя их хором вновь и вновь, разнося все дальше и дальше к вокзалу и дорожным заставам, откуда спешили новые толпы.
А на площади уже гремела нестройная канонада салюта в честь флага, в честь песни, ставшей государственным гимном. Когда представитель военно-революционного комитета зачитал обращение Вьетминя, в котором говорилось о восстании и полной капитуляции японской армии, слова нового гимна уже знал каждый:
Марш на фронт!
И, словно повинуясь волнующему призыву, многотысячная толпа разлилась по запутанным каналам и руслам древних городских улиц: к резиденции верховного уполномоченного, к казармам корпуса безопасности, службам полиции и правительственным учреждениям.
Заняв резиденцию, кадровые работники Вьетминя сразу же связались по телефону с губернаторами и мэрами Хайфона, Хайзыонга, Бакиня, Ханалга и Намдиня:
— Под угрозой смертной казни немедленно приказываем вам передать всю полноту власти Вьетминю.
Лишь у казарм корпуса безопасности восставший Ханой натолкнулся на сопротивление.
Японские танки угрожающе развернули граненые башни и нацелили на толпу короткие жерла своих орудий.
— Ни шагу вперед! — распорядился сновавший за цепью военной жандармерии Уэда. — В противном случае я прикажу открыть огонь!
Толпа на миг замерла. В первые ряды стали протискиваться вооруженные трофейными автоматами бойцы столичного отряда. С каждым мгновением их становилось все больше и больше. Не скрывая своих намерений взять японцев в клещи, они начали заходить с флангов.
Уэда понял, что ему не устоять. Но подать приказ к отступлению было выше его сил. Стиснув окостеневшими пальцами пистолет, он уже выбирал мишень для первой пули. Его выстрел послужит сигналом. А там будь что будет…
— Господин Уэда! — позвал его невысокий тщательно одетый в белое человек, по виду похожий на филиппинца. Внезапно появившись на крыльце, он в два прыжка очутился рядом с шефом кэмпэтай и виртуозным движением выбил из судорожно зажатой руки оружие. — Не делайте глупостей! — тихо сказал он. — Не вы, а мы победители в этой войне. Поэтому не надо портить нам игру. Лучше проследите за тем, чтобы все агентурные списки пошли в огонь. И постарайтесь, чтобы банк заняли представители союзных войск. Это важнее, чем ваша полицейская конюшня.
Заняв казармы, колонна демонстрантов прошла по улицам Персикового цвета и Поперечной, мимо рынка Донгсуан к бывшей резиденции генерал-губернатора, где находился штаб командующего японской армией.
В особняке гремели выстрелы и со звоном сыпались стекла. «Висельники» лейтенанта Иды, пытавшиеся захватить штаб, в котором засели капитулянты, вынуждены были отступить.
— Нас обманули! — крикнул Ида, уводя «висельников» от улицы Коткэ. — Рескрипт подложный! Мы уйдем в джунгли и будем сражаться хоть двадцать лет до полной победы. — Вытирая кровь на виске, он затравленно оглянулся. Их никто не преследовал. Демонстрация свернула на улицу Кыанам. Кажется, там даже не обратили внимания на стрельбу в доме японского главнокомандующего.
Незамеченной прошла и смерть француженки, которую нашла случайная пуля, вылетевшая из окна особняка. Возможно, что убитая на улице женщина и была Колет де Фюмроль, приехавшая в Индокитай, чтобы отыскать могилу мужа. Бельгийское консульство сообщило в Париж, что она пропала без вести.
Когда полк Лыонга вошел в город, Хоанг Тхи Кхюе повела отца на бульвар Карно, прозванный улицей Раненого Сердца, где в развалинах Северных ворот сохранился след первого ядра, выпущенного из французской пушки.
— Если он жив, то придет на это место, — она бережно положила на искореженные камни стебелек горечавки. — Буду приходить сюда каждый вечер.
— Вы обязательно встретитесь, — Лыонг привлек ее к себе. — Ветер революции долетит и до Сайгона… Останешься здесь?
— Конечно, ба. Хочу дедушку разыскать. Куда ты теперь?
— Не знаю, — улыбнулся Лыонг, — товарищ Зиап скажет.
Хрупкая девушка в защитной форме и шлеме, обтянутом маскировочной сеткой с зелеными перышками, долго смотрела ему вслед…
Мирты — цветы любви и смерти — вновь буйно цвели в ханойских парках.
Ханой — Сайгон (Хошимин) — Токио — Кота-Бару — Сингапур — Бангкок — Москва
Рассказы о Востоке
Учитель графа Монте-Кристо
Помню, как поразил меня в детстве аббат Фариа из «Графа Монте-Кристо». Затаив дыхание, читал я и перечитывал страницы, посвященные романтическому узнику замка Иф. Про то, как он рыл подкоп, как учил Эдмона Дантеса языкам, истории и таинственной науке о ядах. Но мне и в голову не могло прийти, что Хозе Кустодио Фариа — реальное историческое лицо, оставившее заметный след в европейской культуре. И уж меньше всего можно было предположить, что я когда-нибудь загляну в его пророческие очи, которые так вдохновенно описал Дюма-отец. Но тем не менее такое случилось. И произошло это не во Франции и не в Италии, а в далекой Индии, на жарком побережье Аравийского моря.
Дюма ошибся. Аббат Фариа не был итальянцем. Его родиной был легендарный Гормант — прекрасный Золотой Гоа…
Как рассказать мне об этой дивной маленькой стране, которая узкой полосой протянулась вдоль Малабарского побережья Индии? Где найти слова, могущие хоть отдаленно передать запахи ее лесистых холмов, блеск лагун на закате, шум водопадов и пеструю разноголосицу карнавалов? Мне кажется, что Александру Грину, создавшему силой воображения Зурбаган и Гель-Гью, мерещилось нечто похожее на пленительные гоанские города: Панаджи, Мапуса, Васко да Гама. Доведись ему побывать в Гоа, он, я думаю, сразу бы узнал мыс Дона Паула и ленивое дыхание пассата над бухтой Мармаган.
Здесь все дышит историей, на этой латеритовой земле цвета толченого кирпича, опаленной войнами и вечным тропическим зноем. О ней повествуют древнейшие тексты «Пуран» и «Махабхараты», в которых она названа «раем Индры». Не оттого ли так красна почва, что слишком многим приглянулся этот рай? Не случайно же Гоа стал первым клочком индийской территории, на которой утвердились европейские колонизаторы, и последним оплотом колониализма на ней. Лишь через четырнадцать лет после провозглашения независимости Индии чужеземные захватчики покинули древний Гормант. Произошло это 19 декабря 1961 года. Но минуло еще четырнадцать лет, прежде чем Португалия, сбросившая диктатуру Салазара, официально признала Гоа частью индийской территории.
Итак, Гоа — рожденный, согласно легенде, из стрелы бога Парасурама, выпущенной в море с высокой скалы…
Общая площадь района, наибольшая протяженность которого 105 километров, а ширина — 60, составляет 3611 квадратных километров. Согласно последней переписи, здесь живут около миллиона человек, говорящих на звонком и красочном языке конкани с большой примесью португальских и английских слов. Гоанцы удивительно красивый народ. Они держатся с достоинством и подчеркнутой независимостью, что не мешает им быть открытыми и приветливыми. Редко можно увидеть в толпе лицо, не озаренное жизнерадостной белозубой улыбкой.
Я прилетел сюда из Бомбея, индустриального гиганта, окруженного мутной, подернутой радужной пленкой нефти водой, и поразился тому, как свежа самая веселая на земле зелень молодого риса. От аэропорта Даболимо до столицы Гоа Панаджи всего 29 километров. Но на дорогу обычно уходит около часа, поскольку приходится переправляться на пароме через реку Зуари. Этого времени не хватает для того, чтобы свыкнуться с той разительной переменой, которая поражает всякого, кто приезжает сюда. Гоа не похож ни на один из штатов Индии. Он ослепляет, как солнечный свет на выходе из подземелья. Я поймал себя на том, что улыбаюсь без всякой на то причины. Говорят, что нечто подобное испытал Гоген, впервые увидев Таити. Типичный гоанский пейзаж: рисовое поле, окруженное рощицами кокосовых и арековых пальм, порослью манго, где в тени прячутся от любопытного глаза непримечательные деревья, на которых прямо из ствола вырастает колючий таинственный дурьян — абсолютный чемпион среди тропических фруктов. Но Гоа прославлен все-таки своими манго. Золотой Гоа щедро дарит золотые плоды, которые так любят по всей Индии. Недаром слова популярной песенки «В Гоа, в сезон манго…» стали символом беззаботного счастья. Только есть ли такое в подлунном мире? Как бы ни была плодородна земля и щедро солнце, без соленого пота людского и жара сердец только дикие джунгли поползли бы по берегам здешних мутно-зеленоватых рек, несущих богатые илом воды в Аравийское море. Гоа — страна трудовых людей. Это их неустанной заботой дважды в год наливаются рисовые метелки и кокосовая пальма плодоносит каждые сорок два дня все сорок два года своей благодатной жизни. Это их умные руки наполняют корзины орехом кешью и красными ягодами личи, вытягивают сети, в которых бьются литые ртутные рыбы — гордость рыбаков Дона Паула и Мармагана, или ловушки, в которых запутались знаменитые лобстеры и длиннобородые океанские раки. Ныне эти исконные продукты местного экспорта пополнились железной и марганцевой рудой, солью, а также сахаром, который вырабатывается из тростника на современном предприятии. Вступил в строй завод искусственных удобрений, строится несколько новых консервных и текстильных фабрик, расширяются доки в порту Васко да Гама. Одним словом, традиционно фруктовый Гоа обретает постепенно промышленный облик. Достаточно сказать, что только на рудниках работает ныне около ста тысяч человек. По-прежнему деревянный плуг взрыхляет рисовое поле и под сенью кокосовых перистых опахал роются в сухой скорлупе черные полудикие свиньи с прогнутой спинкой, а крестьяне везут на базары грозди бананов, медовые ананасы, приторно-сладкие чико, но что-то уже необратимо переменилось в «раю Индры».
Над пальмовой порослью нестерпимой сахарной белизной сверкает изукрашенный конус индуистского храма, посвященного Шанта Дурге — богине мира. Но долго не воцарялся мир среди этих садов и полей, наполненных птичьим гомоном и журчанием вод. Со времен Сидона и Тира, со времен крестовых походов и первых халифатов влекли они жадных до наживы чужеземцев. Набеги следовали за набегами, завоевания за завоеваниями. Пали индуистские короли, рухнула власть делийского султана, султанат Виджаянагар сменился государством Бахмани, но народ Горманта сберег родной язык и предания предков. Даже после того, как в 1510 году по реке Мандови поднялись галеоны Альфонсу д’Албукерки и медные бомбарды обратили в руины старую столицу, не угасло пламя неповиновения. Четыре с половиной столетия длилось португальское владычество. Страна покрылась сплошной сетью католических соборов и укрепленных фортов, но не изменила своей вере. Конкистадоры рушили мечети прежних завоевателей и храмы местных богов Шивы и Вишну, слоноголового Ганеши и черноликой Кали, но гоанцы зажигали благовонные свечи на алтарях, воздвигнутых предками. Ни мушкеты солдат в кирасах, ни усилия миссионеров, всевозможных францисканцев, доминиканцев, кармелитов и августинцев ничего не могли с этим поделать. Даже учрежденные в 1560 году суды святейшей инквизиции, даже коварные ухищрения отцов-иезуитов, сделавших из Гоа свой форпост в Азии, оказались бессильными сломить волю народа к сопротивлению. Об этом красноречиво свидетельствует статистика. Ныне, после веков, озаренных языками аутодафе, только треть населения исповедует христианство, две трети остались индуистами. Не принесли сюда мира ни церковь Франциска из Ассиз, ни монастырь девы Марии, ни белый храм Непорочного зачатия с огромным колоколом и смелыми пересечениями лестничных маршей. Насильственно окрещенные «туземцы» находили убежище в лесах Санджима, Канакона, Сатори и Алтинхо. Там они постигали суровую истину, что мир не даруют ни свои, ни чужие боги, что он завоевывается в упорной борьбе. Вот почему неуютно чувствовали себя колонизаторы в этом тропическом раю, где и зимой и летом одинаково тепло, а купальный сезон длится с октября до мая. Последнее время они больше надеялись на форты, чем на алтари. Но против партизанского движения и манифестаций гражданского неповиновения не помогали ни стены из кирпича, ни железобетон дотов, понастроенных у каждого перекрестка дорог, у каждой переправы. С исторической неизбежностью рухнуло многовековое владычество креста и меча, потому что не могло далее существовать.
Гоанские праздники и фестивали прославились на всю Индию. Ежегодный праздник Света и веселые карнавалы в Дона Паула, Гаспар Диас и Сиридао привлекают сюда десятки тысяч туристов из разных стран. Одних манит разноцветный фейерверк над черным зеркалом лагуны, других — танцы под гитару в муниципальном саду или маскарады на Авенида до Брацил вдоль набережной Мандови.
Однажды, вернувшись после встречи с гоанскими писателями к себе в гостиницу (как и река, она носила название «Мандови»), я вместе с ключом получил конверт, в котором лежал отпечатанный на глянцевом картоне пригласительный билет. Губернатор любезно приглашал меня присутствовать на любительском концерте, где будут исполняться гоанские песни и ставиться сцены из спектаклей. Господи, какой это был обворожительный, искрящийся непринужденным весельем и дружелюбием праздник! Нигде потом я не встречал столько красивых девушек под одним кровом. Очень точно сказано у Хемингуэя: «Праздник, который всегда с тобой».
Что и говорить, много красот есть на древней земле Золотого Гоа. Прекрасны индуистские храмы Махалакшми и Шри Махалса, окруженные бананами и папайей. Великолепны не уступающие лиссабонским соборы, построенные португальскими зодчими. Тихой прелестью дышат кривые улочки и площади с фонтанами посредине, с белыми домиками под розовой черепицей. Нельзя не восхищаться лучшими в мире пляжами: Мира-Маром, где чистейшие пески искрятся морозной пылью, Калантате близ Панаджи и Калва-Бич возле Мармагана, над которыми струнно гудят на ветру царственно изогнутые пальмы. Но все это великолепие неотрывно от тех, кто одухотворил жемчужину Малабара. Не бог, пустивший в море стрелу, не иноземные властелины, а они, и только они, являются создателями, наследниками и хранителями своего чудесного края. О такте и чувстве юмора гоанцев свидетельствует, между прочим, курьезное объявление на городском пляже: «Нудистов и хиппи убедительно просят найти для себя более уединенное место».
С ротонды Дона Паула открывается вид на устье широкой и самой длинной из здешних рек Зуари, а также на бухту Мармаган, где застыли на рейде суда под разноцветными флагами. Они привезли машины, оборудование, горючее, стройматериалы и ждут теперь, когда их трюмы загрузят рудой, ящиками фруктов, мешками сахара. Я следил за тем, как движутся по дороге самосвалы, как деревянный плуг взрыхляет кирпично-красные пласты, как медленно тают на горизонте голубые паруса рыбачьей шхуны. И я думал о тех, с кем мне посчастливилось познакомиться и подружиться, о тружениках этого моря и этой благоуханной земли. Это руками их отцов и дедов построены города, храмы и церкви, посажены пальмы и рис, перекинуты мосты, прорезаны в скалах дороги. А ведь спокойное небо над Гоа никогда не было мирным. Я вспоминал рабочих у сушильных печей, ворочающих твердый, как камень, кешью, черноволосых женщин в ярких сари, спешащих с рассветом разобрать сверкающие горы морской живности, моряков в портовой таверне «Каравелла» и художников в кафе «Карпуцина». Какой простор открывается перед ними теперь, какие возможности обогатить и приукрасить свою золотую страну!
Перед тем как покинуть Панаджи, я пошел проститься с Хозе Фариа. Я нашел его возле дворца, построенного в пятнадцатом веке султаном по имени Биджапур Адил-шах. Теперь здесь размещены правительство и законодательное собрание объединенной территории Гоа, Даман и Диу. Это постоянное место великого гипнотизера и гуманиста. Он всегда стоит там, простирая над больной женщиной бронзовые, навеки неподвижные руки, этот легендарный аббат, принесший на Запад мудрость Востока. Судьба его была необычной. Он родился на этой благословенной земле в 1756 году и закончил здесь монастырскую школу. За участие в заговоре против тирании его заковали в цепи и отправили в Лиссабон. Совершив дерзкий побег из тюрьмы, он объявился в Париже, где скоро прославился как гениальный врач, исцеляющий больных таинственным искусством внушения. Там же, в Париже, он издал первую на Западе книгу о гипнозе. Но республиканская закваска не давала ему покоя. Он принял участие в штурме Бастилии и умер в 1819 году в замке Иф, куда перед самым побегом Наполеона с Эльбы был водворен Эдмон Дантес. Дюма, для которого история, по собственному признанию, была лишь гвоздем, на который он вешал все, что только желал, на сей раз не погрешил против истины. Но история — это прежде всего урок на будущее. Примеры ее часто бывают поучительны, а исторической логике подвластны даже бронзовые монументы.
Народ Гоа сбросил статую Салазара в Мандови и воздвиг памятник великому португальскому поэту Камоэнсу. Настал день, и изображения Салазара были свергнуты с постаментов по всей Португалии, и революционное правительство протянуло руку дружбы гоанцам и всем народам Индии.
Что же касается Эдмона Дантеса, то у него был хороший учитель. Гоанские девушки часто кладут к подножию памятника цветы.
Я написал об этом очерк и получил после этого много писем от читателей. Одно из них прислала Клара Сантос — молодой гоанский врач. «Я гипнолог, — писала она, — и лечу людей внушением. Мне очень приятно, что вы рассказали советским людям о доне Фариа, которого мы считаем своим учителем. Чтобы прочитать в подлиннике Павлова, я выучила русский язык. Понадобились века, чтобы культуры Запада и Востока могли слиться в единую полноводную реку. Слабой горсточкой я черпаю из нее воду, чтобы облегчить страдания людей».
Скала и вершина
Теперь вершину Рамагири ты на прощанье обними.
Здесь каждый след святого Рамы благословляется людьми.
Стихи, выбранные мною в качестве эпиграфа для рассказа об одном из прекраснейших уголков нашего мира, принадлежат индийскому поэту, о котором почти ничего не известно, кроме бессмертных творений, и разумеется, имени. Впрочем, недаром мудрые латиняне рекли: имя — это знак. Однажды я задумался над смыслом, скрывающимся в сочетании санскритских слов: Кали и даса, то есть «раб Кали», черноликой богини в ожерелье из черепов. В чем тут дело? Откуда такой псевдоним? На раба этот поэт-бунтарь отнюдь не похож, на фанатичного ревнителя веры — тем паче. Его пронизанные жизнелюбием стихи менее всего напоминают мрачный гимн смерти.
Все было бы более-менее ясно, если бы этику народов индостанского региона пронизывала привычная нам идея полярности добра и зла, столь характерная для культуры Запада и христианской морали.
Суть, однако, в том, что индуизм, а тем более буддизм, отрицающий богов, не знают дьявола в нашем понимании и совершенно иначе, чем это изложено в Ветхом и Новом завете, взирают как на земную жизнь, так и на посмертное существование. Требующая кровавых жертв Кали оказывается лишь одним из многих воплощений Космической Женственности, чьей другой ипостасью выступает кроткая и милостивая Парвати, нежная мать и жена. Жизнь и смерть в индуистской философии не отрицают друг друга, выступая как своего рода текучие точки в непрерывном круговороте бытия. За концом следовало иное начало. Не случайно ланкийские витязи оказывали телу поверженного врага посмертные почести. Это не только акт политической дальновидности, но и дань убеждению, что человек сам творит свою карму и никакая посторонняя сила не способна помочь ему разорвать беспощадные путы причин и следствий.
Учение Шакья-Муни возвысило человека над богами и демонами, дав ему возможность изменить свою карму ценой сознательных волеизъявлений, из которых слагается жизнь; проще говоря — поступков. Забегая вперед, скажу здесь несколько слов о «Яккагале» — скале демонов. Как и в случае с Кали, нас может легко подвести семантическая несопоставимость. Ни в английском, ни в русском языках нет эквивалента палийскому понятию якка (якша. — санскр.), которое переводится как «демон». Но мыслим ли демон вне идеи сатаны, противостоящего богу? Нет, якки совсем не демоны (в нашем опять-таки понимании), скорее, просто сверхъестественные существа, особые духи, может быть, полубоги. Что-то вроде эллинских кентавров, сатиров, дриад; сказочных кобольдов и троллей. И значит, нет и не будет противоречия, абсолютного, как день и ночь, между сверкающим пиком священной горы, где оставил свой след Рама, и «Яккагалой» — Скалой демонов. Сейчас, вспоминая о своих поездках в Шри Ланку, я не могу не думать о выпавших на мою долю подарках судьбы. Во всяком случае, мне удалось совершить восхождение на вершину богов и побывать на той знаменитой скале демонов, увенчанной развалинами дворца царя-отцеубийцы.
Пик Адама (2243 м.) — не самая высокая точка Шри Ланки, но это священная гора, которую почитают приверженцы всех местных религий, равно как и атеисты, не признающие никаких богов. На вершине есть углубление, напоминающее оттиск гигантской ступни, которое называют Стопой бога. Буддисты, преобладающие на острове, принимают его за след своего патрона, вишнуиты — за знак, оставленный богом Саманом, который, как и Рама, является воплощением Вишну. Не остались в стороне и поклонники Мухаммеда. Они говорят, что именно здесь приземлился прародитель Адам, когда господь низвергнул его из Эдема. Насколько я смог установить, представители различных христианских церквей, не отрицая в общем версию Адама, больше склоняются к святому Фоме. Апостол-скептик, кстати, очень популярен в этом районе мира. В Мадрасе я нашел церковь, где, согласно традиции, захоронены его мощи. По преданию, Фому забросали камнями брахманы, когда основанная им община стала приобретать все больше влияния на южноиндийском побережье. Но это так, отступление по ходу дела.
Короче говоря, сейчас молчаливо подразумевается, что знаменитая «Шри пала» — великий отпечаток — принадлежит многим богам и учителям веры. Поэтому, не вступая в религиозный спор, пилигримы со всех концов страны устремляются к Лестнице богов, чтобы взойти на вершину. Ланкийцы считают обязательным для себя хоть однажды совершить подобное восхождение, дабы очистить душу от повседневной суеты. Славный, хоть и нелегкий обряд (нужно преодолеть несколько тысяч вырубленных в скале ступеней) утратил религиозный смысл и превратился в национальную традицию. Начало ей положил еще в первом веке до нашей эры король Валагам Баху. Ныне это самое популярное место паломничества.
Выступают обычно ночью, когда восходит луна и летучие собаки-калонги начинают чертить стремительные фигуры вокруг фонарей, хватая летящую на свет живность. Мириады светляков кружатся над горной тропой. Теплый ветер, насыщенный камфорой и ванилью, шелестит в священных деревьях возле древнего храма. Сквозь перевитый лианами лес, где ползучие корни взламывают камень и ржавые источники подтачивают крутую ступень, лестница выводит на широкие террасы. Там под праздничной полной луной белеет сонный мак и больные звери ищут исцеления в мускатных рощах. Это — преодоление ночи, близкое древним инициациям. При свете кокосовых факелов и карманных фонарей, ощупывая каждую ступеньку, толпы людей забираются все выше и выше за облака. Стремительный буйный рассвет паломники встречают уже на вершине. За первым зеленым лучом последует неистовство красок, лихорадочное, неправдоподобное, ткущее миражи. Вся котловина будет купаться в волнах тумана, словно на чаньском свитке в духе Ми Фэя, где над молочной рекой выступают лишь кроны отдельных деревьев.
Как передать запах этого насыщенного пряностями и сонного дурмана джунглей, его отчетливый привкус? Как осознать в словах навязчивую близость внутреннего озарения, что померещится за минуту до взрыва зари?
Цветущие сады и мирные селения так и брызнут ртутными каплями черепичных крыш, когда сандаловым дымом истает рассветное молоко. Белые ступы, возведенные еще в прежнюю эру, засверкают золотыми навершиями среди развалин, олицетворяя движущий мирами творческий вечный огонь.
Донесется трубный рев черных слонов из заповедных лесов, трепет пробежит по бесчисленным пальмам, и яркая зелень риса обозначит путь ветра муаровой рябью.
Еще фра Мариньоли, посетивший в четырнадцатом веке Серендип, не сдержал восторженных и еретических для католического миссионера слов, сравнив сказочный остров с раем. Впрочем, что Мариньоли, когда о Тапробане знали еще с античных времен! «По звездам здесь не определяют направления, — писал Мегасфен, — а берут с собой птиц, которых от времени до времени выпускают и следуют затем к берегу по направлению их полета»…
Одним словом, если господь и низринул Адама на эту гору, то лишь для того, чтобы тот не заметил перемены. Великолепный край открывается с надмирной благоуханной высоты. И память станет перебирать яркие воспоминания о барьерных рифах Трйнкомали, где в коралловых лесах снуют радужные рыбы, о первой столице Анурадхапуре с ее священным деревом бодхи, посаженным двадцать два века назад, о вещих развалинах Полоннарувы и золотых реликвариях Канди, хранящих исторические святыни оригинальнейшей культуры нашего мира.
Не для общения с богами приходят сюда встретить рассвет. Это вечная жажда прекрасного заставляет все новые и новые поколения подниматься вверх по великой лестнице. Это неумирающая надежда на встречу с чудом кружит голову и радостным хмелем бушует в крови.
Храм красоты, о котором мечтали античные гимно-софисты, сотворила здесь сама природа.
«Этот пик, — прочитал я в книге Джона Стилла «Прилив джунглей», — можно уподобить громадному собору, способному вместить благоговейные чувства всего необъятного человечества».
В маленьком храме на вершине горы преподобный Мапалагама Випуласара тхеро[45] показал мне книги, написанные на листьях пальмы, где упоминалось о следе, оставленном Буддой, но не Шакья-Муни, а одним из его предшественников, который был великаном.
Таковы мифы и реалии Шри Ланки.
Пожалуй, и все о вершине. Время вернуться к скале.
Взметнувшаяся над буйной тропической зеленью, она властно приковывала взгляд. От нее просто нельзя было оторваться. Внезапно возникнув на горизонте и многократно меняя цвета, она появлялась то справа, то слева от петлявшей дороги, рождая невысказанные вопросы, тревожа воображение. Сначала голубоватый, затем светло-серый в охряных подтеках исполин напоминал астероид, низвергнутый в незапамятные времена из космической бездны. А еще походил он на обезглавленного великана, который шел себе семимильными шагами сквозь джунгли, будто по траве, и вдруг застыл, когда иссякла огненная кровь, клокотавшая в каменных жилах.
Где-то на шестидесятом километре мы свернули с шоссе, идущего на юг от древней столицы Анурадхапуры, и по узкому латеритовому проселку понеслись через лес. Но над вершинами эвкалиптов, над перистыми листьями пальм, где сонно золотились королевские кокосы, темнел все тот же загадочный камень. От него исходила ощутимая магнетическая сила, он словно притягивал издалека, наращивая по приближении свою непонятную власть. Словно «красное божество» в обворожительной новелле Джека Лондона… Временами скала и впрямь наливалась багряным накалом. Я знал, куда еду, и мысленно был готов к встрече с чудесным проявлением человеческого гения, но геологического чуда как-то не предусмотрел. А оно было налицо, разрастаясь с каждой пройденной милей на небосклоне, слепое и вещее творение тектонических катаклизмов.
Когда кончились пальмы, связанные канатами, по которым ловко перебегали сборщики сока, идущего на приготовление хмельного тодди, открылось озеро с голубыми и розовыми кувшинками. Возможно, то самое, где по приказу вероломного узурпатора, солдаты закололи царя. В невозмутимой глади отразилось небо и скала, которую не заслоняли уже ничьи перевитые лианой стволы. Девушка в желтом, как буддийская тога, сари, прополоскала роскошные волосы и вплела в прическу цветок. И ожила, заколыхалась загадочная скала в потревоженном зеркале, и разом исчезло наваждение. Осталось лишь нетерпеливое предвкушение праздника.
У первых пещер, где глыбы были помечены древними знаками заклятия враждебных сил, кончились проселки и лишь каменные ступени обозначили крутую тропу. Отсюда вырубленная в скале лестница вела прямо к «Яккагале», вернее, к Сигирии, которую по праву называют самой драгоценной скалой в Азии.
Слово Сигирия, точнее, Синхагири в переводе означает «Львиная скала». Так нарек это необычное место Деванампия Тисса, правивший в третьем веке до нашей эры. С царствования Тиссы, собственно, и начинается документально подтвержденная хронология Шри Ланки, которую, повторю, называли Транатой, Тапробаном, Серендипом и еще добрым десятком имен. В России знаменитый остров в былинные времена именовался Гурмызом, а позже, вслед за латинскими авторами, — Цейлоном. И только скала всегда звалась Львиной, гордясь своей изначальной причастностью к первоосновам ланкийской государственности. По сей день этот непревзойденный памятник сравнивают с животрепещущим сердцем замечательной, исконно дружественной нам страны, чей флаг несет гордое изображение льва. Впрочем, как часто случается в истории, подлинной славой Сигирия обязана не столько царю-основателю, сколько преступному и сумасбродному узурпатору, оставившему по себе недобрую память.
Речь идет о Кассапе Первом, жившем в пятом веке новой эры. Заживо замуровав отца, у которого отнял престол, Кассапа скрылся на неприступной вершине от гнева подданных и мести ограбленного брата. Именно здесь, на высоте 183 метра, он велел построить дворец, оборудованный уникальной системой дренажа и вентиляции.
Даже теперь, когда ступени в скале ограждены в наиболее опасных местах стальной решеткой, подъем на неприступную вершину требует известных усилий. Особенно в жару, когда гористые джунгли вокруг так и дымятся от испарений.
Невольно вспоминаешь безвестных строителей, вырубивших этот скорбный путь по воле безумца, который возомнил себя царем-богом. Дворец, если верить хроникам, был построен в виде храма, ибо Кассапе Сигирия виделась неким подобием гималайской Кайласы — заоблачной обители надмирных существ.
Существует легенда, связывающая «Яккагалу» с гималайским полетом Ханумана, и опять же не случайно протягивается тонкая связь между обезьяньим божеством и крохотной обезьянкой, чья смерть стала лишь первым звеном в цепи жестоких убийств деспота. Как это удивительно по-ланкийски!
За полторы тысячи лет от царского чертога остались одни только контуры фундамента и тронное место. Не дожили до нашего времени и сооружения, построенные у подножия. Лишь с вершины, поросшей жасмином и диким гранатом, гористое плато приоткрывает кое-какие следы давней планировки. Вырисовываются абрисы покоев царицы, бассейнов, колодцев, и явственно проступает прихотливый узор вентиляционных ходов. Древние хроники даже в мелочах не отступают от истины.
Дворец, предназначенный олицетворять буддийский рай Тушиту, куда, вопреки всему, надеялся попасть отцеубийца, разделил участь бренной плоти. Но остались непревзойденные сигирийские фрески, которые относят к самым замечательным памятникам человечества. Нельзя сказать, чтобы бог Махакала, олицетворяющий необоримое время, питал особую слабость к этим портретам, запечатлевшим полногрудых красавиц с глазами ласковыми и немного печальными, как горько-душистые цветки панчапани. Из множества изображений уцелело лишь несколько. Да и то случайно, ибо гладкая стена, которую сейчас называют «зеркальной», в двух местах прерывалась кавернами, и глубокие ниши уберегли нанесенные на штукатурку тонкие водяные краски. Все, что находилось снаружи, стерла властная рука времени. Причем так прилежно, что некогда закрашенная стена и впрямь стала зеркальной. Теперь ее покрывают бесчисленные надписи. Иным стихам, написанным на древнем алфавите, полторы тысячи лет. Они воспевают красоту сигирийских незнакомок, их непреходящее очарование. Собственно, только благодаря надписям мы знаем сегодня, сколь мало осталось от этого блистательного парада женской красоты.
«Пятьсот юных дам, чье великолепие сродни венценосной сокровищнице…»
Двадцать два портрета из пятисот. Но и этого оказалось достаточно для бессмертия. Богини или дочери Земли, эти женщины оберегали легенду Скалы демонов. Невозможно передать щемящую прелесть дивных, воистину фантастических образов. Для этого нужно услышать зов неведомого, испытать потрясение, раскрывающее потаенную суть вещей! «Сатори», как называют японцы.
Обнаженный торс и гибкая талия красавиц, как из невесомых одежд, выступают из облаков. Грустными звездочками мерцают в небе их бесценные серьги и украшенные самоцветами диадемы. Тонкие благоуханные пальцы перебирают цветы: хрупкие венчики мирта, поникшие кувшинки и соцветия панчапани, вроде тех, что и поныне складывают у священных алтарей. Легко и неверно касание пальцев, словно они готовы в любую секунду обронить свой непрочный, но тем и пленительный груз. Служанки, чьи прелести скрыты под более грубой тканью, еще несут блюда, полные лепестков, но по всему видно, что пальцы владычиц уже не притронутся к новым цветам.
Неуловимый переход от идеи множества к единичному, но почему такая светлая, такая высокая грусть?
Это одна из загадок, на которые, наверное, не следует искать ответа. Тем более что тайны Сигирии так и не удалось пока разгадать. Мы не знаем, кто были те, что оставили частицу сердца на дикой, как неведомый астероид, скале. Нам неизвестны не только имена художников, но даже смысл их творений. Ни один из ответов на прямой вопрос: «Кто они, сигирийские дамы?» — нельзя признать удовлетворительным. Храмовые танцовщицы? Но почему в уборе принцесс? Небесные девы — апсары? Но откуда такая земная, такая полнокровная женственность? Дамы двора, оплакивающие своего господина? Что ж, может быть, но не хочется верить, что красавицы с такими глазами провожали в последний путь преступного тирана. Известный археолог доктор Паранавитарна, расшифровавший ряд надписей на «зеркальной» стене, считал, что сигирийские дамы являют собой аллегорию небесных молний. В этой связи уместно вспомнить фрески знаменитой Аджанты. И здесь, и там сходные сюжеты, стиль, манера и даже время создания. Но ласковые прелестницы из пещер Южной Индии ничем не напоминают стрелы небесного огня, которые олицетворяет ваджра. Сравнение, конечно, не доказательство, хотя многим исследователям казалось, что Аджанта даст ключ к пониманию Сигирии. Однако этого не случилось. Стоило сравнить технику написания фресок, и сразу стало ясно, что сигирийская школа пользовалась рецептами, совершенно отличными от южно-индийской. Это неповторимый цветок, раскрывшийся на щедрой почве Шри Ланки.
И еще одна любопытная деталь, связанная с Яккагалой — Сигирией. За галереей «зеркальной» стены ступени вновь круто забирают кверху. Там, на Львиной террасе, когда-то стояло циклопическое изображение льва. От него уцелели лишь две когтистые лапы, стерегущие последнюю лестницу перед дворцом. Гигантские двухметровые когти изваяны столь реалистично, что это позволило местному палеонтологу Дирантале определить по ним даже подвид ныне исчезнувшего сингальского льва! Недаром ланкийские мудрецы не делали различия между наукой и искусством. Как тут не вспомнить слова Джавахарлала Неру о «времени науки», времени одухотворенности? Предчувствие близости этих новых времен обернулось поэтической метафорой Мариньоли, придумавшего зачем-то фонтаны, о которых молчат ланкийские хроники… Впрочем, последнее не столь уж и важно. Пусть не было фонтанов, но был бассейн, и дворец, и высокий трон. С мраморной платформы, на которой во времена оны стояло тронное кресло, как балдахином осененное девятиглавой коброй, необозримые дали раскрываются. В ясный день зоркий глаз может различить даже белые ступени Анурадхапуры. Это, возможно, преувеличение, ибо древняя столица далека, да и до Полоннарувы и до Канди тем более, куда после иноземных вторжений и междоусобиц была окончательно перенесена священная реликвия — зуб Будды, тоже неблизко.
Но впечатление такое, будто видишь всю страну сразу. Синие горы, террасы рисовых полей, глинобитные хижины и белые храмы в манговых рощах. Словно длится и длится завороженное время сигирийских красавиц. Пусть от дворца уцелели лишь эти останки кирпичной кладки, но разве не так же наливается зерно на рисовых чеках? И разве повсюду — вдоль дорог и по берегам прудов — не качаются на ветру все те же грациозно изогнутые пальмы? Тысячи лет утоляли они голод и жажду, давали свет и лекарство от болезней, нехитрую крестьянскую утварь, повозку и лодку. Из пальмового дерева строили дома и крыли их пальмовым листом. Хмельным кокосовым араком прогоняли грусть и раскалывали перед храмом орехи, испрашивая у богов доброго пути. Кокосовым молоком обмывали новорожденного и опускали затем в висячую колыбельку из пальмового волокна. Когда же наступал час расставания, метили место сожжения сухим соцветием все той же безотказной пальмы, отгонявшей зло даже в потустороннем мире.
Пока в придорожной часовне наш шофер раскалывал перед изображением белого коня — покровителя транспорта — кокосы, я спустился к озеру набрать голубых гиацинтов. Девушка в желтом сари уже вышла из воды и беспричинно улыбалась окружающему великолепию.
Мне показалось, что я знал ее раньше. Сразу вспомнились стихи на «зеркальной» стене:
«Счастлив тот, кто видит эти розовые пальцы…»
«Ее глаза подобны голубой кувшинке, кто же она, эта очаровательная дева?..»
Это о ней писали древние поэты.
Это для нее светило солнце сегодняшнего дня…
Райской жизни никогда не было под роскошной кокосовой сенью реального Тапробана. Португальцы, голландцы, британские экспедиционные корпуса — кто только не прошел с крестом и мечом по заповедным тропам, хранящим память о посольствах царя-миротворца Ашоки, проклявшего саму идею войны.
В британской короне Цейлон считался жемчужиной далеко не первой величины, рядовым заморским владением, куда Альбион посылал своих сыновей «на службу полудетям, а может быть, чертям».
Киплинг, кстати, побывал на Цейлоне.
На вершине Адама, бросающей четкую тень на редеющую с каждой минутой завесу розовых облаков, вновь вспоминает Аннапурна и Киплинг:
Что там, за жемчужным туманом? Что там, за спиралями самых удаленных галактик?
Изнанка рая
Все люди произошли от общих предков — от беспредельного Неба, простирающегося над нами, и от лежащей под нами Земли.
Предками всего, что существует, были Ранги (Небо) и Папа (Земля). Сначала Ранги и Папа еще не были разделены и лежали, прильнув друг к другу, поэтому на земле и на небе была тьма…
…И тогда встал Ронго-матане, бог и отец возделываемых плодов, и попытался отделить Небо от Земли. Он напряг все силы, но не смог этого сделать.
Затем поднялся Тангароа, бог и отец рыб и гадов, но и он не смог оторвать Небо от Земли…
…За ним встал Хаумиа-тикитики, бог и отец дикорастущих плодов, но и ему оказалось не под силу оторвать Ранги от Папы…
…И наконец медленно поднялся Танемахута, бог и отец лесов, птиц и насекомых… Помедлив, Танемахута твердо уперся головой в Землю, а ногами в Небо и мощным усилием оторвал Ранги от Папы.
Нашими предками были Папа и ее муж Вакеа. Из Кахики они приплыли на остров Оаху и поселились в горах над ущельем Килохана. Здесь, на Оаху, они нашли плодородную землю, на которой в изобилии росли бананы, сахарный тростник и таро.
Предки полинезийцев приплыли с берегов Юго-Восточной Азии во втором тысячелетии до н. э. Плавание на бальсовом плоту Кон-Тики в сущности доказывает лишь одно: из Центральной и Южной Америки в принципе можно доплыть до острова Пасхи. Гипотеза Тура Хейердала не подтверждается ни историческими источниками, ни этнографическими наблюдениями, ни мифами, включая полинезийские.
Последние, напротив, указывают на единую прародину всех, за исключением аборигенов Тонго и Самоа, «мореплавателей солнечного восхода». Этот потерянный рай, куда, тем не менее, обязательно возвращаются души, зовется Гаваики. Он расположен где-то на западе, как и положено стране мертвых, и никак не связаны с Гавайским архипелагом, который вполне заслуженно называют земным Эдемом.
Полинезийцы уподобляют схему миграций своих далеких предков гигантскому осьминогу. Гавайка была головой, а щупальца протянулись до самых дальних островов океанического треугольника: Новая Зеландия (запад) — Рапанди, или остров Пасхи (восток) — Гавайский архипелаг (северная вершина).
Где находилась обетованная земля Пасифиды, история умалчивает. Новозеландский этнограф Те Ранги Хироа полагает, что на Ранатеа (Острова Товарищества). Но хотя на этом острове существует общеполинезийский культовый центр, проблема пока остается открытой для дискуссий. Морские просторы и время сделали свое. Расходились пути, трансформировались мифы, да и некогда общий язык расщепился на несколько близкородственных диалектов.
Согласно древним космогоническим представлениям полинезийских аборигенов, исключая опять-таки острова Самоа и Тонга, мир возник из хаоса (Коре) и тьмы (По). Местная мифология не дает ответа на вопрос, смущавший еще древнего китайского поэта Цюй-Юаня, об изначальной природе миротворения, хотя и содержит намеки на дерево с корнями и листьями, подобное Мировому.
Здесь, как и всюду, приходится принимать за точку отсчета всепланетарный акт разделения земли и неба. Он стал возможен, когда у Ранги (Неба-Отца) и Папы (Матери-Земли) появились дети: семьдесят сыновей и дочерей — будущих богов Океании.
В принципе эта дуальная пара ничем не отличается от египетской четы Мут — Геб или греческой Уран — Гея.
Процесс разъединения стихий, как о том рассказано в мифе, был достигнут титаническим усилием ими же порожденного Тане, который стал богом солнца и света. Казалось бы, подвиг мог возвысить его над близнечными братьями, но на верхнюю ступень пантеона вместе с Тане (Кане) поднялись и бог войны Ту (Ку), и громовик Ронго (Роо, Лoo), покровитель мира и земледелия, и владыка океана Тангароа. Последний и сам претендует на ведущую роль в космической битве. Изменяя свое имя от архипелага к архипелагу, Тангароа (Тангалоа, Тагалоа, Тааро, Таалоа, Каналоа) всюду почитался «хозяином» моря. Этот полинезийский Посейдон покровительствовал мореплаванию, строительству лодок, рыболовству. Он защищал людей от тайфунов, опустошавших острова, помогал плавающим и путешествующим укрыться от бурь и штормов. Ему поклонялись повсюду, даже в западной части Полинезийского треугольника, с ее сугубо местными обрядами, сопровождающимися непременным питьем кавы, и отличным от прочих мест календарем.
Сами условия жизни островитян, покрывавших на своих утлых челнах колоссальные расстояния, предопределили подобное предпочтение.
Как «хозяин» морей Тангароа иногда принимает облик обитателей вод. Например, тюленя на острове Пасхи…
И хотя прародителем повсюду считается великий культурный герой Тики, океанийского Посейдона почитают как «предка», преобразившегося в небесного бога-творца.
Между братьями то и дело вспыхивали жестокие схватки, отражавшие не столько извечные оппозиции «вода — земля», «война — мир», сколько соперничество племен и жреческих кланов. У маори, как и положено, воинственный бог Ту противостоит миролюбивому громовержцу Ронго, а солнцеликий покровитель лесов и зверей Тане сражается с Тангароа. Зато на острове Мангаиа Ронго, оставив при себе земледельческие функции, вместо пальмовой ветви поднимает копьё. Став местным богом войны, он ведет борьбу за передел мира с хозяином морской стихии. Светловолосые люди считаются потомками Тангароа, темноволосые — Ронго. Первый одерживает верх над соперником на Таити и Самоа, второй — на Мангаиа.
И еще один затерянный в океанских просторах мирок, справедливо прозванный «земным раем»…
С не меньшим основанием эту землю могли назвать и преддверием инферно, ибо адская бездна бушует в неистово сотрясаемых ее недрах и тяжелые огнепады в фейерверке искр обрушиваются в волны с мрачных обрывов. И нет спасения живому, и в пепел превращаются цветущие орхидеями леса, и само море взрывается пузырями безумного пара.
«О ке ау и кахули вела на хопуа…» «В тяжелой тьме, глубокой тьме…» — грозно рокочут слова великой песни гавайского «Бытия». Из адского мрака он был исторгнут, этот волшебный мир.
Черный священный базальт, омытый пылью беснующегося в скалах прибоя. Я всматриваюсь в слепые выпуклые глаза морского бога Каналоа, позабыв про розовые пляжи Вайкики, орхидеи и водопады Ваимеа и вездесущие доски для захватывающего дух полета на гребне волны. Иная волна властно подхватила меня, увлекая в головокружительный полет к истокам сказаний, в невыразимый радужный туман. Радуги и вправду горят здесь с восхода и до заката. И посвистывает пассатный ветер над темной вершиной Алмазной горы, как тысячи лет назад, когда неведомые мореходы в утлых каноэ с балансиром открыли для себя эту действительно райскую землю, где не было ни хищников, ни ядовитых насекомых, ни змей. Разве что кровожадные духи — му — тревожили на первых порах покой предприимчивых полинезийских переселенцев. Невольно вспоминается поэтический миф о лодке этих злокозненных му:
«На острове Оаху возле Коу жил вождь по имени Каха-паи-аке-Акуа», что значит «Тот, о ком заботятся боги»…
В Гонолулу уже мало кто помнит прежнее название гавайской столицы.
На месте свайных хижин Коу высятся белые антисейсмические башни приморских отелей. Но сам остров сохранил свое древнее имя, как, впрочем, и его соседи по архипелагу: Кауаи, Молокаи, Мауи, Ланаи… Пленительная музыка слышится в этих словах, ласковый переплеск волн. Вспоминается Джек Лондон, его экзотические «Рассказы Южного моря». По ним и по сей день можно изучать географию Оаху. Даже две полосы прибоя, кипящие над полукольцами рифов, называют все так же: Вахини и Канака, то есть «Женщина» — ближняя и «Мужчина» — дальняя гряда радужной пены. Впрочем, всегда интереснее следовать первоисточнику. Тем более что и прославленный романист отдал весьма щедрую дань гавайской мифологии.
Руководствуясь лишь строками сказаний и никого ни о чем не расспрашивая, я отыскал каменистую бухту Кахо-о-кане и сразу узнал сумрачную скалу, вросшую в прибрежную лаву. Это и была знаменитая лодка вождя, которой завладели, так и не дав спустить на воду, злые духи. Они по-прежнему живут под сенью пальм и цветущих плумерий, проявляясь то в страшном облике проказы, завезенной наемными кули, то белой пылью наркотика.
Гавайский архипелаг находится в вершине знаменитого «Полинезийского треугольника», охватывающего бескрайние просторы Тихого океана от Новой Зеландии до легендарного острова Пасхи. В центральной его акватории сверкают жемчужной россыпью острова Фиджи и Тонга, Маркизские и Туамоту. Затерянные в джунглях мегалиты, молчаливые боги — акуа — и вырезанные на дощечках таинственные письмена, которые никто не может прочесть, — вот и все, что осталось от бесстрашных мореплавателей, заселивших атоллы Пасифики.
Впрочем, есть еще героические сказания, сходно звучащие на языках маори, таитян и гавайцев, и сами эти языки — братья, а также воспоминания об общей прародине богов и героев.
Гавайские острова ныне являются пятидесятым штатом Америки. После того как прекратило существование независимое Гавайское королевство, потомки аборигенов составляют едва ли пятую часть.
Но всякий раз встречая дородных и жизнерадостных великанов с непередаваемо золотистым оттенком кожи, я с грустью и радостью убеждался в неистребимости драгоценной основы. Побывав через несколько лет в Новой Зеландии, я мог своими глазами убедиться, насколько устойчив этот удивительный генотип. Гавайцы и маори происходят от общих предков. Их древние мифы напоминают о едином для всей Полинезии пантеоне и общей прародине. Ни болезни, которые принесли с собой европейские колонизаторы, «открывшие» острова, ни последовавшие затем века беззастенчивого грабежа и эксплуатации не смогли погасить искорки солнца в глазах и улыбках, в сверкающих смоляных волосах, украшенных орхидеей или цветком гибиска.
О, эти цветочные леи-гирлянды, которыми здесь привечают гостей! И доверчивый поцелуй, и вечное слово «алоха», пароль дружбы и радости, призыв к свободе, человечности и любви!
Не в «культурных центрах», где толпы туристов стремятся «приобщиться к полинезийскому образу жизни», как вещают о том красочные проспекты, дано мне было познать истинное значение слова «алоха». Не в пасторальных хижинах из бамбука, облепивших башни группы отелей «Хилтон вилледж», куда стекаются со всего света поклонники «хулы» — танца страсти и откровения, коснулось оно души.
Отзвук «веселой науки» Прованса, которую во времена средневековья пытались выжечь огнем изуверы в сутанах, звучал для меня в покоряющей неге гавайских мелодий. Повенчав розу с гибиском, сама история соединила лучезарных трубадуров с мореплавателями солнечного восхода.
Эту незабываемую песню «Алоха Оэ», ставшую неофициальным островным гимном, написала последняя королева Лилиукалани, которая умерла в 1917 году, проведя много лет пленницей в родовой резиденции Иолани — дворце «Небесной птицы». Печальное эхо отзывается на скрип половиц. Грустно вздыхает старое дерево, отдавая последние ароматы. Скрещенные кахили — бунчуки, убранные бесценными перьями ныне исчезнувших птиц, стерегут покой опустевшего зала.
Встречи с прошлым не будет, хоть и доносится призывная мелодия с расположенной поблизости военной базы, где громыхает медь полкового оркестра. Стоя на каменном пьедестале, объединитель страны Камеамеа грозно сжимает в руке боевое копье. На нем малола — священная накидка из перьев — и гребенчатый шлем покорителя океана. Именно таким рисовались в моем воображении властители призрачной Атлантиды.
Перелистывая ротапринтный оттиск «Гавайского суверенитета», выпускаемого местным публицистом Пока Лаенуи, я невольно думал о роковой необратимости времени. Пернатый змей Кецалькоатл, птичье оперение китайских бессмертных, гавайские вожди — алии в золотистых малола… Эта триада превращает «Полинезийский треугольник» в гексаграмму — знак макрокосма.
«До новой встречи… — неслось над пальмами и бугенвилеями, сквозь пыль и грохот забитых машинами эстакад, — Алоха».
— Лики-Лики, — назвал я таксисту полюбившееся мне место.
— О’кей, — кивнул он, переводя на англосаксонский манер, — Лайк-Лайк, — и включил счетчик с фирменной маркой «Королевский таксомотор».
В Гонолулу все королевское: пляжи, концертные залы, яхт-клуб, хотя с королевством было покончено задолго до атомной эры, да и кости потомков Камеамеа покоятся в каменных саркофагах в долине Кууану. Далеко от отелей и баз, от забитого военными кораблями порта. В ином пространстве, в ином времени. Рассказывают, что в день похорон Лилиукалани корона соскользнула с крышки и упала наземь. И никто не поднял ее…
«Будем гавайцами на нашей родной земле!» — запомнился призыв из бюллетеня Пока Лаенуи.
Стремительно, как это бывает лишь в тропиках, падало солнце к урезу зеркальных вод. Проехав пригород Лики-Лики и миновав международный аэропорт, мы приблизились к Перл-Харбору, «Жемчужной гавани», где 7 декабря 1941 года для Америки началась вторая мировая война.
Заповедный залив богини акул, прославившийся своими жемчужными раковинами, был скован бетоном, разделенным на строгие прямоугольники ковшей. Авианосцы и оснащенные баллистическими ракетами атомные подлодки пребывали где-то в укромных уголках супергавани, над которой струилось закатное вино. Застыли невесомые облака в бездыханном воздухе, и лишь поплавки рыболовов тревожили изредка ленивый глянец усмиренной стихии. Наверное, такая же безмятежная тишина царила здесь в то далекое теперь утро, когда японские торпедоносцы, падая на крыло, заходили на цель.
Неизменный в своем вероломстве почерк фашизма. Но, глядя на железобетонный мемориал «Аризоны» — линкора, затонувшего вместе со всем экипажем, трудно было удержаться от мыслей о Хиросиме и термоядерном чудовищном пузыре у атолла Эниветок, о Семипалатинске и Новой Земле.
Я приехал в Перл-Харбор не только ради вполне понятного любопытства. Непосредственным поводом послужила небольшая желтая афишка с призывом выйти на демонстрацию. На ней был нарисован островок с пальмой и группа людей, общими усилиями скатывающих с обрыва пузатую черную бомбу.
«За всеобщее разоружение!» — читались крупно набранные слова. «За безъядерный Тихий океан!» «За безъядерную Европу!»
Уж так получилось, что эта впечатляющая демонстрация, собравшая массу людей, совпала с открытием международного семинара, посвященного проблемам буддизма и мира между народами. Семинар был организован усилиями ученых Гавайского университета во главе с известным политологом профессором Гленом Пейджем и местным буддийским храмом, чье корейское название Дай вон са может быть переведено как «Пагода мира».
В этой пагоде, традиционно расположенной на уединенной вершине, протянули друг другу руки представители разных стран: США и Японии, КНР и Шри Ланки, Западного Берлина и Таиланда, образовав символическое кольцо вокруг белой ступы, олицетворяющей чистоту устремлений, благородство помыслов.
Где бы ни были люди, они всегда на средине.
Каким непреднамеренным контрастом облачной белизне ступы были застывшие лавовые потоки на самом большом острове архипелага — Гавайи, который в просторечии именуют «Биг айленд» — Большой остров. Здесь в жерлах грозных вулканов Мануа-Кеа и Мануа-Лоа возник наглядный облик безжизненной планеты, скованной угольной запекшейся коркой и хранящей отпечаток чудовищных конвульсий терзаемой адскими муками тверди. И мертвый поваленный лес вокруг старых кольдер, и ни цветка, ни былинки, ни птицы. Только выбросы зловонного газа и сверкающие стеклянистым блеском игольчатые кристаллы в кавернах, так называемые «волосы Пеле» — яростной хозяйки подземного огня.
На остров Гавайи меня пригласил Джим Альбертини, возглавляющий группу «Акция католиков», к которой примыкают местные фермеры, интеллигенция и студенты. Многие из них, кстати сказать, отнюдь не принадлежат к католической или какой-то иной религиозной общине.
— Нас объединяет вера в человека, в его разум и добрую волю, — объяснил Альбертини, тридцатилетний, спортивного склада мужчина, одиноко живущий на заброшенной плантации.
Мы сидели под брезентовым тентом, выкроенным из старой армейской палатки, и тихо беседовали, отгоняя комаров, под уютное шипение калильной лампы. За спиной настороженно таились кромешная тьма и лес, наполненный голосами ночных птиц. Кроме звезд, ни единого пятнышка света на десятки миль. На ферме Альбертини, как и почти всюду на Большом острове, электричества нет. Впрочем, нет еще и фермы как таковой, а лишь захиревшая плантация сахарного тростника, приобретенная на пожертвования сторонников мира, да поросль гуав и папайи вокруг бунгало без удобств и водопровода. Но это был не просто участок, расчищенный для посадок. Это была Малу Айна, или «Земля мира», прообраз будущего Гавайских островов, свободных от термоядерного оружия и военных баз, опутавших колючей проволокой сокровенные скалы, помеченные знаками далеких первопроходцев.
— Мы построим информационный центр, с библиотекой, кинозалом и типографией. — Альбертини увлеченно делился своими планами. — И, конечно, дома для гостей. Все, кому дороги свобода и мир, смогут найти пристанище на «Земле мира»! Не важно, кто были мои родители и какую кровь влили они в мои жилы. Мы все — дети одной матери.
— Верно, — поддержал его пожилой шофер Юго Окуба, японец по происхождению. — Пусть живет океан, дающий жизнь и еду. Алоха!
На этом далеком острове, где покоится прах Камеа-меа-объединителя и гневная Пеле, изливая огненные реки в океан, сжигает леса, я по-настоящему понял, что значит это прекрасное слово. В устах одинокого рабочего японца, заброшенного в «нетипичную Америку», бесконечно далекую от собственно американской земли, оно значило много больше, чем просто любовь.
Солидарность, личную причастность, ответственность и понимание — вот что вобрало в себя слово «алоха». И, конечно, дружбу, и конечно же, мир.
Заговор в голубой лагуне
Однажды на лондонском аукционе редкостей какой-то богач приобрел за весьма солидную сумму желто-фиолетовую раковину удивительной красоты. Этот, в общем, незначительный эпизод удостоился внимания прессы лишь потому, что счастливый обладатель поспешил тут же на месте расколотить драгоценную покупку о мраморный пол и хладнокровно растер подошвой осколки. Ларчик открывался просто. В коллекции толстосума, оказывается, уже хранилась точно такая же роскошная раковина, прозванная «Принцессой Мальдив». Публичный акт вандализма сделал ее единственной в мире, взвинтив стоимость по крайней мере в десять раз. Я вспомнил об этой случайно прочитанной истории, когда стюардесса шриланкийской авиакомпании объявила о посадке на крохотном острове где-то посередине Мальдивского архипелага.
Волею случая мне суждено было стать свидетелем заключительной стадии драматического эпизода, который разыгрался именно здесь, посреди бескрайнего океана. Впрочем, то, что я принял сперва за финал, оказалось лишь концом первого акта не совсем обыденной для нашего века драмы. Вернее, фарса с весьма зловещим подтекстом.
Я начну повествование с экспозиции, ибо местный колорит сыграет, как мы вскоре увидим, решающую роль.
Внизу расстилалась индиговая гладь океана, а зеленоватые, похожие на гигантских медуз пятна, окаймленные белой оторочкой то ли песка, то ли пены, никак нельзя было принять за вожделенную твердь. Уже это было удивительно. Дюралевое крыло бросало четко очерченную тень на безмятежную прозелень лагуны, а земли все не было. Она возникла пугающе внезапно с первым ударом колес о посадочную полосу. Они еще с бешеной скоростью несли самолет, а впереди уже вновь загорелась переходящая в синь бирюза, и сама собой мелькнула мысль, что суши просто не хватит для остановки. И слева, и справа вызывающе сверкала лагуна. Можно было различить даже лица рыбаков на ближайшем фелуке и дыры в ее романтически алом парусе. Еще не сойдя с трапа, я проникся твердым убеждением, что Хулуле — самый необычный аэропорт в мире. Строгая геометрия бетонированной полосы лишь подчеркивала пустынность этого типично необитаемого островка высотой в один метр над уровнем моря. Ни деревьев, ни столбов, ни автобусов, ни такси. Только ослепительно белые обломки коралловых глыб и раскаленная синева океана. Едва последний пассажир получил необходимый штемпель в паспорте, остров-аэропорт погрузился в полдневную дрему. С отлетом лайнера обратно в Коломбо он и впрямь становился необитаемым, так как до следующего рейса персонал рассредоточивался по близлежащим коралловым грядам. Один за другим отходили от причала моторные и парусные суда.
До столицы Мале,[46] расположенной на одноименном острове, тоже нужно было добираться на катере. Да и на Виллигили, где мне назначили жить, ходило свое рейсовое плавсредство, сработанное на сингапурских верфях. Впрочем, до Виллигили, Курумбы и других островов было рукой подать. Белые кварталы двухэтажного Мале находились в какой-нибудь полумиле, а пальмовое оперение соседних, совершенно райских с виду уголков, хорошо различалось в обычный бинокль. Словно идущая кильватерным строем эскадра, они таяли на горизонте.
Прерывистое ожерелье Мальдив простирается к югу на 885 километров. Последний в группе атолл (эхталлон — по-мальдивски) Адду лежит уже за экватором. Южные атоллы ограждены почти замкнутыми кольцами барьерных рифов, надежно защищающими от непредвиденных капризов морской стихии. Мальдивы находятся в стороне от главных морских путей и международных авиатрасс, но это отнюдь не делает их затерянным миром. Суда с самых разных сторон охотно бросают якоря на внешнем рейде Мале, объявленном портом беспошлинной торговли.
Когда приходит очередное судно, магазинчики, где торгуют вываренными челюстями акулы, ракушками и кораллами, переживают короткий миг оживления. На полках появляются баснословно дешевые магнитофонные кассеты, нейлоновые рубашки, зажигалки и никому здесь не нужные миникомпьютеры.
Мальдивы еще сохраняют присущую им обособленность и неповторимое своеобразие. Даже местные старожилы не знают точно, сколько островов входит в их прославленный архипелаг, и споры на сей счет не утихают в тавернах рыбного рынка. Одни соглашаются признать риф с одинокой пальмой за остров, другие возражают, ибо в ночь полнолуния его накрывает приливная волна. Правы, видимо, обе стороны. Но если обратиться к мореходным картам, то нетрудно подсчитать, что молодая республика объединила под своим красно-зеленым флагом семнадцать атоллов, которые, в свою очередь, подразделяются на замкнутые кольцом микроархипелаги. По наиболее реалистичным оценкам всего насчитывается около двух тысяч островов. И хотя в древности мальдивского султана титуловали «королем двенадцати тысяч земель», уже тогда было точно известно, что лишь одна десятая часть маленькой коралловой страны пригодна для жилья. Ныне достоверно населенными считаются примерно 220 островов. Поэтому предоставить гостю уединенный экзотический ночлег для мальдивцев не составляет труда. А ведь это в наш век более чем королевский подарок!
Внешне мир атолла сравнительно беден и не слишком разнообразен. Он скорее подобен сказочным дворцам Альгамбры, где за неприметной дверью скрывается поражающая воображение роскошь. В самом деле, вы можете обойти любой остров вдоль берега минут за сорок либо пересечь его в самом широком месте за еще более короткий промежуток времени. И будьте уверены, что, кроме певчих птиц, цапель, ящериц и вездесущих крыс, вам не встретится ни одно живое существо. Разве что повезет — и наткнетесь в тени баньяна на прикорнувшую черепаху либо успеете заметить, как улепетывает краб — пальмовый вор, отменно разбирающийся в спелых кокосовых орехах. День будет тянуться за днем, и никаких новых впечатлений этот, с первого взгляда очарованный, мирок уже не преподнесет. Напротив, начнет даже утомлять однообразием и постоянством. Ртуть в термометре и то застынет на одной риске, пока не перестанет дуть постоянный, как часы, трехмесячный муссон. Даже колдовство полнолуния, когда всплывают жемчужницы и море опалесцирует изнутри, возобновится на следующий день в урочный час, как декорация к идеально отлаженной пьесе. Все повторится до мелочей. Неистовство красок при кратковременном закате, розовый цвет песка в столь же скоропалительные мгновения рассвета, горение чужих созвездий и перевернутый ковш неузнаваемой Большой Медведицы. И все же не может надоесть это извечное представление, которое сама для себя не устает устраивать природа. Оно тревожит человеческую душу своим загадочным постоянством, властно зовет куда-то, приковывает мысль.
Нужно время, опыт и, разумеется, везение, чтобы за увертюрой, за внешним оформлением почувствовать близость разгадки. Тайна непреходящего очарования Мальдив в их далекой истории и в повседневном труде людей, навечно связавших себя с морем. Одно, впрочем, неотделимо от другого: волны истории, закаменевшие «культурными пластами» в коралловых недрах, и неизменные волны моря, которое всегда было таким, как сейчас…
Итак: почти необитаемый остров, пальмовая рощица, коттедж с антимоскитным пологом над кроватью и гнилой сероводородной водой в умывальнике. На бетонном пороге сохнут добытые накануне морские сокровища, ласты и прочая подводная амуниция. Таков порядок, ибо бдительный инспектор совершает каждое утро обход домиков, следя за тем, чтобы заморские гости не добывали живых кораллов. Иначе «Эльдорадо аквалангистов», как часто именуют архипелаг, скоро захиреет, как захирел на наших глазах Большой барьерный риф.
Вначале никто не мешал экипажу частной яхты заниматься подводными съемками. Ни днем, ни после заката, когда из глубин моря разливалось волшебное, четко очерченное пятно неистового света, гостей, выправивших надлежащую лицензию, не беспокоили. Только предупредили, что лампы могут привлечь акул, особенно опасных ночью. И лишь когда лагуну потряс мощный подводный взрыв, к яхте, глиссируя на вираже, понесся патрульный катер. Наряду с представителями власти в нем находился и сын видного политического деятеля, опытный аквалангист и знаток подводного мира. Когда над лагуной взметнулся яростный столб, он находился на глубине и лишь чудом избежал контузии. Его возмущению не было предела. Взрывать коралловые колонии здесь, в заповедных, первозданно нетронутых водах, было равносильно объявлению войны.
Пока продолжалось тягостное объяснение на борту яхты, местная полиция задержала четырех членов экипажа, слонявшихся в тот момент по улочкам вымершего в полдневной сиесте Мале. В тропиках знают, что бессмысленно требовать документы у человека в майке и шортах. Они либо в отеле, либо, как в данном случае, на борту судна. Поэтому задержанным оказалось нетрудно убедить офицера поехать вместе с одним из них на яхту. Всего какой-нибудь час ходу, и дело с концом. Разумеется, приветливый и открытый мальдивец не мог знать, что станет жертвой провокации. Не знали этого в тот момент и сами задержанные, ибо не предусмотрели развития дальнейших действий, как это вообще характерно для склонных к импровизации любителей авантюр. А джентльмены на яхте решили не более не менее взять сына высокопоставленной особы заодно с полицейскими в качестве заложников. Таков был ответ на требование об уплате крупного штрафа, подкрепленный щелканьем взведенных курков.
Скажу сразу: инцидент разрешился бескровно и на компромиссной основе. Гостеприимные, заинтересованные в развитии международного туризма власти не желали скандала и, закрыв глаза на откровенно уголовные действия, предпочли мирно выпроводить наглецов. Какой-то штраф, впрочем, браконьеры заплатили, да и документы для составления протокола им пришлось предъявить. Выяснилось, что экипаж на яхте подобрался довольно пестрый. В протоколе, который я потом видел, значились и парагвайские, и либерийские паспорта, а некий Джонсон оказался подданным ее величества королевы Британии.
Именно о нем и пойдет далее речь.
…Второй акт был разыгран, скорее всего, под покровом прославленных импрессионистами туманов Лондона. Роли главных, точнее, известных нам персонажей уготованы в нем упомянутому Джонсону, если только он действовал далее именно под этой фамилией, и отставному сержанту Роберту Уэйсу, совладельцу частной фирмы «Секьюрити эдженси», или попросту: поставщику наемной охраны. Я не знаю, где именно происходила их встреча, и воздержусь поэтому от попытки изобразить обстановку, в которой она протекала. Я бывал в английских домах и, разумеется, мог бы набросать некий условно-вероятностный интерьер, но по чисто стилистическим соображениям откажусь от такой попытки, ибо мне предстоит иная задача: реконструировать диалог, который так и остался тайной. Более того, диалог этот будет похож на гротескный шарж, что, как станет ясно впоследствии, целиком обусловлено личными характеристиками собеседников и фантастической беспардонностью задуманного ими предприятия.
— Уверяю тебя, Боб, этот городишко можно взять голыми руками, — именно так должен был сублимировать свои впечатления Джонсон. — Я обошел весь Мале за каких-нибудь полчаса и убедился во всем собственными глазами. Это все на словах: резиденция правительства, дворец президента, дворец премьера… Обычные колониальные виллы в саду за невысокой решеткой.
— Охрана? — профессионально осведомился Уэйс.
— Один солдат в красном тюрбане у президентских ворот. Я знаю Восток и не сомневаюсь, что парню выдали лишь два-три патрона. Так, на всякий случай…
— Где находятся казармы? — продолжал допытываться бывший сержант войск командос. — Какой величины контингент?
— Не поверишь! Четыреста солдат на две тысячи островов.
— Но большая часть их сосредоточена в Мале!
— А хоть бы и все! Нужно лишь первым делом захватить практически неохраняемый арсенал. Уверяю тебя. Боб, я все очень внимательно изучил. При наличии денег и надежных парней дело выгорит. Я в этом не сомневаюсь.
— Деньги будут — и большие, — вздохнул Уэйс, — а вот с людьми туговато. Я хорошенько порылся в своей картотеке и пришел к выводу, что по-настоящему могу положиться только на ребят, которых знаю по армии.
— Сколько их?
— Человек пятнадцать.
— Хватит за глаза. Что ты им обещал?
— Для начала по десять тысяч фунтов на брата…
— Да они пойдут за тобой в огонь и воду!.. К тому же бесплатный отдых в раю!
Так или примерно так могла бы выглядеть в протокольной записи эта беседа. В ее изначально гротесковом характере убеждают нас события, развернувшиеся в третьем акте.
…Место действия на сей раз расположено в часе полета от Мале. Это Коломбо, столица Шри Ланки, — подлинная жемчужина Индийского океана. Сюда рейсом «Бритиш эйруэйз» из Лондона прибыл самолет, в числе пассажиров которого находился Роберт Уэйс и семеро завербованных им наемников, прошедших, как и он, службу в десантных войсках. Отчаянные сорвиголовы, а точнее, недоумки, которых не остановила дикая идея о государственном перевороте в далекой стране, само существование которой стало для них открытием. Те, кто был поумнее, отвергли предложение с самого начала, невзирая на щедрые посулы. Для остальных деньги оказались единственным стимулом, перед которым отступило в сторону даже чувство самосохранения. Здесь нет места юмору. Колоссальные средства, столь внезапно оказавшиеся в полном распоряжении никому не ведомого авантюриста, настраивают скорее на грустный лад, хотя вопреки замыслу затея обернулась, повторяю, фарсом.
Вернемся, однако, к персонажам третьего акта.
Уэйс и его семеро подопечных оставили багаж в аэропорту. Внешне он ничем не отличался от снаряжения, которое обычно везут на Мальдивские острова любители подводных прогулок. Бронированные жилеты были засунуты в гидрокостюмы, пистолеты и нервно-паралитический газ скрыты в баллонах аквалангов.
Получив квитанции в камере хранения, заговорщики отправились в отель «Голубая лагуна», где для них были забронированы двойные номера с видом на океан. Собственно, в камере хранения и закончились разработанные шефом «Секьюрити эдженси» мероприятия по конспирации. Отныне все разговоры о готовящемся предприятии будут вестись совершенно открыто.
Бегло очерчу соответствующий интерьер, который ограничивается пенным валом прибоя, утрамбованным валками песком и «грибком», крытым сухими пальмовыми листьями, звенящими под дыханием пассата. Я однажды останавливался в отеле, имеющем общий пляж с «Голубой лагуной», и хорошо помню кажущееся уединение, ограниченное лишь тенью грибка. Неудивительно, что в курортном местечке Маунт-Лавиния хорошо запомнили этих «крэзи»,[47] рисовавших на песке планы захвата арсенала и атаки президентского дворца.
— Вот тут он и сидел, — показал мне гостиничный бой место, которое занимал обычно Уэйс, — они приходили сразу же после завтрака. — Он раскрыл для меня шезлонг и подал книгу, в которой постояльцы расписывались за пляжные услуги.
Перевернув страницы на два месяца назад, я без труда нашел четкую подпись. Только что было мне в ней? Ведь я не графолог. Но так уж выходило, что прихоть судьбы продолжала вести меня по свежим следам беспрецедентного предприятия. Сперва год назад на Мальдивах, где подвизался Джонсон, теперь на пляже в Маунт-Лавинии, где в буквальном смысле слова строил планы на песке Боб Уэйс. Думал ли он, что они вскоре станут добычей прессы? Едва ли…
— Главное — захватить президента, и острова у нас в кармане, — не уставал втолковывать экс-сержант своим несколько туповатым единомышленникам. — Дворец, — рисовал он прутиком кружок, — всего в полумиле от арсенала.
При этом он успевал сгонять стюарда за очередной порцией джина «Бифитер» с горькой настойкой ангостуры и — для акклиматизации — кокосовым молоком.
Стюард, как положено, приносил и позванивающие льдинкой стаканы, и золотой «королевский» орех с воткнутой для удобства полиэтиленовой трубочкой. Он слышал обрывки фраз, пьяную браваду и чем дальше, тем больше задумывался.
Но заговорщики не обращали внимания на «дикарей», как называли они жителей Шри Ланки, страны почти сплошной грамотности, насчитывающей двадцать три века писаной истории…
Даже когда администрация отеля деликатно предложила Уэйсу и компании сменить резиденцию, он нисколько не удивился, почему вдруг такое, и устроил скандал.
— Помните, ребята, — гнул свое за последним ленчем в ресторане, глядящем окнами прямо в бассейн, — Кортес покорил целую империю!
— Но у тех дикарей, — возражал кто-то из наиболее смышленых, — были только копья…
— Зато у нас есть паралитический газ. Я пью за настоящую голубую лагуну.
…Четвертое, заключительное действие началось в тот момент, когда самолет с бандой приземлился в уже знакомом нам порту Хулуле. Бравых молодчиков с нетерпением ждали, хотя таможенные формальности прошли на удивление спокойно и новоявленные конкистадоры отправились на отведенный для них остров Курумбу. Коттеджи с антимоскитными пологами пахнули духотой и запахом сероводорода. Не успев разложить по полкам рубашки из ланкийского батика, приезжие поспешили совершить «ознакомительную» экскурсию.
Чисто внешне столица с ее рыбным портом, пропахшим вяленым тунцом, и лавчонками, где рядом с кокосами выставлены на продажу амулеты из акульих зубов и бусы, выточенные из черного коралла, почти не меняла своего облика с течением столетий. Это, разумеется, подкрепляло надежды на успех. Конкистадоры как-то не заметили, что буквально по другую сторону улицы, где находится свято чтимая усыпальница проповедника-султана Барбари и старинная Пятничная мечеть, вырос памятник, куда более причастный к биению пульса планеты. В раскаленном, белесом от коралловой пыли небе ажурная чаша, нацеленная на спутник связи, казалась галактической гостьей, потерпевшей вынужденную посадку где-то на задворках обитаемого мира. Убаюкивающе журчали фонтаны в саду, на идеально подстриженный газон роняли багряные лепестки деревья, прозванные «огонь джунглей». Все было призрачным в этом тенистом оазисе среди раскаленной пустыни, где за глоток пресной воды платили полновесной монетой. Да, многим Мале казался сказкой из «1001 ночи». Но мы живем в век электронных сказок.
Всего через пять минут после того, как оператор записал номер моего телефона, на проводе была Москва. Я говорил с домом через спутник, подвешенный на орбите, с клочка суши размером полтора на два километра, а совсем рядом, в противоположном уголке сада, чернели древние пушечные жерла и британские торпеды времен минувшей войны. Сваленные у дверей Национального музея, они словно стерегли глухую старину, шитые жемчугом одеяния султанов, кривые клинки охотников за кораллами, остроги ловцов акул. Может быть, эта архаика и сбила с толку Уэйса? Он замечал лишь то, что хотел увидеть: допотопные нестреляющие бомбарды. Впрочем, к концу «экскурсии» начал прозревать даже Уэйс. Бронированные с внушительными заклепками ворота арсенала невольно заставили призадуматься. Без взрывчатки такие не прошибешь. Да и гвардейцы в тюрбанах, хоть и давали себя сфотографировать, бдительно несли стражу. Подсумки на белых ремнях были набиты патронами. Патрульные на катерах перекликались друг с другом при помощи портативной рации. И вообще каждый новый человек был здесь виден буквально со всех сторон. Когда кто-то из банды забыл, в какой лавочке оставил свой фотоаппарат, первый попавшийся мальчишка молниеносно отыскал пропажу. Нет, не скрыться от любопытных глаз в этом пятнадцатитысячном городке, где так причудливо смешались эпохи, переплелись грезы и явь, не затаиться.
А когда зашло солнце и муэдзин призвал правоверных к молитве салят аль магриб, выяснилось, что прогулки придется прервать. По законам Мальдив с наступлением темноты все иностранцы должны покинуть столицу и вернуться в свои коттеджи. Катер доставил конкистадоров обратно на Курумбу, и они окончательно приуныли. Пальмовый островок показался им чуть ли не тюрьмой. Акулы и небольшие скаты, сновавшие на потребу туристам в отгороженном от океана бассейне, отбивали охоту пересечь лагуну вплавь. В открытой воде могли водиться чудовища и пострашнее. Всем, даже Уэйсу, стало ясно, что предприятие провалилось. И все же он крепился, хорохорился, обещал достать катера, базуки, гранаты. Выдав своим легионерам на пропитание по тысяче фунтов, наказал ждать и утренним катером отправился в аэропорт. Здесь его неожиданно обыскали, но, не найдя ничего компрометирующего, позволили сесть в самолет. Вскоре из Лондона полетела весьма прозрачная шифровка. Уэйс рекомендовал срочно сматывать удочки. Конкистадоры впервые за все это время надели акваланги и ушли под воду, чтобы сокрыть в гротах и расселинах свой смертельно опасный — теперь лишь для них самих — контрабандный груз. Можно не сомневаться, что, подгоняемые страхом разоблачения и ареста, они даже не заметили ошеломляющего великолепия подводных коралловых рощ.
Я никогда не забуду, как плыл над сверкающим многоцветьем рифового уклона, медленно уходящего в неразличимую глубину. Там, на самой границе синей космической бездны, смыкали бесконечные круги стада невиданных рыб. Нет на суше оттенков, способных соперничать с этим неистовым пиршеством цвета. Самые изысканные орхидеи меркнут в сравнении с коралловыми колониями — зелеными, как живой изумруд, ядовито-сиреневыми с желтым опасным огоньком на разветвленных рожках, синими, как васильки во ржи, пурпурными или же черными, словно ветви железного дерева. И ярчайшие птицы земли покажутся тусклыми рядом с бесчисленными обитателями инопланетных конструкций, где колышутся кружева морских перьев и щупальца анемонов.
«Бабочки» и «попугаи» подводного мира не боялись людей. Они давали трогать себя, а то и сами терлись жаберными крышками о пальцы, протянутые вперед с призывом и миром. Все было как в начале творения или в детском забытом сне, когда пробуждаешься с ощущением полного счастья. Даже голубые стремительные тени акул не внушали тревоги. Пьянящая эйфория туманила голову. Мерещилась разлитая в воде музыка, чьим аккордам повиновались циркулирующие над бездной косяки и ползущие из расселин голубые лангусты.
Странно думать, что где-то посреди всего этого великолепия свален теперь ржавеющий оружейный хлам…
Попытка государственного переворота провалилась без единого выстрела. Наемников после личного досмотра проводили до самого трапа. Острова, дарующие несравненную радость каждому, кто приходит сюда без оружия и с открытым сердцем, не захотели превратиться в тюрьму для ничтожеств.
Черный коралл
И на райских тропических островах есть чертовы дыры. В одно из таких богом и людьми забытых мест я и добирался теперь на стареньком «форде», арендованном у цейлонской компании путешествий, чей офис находился как раз напротив гостиницы «Тапробан». Клерк сперва даже не мог понять, куда, собственно, я хочу поехать. Пришлось достать подробную карту Шри Ланки и показать ему два крохотных пятна на голубом океанском просторе за прерывистой цепочкой Португальской лагуны.
— Да, мне нужны именно эти острова, которые называются Рокс, то есть попросту скалы.
В Юго-Восточной Азии — в Кота-Бару, в Сингапуре, Пинанге, Бангкоке — мне часто приходилось слышать или читать в газетах о случаях морского пиратства. Я знал, что в Южно-Китайском море действуют целые флотилии юрких джонок и прау, рискующих нападать даже на большие, стоящие на рейде суда. Одно время в печати мелькали сенсационные сообщения о таинственной «принцессе пиратов», некой мадам Вонг, за один фотоснимок которой агенты «Интерпола» сулили десятки тысяч английских фунтов. Много писалось о китайских «триадах», на протяжении долгих веков занимающихся разбоем, и прочих тайных преступных обществах вроде «Тянь-дихуэй», «Белая кувшинка», «Два дракона».
Речь, как правило, шла об операциях на ограниченном, хоть и обширном участке океана между Гонконгом и Филиппинами, Малакским побережьем и Калимантаном. Здесь был полный «джентльменский набор»: наркотики, торговля «живым товаром» для бесчисленных «чайных домиков» и «леди-стрит», валютная контрабанда, захват судов и даже ограбление банков, ибо пираты порой подымались вверх по рекам и совершенно внезапно открывали яростную стрельбу из пулеметов и автоматов. Основными жертвами становились обычно ни в чем не повинные люди, которых судьба случайно застала поблизости от облюбованного налетчиками объекта.
Если не считать полунищих малайских пиратов, действующих от случая к случаю, все операции, особенно связанные с наркотиками, отличались тщательной разработкой и заставляли предполагать существование мощной, широко разветвленной организации. Британская, японская, индонезийская, филиппинская полиции безуспешно пытались внедрить в плотно населенные кварталы хуацяо своих осведомителей, чтобы нащупать нити пиратского бизнеса. Тела лазутчиков вылавливали потом в клонгах, а в участки поступали вежливые письма, в которых рекомендовалось прекратить из соображений гуманизма чреватый издержками поиск.
И это были не пустые слова. Даже излишне любознательных репортеров, которые совали нос куда не следует, находили в «цементном смокинге» на морском дне. Один рисковый фотограф, взявшийся заснять неуловимую мадам Вонг, сам оказался вскоре запечатленным на снимке, который заботливо переправили в гонконгский филиал Скотланд-ярда. Неестественно запрокинутую голову смельчака, плававшую в луже крови, хоть и с трудом, но все же удалось опознать. Может быть, этим и объясняется факт, что имя «принцессы пиратов» сравнительно редко стало появляться на газетных столбцах. Неожиданный взрыв, потрясший здание, где находилась редакция газеты, осмелившейся высказать крамольное предположение, что «мадам» окончила свои бурные дни, послужил недвусмысленным предостережением не распускать язык. Гонконгская полиция обычно сваливает на «террористов» инциденты такого рода, как взрывы бомб в типографиях, исчезновение отпечатанного тиража, пожар на складах бумаги. Но почему-то это происходит всякий раз, когда печать собирается опубликовать сенсационный материал о пиратстве или, что еще хуже, о связях преступного мира с полицией.
Возможно, однако, что людям просто надоело изо дня в день слышать о загадочной мадам Вонг. Суть не столько в ней, сколько в самой проблеме морского пиратства, ставшего в последней четверти века столь же распространенным бедствием, как и захват самолетов. У организованного пиратства мощная материальная база. В закрытых лагунах, в укромных гаванях, изрезанных бесчисленными заливчиками коралловых побережий, в кромешных мангровах, отделенных от моря стеной зелени и острыми рифами, скрываются пункты заправки, склады и даже сухие доки, где ремонтируются, перекрашиваются, а то и перестраиваются захваченные суда. Сюда же можно добавить частные аэродромы, незарегистрированные радиостанции, госпитали. Не жалкие джонки уходят от преследования морских патрулей, но скоростные катера, оснащенныё моторами и навигационными приборами самых последних моделей. Все это требует специального обслуживания, снабжения горючим, запчастями и пр. Наконец, взрывчатка, боеприпасы, морские мины — тоже проблема далеко не простая. Ведь не стрелами из духовых трубок, а очередью из тяжелого пулемета был обстрелян пассажирский паром, курсирующий между островами Минданао и Панай на Филиппинах. Немногие из уцелевших, кого не разнесли пули с «желтой головкой» и не сожрали акулы, рассказывали потом, что действия нападающих корректировались по радио с неизвестного гидросамолета.
Одним словом, для размещения столь многообразного хозяйства нужен соответствующий простор. И нелегко понять, почему в эпоху всевидящих спутников никак не удается засечь пиратские базы. Пещеры, укромные гроты, о которых повествуют немногие счастливо выкупленные родными заложники, едва ли способны вместить в себя весь этот сложный и зависимый от мировой экспортно-импортной системы арсенал.
Можно предположить, конечно, что мы сталкиваемся здесь с судами-«оборотнями», которые, благополучно и на законных основаниях покинув порт приписки, вооружаются и изменяют обличье на тайных базах. Такое предположение не лишено правдоподобия и многое объясняет. Но даже в этом случае портовые власти в Гонконге, Макао или иных местах неизбежно что-то должны знать о секретном промысле, не обозначенном в документах. Ведь на пирсах тысячи глаз. И какие-то следы, как не тщись, все равно остаются.
Впрочем, покончим с домыслами. Как всегда, все объясняется просто. Если в преступный синдикат можно вовлечь полицию, то почему и другим ведомствам не оказаться в орбите коррупции? Тем более что криминальный оборот исчисляется в сотни миллионов английских фунтов. Львиная доля приходится, конечно, на наркотики. По сравнению с ними торговля красотками, операции с золотыми слитками и ограбление судов — сущая безделица. Для чего же лишний шум, зачем, как говаривал Бендер, «стрелять в люстру»? А вот зачем. Очевидно, так уж сложились обстоятельства, что современная торговля наркотиками оказалась прочно связанной с организованным в синдикаты пиратством.
Вот, собственно, все, что я знал к тому моменту, когда, взрезав на крутом вираже черную от касситеритового песка воду, наш катер закачался возле ярко-зеленого баркаса, или, скорее, сампана с двумя дизелями и парусной мачтой. Впрочем, эти подробности я припомнил уже потом, задним числом, ибо в зеленой посудине, с которой нам перебросили бамбуковый трап, не было ровным счетом ничего примечательного. Бок о бок стояло несколько почти таких же суденышек с «драконьими глазами», нарисованными на бортах. Одинаково хорошо приспособленные как для океанских, так и для речных походов, они превращались в порту в плавучий дом и магазинчик одновременно.
Обнаженный по пояс, загорелый до черноты мужчина подал руку и помог мне подняться на борт. Приветливо махнув и проводив взглядом отваливший катер, он кивком указал на гостеприимно распахнутую дверь, где находилась скупо освещенная низковольтной лампочкой каюта. Пунцовый, непривычно раздутый, и чуть приплюснутый солнечный шар уже падал за кроны панданусов на берегу, и летучие собаки, висевшие до того вниз головой, чертили над взбаламученной водой стремительные фигуры. Сладко пахло копрой, подгоревшим кокосовым маслом. А с берега долетала чуть горьковатая и освежающая струя вечно цветущих деревьев. Где-то в трюме хлюпали крысы, а может, крабы, и разом побледневшее небо тревожно покачивалось над головой. Сумерки в тропиках всегда застают врасплох, и приход ночи воспринимаешь, как предвестье неведомых катаклизмов.
Я нагнул голову и вступил в тесное помещение. Стены украшали отполированные панцири морских черепах, стол, служивший чем-то вроде прилавка, был хаотически завален раковинами, браслетами и бусами из черного коралла, связки пальцеобразных игл каменного морского ежа напоминали роскошные ожерелья.
— Вообще-то я вожу сушеную рыбу и копру, — словно извиняясь, сказал шкипер Гунатилака. — А это так, больше для развлечения… Черный коралл очень редок в других местах.
— Знаю, — кивнул я. — Пару лет назад мне посчастливилось побывать на Мальдивах.
— Где именно? — с вялым интересом спросил хозяин.
— На Виллигили и, конечно, в самом Мале.
— Там я обычно и стою на причале, за овощным рынком. Это все, — он небрежно кивнул на свои богатства, — на островах очень дешево, так что кое-как удается сводить концы с концами, хоть дизельное топливо что ни день, то дороже…
И без всякого перехода, утомленно и буднично он начал рассказывать о том, что пережил прошлым летом в Никобарском проливе.
Сампан Гунатилаки — поскольку килевое судно было построено на верфях Сингапура, его не слишком позволительно именовать так — обычно два раза в год ходил из Пинанга в Тринкомали.
— Наша семья разбросана чуть ли не по всем берегам Индийского океана, — объяснил шкипер. — На Цейлоне у меня тоже есть родственники: отец и братья жены.
В Тринкомали везли шариковые ручки, карандаши и, чего греха таить, сотню-другую карточных колод с голыми девочками, назад — сушеную рыбу, кожи, поделки из черепахи. Обычная мелочная торговля. Несколько сапфировых камешков в одном направлении и нефритовые безделушки — в другом помогали покрыть непредвиденные убытки. Хоть и ждали для плавания сезон пассатов, когда погода устойчива, но океан остается океаном. Всякое может случиться…
Но судьба миловала судно, которому освятивший его астролог предписал черный счастливый цвет. Никаких передряг не сулил и последний рейс. Исправно работала рация, в баках плескалось горючее, в танке — питьевая вода. Накануне отхода шкипер самолично разбил жертвенные кокосы перед изображением белого коня и зажег масляную лампу в местном храме. Кроме него, на борту находилось еще шесть человек. Все, как один, родственники: три брата, два шурина и племянник, совсем еще мальчик. И все они тоже пришли в пагоду с жертвенными цветами.
Пираты атаковали сампан в Никобарском проливе ночью, когда море вокруг полыхало дивным живым огнем. Глиссируя на сверкающей глади, неизвестный скоростной катер пересек курс и, обогнув судно с кормы, дал очередь из пулемета. Мачту, на которой были укреплены тифон и антенна, срезало, словно бритвой. Одному из братьев упавшей реей размозжило плечо.
Гунатилака, наслышанный о подобных историях, бросился стопорить машину. Зачем? Неизвестно. Потому что пираты, пожелав завладеть кораблем, безжалостно расстреливали и пассажиров, и экипаж. На волю отпускали только большие суда, после того как ценный груз и деньги из бумажников перекочевывали в пластиковые, предназначенные для сбора мусора мешки. Но сейчас был совсем не тот случай, и шкипер не мог заблуждаться на свой счет. Он повиновался скорее импульсу страха, нежели рассудку. Да и выбирать, в сущности, не приходилось. От катера с двумя тяжелыми пулеметами (на корме и над рубкой) уйти было немыслимо, невозможно.
Три человека поднялись на борт. После короткого допроса — разговор шел по-английски — приказали взять курс на таиландское побережье. «Будете слушаться, останетесь живы», — пообещал один из пиратов, наверное, начальник, и принялся крушить передатчик.
— Там мелководье, подводные рифы, — рассказывал шкипер. — Очень сложная, сильно изрезанная береговая линия… Тот, кто разбил передатчик, сам встал к штурвалу и по каким-то ему одному ведомым приметам повел судно. Нас всех заперли в каюту и приказали вести себя тихо. Даже брат, который невероятно страдал, старался сдерживать стоны. Вскоре по долетавшим звукам я понял, что в борт уткнулась лодка и на палубу спешно перенесли какой-то груз. Затем вновь заработали дизели. Выпустили нас часа через два, незадолго перед рассветом, и велели стать по своим местам. «Не вздумайте подать сигнал, — предупредил главарь. — Если появятся патрульные корабли или самолеты, ведите себя спокойно, как будто ничего не произошло». Отдав оружие сообщникам, которые сразу ушли в каюту, он уселся на самой корме, где лежали теперь четыре больших контейнера. Мне ничего другого не оставалось, как взяться за штурвал. Затылком я все время чувствовал нацеленный автомат. Дверь в каюту весь путь оставалась открытой.
— Вы знали, куда идете? — поинтересовался я.
— Да, назад, на Пинанг, как они приказали. Шли почти двое суток. Все время что-то не ладилось. Видимо, сказывалось напряжение. Каждую минуту ждали, что нас убьют. Я не верил, что увижу, как проблескивает хорошо знакомый маяк в старом Джорджтауне. Пираты опять загнали нас в каюту и на малом ходу пошли к берегу. Вскоре я услышал, как они застопорили машину и бросили якорь. Потом наступила полная тишина, которую лишь однажды нарушил стрекот низко пронесшегося вертолета. Я даже вздрогнул, когда прозвучал тяжелый глубокий всплеск, затем еще один и еще… Очевидно, контейнеры полетели за борт.
— Вспугнул вертолет?
— Не знаю. Но думаю, что нет. Если в контейнерах содержался героин, то самое удобное было оставить их на мелководье, чтобы потом подобрали аквалангисты. Сейчас, когда повсюду есть натасканные на наркотики собаки, нечего и пытаться пронести товар обычным образом, через порт.
— А что случилось потом?
— Потом вновь заработал мотор, и через некоторое время нас выпустили на палубу, а по прошествии суток в открытом море мы опять встретили катер. Главарь посоветовал держать язык за зубами и на прощание бросил в машину динамитный патрон… Нас спасли только на исходе четвертых суток моряки из Рангуна. Но я считаю, что с нами еще хорошо обошлись. Обычно пираты не слишком церемонятся в подобных случаях. Я знаю… Вот только брат, у которого началась гангрена, не дождался берега. Умер бедняга. Никогда не прощу себе, что спустил его в воду. Но кто мог знать, что нас вскорости подберут?
Шкипер вынул из тумбочки бумажник и достал оттуда бережно заделанную в пластик газетную вырезку. Некролог, напечатанный рядом с предсказанием «Ваша судьба сегодня».
— Вот таким человеком он был, — с печальной гордостью молвил шкипер Гунатилака. Это было напечатано в «Силон дейли мирор».
Пробежав скорбные строки, воздающие покойному должное, я чисто автоматически задержался на предсказании: «Лунная дата с 9 по 13, 14 после полудня; затем лунная дата 10. Благоприятно для текстильной промышленности, коммерции, механических операций и пр. Обычный день для путешествий. Счастливый номер 6, счастливый цвет — зеленый».
— Когда вы перекрасили свое судно?
— Сразу же после ремонта. Почему-то мне захотелось покрасить его в зеленый цвет. Пока живу на хлебах тестя. Не знаю, сумею ли выкарабкаться из долгов и вернуться в Малайзию… Ходим теперь только на Мальдивы, — вдруг добавил он без видимой связи. — Берем копру и черный коралл.
Погоня за драконом
Мириады колючих пучеглазых рыб со всех сторон сползались к Меконгу. Проспав под землей положенное время и разбуженные тиканьем «биологических часов», вершили они свой великий исход, словно творили мистерию. И не было силы, способной помешать этому шуршащему наступлению, и колыхалась трава вокруг, и живым серебром кипело рисовое поле.
Я вспомнил о великой мистерии рыб, которые, по-змеиному извиваясь, стремились к материнской стихии, когда по прошествии нескольких лет вновь увидел величавый разлив Меконга. И были его меандры, петляющие среди девственных джунглей, словно палийские письмена…
В королевской столице Лаоса Луанг Прабанге, возле черно-золотых стен храма Висун, я держал в руках листья пальмы с этими округлыми вещими знаками, повествующими о королях, многовесельных лодках и драконах, являвших себя на водных путях.
Как неожиданно легко и щедро раскрывается перед тобой незнакомая страна, если ты одержим некой «сверхзадачей», которая торопит, увлекая все дальше и дальше. И не дает оглядеться, не позволяет задуматься. Тогда даже самый трудный и утомительный путь подобен головокружительному полету. Извивы рек, водокруты у сланцевых скал, душный мрак пещер. От водопадов на севере до горных лесов юга, от Долины кувшинов, где в незапамятные времена хоронили своих мертвых неведомые полубоги, до покрытого дымками — здесь испокон веков выжигают лес под посевы горные племена — неизведанного плато Боловен. На самолете, на катере, в долбленой пироге и на плоту, связанном из зеленых стволов бамбука, влекомом стремниной реки У, что родится в горах на границе с Китаем. «Сверхзадача» возникла почти на пустом месте и продолжала расти до самого последнего дня, проведенного в Лаосе, словно кристалл на нитке, опущенной в пересыщенный раствор.
Вместе с латышским писателем Эвальдом Стродом, испытанным спутником на трудных дорогах Юго-Восточной Азии, и нашим гостеприимным хозяином Сувантхоном мы обстоятельно обсуждали маршруты поездок. Сувантхона, старого партизана, коммуниста-подпольщика, тянуло на юг, в те места, где прошла его неспокойная юность, — в Саваннакхет, в Паксе, но он знал, сколь прекрасен и притягателен для нас горный север, и, невзирая на дорожные неурядицы, готов был принять программу-максимум. Несмотря на занятость, он сразу же решил поехать по стране вместе с нами.
Впрочем, в наш первый вьентьянский вечер ничего я об этом не знал и лишь задал вопрос, который тоже сам собой выкристаллизовался в результате долгих поездок по странам Индокитая.
— Мне рассказывали о красном драконе, который часто выходит на сушу поблизости от этих мест, — я кивнул в сторону Меконга, где на таиландском берегу орал, перекрывая шум города, какой-то громкоговоритель.
Мог ли я знать, что мой вопрос уподобится волшебному ключику, способному отомкнуть врата удивительного, почти неизведанного мира? Что мне поразительно повезло, ибо лишь один Сувантхон и, быть может, еще три-четыре человека примут это всерьез? Разумеется, я тщательно подготовился к поездке и отнюдь не случайно завел разговор про дракона с автором трехтомной книги о лаосских достопримечательностях. Но ведь мне лишь предстояла радость узнать этого человека близко, и поэтому его бурная, темпераментная реакция не только обрадовала, но и удивила меня.
— Откуда вы знаете о «Драконе Салакоктана»? — он изумленно поднял брови и вдруг рассмеялся совершенно по-детски: открыто, беспечно, легко. — Вот это сюрприз! Гости из такого далека напомнили мне школьные годы… Я жил тогда у дяди и работал по вечерам, чтобы платить за учение. Нет, дракона мне видеть не привелось, но однажды утром в какой-нибудь сотне метров отсюда люди заметили в воде пару гигантских черных змей…
Наша беседа затянулась до поздней ночи. Ее итогом явилась идея, высказанная вполне деловым тоном.
— Я всегда хотел заняться этой загадкой, — мечтательно вздохнул Сувантхон. — Но жизнь сложилась так, что нужно было отдать себя целиком иному. Вы сами понимаете: подпольная работа, вооруженное сопротивление двойной оккупации Индокитая французскими и японскими империалистами, тюрьмы, военно-полевые суды. Затем война, революция, строительство новой жизни… Я очень рад, что товарищ Пхоунсават, исполняющий обязанности министра информации, культуры и туризма, именно мне поручил сопровождать вас в поездке по нашей стране. Я уже все продумал. Меконг пронзает Лаос насквозь, как стрела бога влюбленное сердце. Вся жизнь нашего народа связана с этой рекой. Даже если и не найдем ничего особенного, а так скорее всего и будет, вы все же сумеете многое повидать… Кстати, «Дракона Салакоктана» всегда встречали в воде или поблизости от реки. Одним словом, если хотите, можно организовать своего рода экспедицию. Наше руководство пойдет навстречу.
Мне еще не было ясно, где озорная шутка превращается в самое великолепное, самое фантастическое предприятие в моей жизни.
— Экспедиция двух братских газет? — спросил я на всякий случай, стараясь унять радость.
— Уверен, что рижская «Литература и искусство» присоединится к подобному предприятию, — бесстрастно заметил немногословный Строд.
Наутро мы уже мчались по красному, как толченый кирпич, и пыльному проселку в погоне за мифом, навстречу мечте нашего мудрого и щедрого друга.
В пригороде Санханг Mo, где воздух пропитан сладким дымом костров и горьковатым дыханием белых цветов чампы, мы поднялись по узкой, заросшей колючками тропе на древнюю дамбу. На дне давным-давно высохшего озера зеленели огороды, сквозь частокол бамбука угадывался извив канала, ведущего к Меконгу, отступившему ныне на добрый километр к западу. Строгий ряд замшелых тхатов — культовых пирамидок — метил это памятное вьентьянцам священное место. На стертой плите, покрытой письменами, и на довольно свежих нашлепках цемента можно было различить несколько дат: от самых старых, приуроченных к прежним календарным системам, до позднейших — 1809 и 1963 годов.
— Тхаты поставлены в память людей, чьи лодки перевернул своенравный дракон… Впрочем, пловцы скорее всего утонули по другим причинам, — лукаво улыбнулся Сувантхон, — ибо, если верить легенде, у вьентьянского короля был договор с чудовищем, которое нарекли «Драконом Салакоктана». Когда нашей стране угрожали захватчики, король ударял в гонг — и дракон приходил на помощь. Во всяком случае, пока он жил в озере, бирманцы не могли овладеть городом. Лишь после того как предатель открыл шлюз и прогнал дракона в Меконг, враги сумели одолеть крепостные стены. В память об этом событии они возвели в центре города большой тхат. Люди его не любят и называют «Черным»…
Легенда и быль… Как причудливо перемешались они под вечными звездами Азии! Я долго ходил вокруг «Черного тхата», заросшего цепкими травами, бросающего остроконечную тень на красочные витрины нашего «Аэрофлота». Потом мы осмотрели останки крепостного вала, которому время придало оплывшие контуры слепых творений природы. По высохшему руслу канала, где путь приходилось расчищать взмахами крестьянского ножа, я прошел к реке. Здесь всегда можно застать какого-нибудь легковерного чудака, ожидающего нового раунда чуда.
— Как желто-красная лента огня, обвил он лодку и утащил на дно, — повторит кто-нибудь рассказ последнего, уже неведомого «очевидца». — А людей, едва они пустились вплавь, словно парализовала невидимая молния…
Вот, собственно, и все, что удалось узнать на первом этапе. Сюда же следует добавить сведения, приведенные в книге Аллена Дэвидсона «Рыбы и рыбные блюда Лаоса». Большой знаток страны, как-то совмещавший увлечение ихтиологией с дипломатической службой,[48] Дэвидсон, кажется, впервые поставил не разрешенную по сей день дилемму: змея или рыба. Как бы ни было, но в самом существовании неизвестного науке существа автор не сомневался.
Чтобы яснее представить себе проблему, мне пришлось провести небольшое лингвистическое исследование. И сразу же вскрылись любопытные подробности.
Оказывается, на основном языке, который в ходу у жителей долин, существует два четко разграниченных понятия: «ну», что значит «змея», и «ныа» — «водяная змея». Европейские авторы зачастую смешивают оба класса воедино, отчего лишь усугубляется и без того немалая путаница. Под словом «ну» лаосцы понимают не столько змею, так сказать, сухопутную, сколько реальную: питона, кобру, смертельно ядовитую зеленую гадюку. Зато понятие «ныа» охватывает, разумеется частично, мир фантастических чудовищ, в том числе гигантских змееподобных рыб и водяных драконов. Так что «монстр Салакоктана» относится к «ныа», а черные змеи, которые наш друг видел в детстве, безусловно, «ну». Невзирая на некий загадочный элемент, ибо китайский лекарь, убивший одну из этих змей, умер, отравленный ядовитыми испарениями, при попытке вытопить жир.
На базарах, куда по утрам приносят всевозможную живность представители горных племен: мео, яо, кхму, брао, боловен и др., — я не раз видел вскрытые туши удавов, гигантских черных варанов, не уступающих знаменитым драконам с острова Комодо, но всегда это были предназначенные для трапезы «ну».
Зато «ныа», как и всюду в этом районе мира, скалили огнедышащие пасти с крыш пагод, свивали каменные кольца вдоль лестниц, ведущих к горным монастырям. Несмотря на лингвистическую селекцию, граница между очевидным и невероятным оставалась столь же незыблемой.
На длинной долбленке с мощным мотором Кольера, слепящим надраенной и жирной от смазки медью, мы плывем по залитому водой лесу, ставшему жертвой неудачно построенной плотины. Прежнее правительство пошло на поводу у иностранных специалистов, и в результате в зону затопления попали джунгли, где произрастали ценнейшие породы деревьев. Вершины холмов сделались островками, а лесные великаны, как положено, приняли смерть стоя. Белые от вытопленных на солнце солей, скорбно простирали они голые ветви над бескрайним озером, где сыто всплескивали жирные рыбины. Лишь прилепившиеся к стволам орхидеи еще влачили бесперспективное полупризрачное существование, шевеля на ветру щупальцами воздушных корней.
Можно лишь удивляться, как в этом мертвом лабиринте находил фарватер наш рулевой. Два молоденьких пограничника с национальными кокардами на фуражках не выпускали из рук автоматов. Разумеется, не из-за близости подводных чудовищ. Границы, которые проходят через горы или сплошной лес, частенько нарушают переодетые под крестьян контрабандисты, одичавшие головорезы из рассеянных полпотовских банд, одураченные лживой пропагандой диверсанты, которых завербовали в каком-нибудь лагере на таиландском берегу. Вот почему рядом с припасами — волосатыми жгутами сушеного буйволиного мяса и свежей рыбой, способной украсить любой аквариум, — на дне лодки лежали базука и портативный миноискатель.
Кстати, о рыбах. В Меконге обитают по меньшей мере одиннадцать видов, знакомых ихтиологам лишь понаслышке. Особо примечательна среди них знаменитая «лунная», или «счастливая», рыба, есть которую дозволялось лишь королю. Годовой улов составлял обычно всего пять-шесть штук. Причем в сети попадались только взрослые самцы. Ни самок, ни молоди никому видеть не приходилось. Почему? Очередная биологическая загадка.
Но это так: необходимое отступление по ходу дела, ибо нас ожидала вкуснейшая рыба пабык — реликтовый безусый сом — тоже почти неизвестная за пределами региона.
На одном из островов, который называют просто «Островом второй рыболовецкой бригады», мы поднялись в свайную хижину, связанную из пальмовых циновок. Пока на угольях запекались обвалянные в толченом арахисе и перце нежнейшие куски пабыка, вставленные в расщепы бамбуковых палок, я рассказал рыбакам о цели нашей импровизированной экспедиции. Вполне понятно, что мне хотелось расспросить их до того, как в дело пойдет закуска и местный лиловый шун-шун, настоянный для пущей целебности на сколопендрах.
— Слышать-то слышал, — со свистом затянувшись из бамбукового кальяна, сказал руководитель кооператива Кханти, — но видеть не приходилось… Правда, года три назад кто-то повадился рвать сети с рыбой, но, я так думаю, это был крокодил.
— Какой еще крокодил! — возмутился более пожилой, загоревший до черноты рыбак по имени Пасеутх. — Они и не заходят сюда из болот, — он махнул рукой куда-то на синевшую в проеме окна вершину Пусе. — Я же сам вытащил застрявший в канатном узле обломок иглы. Вот такая! — он отмерил до локтя.
— Роговая? — заинтересовался Сувантхон.
— Как рыбья кость! До чего острая! Жаль, нельзя показать: заиграли детишки…
След, как и можно было ожидать, обрывался, но, покидая гостеприимный остров, нам казалось, что какой-то шаг вперед все же сделан.
Следующее наше путешествие начиналось от лодочной пристани бывшей королевской столицы Луанг Прабанга, знаменитого своими древними пагодами и тхатами, инкрустированными разноцветными зеркальцами, нестерпимо сверкавшими в лучах набиравшего высоту солнца. На сей раз нам предстояло плыть на ладьеподобном катере, который лао зовут «хмачак», с дощатым навесом и рулевым управлением на носу. Мы намеревались подняться до пещер Пак У и далее, уже на пироге, продолжить плавание по таинственной и чарующей душу реке У.
Как лунный серп, как ладья Озириса, скользнуло наше суденышко в глинистые воды Меконга, текущего с заоблачных долин Тибета и собирающего на своем великом пути через все страны Индокитая дань с бесчисленных речек и кишащих диковинной живностью озер.
Огибая пороги, минуя скалы, острова, окатанные горы сланца, наш кораблик несло вдоль лесистых холмов, и шапки нечистой пены качались в расходящейся волне. Когда казалось, что берега сближаются и мы вот-вот окажемся в теснине, следовал неожиданный поворот — и вновь многоцветное полотно джунглей бежало вдоль левого борта.
Между двух известковых, источенных кавернами скал желтая вода сделалась темно-зеленой, словно какое-нибудь лесное озеро в средней полосе. Сразу стало тихо и сумрачно. Двухсотметровым органом, вертикальными каменными складками готического собора высился теперь левый берег. Туго натянутые канаты лиан, качающиеся побеги ползучей крапивы и какие-то хищные корни льнули к ноздреватому туфоподобному камню, и пятачок дождя — где-то в зарослях и бесчисленных нишах конденсировались испарения — стучал на спокойной воде. Она словно кипела под безоблачным, быстро темнеющим сводом. Здесь-то и начиналась вожделенная У. По течению неслись лодки и плоты, где люди мео в черно-красных одеждах везли на продажу убитых зверей и живых, незнакомых нам змей в проволочных садках. Но все это были «ну», и мы перестали останавливать встречные лодки.
Я навсегда запомню рассыпающийся свет факелов в кромешных туннелях. Жгучие огоньки, вспыхнувшие на мгновение в неподвижных глазах рептилии, лениво скользнувшей во тьму. Нет, мы не искали здесь легендарных чудовищ, но было бы чертовски интересно узнать длину очередного растворившегося во мраке питона, или как там еще называют это живое бревно.
На обратном пути, после гостеприимных деревушек, затерянных в глубине леса, после обстоятельных бесед у очагов, где женщины прямо на раскаленных камнях раскатывают блины, туннель показался еще более душным и мрачным. Лишь ароматом цветущей чампы, повеявшим у лестницы, ведущей в пещерные храмы, был изгнан навязчивый запах плесени и явственное ощущение слизи, попавшей на кожу вместе с подземным дождем.
После долгого подъема по каменным растрескавшимся ступеням, осыпанным белым цветом священного дерева, открылся этот грот, осененный сидящим Майтреей — Метаей по-лаосски. В самом дальнем закутке мне показали высвеченную из мрака позолоченную резьбу. Навстречу лодке, очень похожей на наш катерок, из завитков, обозначавших волны, вставала полузмея-полурыба. Химера не выглядела устрашающей и настолько отличалась от традиционных изображений привычных драконов и змей-нагов, что хотелось верить словам проводника, будто мастер, умерший в конце пятидесятых годов, изобразил действительную сцену: встречу принца Петсарата, знаменитого охотника, с «ныа», которую тот благополучно убил.
Я вспомнил средневековые вьетнамские хроники, со скрупулезным постоянством отмечавшие случаи появления драконов. Уже в Москве я взял «Краткую историю Вьета», древнейший из дошедших до нас исторических источников, и сделал несколько извлечений, повествующих о подобных событиях. Вот некоторые из них, взятые почти наугад:
«В восьмом месяце… желтый дракон появился на корабле вуа[49]», — прозаически, как о вполне рядовом явлении, повествуют анналы династии Нгуен (995–1005 гг.).
«Желтый дракон появился на корабле Кимфыонг, поэтому изменили название на «Тыонг лаунг» (т. е. «Добрый дракон»)», — доводится до всеобщего сведения чуть выше, после подробного перечисления дворцовых интриг, междоусобных баталий и казней.
Наконец, есть даже сообщение, содержащее несколько несерьезный намек на саму волшебную природу помянутого в летописях существа: «запретили прислуге татуировать на теле дракона».
Вот, оказывается, до чего дошла в своей непочтительности вольнодумная челядь!
О том, что отношение к дракону было в Индокитае вполне спокойным, чтобы не сказать — утилитарно-потребительским, свидетельствует и следующая выдержка: «В реке было много водяных драконов (наконец-то нужное слово!). И тогда привязали людей к борту лодки… побуждая водяных драконов губить их…»
Примерно в тех же выражениях говорят авторы хроник о боевых слонах, белых воробьях или отправленных ко двору вуа диковинных черепахах. Нет и тени сомнения, что речь идет о реальных живых существах, отличных от химер, украшающих дворцы и храмы.
Итак, «водяной дракон» — вьетнамский эквивалент лаосской «ныа».
С этим девизом и отправились мы в последнее путешествие на плато Боловен — самое заповедное место Лаоса, одной из наименее изученных стран мира.
Даже с низко летящего вертолета трудно разглядеть редкие тропы, теряющиеся в здешних не тронутых человеком лесах. Колеся по грейдеру, петляющему меж седловин, мы лишь изредка встречали покинутые селения, где жители, перед тем как исчезнуть в лесу, оставляли для обмена коренья, связки плодов, клубни, глиняные флакончики с жиром леопарда или желчью медведя, завернутый в листья мед.
Обитатели долин и холмов так же анонимно отдаривали за это своих невидимых горных партнеров тканью, сельскохозяйственными орудиями и мылом. Нам рассказывали о лесных племенах, которые вообще не вступают в общение с соседями, а бродят по тайным тропам, возводя для ночлега примитивные навесы из сухих листьев банана. «Духи желтых листьев» зовут их в Таиланде.
Сувантхон потратил много сил и нервной энергии, прежде чем сумел убедить старых товарищей по подполью показать нам хотя бы крупицу «неведомого Лаоса», затерянного в джунглях Боловена.
Только вернувшись назад, в Паксе, главный центр пограничной с Кампучией южной провинции Тямпатсак, мы поняли, насколько вески были предостережения скептиков, что дороги Боловена трудны и небезопасны.
Шофер нашего газика, наши проводники и охранники проявили не только величайший профессионализм, но и завидную выдержку. Им одним мы обязаны счастьем посетить Ват Пху — подлинное чудо света, построенное на руинах индуистского храма времен Анг-корвата. Они же открыли нам путь в заповедную рощу племени кхму, где кувшины с костями предков охраняют шесты, увенчанные красными клювами птицы-носорог, владычицы сумеречного потустороннего мира.
Как дули ветры над Болевеном, пробуждая в кувшинах рокочущий прах, как летели облака, туманя обросшие космами моха стволы заповедной рощи!
Здесь под охраной причудливых масок, изображающих души предков, мы и нашли резной столб, украшенный иглами «ныа» — змеи вод. Скорее всего, это были рыбьи кости, — возможно, лучи плавника.
Пусть не довелось нам увидеть огненную желто-красную ленту, промелькнувшую в кофейных непроницаемых водах. Тем сильнее была нужда в этой немой заключительной сцене посреди дикого плато у жалких урн, сиротливо чернеющих на туманной поляне.
Я смотрел на Сувантхона, застывшего у символических врат царства духов, и вспоминал, как несколько дней назад в Паксе он стоял у стены, за которой некогда размещался французский концлагерь. Молодой коммунист Сувантхон провел там год, ожидая смертного приговора, но благодаря ловкости адвоката был помилован как несовершеннолетний… Поседевший, но все еще крепкий человек, прищурясь, смотрел куда-то во тьму леса. Прислушивался к его голосам, вспоминая забытое, ловя отголоски былого, которое никогда не исчезает совсем. Вот, собственно, все о нашем незаконченном путешествии. Остается лишь подвести его скромный итог.
Видимо, правы те, кто считает, что в Меконге обитает неизвестный науке гигантский угорь, возможно даже электрический. Необыкновенно большие личинки угрей не раз встречали в океане на их исконных путях в Саргассово море. Судя по размерам личинок, взрослые особи могут достигать пятнадцати и более метров. Если это действительно так, то загадка «Дракона Салакоктана» близка к разрешению.
Ставя последнюю точку, упомяну, что во время короткой остановки в Саваннакхете я разговорился с доктором Лиентхонгом, который поведал о метровом электрическом угре охряного с розовым оттенком цвета. Эта неизвестная науке рыба была поймана возле Саваннакхета и долго жила в аквариуме. Я не удивился, когда узнал, что доктор оказался давним другом нашего Сувантхона. Прощаясь, Сувантхон подарил приятелю детских лет свои книги: «Две сестры» и «Второй батальон». Мне казалось, что погрустневший Сувантхон уже думал о следующей книге, отложив тайну дракона до новой кратковременной передышки. Нам тоже было невесело перед расставанием. Хотелось верить, что вновь улыбнется удача и очередная молва поманит за собой в заповедные дебри, а рядом опять будут надежные спутники, и прежде всего он, Сувантхон. Я и теперь очень надеюсь на это.
Бронзовые барабаны
Фазы Луны и мистерии земледельческого культа, змея и бык, видения созерцателей, грезящих во мгле гималайских пещер, и тайные трактаты йоги… Что общего между всем этим? Разрозненные фрагменты замыкаются в обод вселенского колеса причин и следствий.
Древняя алхимическая змея, кусающая свой хвост, оборачивается галактическими спиралями.
В закладной табличке, которая была обнаружена при раскопках Ура Халдейского, говорилось, что «для Нанна, могучего небесного быка, славнейшего из сынов Энлиля, своего владыки Урнамму могучий муж, царь Ура, воздвиг сей Храм Этеменгуру».
Небесный бык! Я видел золотую бычью голову с тонкими, круто изогнутыми рогами, обнаруженную в раскопках Алтын-депе (поразительна память народа, ведь слово «алтын» означает золото!). Бычий лоб украшает бледно-зеленая — мертвая уже — бирюза. Точнее, бирюзовый полумесяц, по-азиатски рожками вверх. Так выглядит эта находка, ставшая подлинной археологической сенсацией. Небесный бык — символ лунного божества с полумесяцем во лбу! Поразительное единство главнейших лунных символов. Порознь их можно увидеть по всей Азии: от Месопотамии до Японии. Мне они встречались на древнем валуне Трансгималаев, где каменным резцом навеки запечатлены круторогие быки и бараны, и на современных государственных флагах с полумесяцами, на базальтовых обелисках монгольской Гоби, с которых смотрит сквозь века увенчанный луной знак соёмбо, и в огненном праздничном небе Вьетнама, где взрываются луноподобные шутихи в ночь тета — нового года по лунному календарю.
«Барабаны, колеблющие свет луны», — поется в старинной вьетнамской песне… За кратким отступлением о пережитках лунных служений последует история загадочных бронзовых барабанов, воспевающих Солнце. Впервые я увидел их в Ханое, чьи шумные, пленительные улицы зияли тогда страшными ранами, оставленными «ковровыми» бомбардировками. Еще не было мира на многострадальной вьетнамской земле, и загадочные бронзовые барабаны, чем-то напоминающие навигационные приборы, были спрятаны в музейных подвалах. Впоследствии мне приходилось встречать почти такие же, но более скромных размеров и с иными орнаментами, предметы в музеях Бангкока и Куала-Лумпура. А в знаменитой сингапурской галерее, основанной сэром Раффлзом, есть даже схематическая карта распространения этих атрибутов таинственного культа, отлитых из звонкого металла неизвестными мастерами.
Найденные сначала во Вьетнаме — в Бакбо, близ селения Донгшон, они были отнесены исследователями к своеобразной и яркой донгшонской культуре, эпоха расцвета которой якобы приходилась на VI–I века до н. э. Но чем дальше забирались археологи в девственные джунгли Юго-Восточной Азии, чем глубже встречали они «раннюю бронзу», тем шире становился донгшонский ареал, тем дальше в древность смещались временные отметки.
Барабаны, боевые топоры, кинжалы и украшения, отмеченные незабываемым узором Донгшона, все чаще стали обнаруживаться в лесах Перака и Келантана, в Таиланде, Кампучии, южных районах Бирмы. Даже на малайзийском острове Пенанг был найден маленький барабанчик, орнаменты которого оказались близки как древневьетнамским, так и индонезийским. Говоря о возрасте бронзовой ветви, озарившей загадочное прошлое Юго-Восточной Азии, ученые все чаще стали называть второе, а затем и третье тысячелетие до нашей эры. Особенно резкий сдвиг в прошлое заставили сделать таиландские находки. В начале семидесятых годов археологи стали устанавливать начало бронзового века в этом районе четвертым тысячелетием до нашей эры. Но археологические открытия последних лет перекрыли и этот казавшийся абсолютным рекорд.
На северо-востоке Таиланда, в провинции Махаса-ракхам, в 1976 году обнаружили кувшин и бронзовые запястья. После тщательных анализов, проделанных с помощью самого современного исследовательского арсенала, ученые пришли к выводу, что предметы, найденные в латеритовой, красной, как толченый кирпич, почве, изготовлены семь тысяч лет назад!
Так в этнографию вошло новое наименование — цивилизация Банчиенг, сразу же прославившее одноименный, доселе мало кому известный район на правом берегу Меконга. Именно здесь были сделаны самые поразительные открытия последнего времени, заставившие отбросить многие устоявшиеся схемы.
Но возвратимся к барабанам, чьи гулкие крышки украшены знаком Солнца и концентрическими окружностями, так удивительно похожими на лимбы старинных астролябий…
Зеленые от патины, эти пришедшие из глубины веков музыкальные инструменты помогли воссоздать картины далекого прошлого. Пусть фрагментарные и отнюдь не однозначные. Быть может, именно в этой неоднозначности и таится секрет очарования весьма утилитарных, наверное, предметов материальной культуры, которые мы воспринимаем сегодня как чудесные памятники высокого искусства. Какой простор открывают они воображению, какие внезапные аналогии пробуждают, замыкая причинной связью дали пространств и глубины времен!
Рельефные фигурки любовных пар невольно наводят на размышления о сути тайных тантрийских церемоний, столь характерных для древней культуры Индии, заимствованных позднее обитателями Тибета, Средней Азии, Дальнего Востока. Этот явный след изобразительной традиции, отметившей архитектурные детали непальских храмов, запечатленный в бессмертных изваяниях Кандарья Махадео. Властительная мощь любви, плодотворящей космическую силу природы.
Кольцевые бронзовые орнаменты, запечатлевшие космогонию древних, воспевают и мудрое совершенство простой непритязательной жизни. И сейчас в таких же свайных домах живут люди на Меконге и Красной реке, а многовесельные ладьи с головой дракона на изогнутом носу плавают по желтой воде Чаяпраи. Такие же привыкшие к труду тонкие руки взрыхляют землю и сажают рассаду, выделывают зонты из листьев бумажного дерева и ткут материи.
Откуда же пришли мастера, отлившие из вечной бронзы исполинские рокочущие котлы с солнечным знаком в центре крышки? Где впервые возникли вещие символы стран света, которыми отмечены скалы, пещеры и храмы Азии? От Индии до Японии, от забайкальской тайги до сверкающих вершин Гималаев.
Особый интерес вызывают сцены рисосеяния и сбора урожая. Барабаны, откопанные в северных провинциях Вьетнама, и окаменевшие рисовые зерна, найденные в пещерах, явно указывают на то, что рисосеяние пришло в Южную Азию не из Китая, как это считалось ранее, а, напротив, было заимствовано обитателями плодородных лёссовых дельт у южных соседей. Возможно, что рисовое зернышко шло сокровенным путем бронзовых барабанов, ныне сокрытым земной толщей. Священные знаки космоса и плодородия некогда стерегли эту невидимую дорогу — звездные знаки.
Судя по распространенности подобных символов, общение в древнем мире протекало куда оживленнее, чем это предполагалось. Поднебесные хребты не стали непреодолимым препятствием для связей между Индией и древними государствами Средней Азии: Маргуш, Согдианой. Точно так же бескрайние просторы сибирской тайги не столько разъединяли, сколько соединяли жителей дальневосточного Приморья со степняками. Подобно океаническим течениям, переносившим примитивные челны древних мореплавателей с континента на континент, таежные и горные торговые тропы прочно связывали отдаленные народы и страны. Не только путь «из варяг в греки» оставила нам история. Все чаще и чаще находим мы и следы беспримерных сибирских кочевий и приметы оживленной дороги из «арьев во славяне», путевые вехи от скифских степей до гранитных шхер полярных стран.
И самые устойчивые среди удивительных этих знаков, быть может, орнаменты. Узоры, в которых один народ неосознанно передавал другому свою зашифрованную мудрость. Не было особой нужды менять то, что принималось всего лишь за украшение. И, подобно эстафете веков, передавалась из края в край причудливая вязь, бывшая некогда магической тайнописью неведомых народов. Я нарочно протянул ниточку из далекого прошлого к еще живым обычаям. Ведь сцены крестьянских работ, представленные на барабанных крышках, тоже еще не ушли в прошлое. Более того, в них обнаружился глубокий актуальный смысл. Мы лишний раз убедились в том, что версия об избранных народах — носителях культуры, дарующих эту культуру пассивным соседям, не более чем миф. Напротив, археология и этнография являют нам как бесчисленные примеры самостоятельного творчества самых разных племен, так и творческого взаимообмена между ними.
Но продолжу рассказ о барабанах.
Кроме бытовых сцен, на их лимбообразных с рисками-насечками кольцах часто можно встретить изображения цапель и пятнистых оленей с разветвленными рожками. Такие же олени украшают, кстати, и широкие лезвия боевых топоров донгшонской культуры. Здесь есть над чем поразмыслить. Цапля, олицетворяющая водную стихию, не в пример оленю, широко представлена в пластике Юго-Восточной Азии. Стоящие на черепахах цапли — символ счастья и долголетия — издавна помещаются перед жертвенником в местных пагодах. И в фольклоре им отводится заметная роль. А вот об оленях добуддийское устное и изобразительное творчество умалчивает. На что же намекает загадочное кольцо вокруг Солнца, пополам, разделенное между вереницей бегущих оленей и летящих птиц? Они словно гонятся друг за другом по кругу: олени и цапли.
Зачем? Почему?
Точного ответа пока нет.
В поисках решения перенесемся на другой конец континента. Быть может, намек на разгадку мы найдем в наскальных изображениях, обнаруженных археологами на территории нашей страны. Недаром же рисунки на камнях, оставленные первобытными резцами, помогли пролить свет на целые исторические эпохи, понять самые сокровенные стороны жизни далеких пращуров, приобщиться к их представлениям об окружающем мире.
Перу академика А. П. Окладникова принадлежат несколько ярких и оригинальных трудов, посвященных писаницам Лены и Томи, иероглифам Ангары, Забайкалья, Амура. В монографии А. П. Окладникова и А. И. Мартынова, где проводится сравнительный анализ наскальных изображений Дальнего Востока, Средней Азии, Алтая, Тувы и Монголии, меня заинтересовали следующие слова: «Четырем районам древнего искусства противостоит и вместе с тем тесно соприкасается с ними еще один большой культурно-исторический район — область лесных охотников, собирателей и рыболовов сибирской тайги… Наряду с образами, характерными для этого искусства, — лосей-самок, лодок и неуклюжих человеческих фигур, здесь по-своему художественно и лирично исполнены фигуры голенастых птиц и мудрого филина, солнечные олени и многие другие поэтические образы».
И в самом деле. Погружаясь в удивительный мир томских писаниц, мы обнаруживаем поразительные аналогии с наскальными рисунками Скандинавии и Беломорья, встречаем очень близкое к дальневосточному изображение чудовища, пожирающего Солнце.
Более того! Томские ладьи с головой зверя поразительно напоминают донгшонские, с той лишь разницей, что с продвижением на северо-запад драконья морда постепенно преобразилась в голову лося — царя тайги. Впрочем, лодки, изображающие плавание предков в страну духов, почти одинаковы у всех народов. С оленями же, с «голенастыми птицами», подобными тем, которые обожествлялись некогда в Египте, что и поныне стоят в пагодах, дело обстоит сложнее. Здесь может крыться отнюдь не случайное совпадение, а конкретный след давних общений. Эта мысль сама собой приходит на ум, когда начинаешь вглядываться в рога донгшонских оленей. Откуда у них такой прихотливый и свободный извив? Как удивительно напоминает он «звериный стиль» скифов, «оленьи» камни Тувы и Монголии, расписные енисейские обелиски.
Мы словно заглядываем в неведомый, но жгуче привлекательный мир людей, живших в неолите и бронзовом веке на огромных просторах Евразии. Наш Урал, кстати, тоже относят к древнейшим очагам бронзового века. В первых металлических орудиях, которыми стали пользоваться народы Сибири и степей Средней Азии, явственно ощущается горячее дыхание его плавилен, о чем свидетельствуют раскопки недавнего времени. Несмотря на удаленность отдельных народов и глубокие этнические различия, обнаруживается покоряющее сходство мировоззрения и творческой манеры древних мастеров. Художественные образы северной мифологии проникают далеко на юг, представления с юга устремляются и бережно доносятся до обитателей сурового севера. Грандиозный обмен продуктами труда, секретами ремесел, взглядами, представлениями о мире и человеке — вот что высвечивает нам из тьмы веков резец художника.
В рисунках на томской скале и бронзовых фигурках оленей, найденных в курганах татарской культуры середины первого тысячелетия до нашей эры, заложена одна и та же идея древней космогонии., Это «Олень золотые рога», олицетворяющий Солнце.
Не эта ли мысль владела и мастерами загадочной донгшонской культуры?
Что, если олений полукруг, огибающий солнечный знак, олицетворяет день, а водяные птицы — ночь, когда светило погружается в океан, чтобы утром вновь всплыть на горизонте и златорогим оленем прочертить небосвод?
Гипотез может быть множество, а истина, как известно, только одна. Подождем, когда заговорят бронзовые барабаны, чей рокот колебал некогда свет Луны во славу Солнца.
В географическом атласе давно нет белых пятен. Они остались только на исторической карте, добавочной координатой которой является время, обращенное вспять.
И «звездные знаки» древности, которые научилась ныне читать наука, плывут по вечной реке времени, как огоньки на Ганге.