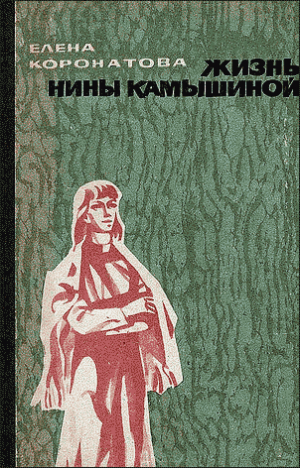
Елена Коронатова
Жизнь Нины Камышиной. По ту сторону рва
Об авторе
Елена Ивановна Коронатова родилась в 1911 году на Дальнем Востоке в городе Никольск-Уссурийском, в семье военнослужащего. А детство и юность ее прошли в старинном, очень своеобразном городе Томске.
Необыкновенная жизнь выпала людям этого поколения. Великая Октябрьская революция, гражданская война, разруха, восстановление страны, первые пятилетки, построение социализма, коллективизация, Великая Отечественная война с фашизмом и снова восстановление — вот сколько вошло в жизнь шестидесятилетних, вот в каких великих событиях привелось им участвовать. Такая биография, такой жизненный опыт для писателя — счастье. Ему есть о чем писать, есть о чем говорить, есть что любить и ненавидеть.
К таким писателям относится и Елена Ивановна Коронатова.
Всю жизнь она училась урывками, но, кроме средней школы с педагогическим уклоном, ей ничего не удалось окончить. Так уж сложилась судьба: маленькие дети, жизнь в глухомани, частые переезды, связанные с работой мужа, война — все это мешало учебе.
В 1929 г., получив право преподавать в начальной школе, Е. Коронатова поехала работать ликвидатором неграмотности в глухую деревеньку. Потом она учительствовала на приисках.
Ей довелось пожить на отрогах Ала-Тау и Саян, в степях и горах Хакасии, побывать на Алтае и в северных краях. Встречи с интересными людьми на дорогах Сибири и пробудили желание писать.
Бывало, на приисках, за сотни километров от железной дороги, когда бураны, вьюги и снежные обвалы обрывали связь с внешним миром — ее поддерживало только радио. Возможно, поэтому она и стала посылать свои первые рассказы на радио.
С 1942 года по 1954 год будущая писательница работала в газетах разных городов. Но корреспонденции, статьи и очерки не могли передать всех ее мыслей, чувств и впечатлений от жизни. И она становится профессиональным литератором. Ее принимают в члены Союза писателей. В Москве и Новосибирске выходят ее книги: «На берегу Черемушки», «Бабье лето», сборник рассказов «Синяя птица», романы «По ту сторону рва» и «Жизнь Нины Камышиной». Эти романы получили наиболее горячий отклик читателей. Ведь в них вошло многое из жизни самого автора, и поэтому вполне можно сказать, что они выстраданы им.
В книге «Жизнь Нины Камышиной» оживают перед нами черты трудного времени — первые годы после гражданской войны. Автор прослеживает становление характера юной Нины Камышиной, вышедшей из русской интеллигентной семьи, далекой от политики и от всего, что происходило в стране. Но любовь к родине, душевная чистота и сила приводят ее к делам большевиков, к служению народу.
Если этот роман — написанный строго и просто — повествует нам о далеких годах, то роман «По ту сторону рва» весь согрет дыханием современности, жгучими проблемами наших дней.
Рассказывая о благородном труде врачей и о драматических судьбах больных, Е. Коронатова страстно выступает против равнодушия, ремесленничества, за чуткость в отношениях друг к другу, за творчество в работе медиков. В этом романе она предстает перед читателями не только как ярко одаренный повествователь, но и как непримиримый боен с горячим сердцем.
И. ЛАВРОВ
По ту сторону рва
Часть первая
Удивительно: прежде Ася не замечала стремительного бега времени. Мчались часы, дни, месяцы. Болезнь оборвала этот бег. Теперь и спешить некуда. Никто тебя не ждет. Ни муж, ни друзья, ни ученики. Можно часами лежать, ничего не делая. Решительно ничего. И никому не нужны твои руки, твои слова, твои мысли.
Никому!
Ты — больная.
Твой день начинается с градусника. Просыпаешься и знаешь — все будет, как вчера: уколы, завтрак, врачебный обход, раздача лекарств, обед, сон, потом ужин и снова сон. Вернее, бессонная ночь. И завтра так же, и послезавтра.
И еще, и еще…
И весь день одни и те же разговоры. О лекарствах, кавернах, температуре, мокроте, операциях.
У больных серые лица. Кажется даже, что они все на одно лицо. Некрасивые в своих грубых ночных сорочках и в застиранных, делающих фигуру бесформенной, халатах.
Здесь кашляют, стонут, жалуются и плачут. Часто плачут. По всякому поводу: писем долго нет, анализы плохие, кому-то отложили операцию. Одна заплакала, и словно по всем остальным пробежал электрический ток — и у них слезы на глазах.
По пустякам ссорились и потом плакали.
Ася не вмешивалась в разговоры. Такая слабость — трудно слово вымолвить. Лежала, прикрыв глаза, притворяясь, что дремлет.
Спать не могла, даже ночью. Боялась захлебнуться кровью.
Шесть ночей без сна вмещали год. Не год, а все двадцать четыре прожитых. И странно: ей виделись сны, несмотря на то, что она отчетливо различала переплеты оконных рам и тусклый отблеск фонаря на никелированной спинке кровати. А может быть, это были не сны, а смутные видения, обрывки воспоминаний. То ей чудилось: она — маленькая, беспомощная, насмерть испуганная девочка — лежит в холодной постели рядом с застывшим трупом матери. Ленинград… Блокада. Это было в раннем детстве, которое она всю жизнь тщетно старалась забыть. То мерещилось: нет палаты и больных, она в комнате студенческого общежития, их «педреспублики», а рядом — кровать Томки. Можно разбудить Томку и рассказать ей обо всем, что сшибло ее, Асю, с ног в один мартовский день.
В этот день женщина в белом халате равнодушным голосом сказала ей: «У вас в левом легком две каверночки».
Врач несколько раз повторила: «Одевайтесь», пока до нее дошел смысл слов.
— Вы блузку надели наизнанку, — шепнула ей медсестра.
Потом долгий, таивший что-то недосказанное, разговор с врачом.
На улице Ася сказала себе: «Чур, без паники!» Но паники и не было. Остановившись на перекрестке, она прочитала от первой до последней строки театральную афишу. Потом перебралась через поток машин на другую сторону улицы. Глубоко засунув руки в широкие рукава шубки, плотно сжав пальцами локти и чуть приподняв плечи, она медленно шла вдоль длинного забора, вглядываясь в лица прохожих, не видя их и слегка удивляясь собственному спокойствию.
Ее вынесло на центральный проспект. Увидев в витрине красные бусы (столько искала именно такие!), она вошла в магазин и купила их. Через неделю, обнаружив в сумочке бусы, недоумевала: «Откуда они?»
В те дни ее сознание было подчинено одному — скрыть все от мужа и свекрови. Сказать — значит сорвать у мужа премьеру. Гамлет! Какой артист не мечтает об этой роли.
И она молчала.
Когда однажды Агния Борисовна, участливо поглядывая на нее, сказала: «Не нравится мне, Асенька, твой кашель», — она сослалась на затянувшийся грипп. Чтобы не пугать свекровь, пробиралась в ванную и, открыв краны, «кашляла под аккомпанемент журчащих струй» — так она писала Томке в своих неотправленных письмах. (Ведь только дай знать этой «донкихотице» — она или забросает телеграммами, или, чего доброго, сама примчится).
Пугало, — а вдруг позвонят из диспансера и спросят, почему это она до сих пор не легла в больницу.
Ася вздрагивала от каждого звонка. Но из диспансера не звонили и не приходили.
Каждое утро она просыпалась с мыслью: «Только бы не сорваться. Только бы дотянуть до премьеры. Юрка ничего не должен знать». И все же раз чуть не сорвалась. Однажды, поздно вечером, читая Асе монолог «Быть или не быть»… муж внезапно резко оборвал себя и возмущенно крикнул: «Да ты не слушаешь!» Она не могла сдержать слез. Муж решил, что обидел: «Прости, сдали нервы». Спасало, что в доме все крутилось вокруг «датского принца», так было заведено свекровью. В самый канун премьеры подскочила температура. Агния Борисовна растревожилась. «Вот сыграет Юрочка Гамлета — я сама займусь твоим здоровьем. Покажу тебя Василию Сергеевичу. Он живо поднимет тебя на ноги».
Теперь, вспоминая по ночам эти злополучные дни, она не могла восстановить в памяти одного — самого главного — премьеры. Уму непостижимо, как она с высокой температурой могла высидеть до конца спектакля, как могла кому-то улыбаться и пожимать руки?!
Снова мерцал туманный фонарь… Белели кровати… Нет Томки, и некому рассказать о том, что случилось после премьеры.
А случилось вот что.
Дома, не раздеваясь, она прошла в комнату и прямо в шубке легла на тахту. Юрий встревожился.
— Мама, посмотри, ей же плохо! — крикнул он.
Асю уложили в постель. Она дрожала под двумя одеялами. Грелки не смогли унять этой лихорадочной дрожи.
Агния Борисовна заставила ее выпить горячего молока. Ася глотала молоко, зубы стучали о край чашки.
— Я испортила… твой праздник… так было хорошо…
— Успокойся, Юрочка, я теперь сама займусь Асиным здоровьем, можешь на меня положиться.
Ася с благодарностью взглянула на свекровь. Она сидела в кресле, в своей излюбленной позе, положив ногу на ногу, покачивая туфелькой, державшейся на пальцах, все еще красивая и статная для своих пятидесяти.
Все произошло внезапно. Ася кашлянула, и струя крови вырвалась у нее из горла. Алая струя заливала белую сорочку, одеяло. Трясущимися руками она комкала полотенце, прикладывая его к губам. Полотенце порозовело.
Она увидела отчаянное лицо мужа и ужас в глазах свекрови…
«Я умираю…»
Юрий куда-то убежал. Вернулся через несколько минут вместе с незнакомой девушкой. Ася заметила: волосы цвета бронзы.
— Вы не волнуйтесь, — сказала девушка, наклоняясь над Асей, — сейчас все пройдет, — и уже другим голосом, повелительным, Юрию:
— Стакан воды и соли. Ну, что вы, не понимаете?! Обыкновенной поваренной соли. Да поскорее! А вы — дайте полотенца. Нужно наложить жгут.
И опять ласково Асе:
— Успокойтесь, обыкновенное кровохарканье. Ничего страшного, — говоря это, она приподняла и посадила Асю, подтолкнув под спину подушки, мимоходом погладив ее по голове.
Агния Борисовна суетливо, натыкаясь на мебель, бросилась к шифоньеру шепча: «Боже мой, боже мой, какой ужас». Подавая девушке полотенце, шепотом спросила:
— Скажите, она… она… умирает?
Обостренный слух Аси уловил слова свекрови, и снова ее охватил страх. Всю ее пронзило такое отчаяние, что на мгновенье остановилось сердце. «Я умираю». И снова из горла хлынула кровь.
— Никто еще от этого не умирал. Чем ерунду-то болтать, лучше бы вызвали скорую помощь.
Свекровь покорно вышла.
Взяв у Юрия стакан воды, девушка положила в него соль и, размешав, сказала:
— Надо выпить. Вообще-то противно. Но соль останавливает кровохарканье.
— Вы врач? — спросила Ася шепотом, громко она боялась говорить.
Девушка кивнула. Быстро набросав несколько слов, девушка подала бумагу Юрию. Он прочел и отвернулся. Плечи его вздрагивали.
По серому лицу Аси поползли слезы. Она попыталась что-то сказать — и не смогла.
Рыжеволосая врачиха обернулась к Юрию:
— Слушайте, вы! Перестаньте! Вы же мужчина! Как не стыдно! Вызовете вы, наконец, скорую помощь?!
Юрий поднялся и торопливо, отворачивая лицо, вышел.
Все смешалось: куда-то звонили, кого-то ждали. Ася видела перепутанное лицо свекрови и несчастные глаза мужа. Только молоденькая врачиха была невозмутима. Вскипятив шприц, она сделала Асе укол, ввела камфору.
Приехал врач скорой помощи — высокая, худая женщина с громким, пронзительным голосом. Асе дали кислород. Кровохарканье остановилось.
Врач с недовольной миной долго выслушивала Асю.
— В каком диспансере больная состоит на учете? — спросила она.
Юрий растерянно пожал плечами.
— О, боже! — вздохнула Агния Борисовна.
Своим громким, пронзительным голосом врач сказала:
— Немедленно продезинфицировать квартиру. Все члены семьи больной обязаны провериться в диспансере. Был контакт.
«Инфекция, провериться… Контакт… Что же это такое? — подумала Ася. — Ах, да, я бациллоноситель. Теперь он все знает. Ничего не надо скрывать, не надо объяснять…»
— Юра, Юрочка…
Он услышал и наклонился над ней.
— Асенька, моя миленькая, — он громко глотнул воздух.
Врач выглянула в переднюю и скомандовала:
— Принесите носилки.
Ее увезли в больницу.
…Кровохарканье остановили на шестой день, сделав переливание крови.
Сделала его врач Анна Георгиевна, женщина лет сорока.
Из разговоров больных, да и по собственным первым ощущениям, Ася почувствовала, как много значит в этих стенах врач. От него зависит избавление от физических страданий: от кашля, кажется, рвущего на куски все у тебя внутри, от липкого, изнурительного пота, от которого тело становится вялым и непослушным. Анна Георгиевна не походила на врача из диспансера, равнодушно сообщившего о «двух каверночках», и на врача с пронзительным голосом из «скорой помощи».
Появляясь в палате, она как бы вносила с собой в эти унылые стены кусочек той, настоящей жизни. Всем своим видом: ярко-голубыми, широко поставленными глазами, свежей кожей, улыбкой, — она словно утверждала, что есть на свете здоровые и веселые люди. По тому, как прояснялись лица больных и в палате возникало легкое оживление при появлении Анны Георгиевны, Ася понимала — и другие испытывали то же, что и она.
Поздно вечером Анна Георгиевна зашла в палату и, взяв Асину руку в свою, посчитала пульс.
— Непременно нужно уснуть. Сестричка вам даст таблетку.
— А не повторится? После переливания не бывает?
— Нет. Теперь ничего не повторится. Все в порядке. Звонил муж. Я ему сказала, что вам лучше. Просил вас не волноваться. Приходили из школы. Такая маленькая женщина. Фамилия…
— Панкратова? Александра Ивановна!
— Да, да. Сейчас в городе грипп. Думаю, что через неделю карантин снимут и вам разрешат свидание. Ну, спокойной ночи. — Анна Георгиевна улыбнулась и, погладив Асю по щеке, попросила: — Вы уж мне помогайте — волноваться вам не надо.
В мягкой улыбке голубоглазой женщины Асе почудилось очень давнее, милое, как сон в далеком детстве.
Когда врач вышла, чей-то голос сказал:
— Это, я понимаю, доктор! Не то, что другие. Знают себе одно: дышите — не дышите.
«Если что случится… так она ведь здесь. Но она же сказала — больше не будет» — это было последнее, о чем подумала Ася засыпая.
И удивилась, открыв глаза только утром. Над ней стояла палатная сестра Варенька.
— Ну, как? — спросила она, с улыбкой глядя на Асю. Когда Варенька улыбалась, ее и без того немного раскосые карие глаза превращались в узенькие щелочки, а чуть вздернутый нос забавно морщился.
— Все в порядке, — сказала Ася, не замечая, что повторила слова Анны Георгиевны, и радуясь, что все прекратилось, и в то же время, еще не решаясь окончательно поверить в избавление от самого страшного.
Варенька, сунув ей под мышку градусник, вышла. Ася вытащила из сумочки зеркальце. Тоненькие морщинки у рта, серая кожа. Губы запеклись. Под глазами синяки…
Ася поспешно спрятала зеркало в сумочку.
— Ничего, были бы кости, а мясо будет, — проговорила женщина, койка которой стояла рядом с Асиной. — Меня сюда привезли в чем душа держалась. Сорок восемь кило. Бараний вес. А сейчас без малого шестьдесят семь. Каверна-то у меня была с детскую головку.
Ася недоверчиво взглянула на женщину. У нее желтое, одутловатое лицо, под глазами гармошка из морщин. Из-под белой косынки свисает полуседая прядь. В палате ее называют тетей Нюрой.
— Я же тут пятнадцатый месяц. Сколько раз выписывать собирались. А куда я? Спасибо Анне Георгиевне, это она за меня хлопочет. Дай бог ей здоровья.
«Неужели пятнадцатый? — снова удивилась Ася. — А если мне столько лежать? Ни за что!»
— А как же! Хоть кого спросите. Я же хроник! — в ее тоне прозвучала гордость.
«Ну и ну! — подумала Ася. — Как же можно этим хвастаться! Вот бедняга!»
Тетя Нюра принялась было рассказывать про свою болезнь, но ее перебила круглолицая молодая женщина.
— А ну, товарищи хроники, прибирайте в тумбочках. Сегодня же профессорский обход. Старшая с нас три шкуры спустит. Тетя Нюра, у вас, поди, пятнадцатый месяц простокваша киснет?
— Ты уж, Зойка, скажешь, — обиделась та, — вчера еще доели. — Тетя Нюра явно не понимала шуток. Наклонившись к Асе, она зашептала:
— У Зойки этих кавернов три было. Пол-легкого вырезали. Оздоровела вчистую. Скоро выпишут.
Ася с интересом разглядывала Зойку. Ее белесые брови и ресницы, светлые глаза, поблескивающие как стеклышки, нос пуговкой, сдавленный выпуклыми, крепкими щеками. «На больную она не похожа», — решила про себя Ася.
— Чего ей, — продолжала тетя Нюра, — детей у нее нет. Муж самостоятельный. Письма чуть ли не каждый день получает. Деньги посылает. Сам приезжал. Да и характер у нее легкий. Ей профессор про операцию сказал, а она возьми, да и ляпни: «За недорезанных больше дают». Конешным делом, кому охота болеть. Но ежели дети… — тетя Нюра не договорила. Вздохнув, опустила голову.
— У вас дети?
— Четверо. Кабы не они… Муж запрошлый год в аварию попал, ну и насмерть. Одна с детьми осталась. Ну, и с того заболела.
«Ей хуже, гораздо хуже, чем мне», — мелькнуло вдруг в голове Аси.
— А ребята с кем? — спросила она.
— В детдом устроили. Дай бог здоровья нашему председателю. Старшей двенадцать, а малые по четвертому годочку. Они у меня близнята. Вы не глядите, что я старая. Мне с Октябрьской тридцать седьмой пошел. Ой, чтой-то я заговорилась. В тумбочке надо прибрать. Все профессором пугают, а он не то что в тумбочки, а и на больных-то не глядит.
Зойка вошла в роль: она подходила к кроватям, заглядывала под них, совала свой нос-пуговку в тумбочки и, кому-то подражая, строго бросала: «Полнейшая антисанитария», «Не тумбочка, а кондитерский склад», «Вы кого лечите фтивазидом — себя или тумбочку?»
Ася с любопытством оглядела палату. В противоположном углу лежит худая женщина. Просто поразительно, до чего можно похудеть! Она подолгу изнурительно кашляет, прижимая к груди руки, а из карих, выплаканных до желтизны, глаз текут слезы. Ее, единственную в палате, называют и по отчеству — Пелагея Тихоновна. Говорит она хриплым голосом, с придыханием, и Асе кажется: для нее огромных усилий стоит выговаривать каждое слово.
Больше всех в палате суетилась небольшого росточка женщина. Когда она смеется, у нее на лбу прыгают кудряшки, а на щеках появляются ямочки. Сестры, няни и больные зовут ее Шурочкой.
— Рита, ты бы прибрала в своей тумбочке, — сказала Шурочка высокой, худенькой и очень бледной женщине.
— А мне и прибирать нечего, — отозвалась Рита и вышла из палаты.
Зойка приложила указательный палец к виску и выразительно покрутила им:
— Понимать надо, Шурочка!
Шурочка обиженно заморгала.
— Я ее, кажется, ничем не обидела.
— Кажется, да не мажется. Чего у нее в тумбочке-то? Ложка сахару. Передачу-то ей не носят. Соображать надо.
— Девочки, а почему ей, правда, передачу не носят? Она же в пригороде живет, — сказала Шурочка.
Ася вспомнила: Рита часами молча лежит, уставившись печальными светлыми глазами в одну точку. Она часто пишет письма. Кому? И, неожиданно для себя, с теми интонациями, когда она хотела в чем-то убедить своих учеников, Ася сказала:
— Спрашивать ее об этом нельзя, а вообще-то узнать надо.
Все оглянулись и посмотрели на Асю.
— Вам получше? — спросила Зойка.
— Получше, — сказала Ася.
— Плюйте через левое плечо, — торопливо зашептала тетя Нюра.
— По-вашему, меня выпишут? — этот вопрос задала большеглазая девушка, походившая на мальчика-подростка. Узкоплечая, коротко стриженная, она стояла посредине палаты, широко расставив ноги, заложив руки за спину.
Зойка обняла ее за плечи.
— Что ты, Светка, психуешь?
Внезапно Ася услышала за стеной мужские голоса.
— Кто это там? — спросила она тетю Нюру и удивилась, узнав, что за стеной мужская палата. Такая там тишина все время стояла. Оказывается, разделяет палаты не капитальная стена.
— Да они, господи прости, ироды, что ли. Станут они разве шуметь, когда за стеной человек… — тетя Нюра не договорила. «Помирает» — добавила про себя Ася.
— Идут! — объявила Шурочка.
— Сейчас начнется: дысите, не дысите, покасляйте, — передразнила Зойка.
Даже на лице Риты мелькнула слабая улыбка.
Показались белые халаты.
Сколько их? Целая свита. Зачем так много?!
Тетя Нюра, видимо, считавшая своим долгом просвещать Асю, прошептала:
— Вон тот худощавый — хирург! А толстый, что наперед всех, — профессор.
Ася об этом и сама догадалась. Профессор — грузный мужчина лет под шестьдесят. Во всю голову лысина, в венчике чуть вьющихся волос. Тяжелый подбородок лежит на белоснежном, туго накрахмаленном воротничке.
Профессор долго ее выслушивал и выстукивал.
— Дышите. Не дышите. Покашляйте. Одышка есть? — у профессора получалось «одыска».
Ася в замешательстве пробормотала:
— Не знаю.
— Готовьте на ту субботу для разбора, — бросил профессор.
Ася внезапно почувствовала, что вот-вот заплачет. Анна Георгиевна улыбнулась своей мягкой улыбкой и незаметно погладила Асю по плечу.
У койки тети Нюры профессор коротко бросил:
— Выписать, — и пошел дальше.
— Ну, как самочувствие? — спросил он у Зойки, и на его толстом, неподвижном лице появилось подобие улыбки.
— Лучше всех!
— Так, говорите, за недорезанных больше дают?
— А как же, — теперь я уже меченая.
— Зато вы здоровы. Мы сделали все, что могли. Теперь уже от вас зависит к нам не попадать.
— А мне это без надобности.
— Слышите? — обратился профессор к врачам, разводя короткими толстыми ручками и показывая вставную челюсть. — Ей это без надобности.
И сразу все лица расцвели улыбками.
«Какие же они подхалимы, — подумала Ася, — профессор разрешил им улыбаться».
Ася еще не могла знать, как дорог врачу, даже тому, у кого успело очерстветь сердце, — больной, отвоеванный у смерти.
Как только врачи вышли, тетя Нюра плачущим голосом сказала:
— Выпишут. Куда я? Видать, девоньки, лечить меня без пользы.
— Гады! — хриплым голосом проговорила Пелагея Тихоновна и сразу же закашлялась.
— Может, еще оставят, — принялась утешать Шурочка. — Надо Эллу Григорьевну попросить.
— Нимало Элла Григорьевна посочувствует. Таня через нее напереживалась, упаси бог. Ты же тогда с нами лежала, когда она Тане высказала: поезжай, дескать, домой — все равно твои каверны не залатаешь.
— Не может быть, — вырвалось у Аси. — Врач так сказала?!
— Не так, — возразила Шурочка. — Она сказала: поезжай домой, все равно твои каверны в больнице не залечишь.
— Ее выписали? — спросила Рита.
— Тут одна женщина с нами лежала. Партейная. Она, как выписалась, все ходила Таню проведывала. Таня-то одна была, как в поле былинка. Никого своих. Ну, вот. Таня-то возьми да Тарасовне обскажи, как все было. Ну, а Тарасовна, душевная такая женщина, до главного врача дошла, чтобы, значит, не выписывали. К другому доктору перевели Таню. Да что уж. Слова Эллы нашу девоньку, как гвоздями к гробовой крышке, прибили, — тетя Нюра сняла косынку с головы и вытерла глаза.
Тотчас же хорошенькие глазки Шурочки наполнились слезами. Глубоко вздохнула Рита.
На мгновение стало тихо и зябко, будто открылась дверь в темный подвал и из этой двери потянуло холодом и затхлой сыростью.
— А Таня? — уже догадываясь, что услышит, спросила Ася.
— Померла Танечка. А какая девушка была, ягненок. Вот и меня выписывают… Стало быть, я совсем никудышная.
— А если попросить Анну Георгиевну, — полувопросительно произнесла Ася.
— Анна Георгиевна временно ведет нашу палату. Наш врач Элла Григорьевна, — пояснила Шурочка. — В командировке она сейчас.
— Это вам пофартило, — сказала Зойка, обращаясь к Асе, — Элла «тяжелых» не уважает. Чуть чего — и ваших нет.
— То есть, как это ваших нет? — Ася с недоверием взглянула на Зойку.
— А так… Правда, что ваш муж артист?
— Правда, — улыбнулась Ася.
— Вы и сами на киноартистку смахиваете, — сказала Зойка, разглядывая Асю.
— Верно, верно, — подтвердила Шурочка.
— Особенно сейчас, — пробормотала Ася. — Все же надо что-то сделать, чтобы тетю Нюру не выписывали.
— Айдате к Люде, она все ходы-выходы знает, — Зойка поднялась.
Ася закрыла глаза. Кровать начало медленно-медленно покачивать…
Разбудил ее чей-то знакомый голос. На койке тети Нюры сидела та самая молоденькая врач с бронзовыми волосами, которую Юрий позвал в злополучный день премьеры. На ней такой же фланелевый халат, как на всех больных, а из-под воротника торчат грубые завязки ночной рубашки. На ногах больничные тапочки. Казалось, даже ее яркие волосы потускнели.
Девушка улыбнулась Асе.
— Вы сегодня поступили?
— Нет, меня отпускали сдавать экзамены, — девушка подсела к Асе. — Не сердитесь. Я тогда соврала. Боялась — узнаете, что я не врач, — доверять не будете. Да и, сами понимаете, некогда было объяснять. Ну, в общем, я только в этом году кончаю институт. Я тоже больная. Меня зовут Люда.
— Учитесь и здесь?
— Вот лечусь и готовлюсь к экзаменам.
— Но как вас муж нашел?
— Очень просто. Мы ваши новые соседи. Я из института забежала домой.
Им не дали договорить. Зойка и Шурочка отозвали Люду и стали что-то с таинственным видом нашептывать ей.
Асе хотелось еще поговорить с Людой, и она терпеливо ждала, когда же та освободится. Попыталась подсчитать, через сколько часов увидит мужа, и не смогла, сбилась и заснула.
Странная сонливость с каждым днем пребывания в больнице, все возрастая, пугала ее. Пугала, как все то новое, что появляется с болезнью. Пробовала читать, но через минуту в голове появлялся туман, мозг цепенел, глазами она читала, но смысл прочитанного до сознания не доходил. Еще держала книгу в руках, но уже мерещились смутные видения, пробиваясь сквозь них, мелькала мысль: «Я, кажется, засыпаю», — она вздрагивала, открывая глаза. Однако не только мозг, но и руки, и плечи — все тело охватывало оцепенение. Книга выскальзывала из рук, не хватало сил до нее дотянуться. И она засыпала уже окончательно.
Асе снился один и тот же сон: женщина в белом халате пронзительным голосом бросает ей в лицо: «Нельзя. Вы бациллоноситель», — и рывком закрывает перед самым ее носом школьную дверь.
Неужели двери школы навсегда для нее захлопнулись?
Навсегда!
Уйти из школы, когда она сама чему-то научилась, когда поняла, как все сложно.
Теперь просто смешно вспомнить, какими были они с Томкой самоуверенными, даже на четвертом курсе, когда уже немножко понюхали пороху. Были убеждены: надо только хорошо знать литературу, всегда поступать справедливо и, пожалуйста, — мальчики и девочки завоеваны, бери их голыми руками. Как бы не так!
Асе достался седьмой «А», один из самых благополучных классов в школе. Ее поначалу это даже несколько огорчило, — негде применить силы, она рвалась к трудностям.
Не прошло и двух недель, как ее благополучный класс сорвал урок немецкого языка. Ребята изводили Амалию Карловну — существо доброе и необычайно кроткое — мычанием, а под конец выпустили на стол мышонка.
В учительской Амалии Карловне стало дурно.
Когда Ася вошла в класс, у нее от волнения дрожали руки. Сбившись в кучу у передних парт, ребята с возбужденными лицами кричали, не слушая друг друга. При ее появлении они бросились на свои места. Кто-то кинулся к доске, схватил тряпку. Оттого, что сорок пар глаз со странным выражением смотрели на доску, Ася повернула голову и увидела довольно удачную карикатуру на Амалию Карловну и подпись: «Немец, перец, колбаса, съел мышонка без хвоста».
— Кто это сделал?
Класс молчал.
— Видимо, храбрости у вас хватает лишь на то, чтобы оскорбить старого человека. Находите, что лучше трусливо молчать?
Класс молчал.
— Тот, кто позволил себе эту гнусность, — Ася показала на доску, — должен извиниться перед Амалией Карловной.
С задней парты поднялся Масленников, долговязый подросток с розовым, хорошеньким личиком и карими наглыми глазами.
— Это не мы писали. Так и было. Кто-то с первой смены подбросил. Никакой гнусности мы ей не делали, и нечего нам извиняться.
Не столько его развязный тон, сколько «ей», сказанное о старой учительнице, — хлестнуло Асю.
Что-то неуловимое, таившееся в опущенных взорах девочек, в неестественно напряженных улыбках мальчишек, в их ускользающих взглядах и в той многозначительно-настороженной тишине, которая наступила после слов Масленникова, — все это убедило Асю: написали на доске они, возможно, Масленников.
Дрожащими руками она зачем-то открыла портфель, попыталась впихнуть в него журнал и не смогла.
— Вот что… если вы, — медленно проговорила она, с ужасом ощущая, что у нее не только щеки, но и уши горят. — Если вы не попросите извинения у Амалии Карловны, то я отказываюсь руководить вашим классом и отказываюсь от занятий с вами.
Схватив портфель, Ася направилась к двери, в глубине души надеясь — ребята не захотят, чтобы она ушла от них.
Ни единый звук не нарушил тишины за спиной.
Возвращалась из школы в этот день Ася вместе с заведующей учебной частью Александрой Ивановной Панкратовой.
Сентябрьский вечер был тих и не походил на осенний. Они шли не спеша.
Александра Ивановна, медленно шагая, склонив большую голову, сбоку поглядывала на свою спутницу, и Ася с тоской ожидала: сейчас начнет отчитывать. Интересно, как бы сама поступила на ее, Асином, месте? Но Панкратова помалкивала, и Ася не вытерпела, с раздражением сказала:
— Таких Масленниковых надо гнать из школы!
— Вы это серьезно?
— Вполне. Потеряем одного и спасем класс.
— А если другой Масленников появится, что тогда? — и, не дожидаясь ответа, Александра Ивановна спросила: — Вы не торопитесь домой? Давайте посидим.
Ася не торопилась. Муж в театре, вернется, конечно, поздно.
Они свернули в сквер. Здесь пахло прелыми листьями и увядающими травами. Подсвеченные электрическими фонарями, листья клена казались медными. За желтым кругом фонаря дремали черные деревья, а за сквером позванивала трамваями улица. Они сели на скамейку.
— Класс, класс, — все с тем же тихим раздумьем повторила Александра Ивановна. — А, собственно, что такое класс? Это сорок душ, сорок разных характеров. А за этими сорока душами — сорок разных семей, и каждая семья со своим укладом, и каждый уклад посеял свое, доброе или худое, в душе ребенка. — Александра Ивановна сбоку глянула на Асю. — Вы, вероятно, слушаете и думаете, что это она мне прописные истины говорит. Я угадала?
Ася улыбнулась.
— Скажите, Ася Владимировна, почему вы пошли в пединститут?
— Только не потому, что меньше был конкурс. Мои родители были преподаватели. Я еще в детском доме играла в учительницу.
— Хотите, я расскажу вам историю, которая на многое раскрыла мне глаза? И когда? После того, как я пятнадцать лет проработала в школе. Хотите?
— Да, да, пожалуйста.
— Был у нас в школе один мальчишка, Митя Костылев. Сидел в шестом классе второй год. Он не был хулиганом, но не проходило дня, чтобы на него не жаловались преподаватели: то он ручку забыл, то дневник, то у него в парте что-то пищало. Словом, вечная с ним была морока.
Однажды из его парты вылетел вороненок со сломанным крылом. Вороненок бился о стены, прыгал по партам. Представляете, в какой восторг пришли мальчишки? Урок был, конечно, сорван. Митю мы, как это у нас водится, — наказали. И никому невдомек было, что мальчишка совершил акт милосердия, подобрав по дороге в школу искалеченного птенца.
Учился Митя очень неровно. Станут ему выговаривать, он молчит, словно это его не касается, или, что еще хуже, — смотрит в глаза учителю и улыбается. Многих эта улыбка выводила из равновесия; они утверждали, что Костылеву доставляет удовольствие изводить их. Сначала я этому не верила, пока случайно не услышала, как Митя сказал своему товарищу: «Ну и орала на меня сегодня истеричка (это ребята так прозвали преподавательницу истории), чуть не лопнула. Завел ее, как надо, — с пол-оборота». Я еще тогда подумала: «И откуда у мальчишки столько злобы к учительнице?»
Как-то у дверей учительской я встретила мать Костылева. Я знала, что ее вызвали из-за Митиной драки. Он побил Боброва, тихого мальчугана. Знаете, из категории пай-мальчиков. Ребята выстроились около учительской, и вслед Митиной матери я услышала следующие реплики: «А Костылик не виноват», «Бобер сам заедался», «Ему и не так надо было всыпать». Вот тогда-то я и подумала: «Костылева ребята любят, раз заступаются. Он никогда не бывает один, всегда вокруг него ребята крутятся. Стало быть, есть в нем что-то хорошее!» Подумала я, понимаете, только подумала! Но я не пошла к классному руководителю, не сказала о том, что услышала. Я свернула с Митиной дорожки так же, как в тот раз, когда услышала, что он с пол-оборота заводит «истеричку». А почему? Да потому, что он не из моего класса! Ох, уж это мне деление на «своих» и «чужих».
Да, но я отвлеклась. Слушайте дальше. Мать Костылева работала парторгом на ткацкой фабрике. Ах, если бы вы видели ее лицо! Очень милое, даже красивое, но на нем неизменное выражение тревоги, и я бы даже сказала — страха. Да, да, именно со страхом эта усталая женщина ждала: вот сейчас ей будут выговаривать, какой у нее плохой, ленивый, злой и своевольный сын. И все потому, что она, мать, мало уделяет ему внимания.
И непременно кто-нибудь присовокупит — вы партийный работник, воспитываете людей, а своего сына не умеете воспитывать.
И наши преподаватели действительно все это выговаривали Костылевой. Классный руководитель, я не буду ее называть, это не имеет значения, сказала, обращаясь к преподавательнице физики: «Наталья Ивановна, а ваши претензии?». И вот Наталья Ивановна своим грубоватым голосом сердито проговорила:
— Почему претензии? Костылев любознательный парнишка. У него живой ум. Он мой лаборант, моя правая рука, ни один опыт без его помощи не обходится. Ему просто некогда баловаться. А потом, если ребята у меня на уроке балуются, я считаю — сама виновата — плохо подготовила урок.
Не знаю, какие мысли у других вызвали слова Натальи Ивановны, но, признаюсь, я почувствовала себя весьма неловко.
Когда Костылева ушла, Наталья Ивановна сказала: «Митя хороший парнишка. Сердце у него хорошее. Добрый. Честный. Люблю его. Но вот беда: за хорошее сердце мы в журналах отметки не выставляем, поэтому-то и не заметили. А в том, что Митя не любит школу, мы сами виноваты. Но мы в этом не любим признаваться».
Митя, провалив в седьмом классе русский язык, бросил школу. И не встреться я с Костылевой на сессии районного Совета, я бы забыла о Мите, как мы нередко забываем о тех, кто «отсеивается».
Я спросила Костылеву о сыне. Митя, оказывается, устроился учеником на завод. Бывший «лаборант» решил стать слесарем-электриком. Семена Натальи Ивановны дали добрые всходы.
Мы разговорились с Костылевой, и я позвала ее к себе. И вот тут-то я и обнаружила ключ к этой «обыкновенной истории отсеявшегося второгодника». Тут-то я и вспомнила слова Натальи Ивановны и поняла, какую ужасную «цепную реакцию» может вызвать грубая педагогическая ошибка.
…Первого сентября мальчишка разбудил мать чуть свет. Этакий голенастый петушок, посиневший от холода. Он стоял у изголовья ее постели и, чуть не плача, просил встать: «А вдруг в школу опоздаем».
Ну-с, какими дети приходят в первый класс, вы знаете — «новенькими» с головы до пят. Таким же и повела Костылева сына в школу. Почему-то из всех обновок Митя страшно гордился пеналом. Собственно, ясно почему — ведь в пенале лежали карандаши, ручки и великолепные настоящие перья. Костылева рассказала: Митя дважды по дороге залезал в сумку, вытаскивал пенал — проверить, все ли на месте.
Вы, молодые, не очень-то любите высокие слова, но я все же скажу: кроме пенала, мальчишка нес в школу и свое маленькое сердце, открытое для любви, для всего доброго. Сами понимаете: в то время у него и в мыслях не было «заводить с пол-оборота истеричку».
Костылева отвела сына в школу и уехала в отпуск, оставив на попечение бабушки. А знаете, какими словами он встретил мать после месяца разлуки? «Можно мне в школу сегодня не ходить?» Он повторял этот вопрос при каждом удобном случае. Выискивал любой предлог. Ел снег, чтобы заболеть и не пойти в школу.
Что случилось? Отчего Митя с первых же дней невзлюбил учительницу? Костылева не могла этого разгадать.
Понимаете, только уходя в армию, Митя признался матери, из-за чего он возненавидел свою первую учительницу.
На третий день его школьной жизни учительница «в наказание» выбросила его пенал за окно. Весь урок мальчишка проплакал, после звонка побежал за пеналом. Но кто-то уже подобрал его.
Представляете, что творилось в душе этого семилетнего мальчишки?
Митина учительница, видимо, была не только бездарна, но и жестока: желая отучить его писать левой рукой, она высмеивала мальчишку перед классом. А он платил ей тем, что назло учительнице плохо учился, озорничал. Во втором классе его оставили на второй год. Так и пошло…
Александра Ивановна оборвала свой рассказ и, повернув свое большое доброе лицо к Асе, повторила:
— Представьте: мальчик назло учительнице, чтобы ей досадить, — плохо учился. И все началось с безобидной, казалось бы, вещи — пенала. А в результате у мальчишки так осложнилась жизнь. На заводе Мите пришлось трудно: ведь у него не было аттестата за семилетку. Выручили знания, полученные от Натальи Ивановны. Когда же Митя вернулся из армии, ему, уже взрослому парню, пришлось сесть в седьмой класс. Пусть он и наверстал то, чего не мог получить в нашей школе, но ведь всего, что пережил этот мальчишка и что пережила его мать, растившая его без отца, могло и не быть!
Александра Ивановна долго молчала, а потом, взмахнув короткой ручкой, словно пытаясь что-то оттолкнуть, сказала:
— Вы меня простите, Ася Владимировна, но если вы не чувствуете любви к детям — уходите. Уходите, пока не поздно.
…Разговор с Александрой Ивановной в осеннем сквере заставил Асю по-новому взглянуть на Масленникова и… на себя.
В этом году ее неожиданно перевели в другую школу, дали десятый класс. Да она только об этом и мечтала! Но скоро убедилась: борьба за Масленникова была детской игрой по сравнению с тем, что ее встретило в десятом классе.
Только-только у нее пробудилась надежда, что лед тронулся, и вот она в больнице. Неужели же все ее усилия, все поиски пропали даром? Неужели она больше не вернется в школу?!
Не так уж однообразна и бедна событиями больничная жизнь.
Через неделю после профессорского обхода (тоже событие) выписали Свету, девушку, похожую на подростка-мальчишку.
Света переоделась в шерстяное ярко-зеленое платье и сразу из подростка превратилась в хорошенькую девушку. Небрежно набросив на плечи больничный халат, она ходила от койки к койке. Ее целовали, обнимали, шутили сквозь слезы и желали здоровья.
Еще из коридора доносился голос Светы, а няня уже меняла на ее кровати белье.
— Свято место не бывает пусто, — вздохнула тетя Нюра.
— А кто новенькая? Городская или из области? — поинтересовалась Шурочка.
— Наша больная. Обижаться не будете, — отозвалась няня Стеша, высокая дородная женщина, с лицом, иссеченным морщинами.
— Схожу, все узнаю, — Шурочка, торопливо заглянув в зеркальце, попудрила носик. Не совершив этой процедуры, она из палаты не выходила.
Шурочка не успела. Вошла сестра, поддерживая под руку новенькую.
Женщины продолжали заниматься кто чем, притворяясь, что новенькая их не интересует (это считалось хорошим тоном), но исподволь наблюдали за вошедшей.
На новенькой больничный халат, прическа у нее небрежная, и все же: в ее тихом голосе, в том, как она изящным жестом маленькой красивой руки поправила выбившуюся прядь волос и легким кивком головы поблагодарила сестру, заботливо уложившую ее в постель, чувствовалось — это интеллигентный человек.
Варенька подоткнула одеяло, поправила подушку и, сказав «отдыхайте», — вышла, взглядом давая понять, что новенькой требуется покой.
Тетя Нюра, тихонько ахнув, зашептала Асе:
— Батюшки, так это же Екатерина Тарасовна! Эко ее, сердешную, перевернуло.
Екатерина Тарасовна показалась Асе старой и некрасивой. Усталое лицо, бесцветные губы, под глазами морщинки. Только глаза хороши: черные и блестящие. Совсем молодые.
Тетя Нюра подошла к кровати новенькой.
— Здравствуйте, Екатерина Тарасовна! Не признаете? Тетя Нюра. Еще рядом наши коечки были.
Екатерина Тарасовна несколько секунд внимательно всматривалась в лицо тети Нюры, а потом, слабо улыбнувшись, проговорила:
— Сейчас узнала. Здравствуйте, Анна Семеновна.
Ася впервые услышала полное имя тети Нюры.
— Танечка-то наша! Она все вас поминала перед смертью. За день, что ли, просила позвонить вам, узнать, не приехали ли?
— Да, мне передавали.
— Сильно она по вас тосковала. Да, поди, знаете?
Екатерина Тарасовна промолчала.
— Говорили, будто вы тогда в Москве были. А кто вам про нее сказал-то? — допытывалась тетя Нюра.
— Тетя Нюра, вас можно на минуточку? — позвала ее Ася. И когда та подошла, тихонько проговорила: — Не надо ей про Таню.
— Да я ведь так, по простоте, — смешалась тетя Нюра.
В палате наступила тишина.
Ася почувствовала, как ее обволакивает бездумная дремота.
Странный, какой-то хлюпающий кашель заставил ее открыть глаза.
По испуганно-перекошенному лицу тети Нюры Ася догадалась: что-то случилось.
Шурочка металась по палате, зачем-то схватила графин. Вскочила Рита, путаясь в рукавах, принялась натягивать халат. Только увидев залитую кровью подушку и мертвенно-бледное лицо Екатерины Тарасовны, Ася все поняла.
Вошли сразу Анна Георгиевна, Варенька со шприцем в руках и няня Стеша с кислородной подушкой. Белые халаты заслонили Екатерину Тарасовну.
Через полчаса она дремала или делала вид, что дремлет — лежала, откинув голову на высокие подушки.
И снова Асю поразило и тронуло: в соседней мужской палате наступила тишина.
Пришла из своей седьмой палаты Люда и, устроившись у Шурочки на кровати, разложила свои конспекты. Читала и все поглядывала на Екатерину Тарасовну.
Следующий день начался с общего огорчения: вернулась Элла Григорьевна. После завтрака Варенька объявила:
— Обход будет поздно. В два. А вас, Екатерина Тарасовна, сейчас понесут на рентген.
— Как же так, Варенька, — тихо произнесла Екатерина Тарасовна, — ведь Анна Георгиевна запретила мне даже шевелиться.
Варенька пожала плечами и поспешно вышла.
Появились няни с носилками.
Когда Екатерину Тарасовну унесли, Зойка мрачно сказала:
— Ну, теперь эта пойдет свои порядки устанавливать.
Шурочка, попудрив нос, отправилась выяснять, как и что, а вернувшись, сообщила: с Екатериной Тарасовной снова было плохо. Да еще как! Все посбежались! Еле отводились.
Внесли на носилках Екатерину Тарасовну. Ася взглянула на желтый заострившийся профиль, и ей показалось: все кончено. Но нет, слава богу, кажется, дышит, тяжело, хрипло, но дышит…
Варенька, нагнувшись к Екатерине Тарасовне, сказала:
— Сейчас вам сделают переливание. Я скоро приду, а пока с вами побудет няня Стеша.
Чтобы быстрее прошло время, Ася принялась за письмо мужу. Прочитав его, изорвала. Слишком мрачно. Попробовала читать — не получилось. Тогда она положила руки поверх одеяла и стала ждать. И вдруг, каким-то обострившимся за последнее время чутьем, поняла — и другие ждут: и переставшая улыбаться Шурочка, и тетя Нюра, тихая Рита, и всегда такая озорная, а сейчас присмиревшая Зойка, и Пелагея Тихоновна.
Врач — на ее лице была надета марлевая маска — вошла стремительно и остановилась у кровати Екатерины Тарасовны.
— Как вы себя чувствуете?
При звуке ее голоса какая-то тень пробежала по лицу Екатерины Тарасовны. Она пристально взглянула в глаза вошедшей.
— Кто это? — Ася глазами показала на врача.
— Элла… — так же чуть слышно ответила тетя Нюра.
— Перенесите больную в операционную.
— Не могу я… лечь… на носилки.. — с трудом проговорила Екатерина Тарасовна.
Пот крупными каплями выступил у нее на лбу.
— Все могут, а вы не можете?!
— Они не могут, — вмешалась Зойка, — они как лягут, так у них хлынет. Анна Георгиевна не велели их трогать. Велели здесь делать переливание.
Из-под белой шапочки сверкнул рассерженный взгляд.
Внесли носилки. Няни выжидающе поглядывали на врача.
— Я на носилки не могу… Не могу… — голос задыхался.
Наступила острая тишина. Все ждали. Белая маска скрывала лицо врача, только маленькие темные глазки стали еще пронзительнее.
У Екатерины Тарасовны рот судорожно сжат, руки она так стиснула, что концы пальцев побелели.
Асе хотелось что-то сказать — прекратить это безобразие, но все нужные слова куда-то провалились.
Неожиданно заговорила бессловесная Пелагея Тихоновна.
— Это где же видано… — произнесла она своим хриплым голосом. — Чистое наказание!
Шурочка умоляющим тоном попросила:
— Элла Григорьевна, они, правда, не могут.
Как только она произнесла «Элла Григорьевна», Екатерина Тарасовна вздрогнула, она словно чуть-чуть приподнялась.
— Это вы? — проговорила она, не то спрашивая, не то утверждая.
— Ну, вот что: у меня нет времени уговаривать каждого, — Элла Григорьевна уже не могла скрыть раздражения. — Капризы можете устраивать дома. Здесь я вам переливания делать не буду.
— Вам и не придется. Я отказываюсь. Не хочу, что бы вы…
Екатерина Тарасовна взяла с тумбочки книгу. Руки у нее тряслись. Очки она не надела.
Ася почувствовала — еще мгновение, и она закричит: Гадина! Гадина! Гадина! Чтобы удержаться — прижала платок к губам.
Элла Григорьевна, дернув плечом, вышла. За ней, избегая взглядов больных, устремились санитарки. Задержалась няня Стеша. Постояла, покачала головой:
Пропущены страницы 31–32
ное о Екатерине Тарасовне мужу не интересно. Ей не хотелось додумывать — почему же ему не интересно? Подавив вздох, вырвала листок из тетради и заново начала письмо.
«Карантин все еще не сняли, но можно увидеться контрабандой. Так все делают, Приходи завтра — ровно к шести. Ты успеешь до спектакля! Зайдешь с черного хода, а я выйду на лестницу. Не беспокойся: там тепло — не простужусь. Сейчас 12 часов. Стало быть, до нашей встречи осталось 30 часов. Теперь я буду отсчитывать каждый час, а завтра — минуты…»
А вдруг что-нибудь помешает их свиданию? А вдруг… Несколько раз украдкой совала градусник под мышку. Только бы не случилось того, страшного. Нет. Она ни за что не станет волноваться. Ждала ночи. Можно сразу вычеркнуть восемь часов. И никак не могла заснуть, пока не приняла снотворного.
…Утром сестра Варенька, улыбаясь, отчего ее короткий нос забавно морщился, сообщила: их палату будет вести Анна Георгиевна.
— Выходит, Эллу по шапке? — воскликнула Зойка.
Сделав вид, что не слышала Зойкиной реплики, Варенька вышла.
После обеда Ася вытащила записную книжку и зачеркнула еще полторы клеточки. Осталось незачеркнутых три с половиной. Через три с половиной часа она увидит Юрку. Даже в первые дни их встреч она так не томилась, ожидая свидания с ним.
Перед тихим часом обычно проветривали палату. Укутав Екатерину Тарасовну, все вышли в коридор.
Ася словно заново училась ходить. Следует потренироваться, чтобы не испугать мужа.
— Ножками, ножками, детка, — приговаривала Зойка, ведя ее под руку.
«Первый выход в коридор — это тоже, наверное, событие», — подумала Ася.
В коридоре не так уныло, как в палате: на тумбочках цветы, стоит огромный диван под белым чехлом.
Все пятеро из их палаты разместились на диване.
Новые лица. Два парня продефилировали мимо дивана. На минуту исчезли в палате и сразу же появились четверо.
— На вас вылезли посмотреть, — кивнула Шурочка на парней. — Кажется, к кому-то пришли. Няню Стешу вызвали. Пойду, погляжу.
— Ну и зырят! — Зойка даже языком прищелкнула.
Появилась няня Стеша. В одной руке она несла коробку с тортом, в другой — сверток, из которого торчала куриная ножка, и сетку с яблоками.
— Надо же, по скольку носят, — с завистью произнесла тетя Нюра. — Кому же это?
Влетела Шурочка.
— Видали? — спросила она, многозначительно показывая глазами на двери палаты, за которыми скрылась няня. — Приходил к Екатерине Тарасовне этот, в очках. Передачу принес. Вообще-то уже не принимают, а у него взяли.
Тетя Нюра, оглянувшись по сторонам, с таинственным видом зашептала:
— Мне доподлинно известно — не муж он ей. У него есть жена и двое детей. Он и в тот раз, когда она лежала, ходил к ней чуть ли не каждый день. Увидит ее — ручку целует. Сама видела…
— Может, он сродственник какой…
— Чудная ты, Зойка, говорю же — никакой не сродственник.
Ася взглянула на часы. Через пять минут можно еще полклеточки зачеркнуть.
— А кто же тогда он ей приходится? — допытывалась Зойка.
— Говорю: полюбовник.
— Я-то думала, что она самостоятельная женщина, — разочарованно протянула Зойка.
— Послушайте! — возмущенно проговорила Ася. — С какой стати мы обсуждаем взаимоотношения Екатерины Тарасовны с этим человеком? Какое нам, собственно, дело, кем он ей приходится? Это нас не касается! — она сама удивилась своему резкому тону.
— Да я ничего и не говорю, — принялась оправдываться тетя Нюра, — может, он и хороший человек… Я так просто…
— Женщина болеет, а он заботится. Кабы плохой был… — Пелагея Тихоновна оборвала себя на половине фразы и печально принялась разглядывать свои тонкие пальцы с синими ногтями.
Наступила неловкая пауза.
Прошел высокий худощавый мужчина и пристально взглянул на Асю.
— Как глядит! Как глядит-то! — восхитилась Шурочка и зашептала: — Я раз видела, к нему жена приходила. Через платочек разговаривала. Заразиться боится. Ребята говорят — он на операцию не соглашается, а жена…
Шурочку оборвала дежурная сестра Лариса Ананьевна.
— Что это еще такое? Кто вам разрешил нарушать режим? Сейчас же по местам! — скомандовала она.
— Больная, — обратилась к Асе сестра (слово «больная» заставило внутренне сжаться). — Вам разрешили вставать?
— Разрешили, — за Асю ответила Зойка.
Укладываясь в постель, Ася украдкой поглядывала на Екатерину Тарасовну. Ей хотелось поговорить с Екатериной Тарасовной, но в палате торчала сестра.
Ларису Ананьевну больные между собой называли Идолом. Возможно, за каменное, ничего не выражающее лицо, а может, в отместку за мелочную придирчивость: она как бы упивалась своей властью, пусть хоть маленькой, но властью над людьми. Так или иначе, но ненавидели ее дружно. И сейчас, заметив, что женщины ждут ее ухода, Идол не ушла из палаты, а уселась с книгой за стол.
Тетя Нюра, повернувшись к Асе, еле слышно проговорила:
— Когда с Тарасовной плохо было — он по два раза на день приходил в больницу.
— Больная! — последовал резкий окрик. — Вы что? Добиваетесь, чтобы вас выписали?
Тетя Нюра, испуганно заморгав, замолчала.
Ася не выдержала:
— Послушайте, Лариса Ананьевна, разве вы не знаете, что у Анны Семеновны есть имя? И потом… это не честно каждый раз грозить выпиской.
Непроницаемое лицо Идола не дрогнуло.
— Никто не пугает. И вы здесь свои порядки не устанавливайте. Мало ли здесь больных — всех не запомнишь.
Легкий шумок в соседней палате стих. Там явно прислушивались.
— Анна Семеновна здесь почти год: вы могли бы запомнить, если бы захотели. И не надо каждый раз называть нас — «больная». Мы об этом и сами знаем. Зачем же еще раз напоминать! — срывающимся голосом проговорила Ася.
— Согласитесь, Лариса Ананьевна, что это нехорошо, — сдержанно произнесла Екатерина Тарасовна.
— А вы мне мораль не читайте! Может, у себя на работе вы и начальница, а для нас здесь все равны, — окрысилась сестра.
Ася почувствовала, что у нее дрожат руки, и, чтобы никто этого не заметил, засунула их под одеяло.
— Не все. Мы — больные, а вы — сестра. Понимаете? Сестра милосердия. Вы по долгу работы обязаны быть милосердной.
— А вы обязаны подчиняться правилам внутреннего распорядка. В тихий час положено спать. — Идол уставилась в книгу.
Ася лежала и думала: «Зачем здесь Идол, Элла Григорьевна?! Без них тошно. Скорее бы домой. А что, если попросить Юрку взять меня домой?»
В пять нянечка передала ей записку от Юрия. Он страшно опечален, что не мог увидеться перед отъездом. Поезд уходит в 15 часов 20 минут. Но пусть она порадуется. Неожиданные гастроли в Москве. Подробности потом. Он будет писать часто. Она должна думать о здоровье. Только о здоровье.
Ася сунула записку под подушку и легла лицом к стене.
На другой день после обхода сестра Варенька, взяв Асю под руку, повела в кабинет врача.
— Скоро вам разрешат ходить в столовую и кино, — сообщила Варенька.
— Да? — равнодушно отозвалась Ася.
— Присаживайтесь, Ася Владимировна, — Анна Георгиевна приветливым округлым жестом показала рядом с собой. Она сидела за столом, заваленным папками с рентгеновскими снимками.
Асе все больше нравилась Анна Георгиевна. Ей казалось — настоящий врач (теперь про себя она делила врачей на две категории: настоящие и ненастоящие) таким и должен быть. Как много значит внимательный, полный пытливой доброжелательности взгляд! Не может у нее всегда быть хорошее настроение, но в ее тоне и жестах никогда не уловишь и тени раздражительности. Конечно, это от умения владеть собой. (Вот ей, Асе, научиться бы). И разговаривает Анна Георгиевна с каждым больным по-разному: с одним громко шутит, как бы приглашая всех в палате принять участие в веселом разговоре, с другими говорит тихо, доверительно. Рвалась вот так наедине поговорить с Анной Георгиевной, но сейчас, после записки Юрия, просто немыслимо на чем-то сосредоточиться. Он должен был уехать. Но ведь он знает… Нет, чур, себя не жалеть.
— Ася — ваше полное имя? — Повторила свой вопрос Анна Георгиевна.
— Да.
— Ваши родители никогда не болели туберкулезом?
Ася помедлила с ответом.
— Не знаю…
— Они живы?
— Нет.
— Давно умерли?
— В сорок втором.
— На фронте?
— В ленинградскую блокаду.
— Вы ленинградка?
— Была. Стала сибирячкой.
— С кем вы жили после смерти родителей?
— Я воспитывалась в детском доме. Доктор, скажите, — Ася взглянула прямо в широко поставленные голубые глаза. — Скажите, пожалуйста, я… у меня… я могу вылечиться?
Анна Георгиевна не отвела глаз от Асиного, требующего только правды, взгляда.
— Вы, наверное, уже знаете, какой процесс был у Зои Петровой?
— Знаю. И мне тоже будут делать операцию?
— Ну, сейчас еще рано судить. Сначала поисследуем вас. Вы ведь не лечились антибиотиками. А при свежих заболеваниях антибиотики очень помогают.
— Мне долго нужно здесь лежать?
— Самое меньшее четыре месяца.
— Четыре месяца! — ахнула Ася.
— Не меньше. Конечно, к больничной обстановке трудно привыкать…
Ася с внезапно вспыхнувшим ожесточением воскликнула:
— Разве можно привыкнуть к этим стенам? К этим отвратительным запахам?! Я не могу, не могу привыкнуть и не хочу. И потом… Привыкнуть смотреть на чужие страдания, — Ася неожиданно для себя расплакалась. — Я теперь такая рева стала, — проговорила она, безуспешно пытаясь унять дрожь в голосе.
— Ничего. Это временно. Вот подлечимся, и нервы окрепнут.
— Отпустите меня, пожалуйста, домой! Не все ли равно, где глотать таблетки. А уколы может сестра приходить и делать. Не все ли равно, где лежать.
— Нет, не все равно. Как правило, больные дома режима не соблюдают…
— Я стану соблюдать. Моя свекровь умеет за больными ухаживать. Отец моего мужа был врач. Она у него научилась всему. Когда я заболела, она так за мной ухаживала!
Разве ей будет здесь лучше? Разве это покой? Под утро, только уснешь, тебе градусник суют. Конечно, температуру надо измерять, но надо и с больным считаться. И вообще, чуть свет — начинается хождение: няня приходит убирать — топает, стучит дверью. Сначала тебе принесут еду, потом умываться, а то и совсем забудут. А еду, как правило, приносят лежачим после общего обеда.
— Я не о себе, — сказала Ася, — я о Пелагее Тихоновне и Екатерине Тарасовне. А эта сестра — Лариса Ананьевна! Как она обращается с больными! Ее же больные ненавидят. Не-навидят! А Элла Григорьевна! Ну, скажите, может так врач поступать?! Может? Врач сводит счеты с больными! Разве это не возмутительно?
Ася все говорила и говорила, хотя мягкая и незлобивая по натуре, в душе ужасалась: ну, чего же она накинулась на эту хорошую женщину, которая столько для всех добра делает.
— Я понимаю вас, но вы успокойтесь, — произнесла Анна Георгиевна.
«Господи, она еще меня успокаивает», — с раскаянием подумала Ася.
— Я с вами согласна: ужасно, что все это еще живет в наших больницах, — голос Анны Георгиевны стал чуть жестче, голубые глаза из-под широких бровей хмуро глянули мимо Аси. — Спасибо, что все высказали, вот так, прямо. Но в том, что больница не помогает, вы неправы. У нас ведь не одна Зоя Петрова. А Света Туманова, помните девушку, что на днях выписалась? Она практически уже здорова. Вам не следует думать о наших беспорядках. Предоставьте уж это нам. Сейчас у вас одна задача — встать на ноги.
— Доктор, а я когда-нибудь… смогу… снова работать в школе?
— Если вы будете и дальше так себя вести: отказываться от еды, плакать по ночам…
— Откуда вы знаете?
— У меня рентгеновские глаза.
— Но вы ничего не сказали…
— Видите ли… сейчас надо решить первоочередную задачу: встать на ноги. Будете болеть — в школу не вернетесь. Надо лечиться. Надо все этому подчинить. Кстати, не лежите все время без дела. Умеете рукодельничать?
— Да, да, нас в детском доме учили, — по-школьному ответила Ася.
— Что вы больше любите? Вязать? Ну и прекрасно, вяжите себе кофточку. Пойдите завтра в кино. Посмотрите «Карнавальную ночь». Кстати, перед отъездом мне звонил ваш муж. Очень беспокоился о вас, просил сделать все возможное. К его приезду вам надо хорошо выглядеть. Договорились?
— Договорились.
Вернувшись в палату, Ася встретилась глазами с Екатериной Тарасовной и молча улыбнулась ей.
Первого апреля выдался ясный погожий день. За окнами, ударяясь о железный карниз, позванивала капель. Солнечные зайчики, ворвавшись в палату, прыгали по никелированным спинкам кроватей, ныряли в графин с водой.
Утром принесли телеграмму от Юрия. «Умоляю, лечись. Мои дела успешны. Аншлаги. Принимают превосходно. Подробности письмом. Поправляйся. Обнимаю, горячо целую. Юрий».
— Хорошие вести? — спросила Екатерина Тарасовна.
Счастливо улыбаясь, Ася кивнула и, спрятав телеграмму под подушку, принялась за вязанье, время от времени вытаскивая телеграмму и перечитывая ее.
— Ася, подойдите к окошку, к вам пришли.
Окна палаты выходят во двор. У сарая громоздятся бочки и ящики. Никого.
— Ясно, — первое апреля, — зловещим шепотом произнесла Шурочка.
— Да разве я такое позволила бы! — искренне возмутилась Зойка. — Вот, ей-богу! — Зойка неожиданно перекрестилась.
— А правда, идут! — воскликнула Шурочка.
Ее десятиклассники! Вот уж не ожидала!
…Она пришла к ним в начале первой четверти. Они не срывали уроков, учились хорошо, и все же ей никогда не было так трудно, она никогда так не упрекала себя в собственной бездарности, как в этом внешне благополучном классе. Даже с Масленниковым она сумела добиться контакта. А с ними? У нее никогда не было в этом уверенности.
Лева Ренкевич! Поединок с ним начался чуть ли не с первого урока, когда она услышала: «Опять эти каноны».
В другой раз он заявил: «Я не верю Павке Корчагину. В седьмом классе он мне был близок. А сейчас нахожу, что это выдуманный герой. Во всяком случае, в наше время таких не бывает».
Она рассказала о писателе Николае Бирюкове. Лева пожал плечами:
«Но это же интеллигент. А я говорю о работягах».
На следующий урок она принесла книгу очерков.
«Герои этой книжки не выдуманные, — сказала она, — а поступали они так же, как поступил бы Павка Корчагин в наши дни».
Почти всегда на уроках ее грызло глухое недовольство собой.
Однажды Женя Романов, друг Левы, во многом подражавший ему, даже в манере говорить, признался, что он не читал Блока и, «откровенно говоря, не видит в этом необходимости».
— Как же вам не стыдно не знать Блока! — воскликнула Ася.
— А почему вы считаете, что в наш век не знать Блока стыдно, а не знать Эйнштейна не стыдно? — очень спокойно спросил Лева.
Она видела улыбки: иронические, доброжелательные и с усилием проговорила, чувствуя, что краснеет:
— Пожалуй, вы правы… Да, вы правы.
Что-то изменилось во взгляде Левы, в нем уже была не ирония, а удивление.
Внезапно в классе стало слышно, как за окном проскрежетал трамвай, потом гулко хлопнула входная дверь…
И вот они стояли здесь, у окон больницы. Что-то кричали, махали руками, но от волнения Ася не могла разобрать слов. Улыбаясь, она кивала им.
Люся Шарова вытащила из портфеля мел и своим крупным каллиграфическим почерком написала на заборе: «Поправляйтесь! Мы вас ждем!» и, помедлив, приписала: «У Виноградова по истории пять».
Самая рассудительная и сдержанная девочка в классе Нина Деева взяла у нее из рук мел. На заборе появилась еще одна надпись: «Мы вас очень любим».
Ася заставила себя улыбнуться и помахала им рукой.
А они что-то кричали — разве разберешь с третьего этажа, да еще когда в окно врывается грохот улицы!
Молчал один Лева. Он стоял чуть в стороне, засунув руки в карманы куртки. Нескладный, худой, с длинной тонкой шеей, ушастый и с необыкновенно яркими синими глазами на горбоносом подвижном лице. Потом он резко повернулся и пошел к воротам ссутулясь, засунув руки глубоко в карманы. Ему кричали вслед: «Левка, Левка, куда ты?»
Он не оглянулся.
Ребята еще немного покричали и ушли.
Ася почувствовала, что у нее пересохло в горле. Залпом выпила стакан воды, села на кровать и только тут заметила, что все в палате смотрят на нее.
— Видать, любят вас ученики-то, — сказала тетя И юр а.
Зойка всплеснула руками.
— И как учителя терпят! У меня золовка учительница Так верите, плачет от своих ученичков. Доведись до меня, я бы им головы поотрывала. Их ни лаской, ни строгостью не прошибешь. То ли дело мои коровушки. Что смеетесь?! Животное, оно ласку понимает.
— Зойка правду сказала, — Пелагея Тихоновна приподнялась, лежа она говорить не могла, задыхалась. — Животное благороднее человека… Собаку приблудную покормишь… Она ни за что тебя не укусит…. Человека сколько ни корми… придет время спасать свою шкуру… он так тебя укусит — до самой смерти не забудешь!
Никто не проронил ни слова. Пелагея Тихоновна с вызовом спросила:
— Разве я неправду говорю?
— Правду, — вздохнула Рита.
— В самую точку, — подтвердила Зойка. — Ей-богу, какую животину ни возьми — она добрее человека.
— И курица? — спросила Ася.
Все засмеялись.
— Загибаешь ты, Зоенька, — проговорила Екатерина Тарасовна. — Когда с тобой беда случилась, кто тебе на выручку пришел? Твоя Красавка или Буренка? Нет же. Вылечил-то тебя человек. Кусаются подонки, а добро творят люди.
У Пелагеи Тихоновны в глазах появился лихорадочный блеск.
— Уж кто-кто, а вы, наверное, на всяких гадов нагляделись. Сколько их через суд-то прошло.
— Нагляделась, вот поэтому-то и могу утверждать, что хороших людей все же больше, чем подлецов.
— А страшно, Екатерина Тарасовна, быть судьей? — спросила Зойка.
— Страшно, Зоенька, на войне. Трудно, — сказала Екатерина Тарасовна.
— Ася Владимировна, правда, что вы в детском доме воспитывались? — Шурочка даже приоткрыла свой круглый рот.
— Правда.
— А потом?
— Как тебе не совестно, — одернула Шурочку Зойка. — Ко всем со своей анкетой привязываешься.
— Я же ничего плохого не говорю, — Шурочка часто заморгала подкрашенными ресницами, — я же не хотела, никого не обидела.
— Не волнуйтесь, Шурочка, — успокоила ее Ася, — потом меня нашла мамина тетка…
Ася вспомнила худое, желтое лицо в седых букольках и печальные, видимо, когда-то красивые глаза. Вспомнила альбомы с выцветшими от времени фотографиями, длинные ажурные перчатки без пальцев, бронзовый старинный подсвечник, какие-то нелепые на Асин взгляд вещи, и сама тетка казалась какой-то нелепой. То она принималась вязать никому не нужные корзиночки, уверяя, что, продав их, они смогут избавиться от «финансовых затруднений». Корзиночек, конечно, никто не покупал. То вдруг тетка начинала переводить Пушкина на эсперанто. «Это будет настоящая сенсация», — убеждала она Асю. Однажды, в день рождения, тетка подарила ей китайскую вазу, истратив на покупку всю свою пенсию, а у Аси не было ботинок. И все-таки Ася ее любила.
От воспоминаний Асю отвлекла Екатерина Тарасовна.
— Идите ко мне в гости, — позвала она.
Все ушли. Пелагея Тихоновна дремала. Ася, захватив вязанье, устроилась на кровати Екатерины Тарасовны.
— Ася, я все стараюсь понять, какого цвета у вас глаза.
— Зеленые.
— Вы иногда похожи на итальянского мальчика.
— Вот уж не знала. Вероятно, из-за носа. Юрка говорит, что мой нос попал ко мне случайно.
— Вас, я вижу, разволновал приход ребят.
Глядя в глаза Екатерины Тарасовны, она спросила:
— Как, по-вашему, они пришли… Ну, из… жалости?
— Ася, я ведь сегодня уже говорила: страдать могут животные, а сострадать только люди.
— Я не хочу сострадания.
— Простите, девочка, но вы глупости говорите. Считайте, что вы тогда зря на своих уроках проповедовали гуманизм.
— Это другое.
— То самое. Вы недовольны, что они приходили?
— Что вы! Но я не хочу, понимаете, чтобы меня жалели. Я… я боюсь… Ведь, может быть, я никогда больше не вернусь в школу.
— Вы знаете восточную пословицу: деньги потерял — ничего не потерял, здоровье потерял — половину потерял, веру потерял — все потерял.
— А вы знаете, ну, тех, что возвращались в школу?
— Знаю, спросите у Анны Георгиевны. Вам трудно было с этим классом?
— Да. Трудно и интересно. Когда я училась, мы были другие. Ну, почему?
— Веяние времени. У каждого поколения своя «детская болезнь». Правда, во многом виноваты родители. Сколько раз мне приходилось убеждаться, к каким ужасным последствиям приводит пресловутая родительская жалость. Мама и папа расшибаются в лепешку, чтобы создать детям с малых лет «изящную жизнь», а после рвут на себе волосы: «Откуда он такой тунеядец, мы же с матерью — труженики». А зачем парню трудиться, если с детства ему дается все без малейших усилий. Один знакомый профессор так разговаривает с сыном: «Тебе нужен фотоаппарат — поезжай летом в колхоз, заработаешь деньги — покупай». — Помолчав, Екатерина Тарасовна спросила: — Ася, почему вы пошли в педагогический?
— Этот же вопрос мне задала завуч, когда я начала работать в школе. Видите ли, в детском доме я всегда возилась с малышами. Там это принято. В пятом классе у нас преподавала литературу Лидия Алексеевна. Чудесный человек. Она была тоже эвакуирована. И нас, трех девочек, на октябрьские праздники позвала к себе. Я пришла первый раз к кому-то домой. Понимаете, домой! Не знаю, может быть, тогда-то у меня в подсознании родилось, я ведь была еще мала, что учитель никогда не бывает одинок.
Ася замолчала.
За окном что-то хрустнуло — ударилась об оконный карниз подтаявшая ледяная сосулька.
Сняли карантин. Можно хоть ненадолго покидать опостылевшие стены, можно гулять по скверу, встречаться с родными, друзьями. Но погода, как назло, испортилась: шли дожди со снегом, на улицах бесновались ветры, снежная кутерьма билась в окна.
Асю навещали каждый день. Приходили учителя из новой школы, с которыми она еще не успела сдружиться. Асю посещения эти и радовали и утомляли. Она изо всех сил старалась казаться веселой.
Ученикам приходить Анна Георгиевна категорически не разрешила под предлогом, что детям запрещается бывать в инфекционной больнице. Однако Ася догадывалась об истинной причине. После ухода ребят она волновалась, плакала, а вечером лежала с температурой.
Свекровь еще не появлялась. Асина болезнь уложила и ее в постель, она писала: «Как только мое сердце позволит, я приду к тебе, я целыми днями думаю о тебе»… Каждый день вкусную снедь приносила Гавриловна, их приходящая работница.
Ася ловила себя на том, что ни с кем из знакомых она так легко себя не чувствовала, как с Александрой Ивановной. Главное, она ничего не выспрашивает, разговаривает с ней, как со здоровой.
Только Риту никто не навещал. Она и писем подолгу не получала. Дома у нее осталась старуха-мать и трехлетний сын. У матери больные ноги, она еле передвигается по комнате, а мальчика Рита никак не могла устроить в детский сад. Рита постоянно огорчалась: «Сидит, бедненький, без воздуха». И когда Зойка вошла с письмом в поднятой руке и сказала:
— А ну, Рита, пляши, тебе письмо! — Рита побледнела и с испугом смотрела на конверт.
— Пляши, пляши! — кричала Зойка.
— Не надо, Зоя, — сказала Екатерина Тарасовна. — Отдайте письмо.
Рита прочитала его и с трясущимися губами заявила: она должна ехать домой.
— А лечение? — спросила Люда.
Какое уж там лечение. Соседка, что помогала матери, уехала. Теперь и за хлебом некому сходить. Что думает завком? А кто его знает? Два письма им отправила — не ответили. По больничному до сих пор не получила. С завода приходили домой, велели передать — пора на работу выходить.
— Что же мне делать? — Рита оглядела всех.
— А если вы свалитесь, кто за вами будет ухаживать?
Тетя Нюра всхлипнула в подушку.
— Кем вы работаете? — спросила Риту Екатерина Тарасовна.
— Бухгалтером.
— Ну, вот что — торопиться вам нечего. Люда права — надо лечиться. А домашние дела мы уладим. Круглосуточный детский садик у вас есть?
— Есть. Только в него не попасть.
— А это мы посмотрим. Ася, у вас должен быть хороший почерк. Берите-ка бумагу. Сейчас мы напишем письмо турецкому султану.
Сочиняли письмо все.
Ася писала: «Мы не верим, что заводской комитет не имеет возможности устроить в детский сад ребенка тяжелобольной матери и присмотреть за престарелой женщиной».
Тетя Нюра сказала:
— Кабы не обиделись, может, пожалобнее попросить…
— Мы не просим, а требуем! — возмутилась Люда.
— Точно! — воскликнула Зойка. — А чего с ними фигли-мигли разводить. Сказать бы им попросту: паразиты, мол, и вся недолга!
— Нет уж, обойдемся без паразитов. Припишите-ка, Ася, вот еще что, — Екатерина Тарасовна подумала и продиктовала: «Надеемся, что завком поддержит Маргариту Васильевну Жукову, и нам не придется обращаться за помощью к общественности через областную газету».
— Вот это по-нашему! — восхитилась Зойка.
Ждали ответного письма, но не прошло и недели, как пожаловали Ритины сослуживцы. Привезли деньги по больничному, просили ни о чем не беспокоиться — сынишку устроили в детский сад, к матери приходят старшеклассники, помогают ей по хозяйству.
За послеобеденным чаем повеселевшая Рита (у нее голос даже стал громче) угощала тортом.
Настроение у всех было превосходное. Еще бы! Выходит, и мы — сила, и мы еще что-то значим. Вот и за Зойкой должны вечером приехать. Кто знает: пройдет месяц-другой, и вот так же усядутся все вокруг стола и будут тебе говорить всякие напутственные слова.
— Вот что, друзья, — сказала Екатерина Тарасовна. — Не худо бы нам такое событие отметить. Как вы думаете? Зою надо честь по чести проводить. — Она вытащила из тумбочки бутылку.
— Сухое вино. И не повредит. Что нам доктор скажет? — обратилась она к Люде.
— Не повредит, — воскликнула Люда, протягивая кружку.
Зойка — ей, как отъезжающей и самой здоровой, налили полную кружку — выпив, крякнула.
— Ой, девочки, — сказала она, прижимая руки к груди, — какие вы все хорошие! Я лучше людей, чем больные, не встречала. Вот ей-богу! По-моему, чахоточные самые правильные люди.
— Чепуху ты говоришь, — засмеялась Ася. — При чем тут чахоточные? Просто человек всегда и везде должен оставаться человеком.
Тетя Нюра, захмелев от общего радостного тепла, сказала:
— Вот, бабоньки, мне воспитательница каждое воскресенье про моих ребят пишет. Видать, по таким-то дням ей, сердечной, не до того. Славная женщина.
— Моего Петеньку в детсадике каждый день, наверное, на прогулку водят, — Рита мечтательно улыбнулась.
— Все бы ничего, — проговорила тетя Нюра, — только бы вот глазочком на детишек поглядеть.
— А вы о них не беспокойтесь, — горячо возразила Ася, — я ведь жила в детском доме. Знаю. Там очень хорошо к ребятам относятся.
— Я не о том. Ясное дело: они и одеты, и сыты. Все же материнскую ласку не заменят! Про другое я! — Тетя Нюра вздохнула. — Помру, и совсем мои ребята осиротеют.
— Ну, а такие мысли следует от себя гнать! — проговорила решительно Екатерина Тарасовна.
«Им хуже», — в который раз подумала Ася, а вслух сказала:
— Давайте так: кто заговорит про смерть или про болезнь — с того штраф.
— Сколько? — спросила Зойка.
— Рубль.
— А куда штрафные деньги?
— Пропьем! — Ася так лихо тряхнула головой, что из прически выпали шпильки, и ее волосы рассыпались по плечам.
Все засмеялись.
— А про что здесь говорить? — подавила вздох Рита.
— Про любовь! — неожиданно для себя предложила Ася, подкалывая волосы.
— Ася Владимировна! А ваш муж в вас с ходу влюбился?
— С ходу, — улыбнулась Ася.
— А я видела вашего мужа, — захлебываясь от восторга, сказала Шурочка. — Он так волновался: передачу отдал, а сам на улицу вышел. И все ходит, ходит. Курит. Одну папиросу выкурит, за другую берется. Профессора дожидался.
Ася почувствовала, что у нее в горле стало горячо-горячо.
— А я с ходу в одного уполномоченного влюбилась, — Зойка фыркнула.
— А он?
— Тебе, Шурочка, все надо знать. Он у нас на квартире жил. Через неделю сбежал.
— От тебя хоть кто сбежит, — засмеялась тетя Нюра.
— Верите, девочки, в меня будто черт сел. Днем его высмеиваю, а по ночам реву.
И вдруг тихая, молчаливая Рита рассмеялась. Все, улыбаясь, смотрели на нее. Давясь от смеха, Рита заговорила:
— И я… мне лет шесть-семь было, влюбилась в трубочиста. Ей-богу! Такой парень к нам приходил. Мама ему стирала. Зайдет к нам и кричит: «Где моя невеста?» Возьмет меня на руки, подбросит. Всегда конфеты приносил. А я, дурочка, на самом деле себя его невестой считала.
Ложась спать, Ася упрекала себя: «Я не хотела о них ничего знать и даже почему-то гордилась этим. Вот Екатерина Тарасовна не устает каждый вечер слушать тетю Нюру — и всегда одно и то же».
Зойка не уехала. Позвонил муж из района: у них бездорожье, можно застрять в пути. Анна Георгиевна позвала Зойку к себе и сказала, что советует еще недельки две подождать в больнице. Зойка, к удивлению Аси, ничуть не огорчилась. Вернувшись в палату, принялась со всеми «здороваться». С Шурочкой они расцеловались, а потом долго сидели, обнявшись, на кровати и о чем-то шептались.
А вечером они поссорились. Из-за пустяка. Зойка обвинила Шурочку, что она не вернула ей гребенку.
— Я не такая мелочная, — кричала Шурочка, — я брезгую брать чужие гребенки.
— Подумаешь, какая интеллигентная! Подавись ты моей гребенкой, — презрительно фыркнула Зойка.
Шурочка обругала Зойку хамкой, а та ее — вертихвосткой, ехидно присовокупив, что, если бы Шурочкин муж кое о чем узнал, ей бы не поздоровилось. С Шурочкой сделалось что-то вроде истерики, а Зойка совсем разошлась, уснащая свои реплики солеными словечками.
Будь здесь Екатерина Тарасовна, они, возможно, и постеснялись бы, но ее вызвали к телефону.
Ася, никогда ни на кого не повышавшая голоса, не выдержала и прикрикнула:
— Замолчите же! Черт знает что!
И удивительное дело — они замолчали.
Зойка буркнула что-то, вышла из палаты, хлопнув дверью. Шурочка уткнулась в подушку, жалобно всхлипывая.
Обычно после отбоя никто не спал. Если с десяти вечера заваливаться спать, что же делать ночью! Шепотом велись самые интересные разговоры: о кинофильмах, о доме, о том, кто и когда вылечился.
Но в этот раз в пятой палате притаилось молчание. Шурочка тоненько вздыхала. Пелагея Тихоновна никак не могла улечься, несколько раз перекладывала подушки. Екатерина Тарасовна кашляла, пила воду.
— О, господи! — прошептала тетя Нюра.
Зойка со злостью сказала:
— На фиг сдалась мне эта вшивая больница! Завтра же уеду.
Никто не отозвался.
В соседней палате тихо переговаривались.
За окнами заунывно и глухо выл ветер, кидаясь охапками снега в стекла.
От воя ветра, вздохов и Зойкиных слов у Аси возникло ощущение: ничего нет, все доброе, светлое, радостное — исчезло, темный, грустный мир, в котором шесть женщин на одинаковых кроватях, под одинаковыми одеялами замкнуты голыми стенами больницы. Где-то, в ином мире, люди работают, веселятся, ходят в гости, в театр. Театр. Вот и Юрий стал реже писать. Уже пять дней не было письма.
— Хоть бы сказку кто рассказал, — грустно попросила тетя Нюра.
— Ася Владимировна, поди, знает. Я таблетку приняла, кашлять не буду. Расскажите, — попросила Пелагея Тихоновна.
— Кто же уснет в такую ночь, — подавила вздох Екатерина Тарасовна.
Ася прислушалась к метели за окном. Да чем этим женщинам лучше, чем путнику? Так же тоскуют о домашнем огоньке. Пусть он и им помаячит…
И она начала:
Слушают. Все слушают…
Ветер за окном словно притих.
Неожиданно глуховатый голос за стеной произнес:
— Давайте-ка и мы послушаем Бернса.
…Этот голос за стеной Ася слышала с первых дней пребывания в больнице.
Цепляя спицами петлю за петлей, она часто прислушивалась к негромкому голосу за стеной. Просто поразительно, как может человек так о многом знать и всем интересоваться! Позднее она узнала его имя. Александр Петрович. В мужской палате его называли Петровичем.
Ей разрешили посещать столовую. Казалось, она сразу же угадает его среди других, но ее с таким откровенным любопытством рассматривали мужчины, что она, ни на кого не глядя, поспешила сесть рядом с Шурочкой.
Ася зябко повела плечами.
— Холодно? — спросила Шурочка.
— Да, немного.
Знакомый, чуть глуховатый голос сказал:
— Василек, пожалуйста, прикрой форточку, тебе там близко.
Она оглянулась и увидела Петровича. Худощавое лицо. Волосы, чуть тронутые сединой. Темные, пристальные глаза. Он перехватил ее взгляд и поклонился. Она ответила легким кивком.
В тот день, когда ученики впервые навестили ее, они встретились в коридоре. Он поздоровался и спросил:
— Это к вам делегация приходила?
Она кивнула.
— Я так и думал. Эти юнцы, играющие в Базарова наших дней, бывают очень занятны.
— Вы учитель?
— Я инженер. Под моим началом в цехе работает много всяких и не всяких. Мне кажется, они умнее, чем я был в их годы. Оно и понятно. — И вдруг без всякой связи с предыдущим он воскликнул: — С удовольствием бы взял на себя ваши болячки, — он резко махнул рукой, круто повернулся и зашагал прочь.
«Странный какой-то», — подумала Ася.
Почти все свободное время он просиживал в коридоре, примостившись на диване с книгой. Куда бы она ни шла, непременно нужно было пройти мимо него. Он больше не заговаривал, молча кланялся.
…И вот сейчас, услышав голос Александра Петровича за стеной, Ася чуть-чуть повысила голос. Он, наверное, неплохой человек. Возможно, слегка влюблен в нее… Пусть… Пусть все слушают, если это хоть маленькая крупинка радости в этих стенах.
Ася и Люда неторопливо шли по дорожке больничного сквера с высокими тополями, кустами акации и сирени.
Люда рассказывала о новой больнице.
— Место очень красивое, в сосновом бору, сразу за городом. Все палаты на солнечную сторону, с верандами. Прелесть! Я ездила смотреть. Знаешь, я буду работать в этой больнице!
Ася слушала рассеянно. Наконец-то она вырвалась та свежий воздух.
Ветер, бушевавший всю ночь, под утро утихомирился. По белесому небу путались дымчатые вихрастые облака. На голых ветвях деревьев и кустов лежал чистый снег. По обочинам асфальтовых дорожек пробивалась из-под тонкого льда темная вода. В воздухе еле уловимые запахи весны, от которых испытываешь непонятное стеснение в груди.
У Аси немного кружилась голова. На душе умиротворение и радость: радовалась письму от Юрия, радовалась тому, что вот так же, как и до болезни, гуляет по скверу, что ноги обуты не в домашние шлепанцы, а в изящные ботинки, что на ней любимая меховая шубка и беличья шапочка. Все ее собственное, пахнущее духами.
На перекрестке дорожек стоял мужчина в черном пальто. Он обернулся — Ася узнала Александра Петровича. Когда они подошли, он носком ботинка дотронулся до зеленой травки, вылезавшей из-под снега.
— Видите, — сказал он, обращаясь к ним, но не поднимая глаз, — трава тоже хочет жить.
И не дожидаясь ответа, зашагал в противоположную сторону.
— Странный он какой-то, — в раздумье произнесла Ася, когда Александр Петрович не мог уже ее слышать.
— С десяти лет мотается по больницам.
— Все время болеет?!
— Нет, что ты! Перед войной совсем поправился. Пошел добровольцем в сибирскую дивизию. На фронте получил ранение в ногу и сутки пролежал в болоте. Потерял много крови. Ну, и — тяжелейшая вспышка. Перенес четыре операции. Сейчас пятый раз ложится на стол. Появились бациллы. А у него маленький сынишка. Жена заявила, что, если он не избавится от бацилл, жить с ним не будет. А он сынишку любит. Вот и решился на операцию. Будут удалять легкое.
Ася вспомнила строгое, замкнутое лицо Александра Петровича, его опущенные глаза, словно он хотел что-то скрыть, и радость, которую она испытывала, выйдя на прогулку, — погасла.
В раздевалке, заметив, что Александр Петрович спустился вниз, в библиотеку, она поспешно сняла шубку, зашла в палату за книгой и отправилась в библиотеку. Встретились внизу, в коридорчике. Александр Петрович поклонился и, давая дорогу, отступил в сторону. Ей хотелось сказать ему какие-то добрые слова, но она не нашлась и, робея, спросила:
— Как вы себя чувствуете?
Он бросил быстрый, удивленный взгляд. Невесело усмехнулся и сказал:
— Вас, вероятно, Люда поставила в известность о предстоящей мне операции?
И так как Ася молчала, он спросил:
— Пожалели?
Она вспомнила слова Екатерины Тарасовны и сказала:
— А если пожалела… Разве это плохо?
— Не тревожьтесь. Я солдат. После того, как ты воевал, тебе сам черт не брат.
— Почему-то все, кто воевал, любят об этом вспоминать.
— А это вполне закономерное явление — на войне человек жил по большому счету. А человеку всегда приятно думать о себе с уважением. Знаете, мой приятель, поэт, говорит, что он жалеет тех, кто не был на войне, если уж война была.
— Может быть… — Ася вздохнула. — А вот мы с вами не можем жалеть тех, кто не лежит в больнице… если уж больница есть.
— Знаете, какой я подлый эгоист? — произнес он вместо ответа. — Когда я утром просыпаюсь, мне приятно сознавать, что сегодня увижу вас здесь, в больнице. Ужасно, но это — так. — Он несколько мгновений смотрел на нее, а потом тихо произнес: — «Был мягок шелк ее волос и завивался, точно хмель, она была душистей роз» — И уже другим тоном, торопливо сказал: — На горизонте Шурочка. В больнице люди от праздности болтливы. — Он поспешно отошел.
Перебирая в библиотеке книги, Ася подумала: «Он славный, но почему-то страшно его жаль».
Вечером пришла свекровь. Она изменилась. Щеки повисли, да и вся ее массивная фигура обрюзгла, утратив тот моложавый элегантный вид, к которому так привыкла Ася. И одета Агния Борисовна по-старушечьи: старое пальто, вместо шляпки — темный шарф.
При виде невестки лицо ее потускнело, по щекам потекли слезы. Агния Борисовна обняла Асю, поцеловала ее в голову и тяжело опустилась на диван. Ася присела подле нее.
Свекровь стала навещать Асю каждый день. Обычно они уходили в сквер, садились на скамейку. Говорила больше Агния Борисовна. Она могла без устали рассказывать о сыне. Асю это радовало. Скрытная по натуре, она стеснялась с кем-нибудь говорить о муже.
Однажды свекровь призналась: доктор не был отцом Юрия, он только усыновил его. Отец сына — актер. Теперь уже таких актеров не увидишь. Он всегда говорил: у настоящего художника один бог, и бог этот — искусство. У него не было даже семьи. Он стал ее учителем. Она на него молилась. Он умер в расцвете своего необычайного таланта. У нее остался ребенок — Юра! Родители не захотели ее знать. Они противились и ее поступлению в театр. Человеку, неискушенному, трудно понять, какая отрава, яд — сцена, искусство; от него, как от судьбы, не уйдешь. Но как ни боготворила она театр — пришлось уйти. И все ради сына. Ведь, уезжая на гастроли, ей приходилось бросать ребенка на нянек. А в результате: болезни, болезни без конца. Юрик буквально дышал на ладан. А тут за ней стал ухаживать доктор. Он обожал ее и ребенка.
Доктор сделал ей предложение. Он был хорошим мужем и хорошим отчимом. Юрий поразительно похож на отца: манерой говорить, походкой, лицом. Отец передал ему и свой талант! Она знает об этом давно. Первую свою роль Юрий сыграл семи лет. Она серьезно занялась его образованием: пяти лет отдала его учиться на фортепиано, возила с собой в Москву и Ленинград, водила по театрам, музеям, картинным галереям. Сама подготовила к экзаменам в театральный институт, и он сдал их блестяще.
И вот наконец она достигла своего — Юрий стал артистом. Достиг успеха, но, кто знает, как бы все это повернулось, если бы не ее настойчивость. Один бог знает, сколько она пережила, когда Юрию вдруг взбрело в голову стать летчиком; взяв из школы свои документы, он сбежал из дома; хорошо, что отчим не растерялся и вылетел следом за ним на самолете: разыскал беглеца и вернул его домой.
— Я тогда, Асенька, чуть с ума не сошла, — закончила свой рассказ Агния Борисовна. Она задумалась, всматриваясь в свое прошлое выпуклыми голубыми глазами.
Почему-то из рассказа свекрови Асе больше всего понравился именно побег Юрия.
Три раза в неделю после ужина в столовой сдвигали в угол столы, расставляли рядами стулья. Кино — чуть ли не единственное развлечение в больнице — пропускали лишь те, кто не мог встать с постели. Ведь после сеанса столько тем для разговоров; кажется, нигде так дотошно и с таким пристрастием не обсуждают сюжет картины, игру артистов, сравнивают их игру в других фильмах. А главное — можно на какое-то время забыть, где ты, и не думать о том, что ожидает тебя завтра.
Ася, немного запоздав, села в последнем ряду. Александр Петрович вошел следом за ней и, оглядывая ряды, остановился в дверях.
Когда свет погас, он подошел к Асе и сказав: «Разрешите?» — сел подле нее.
Днем, догнав ее в коридоре, он неожиданно спросил:
— Вы никого после пяти не ждете?
— Не знаю.
— Я вас очень прошу, — проговорил он странно изменившимся голосом, — приходите после пяти в сквер на скамеечку под большим тополем. Мне необходимо с вами поговорить.
Он произнес это таким серьезным и взволнованным голосом, что Ася поспешно сказала:
— Хорошо.
Он тотчас же отошел от нее.
Возможно, он хочет посоветоваться о сыне? Ему же известно, что она учительница. Нет, тогда бы он так и сказал. Тут другое.
В пять пришла свекровь. Ася нарочно долго водила ее по центральной аллее сквера.
Видела, как по ближайшей дорожке прошел Александр Петрович. В их сторону он не смотрел.
«Интересно, заметил ли он нас?» — раздумывала Ася, сидя в кино рядом с ним.
Не поворачивая головы, Ася из-под ресниц взглянула на него. Он сидел, поставив локти на колени и положив голову на руки. Он, видимо, почувствовал ее взгляд — поднял голову. Асю поразило его очень бледное лицо, блестящие и, как ей почудилось, влажные глаза. Она тихонько промолвила:
— Ко мне сегодня приходили.
— Я знаю, — так же тихо ответил он.
— Вам плохо?
— Что вы! Сейчас мне хорошо… Очень… — Он наклонился, взял ее руку в свою и прикоснулся к ней горячими, сухими губами. Потом встал и вышел.
«С ним что-то неладное происходит», — подумала Ася.
Возвращаясь из кино, увидела его сидящим на своем обычном месте — в углу дивана.
— У вас что-нибудь произошло? — спросила Ася.
— Пока нет. Знаете…
Но не успел ничего сказать: появилась Шурочка и Рита. Присели подле них на диване. Рита о чем-то своем раздумывала. Шурочка без умолку болтала. Александр Петрович молчал. Ася все время чувствовала на себе его взгляд. Этот взгляд вызывал в ней то же ощущение, которое она испытывала в детстве, заглядывая ночью в колодец. Где-то в черной глубине барахтались звезды, и оттого, что они так глубоко, щемило сердце.
И все же, улучив минуту, он шепнул ей:
— Пожалуйста, выйдите после отбоя.
В палате Шурочка во всеуслышание заявила:
— Ася Владимировна, а Петрович в вас влюблен.
— Тебе уж сорока на хвосте принесла, — немедленно взяла Асю под защиту Зойка, — и откуда тебе все известно?
— Он так смотрел, так смотрел…
— А кто на Асю Владимировну не смотрит, — отмахнулась Зойка. — Киномеханик, и тот один глаз косил на экран, другой на Асю Владимировну.
«Стоит ли давать пищу языкам», — раздумывала Ася. И в то же время ее тревожило: у него что-то серьезное, иначе он не был бы так настойчив.
Появился дежурный врач. При ней неудобно выходить.
Спала Ася плохо. Поднялась с тяжелой головой.
Приход свекрови немного отвлек от грустных размышлений.
Но, сидя с ней на скамейке в сквере и слушая ее бесконечные рассказы о том, каким Юрий рос замечательным мальчиком, как он однажды крикнул гостям: «Пожалуйста, тише. Играют „Аппасионату“ Бетховена», — она думала: о ее детстве никто не будет рассказывать милых подробностей.
Александр Петрович в сквере не появлялся. Странно!
Принялся накрапывать дождик. Свекровь заторопилась домой. Ася в душе была рада ее уходу.
Возвратясь в палату, села за письмо к Юрию.
Ее немного удивила тишина в палате и озабоченные лица. «Наверно, опять поссорились», — подумала она.
Никто не мешал ей сосредоточиться, но письмо не писалось.
Стук двери и быстрые шаги.
Ася подняла голову. Посредине палаты стояла Шурочка.
— Что? — нетерпеливо спросила Екатерина Тарасовна.
— Умер! — тихо проговорила Шурочка и, бросившись на кровать, затолкала голову под подушку.
— Кто? — Асю охватил озноб, он шел от кончиков пальцев ног и пронзительным, противным сквознячком поднимался к сердцу. Страшась того, что она сейчас услышит, и зная, что именно это ей и скажут, она повторила:
— Ну, кто?
Шурочка приподняла заплаканное лицо и, всхлипывая, сказала:
— Господи, да Петрович же!
Остальная фраза дошла до нее отрывками:
— Не знаете… Операционный день… Пять часов… На столе… задохся… не могли..
Откуда-то издалека она услышала показавшийся ей чужим крик: «Не может быть!» — и в то же мгновенье потолок закрутился, обрушился, что-то тяжелое ударило по голове — потеряв сознание, она упала.
— Пульс лучше, — услышала Ася знакомый голос и, открыв глаза, увидела склонившееся над ней лицо Анны Георгиевны. Тут же стояла Варенька со шприцем в руках.
— Выпейте-ка это, — беря из рук сестры мензурку с лекарством, проговорила Анна Георгиевна.
Ася покорно выпила, откинулась на подушки и, закрыв глаза, пробормотала:
— Спать хочется.
— Вот и хорошо: поспать вам не мешает, — сказала Анна Георгиевна.
Тетя Нюра жалостливым голосом заговорила:
— Ох, и жаль хорошего человека. Жить бы еще Петровичу да жить.
Ася, вздрогнув, открыла глаза. Широкие брови Анны Георгиевны сошлись у переносицы, она тихо проговорила:
— Варенька, последите за пульсом, — и вышла.
Оглянувшись на дверь, Шурочка спросила:
— Варенька, правду говорят, что Анна Георгиевна была против операции?
— Не знаю. Меня в эти дела не посвящают. — Варенька хмуро смотрела в сторону.
— Вы-то еще не привычны, а я уж нагляделась на покойников-то.
— Не надо об этом, Анна Семеновна. Поговорите лучше о другом, — сказала Екатерина Тарасовна.
Но говорить о другом не хотелось.
Все тоскливо молчали.
Не слышно голосов и из соседней палаты.
Асю не покидало ощущение, что все это кошмарный сон и стоит сделать над собой усилие — она проснется и все будет по-прежнему. Она выйдет в коридор, увидит Петровича, а вечером, перед сном еще долго будет доноситься из-за стены знакомый глуховатый голос. Неужели больше его не услышит? Как дико привыкать к мысли, что хороший человек, еще молодой, — ушел из жизни, замолчал навсегда. Если бы можно было вернуть вчерашний вечер, она вышла бы к нему и говорила, говорила бы с ним…
Почему его не спасли?!
Перед ужином, прогуливаясь с Людой по скверу, думала все о том же и вслух произнесла:
— Это ужасно! Рабочий сломает станок, машину — его судят. А хирург зарезал человека — и ничего. — Ее душили жалость и злоба. Она живо представила, как Александр Петрович, стоя у обочины и дотронувшись носком ботинка до травы, сказал: «Трава тоже хочет жить». Как же он-то, наверное, хотел жить! Эта мысль обожгла, и с захлестнувшей сознание яростью она воскликнула: — За это судить надо!
Люда долго понуро молчала.
— Если хирургов за смертность на операционном столе судить, никто не возьмется за операцию. Вот я хочу быть хорошим врачом. Но когда такое случается… Я чувствую себя в чем-то виноватой и такой беспомощной. Я ведь скоро сама начну. Я не боюсь, что вот так скажут: зарезала или залечила, а вот… — она не договорила. Шла опустив голову, глядя под ноги.
— Правда, что Анна Георгиевна была против операции?
— Да, против. Ася, я не имею права рассказывать, Ты понимаешь — никто не должен знать. Ты думаешь, все так бесследно проходит? Тот случай с Эллой Григорьевной. Ты заметила, что она не появляется?
— Да, да.
— Она больше у нас не работает. Только, пожалуйста, никому не говори, мне самой по секрету сказали. Было собрание. Очень бурное. Старик профессор так разволновался… Плохо с сердцем, предынфарктное состояние. Тебе, наверное, теперь все врачи кажутся плохими?
— Нет, почему же. Анна Георгиевна…
— Да разве одна она? Такая маленькая — Надежда Егоровна. Она трое суток не отходила от больного, трое суток не спала, не раздевалась. Потом уже профессор ее прогнал. А Нина Михайловна! Тоже замечательный врач. Одна больная, молоденькая девушка, поправилась, собралась домой, а реки вскрывались. Место нужно было — привезли больную из района. Так Нина Михайловна взяла эту девушку к себе домой, и она у нее чуть ли не месяц жила. Ну, у Нины Михайловны опыт, а Николай Павлович совсем молодой. Помнишь, такой черноглазый? Как-то понадобилась срочно кровь — он отдал 600 кубиков. Думаешь, легко лечить? Николай Павлович рассказывал: выписал больному сильнодействующее лекарство — так ночью в больницу прибежал… — Люда замолчала, задумалась.
На красных веточках черемухи набухли почки. Воробьи копошились на кустах. На сером асфальте дорожки растоптанный кем-то подснежник. В лесу уже расцветают цветы. Скоро распустится черемуха. Но он ничего этого не увидит. И не придет на скамейку в углу сквера, где он когда-то ждал ее.
Ах, если бы можно было вернуть вечер, в который она не пришла к нему.
Только теперь, столкнувшись со смертью, Ася почувствовала, как мучительно сознание того, что человек, ушедший из жизни навсегда, уносит с собой все: не только радость общения с ним, но и возможность вернуть ему долги дружбы.
Вечером, к всеобщему удивлению, напился скромный парень, которого ласково называли Васильком.
Василек орал на всю палату заплетающимся языком:
— Где этот хирург? Позовите его. Я ему морду набью.
Замещая Идола, дежурила Варенька, но она была у тяжелобольного.
В дверную щель Шурочка видела: Люда спокойно вошла в палату.
— Отпустите его, что вы его держите, — властно произнесла она и уже другим тоном обратилась к пьяному парнишке: — Василек, ну чего ты расшумелся? Ведь нам тоже жаль Петровича. Петрович любил тебя и, знаешь, ему было бы за тебя совестно.
— Люда, думаете, я его не любил? Да он был мне заместо отца родного. Деньги я потерял. Я не просил, а он мне дал… Без звука. Деньги — тьфу… Он сознание мне дал. Я, как сюда приехал, думал — конец, в петлю. А он? Да я… — Василек кулаком с остервенением тер глаза.
Люда обняла его и подвела к кровати. Василек сел и, уткнувшись Люде в плечо, всхлипывал. Она что-то ему говорила и гладила по голове, плечам.
Парни деликатно вышли из палаты.
Шурочка оповестила:
— Утихомирился. Пока не уснул, не ушла. А он сразу, верите, как теленок стал.
— Пьяного разве криком возьмешь, — вздохнула тетя Нюра, — теперь его, поди, выпишут.
— Нет, надо отсюда уматывать, а то обратно заболеешь, — с ожесточением проговорила Зойка.
Промучившись без сна до трех часов, Ася, стараясь не шуметь, оделась и направилась в дежурку. Немыслимо лежать с открытыми глазами и видеть в темноте бледное лицо Петровича.
Так можно с ума сойти.
В пустынном коридоре — полумрак. Вот диван. Здесь он сидел. Разговаривал… Ждал ее… О чем-то хотел сказать ей…
Ася опустилась на диван. Посидела немного с закрытыми глазами.
У дверей сестринской вспомнила: сегодня дежурит Варенька. Но не спать остаток ночи невозможно. Варенька сидела за столом, по-бабьи подперев щеку рукой, перед ней лежала закрытая папка с историей болезни, Ася прочитала: «Курагин Александр Петрович».
Варенька подняла голову и обернулась — Ася увидела серое лицо с красными глазами. Вымученным голосом не Асе, а себе она сказала:
— Ведь я же его выходила…
Ася опустилась на кушетку и услышала:
— Примите-ка таблетку. Снотворное. Нельзя не спать.
Варенька проводила Асю до палаты. Но трудно было сказать, кто из них кого поддерживал.
…Анна Георгиевна ушла из больницы. Почему? Никто не знал. Что-то было известно Екатерине Тарасовне, но она помалкивала. Даже Шурочке ничего не удалось выведать. Уезжает, кажется, на юг. Говорят, будто дочка у нее болеет.
В пятой палате приуныли. Гадали, кто теперь будет их палату вести.
— Хорошо бы Нина Михайловна, — сказала Рита, — у нее всегда больные на первом плане. Все же не молоденькая.
— Ну, а Николай Павлович вон молодой, а ребята его хвалят за милую душу! — сказала Зойка.
— А что? Он красивенький? — оживилась Шурочка.
— Ну, ни стыда, ни совести — перед молодым-то оголяться.
— Так, тетя Нюра, он же не мужчина, а доктор.
Зойка хихикнула.
— Для тебя все ж перво-наперво мужчины. Ну, а доктор? — пропела Зойка. — Ну, а доктор уж потом!
— Смотри, Зойка, отрежут у тебя язык!
— А у меня все, что можно, уж повырезали, — беззлобно отшучивалась Зойка.
Нового врача, Римму Дмитриевну, женщину молодую, лет двадцати пяти — двадцати семи, кокетливую, с тонкими и звонкими каблучками, встретили сдержанно. Следили за ней придирчивыми глазами.
Кудри выпустила! Будто на танцы пришла. Нет, все не так, как у Анны Георгиевны.
— Не могли кого постарше поставить! — сокрушалась тетя Нюра.
Одна Екатерина Тарасовна молчала. Асю почему-то это задело, и она сказала:
— Римма Дмитриевна провела обход скоростным методом. И чего она все улыбается?
— А вы поставьте себя на ее место. Метод подстановки отлично помогает понять поведение незнакомого человека. А улыбаются иногда, чтобы скрыть смущение. Особенно молодые.
Ася обиженно замолчала.
Всего второй месяц она в больнице, а, кажется, вечность. И словно не она, а другая — беспечная и здоровая женщина, хорошо одетая, занятая собой, мужем, своими важными и интересными делами, равнодушно проходила мимо этого серого здания. И ни разу, ни единого разу не задумывалась о том, что делается вот за этими стенами.
Как за спасательный круг, Ася хваталась за вязание. Мелькали спицы. Мелькали мысли: грустные, путаные, цепляясь одна за другую, как петли.
Неожиданно уехала Зойка.
Муж договорился со своим товарищем, доставлявшим почту в их район.
Целый час Зойка ходила по палатам и оповещала:
— Мой-то! Стосковался — страсть! Самолет под меня посылает.
Провожала ее вся больница. Кто не мог выйти, высунулись в окна. Какой-то парень крикнул:
— Смотри, Зой, как бы твой летчик в космос тебя не отвез.
— А мне делов-то. В космосе, поди, тоже мужички водятся!
— Ну, и бедовая девка, — сказал кто-то.
— Какая она девка, у нее муж есть, — внесла ясность тетя Нюра.
— Ну, есть такие бабы, в которых, сколько они ни живи — девка не помирает, — сказала тетя Стеша.
Зойкину кровать заняла новенькая — женщина с рыбьим профилем и скрипучим голосом. Рассказывала она одно и то же. Схоронила мужа. Руководящий работник. Другие бы на его месте имели дачу, а у них — ничего. Осталась с дочерью. Студенткой. Только подумать — еще три года ее тянуть. На какие средства жить! На книжке всего тысяча. Разве это сбережения?! Просила мужа завести пианино. Так нет — вот и осталась на мели.
Манефа Галактионовна («ну и имя — не выговоришь», — жаловалась тетя Нюра) могла говорить своим скрипучим голосом несколько часов кряду.
Манефа — как сразу же стали называть ее за глаза в палате, — подсела к Екатерине Тарасовне.
— Я слышала, что вы тоже одинокая женщина, — завела она. — Самая несчастная женщина — вдова. Болеть и воспитывать ребенка — кошмар.
— У вас есть ребенок?
— Да, дочь.
— Это студентка-то?!
— Но она еще не на ногах. Нет, видно, нам с вами одно остается — последовать за своими мужьями.
— Ну, это как вам угодно! — с не свойственной ей резкостью проговорила Екатерина Тарасовна. — Что касается меня, так я не собираюсь умирать. Ася, вы еще не прочли ваших «Форсайтов»?!
Пелагея Тихоновна жаловалась:
— Как она заведет свою канитель, так у меня зубы ломит.
Однажды Манефа завела «канитель» в тихий час. Минут через пять раздался стук в стену и мужской голос крикнул:
— Выключайте шарманку! В ушах звенит!
— Хамы! — Манефа повернулась к Асе. — Это ужасно, когда мы — интеллигенты — вынуждены жить с простонародьем!
Манефа пересела на кровать тети Нюры.
Ася с тоской вспомнила Зойку, милую, бесшабашную Зойку. Скорее бы поправиться и выписаться. Уехать? Ася думала об этом теперь настойчиво. Приходили учителя, говорили, что ей дадут путевку на юг. Они поедут вместе с Юрием. Вместе — к Черному морю. Ради этого стоит потерпеть.
— Анна Семеновна, принесите мне, пожалуйста, аспирин, что-то зуб болит, — попросила Екатерина Тарасовна.
Ася сказала:
— Могу я.
Но Екатерина Тарасовна подмигнула ей.
Когда тетя Нюра вышла, Екатерина Тарасовна произнесла дрожащим от негодования голосом:
— Послушайте, мы все сочувствуем вашему горю, но нельзя же быть такой жестокой — вы битый час говорите Анне Семеновне о смерти.
Манефа вздернула рыбий профиль:
— Я жестокая?! А вы бессердечная женщина! Правду говорят, что судьи давно совесть продали, — сказав это, Манефа поспешно ретировалась.
— Нет Зойки, она бы ей всыпала по первое число! — возмутилась Шурочка.
— Ну и злая, — вздохнула Рита.
— За такие слова привлекать надо. Давайте напишем общее заявление, — предложила Пелагея Тихоновна.
— Нет уж, пожалуйста… — Екатерина Тарасовна брезгливо передернула плечом.
Ася отправилась к главврачу. Нельзя же всем молчать — нужно принять какие-то меры.
Главврач — тучный, начинающий стареть мужчина, в очках в золотой оправе, вежливо выслушал ее, а потом сказал:
— Милая девушка, вы поступили к нам лечиться и не обращайте внимания на пустяки. Не пустяки? Возможно. О павловском учении, надеюсь, мы знаем не меньше вашего. Извините, но я спешу на прием.
Он встал.
Утром на обходе Римма Дмитриевна сказала Асе:
— Будем вас готовить к операции.
Ася испуганно взглянула на врача.
— Мне Анна Георгиевна ничего про операцию не говорила.
— Она думала об этом. Но вас надо было сначала подготовить — подлечить.
Ася вспомнила Петровича.
— Нет, нет!
Римма Дмитриевна покачала головой.
— Пусть вас не тревожит то, что недавно было. Там был тяжелейший процесс. У вас другое дело.
Они не настаивают. Пусть Ася посоветуется с родными.
В пятницу будет расширенная консультация.
Агния Борисовна, услышав от Аси об операции, разволновалась.
— Конечно, соглашайся, Асенька. Надо идти на все, лишь бы быть здоровой.
Теперь свидания со свекровью оставляли у Аси тревожный осадок. Агния Борисовна кляла докторов, а заодно и всю медицину и часто повторяла:
— Как же это я просмотрела!
Вечером стало плохо Пелагее Тихоновне. Она лежала с кислородной подушкой.
Пятая палата провела ночь беспокойно.
Ася засыпала, просыпалась и снова засыпала. И каждый раз, открыв глаза, видела очень белое, страдающее лицо Пелагеи Тихоновны и около ее кровати — Римму Дмитриевну.
На другой день обход начался с опозданием. Пелагея Тихоновна дремала. Разговаривали шепотом. У Риммы Дмитриевны под глазами синяки, развившиеся локоны прямыми прядями то и дело выбивались из-под шапочки. Она уже не улыбалась, но в пятой палате ее встречали улыбками.
Настала пятница. Вся палата напутствовала Асю: «Ни пуха, ни пера».
У дверей, за которыми должна решиться ее судьба, Ася вспомнила слова Зойки: «Посадят тебя, а все врачи — штук десять сидят вокруг и смотрят на тебя, как удавы на кролика».
Никаких удавов! Интеллигентные, доброжелательные лица. От белых халатов — ощущение чистоты и свежести. В центре — грузная фигура профессора. Толстые щеки покоятся на туго накрахмаленном воротничке. Он смотрел на нее по-стариковски тепло, по-домашнему.
Ася смутилась: не знала, куда девать глаза, руки. Ноги стали ватными. Хорошо, что пододвинули стул. Ее о чем-то спрашивали, она что-то отвечала, а мысленно молила: скорее бы уйти.
Хирург — мужчина лет сорока с умным и суховатым лицом спросил:
— Вы хотите оперироваться?
«Какой странный вопрос? Разве можно этого хотеть?»
— Нет… Да… Собственно, если это необходимо…
— Видите ли, дорогая, — медленно заговорил профессор, — вот мы тут посоветовались и пришли к общему мнению, оперативное вмешательство вам показано. Вы молоды, процесс у вас свежий — все это говорит за операцию. Подлечим ваши бронхи, проверим их и, если все будет в порядке, удалим верхнюю долю легкого. Мы бы хотели знать ваше мнение: вы согласны на операцию?
— Да, согласна, — сказала Ася, изо всех сил пытаясь улыбнуться.
— Идите, деточка, — ласково произнес профессор. И заговорил с врачами другим, жестким голосом, профессорским.
— Ну, что? — подскочила к ней в коридоре Шурочка.
— Не знаю, — сказала Ася.
Больше всего на свете она сейчас хотела заснуть и не просыпаться до самой операции.
Ей сказали:
— К вам пришли из дома. Внизу дожидаются.
«Может быть, Агния Борисовна принесла письмо от Юрки», — эта мысль примирила с предстоящей встречей.
Она увидела его с верхней ступеньки лестницы.
Юрий показался ей очень высоким. Он прижимал к груди охапку желтых мимоз и пристально, без улыбки, смотрел на нее.
Ася на миг замерла, чувствуя, что ноги отказываются идти, потом медленно стала спускаться по лестнице. На последней ступеньке споткнулась. Он подхватил ее. Всхлипывая, прильнула к его плечу.
— Ну, перестань, Асенька, девочка. Слышишь? Что случилось?
— Потом скажу. Уйдем отсюда.
— Конечно. Иди, оденься. Я подожду на улице.
Одежду больным без разрешения врача гардеробщица не выдавала. На этот раз тетя Поля, питавшая, как и все пожилые санитарки, к Асе особую симпатию, — выдала вещи беспрекословно.
— Вот теперь другое дело, — сказал Юрий, оглядывая ее.
— Знаешь, уведи меня куда-нибудь, — попросила она. — Возьми такси и увези домой. Так хочу домой.
— А можно?
— Вообще-то нельзя. Но до обеда еще три часа. Никто и не узнает.
— Влетит от мамы. Куда бы нам махнуть?
— Махнем в лес! А? Ну, Юрка, пожалуйста.
— Идет!
Сидя рядом с ним в машине и прижимаясь щекой к его плечу, она спросила:
— Я очень похудела?
— Нет… Не очень…
— Почему ты не прислал мне телеграммы?
— Не хотел, чтобы ты волновалась.
— Знаешь, я чувствую себя школьницей, сбежавшей с урока.
— Ты всегда была маленькой девочкой.
— Вот именно — была! Я столько за эти два месяца, столько пережила, что самой себе кажусь старухой.
Она принялась, все время сбиваясь, рассказывать о больнице.
— Понимаешь, умер на операционном столе один больной… Необыкновенный человек… он… он… — Ася вдруг увидела тоскующие глаза Петровича и не выдержала — заплакала навзрыд.
— Ну, вот, этого еще не хватало, — произнес Юрий. — Забудь ты хоть на час об этой проклятой больнице.
Они остановили машину у березовой рощи и, наказав шоферу ждать их, пошли по дороге, уходившей в глубь леса.
После грохота города и свиста ветра за стеклами машины — вдруг лесная тишина. Кругом березы… березы… Белоствольные, с чуть зеленеющими тонкими косами. В дорожных выбоинах черные зеркальца луж отражают и синеву неба, и пышные облака, и вязь берез. Всюду, раздвигая прошлогодние листья — сухие и потемневшие, буйно лезла новая трава. Робко проглядывали подснежники. А запахи! Бог мой, какие запахи в лесу! Пахнет всем сразу: талыми водами, прелью, травой, клейкими почками и весенним тихим ветром, что запутался в вершинах деревьев.
Ася шла зачарованная, опьяненная.
Еще в машине муж несколько раз повторял: «Мне необходимо о многом поговорить с тобой», — а сейчас он молчал. Ася снизу взглянула на Юрия, и ее поразило хмуро-озабоченное выражение его лица.
— У тебя неприятности?
— Нет, что ты! Все хорошо. Лучше, чем я ожидал, — он горько усмехнулся. — Все, кроме твоей болезни. Но ты ведь справишься, девочка?
— Справлюсь. Тебе мама сказала об операции?
— Да. Я уже говорил с врачами. Ты обязана сделать все, чтобы поправиться.
— Я сделаю. Вот увидишь.
Он прижал к груди ее локоть.
— Я только боюсь, чтобы ты не промочила ножки.
Ася почувствовала себя непростительно счастливой и засмеялась.
— Ты что?
— Просто так… Хорошо!
— Да-а-а… — растерянно протянул он.
Они шли молча.
Но скоро в голове противно застучали молоточки. В ушах зазвенело. Ноги налились свинцовой тяжестью.
— О, черт! Тебе плохо?!
Между двумя деревьями Юрий устроил «кресло», подложив свой макинтош.
— Посиди, отдохни. Ты такая слабенькая, нельзя было тебя сюда привозить.
— Что ты! Сейчас все пройдет. Вот видишь, мне уже лучше. Юрка, где ты достал мимозы?
— Привез из Москвы. Проводницы воду меняли. Я сказал, что везу для жены. Ты не разговаривай. Отдышись сначала. У тебя ужасная одышка.
Несколько минут он как-то странно, пристально смотрел на нее.
— Нет, нет, я не могу. Это какая-то вивисекция, — произнес он чужим, отчаянным голосом и, упав перед ней, обнял ее колени и уткнулся в них лицом.
— Что с тобой?! — испуганно спросила Ася, безуспешно пытаясь заглянуть ему в глаза.
— Прости. Нервы. Меня так все это мучит, — произнес он, поднимаясь и избегая ее взгляда. — Ты посиди здесь, а я пригоню машину.
— Я одна не останусь. Ни за что!
— Боишься? Может повториться это? Что тогда… после премьеры?
И хотя Ася ничего не боялась, она кивнула. Они так мало были вместе. Надо было дорожить каждой минутой.
Возвращались медленно. Часто останавливались, и он притягивал ее к себе за плечи и целовал в висок.
Ночью, просыпаясь, Ася осторожно дотрагивалась до мимоз и подносила руки к лицу. Руки пахли лесом. Улыбаясь, она закрывала глаза. Видела лесную дорогу, Юрия и себя.
Юрий обещал прийти в одиннадцать, сразу после врачебного обхода. Ася долго сидела перед зеркалом, стараясь как можно лучше уложить свои пышные каштановые волосы.
— Ох, и любит, видать, муж, — сказала Шурочка. — Вы с ним пара.
Ася промолчала. Через двадцать минут увидит Юрия.
— А почему вы на разную фамилию? — продолжала допытываться Шурочка. — Вы Арсеньева, а он — Заверин. Из-за диплома?
— Так получилось, — сказала Ася. Не объяснять же, что она оставила свою фамилию в память родителей.
Пять минут двенадцатого! Ася вышла в вестибюль.
Навстречу ей поднялась Агния Борисовна.
— А Юра? — стараясь скрыть разочарование, спросила Ася.
— Он в театре. Его вызвали. Пойдем, Асенька.
— Пойдемте, — равнодушно согласилась Ася.
Свекровь долго вздыхала, нюхала карандаш от мигрени, жаловалась на головную боль. Наконец Агния Борисовна засобиралась домой. Проводив Асю до подъезда, свекровь сказала:
— Я завтра приду.
— Хорошо.
«А Юра придет?» — хотела спросить Ася, но удержалась. Свекровь все не уходила. Поймав Асин вопросительный взгляд, она полезла в сумочку.
— Тут, Асенька, тебе письмо от Юрочки. — Агния Борисовна подала конверт, поцеловала Асю, прослезилась и, сказав «Благослови тебя бог», — наконец, ушла.
Ася поднялась на чердачную площадку и, присев на подоконник, распечатала конверт.
«Моя дорогая девочка, знай, что ни одну женщину в мире я не любил так, как тебя, и, конечно, никогда не полюблю…»
Ася оторвалась от письма и глянула в окно на зеленеющий тополь. «Асенька, все, что я скажу тебе сейчас, я хотел, я должен был сказать вчера. Но у меня не хватило мужества. Пусть я трус и прибегаю к бумаге, боясь объяснения с тобой с глазу на глаз. Ася, я люблю тебя и поэтому жестоко страдаю. Верь мне! Но мы должны расстаться. Да, должны! Пойми, для меня разлука с тобой — несчастье, не меньшее, чем для тебя. Я должен все объяснить. Меня пригласили в Ленинград. Ты хорошо понимаешь, что это значит для меня. Но в Ленинграде климат ужасный — он погубит тебя! И потом: хочу быть до конца честным перед тобой — я боюсь туберкулеза не потому, что боюсь физических страданий. Мои душевные муки сейчас, когда я пишу тебе эти строки, — куда сильнее! Нет! Я боюсь другого. Асенька, ты знаешь, что для меня нет жизни без театра. Ради него я готов пожертвовать всем, даже самым дорогим — любовью к женщине. С тобой я могу быть откровенным. Я не страдаю манией величия, но я не фарисей. Я буду, я стану большим артистом. Но если я заболею — все пропало. Мама тебе говорила — я с детства предрасположен к легочным заболеваниям. Да и что за семья: муж — жалкий актеришка и больная жена. Нет! Это не для нас.
Тебе надо долго и упорно лечиться. Я всегда буду помогать тебе… Но, Ася, я ничего еще не решил Решай ты! Как ты скажешь — так и будет! Я отдаю свою судьбу в твои руки. Независимо от того, что ты решишь, я и мама сделаем все от нас зависящее, чтобы ты могла лечиться. Я буду о тебе страшно тосковать. Но когда я вспоминаю переполненный зал и зрителей, которые слушают меня, сознание, что мой талант приносит столько радости людям, — несколько смиряет меня с той болью, которую я приношу не только тебе, но и себе. Еще раз прости меня. Решай, Ася! Знай — последнее слово за тобой! Завтра за ответом придет мама. Если ты остаешься со мной — я приду завтра вечером. Если нет, то нам не следует видеться — лишняя травма для обоих. И тогда послезавтра я лечу в Ленинград.
Всегда любящий тебя Юрий».
Ася дочитала письмо и кто-то, со стороны, ее голосом сказал: «Он так не мог». Заново перечитала, словно ровные, без помарок строчки могли ее обмануть. Мелькнула мысль: «Письмо написала мать, а он переписал. Нет, сам. Неужели сам?! „Завтра за ответом придет мама“. Значит он даже за ответом не придет»… Внезапно заныли зубы, сдавило горло… Боль отошла постепенно, странное состояние — в ушах звон, в голове ни единой отчетливой мысли. Сидела на чердачной площадке, пока ее не позвали:
— Арсеньева, пора ложиться! Мертвый час.
«Мертвый час, а если для меня теперь вся жизнь — мертвая».
В палате, не раздеваясь, легла лицом к стене. Так весь день и пролежала, испытывая ощущение зыбкой пустоты вокруг.
…Шесть лет назад Ася возвращалась из туристской поездки по Алтаю. С вокзала, загоревшая, захлебываясь от впечатлений, она бежала домой. Хозяева (тетка снимала частную комнату) сообщили: тетка умерла от инфаркта. Пусть Ася не обижается, что ее не известили. Куда было посылать телеграмму-то? Жара. Пришлось поторопиться с похоронами.
Асю сразу же устроили в общежитие. Пришли подруги помочь собраться.
Уже на улице, не глядя ни на кого, Ася сказала:
— Я забыла одну вещь.
Вернулась проститься. Голый стол без скатерти. Обнаженная этажерка. Старенькое кресло, в котором тетка иногда засыпала. Обрывки бумаг и бечевок на полу…
Вот и сейчас у Аси на душе, как в той комнате — все вынесли, все куда-то ушло.
Пусто. Одни обрывки.
Ночью она подремала не более часу. Снотворное не подействовало. Нельзя заставить себя не думать — тут и лекарства бессильны. «Неужели конец всему?! Как жить без него?! Уж лучше бы я вместо Петровича… Что сейчас делает Юрий? Наверное, тоже мучается… У него талант, а у меня две каверночки. Он приносит людям радость, а я — горе. Не хочу быть камнем у него на шее. Но я могу вылечиться. А вдруг врачи мне говорят одно, а ему другое…»
И все же с рассветом, вопреки здравому смыслу, родилась робкая надежда — приедет Юрий и скажет, что все это придумала мать, а он не сможет так поступить. Ася гнала от себя эту мысль, стыдясь ее, но чем светлее становилось в палате, тем все чаще и чаще возвращалась к ней. И когда Варенька, еще в клинический час, с таинственным видом шепнула ей: «К вам пришли», у нее часто забилось сердце.
На скамейке под лестницей сидела Агния Борисовна. Сердце упало и покатилось. Не пришел!
У свекрови было какое-то пристыженное и в то же время заискивающее лицо. Ася старалась на нее не смотреть.
— Сейчас свидание не разрешают. Но здесь никто не увидит.
Ася молчала.
— Ну что же, Асенька?
— Скажите ему… он свободен.
Свекровь тяжело задышала.
— Ты написала ему?
— Нет. Так скажите.
— Не могу, Ася Он не поверит.
— Не поверит?!
— Да… Ты не представляешь, как он мучается, страдает. Ты напиши, у меня есть бумага и карандаш. Я взяла на тот случай, если тебя не позовут.
Ася написала: «Ты свободен. Я все понимаю. Прощаться не приходи. Ты прав: это излишняя трепка нервов. Я буду счастлива, если ты станешь большим артистом. Ася».
Свекровь, взглянув через плечо, всхлипнула.
— Ася, ты ангел! — Она схватила Асину руку и поцеловала ее.
— Не надо!
— Асенька, я буду навещать тебя каждый день. Если тебе трудно станет, я всегда… У меня ведь есть свои сбережения.
— Не надо, я получу по больничному. И потом… мне же здесь ничего не надо. Я вас только прошу… не приходите ко мне.
— Хорошо, хорошо. Как хочешь… Но если что, позвони.
— Да.
— До свиданья, детка. — Она поцеловала Асю в лоб. — Да благословит тебя бог.
Вернувшись в палату, Ася снова легла лицом к стене. В такой позе она лежала теперь целыми днями, притворяясь спящей. С нетерпением ждала ночи. Глотала снотворное и засыпала тяжелым сном. Мучали какие-то кошмары. То она пробиралась через обледенелый Ленинград, искала среди обломков мужа, то бродила по березовой роще: где-то там, за деревьями — Юрка. Видела мелькающий знакомый силуэт, бежала к нему, но деревья смыкались, преграждая путь. Просыпалась с холодным потом на лбу. Потом снотворное перестало действовать… Стоило ей только закрыть глаза, как она видела его крупное, с неправильными чертами лицо, такое характерное, ни на кого не похожее. Ощущала прикосновение его рук.
По вечерам ртутный столбик упорно лез вверх. Пусть. Это к лучшему: не надо вставать, не надо разговаривать, ходить в столовую.
В воскресенье, когда она лежала одна в палате, в дверях неожиданно появилась маленькая, приземистая фигура в белом халате.
— С чего это вы вдруг затемпературили? — спросила Александра Ивановна.
— Не знаю. У нас бывает.
— Вы плохо себя чувствуете?
— Обыкновенно.
— Я звонила к вам в школу. Обком союза обещает путевку.
— Да. Мне написали.
— А когда операция?
— О сроках пока еще не известно.
А ночью не выдержала: встала, накинула халат и тихонько пробралась на чердачную площадку. Присела на широкий низкий подоконник.
По черному стеклу текли дождевые капли. Ася прижалась горячей щекой к стеклу. Чьи-то тихие шаги заставили ее оглянуться.
— Ася, что с вами? — спросила Екатерина Тарасовна, садясь подле нее и беря ее руку в свои.
«Что им всем от меня надо?» — с досадой подумала она. И вдруг, как бросаются в холодную воду, очертя голову:
— Я разошлась с мужем!
Она не знала, зачем это сказала. Достала из кармана халата письмо и протянула его Екатерине Тарасовне.
— Прочтите это. Прочтите, — настойчиво повторила она тоном, заставившим Екатерину Тарасовну подчиниться.
Екатерина Тарасовна, не проронив ни слова, вернула письмо, обняла Асю за плечи и прижала к себе.
Ощутив щекой мягкое, теплое плечо, Ася расплакалась. Потом стихла.
За черными блестящими окнами лил дождь.
Тусклая электрическая лампочка освещала лестничную площадку, узкую дверь на чердак и двух женщин в больничных халатах, сидящих на подоконнике.
Снизу раздался голос Идола:
— Это еще что за хождение по ночам! Больные, идите спать! Завтра будет доложено вашему врачу.
Екатерина Тарасовна поднялась:
— Не стоит подводить Римму Дмитриевну.
Однажды в больницу явился весь класс.
В те пятнадцать минут (больше им не разрешили), пока Ася была с ребятами, все, что ее мучило, вдруг отошло на задний план. Ребята говорили наперебой. Молчал один Ренкевич.
— Как ты живешь, Лева? — спросила она.
Он покраснел:
— Нормально. Вам хоть немного лучше?
Сразу стало тихо. На нее, как в давние времена, смотрели сорок пар глаз.
— О да, конечно! — ощущая всю ненатуральность своего голоса, проговорила она.
— Вас скоро выпишут? — Люда Шарова оглянулась на ребят.
— Нет, это длинная песня.
Они о чем-то перешептывались.
Потом Ренкевич вытащил из внутреннего кармана пальто листок бумаги.
Люда Шарова пояснила:
— Лева посылал в газету «Медицинский работник» письмо, спрашивал, — она смешалась, — ну, в общем, про вашу болезнь.
«Кому-то все же я нужна».
Оставшись одна, Ася прочитала ответ на Левино письмо. Подпись доктора медицинских наук. Здесь она не раз слышала это имя. «Дорогой Лева, ваша учительница, если она будет упорно лечиться, — безусловно поправится. У нас в клинике была больная. Тоже учительница. Сейчас у нее нет и в помине туберкулеза. Сначала она работала в школе взрослых, а вот уже два года — в детской. Она воспитывает не только чужих детей, но и своих. Вы, Лева, решили посвятить свою жизнь медицине. Что же, это похвально! Но знайте: на этом пути терний больше, чем роз. Врач — это не профессия, а призвание. Вы спрашиваете, что главное для врача? Знание и диплом — дело наживное. Главное — любовь к человеку».
…Прилетела на самолете из района, где она учительствовала, Томка. Прилетела на четыре часа. И сразу с аэродрома, в сапогах, в брезентовом плаще, надетом поверх телогрейки, — заявилась в больницу.
Ася повела ее на скамейку в углу сквера. Томка, маленькая, глазастая, не обладала выдержкой Александры Ивановны, она плакала и ругалась. Юрий — растленный тип. Ася должна забыть его. Навсегда. Вычеркнуть из жизни. Ничего нет невозможного! Встретится еще хороший человек. Встретился же Петрович. Безумно его жаль. Конечно, он любил! Тут и сомнения нет. Слава богу — ходят по земле Петровичи! Об Агнии Борисовне нечего говорить. Материнство материнством — но ты будь человеком! Ну, на нее наплевать! Письмо от Юрия можно послать в «Комсомольскую правду». Ну, ладно, ладно. Это ее право. Только уж она, Томка, не стала бы молчать! А вот ребята молодцы! И у нее есть такой же парнишка. Профессор с мировым именем врать не станет. Надо лечиться. Конечно, обидно терять годы. Но что поделаешь! Сейчас все надо подчинить одному: поправиться, чтобы вернуться в школу.
Томка говорила прописные истины. Но как говорила! Ее слова успокаивали, будили надежду: не все потеряно.
Ася с нетерпением стала ждать операции. Но ей сказали: с операцией следует повременить. Надо подлечить бронхи и снять процесс в правом легком. Это хорошо, что достали путевку на юг. Морской воздух излечивает бронхи. Если там предложат операцию, конечно, нужно соглашаться.
Об этом своем последнем разговоре с врачом Ася не написала Томке. Зачем? Пусть верит.
…Через две недели, получив путевку в санаторий, Ася выписалась из больницы. Пришла за ней Александра Ивановна и увела к себе. Она же со старшим сыном сходила за Асиными вещами.
Уезжала Ася ночью, ни с кем не прощаясь. По ее просьбе Александра Ивановна утаила день отъезда.
Ася стояла в тамбуре вагона и смотрела с нежностью на маленькую квадратную фигурку.
Стал накрапывать дождь. Здание вокзала сияло огромными окнами. Спешили пассажиры. Все куда-то торопятся. Она подумала: «А я уже никуда не тороплюсь».
— В дождь уезжать — к счастью, — сказала Александра Ивановна.
Диктор объявил отправление.
— Спасибо вам за все, — Ася помахала рукой и прошла в вагон, к окну.
Освещенный перрон и на нем одинокая маленькая фигурка медленно уплывали назад.
В этот город она больше не вернется. Ей здесь делать нечего. А там — будь что будет! А, впрочем, стоит ли загадывать, когда она не знает, сколько ей еще осталось жить… месяцев… дней…
Часть вторая
Анна Георгиевна не уставала восхищаться яркостью красок в Крыму: слепящее солнце, необычайная голубизна высокого неба, белые здания дворцов-санаториев на фоне густо-зеленых парков. Но, конечно же, чудо из чудес — море! Перед восходом — смуглое, днем в море играет, дробясь и сверкая, тысяча солнц, а вечером море вбирает в себя все: и вечернюю зорю, и зеленую береговую оправу, и лиловые тени скал, и огни проходящих судов. Ночь на юге наступает внезапно — точно срывается с каменистых гор. И если ночь лунная, то глаз не оторвешь от дрожащей феерической дорожки на море. Было бы у Анны время, она часами бы сидела у моря, бродила в парке. Каких только нет деревьев на этой обетованной прибрежной полоске земли. Кажется сказочным земляничное дерево, не случайно прозванное курортницей-бесстыдницей, нежно-золотистые лохмотья коры позволяют любоваться гладким, земляничного цвета, голым телом дерева.
…И вот сейчас, ожидая главного врача санатория, Анна загляделась на глицинию, — удивительное зрелище! — цветущий водопад обрушивается с высокой стены, по серому камню спадают ярко-синие струи гроздьев глицинии.
— Любуетесь нашим благословенным краем? — услышала Анна голос и быстро обернулась.
— Да. Удивительная природа.
— Это вам не угрюмая Сибирь.
— Вы не знаете Сибири!
— Почему же вы уехали оттуда? Простите, спрашиваю не как главный врач, а так… Вы работали, насколько мне известно, в хорошей больнице.
— В этой больнице умер мой муж. У детей был длительный контакт. Ради детей я должна была уехать. Сами понимаете…
— У меня никогда не было детей.
Анна взглянула на женщину, сидящую за столом. Бледное лицо, нос с горбинкой. Тонкие губы слегка подкрашены. Сколько же ей лет? Сорок или пятьдесят?
— А что с вашими детьми?
«Она не из тех, кто каждому жалуется на свою судьбу», — подумала Анна. Ей еще в курортном управлении сказали: «Маргарита Казимировна Спаковская — волевая женщина, с таким главным врачом хорошо работать».
— Так что же? Серьезное что-нибудь? — повторила вопрос Маргарита Казимировна.
— У старшего ангина. У дочки нынче появился очажок. Я страшно за нее беспокоюсь.
— Надеюсь, ваши дети здесь окрепнут. Климат наш благотворно действует на самые тяжелейшие процессы.
Маргарита Казимировна встала и прошлась по кабинету. Анна слышала: за глаза Спаковскую называют Королевой Марго. Что-то величественное есть в ее осанке, в манере держать голову чуть запрокинув, в скупых округлых жестах. Она не идет, а несет себя.
Спаковская подошла к окну.
— Сначала я жалела, что у меня нет детей, — после паузы заговорила Спаковская. — Мой муж погиб на фронте. А теперь пришла к выводу — все к лучшему. Ущербно, когда дети растут без отца… У меня большая работа, для себя не остается времени. Моя личная жизнь — моя работа. Но, вероятно, это удел всех женщин, стоящих на так называемом руководящем посту. Двум богам не служат. Вы не согласны со мной?
— Наша современница служит трем богам: детям, мужу и обществу.
— Вы ее жалеете?
— Я ей сочувствую.
— Но если отнять у нее возможность служить обществу — она будет несчастлива, это значит отбросить ее на сто лет назад.
— Никуда не надо ее отбрасывать. Пусть только будет побольше ясель. И домовых кухонь. Я однажды подсчитала, сколько времени тратит женщина на всю эту домашнюю «музыку»… А впрочем это старая песня…
Анна встала.
— Ну, что ж, Анна Георгиевна. Сейчас я познакомлю вас с нашим хозяйством, а после пятиминутки пойдем в ваше отделение, — предложила Спаковская.
Выходя из кабинета, Спаковская взглянула на себя в зеркало: поправила докторскую шапочку из плотного белого шелка, одернула туго накрахмаленный халат.
Такие изящные туфли на высоких «шпильках» Анна надевала лишь в театр. «Молодчина „Королева“», — отметила про себя Анна.
Перехватив взгляд Анны, Спаковская сказала:
— Мой девиз: женщина до тех пор женщина, покуда она следит за собой. Перестанешь — сразу состаришься. Я не позволяю себе распускаться.
Анна взглянула на свои растоптанные босоножки и с грустью подумала: «Вовке надо каждый месяц покупать новые ботинки».
На крыльце Анна остановилась. С первых дней, когда она еще приезжала из Ялты устраиваться на работу, ее поразило обилие клумб в санатории: всюду цветы, цветы, цветы…
— У вас искусный садовод, — сказала Анна.
— Лучший на всем побережье! Я считаю — лечение больного начинается с ландшафтотерапии.
— Полностью согласна с вами, — горячо отозвалась Анна. — Меня всегда угнетала унылая обстановка в наших диспансерах и больницах.
Они прошли по асфальтированной дорожке, по обеим сторонам которой цвели фиолетовые ирисы. По широким ступеням поднялись к белому зданию и очутились в просторном вестибюле.
Спаковская приподняла пеструю портьеру и, пропустив вперед Анну, сказала:
— Вот наша столовая. Ну, как? Нравится?
Несколько минут Анна молча разглядывала большой зал. И тут великое множество цветов. Из зала через застекленные двери — выход на просторную веранду, с трех сторон затянутую тентом. По столбам и перилам вьется плющ, с южной стороны тент приподнят: цветущими террасами спускается берег, а там море — голубые просторы поднимаются ввысь, сразу и не различишь, где небо, а где море.
— Великолепно! — снова вырвалось у Анны.
Довольная улыбка мелькнула на лице Спаковской.
Из столовой они спустились к морю в аэрарий. И тут во всем — внимание к больным. Открытый солнцу и морю деревянный павильон, разделенный на кабины. Кровати заправлены покрывалами, над изголовьями — лампочки, можно читать лежа.
— Сервис складывается из пустяков, — проговорила Спаковская, показывая на деревянные полочки с вешалками. — Недавно я обследовала один санаторий. Там все кровати с заржавевшими спинками. Очень неопрятное зрелище. А почему? Да потому, что негде сушить полотенца, их сушат на спинках кроватей. Эти вешалки нам ровно ничего не стоили. Их сделали отдыхающие в часы трудотерапии. У нас все, кто могут, — занимаются трудом. Это прошу вас учесть. У нас хорошо оборудованная столярка. К сожалению, у меня нет времени сейчас вам ее показать: нам пора на пятиминутку.
Анна еще раз взглянула на море. По голубому зыбкому простору рассыпались лодки.
— Далеко же они заплывают, — заметила Анна.
— Это не наши, — решительно произнесла Спаковская.
Анна подавила улыбку. Они медленно стали подниматься по лестнице из каменных, выщербленных от времени плит.
— Скамейки тоже пустяки. Их сделали сами отдыхающие. Не всем же легко подниматься.
Спаковская тяжело дышала, но шла, не останавливаясь, постукивая высокими каблучками.
Анна все оглядывалась на море, забирающееся к самому небу.
На пятиминутке Анна с любопытством принялась разглядывать своих новых коллег. Седой, худощавый, с болезненным лицом старик — рентгенолог Григорий Наумович Вагнер. Ему даже говорить мешает одышка. Вероятно, астматик. Рядом со стариком — цветущая женщина. Она чем-то напоминает купчиху с полотен Кустодиева. Сколько на ней золота: серьги, золотые часы на золотом браслете, кольца чуть ли не на каждом пальце, медальон. Женщина заговорила:
— Между прочим, у Жанны Алексеевны пустует место на море, а я не могу для моей Черниковой добиться места на море.
— Почему вы своевременно мне об этом не доложили, Таисья Филимоновна? — Спаковская повернулась к «купчихе» и с явным неудовольствием добавила: — Учтите, у вас отпуск только через неделю. Прошу оставить чемоданное настроение.
— Между прочим, Сашу Черникову нельзя пускать к морю, она перебудоражит все мужское поголовье, — раздался голос из угла.
У Анны мелькнула беспокойная мысль: Вовка умчится к морю и забудет о Надюшке.
— Сергей Александрович, я, кажется, просила — без пошлостей, — повысила голос Спаковская.
— Пардон, ничьей целомудренности я не хотел оскорбить.
«Уж очень он бесцеремонен, этот начальник медицинской части», — подумала Анна. Встретившись с ним взглядом, она поспешно отвернулась, а потом, досадуя на свою поспешность, холодно глянула ему в глаза.
Он сидел, откинувшись на спинку кресла, положив ногу на ногу. Темные, тщательно зачесанные волосы открывают высокие залысины. Усы придают его лицу несколько фатоватый вид. Взгляд серых, глубоко посаженных глаз как бы говорил: «Угодно это вам или не угодно, но я вас вижу насквозь». И это почему-то раздражало Анну.
Она старалась не смотреть в его сторону, но всей кожей ощущала, что он наблюдает за ней.
Когда пятиминутка кончилась, Журов подошел к Анне.
— Курите? — он протянул ей сигареты.
— Нет.
— И конечно же, принципиально.
— Просто меня потешают эскулапы, которые, прочитав лекцию о вреде курения, торопятся закурить.
— Я так и полагал, врачу — да исцелися сам. Так?
— Если угодно — так!
Журов, улыбаясь, поглаживал усы. Анна обозлилась: «Идиотский разговор. Что ему, собственно, нужно?» Ее выручила Спаковская:
— Доктор Буранова, идемте — я вас представлю, — сказала «Королева».
Они вышли за ворота санатория.
— К сожалению, ваше отделение на отшибе. Это страшно неудобно. Но отказаться от этого здания я не могу: оно очень комфортабельно. Для особых больных есть все условия. Как видите, я вам выбрала лучший корпус.
Было столько поворотов, дорожек и тропинок, ныряющих в самшитовые заросли, что Анна сказала:
— В этом лабиринте можно заблудиться.
— Когда идете ко мне, держите курс на море.
Из-за кипарисов выглянуло двухэтажное белое здание. «Главное, — подумала Анна, — большие веранды на юг».
В вестибюле, превращенном в своеобразную комнату отдыха, Спаковская произнесла, показав на девушку с красной повязкой:
— Наши помощники — общественные дежурные. Дежурят все отдыхающие. Идемте в кабинет, познакомитесь с вашей сестрой.
Мария Николаевна понравилась Анне. Почти с нее ростом, круглолицая, преждевременно поседевшая.
— Наша лучшая сестра, — представила ее Спаковская.
— Давайте не будем, — грубовато оборвала «королеву» Мария Николаевна и, взяв со стола папки с историями болезни, спросила: — Ну что, начнем, пожалуй?
— А нельзя ли, чтобы с нами пошла врач, которая вела этих больных до меня, — обратилась Анна к Спаковской.
— Она на больничном. Кстати, Виктория Марковна врач молодой. Надеюсь, вы ей поможете.
— Да, безусловно.
Сестра сказала:
— Надо бы зайти к Харитоньеву. Он собирается жалобу писать.
— Опять?
— Как всегда.
— Идемте к нему.
На кровати, укрывшись одеялом до подбородка, лежал пожилой человек с крупным мясистым лицом и читал.
— Что же вас сегодня беспокоит? — спросила Спаковская.
Харитоньев заложил страницу закладкой, засунул книгу под подушку, снял очки и только тогда заговорил. Конечно, изжога, которая его совершенно замучила. Лечащему врачу говорить бесполезно. Диетсестре тоже. И вообще, он чувствует себя все хуже и хуже. Вчера он температурил. Чем это вызвано? За последние дни у него увеличилась селезенка. Пусть Мария Николаевна не улыбается. Кажется, ничего смешного он не сказал. А если его не хотят лечить, — пусть так и скажут.
Он говорил долго, подогревая себя жалобами.
— Пожалуйста, запишите, — Анна заглянула в историю болезни, — Никанора Васильевича ко мне на прием.
Но Харитоньев не унимался. Поговорив о бессоннице, принялся жаловаться на своего соседа: на редкость неприятная личность. Пусть его переведут в другую палату.
«Уж вряд ли неприятнее тебя», — подумала Анна и ту же мысль прочла на лице сестры.
— Вы же сами просили двухместную палату, — сказала Мария Николаевна.
— Я не с вами разговариваю, а с доктором, — оборвал ее Харитоньев. — Я, как персональный пенсионер, имею право на особые условия.
— У нас есть свободная койка в пятиместной. Только на северную сторону, — невозмутимо предложила Мария Николаевна.
Харитоньев заговорил, голос его срывался. Как это расценить? Он приехал отдыхать. Он не позволит обращаться с ним, как с мальчишкой. Он напишет в ЦК. Он сделает это не ради себя, а ради других, пусть хоть у других будет отдых полноценным.
Ни один мускул не дрогнул на лице Спаковской. Она позволила ему выкричаться и, когда он, наконец, замолчал, как ни в чем не бывало спросила:
— Никанор Васильевич, а когда же выступите перед отдыхающими? — И, обращаясь к Анне, пояснила: — Никанор Васильевич — удивительный рассказчик.
— Да, — пробормотала огорошенная столь резким переходом Анна.
Мария Николаевна пренебрежительно фыркнула.
В дверь заглянула санитарка.
— Маргариту Казимировну вызывают к телефону.
Все облегченно передохнули. Спаковская на минуту задержалась, договариваясь с Харитоньевым о его выступлении. Когда они вышли из палаты, Анна спросила:
— Он действительно интересный рассказчик?
— Заговорит всех до столбняка, — сказала Мария Николаевна.
— Зачем же…
— Мы договорились на той неделе, потом перенесем, а там у него и срок кончится, — Спаковская засмеялась.
«Это надо уметь», — не без иронии про себя отметила Анна.
Поговорив по телефону, Спаковская сообщила: приехали из курортного управления, придется обход продолжить без нее.
— Покажите мой кабинет, — предложила Анна сестре. — Я хотя бы мельком просмотрю истории болезни. Десяти еще нет.
Войдя в большую светлую комнату, свой кабинет, Анна удивилась:
— Ведь здесь же свободно разместились бы четыре кровати. Разве нет в корпусе более подходящей комнаты для кабинета?
— Есть.
— Вы мне ее покажите, — Анна заглянула в историю болезни и, удивленно приподняв густые брови, проговорила: — Ну и ну! Харитоньеву 73 года. Да он великолепно сохранился.
— А как же! Туберкулеза у него нет и в помине, а каждый год отдыхает здесь.
— Почему?
Мария Николаевна в ответ только пожала плечами.
— Я слышала ваш разговор с начмедом о курящих медиках. Но у меня… — она вытащила из кармана папиросу и подошла к окну: — хроническая болезнь.
— Вы были на фронте? — спросила Анна.
— Да. С первого дня до последнего. А вы?
— Была. Простите за назойливость. Нам вместе работать. У вас есть семья?
— Есть. Я воспитываю племянника. Собственно, это даже не племянник, а пасынок моей умершей сестры. Я его усыновила. Такой занятный хлопец.
«Значит, мужа у нее нет», — решила Анна.
— Я хочу вас предупредить, доктор: у меня характер неуживчивый.
— Между прочим, и у меня неуживчивый. От сестер я требую безукоризненного порядка в отделении и исполнительности.
— Спаковская тоже.
«Что она этим хотела сказать?» — подумала Анна и, взглянув на часы, встала. Пора на обход.
Поднимаясь по лестнице, услышала снизу голоса. Разговаривали в гладилке, расположенной под лестницей.
Молодой девичий голос произнес:
— Глянь-ка — новый врач.
— А толку, что новый, — голос был хриплый и принадлежал явно пожилой женщине, — нам от этого не легче. Прилетела какая-нибудь птичка-курортница почирикать.
Анна оглянулась на идущую позади нее сестру. Лицо Марии Николаевны было непроницаемо. На Анну сестра не смотрела.
Надюшка сказала:
— Мама, пойдем погуляем. Сегодня воскресенье. Ты обещала в воскресенье со мной погулять, — девочка подошла к раскладушке, на которой Анна устроилась с книгой, и, склонив круглую головку с косичками-хвостиками к плечу, заглянула в лицо матери.
— Ты видишь, что я легла отдохнуть. Я устала.
— Ну, тогда в гости, — тянула Надюшка, — а в гостях ведь ничего не делают.
— Иди играй! У тебя есть новая посуда: угощай кукол. Пусть они к тебе в гости придут.
— А можно взять печенья и конфеток?
Получив разрешение, Надюшка подтащила стул к буфету и оглянулась: мать лежала с закрытыми глазами. Натолкав в карманы печенья и конфет, Надюшка отправилась в свой угол. Оттуда донеслось: «Пожалуйста, раздевайтеся, сейчас будем чаи гонять. Я предпочитаю домашний торт, у покупного крем пахнет мылом». Изобразив реакцию гостей громким смехом, Надюшка испуганно оглянулась: «Вы извините, — сказала она, — но я попрошу потише — наши соседи спят».
Анна не спала. «Пойти в гости? Не к кому, — раздумывала она, — хотя я здесь почти что месяц. В моем возрасте друзей не легко заводить. Но раньше-то я умела и за неделю подружиться. Вероятно, людям со мной скучно», — вздохнула Анна. Собственно, она и не успела как следует познакомиться со своими коллегами. Отделение, где она работает, на отшибе. Как-то врач Вера Павловна пригласила ее на чашку чая, но разве у нее, Анны, есть время? Чуть ли не каждый день, после работы, накормив ребят, она отправлялась на автобусную остановку, потом около часу тряслась в душном автобусе. Она уже проклинала себя за непростительную глупость: распродать мебель…
В Ялте она шла в мебельный магазин (ее разбирала досада: ах, если бы деньги — все было бы значительно проще), потом возвращалась на пропахнувший бензином ялтинский пятачок автостанции и, пытаясь спастись от палящего солнца под газетой, стояла в очереди. Потом снова тряслась в автобусе. Однажды в Ялте на набережной, усталая, забрела в маленький темноватый магазинчик керамики. В этот день у нее не было ощущения пустоты поездки. В ее сумке лежали: зеленый баран, коричневая птица с радужным гребнем на изящно вытянутой головке, пятнистый олененок на неправдоподобно высоких растопыренных ножках.
Анна открыла глаза, глянула на веселые ситцевые занавески и подумала: вот у нее и новый дом (сто раз в душе Анна благодарила Спаковскую: если бы не она, так быстро квартиру не получить), и в нем хорошо. Правда, немного пустовато.
Теперь можно и гостей пригласить. Но кого?
Больше других Анна была расположена к Жанне Алексеевне. Знающий врач, как будто умна, доброжелательна. Только она всегда точно в скорлупе. Говорят, она очень погружена в семейные дела.
Вообще-то, кажется, симпатичный человек и Вера Павловна. Лечит несколько по старинке. Но добросовестна, чуть ли не до педантизма. В один из субботних вечеров Вера Павловна зашла к ней, Анне, за каким-то советом. Несмотря на немолодые годы, Вера Павловна всегда хорошо одета, держится прямо, на ногах старомодные лакированные туфли с пряжками и широким небольшим каблуком. Видимо, она не прочь вечерок была посидеть, но как назло в Вовку и Надюшку словно бес вселился: они с таким грохотом возились на веранде, что гостья поспешно засобиралась домой.
«Плохо, что с Марией Николаевной у нас контакта не получается», — в который раз пожалела Анна. — «Ну, а кто еще?» — спросила она себя. С Таисьей Филимоновной они встречались всего неделю на пятиминутке. Сейчас она в отпуске. Поговаривают, что ее на усовершенствование собираются посылать. «Только вряд ли ей это впрок. Может, я ошибаюсь!» — одернула себя Анна. Отчего родилась неприязнь? Оттого, что жеманна? Что увешана золотом? Не в этом дело. Как-то Таисья Филимоновна говорила о больном с нескрываемым раздражением. А если этот больной вроде Харитоньева… И все-таки она — купчиха. Сытая. Самодовольная.
Вспомнила Анна и двух молодых врачей. В больнице она дружила с молодежью. А тут молодежь держится особняком. Анна вздохнула.
— Мама, ты не спишь? — Надюшка подошла и потерлась шершавой, липкой от конфет щекой об Аннин локоть. — У тебя что-нибудь болит?
— Почему ты решила, что болит? — спросила Анна.
— А Григорий Наумович так вот подышит, — Надюшка открыла рот и громко подышала, — потом таблетку-лекарство в рот возьмет. Он сказал чего-то, я забыла, чтобы не болело.
— Ничего у меня не болит, — Анна притянула к себе круглую головку дочки и поцеловала ее в макушку.
— Я гостей провожу и полежу с тобой. Ладно?
«Он-то себя не бережет», — подумала Анна о Вагнере. Вот с кем обо всем можно поговорить.
Вовка, когда ему хотелось избавиться от Надюшки, подбрасывал сестренку Григорию Наумовичу.
Вчера Анна, злясь на Вовку, пошла за дочерью к Вагнеру. Надюшка спала, раскинувшись на диване. Григорий Наумович, сидя в кресле у окна, читал. В мрачноватой комнате книги на шкафах, на столе и на полу. Вагнер обрадовался приходу Анны. Засуетился. Усадил в свое кресло.
— Побудьте со мной. Прошу вас. Хотите послушать оперу? Что будете слушать? Могу предложить любую, на выбор. — Он смущенно потер рукой небритый подбородок.
Они слушали «Пиковую даму». За два часа не обмолвились ни единым словом. Ей не хотелось разговаривать. Поставив локти на подоконник и подперев щеки ладонями, она смотрела на море, забыв о хозяине дома. И он не мешал ей. Оказывается, с ним хорошо и помолчать.
Перед Анной сидел худощавый маленький старичок, бархатный воротник и бархатные лацканы несколько широковатого пиджака делали старичка старомодным. Седые волосы прикрывали непропорционально с туловищем большую голову. Коричневое высохшее лицо изборождено глубокими морщинами.
— Семен Николаевич Захаров? — спросила Анна.
Старичок молча наклонил голову.
— Итак, вы заболели впервые в 1905 году?
— Да. Видите, как я стар.
— Что послужило причиной заболевания?
— Я заболел в ссылке, в Нарыме.
— Какой у вас тогда был процесс?
— Понятия не имею, — Семен Николаевич покачал большой головой и развел сухонькие ручки, коричневые, как у святых на иконах. — Там даже фельдшера не было. Вы можете не поверить — меня вылечила бабка. Каким-то настоем трав, медвежьим салом. Я был молод. Страстно хотел жить. Молодой организм прекрасно справился. — Старик говорил, тяжело дыша. После каждой фразы — пауза.
— Когда возобновился процесс?
— В двадцатом.
— Лечились?
— Да. — Семен Николаевич глянул на Анну. — А вы знаете, кто меня спас?
— Кто?
— Владимир Ильич! Нас вызвали в Москву. Я был у Ильича… Меня выдал кашель… Ильич спросил… о моем здоровье. А потом дал распоряжение, и меня отправили в Крым. — Старик замолчал. Сидел неподвижно, полуприкрыв глаза, словно вспоминая.
Анна долго выслушивала и выстукивала его, поражаясь, чем дышит этот человек, Казалось, каждая клеточка организма изжила себя.
— Такую старую развалину, как я… трудно лечить, конечно… Но я должен… протянуть еще хотя бы год.
— О, мы еще поживем! И не один год.
— Мне надо год, — упрямо повторил старик. Словно это зависело от Анны: подарить ему этот год или не подарить. — Я должен закончить работу… Так я бы не согласился понапрасну занимать место… Лучше лечить молодого… Больше толку… Но без санатория мне не протянуть…
— Что вы пишете?
— Конечно, мемуары… Что пишут в моем возрасте?
— Неужели вы и сейчас ухитряетесь работать? Вас же четверо в палате.
— Я пишу в тихий час, когда все спят.
— В тихий час вам нужно отдыхать. И вообще, я бы хотела, чтобы вы в санатории не работали.
— Прошу вас, доктор… Я себя не перегружаю. Часок, два. Полстранички в день… Поверьте, если я хоть десяток строк напишу… я чувствую… еще живу… Мне осталось пустяки… одну главку…
Анна взглянула на руки, которые никак не хотели успокоиться.
— Не сегодня-завтра освободится палата на одного. В ней вам никто не будет мешать. Но с условием: работать только по утрам, за столом не засиживаться, в тихий час — отдыхать. Нарушите уговор — отберу бумагу. Договорились?
— Договорились.
Руки, успокоившись, легли на колени.
Закончив прием, Анна позвала сестру.
— Мария Николаевна, когда же дадут кровати?
— Мазуревич сказал — завтра.
— Я здесь почти месяц — и слышу это каждый день.
Мария Николаевна пожала плечами.
Анну редко обманывала интуиция: не понравится человек с первого взгляда — не понравится и позже. Но ради справедливости старалась побороть неприязнь. В этот же раз ничего не получалось. Заместитель Спаковской по хозяйственной части Вениамин Игнатович Мазуревич с первых дней вызвал у Анны антипатию. Все в нем ее раздражало: манера перебивать собеседника, его прямой, как бы срезанный затылок, тяжелая отвисшая челюсть.
— Ну вот что, с Мазуревичем я буду разговаривать на пятиминутке. Завтра же, когда больные уйдут в столовую, переоборудуйте палаты. Из двух одиночных перенесите кровати сюда. Ту одиночную, что на север, — под мой кабинет. А в ту, что на юг, переведите Семена Николаевича Захарова.
— Собственно, что мы этим выигрываем? От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
— Выигрываем две койки. И завтра же добавим их сюда.
— Вы плохо знаете Мазуревича. Не стоит, пока не получим кровати, затевать перетасовку.
— Мария Николаевна, я прошу вас сделать все до пятиминутки.
— Хорошо. Мне можно идти?
— Да.
«Что она за человек? — подумала Анна. — Я ее знаю не больше, чем в первый день знакомства. В общем-то исполнительна, но очень уж равнодушная».
Оставшись одна. Анна позвонила Вагнеру.
— Григорий Наумович, смогли бы вы, возвращаясь домой, зайти ко мне?
— С удовольствием, — старческий голос прозвучал обрадованно. — Вы у себя в корпусе? Через полчаса буду.
Вот уж кто готов помочь каждому. 62 года, болен, а на пенсию не уходит. Прекрасный клиницист, прекрасный рентгенолог. Именно с ним следует проконсультироваться, вместе обсудить, как ей лечить Семена Николаевича.
Анна не относилась к категории врачей, которые из-за ложной боязни подорвать свой престиж не обращаются за советами к своим коллегам. И если уж консультируют своих больных, то непременно у профессуры или у какой-нибудь знаменитости.
На пятом курсе ее профессор на разборе истории болезни бросил фразу, позволяющую установить диагноз. Студенты ухватились за диагноз, подсказанный им. Анна, глядя в глаза профессору и покраснев до слез, сказала, что не согласна со всеми. Профессор выслушал ее, ни разу не прервав, а потом с нежностью сказал:
— Голубчик, вы будете врачевать, — и уже с негодованием добавил: — А эти! — махнул рукой и вышел из аудитории.
Анна помнила своего старого профессора и его первые заповеди: «Все подвергать сомнению», и «Не вредить». Теперь, когда у нее был почти двадцатилетний опыт, когда даже ученых мужей она поражала точностью диагностики, уже зная, чем болен пациент и как его нужно лечить, — она все же неизменно проверяла себя. Нередко хитрила — прикидывалась, что меньше знает. И радовалась, когда коллега, горячась, доказывал ее же правоту.
— У вас сегодня усталый вид, — заметил Григорий Наумович, со стариковской медлительностью опускаясь на стул.
«Ты тоже хорош», — подумала Анна, взглянув на Вагнера. Под все еще красивыми чуть выпуклыми глазами — темные круги, худое, с обтянутыми скулами лицо бледно до желтизны.
— Мне не понравился ваш голос по телефону. Чем вы взволнованы?
— Ничуть.
— Все же какие у вас неприятности?
— Да почему же обязательно неприятности?
— Да потому, дорогая, что ко мне обычно адресуются, чтобы… Так в чем дело?
— Вот и не угадали, я хочу проконсультироваться у вас.
Вагнер просиял.
Анна рассказала все о Семене Николаевиче. Григорий Наумович долго молчал, прикрыв глаза рукой.
— Как его лечить? Вполне с вами солидарен. Ему нужен покой, тишина. Убрать все раздражители. Почему даже хроникам, которые начинены антибиотиками, помогает санаторий?
— Режим.
— Это. И отсутствие негативных раздражителей. Человек выключается. Никаких забот. Никаких обязанностей. Полный покой для центральной нервной системы. Мы часто о Павлове вспоминаем в докладах и на конференциях. И забываем о нем в повседневной работе. Дети и молодежь не любят тишины. Тишина необходима больным и старикам. А как же мы угнетаем нашу психику этой немыслимой какофонией. Здесь, на курортах…
Анна знала, Вагнер сел на своего любимого конька, и поспешила спросить:
— Я не опрометчиво поступила, разрешив ему работать?
— Думаю, что нет. Для того, кто жизнь провел праздно, труд в тягость. А для него — эликсир жизни. Хотите знать, почему я не иду на пенсию? Боюсь отправиться к праотцам. Знаете, какая у меня самая сокровенная мечта? Умереть в белом халате.
— Терпеть не могу, когда со смертью заигрывают, — Анна нарочитой резкостью попыталась прикрыть охватившую ее жалость. Она-то знала, как он недолговечен.
— Кстати, я не собираюсь умирать. Особенно теперь, когда приехали вы… Посижу у вас с ребятами и уже не чувствую себя таким одичалым старым псом… Ну, довольно лирических отступлений…
— А давайте-ка я вам смеряю давление.
— Спасибо, докторуля! Я молод, здоров — хоть куда. Пошли-ка, дорогая, по домам.
— Не могу. Столько писанины. — Анна с досадой показала на стопку папок.
— Да уж, писанина — наш бич, — сочувственно вздохнул Вагнер. — Если бы техника пришла к нам на службу и помогла от этой писанины избавиться. Знаете, нам нужны свободные часы, чтобы сидеть и думать. Анализировать. Уточнять диагноз. Допустим, нам, санаторным врачам, еще туда-сюда. А бедный участковый — это безотказная лошадка, которая свой воз тащит всегда в гору. Когда уж там думать! И хотят, чтобы эта лошадка была непогрешимой. Сколько нашего брата ругают за непродуманный диагноз.
— И правильно ругают. Полез в кузов…
— Извините, дорогая, но вы очень уж требовательны.
— А как же! Не знаю, как в других институтах, а у нас каждый поступающий в медицинский обязан был сдать кровь.
— Великолепная традиция.
— Если тебе не подходит белый халат, иди туда, где ты отвечаешь, допустим, за бревна, хотя и за них, конечно, отвечать надо. Но все-таки там бревна, а здесь — люди! — Анна в который раз за последние дни с раздражением подумала о своей предшественнице. Так по трафарету лечить: «Фтивазид, паск», «паск, фтивазид». Сколько пропало санаторных дней у больных!
Вагнер, помолчав, поднялся.
— Спасибо вам, Григорий Наумович. Не сердитесь, что беспокою вас.
— Что вы! Вы же знаете, я всегда рад…
Но поработать Анне не удалось. Вошла Мария Николаевна, присела у окна, закурила.
— Мазуревич отказался дать койки.
— То есть как? Ведь со Спаковской договорились.
— Сказал: нечего устанавливать свои порядки.
Сестра улыбнулась.
— Послушайте, вы как будто рады?!
— Не биться же мне головой о стену.
— Хорошо. Завтра мы поговорим на пятиминутке.
Мария Николаевна не уходила. Анна вопросительно взглянула на нее.
— Что еще?
— Больные на консультацию ездили на попутных машинах.
— А санитарная?
— На санитарной отправили инспектора. Начальство не любит рейсовым транспортом пользоваться.
— Скажите, что представляет из себя Мазуревич?
— Ценный работник.
— Я серьезно спрашиваю.
— А я серьезно. Достанет для санатория все что угодно, а себе не возьмет ни грамма.
— Не знала, что не быть вором — ценное качество.
Мария Николаевна пожала плечами и, не проронив ни слова, вышла.
Что за неприятная манера пожимать плечами. И эта гнусная политика невмешательства! Анна кончиками пальцев потерла виски.
Обычно перед пятиминуткой Анна заходила к себе в отделение.
Санитарка Павлина, высокая, здоровенная бабища, с лукавым красным лицом и маленькими бегающими глазами, домывала пол в застекленном с трех сторон вестибюле. Бросив тряпку, она прогудела густым басом:
— Вчера тут такое творилось — хоть святых вон выноси… Смех! Ветошкин из десятой палаты напился. Дал всем чертей. А сестре Марье Николаевне так припечатал — век не забудет. Умора.
Анна с трудом терпела Павлину, постоянно вступавшую в нелепые перепалки с больными.
Жаль, что не так-то просто найти санитарку.
— Что произошло? — спросила Анна, заходя в дежурку.
Мария Николаевна ответила неохотно.
— Ничего особенного. Немного выпил парень. У нас любят из мухи слона делать.
Ветошкин поджидал Анну на самшитовой дорожке, ведущей из санатория. Его молодое, всегда улыбающееся лицо выглядело помятым и виновато-печальным.
— Доктор, уж извините, причина у меня была, — вздохнул Ветошкин.
— Антибиотики и алкоголь — абсолютно несовместимые вещи, — рассердилась Анна.
— Жена уехала, — тихо произнес Ветошкин и, глядя себе под ноги, пояснил: — Ну, в общем бросила. Не верите — прочитайте. — Он полез в карман.
— Не надо, — сказала Анна, — верю я вам.
— Пишет, за детей боится. Заразный я. Пишет, не хочу, чтобы через тебя дети гибли. Я знаю, это мамаша, значит, теща, подначивает. Как к сыну своему уедет — все тихо-мирно. Как приедет, так и начинается ассамблея. Живем в ее собственном доме. Сто раз в день об этом дает понять. — Он махнул рукой. — Анна Георгиевна, у меня такой пацанчик…
— Вот что, Гоша, вы обидели сестру Марию Николаевну. Вы должны перед ней извиниться.
— Да я… и не сомневаюсь.
— Если повторится — выпишу сама.
— Чтобы я еще — ни грамма!
— А письмо все же дайте. Я ей напишу, и никуда она от вас не уйдет.
Анна опоздала на пятиминутку. Мазуревич выразительно показал на часы. «Какое его собачье дело», — с раздражением подумала она.
Когда она заговорила, он, не сгибая шеи, всем корпусом наклонился к старшей сестре Доре Порфирьевне. В знак согласия сестра кивала головой, и локоны, обрамлявшие ее моложавое личико, тоже кивали.
Нет, оказывается, он все великолепно слышал. Голос у него тонкий, составляющий резкий контраст с его мощным телосложением. Напрасно товарищ Буранова беспокоится. Койки сегодня будут. А на машине действительно отвезли инспектора курортного управления. Было бы известно товарищу Бурановой, инспектор тоже больной. Сердечник. Мы обязаны были оказать помощь больному человеку.
— Вениамин Игнатович, койки нужно привезти сегодня же, — произнесла недовольно Спаковская.
— Товарищ Буранова за койки беспокоится, а вот почему ЧП в своем отделении скрывает? — проговорил своим тонким голосом Мазуревич, поворачиваясь к Спаковской.
— И вечно вам ЧП снится, — проговорила Мария Николаевна, стряхивая пепел с папиросы в бумажный кулек.
— Вам, Мария Николаевна, как коммунисту и члену партбюро, следовало бы не замазывать недостатки, а вскрывать их. Почему вы не доложили на пятиминутке, что в ваше дежурство напился больной? Круговая порука? Лично меня не удивляет, что больные врача Бурановой пьянствуют.
— А нельзя ли определеннее изъясняться? — Анна засунула руки в карманы халата и выпрямилась.
— Могу уточнить. Мне стало известно, что врач Буранова участвовала в пьянке с больными двадцать пятой палаты. Могу даже уточнить, когда это было.
«Откуда он знает?» — Анна перехватила ускользающий взгляд Доры Порфирьевны.
Григорий Наумович, ни к кому не обращаясь, громко произнес:
— Насколько мне известно, за месяц до прихода в санаторий Анны Георгиевны выписали за пьянство трех больных.
— Я требую, чтобы меня выслушали, — сказала Анна.
— Мы не можем вместо работы заниматься склоками, — проговорил Мазуревич.
— Это уж слишком! — возмутилась Мария Николаевна.
Журов, рассматривая свои великолепно отточенные ногти, как будто это более всего сейчас его занимало, невозмутимо проговорил:
— Считаю пьянство с больными достаточно серьезным обвинением. Пусть Анна Георгиевна скажет, что это за недоразумение.
— Да, да, Qudiator et altera pars, — Вагнер явно волновался.
— Григорий Наумович, вы можете обойтись без латыни? — раздраженно произнесла Спаковская.
— Хорошо. Перевожу: следует выслушать и другую сторону.
Анне дали пять минут на объяснение. В двадцать пятой палате произошло следующее.
Лесоруб Глухов, степенный пожилой человек. Когда она вошла во время обхода, он и его соседи по палате сидели за столом. Действительно: на столе были бутылки. Целых две: коньяк и шампанское. Правда, не очень-то уж целых.
Глухов, обращаясь к ней своим волжским говорком, произнес почтительно:
— Извиняйте нас, Анна Георгиевна, значит, у меня такая радость — сноха внучат принесла, сразу двух. Дед я теперь, стало быть. Ну, мы с товарищами и решили отметить, значит, такое событие на семейном фронте.
Он подал чашечку с надписью: «На память о Крыме», сказав, чтобы она ничего не опасалась: из чашечки этой никто не пил — старухе в подарок куплена.
— Но если бы Дора Порфирьевна проследила и дальше, то она, после того, как заглядывала в двадцать пятую палату, должна была бы пройти по моим следам, — не скрывая насмешки продолжала Анна. — Сто граммов шампанского не свалили меня с ног. Закончив обход, я, как это ни странно, не пела, не плясала, а принимала больных. Можете заглянуть в истории болезни. А старики всей компанией отправились покупать на платье снохе, подарившей Глухову двух парней.
— По-моему, Анна Георгиевна допустила большой промах, — Журов, поглаживая выхоленными пальцами усы, сделал паузу.
— Именно промах, — поддакнула Дора Порфирьевна.
— Я бы на ее месте выпил коньячку.
— О, нет! — в тон ему подхватил Вагнер. — Если уж поклоняться Бахусу — недурственно коньяк с шампанским.
Все знали: Григорий Наумович, кроме минеральной воды и виноградного сока, ничего не пьет.
Прокатился веселый шум. Мазуревич, глядя на Спаковскую, сказал:
— Не понимаю, почему серьезный вопрос товарищи сводят к шуточкам. Наш санаторий считается передовым, и мы не должны этого забывать.
— По-моему, пора идти работать, — сказал Журов.
Анна взглянула на Спаковскую. Глаза из-под опущенных век смотрят холодно, но заговорила она спокойно:
— Я думаю, Вениамин Игнатович несколько преувеличивает. Я не допускаю мысли, что в нашем санатории врач позволяет себе пьянствовать с больными. Анна Георгиевна у нас новый человек, и она не знает о наших традициях. Наш девиз — ни пятнышка на белом халате! Мы должны вести себя так, чтобы у больных не было повода в чем-то упрекнуть нас.
Анна взглянула на Вагнера. Он сидел, прикрыв глаза рукой.
Мария Николаевна шепнула Анне:
— Видали, какие мы хорошие.
— У меня такое чувство, как будто я проглотила кусок мыла, — ответила Анна и услышала голос Спаковской:
— Анна Георгиевна учтет наши замечания. А теперь, товарищи, действительно, пора за работу.
Раздосадованная всем случившимся, Анна нарочито крупно шагала, не обращая внимания на увязавшегося за ней Журова.
— Вы злитесь на этого железобетонного Мазуревича? Ей-богу, не стоит. Людей надо принимать такими, какие они есть. Нельзя обижаться на курицу за то, что не поет соловьем.
— Отсюда не следует, что за это я должна уважать курицу.
— Курица несет яйца. Без Мазуревича санаторий пропал бы.
— А как же другие санатории?
— А ну его, этого Мазуревича, ко всем чертям. Лучше скажите мне, что вечером делаете?
За спиной чей-то запыхавшийся голос сказал:
— Сергей Александрович, познакомьте же меня с новым доктором!
К ним подбежала молодая женщина в белом халате. Из-под докторской шапочки кокетливо выглядывали кудряшки. Все в ней мелко: вздернутый носик, круглые глазки, маленький ротик.
Журов сразу весь как-то поскучнел и вяло проговорил:
— Виктория Марковна Кулькова. Рекомендую говорить «очень приятно» не в начале, а в конце знакомства.
«Так это она вела моих больных до меня», — вспомнила Анна.
Вика натянуто улыбнулась. Анну покоробил пренебрежительный тон Журова, и она насмешливо произнесла:
— Простите, но у вас странная манера навязывать свое мнение.
Журов, вдруг вспомнив, что его ждут в рентгеновском кабинете, свернул в сторону.
Вика, сделав несколько шагов, остановилась:
— Сергей Александрович, подождите, — окликнула она Журова, — у меня к вам один вопрос.
— Ну, что еще? — грубовато отозвался он.
Анна ускорила шаг и все же услышала его раздраженный голос и ее торопливый, захлебывающийся.
«У них роман», — подумала Анна. Мысль эта была почему-то ей неприятна, и, поняв это, она рассердилась на себя. Собственно, какое ей дело до них? И до этого железобетонного Мазуревича?
Все, что тебя тревожит, что угнетает, ты должна оставить за дверями палаты. Больные ничего не должны прочесть на твоем лице: ни сомнения, ни обиды, ни усталости и, наконец, ни простого недовольства.
В палате одна Лариса Щетинко.
— Где остальные? — спросила Анна. — Ах, да! У нас сегодня банный день. — И, повернувшись к Марии Николаевне, сказала: — Они новенькие. Я попрошу вас — объясните им: в баню можно сходить и попозже.
Лариса лежала на кровати, вытянув длинные ноги: на голове бигуди, миловидное лицо покрыто толстым слоем крема. На кровати разбросаны фотографии.
— Лариса, вы опять курили? — с неудовольствием произнесла Анна, заметив в пепельнице окурки со следами губной помады. — Вы же бросили, а сейчас опять за старое.
Лариса резко поднялась. Села.
— Я бы бросила. Но, знаете, Анна Георгиевна, я человек в жизни разочарованный. Столько у нас подлости. Если хотите знать — я пробовала даже пить.
— Ну и как?
— Бросила. Противно.
— А зря. Напилась бы, валялась бы под забором. Ничего не скажешь — достойный и активный метод борьбы с подлецами.
— Лежала я в больнице — всего насмотрелась. Нет уж — не нам, больным, тратить свои нервы на подлецов. Пусть подлецов люди поздоровее перевоспитывают.
— Кстати, Лариса, у нас в отделении семьдесят больных. Здоровее всех — вы.
— А зачем же мне путевку сюда дали?
— Не знаю. Я бы на месте ваших лечащих врачей отправила вас отдыхать в санаторий общего типа. Практически у вас туберкулеза уже нет.
Лариса вздернула подбородок и с вызовом проговорила:
— Между прочим, вопрос о продлении мне лечения уже решен.
— Кто вам это сказал?
— Мне обещала Виктория Марковна. Она до вас была моим лечащим врачом.
— Хорошо, я это выясню. Но повторяю: вы здоровы и продлевать лечение вам нет надобности.
После обхода Анна поднялась на второй этаж, к Виктории Марковне.
Выпятив и без того чуть оттопыренную нижнюю губу, та сказала:
— Вопрос о продлении лечения Щетинко согласован с Маргаритой Казимировной и начмедом.
— Но вы, как лечащий врач, понимали, что нет в этом надобности?
— Почему? Лишний месяц отдыха никому не вредит.
— У нас не дом отдыха. И если мы будем держать в санатории мнимых больных, то для нуждающихся в климатолечении у нас не хватит мест.
— Что вы от меня хотите?
Как можно мягче Анна произнесла:
— Я хочу, Виктория Марковна, чтобы вы пошли со мной к главврачу и сказали о своей ошибке.
Вика неожиданно улыбнулась, оскалив мелкие зубки:
— Это бесполезно. Вот увидите — ей продлят.
Когда Анна вошла в кабинет Спаковской, там сидел Мазуревич.
Он поспешно встал и вышел.
«Королева», откинувшись на спинку кресла, курила. Колечки дыма, раскручиваясь, уплывали за окно в зеленый парк.
«Интересно, а какая она дома?» — подумала Анна, но, встретившись со спокойно-пытливым взглядом Спаковской, сразу же настроилась на деловой лад.
— Я с вами согласна, — выслушав Анну, сказала Спаковская. — Щетинко не нужен санаторий. Но как это ни прискорбно — мы не можем ей отказать. Поверьте мне на слово: другого выхода у меня нет.
— Я отказываюсь понимать.
Спаковская долго и тщательно тушила папиросу. Пепельница — металлическая рыбка с задранным хвостом — ерзала по глади письменного стола.
— Вы бы меня поняли, — сказала она своим ровным, без интонаций голосом, — если бы посидели в моем кресле. Ее дядя помог достать оборудование для кабинета функциональной диагностики. Это не для меня. Для санатория. Для больных. Понимаете? Некрасиво? Согласна. Но иного выхода у меня нет.
Анна молча пожала плечами, поймав себя на том, что повторяет жест Марии Николаевны.
— Вы думаете, милейшая Анна Георгиевна, мне приятно унижаться перед Харитоньевым? Но у него связи.
Раздался телефонный звонок.
— И все-таки, думаю, другой выход есть.
Возвращаясь в корпус, Анна решила пройти через парк. Маленькая передышка. Всего пять минут отдыха.
Все дремлет, разомлев от зноя. И два огромных широколистных платана, и безмолвные островерхие кипарисы, и плакучая ива, и белые свечи каштанов. И море, разнежась, чуть трогает берег тихой волной. А воздух! Воздух, напоенный морем, как бальзам. Сюда бы Зойку. Поспать бы ей у моря, подышать бы ионами, — навсегда бы забыла о своем туберкулезе. А тут эта Лариса Щетинко. Анне внезапно расхотелось сидеть. Она поднялась и торопливо зашагала к своему корпусу.
Курортники оглядывались вслед высокой женщине с широко поставленными яркими голубыми глазами на чуть скуластом хмуром лице.
Она сидела у себя в кабинете над историями болезни, когда без стука вошел Журов с розой в руке. В халате он казался еще выше.
Журов взял со стола стакан, налил в него из-под крана воды, — все это он проделывал с усмешкой, — сунул розу в стакан и поставил перед Анной.
— Это вам.
Усевшись напротив нее, он несколько мгновений наблюдал за ее пишущей рукой.
— Итак, вы сердитесь, — проговорил он. — Но вам это идет. Вы ведь далеко не красавица, а когда злитесь — становитесь привлекательнее.
— И вы пришли мне об этом сообщить?
— Я пришел сообщить вам: койки вам доставлены можете оборудовать палаты! И второе — я даю вам пять мест в аэрарии. Могу вас поставить в известность — это мне стоило больших усилий.
Он подождал.
— И вы не находите нужным сказать мне дружеское спасибо?
— Не нахожу. Вы ведь меня не благодарите за то, что я веду больных. Это же входит в мои обязанности.
— А вы мне нравитесь.
— А вы мне нет.
Понизив голос, он сказал:
— На меня всегда неотразимо действуют вот такие властные и холодные женщины. Или уж очень женственные, или вот такие… Словом, я пришел предложить вам дружбу.
В чуть приоткрытую дверь просунулась Надюшкина голова с растрепанной косичкой. Девочка улыбнулась, показав щербинку под верхней губкой.
— Здравствуйте! Мамочка, тебе телеграмма. А Вовка дразнит Малявку. Ты не велела, а он дразнит. Я Малявке дала маленечко-маленечко супу. Ничего? Она суп съела, а кашу не хочет. Разве собаки кашу не едят? Вовка говорит, что не едят. А мальчишка, не из нашего двора, говорит, что ихняя собачонка ест ну положительно все, даже, безусловно, капусту.
Все это Надюшка выпалила скороговоркой, стоя в дверях; пальчики шустро перебирали пряди волос, заплетая их в косичку; а сама искоса с любопытством поглядывала на Журова.
— Нет, что за прелесть! — воскликнул Журов. — А как тебя зовут?
— Надя.
— Ну, здравствуй, Надя!
— А я уже сказала — здравствуйте. А… а… А зачем у вас усы? Разве докторы тоже бывают стиляги?
Анна кусала губы.
— Надя, дай телеграмму.
Анна распечатала телеграмму. Лицо ее стало озабоченным.
Журов спросил:
— Что-нибудь неприятное?
— Нет, почему же?
Надюшка, видимо, не в силах оторвать взгляд от усов Журова, склонив голову набок, серьезно сказала:
— А все-таки вы лучше их состригите.
— Конечно, состригу.
Надюшка снисходительно одобрила:
— Конечно, ну их к черту!
— Надя, что это за выражение?
Надюшка на всякий случай улыбнулась.
— Тетя Даша говорит так. Детям нельзя, а взрослым можно? Да, можно? Можно?! Можно?! — прыгала она вокруг Анны, чувствуя — мать только притворяется, что сердится, на самом же деле — ей смешно. А кто же сердится, когда смешно?
Ася сидела в приемнике санатория.
Женщины, приехавшие вместе с ней, ушли в душ. Она сидела в глубоком мягком кресле. Хотелось лечь. В ушах звенело на одной ноте, и казалось, будет так звенеть всю жизнь. Одолевала нестерпимая жажда. Графин с прозрачной водой стоял на круглом столе, всего в двух шагах. Нужно только встать, только протянуть руку. Но пошевелить рукой трудно.
— Пить! — громко, как ей почудилось, проговорила она и со страхом оглянулась. Куда же девалась эта полная и симпатичная женщина, что забрала у них путевки? Сначала она звонила, узнавала, есть ли места, и, не дозвонившись, — ушла. Почему она заставила Асю дважды измерить температуру? Не надо смотреть на графин, от этого еще сильней хочется пить. Что это за картина? Сирень, сирень… Где она видела такую же сирень? Да это же Кончаловский. Нет, глупо так мучить себя жаждой. Она схватилась руками за подлокотники кресла и, напрягая все силы, поднялась. Тотчас же огромный букет сирени сорвался со стены и ударил ее по голове. Стало темно. Потом все исчезло.
Придя в себя, Ася осторожно глянула на потолок, стены. Они не кружились. Ее уже не качало. Где же она? Ага, рядом койка. И тут же услышала легкий всхрап. Перевела взгляд и увидела круглую старушку, в белом халате и белой косынке. Старушка сидела на стуле и, прислонившись к спинке кровати, с присвистом всхрапывала.
На тумбочке у кровати стакан с водой. Снова почувствовав жажду, Ася потянулась за стаканом. Но пальцы не слушались ее.
От шороха старушка открыла глаза и, встряхнувшись как кошка, зачастила:
— Ой, слава же осподи, малость очухалась. Яка гарна дивчина, и хвороба проклятуща доканала. Водички испить? А это мы зараз. — Она подала стакан Асе.
— Нянечка, где я?
— В изолятору, миленькая.
Медленно Ася вспомнила, что с ней произошло.
— А потом меня куда?
— Хиба ж я знаю. — Оглянувшись на дверь, нянечка зашептала: — Место в больнице тебе хлопочут. А ты, детынька, не соглашайся. Пес с ней, с этой больницей, В санатории, поди-ка, получше. Больных-то помене. Все ходячие. Ой, прости меня, осподи, какие лбы… Тут и догляду будет боле. Только ты меня, детынька, не выдавай.
Пришла врач.
— Мы уже лучше себя чувствуем? — она улыбнулась, показав мелкие зубки с обнаженными розовыми деснами.
— Доктор, скажите, меня положат в больницу?
— По существу, вы постельная больная. И мы не имеем права вас принимать. У нас санаторий.
Ася устало закрыла глаза.
— Вы хотите спать? Сейчас вам принесут покушать.
Ася не отозвалась. Ах, как она сейчас ненавидела это холодное и спокойное лицо. «Она похожа на мышь», — подумала Ася.
Шаги. Тихо стукнула дверь. Слава боту, никого. И все, что так долго, с того самого дня, как свекровь принесла ей письмо от мужа, так долго сдерживалось, — прорвалось. Она схватила полотенце и, закрыв им лицо, тихо, безутешно разрыдалась.
Только услышав голоса за дверью, поспешно вытерла лицо и стиснула полотенце зубами.
Распахнулась дверь. Тихий голос:
— Спит!
Ася открыла глаза.
— Анна Георгиевна!
— Ну разве можно так?
Анна дала Асе выплакаться у себя на плече.
— Ни в какую больницу я вас не отпущу, а заберу в свое отделение. Есть у меня одиночная палата, я вот уже третий день ее для вас берегу.
— Как же вы узнали, что я…
Анна поглаживала Асину горячую руку, и от ее прикосновения жар, как будто обжигавший тело, потихоньку улетучивался.
Все очень просто. Никаких загадок. Ася, конечно, помнит Екатерину Тарасовну, ей пришлось из-за болезни матери срочно выписаться: она позвонила в школу и, узнав, что хлопочут о санатории, помогла Асе попасть к нам в «Горное гнездо». Они-то — Панкратова, кажется, завуч школы, и Екатерина Тарасовна — дали телеграмму об Асином выезде.
— Я почему-то считала, что вы должны завтра, послезавтра приехать. Ну, а когда сказали, что приехала девушка из Сибири, я сразу догадалась, кто это.
Через час Ася лежала в небольшой палате. Правда, здесь такие же голые стены, как и в больнице. Но есть шифоньер с зеркалом, круглый стол. Дверь из комнаты выходит на веранду, там стоит кровать.
— Вот спадет температура, акклиматизируетесь и будете спать на веранде, — пообещала Анна. — У вас есть с собой ночная рубашка?
— Не помню… — пробормотала Ася. На самом же деле она не знала, что лежит в чемодане. Домой за ее вещами ходила Александра Ивановна, она же и укладывала чемодан.
— Если есть — наденьте свою рубашку, — сказала Анна, делая вид, что не заметила Асиного смущения. — Вероятно, вам надоело больничное белье. Знаете, женщине такие вещи поднимают настроение. А давайте я с вашего разрешения похозяйничаю. Вот славное платье. Люблю голубое.
— Я сама шила, — слабо улыбнулась Ася.
Переодевшись с помощью Анны, Ася вдруг почувствовала себя не такой уж несчастной.
— Ну, а теперь спать, — заявила Анна. — Сон для вас сейчас самое главное лекарство.
Анна ушла.
Ася закрыла глаза. Но заснуть что-то мешало. Это что-то врывалось через дверь на веранду. Какие-то смутные голоса, смех и шум, Отчего этот шум? Нет, не дождь. Может, ветер?
Ася накинула халатик и, держась рукой за стену, выбралась на веранду. Встала на стул коленями, положив локти на перила.
Взглянула и замерла. Ничего подобного она не только не видела, но даже и представить себе не могла: такое яркое, что на него больно было смотреть, огромное, — она не могла охватить его взглядом, — синее-синее море взбиралось к небу. Деревья, прежде она видела их только в кино, заслоняли берег. Кипарисы, действительно, похожи на свечи, вернее — на пламя свечи. Они молчаливы и торжественны, как памятники. Не случайно, кажется в Италии, их садят на кладбищах. Стоит ли сейчас думать о кладбище… От него не уйдешь… А вон та широкая тропа, наверное, ведет к морю.
Празднично одетые люди. Голые, бронзовые от загара плечи, руки, ноги. Пойти вместе с ними, чтобы хоть потрогать море. От этих людей ее отделяют какие-то пятьдесят метров.
Ася перевела взгляд вниз и увидела глубокий ров, на дне которого сквозь прошлогодние сухие листья сочилась темная вода.
От яркого, синего, живого и теплого моря, от веселых и здоровых людей ее отделял ров. Сможет ли она когда-нибудь перебраться через него?!
Пошатываясь, Ася вернулась в палату.
Сквозь сон она слышала, кто-то тихо входил, давал ей что-то пить. Она просыпалась, но не до конца, ей делали укол, укрывали одеялом, что-то говорили. Потом день как-то сразу померк и зажглась маленькая лампочка-ночник. И вдруг комната превратилась в коридор со множеством дверей; двери со свистом открывались и так же со свистом закрывались, и она никак не могла выбраться из этих дверей. Где-то за этими дверями был ров, на дне которого сочилась темная мертвая вода…
На следующее утро, на пятиминутке, Мария Николаевна передала Анне записку: «Вам предложат перевести вашу сибирячку в больницу. Не отдавайте ее. Она верит только в Вас. М. Н.».
Анна с благодарностью взглянула на сестру и в знак согласия кивнула.
Анна сидела как на иголках, ждала с минуты на минуту, что Спаковская заговорит о переводе. Но «королева» молчала. После пятиминутки она попросила Анну задержаться.
— Что же это такое? — с явным неудовольствием произнесла Спаковская. — Я считала, что уж кто-кто, а вы не станете нарушать правила ради личного знакомства.
— Простите, Маргарита Казимировна, вас неправильно информировали. Это не знакомая моя, а моя больная.
— И все же… в данном случае я на стороне Виктории Марковны. Арсеньева тяжелейшая больная, и мы должны ее отправить в больницу.
Анна представила плачущую у нее на плече Асю и сказала:
— В больнице она погибнет.
— Хуже будет, если она погибнет у нас, — сказала Спаковская и, видимо, заметив, как вспыхнула Анна, поспешно добавила: — Нет, нет, не считайте меня уж таким черствым администратором. Я думаю в первую очередь о больных. Смерть в санатории делает здоровых больными.
— Говорить о необратимости преждевременно.
В дальнем углу кабинета о чем-то вполголоса переговаривались Вагнер и Журов. И Анна не для Спаковской, а для них громко сказала:
— Поймите меня, Маргарита Казимировна, она погибнет в больнице. У нее такая ущербная психика. Она недавно заболела. Как хотите — я не могу… Я уже обещала. Я еще ни разу не нарушила свое слово, слово врача. Тогда и мне придется… — Анна не договорила.
Спаковская молчала. Молчали и те двое в углу.
— Я думаю, большой беды не будет, если мы оставим девочку в санатории, — сказал Вагнер. — Отправить ее в больницу никогда не поздно.
— Что скажет начмед? — спросила Спаковская.
Анна взглянула на Журова и вспомнила его фразу: «На меня всегда неотразимо действуют вот такие властные женщины или очень женственные натуры…» и, вдруг успокоившись, она обратилась к Спаковской:
— Прошу вас пока ничего не решать. Пусть Сергей Александрович будет арбитром, посмотрит историю болезни, послушает больную. Если и он, и Григорий Наумович найдут, что Арсеньеву следует отправить в больницу, — я не стану возражать.
— Поручаю вам разобраться в этом вопросе, — сухо проговорила Спаковская, обращаясь к Журову.
Анна с Журовым вышли.
— Послушайте, охота вам брать на себя обузу? — спросил Журов, покусывая травинку и сбоку поглядывая на задумчивое лицо Анны. — Не понимаю вас. Как мне известно, вы сегодняшнюю ночь не спали.
— Я врач. Я обязана лечить больных. Понимаете, больных.
— У вас удивительная особенность: выдаете прописные истины, а звучат они у вас как откровение. И не мечите на меня голубые молнии.
— Сергей Александрович, почему вы в Крыму?..
— Вы хотите спросить, почему я здесь, а семья в Москве?
— Нет, я хочу знать, как вы сюда попали?
— С двусторонним пневмотораксом.
— Я так и думала. А квартиру в Москве терять не хотите.
— Не хочу, — в голосе его прозвучали обычные насмешливые интонации. — Кстати, — добавил он с неожиданной запальчивостью: — фтизиатром я стал до того, как заболел.
— Я рада, — призналась Анна.
Они зашли к Асе. Молодая женщина лежала на спине, выпростав очень белые руки поверх одеяла. Тонкие, какие-то летящие волосы растрепались по подушке, к потному лбу и вискам прилипли мелкие кудряшки. На бледном, ставшем совсем маленьким, лице с запекшимся ртом — жили только глаза. Сейчас они уже не были ярко-зелеными, какими Анна их видела в больнице, они казались черными из-за темных теней вокруг век.
— Асенька, — сказала Анна, оправляя подушку. — Сергей Александрович хочет вас посмотреть.
Ася осталась лежать так же неподвижно, устремив взгляд на причудливые невиданные деревья за балконом.
Ее взгляд теперь постоянно притягивало диковинное розовое дерево: цветы на нем прикреплены к самым ветвям, и от этого ветви кажутся мохнатыми. Нянечка объяснила: «Называют его — иудиным деревом, а как по-научному, не знаю».
Сергей Александрович вошел в палату с обычной приветливо-насмешливой улыбкой и громким, самоуверенным голосом произнес:
— Доброе утро, как мы себя чувствуем? — Он взял Асю за руку и стал считать пульс, и тут только взглянул на нее.
Улыбка на его лице исчезла, оно стало серьезным. Анна поняла: беззащитность Аси и ее глаза тронули Журова. Он несколько мгновений, не отрываясь, смотрел на Асю, потом опустил глаза. Удивление, жалость и какое-то чувство виновности совершенно преобразили его.
Как же Анна знала эго чувство беспомощной виновности, как часто оно ее мучило. Что-то доброе шевельнулось в душе, и она тихонько дотронулась до руки Журова.
Ася, увидев стетоскоп в руках доктора, решила, что он будет ее слушать, и, приподнявшись, села. Сразу же закашлялась.
Журов схватил стакан воды и подал ей.
— Выпейте маленькими глотками Постарайтесь задержать дыхание. И, пожалуйста, ни о чем не беспокойтесь Ложитесь и отдыхайте, — сказав это, он вышел, забыв проститься.
И снова Анна удивилась. Она считала его не способным на такие мягкие интонации. Ну и ну!
Ася вопросительно взглянула на своего доктора.
— Он не плохой человек, — убежденно проговорила Анна. — Я к вам еще зайду, — пообещала она.
Журов сидел у нее в кабинете, и непонятная нежная улыбка, делавшая его несколько фатоватое лицо приятным, блуждала под усами и светилась в его глазах.
Анна села за стол и открыла папку, с Асиной историей болезни. Она ждала, когда он заговорит.
— Вы знаете, я женолюб.
— Бабник.
— Анна Георгиевна, зачем вы непременно хотите меня убедить, что я гад. Люди всегда мне почему-то стараются это доказать, и в конце концов я этому поверю.
— Ох, какой Печорин!
— Но, как говорит Надюшка, — к черту Печорина Итак, я женолюб, — упрямо повторил он, — но знаете, тут я не посмел бы. Нет, не посмел. Ни в какую больницу, конечно, мы эту девочку не отпустим. И мы ее с вами поднимем. Хотите союз?
— Еще бы!
— И вот вам моя рука — рука врача, — без тени иронии проговорил он, протягивая ей руку.
Анна крепко, по-мужски пожала ее.
Мгновенно кто-то приоткрыл дверь и посмотрел в щель.
— Войдите! — крикнула Анна.
Дверь поспешно закрылась.
Лицо Журова стало хмурым и злым.
После неловкой паузы Анна сказала:
— Послушайте, Сергей Александрович, а если бы моя больная не была бы такой женственной… вы бы стали ей помогать?
— Анна Георгиевна, ну, ей-богу, не подчеркивайте на каждом шагу, что я сволочь.
— Ладно, не буду, — весело согласилась Анна. — Послушайте, а как же Спаковская?
— Это уж я беру на себя. А теперь давайте обсудим, как лечить вашу Асю. Мы постараемся ее продержать в санатории полгода., год, пока не поставим на ноги. Благо, наше правительство предоставило нам это право.
— Да, да, — обрадованно отозвалась Анна, — что, если нам позвать Григория Наумовича.
— Мне вы не доверяете?
— Вот уж не подозревала в вас ложной амбиции.
— Если угодно, во мне столько всякого… Не хмурьтесь — согласен мою персону обсудить не в служебное время, а сейчас… — он оборвал себя и прислушался — Прежде всего мы должны избавить ее от этого ужасного кашля.
Как-то само собой повелось: после пятиминутки Григорий Наумович, делая небольшой крюк, провожал Анну до ее корпуса, а потом уже отправлялся в свой кабинет. Они шли сначала кипарисовой аллеей, потом сворачивали на дорожку, обсаженную поблескивающим своими жестковатыми листочками самшитом.
Анна любила эту прогулку. Им всегда было о чем говорить. Но он умел и помолчать, когда надо.
Тревожила Ася. Пневмоторакс не дал желанных результатов. Молодая женщина по-прежнему температурит… Никогда ни о чем не просит, не жалуется.
Однажды Анна предложила:
— Хотите, я познакомлю вас с одной женщиной вашего возраста? Инженер, очень милая, интересный человек. Кстати, она из соседней палаты.
— Мне спокойнее одной, — сказала Ася и, как бы извиняясь, добавила: — Надо разговаривать, а я стала такой скучной собеседницей…
«Интересно, в какие дебри она погружается, лежа целый день в одиночестве. Зайдешь поговорить, а она ждет не дождется, когда оставишь ее одну».
Раздумывая, Анна шла рядом с Григорием Наумовичем, стараясь приноровить свой стремительный шаг к его размеренному. Глянув в прогалину между кипарисами, она сказала:
— Наверное, наша профессия из всех существующих на земле самая тяжелая. Постоянно чувствуешь свою беспомощность. Когда же у нас будут ощутимые сдвиги?!
— Ваш покорный слуга не имел бы счастья следовать за вами, если бы не антибиотики. Вещи познаются в сравнении. Я был еще студентом на практике в Одесской клинике, и представьте: туберкулез гортани лечили солнцем. Да, да. Больной с активной формой водружался на веранде, а врач «гортанным» зеркалом направлял «зайчик» на пораженные голосовые связки, подвергая их солнечному облучению.
— А если антибиотики не помогают? Что тогда? Должны же помогать — процесс-то свежий!
Григорий Наумович долго молчал. Анне показалось, что он забыл об их разговоре. Он дышал тяжело. Видимо, даже легкий подъем был для него не по силам, и она еще умерила свой легкий быстрый шаг.
Неожиданно он сказал:
— Жаль, что нельзя сделать рентгена души. У нее какие-то далекие глаза.
Анну всегда удивляла его способность угадывать то, чего она не договаривала.
— Когда вы успели рассмотреть ее глаза?
— Вчера. Я вышел из вашего кабинета, она — из дежурки. Она ответила на мое приветствие, но готов голову дать на отсечение — меня она не видела. У нее есть семья? Муж?
— Да. Хороший муж.
— И пишет он ей сейчас?
— Да, конечно, — машинально ответила Анна. И тут же вспомнила: вчера Асе принесли три письма, и они остались нераспечатанными. Почему? Если бы от мужа, Ася не утерпела бы. Тогда Анна спросила: «Как успехи мужа в Ленинграде?» Ася сказала: «Спасибо. Хорошо», — и перевела разговор на другое.
— Ну, я к себе. — Григорий Наумович потер рукой худую щеку, глянул на Анну выпуклыми глазами, со склеротическими прожилками на желтоватых белках, и сказал: — Ее вылечила бы радость — величайший эликсир жизни.
— Вы говорили — труд, — напомнила Анна.
— Дорогая, вы же знаете: одну и ту же болезнь у каждого человека надо лечить по-своему.
…Перед приемом больных Анна обычно минут десять проводила в своем кабинете — в полном одиночестве, просматривая истории болезни.
Как-то одна больная с возмущением сказала: «Мой врач заявила мне, что она отменяет мне паск, а сама и не назначала его. Разве врач имеет право забывать?»
Анна понимала, большой беды не будет, если больная неделю станет принимать вместо фтивазида тубозид, но, если больной потерял доверие к своему врачу, ему у него лечиться бесполезно.
Вот почему перед тем, как взглянуть в лицо больного, она должна была вспомнить о нем все, даже то, что не записано в истории болезни.
Но сегодня она достала, в который раз, только одну историю болезни. Ася Владимировна Арсеньева, 24 года. Что у нее случилось? Надо разузнать. Но как?
Анна так углубилась в свои мысли, что не заметила, как вошла Мария Николаевна.
— Доктор, больные ждут, — сказала она.
Однажды ее новая коллега, Жанна Алексеевна Зорина, сказала: «Врач — копилка человеческих страданий». Ну, нет. Она, Анна, с этим не согласна. Семен Николаевич ее радует. Сухонькие ручки святого с иконы мирно покоятся на коленях. Он старомодно ее благодарит: в отдельной палате ему так хорошо. Он и чувствует себя много бодрее.
…Вечером она спросила Асю:
— Панкратова, это та маленькая женщина, которая всегда к вам приходила? Кажется, она завуч вашей школы?
— Нет, второй школы, где я раньше работала.
— Она ваша приятельница?
— Она мой друг. — Дрогнули ресницы, что-то еле уловимое мелькнуло в уголках губ, и снова лицо Аси стало неподвижным, замкнутым.
Панкратова отозвалась подробным письмом. «Самое ужасное, — писала она, — заключается в том, что Ася до сих пор считает его поступок благородным… Не она, а он жертва, он, видите ли, всем готов пожертвовать, все принести на алтарь искусства. Он бросил на этот алтарь не только любовь, но и ее жизнь».
В первый же день своего дежурства, после тихого часа, Анна зашла к Асе в палату.
— Я недовольна вами, Асенька, — проговорила Анна, присаживаясь к ней на кровать, — сегодня вы опять ничего не ели. Так вы никогда не поправитесь.
— А зачем? Мне все равно.
— Ася, я все знаю, — осторожно сказала она. — Я понимаю: вы его любите. Но пройдет время: и вы поймете — он недостоин вашей любви. Оставляют близкого человека в беде только ничтожные люди…
— Не говорите так! Он любит меня. Но он не принадлежит себе…
— Асенька, вы знаете Екатерину Тарасовну. И конечно же, знаете, что человек, который навещал ее, не был ее мужем.
— Мне говорили.
— Он был очень несчастлив с женой. У него дочь. Девочка много лет страдала ревматизмом. Теперь она выросла. Учится. Вышла замуж. А он женится на Екатерине Тарасовне, а она, надо вам сказать, еще ко всему хроник. А вы знаете, кто он?
— Нет.
— Он преподаватель. Математик. Человек, безгранично любящий свою профессию. У Екатерины Тарасовны открытая форма. Если он заболеет, то потеряет право работать в школе. А в запасе у него ведь нет молодости, приобретать новую специальность — ему трудно.
— У нас совсем другое… Это я… и не бросила, а оставила, ради него же. — Говоря это, Ася подняла руки и словно что-то оттолкнула от себя.
Анна не сразу нашлась, что сказать.
В открытую на веранду дверь вместе с солнцем врывались звуки: щебетали ласточки под карнизом крыши, прошуршала шинами по асфальту машина. Ветер донес голос диктора с причала: «Морская прогулка — лучший вид отдыха». Чей-то заливистый голос кричал: «Нинка, Нинка, возьми и на меня билет».
Жизнь шла своим чередом: лилась, звенела, бурлила.
— Я не признаю никаких жертв, — произнесла наконец Анна.
— Но вы… Извините… Мне рассказывали… Пожертвовали же своей молодостью ради человека, который был старше вас и… инвалид.
Наверное, впервые Ася увидела, как потемнели голубые глаза Анны Георгиевны.
— Вам неправду сказали. Не было жертвы. Каждый день, прожитый с ним, был для меня счастьем. Все, чем я жила, было ему дорого. Он знал все о моих больных. Да разве только это?! Он научил меня слушать музыку, любить стихи. Господи, да он целый мир для меня открыл!
…В сорок первом, за год до получения диплома врача, Анна уехала на фронт. Командир дивизии был первый, кому она перевязала рану, он стал и ее первой любовью.
Однажды, не выдержав, пришла к нему в землянку и, презирая себя, объяснилась в любви. Он проводил ее до госпиталя, поцеловал на прощанье в глаза и сказал:
— Я женат. Но если я был бы холост — лучшей жены для себя не желал бы.
Госпиталь эвакуировался в тыл.
Военные бури замели след командира.
Но Анна не забыла его. Всюду писала и получала один и тот же ответ — такого не значится.
Весной сорок шестого один раненый, — она уже работала врачом в госпитале, — сказал, что лежал с Владимиром Колосовым в подмосковном госпитале: расхваливая бывшего командира, бросил: «Правильный старик». Старик?! Тогда не он. А вдруг он?
Выпросив недельный отпуск, выехала из Энска.
Приехала к вечеру. Сдав чемодан в камеру хранения и расспросив, как найти госпиталь, отправилась по размытой дождями дороге.
Не поверила, когда санитарка сказала:
— Есть такой, обождите — сейчас позову.
Она стояла в грязных ботинках, мокром от дождя пальто и сбившейся на голове косынке. Мельком взглянула в зеркало и увидела — чужое бледное лицо с прикушенными губами.
К ней вышел высокий грузный мужчина на костылях, взъерошенный, седой, с небритым лицом.
— Анночка! — сказал он, останавливаясь. — Какими судьбами?!
— Вот так. Узнала, что вы здесь, и приехала, — сказала она, глотая слезы и улыбаясь.
— А я, видишь, — он кивнул на костыли. — Ну, моя песенка спета. А как ты живешь? Сядем.
Стуча костылями, он сел на диван, она опустилась рядом.
— Как живешь? — Он потирал белой рукой заросший подбородок.
— Работаю.
— Замужем?
— Нет.
— Что так?
— Вы же знаете, — опустив голову, еле слышно проговорила она.
— Вот как оно бывает… Позволь, да как ты узнала, что я здесь?
— Так, узнала и приехала.
— Ко мне?!
— К вам.
— У тебя все легко получается. Я не только ногу потерял, но и жену. — Он потянул потухшую папиросу и добавил: — Я ее не виню, кому нужно с таким вот возиться. Ты где остановилась?
— Я прямо сюда.
Он помолчал, что-то обдумывая.
— Тебя надо устроить. Когда ты уезжаешь?
— Мы вместе поедем.
Он долго молчал. Выкурил три папиросы. Когда от третьей прикурил четвертую, она отобрала у него папиросу и потушила…
…Анна замолчала.
— А потом? — спросила Ася.
— Потом… Он приехал ко мне. Через год…
Семь лет пролетели, как короткое северное лето.
Ради него она изменила специальность, став фтизиатром.
Он умер у нее на руках, оставив ей сына. Дочь родилась через пять месяцев после смерти отца.
Ася не спускала с нее сухих блестящих глаз.
— Но вы же не вышли замуж… после…
— Мне трудно было: я всех примеряла, да и примеряю на него.
Отвечая не Анне, а видимо, на свои мысли, Ася сказала:
— У вас дети… Вам для них жить надо… — Она не договорила.
Взяв Асину горячую руку в свою, Анна сказала:
— И все равно жить надо. Жить, чтобы видеть небо, море, слушать пение птиц.
— Кваканье лягушек…
Анна сделала вид, что не расслышала иронической реплики.
— Подлечитесь и будете работать. К вам приходил начмед. Сергей Александрович. Он был тяжело болен, а прожив в Крыму пять лет, сейчас практически здоров.
— Он врач.
— Врачу лечиться труднее, — он все знает о себе. Я к тому о Сергее Александровиче, что Крым буквально воскрешает. Подлечим вас, станете работать, пусть и не сразу в школе.
— А где? Меня и в официантки не возьмут, скажут — заразная.
— Не думайте пока об этом. Найдем работу. Скоро наш библиотекарь уходит на пенсию. Главное: надо поверить в свои силы, Я говорила уже вам о Семене Николаевиче и Григории Наумовиче. Старики, немощные. За плечами ох, ох сколько пережито, а трудятся — здоровый может позавидовать.
Ася слушала, подперев голову кулачком.
— Вот что, — неожиданно заявила Анна, взглянув на часы, — после ужина я зайду за вами, и мы погуляем.
— Пожалуйста, — ответ прозвучал с вежливым равнодушием.
«Я знаю, тебе не хочется, — подумала Анна, — но ты пойдешь».
К Анниному приходу Ася оделась в свой дорожный костюм: темную юбку и клетчатую блузку. Волосы спрятала под косынку.
— Нет, так не пойдет, — сказала Анна, критически оглядывая молодую женщину. — У вас есть другие платья?
— Есть. Но я так похудела.
— Наденьте вот это. Белое. Этот жакет к нему? Прекрасно! Очень вам идет. Платок этот мы снимем.
Ася никак не могла заколоть волосы. Шпильки рассыпались.
— У меня ничего не получается, — жалко улыбаясь, она оглянулась на Анну.
— Давайте, я помогу. Из ваших волос можно любую прическу соорудить.
Ася не то вздохнула, не то всхлипнула.
— Анна Георгиевна, может быть, мы не пойдем? Может быть, лучше завтра?
— Ну, ну… Бросьте эти гнусные разговорчики!
Одеваясь, Ася сказала:
— Это платье подарила мне свекровь.
Анна не отозвалась.
Ася с каким-то упрямством продолжала:
— Ив больнице она часто меня навещала. Почти каждый день.
— Забудьте вы про нее, она эгоистичный, жестокий человек.
— Нет, неправда. Она очень любила сына.
— Животные тоже любят своих детенышей. Ваша свекровь забыла воспитать в сыне человека.
Ася ничего не сказала. Мельком взглянув в зеркало, она поспешно отвернулась.
Они вышли.
— Ася, опирайтесь крепче на мою руку. Кружится голова?
— Немножечко…
— Ничего страшного. От воздуха можно и опьянеть. Вот дойдем до той скамейки и отдохнем.
— Я еще не устала.
— Ася, запомните: здоровый садится, когда устал, больной — чтобы не устать. У вас пульс хороший, лучше чем я ожидала. Ну, вы пока не разговаривайте. Еще несколько шагов — и мы у цели.
Самшитовая дорожка привела их в кипарисовую аллею.
— Правда, красиво?
— Да, — безучастно отозвалась Ася.
Они свернули на тропинку и вышли к мохнатому разлапистому дереву.
— Это ливанский кедр, — сказала Анна. — Посмотрите: у него верхушка как бы надломлена, будто кедр кланяется солнцу.
Ася подняла голову, глянула и, о чем-то задумавшись, опустила глаза.
— Дальше не пойдем, здесь и посидим на этой скамейке. Вот так: откиньтесь на спинку, ноги вытяните.
Парк зелеными террасами спускался к морю. Огромное, синее, оно мерно дышало, покачивая шлюпки, лодчонки и торопливые громкоголосые катера.
— Анна Георгиевна, я давно хочу попросить вас: не говорите мне вы…
— Хорошо, Ася, я не буду больше говорить тебе «вы». На будущий год я разрешу тебе купаться.
— Это все не для меня…
Анне изменила выдержка:
— Почему? Почему не для тебя?! Потому что для него искусство дороже всего на свете? Самая отвратительная разновидность подлеца, когда подлец рядится в тогу страдальца!
Ася сидела, вытянув ноги, бросив на колени тонкие, неподвижные руки.
«Зачем я все это говорю? Может, лучше оставить ее в покое? А если для нее этот покой — смерть?» Анна искала и не находила нужных слов.
Ася первая нарушила молчание:
— Я не пойму, чем же это пахнет?
«В самообладании этой девочке не откажешь. Не откажешь».
— Морем. Вот, когда немного окрепнешь, мы заберем моих ребят, сядем на теплоход и, как говорит мой Вовка, рванем в море.
— С детьми? Я же больна…
— Господи, да забудь ты о своей болезни!
— А если я не могу о ней забыть, если…
— Ну, ну, мы не договаривались кашлять. Сядь прямо. Вот так, хорошо. Постарайся вздохнуть глубже, а потом немного задержать дыхание. Возьми таблетку. Вот видишь — уже легче. Ну, на первый раз достаточно. Пойдем-ка в санаторий.
Когда дверь за Анной закрылась, Ася села, взяла с тумбочки стакан, отпила несколько глотков.
«Вернулась бы я к нему, если бы он позвал… Только не больная. Вернуться в город, в школу. Ребята пишут сочинение. Тишина. Стук в дверь. Она даже рассердится. Подойдет. Он! Нет, не надо думать об этом. Вот так поудобнее лечь, положить руку под щеку и что-нибудь повторять, хотя бы „Слово о полку Игореве“. Нет, никогда он не вернется. Но не бросил он меня, Анна Георгиевна не понимает, я сама… И не бросила, а оставила… Ради него же… Все-таки он испугался… Я выздоровею. Приду к нему и скажу… Ничего не надо говорить…»
Ася встала и вышла на веранду.
Южное небо глазастое. Будто все звезды — сколько их есть в галактике — табунятся над Черным морем. Умереть?! Не видеть неба, деревьев, звезд… А он? У него будет все: и небо, и деревья, и звезды…
В дверь постучали. Мужской голос спросил:
— Можно?
Высокий смуглолицый парень в синей рабочей робе, с сумкой, из которой торчали какие-то инструменты шагнул на веранду.
— Анна Георгиевна просила сделать розетку.
— Да, пожалуйста.
— Придется постучать.
— Пожалуйста.
— Мне стул нужен. Куда книги убрать?
— Если вам не трудно, отнесите, пожалуйста, в палату.
— Не надорвусь!
Ася с досадой взглянула на парня. Вчерашний разговор с Анной не выходил у нее из головы. Вот уже второй месяц Ася всем своим существом, всеми помыслами хотела одного: никому не мешать, никого не пускать в свой тесный мирок болезни, одиночества и тоски. Плохо? Да, плохо. Но, если болезнь сбила тебя с ног, отобрала самое дорогое, так уж будь добра — не мешай другим. Лежи себе, в одиночку, чтобы никому не портить настроение. Научись молчать. Можно? Все можно! Можно часами, например, не спускать глаз со спиц, считать петли и ни о чем не думать. Главное — не думать. Покой — это ее убежище.
Когда-то в детстве Ася и ее подруги построили ледяной домик, посадили туда куклу. Всю ночь Асе снилось — кукла замерзла; чуть свет она поднялась и потихоньку выбралась во двор. Куклу через дверь вытащить не удалось, она примерзла, и Ася, плача, разломила ледяной домик, вытащила пленницу и, дрожа от жалости и холода, вернулась в спальню.
Вот так и Анна Георгиевна — сломала ледяной домик, а как же дальше? И главное, для чего? Человек же не может только брать для себя. Он должен и давать. А что доброе и полезное она может принести людям?!
«Господи, этот парень стучит и стучит, ушел бы скорее», — подумала Ася.
А монтер, словно назло, долго возился. Неожиданно, кивнув на книгу Ремарка «Жизнь взаймы», спросил:
— Читали?
— Нет, — удивленно ответила Ася.
Монтер с каким-то ожесточением принялся вколачивать в стену пробойник. Еле дождалась, чтобы ушел.
Наконец-то. Можно попытаться уснуть. Сон — это тоже убежище.
Выйдя из Асиной палаты, монтер заглянул в кабинет врача. Анна собиралась уходить.
— Что, Костя? — спросила она.
— Все в порядке. Что это за мадонна там?
— Новенькая. Уже месяц как не встает с постели.
Он вытащил из кармана робы книгу и положил перед Анной. Ремарк «Жизнь взаймы». Встретившись с недоумевающим Анниным взглядом, пояснил:
— У нее взял… не взял, а, в общем, свистнул. На кой черт ей такие книги читать! Вообще-то стоящая вещь, но…
— Может быть, она ее уже прочитала? — Анна тревожно взглянула на Костю.
— Нет. Я спрашивал. Ольга Викентьевна библиотечное дело знает, но старушке пора на пенсию.
— Спасибо, Костя.
— Не за что. Небольшое дело розетку поставить.
— Я еще тебя попрошу, проведи ей на веранду радио!
— Есть провести радио!
Явился Костя на другой же день, Ася лежала на веранде и вязала. Она поздоровалась, не поднимая головы и не выпуская спиц из рук.
Внимательно посмотрев на торчащий из-под подушки томик стихов в синем переплете, он спросил:
— Тютчев ваш собственный? Я знаю: у нас в библиотеке его нет.
— Да, собственный.
— Хороший поэт?
— Да. А какого поэта вы считаете хорошим?
— Вы, конечно, у Блока любите «Незнакомку»?
— Люблю. А вы какие стихи любите?
— У Блока — «Двенадцать». Светловская «Гренада» — стих высшего класса. Я считаю: сочинил поэт такое и может больше никакой бодяги не писать. И давно вы в таком горизонтальном положении?
— С марта.
Костя свистнул.
— Медицина вообще-то довольно абстрактная наука.
— Вы в нее не верите?
— Я привык верить только в себя.
Ася выпустила из рук спицы и, с неприязнью глянув на его черномазое самоуверенное лицо, сказала;
— Хорошо вам, здоровым, так рассуждать.
— А вы знаете Григория Наумовича?
Ася кивнула.
— Железный старик! Я ему обязан жизнью…
— Вы?!
Он стоял, прислонившись к косяку двери, в своей робе, из-под которой выглядывала тельняшка. Большие руки с обломанными ногтями вертели отвертку. Черные без зрачков глаза смотрели на нее.
— Да, ТБЦ. Четыре года носил двухсторонний пневмоторакс.
«Носил — очень точное определение», — подумала она.
— Вас как зовут?
— Константин. А вас — я знаю.
— Костя, а до болезни… — она замолчала.
— Вы хотите спросить, кем был до болезни? Римским папой. Во-во, чаще улыбайтесь! Это полезнее всяких «биотиков». И жмите на манную кашу. Я съел тыщу каш. — И вдруг без всякого перехода огорошил: — А давайте махнем сегодня на танцы!
Ася засмеялась: таким нелепым ей показалось его приглашение.
— Нет, танцы — исключено. Я не съела еще тыщу каш.
Он молча собрал инструменты и вышел.
А через два дня снова явился. После ужина.
На этот раз Костя был в узких черных брюках и белоснежной рубашке.
Ася вопросительно взглянула на него.
— Я взял билеты на «Римские каникулы». Из уважения к римскому папе. Нет, серьезно — фильм железный.
— Я не хочу в кино. Не могу.
Костя изорвал билеты и швырнул их за веранду.
— У вас температура?
— Небольшая.
— Плюньте. Пошлите ее подальше.
— Ничего вы не понимаете.
— Понимаю. Я же все испытал на собственной шкуре. Махнем. Здесь рядом. Вечер теплый. Если вам будет трудно, смотаемся.
— А билеты?
— Я изорвал старые.
— Махнем! — сказала Ася. — Только я оденусь.
— А я пока сбегаю за билетами. Через пять минут буду ждать у корпуса.
«Может, не идти? — спросила себя Ася, когда Костя умчался. — А почему не ходить?»
Не умолкая, перезванивались цикады. Кажется, что звенит небо, звенят звезды, звенит душный ночной воздух.
Ася перевернула подушку прохладной стороной и закинула руки за голову. Но так было неудобно, и она снова перевернулась на правый бок. Потом села в кровати. Поставила локти на приподнятые колени и обхватила голову руками.
Сегодня днем пришла Анна и сказала:
— Вы знаете Галю из седьмой палаты? У нее большая семья, и, видимо, они трудно живут.
— Да, — равнодушно отозвалась Ася, не понимая, к чему Анна клонит.
— Ей не в чем пойти на танцы, — продолжала Анна. — Вчера был ее день рождения, и палата подарила ей на платье. Помогите Гале. Надо только скроить и сметать. А прострочить она сумеет. Я дам свою машину.
И вот тут она ответила Анне Георгиевне что-то невразумительное: отвыкла, руки не поднимаются… боится испортить… и тогда Анна встала и сухо, не глядя на нее, сказала:
— Я все понимаю. Но такое, извините меня, отказываюсь понимать, — сказала и ушла.
Даже сейчас, наедине с собой, вспомнив об этом, Ася покраснела. Разве можно оправдать себя тем, что после она позвала Галю и все ей сделала? Нет, до чего докатиться! Ведь раньше такого она себе не позволяла. Она, которая обшивала всех девчонок в общежитии. Ну, а если бы Анна Георгиевна ее не пристыдила?! Лежала бы себе, полеживала, довольствуясь тем, что ее не тревожат. Безвольное, ко всему безразличное существо. Говорила когда-то ученикам красивые и громкие слова. «В жизни всегда есть место подвигам». А сама? Уж очень она стала пренебрежительно к людям относиться. И к Косте. Сегодня он заглянул в палату, а она притворилась спящей.
В кино она боялась: вдруг схватит за руку или обнимет. Ничего подобного. Хохотал во время сеанса, как мальчишка. На него даже оглядывались. Она подумала: «А он славный». Ну, для чего ей было так демонстративно вести себя; когда он на обратном пути попытался взять ее под руку, чуть не оттолкнула его. Совсем одичала. Разыгрывала из себя какую-то недотрогу. Ну, что особенного? Не дай бог, парень еще подумал, что она не хочет идти с ним под руку, потому что он всего-навсего монтер. Ох, уж совсем было бы глупо!
Вдруг что-то упало на кровать. Камушек. Не успела Ася подумать, что все это значит, как над перилами веранды появилась взлохмаченная голова.
Костя уселся на перила, свесив ноги на веранду.
— Что вам нужно? — шепотом сердито спросила она, натягивая простыню на плечи.
— Пойдемте туда, — тоже шепотом ответил он. — Внизу скамейка. Посидим. Все равно вы не спите.
Ася отрицательно мотнула головой.
— Вам все равно. Можете вы сделать для меня?
— Уходите, я оденусь.
Он, как кошка, бесшумно спрыгнул.
Страх, что он снова залезет и их смогут услышать, заставил ее одеться и подойти к перилам веранды… Он ловко, так же бесшумно вскочил и осторожно помог ей спуститься на землю.
— Говорите, что вам нужно, и я уйду.
— Я же сказал вам: мне нужно, чтобы вы со мной просто посидели. Не сердитесь. Послушайте лучше, о чем вызванивают цикады.
— Ого! Да вы романтик.
— Я монтер. Или, как меня здесь громко называют, электрик. Ну, а вы чем занимались на большой земле? Вы смахиваете на художницу или на актрису.
— Учительница. Была…
— Почему была?
— Неужели не понимаете?
— Ладно. Пусть на год, на три — осечка. Ну и что? Вы же вернетесь в школу.
Он это сказал таким тоном, как будто все зависело от нее.
Она понимала: его слова ровно ничего не значат, и все же, наперекор здравому смыслу, на какой-то миг поверила его словам.
— Костя, у вас есть что-нибудь заветное? Ну, о чем бы вы мечтали с детства?
— Есть. Вас поцеловать.
— Костя!
— Не буду. Буду тихим, как море в штиль. Только не уходите. Между прочим, помните Багрицкого: «…Но я — человек, а не зверь и не птица…»
Немного помолчали.
— Я еще мальчишкой мечтал отправиться в кругосветное путешествие. Я из-за этого и в моряки подался.
— Вы были моряком?
— По совместительству с римским папой.
— Расскажите о себе.
— Ну, не притворяйтесь, что вам интересно!
— Я не умею притворяться.
— Тогда слушайте. — Он начал говорить суховато, как будто говорил не о себе. — Отец был моряком. Потерял я его шести лет. Мы жили вдвоем с матерью. Учился я, как и все мальчишки: из кожи не лез. Смешно: даже когда знал, не поднимал руки, считал, что только подлизы поднимают руки. Любил географию и физику. Географию у нас преподавал, теперь-то я понимаю, превосходный учитель. Мы его звали Гео-Граф. Если мы уж слишком начинали шуметь, он, снимая очки, говорил: «Дети, я возмущен вашим поведением». Он никогда на нас не кричал. Ни в одном учебнике не было того, что он нам рассказывал. Это уж мы проверяли. Физику преподавал фронтовик. Моряк. Он говорил, что человек, не знающий физики, не может быть полноценным. А мы хотели быть полноценными. Он оборудовал в школе мастерскую, хотя тогда еще производственное обучение в программу не входило. Как видите, мне это в жизни пригодилось.
Когда был в девятом классе, у меня объявился отчим. Я его возненавидел за то, что он стал мужем моей матери. У меня появилась к ней… брезгливость, что ли. Я не был наивным мальчиком. Но до этого мать для меня была святыней.
Я заявил, что у меня отец один. И это ничего не значит, что он погиб. И убежал. Через неделю милиция торжественно доставила меня домой. С этого дня я стал усердно доказывать, что меня не так-то просто воспитывать. Я подлил в водку уксусу. И тихо злорадствовал, увидев, как у него перекосилась морда.
Напихал ему раз червей в карман пальто. Прятал карты. Он любил играть в преферанс. Когда ему надо было вечерами работать, он был лектором, — в доме перегорали пробки.
По глупости мальчишеской я надеялся выжить его из дому. Ей-богу, верите: меня, мальчишку, бросало в дрожь от ненависти к нему. Даже от звука его голоса.
Я загнал на барахолке часы, свой велосипед, костюм и удрал на Камчатку. Парень я был здоровый. Пошел в матросы. Плавал на рыболовецком судне. Там я узнал, почем фунт лиха. Дома-то я не привык трудиться, а там пришлось попотеть. Затем служба на флоте. Занесло меня на Север. На службе и заболел. Глупейший случай. Во время штормяги одного матросика снесло в море. Ну, я за ним и окунулся. В общем, схватил воспаление легких. Тут-то я и попал в объятия госпожи чахотки. Когда человеку плохо, он первым долгом мать вспоминает. И я вспомнил. Совесть заговорила. Написал ей. Ответил отчим. Она умерла от туберкулеза. Конечно, я виноват. Тосковала она по мне. А я, идиот, себя гордым считал. Как же, помощи не прошу. И раз никому нет дела до меня, так и писать не буду. Страдалец несчастный! Так меня смерть матери перевернула, что я больше года в госпитале провалялся.
Потом меня демобилизовали. Путевку в зубы — и отправили в Крым.
Григорий Наумович сказал: «Оставайся в Крыму, если хочешь быть здоровым». Пришлось пришвартоваться здесь. В плавание меня из-за болезни не брали. Пошел землю кайлить. Никак не мог привыкнуть, забывал, что больной. Перестарался. Если хотите знать: старушка, у которой я жил на квартире, три месяца меня выхаживала. И ведь за здорово живешь. Мне хлеба не на что было купить. С Григорием Наумовичем они меня кормили. Поднялся и сказал себе: черта с два! Не меня чахотка доконает, а я ее! Доктор и надоумил в электрики пойти. Он, хоть и говорит, что ничего за меня не хлопотал. Но меня он не обманул. Устроился в санаторий… Вот и все…
— Костя, а вас не тянет отсюда? Ведь где-нибудь на заводе…
— Я не унижался бы до починки утюгов, так? — закончил за нее Костя. — Во-первых, я хочу окончательно вылечиться. У меня еще весной был небольшой рецидивчик.
— Вот видите: выходит, не совсем Крым излечивает.
— Ерунда! Все было по моей вине. И потом — не могу я уехать от моря. Я же родился на море.
Он замолчал. Ася сорвала веточку самшита и стала машинально обрывать жестковатые листочки. Он, видимо, ждал, что она о чем-то его спросит, но она не спросила, и он заговорил.
— А вообще-то обленился. Не для кого стараться.
— Учиться не тянет?
— У меня нет аттестата. А садиться в двадцать шесть лет за парту…
— Стыдно!
— Если вы хотите меня перевоспитывать, боюсь, что из этого ничего не получится. — Он помолчал, а потом, видимо, несколько уязвленный, сказал: — Я не считаю, что позорно быть простым работягой.
— Я не говорила, что позорно. Если человеку по силам делать больше — он должен это делать.
— А сами-то вы следуете этому правилу?
Костя встал и, отойдя от скамейки, прислонился к дереву. Чиркнула спичка.
— Ну, я все о себе и о себе. Расскажите вы что-нибудь. Если доверяете.
Ася молчала.
— Если не хотите, не надо. — Огонек папиросы прыгнул вверх.
— Я… У меня был муж… Ну, а потом… Мы разошлись. Но я все равно его… люблю. — Она умолкла.
— Кажется, я совсем вас заморозил. Пойдемте.
Солнце заливало веранду. На столе под салфеткой стоял завтрак. Ничего себе — одиннадцатый час. Ася поднялась, натянула халатик. Подумав, открыла шифоньер. Вот спасибо Александре Ивановне. Позаботилась. Ася надела ситцевое платье. Широковато немного. Не важно. Затянем потуже ремешок. Как это у Светлова? «Наши девушки, ремешком подпоясывая шинели…» Они-то — эти девушки, что «на высоких кострах горели», — не покорялись обстоятельствам.
Ася прошла по веранде и вдруг поймала себя на том, что насвистывает. Свистеть ее научили мальчишки еще в детском доме.
«Интересно, видно ли отсюда скамейку, где мы сидели ночью?» — подумала она и подошла к перилам. Скамейку скрывал куст шиповника.
В ров она старалась не смотреть.
День обещает быть нестерпимо жарким. Нужно задернуть тент. Ох, как она всем завидует. Пойти бы к морю. Вон самшитовая дорожка. По ней Анна Георгиевна уходит к себе домой.
Дорожка, прорываясь через заросли самшита, сбегает, как ручей в реку, — к руслу широкой тропы, по одну сторону которой — высокая каменная стена, сплошь покрытая розами.
Пестрые платья женщин и яркие пятна зонтиков.
Еще не понимая, что случилось, Ася почувствовала: сердце заколотилось, где-то в горле. Чтобы не упасть, схватилась рукой за тент.
Толпа дрогнула, слилась в сплошную безликую массу.
Ася зажмурилась, открыла глаза и отчетливо увидела Юрия. Он шел поодаль от всех, держа за руку какую-то девушку. Черные очки мешали увидеть его глаза.
Ася подтащила к краю веранды стул и залезла на него. У нее пересохло во рту и перехватило дыхание. Сейчас он появится из-за деревьев.
Вот он! Юрий снял очки, — это совсем не он!
Сразу почувствовала усталость, такую, что трудно пошевелить рукой. Хотела слезть со стула, но перед глазами поплыли черные и желтые круги, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее и, наконец, с головокружительной стремительностью. Чтобы удержаться, схватилась за тент и почувствовала, что куда-то проваливается…
Мария Николаевна рывком открыла дверь в кабинет Анны.
— С Асей плохо. Кажется, сердце.
— Шприц! Камфару! Кислородную подушку! — на ходу крикнула Анна, выбегая из кабинета.
Ася в платье с разорванным воротом, неловко подогнув ногу и раскинув руки, лежала на кровати. Из посиневшего рта вырывалось судорожное дыхание. Увидев Анну, что-то хотела сказать, и не смогла.
Просунув одну руку Асе под колени, а другой обхватив за плечи, Анна посадила ее на кровати, подоткнув ей за спину подушку.
Пульс едва прощупывался, но сильно частил. Дыхание слева резко ослаблено, почти не прослушивалось. Тонусы сердца прослушивались справа. Явно, что при падении газ прорвал плевру и поступил в легкое.
Ася все задыхалась. Одышка с каждой минутой усиливалась. Крылья носа и кончики пальцев посинели.
Принесли пневмотораксный аппарат. Анна осторожно ввела иглу. Воздух вырвался из-под кожи со свистом. «Вероятно, клапанный пневмоторакс, — холодея, подумала Анна, — только этого ей не хватало».
Прошел час, а Ася все еще задыхалась, все еще не могла вздохнуть.
У Анны от иглы немели пальцы. Ненадолго ее сменяла Мария Николаевна, и тогда она выслушивала сердце или, став по другую сторону кровати, — ее выдвинули на середину палаты, — считала пульс; он то замирал, то тихими неровными толчками утверждал жизнь.
Ася не стонала, не металась. Время от времени тонкие посиневшие пальцы начинали судорожно теребить простыню; Анна, отдав иглу сестре, брала эти пальцы в свои руки, как бы старалась прикосновением передать свои силы.
На дверях палаты повесили объявление: «Не входить».
Кто-то заглянул в палату.
— Анна Георгиевна, к телефону! Вас вызывает Спаковская.
— Скажите ей, что я не могу. Объясните ей.
Спаковская пришла через четверть часа, шурша шелковым халатом, от которого исходил тонкий запах духов. Ее сопровождала старшая сестра. Искусно подкрашенные бровки Доры Порфирьевны строго приподняты, уголки губ опущены. Всем своим видом она заявляла: «То, что здесь совершается, совершается помимо моего участия. И уж кто-кто, а я ни в чем не виновата».
Следом за Спаковской вошел Журов. «Ну, как?» — взглядом спросил он, и Анна покачала головой: «Плохо».
Спаковская, осторожно постукивая каблуками, подошла к Асе, взяла ее руку и принялась считать пульс.
— Что, собственно, произошло? — спросила она, пристально вглядываясь Асе в зрачки.
— Я-a… у… у… па… ла… — с трудом выдавила Ася.
Тоненькие пальцы снова принялись теребить простыню.
Спаковская повернулась к Анне:
— Может, вызвать хирурга? — тихо, чтобы Ася не слышала, спросила она.
— Пока все хорошо, — громко, для Аси, сказала Анна.
Ася испуганно переводила взгляд с одного на другого.
Анна передала иглу Марии Николаевне и, потянув за рукав Журова, вышла с ним на веранду.
— Уведите их, — попросила она.
Спаковская поспешила за ними.
— Так вызвать хирурга? — спросила она у Анны.
— Пока не надо. Думаю, справлюсь. Понадобится — сделаю операцию сама. Пусть приготовят инструмент.
— В случае чего — дайте знать мне, — сказала Спаковская.
Журов, поманив Дору Порфирьевну, что-то долго им говорил, а потом увел обеих.
Скоро он вернулся и сказал Анне:
— Идите, я побуду здесь. Не бойтесь. Ася, мне можно довериться. Ведь правда, доктор? — обратился он к Анне.
— Правда.
Журов тихонько сжал пальцы Анне, беря у нее из рук иглу…
В квартире царил тот беспорядок, который бывает обычно, когда дети дома одни. Вовка лежал на раскладушке, и, подперев кулаками щеки, читал. Заплаканная Надюшка сидела за столом над тарелкой манной каши. Увидев мать, она всхлипнула и, кончиком языка подобрав слезинку, скатившуюся на верхнюю оттопыренную губу, пожаловалась:
— Мам, Вовка велит кашу есть, а каша невкусная, одни комки и без соли. И еще всяко обзывается. Сказал, что я дохлая кошка.
— Ничего я ее не обзываю. Сказал, что не будет есть — станет как дохлая кошка.
Анна устало опустилась на стул.
— Перестаньте, дети, ссориться.
Вовка, вглядевшись в усталое, как-то сразу постаревшее лицо матери, спросил:
— Опять тяжелобольной? Да?
— Да, Вовочка. Тетя Ася.
— Мам, она не умрет? — Надюшка, широко раскрыв глаза, смотрела на мать.
— Дура! — сердито бросил Вовка.
— Вова! Я сколько раз просила…
— Не буду. Вечно она со своими дурацкими вопросами.
Когда ребята голодны — всегда ссорятся.
— Сейчас я вас покормлю, — сказала, она поднимаясь. — А вы не ссорьтесь.
— Ты о нас не беспокойся. Мы уже поели. Хочешь, яичницу тебе поджарю. Знаешь, какая яичница? Железная!
— Мам, а ты не велела ему говорить — «железная», а он говорит.
Вовка, сверкнув карими, отцовскими глазами, сказал:
— Ох, и ябеда ты, Надька!
— И вовсе не ябеда. А раз я ябеда, так ты — пижон, — сказала и испугалась. Не знала значения этого слова. Прикрыв ладошкой рот, Надюшка умильно глядела на мать.
Вовка кричал из кухни:
— Мам, я кофе сварю. Хочешь? Кофе приносит бодрость. Это изречение принадлежит перу Григория Наумовича. Мама, а верно, ведь он правильный старик!
— Правильный, — чуть улыбнувшись, сказала Анна.
— Мам, хочешь — я пол вымою? — неожиданно для себя, в порыве великодушия, предложил Вовка. И, чтобы не подумали, будто он расчувствовался, добавил: — Только пусть Надюха посидит на крыльце, пока пол не высохнет, а то обязательно наследит.
У Анны защекотало в горле.
Наскоро поглотав, Анна вернулась в свой корпус.
Ничего не изменилось. Она поняла это сразу, услышав дыхание Аси.
— Не стоило бы торопиться, — сказал Журов поднимаясь. — Пойду навещу дядю Гришу.
— А что с Григорием Наумовичем?
— Сердце у старика пошаливает, — и очень тихо добавил: — Я еще приду, Аннушка, вечером.
Она никак не откликнулась на «Аннушку». Не до того. Не сводила глаз с Асиного лица, провалившегося в подушку.
Ася хотела одного: выдохнуть этот проклятый ком. Оказывается, еще утром, не подозревая этого, — она была счастлива. Могла дышать полной грудью. Неужели она задохнется? Еще до сегодняшнего утра, ночами, вспоминая все, что у нее было и чего она лишилась, Ася хотела умереть. «Зачем мне жить?» — спрашивала она себя. А сейчас? Хочет ли она жить? Сейчас, если так мучиться, — лучше уж конец. Страшно? Но ведь тогда ничего не будет. Ничего. Ни солнца, ни этой ветки… Но и не будет этой ужасной одышки. Может, пора? Но глаза этой широколицей, со строгими голубыми глазами, женщины говорили, что еще не «пора», и они приказывали ей терпеть, и она терпела, хоть и страшно устала. Просто смертельно устала. Еще несколько минут — и этот проклятый ком задушит ее.
Ася потеряла счет времени.
Если бы она не полезла смотреть Юрия, не было бы этих мучений. Опять Юрий. Конечно же, он никогда ее не любил, раз оставил ее одну вот так мучиться.
Она слышала голоса, но не понимала, о чем говорят врач и сестра.
Потом наступила короткая передышка. Легче дышать, слава богу, вытащили из бока эту ужасную иглу.
— Асенька, Костя пришел, — проговорила Анна, наклоняясь над ней и прикрывая ей плечи простыней.
Анна вышла на веранду и с кем-то, наверное с Марией Николаевной, о чем-то вполголоса разговаривала.
Костя стоял лицом к ней, вцепившись руками в спинку кровати.
— Тебе лучше? — спросил он. — Ты не говори. Ты только палец подними, если лучше.
Она подняла мизинец. Ни он, ни она не заметили этого «ты». Костя улыбнулся.
— Ничего, Асёнка, все будет хорошо. Ты только не дрейфь.
— Я… не… дрейф… — Она не договорила, верхняя губа жалобно дрогнула. Она снова начала задыхаться.
Анна выдворила Костю.
Наступила ночь. Одышка прекращалась на несколько минут, и тогда Ася забывалась, а потом все начиналось сначала.
Журов в двенадцать прогнал Анну отдыхать. Она отправилась домой. Дети уже спали. Потушив верхний свет и оставив настольную лампу, Анна прилегла на диван, сняв туфли, не раздеваясь. И тотчас же заснула.
Приснился страшный сон. Ася притихла. Лежит белая, холодная и спокойная. Анна, онемев от ужаса, смотрит на нее, не может оторвать взгляда и вдруг замечает: маленькие, совсем детские ручки чуть заметно пошевелились. Она прижимается щекой к груди Аси, сердце молчит. Тогда в отчаянии она разорвала руками грудь, ужасаясь, что же она делает, — и вытащила маленькое, свободно умещающееся у нее на ладони, сердце. С каким-то исступлением принялась его массировать, не отводя глаз от Асиного мертвого лица. И когда уже совсем потеряла надежду, лицо порозовело, из синих губ вырвался легкий вздох, будто кто-то перевернул страницу, и сразу же ожило сердце, Анна громко, уже не в силах сдерживаться, заплакала. Ася Вовкиным голосом сказала «Мама, мамочка, да проснись же».
Она открыла глаза. Вовка в одних трусиках, голенастый и нескладный, стоял перед ней и теребил ее за плечо…
— Мама, да проснись же! Ты так плакала во сне. Что она? — видно было, что слово «умерла» ему страшно произнести.
— Да, то есть нет, — проговорила Анна, с трудом приходя в себя.
Ася встретила Анну взглядом, в котором она прочитала: «Что же ты меня оставляешь, разве ты не знаешь, как мне без тебя плохо и страшно». Больше Анна не покидала двадцатой палаты.
На третьи сутки, под утро, Ася перестала метаться, ее ослабевшее тело как бы обмякло, и она задремала.
У Анны силы сдали, заснула сидя. Спала не больше четверти часа, проснулась и сразу вспомнила свой страшный сон. Почему так тихо? Ася не двигалась. Глаза закрыты. И так же, как в том сне, наклонилась, чтобы приложить ухо к Асиной груди, и услышала тихое, почти спокойное дыхание, и, боясь до конца поверить, — все смотрела то на Асю, то на часы и слушала…
Костя лежал на пляже, когда его помощник Вася, бросая камушки в море, своим добродушным голосом сказал:
— Эта, с которой еще ты в кино ходил, помирает.
Натянув штаны, сунув ноги в тапки, Костя схватил под мышку рубаху и помчался в санаторий. А до этого, блаженно растянувшись на горячих камнях, он лежал и думал об Асе. Теперь он постоянно думал о ней.
У него до сих пор не было своей девушки. Он считал, что так сложилась жизнь.
Высокий, смуглолицый, с черными без зрачков разбойничьими глазами, он привлекал внимание женщин. От мимолетных встреч с ними оставался нечистый осадок и брезгливое ощущение от откровенной и жадной их доступности.
Ася поразила его с того самого момента, как он вошел к ней на веранду и увидел ее. Как и все влюбленные, он не мог дать себе отчета, что именно потрясло его в ней. Возможно, ее беззащитность.
Ее вежливый и безразличный тон и несколько раз повторенное «пожалуйста» больно уязвили его. И когда Ася попросила отнести — «пожалуйста» — книги в палату, он ответил грубее, чем хотел.
Он страшно обрадовался, когда Анна Георгиевна попросила его провести радио на веранду. Провода не было, и он снял его у себя дома.
Обычно с девушками он держался самоуверенно. С Асей он испытывал непонятное смущение и злился на себя за это смущение.
Ему казалось, что она его презирает, и решил больше к ней не ходить. Какого дьявола он будет навязываться! И не выдержал.
Старался не думать, что у нее был муж, с которым она почему-то разошлась. Возможно, поссорились и помирятся — так же бывает. К сожалению.
Так думал Костя, лежа на пляже.
Никогда он еще не переживал такого отчаяния, как в те минуты, когда мчался от пляжа до санатория.
Увидев на двери белый лист с надписью: «Не входить», он решил: все кончено, и осторожно открыл дверь.
Он не видел ее изменившегося и подурневшего лица. Видел одни глаза. Жалость и нежность захлестнули его.
Но он ничем не мог ей помочь.
Костя помчался к Григорию Наумовичу.
Старик сидел в кресле, с высокой спинкой, и, как обычно, читал. От всей его комнаты, заставленной книжными полками и громоздкой обшарпанной мебелью, веяло стариной. Новое здесь — только книги. Костя всегда смотрел на них с завистью.
— Скажите мне только истинную правду: она будет жить? — спросил он без всяких предисловий.
Вагнер не удивился.
— Костя, Анна Георгиевна не позволит ей умереть. Она сделает все возможное.
— А невозможное?! Только правду!
— Разве я тебя когда-нибудь обманывал?
— Нет. Анна Георгиевна сможет сделать… это самое невозможное?
— У нее, кроме знаний и опыта, есть еще сердце. Можешь на нее положиться. Это я тебе говорю.
— А что это за штука — клапанный спонтан?
— Кто тебе сказал?
— Неважно. Вы мне объясните, я пойму.
— Понимаешь, воздух прорвался в плевральную полость. Образовался клапан — воздух туда поступает, а выдохнуть она не может. К сожалению, моя стенокардия привязала меня к креслу. Будь добр, сядь! Мне довольно трудно задирать голову.
Костя уселся верхом на стул, помолчав, сказал:
— Григорий Наумович, вы не замечали такой странной закономерности: дураки и подлецы редко болеют, а как хороший человек, так обязательно какая-нибудь хворь проклятая навяжется.
— Почему странной? Дураки, ясное дело, тоже болеют. Но в основном ты прав: порядочные люди чаще болеют (когда Григорий Наумович хотел кого-нибудь похвалить, он говорил — «это порядочный человек»). Видишь ли, друг мой, это объясняется тем, что порядочный человек уязвимее, он острее все воспринимает. И не только это, он вдобавок еще всегда тяжелее груз на себя взваливает. Ему больше и достается. Жизнь его чаще бьет. Вот ты когда-нибудь задумывался над тем, у кого больше врагов: у обывателя или у порядочного человека? Так если хочешь знать: у порядочного человека всегда больше врагов. А почему? — Григорий Наумович замолчал, уставившись своими выпуклыми глазами на тысячу раз виденные корешки книжных переплетов.
Сидели, каждый размышляя о своем.
— Костя, хочу тебе предложить, — нарушил первым молчание Григорий Наумович. — Наш техник уходит на пенсию. Не занять ли тебе его место? Рентгеновскую аппаратуру ты знаешь. Из тебя получится первоклассный рентгенотехник. Безусловно, сейчас тебе не до того, но ты подумай об этом. Ты меня понял?
— Ладно, — равнодушно отозвался Костя. — Ну, я пошел, — сказал он, срываясь с места.
…Он ходил по дорожке вдоль веранды: тридцать шагов туда, тридцать — обратно. Потом сел прямо на землю.
Сон подкрался незаметно. Проснувшись, Костя испугался: как она?
Стояла предутренняя, всегда чего-то выжидающая тишина. В посветлевшем небе догорала бледная звезда, словно растратившая за ночь весь свой жар. Темные кусты и остролистый ясень, казалось, тоже прислушивались к тому, что делается там, за верандой. Там было тихо. Мелькнула страшная догадка, и от нее медленно стало цепенеть все тело. Он не мог дать себе отчета, сколько сидел вот так — не шевелясь: минуту или час, пока не услышал осторожные шаги.
— Костя, — тихо окликнул голос Анны Георгиевны.
Сделав невероятное усилие над собой, он сбросил эту противную, цепкую тяжесть и поднялся.
— Костя, — услышал он, как шепотом повторила Анна Георгиевна, наклоняясь через перила. — Все хорошо. Опасность миновала. Она заснула.
Анна Георгиевна еще что-то шепотом говорила, он слушал слова, но смысла их не улавливал. Ему хотелось сказать Анне, что она необыкновенный человек и необыкновенный врач, что он до самой смерти не забудет, что она сделала для него. Но Костя ничего этого не сказал. Он только вымолвил:
— Анна Георгиевна… — и замолчал.
— Хорошо, Костя, — сказала Анна Георгиевна, — ты иди домой. А после тихого часа придешь. Раньше пяти и не вздумай приходить. Ей надо отоспаться. Слышишь Костя!
Ровно в 16.00 Костя шел по Центральному проспекту, как громко называлась небольшая улочка, по обеим сторонам которой расположены фотография, ресторан и все магазины их небольшого городка. Проспект, сделав легкий поворот, упирался в площадь-пятачок, а от нее шел прямой квартальчик, с газонами, с раскрашенными в разные цвета скамейками, с неизменным бассейном.
Собственно, к этому квартальчику и направлялся Костя. Он только что хорошо пообедал: окрошка, отбивная, овощное рагу, оладьи и компот возместили трехсуточную потерю аппетита.
Завернул по пути в винный погребок, почти единственный из всех магазинов, который он посещал.
— Вы очень помолодели, Сусанна Петровна, — сказал он продавщице, собиравшейся на пенсию.
— Сколько б я ни молодела, такой, как твоя девушка, мне уж не быть, — весело отозвалась рыжеволосая дебелая продавщица.
«Такой, как моя девушка, нет на планете Земля», — подумал Костя.
— Что это ты сияешь сегодня, как новенький гривенник? Чего тебе налить?
— Как всегда — стакан «Рислинга». И еще с собой бутылочку. Нет у вас чего-нибудь помягче?
— Если помягче — возьми «Алиготе».
Холодное, терпкое вино слегка ударило в голову.
Он отсалютовал рукой Сусанне и вышел на проспект. Поднялся, пересек площадь, постоял у бассейна, оглядывая кусты роз, и зашагал к скамейке, стоящей в центре.
Это был самый замечательный куст на всем южном побережье. Розы цвели на нем крупнее обычных. Одна роза, величиной с десертную тарелку, казалась совершенно неправдоподобной. Недаром у этого куста всегда торчал сторож дед Софроныч.
Костя подошел к Софронычу.
— Ну, как жизнь?
Софроныч промолчал. Вопреки всеобщему мнению о болтливости стариков, он не любил «трепатни».
— Закурим. — Костя протянул коробку «Казбека».
Старик взял папиросу, подумал и взял еще одну.
Закурили.
— А что, дед, если нам выпить? Сбросимся?
Костя искоса глянул на старика.
Софроныч поскреб заросший подбородок и вымолвил:
— Изъяла. — Это означало: денег у него нет, отобрала старуха. В доказательство он засунул руку в карманы штанов и вывернул их. Посыпалась какая-то труха.
— Ладно, — сказал Костя. — Выпить охота, да одному, сам понимаешь… Может, наберу. — Он отсчитал ровно на поллитра и протянул деньги Софронычу.
Старик бережно принял деньги, пересчитал их и, бросив: «Обождешь тут», — засеменил к гастроному. Скоро его высокая нескладная фигура скрылась за дверями магазина.
Костя оглянулся. Молодая женщина не в счет, она занята своими малышами. Влюбленная парочка тоже не страшна: смотрят друг на друга…
Встал и нагнулся над неправдоподобной розой, будто понюхать. Срезать и завернуть ее в газету было делом одной минуты.
Около санатория Костя взглянул на часы — в самый раз.
То радостное возбуждение, которое целый день не покидало Костю, мгновенно погасло, как только он переступил порог Асиной палаты. Какого черта нужно здесь этим журналистам?! Впрочем, в санатории принято навещать даже незнакомых, если их болезнь привязала к койке.
В общем-то, Костя ничего не имел против Антона и Сашко — простые, славные ребята. Несколько раз они вместе рыбачили и хаживали к Сусанне распить бутылочку шампанского. Но то, что они сейчас находились здесь и смотрели на Асю, — это уж было слишком!
Все сразу бросилось ему в глаза: оживленное лицо Аси, ровный, как натянутый шнурок, пробор на голове Антона и букет роз на столе. Его, конечно, принесли братья-журналисты, они на такие штуки — мастера! Костя сунул бутылку на шифоньер. Хорошо, что он розу догадался завернуть в газету. Ее небрежно бросил на подоконник.
Все трое при его появлении замолчали, оборвав какой-то, вероятно, интересный разговор. Молчал и он. Молчал и злился.
— Вот хорошо, Костя, что ты пришел, — услышал он, наконец, Асин голос.
Кажется, в интеллигентном обществе так принято говорить гостю, явившемуся не вовремя.
— Вы знакомы? — спросила Ася.
— Еще бы! — сказал Антон.
А Костя для себя его слова перевел так: «Кто не знает этого работягу, который починяет лампы, утюги и прочую муру. Известная личность в санатории».
— Да, все же я скажу: Ремарк — это явление, — продолжая, видимо, прерванный появлением Кости разговор, — сказал Сашко. — Если хотите знать, я никого из наших современников рядом с Ремарком не поставлю.
— А Хемингуэй?! — Антон, неизвестно чему улыбаясь, взглянул на Асю.
— Я люблю Хемингуэя, но Ремарк меня за живое берет. Он выворачивает человека наизнанку, показывает самое сокровенное своих героев. — Изо рта Сашко вылетали слова-дробины и стреляли в одну цель. — Я не знаю другого художника, который бы так потрясал души.
Костя не выдержал и громко хмыкнул.
— Кажется, ты возражаешь, — прицепился к нему Сашко. — По-твоему, писатель не должен говорить правду народу?
— Должен. Пусть писатель говорит правду. Но разве это правда, что я не человек, а червь! И что сколько бы я ни пыжился, а подставляй голову и сдыхай, как червь, на которого наступили. А я не хочу — сдыхать! И пусть Ремарк мне это не доказывает.
— Браво! — воскликнул Антон.
Костя не понял, смеется ли он над ним, или на его, Косте, стороне. И от этого взъярился еще больше.
— Ты «Триумфальную арку» читал? Разве тебя не волнует судьба Равика? Его мысли, чувства? Его трагедия?! — горячился Сашко.
— Волнует. Только Равик умнейший человек, и образование у него побольше, чем у других, а что он делает? Разве он не соображает, что если одну гадину убьет, так от этого ничего не изменится. Мне твоего Равика жаль, а я не жалеть, я его уважать хочу!
— Надо побывать в его шкуре. Он ведет себя геройски. Ты не прав, Костя, ты судишь Равика с позиций советского парня. Ты не учитываешь тот политический климат, в котором живет Равик. Ведь если писатель раскрывает перед тобой безысходность, все страшное, что порождает фашизм, этим самым он уже за торжество правды.
— Загнул! Какое же это торжество правды?! Ремарк ведь не только для тебя и меня пишет. Мы-то как-нибудь разберемся, что к чему. Ну, а те — на Западе? Что если они в эту самую безысходность поверят? Им-то надо как-то мозги вправить! Если он в романе показывает, как в жизни бывает, то все это и без него знают. Пусть скажет, что делать, когда у тебя над головой кулак.
— Уважаемые оппоненты, — вмешался Антон, — нельзя ли ваш литературный диспут перенести в другое место. Копья ломать приятственней на свежем воздухе. А то пришли навестить, а сотрясаем атмосферу. Это неучтиво по отношению к нашей Прекрасной Даме, — Антон, погасив ироническую улыбку на своем красивом, гладком лице, поклонился Асе.
Тут только Костя, взглянув на нее, увидел, как перевернуло Асю. «Бедненькая! Глаза совсем провалились».
— Простите, Ася, — сказал Сашко. Его веснушчатое добродушное лицо выражало откровенное раскаяние. — Мы утомили вас?
— Пошли, рыцарь! До свидания, Ася. Поправляйтесь. Приглашаю вас на первый вальс.
Костя поднялся, не зная, уходить ему или оставаться.
Но Ася сказала: «Посиди». Когда дверь за журналистами закрылась, она неожиданно попросила купить ей мармеладу.
— С тех пор, как заболела, первый раз сладкого захотела.
Костя был польщен: небось этих пижонов не попросила, а с ним, как с другом. Терзаясь собственной недогадливостью — мог бы и сам сообразить — помчался в магазин. Купил коробку яблочного мармелада. Продавщица предложила коробку ассорти. Он подсчитал: до получки два дня, на обед придется стрелять. Черт с ним! На ходу глянул на часы, до ужина осталось сорок пять минут. Хоть бы никого больше черт не принес, хоть бы немножко побыть с ней наедине.
Но черт принес какую-то немолодую тощую женщину с рыбьим профилем. Она сидела у Асиной кровати и скрипучим голосом что-то говорила.
Мельком глянув на нее, Костя перевел взгляд на Асю: что-то за эти четверть часа, пока он отсутствовал, случилось с ней. Глаза тоскливые. На щеках два ярких пятна.
— Это моя землячка, Манефа Галактионовна, — сказала Ася, — вместе лежали в больнице, в одной палате. Приехала сюда отдыхать.
— А-а-а, — протянул Костя и подумал: «Когда дьявол унесет эту Манефу!»
Манефа манерно кивнула.
— Я не знаю, удобно ли говорить при молодом человеке… — сказала Манефа.
— Удобно.
Манефа своим скрипучим голосом (бывают же такие отвратительные голоса) заговорила:
— Так вот: моя задушевная приятельница работает костюмершей в театре.
«Ну, положим, — мысленно отметил Костя, — задушевной приятельницы у тебя нет, для этого нужно иметь одну деталь — душу».
— Вы уже это говорили, — сказала Ася.
— Да, да. Это у меня явно склеротические явления: расстройство функциональной нервной деятельности. Так эта приятельница говорит, что вся общественность буквально возмущена. Нет слов. Мне все известно из первоисточников…
— Я прошу вас… Я не хочу на эту тему, — сказала Ася.
— Я понимаю вас, — скрипела Манефа.
Костя взглянул на Асю. Прижав руки к груди, Ася смотрела на Манефу отчаянными глазами.
— Слушайте, вы, — Костя поднялся и, глядя с ненавистью на рыбий профиль, тихо и раздельно сказал: — А ну, мотайте отсюда к чертовой матери!
— Что?! — Манефа вскочила. — Ася Владимировна, оградите меня от этого хулигана!
— Уходите, — тихо проговорила Ася.
— А-а-а, я теперь понимаю, почему вас бросил муж… — выкрикнула истерично Манефа.
Костя взял ее за плечо и повел к двери.
— Если бы вы были мужчиной, я набил бы вам… физиономию, — сказал он, выставляя ее из палаты. Закрыв за ней дверь и повернув ключ, он подошел к Асе.
— Спасибо тебе, Костя. А теперь иди…
— Никуда я не пойду. Мы еще с тобой выпьем.
— Ладно.
Он извлек из газеты розу.
— Ох, какая! — Ася всплеснула руками.
— Не роза, а целая поэма. Сейчас я ее — в воду.
— Спасибо тебе…
Часть третья
Стоял февраль. Крымская зима шла в наступление. В расселинах гор лежал снег. Над Ай-Петри курился туман. Иногда с каменистой гряды, всю ее потопив, стекали серые, синие, буро-желтые облака. Не проходило и получаса, как прижатый к берегу городок погружался в молоко. Не было видно вершин кипарисов, матово блестели листья лавра.
Растворялась в море линия горизонта, и небо спускалось в море. Оно шумело, бесновалось день и ночь. Захлебываясь от крика, у берега кружились чайки. Их набралось великое множество.
И будто наперекор всему расцветал миндаль.
Но Крым есть Крым. Внезапно выпадал прямо-таки летний день. Солнце палило так, что больно было глазам.
В пору хоть отправляйся на пляж.
Сделав несколько шагов, Анна сдернула с головы вязаный платочек, распахнула пальто. «Теплынь, будто май», — подумала она.
Впереди мелькнула высокая фигура Спаковской.
Они работают вместе около года. У них установились отличные отношения. Анне нравилась требовательная деловитость Спаковской, ее дальновидность, постоянная собранность. Поражала находчивость Спаковской. Там, где она, Анна, все бы напортила своей горячностью, Спаковская умела ловко уладить вздорный конфликт между сотрудниками.
Маргарита Казимировна, если это было в ее силах, шла навстречу Анне, иногда явно подчеркивая, что она считается с мнением доктора Бурановой. И Анне было это приятно.
Однажды вместе они съездили в театр в Ялту, ходили в кино. Спаковская как-то заглянула к Анне, звала к себе. Но Анна так и не собралась. Дружбы между ними почему-то не получалось. Что-то мешало. Еще сегодня Анна сказала Вагнеру: «В доводах Спаковской всегда есть здравый смысл». Он ответил: «А вам не кажется, что у нее слишком много здравого смысла?» И сразу заговорил об Асе. Вагнер, как не раз замечала Анна, не любил разговоров о Спаковской.
Они встретились в хозяйственном магазине.
На Спаковской светло-зеленое из дорогого драпа пальто, отороченное у ворота норкой, и модная шляпка.
— Хотите купить сервиз? — спросила Маргарита Казимировна, увидев, что продавщица расставляет перед Анной чашки. — Если уж покупать, то советую — тот синий с золотом.
— Договоримся: вы мне его дарите на мой шестидесятилетний юбилей.
Спаковская засмеялась:
— Я с большим удовольствием подарю его на вашу свадьбу. А до свадьбы пейте чай из этого, ситцевого. Он очень милый.
— Как раз недорогой — девять восемьдесят, — сказала продавщица, снимая с полки пестрые чашки.
— Я беру этот.
— Чуть не забыла — вы в курсе, что завтра партийное собрание? — спросила Спаковская..
— Да, мне говорили. Но я дежурю.
— На два часа можно отлучиться. Вас подменит Вера Павловна. На собрании она все равно не выступает. Вы же читали статью. Я полагаю, у вас есть что сказать.
Еще бы! Когда Анна прочла эту статью в местной газете, то в первые минуты не поверила, что такое может совершить врач. Только подумать: машиной, которую она вела, врач сбила с ног женщину, и, чтобы уйти от ответственности, — оставила искалеченного человека в поздний час одного на дороге. Это равносильно убийству! Ведь она же не знала, что другие подберут женщину и отвезут в больницу.
Анна сказала:
— Это больше, чем подлость, — это преступление!
Они стояли у окна. На подоконнике рядом с упакованным сервизом лежали две хозяйственные сумки: из солидной Анниной торчали: буханка хлеба и вилок капусты, из сумки Спаковской — изящной, белой с «молниями» — ничего не торчало.
— Только, ради бога, не говорите, что вы не умеете выступать, — попросила Спаковская. — Видите ли, вы более чем кто-либо имеете право осудить этот поступок. Кстати, к нам собирается приехать товарищ из горкома.
«По-моему, нам надо говорить не для товарищей из горкома, а чтобы эта сволочь узнала о нашем презрении», — подумала Анна, но вслух сказала: «Хорошо, хорошо!» — ее ждали голодные Надюшка с Вовкой, и она заторопилась домой.
Передвинув деревянную стрелку на цифру 3, показывающую, где находится дежурный врач, Анна отправилась в свой корпус; на столе в кабинете ее ждали папки с историями болезни. Не прошло и полчаса, как зазвенел телефон. Из трубки донесся голос сестры Сони:
— Анна Георгиевна, скорее! Больной, высокий температура! Оба плохо, который делали переливание. Алексея Ивановича совсем плохой сердца. Скорее.
Анна не помнила, как пробежала триста метров до второго отделения. В вестибюле ее встретила санитарка, рыхлая пожилая женщина, с испуганным лицом.
— В какой палате? — спросила Анна, тыльной стороной руки вытирая потный лоб.
— В тридцатой и двадцать седьмой. Муравьев совсем, видно, помирает.
— Где сестра?
— В тридцатой.
В палату Анна вошла спокойно. Беглого взгляда на покрытое синеватой бледностью лицо больного было достаточно, чтобы убедиться — положение серьезное. Его худое тело бил озноб.
Сестра Соня молча подала Анне термометр. Ртутный столбик показывал 39,6°.
— Шприцы готовы? Вода для грелок есть?
Сестра кивнула. Ее смуглое скуластое с раскосыми глазами-буравчиками лицо озабочено. Соня-бурятка — застенчивая и на редкость толковая сестра. Анна обрадованно подумала — хоть помощница надежная.
— Алексей Иванович, — проговорила своим гортанным говорком Соня, наклоняясь к больному, — доктор пришел. Сейчас вам будет совсем лучше. Вот выпейте.
— Да я ничего, — проговорил больной, видимо, изо всех сил стараясь, чтобы зубы не стучали о края чашки.
Сказав Соне, что необходимо делать, Анна прошла в двадцать седьмую.
Белокурая, полная женщина, как только Анна вошла, громко заплакала.
— Доктор, я умираю?
— С чего же это вы взяли? — весело спросила Анна, зорко вглядываясь в лицо больной.
Она присела на кровати и пощупала пульс.
— Так часто бывает после переливания крови, — соврала Анна. — Потерпите часик, и все пройдет.
— Я рада, что вы дежурите, — улыбаясь сквозь слезы, произнесла женщина, — у вас больные не умирают.
— А я им не разрешаю.
Просунув голову в дверь, санитарка позвала:
— Анна Георгиевна, к телефону вас из третьего отделения. С больным Таисьи Филимоновны плохо.
Анна бросилась к телефону. «Неужели и там? Да, да». В журнале было записано: «Произведено переливание крови трем больным».
Сестра жалобным голосом сообщила: больному из сорок седьмой палаты плохо.
— Приходите. У меня первый такой случай.
— Валя, взгляни, голубчик, Таисья Филимоновна еще не ушла? — попросила Анна.
— Кажется, ушла, — голос оборвался, слышно было, как сестра тяжело дышит в трубку; после нескольких секунд молчания обрадованный голос прокричал: — Таисья Филимоновна, вас к телефону Анна Георгиевна!
Таисья Филимоновна выслушала Анну и сказала: «Не беспокойтесь, я сейчас к нему зайду».
Анна не отходила от Муравьева — стерегла сердце. Минут через двадцать ее вызвала в коридор Соня и, от волнения путая слова, сообщила: «Звонила Валя, просила прийти, парнишка совсем плохой».
— А Таисья Филимоновна?!
— Он ушел!
— Кто ушел?! — воскликнула Анна.
— Таисья. А еще доктор!
— Соня, подежурьте у Алексея Ивановича. Я сейчас. — Анна кинулась к телефону и не поверила своим ушам: да, Таисья Филимоновна заходила к больному, сказала: «Обычная реакция», — и ушла домой.
— Я думала, вы сказали, что сами придете. Что вы договорились, — растерянно повторяла сестра и плачущим голосом попросила: — Приходите. Я боюсь за него…
— Ладно. Какая температура? Сорок? Я приду. Приготовьте все. Кислородная подушка есть? Хорошо! — Анна положила трубку. «Неужели она на такое способна?!»
В дверях стояла Соня и, глядя на Анну своими буравчиками-глазами, часто мигая, тихо сказала:
— У Алексея Ивановича судороги.
Как быть? И этого нельзя оставить, и туда надо бежать. Анна схватила телефонную трубку. Длинные, ко всему на свете равнодушные гудки. Григория Наумовича нет дома. Молчит и телефон Журова.
Вдруг увидела в окно Жанну Алексеевну, в пальто, с зонтиком и с сумкой — значит идет домой.
Соня поняла Анну с полуслова. Выскочила стремглав.
Анна побежала в тридцатую. Соня вернулась быстро и, тяжело дыша, шепнула:
— Все порядок. Он ушел в третье отделение. Не велел вам беспокоиться.
Позже Жанна Алексеевна позвонила Анне. Господи, да за что же ее благодарить! Как же могло быть иначе! Только у нее просьба: пусть передаст, на собрание она не сможет прийти — заболел ребенок.
Прошло три часа. Анна сидела в своем кабинете, пила крепкий чай и поглядывала на часы: с минуты на минуту должна была прийти Вера Павловна.
Больные, так встревожившие Анну и сестер, теперь мирно спали.
Тетя Фрося, примостившись в кресле напротив Анны, подперев сморщенным кулачком отвисшие щечки, нараспев выговаривала:
— Хиба ж може так, Анна Георгиевна! Як злякаться будешь — билого свиту не побачишь.
Было в ее манере говорить что-то материнское, исконно женское. Обычно ее «разговоры» успокаивали Анну, но сейчас она никак не могла успокоиться.
Явилась Вера Павловна ровно в шесть, как обещала.
— Это же черт знает что! — сказала она не совсем обычным для нее тоном. — Я только что прочитала статью. Возмутительно!
— А у нас, думаете, не черт знает что! Таисья ушла от тяжелого больного! Троим изволила сделать переливание, и всем плохо!
Вера Павловна даже села. И второй раз с той же интонацией произнесла:
— Это черт знает что! Чьи это больные?
— Двое — Виктории Марковны, один — Таисьи Филимоновны. Представляете: ее больной.
Вера Павловна пожевала губами, похоже, она еще хотела что-то сказать, но промолчала — в кабинет вошла Соня.
— Что? — встревожилась Анна.
— Нет. Все порядок.
И так как Соня не уходила, а переминалась с ноги на ногу, Анна поинтересовалась:
— Ты о чем-то хочешь меня спросить?
— У меня одна вопрос: сколько делали переливание, такого не было. Почему? Плохо сделали переливание?
— Ах, ты хочешь знать, почему такая реакция? Видишь, тут, вероятно, дело в крови. Возможно, дело в несовместимости подгруппы…
— Может быть, температура крови не соответствовала, — вмешалась Вера Павловна, надевая перед зеркалом докторскую шапочку. — Перегретая или, наоборот, холодная.
Соня так же бесшумно исчезла, как и появилась.
Собрание проходило в небольшом зале клуба.
Анна пришла, когда все, что можно было сказать, уже было сказано, а резолюцию еще не успели зачитать.
— Жаль, не слышали выступления Григория Наумовича. Он потребовал лишить ее диплома, — сказала Мария Николаевна.
Председательствовала Дора Порфирьевна.
— Кто еще хочет выступить? — спросила она.
Анна встала и поднялась на сцену. Положила локти на трибуну и опустила голову, собираясь с мыслями.
В зале переглядывались. Анна подняла голову и увидела сидящую в первом ряду Спаковскую. Наклонившись к какому-то молодому человеку с румяным, несколько девичьим лицом, она что-то ему тихо говорила.
— …выручила случайность. Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы случайно не задержалась Жанна Алексеевна. Все вы знаете — сестра Валя никакого опыта не имеет…
— Врач — человек, он может ошибиться, — громко произнесла Спаковская. — Не торопитесь с голословным обобщением.
Собрание гудело, будто в улей бросили камень. Дора Порфирьевна стучала карандашом по графину.
— Дайте договорить Анне Георгиевне, — крикнул чей-то голос.
Анна резко повернулась к Спаковской.
— Это была не ошибка. Хуже! Это равнодушие!
— Я была у больного. — Таисья Филимоновна поднялась. Лицо ее покрылось красными пятнами. — Он чувствовал себя нормально. Обычная реакция. Небольшая аритмия.
Спаковская, откинув голову, в упор смотрела на Анну.
— Таисья Филимоновна вправе была уйти. Она вполне могла положиться на дежурного врача. И, вообще, Анна Георгиевна, вы отклонились от существа вопроса.
— А по-моему, я по существу, — произнесла Анна.
— Отношение к своему долгу и есть существо вопроса, Маргарита Казимировна, — произнес Вагнер.
Но Спаковская, кажется, не слышала слов Вагнера, она повернулась к молодому румяному человеку и что-то говорила ему, а он внимательно слушал ее и, видимо., соглашаясь с тем, что говорила Спаковская, кивал головой.
Анна отыскала глазами Журова. Он показал на свободное место около себя. Рядом с Журовым сидел Мазуревич, он обмахивался газетой и счастливо улыбался. «Ага, ты радуешься». И вдруг, разгорячась, Анна заговорила не очень связно, но в зале смолкли.
— А я по существу. Разве наша врачебная совесть для нас не самый главный контроль? Разве мы перед своей совестью не в ответе? По всем показателям мы считаемся передовым санаторием, — продолжала Анна и заметила: Спаковская, настороженно сдвинув брови и сжав губы, не сводила глаз с трибуны. — Но в наших отчетах нет графы: «Добросовестное отношение к больному».
— Ваше время вышло, — объявила Дора Порфирьевна.
Анна сошла с трибуны и, остановившись на верхней ступеньке лесенки, идущей со сцены в зал, сказала:
— Наш санаторий числится передовым. Мы даже переходящее красное знамя получили. Но как бы мы ни выполняли план по койко-дням, как бы ни гордились своим действительно образцовым порядком и дисциплиной, до тех пор, покуда у каждого из врачей, я повторяю — у каждого из врачей, — не будет чувства ответственности за жизнь и здоровье поступившего больного, до тех пор, покуда каждый из нас с чистой совестью не скажет себе: «Я сделал все, что мог», — до тех пор мы не имеем права считать себя передовым коллективом. Ведь государство затрачивает миллиарды рублей на ликвидацию туберкулеза, а жизнь человека у нас теперь, когда все делается во имя человека, никакой ценой не измеришь!
В дверях зала стояла Соня. Своим стремительным легким шагом Анна прошла к дверям.
— Все порядок, — сказала Соня на молчаливый вопрос. — Вера Павловна не велела, я сама. Воронова из двадцать седьмой сильно плачет: «Переливание сделали, теперь помру». Зовет, чтобы вы пришли. Я не хотела, а потом подумала, что рассердитесь, если я вас не позову. Правильно я сделала? Уж очень сильно плачет.
— Правильно, Соня!
Через полчаса в кабинет зашла Мария Николаевна.
— Уже кончилось? — удивилась Анна.
— Спаковская никому не дала слова сказать, — усмехнулась Мария Николаевна.
В дверь просунул голову Костя:
— Железный вы дали нокаут, доктор! — и тут же исчез.
— Вы очень хорошо говорили. Очень!
Мария Николаевна закурила и немного помолчала; потом, медленно, как бы пробуя каждое слово на ощупь, заговорила:
— Вам этого Королева Марго не простит, — и так как Анна не отозвалась, добавила: — Мы ведь непогрешимы, а вы в присутствии представителя позволили заметить, что король-то голый.
Мария Николаевна вытащила из кармана жакета новую папиросу и прикурила ее от старой.
По коридору простучали каблучки.
— А вам любопытно было бы посмотреть, как Спаковская ловко свернула собрание. Внесла предложение прекратить прения под тем предлогом, что нужно до кино проветрить зал. Резолюцию поручили доработать президиуму совместно с Мазуревичем. Ловко? Через месяц нам ее зачитают, а к тому времени страсти притихнут. Знаете, к чему она свела ваше выступление?
— К чему?
— Вы разволновались, мол, и наговорили под горячую руку много лишнего.
В дверь постучали. Вошел Журов.
— Я пойду. — Мария Николаевна поднялась. — Пора сына кормить.
Они остались одни.
— Между прочим, ваша сестра не очень-то меня долюбливает.
— А вам непременно нужно, чтобы вас долюбливали?
— Вовсе не обязательно. Ну, что вы так на меня смотрите?! Вы сегодня здорово Тасечку отхлестали. Ей давно надо было разъяснить, что она такое.
Засунув руки в карманы пальто, он прошелся по кабинету.
— Но сказать об этом на собрании вы не нашли нужным. Так же, как и о своих промахах начмеда. Она же под вашим руководством.
— Терпеть не могу покаянных речей. Я неловко себя чувствую, когда кто-нибудь публично изрыгает на себя хулу. Виновен — исправляй на деле.
— Мне нужно пойти навестить моих больных, — Анна взглянула на часы.
— Почему вы не хотите как-нибудь заглянуть ко мне? Боитесь сплетен?
— У меня нет времени.
— Наденьте плащ. Дождь, — накинув на нее плащ, он задержал свои руки у нее на плечах.
Анна молча отстранилась.
Сначала он курил, о чем-то размышляя, а когда свернули в темную аллею, сказал:
— А в общем-то Тасечка не гак и виновата. Врач должен уметь думать, а ей нечем думать. У нее в коре мало извилин.
— Значит, за такого врача должен думать начмед. Если у него хватает извилин.
— Благодарю.
— Дальше меня не провожайте.
Они остановились в конце темной аллеи. В кустах за кипарисами шлепал невидимый дождь.
— Анна, а что если завтра заставлю Филимоновну подать заявление об увольнении?
— Это не выход. Ее возьмут в другой санаторий. У нее есть стаж — тринадцать лет. И в другом санатории она будет так же бездарно врачевать.
— А какой выход? Проверять каждый ее шаг? Послать ее учиться?
— И то и другое. К сожалению, не в наших возможностях отобрать у нее диплом.
Помедлив, Журов сказал:
— Знали бы вы, Анна, какая на меня сегодня мерехлюндия напала! Ужасно не хочется с вами расставаться, — он взял ее руку в свою.
Она отняла руку и шутя сказала:
— К сожалению, меня ждут более тяжелые больные.
И пошла, не оглядываясь, но чувствовала, что он стоит и смотрит ей вслед. Вернуться? А зачем?
Поздно вечером позвонил Григорий Наумович. Конечно, она права. Давно следует такие явления вытаскивать на свет божий. Тут деликатность пагубна. О, совесть у таких горе-врачей молчит. Самое ужасное, что Таисья Филимоновна считает себя пострадавшей. Как же, она убеждена в своей непогрешимости. Высказав все это, Вагнер замолчал и, отдышавшись, добавил:
— Теперь Спаковская начнет вас выживать. Вы меня поняли?
— Вы паникер, Григорий Наумович! Никто никого не будет выживать.
На другой день Спаковская уехала на совещание в Одессу. Таисья Филимоновна перестала с Анной здороваться. По секрету Журов сообщил ей: «„Королева“ устроила легкую баню Тасечке. Даже золото ее потускнело».
Вернувшись, Спаковская вызвала к себе Анну.
Маргарита Казимировна встретила Анну с приветливой улыбкой. У нее была одна особенность: улыбался рот, а глаза, полуприкрытые веками, из-под коротких темных ресниц смотрели спокойно, без тени улыбки.
Главного врача интересовало все: довольна ли Анна сестрами? Каково состояние тяжелобольных? И что она думает назначить им в дальнейшем? Возможно, для кого-нибудь нужен ринофон или циклосерин? Если нет у старшей, следует говорить непосредственно ей.
— Ну, а как работает Виктория Марковна?
— Почему вы меня об этом спрашиваете?
— Хотела с вами посоветоваться. Сегодня мне звонили из управления. В детский санаторий нужен начмед. Как вы полагаете, подошла бы ее кандидатура? Мы привыкли к недостаткам друг друга. Вам со стороны виднее. Вы опытный врач. Человек умный. Вы это доказали на собрании.
— Я не ожидала, — сказала Анна с пробудившейся обидой, — что вы возьмете Таисью Филимоновну под защиту.
— Я не люблю выносить сор из избы. Это глас народа. Так как же относительно Виктории Марковны?
— Неужели вы всерьез считаете, что такой беспомощный врач может еще кем-то руководить?!
— Ну, а вы?
— Что я?
— Согласились бы пойти на этот пост в детский санаторий? — и, не дав Анне опомниться, продолжала: — Там работа самостоятельная. Хорошая квартира, двухкомнатная.
Анна взглянула в упор в полуприкрытые глаза:
— Хотите от меня избавиться?
— Что вы, дорогая! Просто вы достойны лучшего положения.
…Несмотря на все хорошие слова, оказанные Спаковской, от разговора с ней у Анны осталось ощущение неловкости и недоверия. Неужели Вагнер прав?
«20 февраля.
Томка, дорогая моя Томка, не писала тебе тысячу лет. Не сердись на меня. Люблю я тебя по-старому. Нет, даже больше. И никогда не забуду, как ты примчалась всего на одни сутки — навестить меня в больнице. Такие вещи не забываются.
Сегодня, когда Анна Георгиевна показала мне твое письмо, мне стало очень стыдно, ты разыскиваешь меня, тревожишься, а я молчу, как истукан.
Прости меня!
Анна Георгиевна выходила меня. Она говорила мне: „Нет… нет… нет…“ И все внушала мне: „Ты будешь жить“, — до тех пор внушала, пока я не поверила.
Меня лечили в санатории восемь месяцев. Представляешь? И я ничего не платила. Наоборот, я восемь месяцев получала по больничному.
Раньше я все принимала как должное: стипендии, туристские путевки, и даже злилась на многое. И ты злилась. Стипендии не хватает на модельные туфли, надоели давка в автобусах и очереди в магазинах. Ну, а теперь я понимаю, как много я, потерявшая родителей… не могу писать… Ну да тебе и не надо ничего объяснять. Вот за это и люблю тебя, Томка.
Кончился срок моего лечения, надо было возвращаться. А куда? Я и сама не знала. Анна Георгиевна сказала мне: „Если хочешь быть здоровой (для меня это быть по ту сторону рва, я писала тебе про этот ров), оставайся на два-три года в Крыму“.
Я осталась. Получаю пенсию. (Теперь я инвалид второй группы). В 25 лет-то! Я нарочно взяла в скобки эту фразу. Я раскрою их. Вот увидишь! А. Г. устроила меня на работу, здесь же в санаторий, в библиотеку. Не так уж легко ей было устраивать. Пришлось выдержать из-за меня целую баталию. Оказывается, жена заместителя главврача, некоего Мазуревича, хотела устроиться на эту же работу. Главврач, когда я пришла к ней, заявила, что они обязаны трудоустраивать местных. Анна Георгиевна и еще один доктор-старик хлопотали за меня. Как это им удалось — не знаю. Но удалось. И вот я работаю.
Знаешь, я первые дни не могла в себя прийти от радости. Я работаю!!!
Сейчас пишу тебе в библиотеке. Это огромный зал. Венецианские окна, лепной потолок. Передо мной картина, типичный крымский пейзаж: белокаменный домик, цветущий миндаль, солнце и воздух.
Так много солнца и воздуха, что мне хочется встать, войти в картину и посидеть на крылечке светлого домика.
Половина зала, в котором я пишу тебе, заставлена книжными стеллажами. Мое хозяйство — пять тысяч томов. Звучит?! Кажется, Горький сказал, „если хочешь поговорить с умнейшими в мире людьми — зайди в библиотеку“. Библиотека — это лучшее, на что я сейчас способна…
Пока у меня нет своей комнаты. Здесь это не так-то просто. Больше строят санатории, пансионаты. На новые квартиры претендентов много, и в первую очередь те, кто долго работали. Итак, пока скитаюсь по чужим углам. Сначала жила на квартире у нянечки. Собственно, у нее снимала койку. Знаешь, Томка, с тех пор, как я заболела, я узнала много хороших людей. Моя хозяйка — Мария Михайловна — простая, очень добрая (представь, она в день моего рождения подарила мне вышитую собственными руками кофточку. Со своей-то зарплаты санитарки!).
Но, к сожалению, к ней приехала дочь, и я вынуждена была искать новую хозяйку.
Новая моя хозяйка напоминает мне мадам Грицацуеву. Она небольшого ростика, с пышным бюстом, из-за этого бюста не видит собственных ног. Крашенная в неопределенный цвет. То она рыжая, то совсем белобрысая. Ресницы и брови белые. Не красит их принципиально. Она так мне объяснила: дескать, в этом ее оригинальность. Лицо покрыто толстым слоем штукатурки, на неизменной красной крепдешиновой кофточке следы этой штукатурки. Но бог с ней, совсем не обязательно, чтобы моя хозяйка была Венерой Милосской. Томка, она может говорить подряд три-четыре часа. (Больше я не выдерживаю, убегаю). И все о своих „жутких“ романах.
Сначала я слушала ее с любопытством. (Не каждый день попадаются такие доисторические экземпляры). А сейчас меня от одного звука ее голоса начинает, ей-богу, тошнить. Но я бы с ней еще могла мириться. Она то у соседей околачивается, то на работе (мадам Козик торгует, „Пиво-воды“). Но ее угораздило выйти замуж. „Он“ лысый и усатый. Из его маленьких глазок сочится масло. После того, как я поймаю на себе его взгляд, мне хочется вымыться с головы до ног. Я слышала, как мадам Козик сказала ему: „Нечего на нее пялиться. Ты ей до лампочки. Эта штучка не для тебя“.
Представляешь, Томка, с какими людьми я не только должна жить рядом, но и зависеть от них. Утешаю себя тем, что Костя обещал мне найти более подходящую комнату.
Томка, ты ни о чем меня не расспрашиваешь. Пришло мне одно письмо от Ю., к концу третьего месяца моего пребывания в санатории. Я побежала с письмом к А. Г. Она сказала: „Решай сама“. От нее отправилась на почту, купила конверт и, не распечатывая, вложила письмо Ю. Если уж до конца говорить правду, через четверть часа я вернулась на почту. Я не могла стоять, так у меня дрожали ноги. Я села к столу и стала ждать.
Я ждала, когда будут вынимать письма из большого деревянного ящика, чтобы попросить начальника почты — девушку с очень добрым лицом, вернуть мне письмо! Потом мне стало стыдно, и я ушла.
А через десять дней пришел из Ленинграда перевод на сто рублей. Я отправила деньги по тому адресу, что был на конверте.
Вот и все! Больше он ничем не дал знать о себе.
Пора заканчивать письмо. Я одна в этом большом старинном зале. И часы здесь старинные. Они стоят на полу. Впервые вижу такие высокие часы, они в футляре из какого-то темного дерева, с бронзовыми затейливыми инкрустациями. Часы с боем. Они отбивают четверть часа. Слышишь, Томка, как они занятно бьют: динь-дон, динь-дон-тра-ля-ля?!
Пока я тебе писала, за окном все лил и лил дождь. На юге февраль и март — самые скверные в году месяцы. Стоят холодные и ветреные дни. Часто идут противные дожди. Три раза выпадал снег. И я — смешно — обрадовалась ему, как родному.
Это моя первая зима на юге. Осталось еще две. Тоскую я о настоящей зиме. Чтобы метели мели, чтобы снежок хрумкал под ногами. Томка, ты за меня постой у окна, когда будет падать густой снег. Я любила вот так, особенно в сумерки, стоять у окна и смотреть, как падают, крутятся белые хлопья. Нет, наверное, я до самой печенки — северянка. И никогда не забуду Сибири.
Ну, пора кончать. Уже поздно. А у нас (в Сибири) ночь. Спокойной ночи, дорогая! А может, ты не спишь, а сидишь над тетрадями. Скорее всего так. Отвечай же побыстрее.
Обнимаю тебя, твоя А.»
«4 марта.
Томка, и не выдумывай посылать мне деньги! Спасибо, мне хватает. Поверь, было бы мне трудно — ты первая, к кому бы я обратилась за помощью. Моей пенсии и зарплаты вполне достаточно, тем более, что у меня на год хватит тряпок. Основная статья расхода, как раз половина моего „дохода“, плата за жилье. Подумай только, я плачу 40 рублей за каморку. Хозяйка говорит, что еще дешево, надо бы 60 рублей — „две коечки можно поставить“, а полагается рубль за койку.
Ничего не поделаешь — такой стиль.
Питаюсь я в столовой при санатории. Не всегда вкусно, но зато дешево.
Ты просишь рассказать подробнее о Косте. Вот тут, Томка, ты не поняла — это не роман. Костя, наверное, меня любит. Он не говорил мне этого. Отношения у нас самые дружеские. Если бы я могла когда-нибудь полюбить — я бы хотела любить Костю. Но сердцу не прикажешь.
Он работал в нашем санатории монтером. А сейчас — рентгенотехником. Я его заставила (ей-богу, он меня слушается) поступить в десятый класс. Мне кажется, что он пошел учиться только ради того, чтобы я занималась с ним по русскому языку. В конце диктанта он может нарисовать рожицу и подписать: „Это Асёнка“ (он так называет меня).
Меня часто мучает совесть: не будь меня, он завел бы семью. Я как-то об этом ему сказала.
Он не дал мне договорить, а со свойственной ему грубоватой прямотой заявил: „На черта мне другая… Я хочу быть с тобой…“
Ну, а теперь — самое главное. Недавно мы с Костей гуляли (он каждый день „выводит“ меня на прогулку, говорит, что я должна „выдышать“ всю библиотечную пыль) и, неожиданно для меня, очутились у школы. Прозвенел звонок, будто молоточком по нервам ударили. Ребята выбежали во двор. Я стояла и смотрела на них…
А вчера Костя пожаловал ко мне в библиотеку, с ушастым мальчишкой. Без всякой подготовки объявил, обращаясь к мальчишке: „Вот, Коля, твоя новая учительница“. Я просто обомлела. А потом разозлилась: зачем он притащил в санаторий мальчишку. Взглянув на мое лицо, Костя моментально сориентировался и поспешно все объяснил. Коля болен: он перенес резекцию легкого (это в двенадцать лет!), потом долго лечился, а сейчас приехал на юг к тетке. Коля отстал только по русскому и литературе. „Не могли бы вы, Ася Владимировна, подковать хлопчика, чтобы у него год не пропал?“
Стоит ли, Томка, тебе объяснять, что я ухватилась за хлопчика.
Что же, когда-то у меня было девяносто учеников, теперь всего один.
Маленький принц (см. Экзюпери) сказал: „У каждого человека есть свои звезды“, а еще он сказал: „Знаешь, отчего хороша пустыня?.. Где-то в ней скрываются родники“. Он был мудрый — этот маленький принц, но не холодной мудростью старца, у него было детское горячее сердце.
Обнимаю тебя, дорогая. Пиши мне.
Ася».
«9 марта.
Томка, в эти дни „за горами, за долами“ разыгрались события. Ты знаешь, дверей в моей каморке нет. Висит старое, застиранное одеяло, и я слышу все, что делается у хозяев. „Хозяева“ — подумай только! Атавизм какой-то! Но насколько омерзительно это понятие, я почувствовала только теперь, когда они, эти самые хозяева, появились у меня на 26-м году жизни. Просто нелепость!
Я невольно услышала их разговор. Они не умеют разговаривать тихо. Мадам Козик готовилась к „гулянке“ — так они называют приход гостей. Меня они пригласили таким образом: „Приходите к нам посидеть. Конешное дело, для вас компания не подходящая, мы люди простые. А вы — интеллигенция“. И все в таком духе. Я поблагодарила и отказалась, под предлогом, что принимаю антибиотики и не могу пить.
Отправилась к Анне Георгиевне. У нее был Журов И они собирались идти на именины к какому-то врачу, приятелю Журова. Она показалась мне праздничной, не только потому, что была нарядной. А. Г. как-то помолодела, и все время улыбалась. Стали звать меня с собой. Но я соврала, что у меня куплены билеты в кино. Конечно, ни в какое кино я не собиралась. Нас с Костей все привыкли видеть вместе — начнутся всякие расспросы. Уж не поссорились ли мы. Пошла в библиотеку.
Очень мне хотелось написать тебе, Томка. Но письмо получилось бы мрачным. Наверное, то же самое чувствует бездомная собачонка в злую непогодь.
Когда, по моим подсчетам, гости должны были уйти я отправилась „домой“.
Не зажигая света, разделась и легла, навьючив все теплое: окно оставила открытым. Спать с открытым окном меня приучила Анна Георгиевна. Хозяева не возражают. Они из этого извлекли для себя выгоду: „Ей сколько ни топи, все равно выстудит“. И топят раз в неделю.
Я лежала с закрытыми глазами и видела, понимаешь, Томка, видела дурацкое хозяйское панно над моей кроватью. Какой-то нелепый толстомордый мальчишка и аист над ним. Похоже, что аист стоит на голове мальчишки. А еще я „видела“ в углу на этажерке гипсовую собаку, покрашенную „золотой“ краской. Чужие вещи, чужие запахи, и сама я чужая…
Мне было так тошно, что я даже реветь не могла.
Будет ли когда-нибудь у меня свой дом?
Хозяева скандалили. Сначала я не поняла, из-за чего у них сыр-бор разгорелся, а когда сообразила — ужаснулась. Он орал: „На кой… ты мне сдалась. За меня любая пойдет. У меня в Ялте своя площадь есть. Заберу квартирантку и буду с ней жить“. Мадам Козик кричала, что в тихом омуте все черти водятся, что она сразу меня „раскусила“ и что она меня, заразную, из жалости пустила на квартиру, а я так „низко“ ее отблагодарила.
Не помню, как я оделась, мадам Козик воинственно преградила мне путь, став в дверях. Я ретировалась через окно.
Был час ночи. Куда идти?
Ноги сами меня привели к А. Г. У крыльца стояли двое, я услышала голос Журова и завернула обратно. Куда идти? Всегда добра ко мне сестра Мария Николаевна, но она живет далеко, высоко подниматься, да и ночью мне не найти ее дома. Пойти в библиотеку? Закрыт корпус. Я стояла одна на темной улице. Появился кто-то высокий в плаще-накидке. И я вдруг позорно перетрусила, прижалась к стене. Это был милиционер. Город-то пограничный. Слава богу, меня он не заметил.
И тут я вспомнила о Косте. Кажется, он не поверил своим глазам, увидев меня. Я сначала ничего толком не могла объяснить. Трясло меня, как при сильном ознобе. К счастью, у Кости в комнате топилась печь.
Он сказал: „Тебе надо выпить горячего чая“. И тут я неожиданно разревелась. Я до этого никогда не ревела при нем. Он страшно растерялся. Стоял посредине комнаты, держа в руках чайник, и все повторял. „Ася… Ася…“ Я ничего не могла ему объяснить и не могла остановиться.
Он поставил чайник, подошел к окну и, стоя ко мне спиной, сказал: „Выходи за меня замуж“.
Томка, мне до сих пор стыдно за свои слова. „Выходить за тебя замуж только потому, что у меня нет своего угла?“
Он сказал: „Совсем не потому! Ты же знаешь, что я тебя люблю!“ Потом мы очень долго молчали.
Я не успела ничего сказать Косте. Он заявил, что „подло“ сейчас, когда я так подавлена, добиваться от меня ответа, что у нас еще есть время и что он завтра уезжает на два дня в Севастополь, в командировку. Сейчас же мне надо уснуть; утром он отведет меня к А. Г., и, независимо от того, что бы я ни решила, крыша у меня над головой будет.
Думала: от всех потрясений не смогу глаз сомкнуть. Но неожиданно заснула почти мгновенно. Может, оттого, что в комнате было тепло, а возможно, повлиял коньяк, Костя подлил его в чай „от простуды“.
Сквозь сон услышала: кто-то зовет меня. Сразу не могла понять — где я. Незнакомая комната: тахта, на которой я спала, рядом столик с приемником, посредине стол, заваленный бог знает какими деталями и инструментами, платяной шкаф — вот и вся обстановка. Накануне я ничего не заметила.
Горела настольная лампа, на абажур накинуто полотенце, и от этого в комнате полумрак.
Костя признался: неохота было меня будить, но уже семь утра, и соседи могут черт-те что болтать. В общем, он меня проводит к А. Г.
С Ай-Петри дул прямо-таки леденящий ветер. Было темно.
Костя шел чуточку впереди, стараясь спиной загородить меня от ветра.
Томка, только тут, на этой темной улице, прячась от ветра за спиной Кости, я поняла, что нет ни одного человека во всем свете, которому я была бы так нужна, как Косте. Нужна! Понимаешь: я нужна такая, какая я сейчас: больная, бездомная.
А. Г. уже не спала. Дома у нее тепло, уютно. Наверное, еще и оттого, что так славно посапывают во сне ребята, пощелкивает отопление. А. Г. заставила меня выпить чашку горячего кофе и уж потом разрешила говорить.
Выслушав меня, А. Г. сказала: за вещами к мадам Козик она меня не отпустит, сходит за ними с Марией Николаевной. Странно, Томка, складывается моя жизнь. Я не могу возвращаться туда, где жила. А. Г. убеждала меня: никакой трагедии не произошло. Разве стоит переживать, если из-под чьей-то подворотни выскочит на тебя собака и облает?! Ведь мы же через полчаса забудем о ней. Мадам Козик не стоит ни одной слезинки.
Рассказала я ей все и о Косте. Она спросила: „А ты его любишь?“ Я сказала: „Не знаю!“
Томка, я в самом деле не знаю: люблю ли его.
А. Г. не пустила меня на работу. Видимо, от всех треволнений поднялась температура. А. Г. уложила меня на диван. Сама сделала укол.
Проснулась: ребята сидели за столом. Вовка готовил уроки, Надюшка раскрашивала картинки.
Лежала я, Томка, и думала о словах, которые мне сказала А. Г. уходя: „Если бы ты стала Костиной женой, я была бы спокойна за твою жизнь. Он бы тебя сберег“. А Косте-то будет со мной хорошо? — спрашивала я себя. Неужели я не смогу его никогда так полюбить, как я любила Ю.? Но ведь рано или поздно он почувствует пустоту?
Томка, ты никогда не замечала, что, казалось, совсем незначительные вещи могут перевернуть, как говорится, все нутро. Так случилось со мной, когда я услышала шепот Вовки: „Надюха, закрой ее, ей, наверное, холодно“.
Я сказала себе: „Пусть я эгоистка и думаю только о себе, пусть я безвольное, жалкое существо, но жить дальше одна я не могу“.
Да, Томка, квартирные дела так меня затуркали, что я чуть не забыла поблагодарить тебя за сборник диктантов. Хлопчик мой очень смышленый и старательный. Заниматься с ним одно удовольствие. Только меня беспокоит, что аппетит у него плохой, завтра покажу его Анне Георгиевне.»
«15 марта.
Томка, я не закончила письмо. Пришла А. Г. и увела меня к себе ужинать. И хорошо, что не отправила письмо, — у тебя нет повода ругать меня. Нет, я не выйду замуж за Костю. Это было бы подло, а по отношению к Косте — жестоко. Пока он три дня доставал кабель в Севастополе, я одумалась.
Выслушал он меня сдержанно, даже, как мне показалось, равнодушно. Признаюсь, меня это уязвило.
Живу в библиотеке. А. Г. пыталась получить для меня комнату. Спаковская отказала. Я узнала об этом стороной.
Анна Георгиевна и Спаковская, по-моему, схожи: обе сильные натуры. И в то же время — очень разные. Одно время мне казалось, что они подружатся. Анна Георгиевна в свои служебные дела меня не посвящает, но как-то я спросила ее об их отношениях со Спаковской. Она бросила такую фразу: „У нас с ней наступила эпоха мирного сосуществования“.
В свободное от работы время ищу жилье. Сплошные неудачи. Одна хозяйка (старуха, на которую не мешало бы напустить Раскольникова. Летом у нее форменный пансионат. Сдает буквально кусты) заявила мне: „Я, милая, честно прожила жизнь. Не позволю мужиков водить и пьянки устраивать“. Представляешь? Мария Николаевна говорит, что это работа мадам Козик. В одном месте нашла комнату. Но 60 рублей. Нет, хозяева с их „коечными сберкнижками“ не войдут в коммунизм.
В одном месте Костя нашел мне комнату, однако снова „но“ — потребовали справку, что нет бацилл. Конечно, я больше и носа туда не показывала.
Почему же нет пансионатов для таких, как я? Наверное, когда-нибудь и будут. А пока я ищу пристанища. Костя ходит с загадочным видом, говорит, что скоро будет „порядок“. Скучное письмо получилось. Прости, Томка. Такова, видно, печальная участь друзей — читать „болезные“ письма.
Пожелай же мне поскорее обрести крышу над головой.
Твоя бездомная А».
«24 марта.
Томка, новостей у меня миллион. Во-первых, вчера водила Колю на рентген. Смотрели его А. Г. и Вагнер. Оба сказали: дела у моего хлопчика идут хорошо. А. Г. достала для него рыбий жир. Тетка не может его заставить пить, а у меня пьет как миленький. Во-вторых, кто-то (видимо, дело рук А. Г., Кости и Вагнера) хлопотал за меня в горсовете. На днях меня туда пригласили.
Горсоветовский дядька, ведающий жилищными делами, сказал, что если бы дать или не дать комнату было в его силах, то я через сутки могла бы праздновать новоселье. Но… комнат нет. Есть очередь на комнату. Еще обещал помочь Журов (тут опять же Аннушкина работа).
Вызвала к себе Спаковская и заявила: дальше жить в библиотеке нельзя. Не обязательно искать комнату с комфортом, „можно временно и потерпеть неудобстве — довольствоваться койкой“ Она бы устроила меня в общежитие, но там живут здоровые девушки. Лучше бы она этого не говорила.
Непонятно, откуда об этом узнал Костя. Вечером он явился в библиотеку и заявил: „Нечего тебе больше к этим живоглотам ходить. Комната есть. По государственным ценам. Собирай барахлишко — завтра перетащимся“.
„Барахлишко“ мое: чемодан и постель у А. Г. Он заявился вечером к ней, она была на дежурстве; коротко и решительно скомандовал: „Пошли“, — схватил в одну руку чемодан, в другую постель. Я и опомниться не успела.
Около своего дома он сказал: „Зайдем — ключ у меня“. Зашли. Костя поставил вещи и сказал: „Вот и все“. Я сначала не поняла. Тогда он терпеливо разъяснил: нечего мне больше мотаться. Могу жить у него. Два или три рубля стоит вся „квартирная площадь“. Он поселится на веранде. Разве я не заметила верандочку? У него будет отдельная „квартира“. Он поставил себе там электрокамин.
Потом потащил меня смотреть веранду. Он „перебросил“ туда тахту. В комнате поставил кровать, стол, шкафчик. В общем-то одному можно жить.
Наконец он выговорился. А я все молчала. Тогда он не выдержал и спросил напрямик: „Может, ты боишься, что скажет княгиня Марья Алексеевна, или считаешь меня подонком?“
Я сказала, что считаю его самым верным другом, а после мадам Козик мне никакие княгини не страшны. „Тогда в чем дело?“ — спросил он.
И я осталась.
А сегодня старшая сестра Дора Порфирьевна (Костя называет ее „крысой в локонах“) спросила меня: „Вы вышли замуж?“ Ты ведь знаешь, Томка, я не очень находчивая.
Выручила Мария Николаевна, спросив ее: „А вы вышли замуж?“ Потом отозвала ее и что-то такое сказала, отчего у нее, кажется, локоны развились.
Только заболев, я узнала, как много по-настоящему хороших людей. Я должна выздороветь, вернуться в школу и вернуть людям все, доброе, что они дали мне. Я теперь все время думаю об этом.
На днях будем праздновать новоселье.
Кончаю писать. Костя вернулся (его вызывали в корпус: перегорел свет).
Ложусь спать. У меня, подумать только, тепло. Костя сам топит.
Пиши. Жду. Целую. Ася».
Новоселье прошло неожиданно весело. Ася сделала пельмени, Анна принесла пирог с рыбой. Журов — апельсины. Вагнер преподнес вазу с подснежниками. Пили шампанское, хором пели: «Я люблю тебя, жизнь» и «Если бы парни всей земли». Больше всех веселился Костя: лихо отплясывал чечетку, декламировал стихи. Даже Вагнер изобразил танго времен Мозжухина и Веры Холодной.
Журов с Анной проводили Вагнера до дома.
Сергей Александрович, когда они остались вдвоем, взял ее под руку. Они молча пошли к берегу и спустились на причал.
Волны бухали под настилом, заставляя вздрагивать деревянные плахи. Желтый свет фонарей качался на волнах.
Сели на скамью.
— Вы все время были такой веселой, а сейчас притихли. Можно, я закурю? Как вы думаете: молодожены будут счастливы?
— Если они действительно поженятся, будут, — Анне самой показалось, что голос ее прозвучал не очень-то уверенно. И она упрямо повторила: — Непременно будут.
— Вы оптимистка. Почему вы никогда не спрашиваете о моей семье?
Она не ответила.
— Моя жена красивая и довольно умная женщина. Она кандидат медицинских наук. Будет профессором. У нее есть высокопоставленный покровитель. И представьте: еще ко всему этому — она меня любит. Бывают и такие жизненные парадоксы. Я в страшной от нее зависимости. У нас два сына-близнеца. Они повторили меня. Я вам уже сказал: она умна во всем. Она их назвала: Сережка и Сашка. И воспитала их так, что мальчишки во мне души не чают. Анна, что же вы молчите? Я смешон?
«Какое мне дело до твоей жены? Я не хочу сейчас говорить о твоей жене, — думала Анна, — и вообще я ни о чем не хочу говорить».
Она смотрела на качающиеся желтые блики на волнах. Зачем нужны слова? Просто так, тихо посидеть рядом.
Черное небо уронило в темную воду сверкающую звезду. «Кажется, я пьяна. А ветер-то, ветер: влажный, соленый… Сиди, дыши, радуйся…»
— Анна! Ну, Анна! Чего же вы молчите? Ну скажите хоть что-нибудь.
«А если я не могу хоть что-нибудь», — подумала она.
Он взял ее лицо в свои руки, привлек к себе и поцеловал закрытые глаза, отыскал ее свежий, не тронутый губной помадой, рот.
Потом они поднялись и пошли. Под ногами легонько поскрипывал гравий. Сбоку в канаве, запинаясь о камни, вполголоса журчал ручеек.
Прощаясь, Журов задержал ее руку в своей. Они стояли у калитки. Притянув ее осторожно за плечи, он сказал:
— Анна, приходи ко мне завтра. Нам нужно поговорить, приходи. Ну, прошу тебя.
— Хорошо, приду. — Она засмеялась и сама не узнала своего смеха. Так она смеялась давно, очень давно.
Назавтра после пятиминутки Спаковская сказала Анне:
— Без меня обхода не начинайте. Мне даже неловко, что никак не могу к вам попасть.
В отделении у Анны после памятного собрания, а прошло более месяца, Спаковская не была. Правда, она то уезжала на совещание, то была занята в комиссии по обследованию соседнего санатория.
На этот раз «королева» явилась без свиты.
— Я слышала, вы отпраздновали новоселье, но я хочу, чтобы устроилась ее личная жизнь, — сказала она.
«Вероятно, она искренна», — подумала Анна.
В палате, куда зашли врачи и сестра, сидела на кровати круглолицая женщина. Анна открыла папку с историей болезни и тихо проговорила, обращаясь к Спаковской:
— Ксения Тихоновна Семочкина — хроник. Процесс кавернозный, в стадии инфильтративной вспышки.
За три месяца лечения в санатории Семочкина располнела. Круглое свежее лицо, маленький вздернутый нос, толстые, ярко накрашенные губы. Русые волосы подобраны кверху и покоятся на макушке, сколотые затейливым гребешком.
Отложив вышивание, Семочкина тревожно глядела в лица врачей.
— Что вы получаете? — обратилась к ней Спаковская.
— Фтивазид и паск.
— Как вы себя чувствуете?
— Два дня температура.
— Сколько?
— Тридцать семь и один.
— Назначьте больной стрептомицин по ноль пять с пенициллином.
— У меня стрептомицин всегда сбивает температуру, — обиженно замигала Семочкина.
Стрептомицин ей противопоказан, но не затевать же при больной спор. «Я потом скажу Спаковской», — решила Анна.
В другой палате Спаковская, обнаружив в тумбочке недельную дозу паска, спросила у больной:
— Почему вы его не принимали?
Белобрысенькая девушка, с наивным лицом и толстой косой, простодушно призналась:
— А мне тетя Фрося сказала, что от этой паски шибко живот болит.
— Вот видите, — улыбнулась Спаковская, как всегда, одними губами, а глаза оставались холодными, — у вас в отделении командует тетя Фрося.
В следующих палатах Спаковская никаких замечаний не делала. Хмурое и виноватое выражение сошло с лица Марии Николаевны.
«Слава богу, пронесло!» — подумала Анна.
— Ну, а теперь: пойдемте к вашему тяжелобольному, Кажется, Гаршин?
— Да. Тяжелейший процесс, — лицо Анны мгновенно омрачилось. — Боюсь его потерять…
Гаршин сидел за столом и писал. Остальные — троё, люди пожилые, сидя каждый на своей кровати, читали.
Гаршин, прикрыв исписанный листок книгой, встал.
«Наверное, жене пишет», — догадалась Анна.
Гаршин показывал ей фотографию жены, молодой красивой женщины. Он писал ей каждый день. Он очень худ. Несмотря на молодость, большие залысины.
Анна, встречаясь с Гаршиным, испытывала чувство, самое страшное для врача, — беспомощность. Мучило сознание, что когда-то была совершена врачебная ошибка, за которую человек вынужден расплачиваться жизнью. Она знала: Гаршин все понимает. Он приехал в санаторий ожесточившись, ни во что не веря.
Гаршин, когда Анна достала для него с таким трудом диклосерин, с улыбкой (неизвестно чего было больше: недоверия или презрения в этой улыбке) спросил ее: «А стоит?»
Но вот уже неделя, как температура нормальная, появился аппетит, сон. Гаршин и верил и не верил, точнее, боялся еще окончательно уверовать.
Но Анна понимала: единственное спасение для него — операция.
Спаковская взяла из рук Анны папку, читая анамнез, бросила:
— Да, процесс запущенный.
Гаршин со странной полуусмешкой следил за ней глазами.
— Вы просили консультацию хирурга для него? — обратилась Спаковская к Анне.
— Да. Для Дмитрия Ивановича.
— Почему вам раньше не предлагали операцию? — Спаковская из-под опущенных век разглядывала Гаршина.
— Откуда мне знать?
— Здесь не может быть речи об оперативном вмешательстве. С таким процессом.
Гаршин отвел глаза от лица Спаковской.
Чувствуя, что все в ней кипит, сделав над собой страшное усилие, Анна почти весело проговорила:
— Может! Правое легкое позволяет. — И, неожиданно придумав, соврала: — Я написала профессору (она назвала имя известного в Союзе фтизиохирурга) и послала снимок; он солидарен со мной. Подлечим бронхи и прооперируемся.
Гаршин на Анну не смотрел. Те трое уткнулись в книги, но по их лицам Анна видела — они внимательно прислушиваются.
«Ты не врач, ты черт-те что, — мысленно возмущалась она, — неужели ты не понимаешь, что операция необходима по жизненным показаниям. Нет! Уж этого я тебе не прощу. Как же ее отсюда увести?!»
— Маргарита Казимировна, вам звонил Журов.
— Успеется. Не очень я верю в заочные консультации. Я хочу послушать Гаршина. Будьте любезны, разденьтесь.
Анна, страдая и стыдясь, смотрела, как Спаковская выслушивала и выстукивала Гаршина, выразительно при этом покачивая головой.
— Как же вы себя довели до такого состояния?
— Это вы меня довели до такого состояния, — холодно произнес Гаршин, натягивая рубашку.
— Я? — Спаковская на мгновение растерялась.
— Да, вы! Врачи! Я не врач. Я инженер. И я не лечил сам себя. Меня лечили, к вашему сведению, врачи. Я пришел к ним с одним паршивеньким очажком, — он приложил руку к дергающейся щеке.
— Н-да! — сказал один из больных, с шумом захлопывая книгу.
Спаковская, отвернувшись от Гаршина, сказала, как всегда, отчетливо выговаривая окончания слов:
— Чесночные ингаляции следует отменить, попробуйте лучше солюзид.
— А я не хочу, чтобы пробовали, — морщась, как от боли, резко сказал Гаршин. — Наконец-то меня по-настоящему стали лечить. Лечит меня Анна Георгиевна, и не мешайте, — последнюю фразу он проговорил задыхаясь.
До кабинета врачи шли молча. Анна повернула ключ в двери и, уже не сдерживаясь, с яростью воскликнула:
— Как вы позволяете такое? Почему вы не щадите тяжелобольного человека?
— В чем дело? — холодно спросила Спаковская. — У вас в отделении культ личности.
Маргарита Казимировна закурила.
— Вы могли бы все ваши, — у Анны чуть не вырвалось «дурацкие замечания», — все ваши замечания сделать мне после обхода, не в присутствии больных. Послушайте… — Анна на миг запнулась. — Какого черта! Вы должны, обязаны понимать, какую реакцию вызовут у больного ваши безапелляционные…
— Надеюсь, мы можем соблюдать этические нормы в споре, — перебила Анну Спаковская.
— Этические нормы следует соблюдать у постели больного. Вы же впервые видите Гаршина.
— Через мои руки прошло много подобных Гаршиных, и я утверждаю: тут и речи не может быть об оперативном вмешательстве.
— Все же решающее слово за хирургом.
— Хирург вам то же самое скажет. На вещи нужно смотреть реально. Прекраснодушие тут неуместно.
— Неужели вы не понимаете, что операция единственный шанс на спасение. Я настаиваю на консультации хирурга.
— Что ж! Это ваше право. Назначайте на консультацию. Повторяю: Канецкий — а он очень знающий хирург — скажет то же самое.
Разговаривая, Спаковская ни разу не повысила тона, но не отказала себе в удовольствии, уходя, хлопнуть дверью.
Анна уже собиралась домой, когда раздался телефонный звонок. В трубке прозвучал вежливый голос Спаковской:
— Попрошу вас зайти ко мне.
— Хорошо, — Анна, не снимая халата, накинула на плечи жакет.
— Мама, можно? — В дверь заглянул Вовка. — Мам, Надюшка заболела. Я смерил температуру: тридцать восемь и пять.
— Рвоты не было?
— Нет. Только пить просит. А есть не хочет. Я ее в кровать уложил. Правильно?
— Правильно. Иди к Надюшке. Я сейчас.
Анна сняла телефонную трубку и набрала номер.
Голос Спаковской любезно ответил:
— Я вас слушаю.
— Сейчас зайти не могу. У меня заболела дочь, — не дожидаясь ответа, Анна положила трубку.
Надюшка, крепко прижимая к себе безносую куклу, сидела в своем углу на стульчике и печальным голоском пела: «Баю-баюшки баю, не ложися на краю, придет серенький волчок…»
— Вот видишь, мама, — пожаловался Вовка, — а я ей велел лежать.
Анна, вглядываясь в покрасневшее лицо девочки, присела перед ней на корточки и прикоснулась губами к ее горячему лбу.
— А ты больше на работу не пойдешь? — Надюшка приготовилась плакать.
— Нет, не пойду. Но ты сейчас же должна лечь в постель.
Анна, как это всегда случалось, если заболевали дети, не очень доверяла себе. Когда температура у Надюшки подскочила до 39, послала Вовку за Григорием Наумовичем.
Вагнер подтвердил диагноз: пневмонический фокус.
Когда Надюшка уснула, Анна позвала Григория Наумовича на веранду пить чай.
Отпивая маленькими глотками почти черный чай, Вагнер молчаливо устремил свой взгляд куда-то в пространство.
У Анны на душе было смутно. Необходимо Надюшку устроить в детский сад. Это может сделать только Спаковская, но после всего не хочется к ней обращаться. Интересно, знает ли Сергей о ее стычке с «королевой». Хуже всех Гаршину. Он сказал: «Не утешайте, я не мальчишка». Как будто он все же успокоился. Только бы у Надюшки все кончилось без осложнений…
Анна прошла в комнату и склонилась над кроваткой.
— Мама, а это не опасно? — шепотом спросил Вовка.
— Нет. Только важно, чтобы не простудилась. Заканчивай уроки и ложись.
Анна вернулась на веранду и, садясь к столу, сказала:
— Думаю, сейчас температура меньше. Что-то около 38.
— Человечество должно быть благодарно пенициллину и Ермольевой.
Кто-то позвонил. Анна вздрогнула и, поймав на себе, как ей показалось, испытующий взгляд Вагнера, с притворным изумлением сказала:
— Кто бы это мог так поздно!
— Я открою, — крикнул Вовка.
— Вижу огонек и забрел, — проговорил Журов, вытирая носовым платком мокрое от дождя лицо. — Нас, холостяков, тянет к домашнему теплу в такие вот непогожие вечера. Не так ли, Григорий Наумович? — И, не дождавшись ответа, обратился к Анне: — Вы, дорогая, не выполняете своих обещаний.
— Заболела Надюшка, — тихо шепнула Анна и громко предложила: — Хотите чаю?
— О, с удовольствием! Чай у вас совершенно особенный! — произнес Журов, присаживаясь к столу.
— Ну-с? — спросил Вагнер, насмешливо поглядывая на Журова.
— Ну-с? — в тон ему отозвался Сергей Александрович.
— Греемся чаишком у чужого камелька?
— Вечно вы ехидничаете. Греемся. Но разве Анна Георгиевна нам чужой человек? Вы ведь своя в доску! — Журов с несвойственной ему смущенной улыбкой всматривался в усталое лицо Анны.
Разговор не клеился.
Григорий Наумович с отсутствующим взглядом катал хлебные шарики. Журов пил свой чай.
Анна вышла к Надюшке, постояла около ее кроватки, послушала.
Как только она вернулась, мужчины сразу же замолчали.
— В чем дело? — спросила Анна, садясь к столу и отодвигая от себя чашку. — Сознайтесь: о чем вы тут сплетничали за моей спиной?
— Пора одернуть Спаковскую, — с раздражением произнес Журов. — Кто ей дал право третировать вас, да еще в присутствии больных!
— Ах, разве во мне дело! — Анна огорченно махнула рукой. — Вы же знаете, с каким трудом я убедила Гаршина, что не все еще потеряно. А сегодня пришлось все заново начинать. Вот так взять и несколькими словами убить человека.
— Скажите, Анна Георгиевна, вы-то сами верите, что Гаршину можно помочь?
— Если бы даже, допустим, я и не верила, что же мне — положиться на милость божью? Конечно, процесс тяжелейший. Но Спаковская заявила, что Канецкий не возьмется оперировать.
— Боюсь, что да. Не возьмется, — Григорий Наумович потер рукой подбородок.
— Мир клином на Канецком не сошелся. Я много слышала о Кириллове. Он действительно талантлив?
— Безусловно, — подтвердил Журов. — Только у него смертность больше, чем у других.
Анна взглянула на Вагнера, и он сказал:
— Кириллов берет на стол таких, от которых другие отказываются. Вам понятно, почему смертность больше?
— Я попробую предварительно поговорить с Канецким, — пообещал Журов. — Но упрям старик.
— Признаться вам, друзья, я не ожидал, что Спаковская может так…
— Вас это удивляет? — Вагнер коротко взглянул на Анну. — Меня давно ничего не удивляет. Станиславский, насколько мне известно, не признавал актеров, которые любят себя в искусстве, а не искусство в себе. А Спаковская любит себя в медицине. Странный она человек, если не сказать больше.
— Ах, какая загадка мироздания, — с внезапным озлоблением произнес Журов. — Просто кошечку против шерстки погладили, а мы этого не любим, мы любим, чтобы со всех трибун нас прославляли. — Журов взглянул на Анну и замолчал. Видимо, понял, что она их не слушает.
И сразу же Анна спросила:
— Григорий Наумович, а вы верите в благополучный исход для Гаршина?
— А почему нет! В тридцатые годы в санатории, где я работал, произошло чудо. Был тяжелейший больной, студент-медик. Процесс — необратимый. Сами понимаете: ни антибиотиков, ни тех достижений в области хирургии, что мы имеем сейчас. Словом, мы, зная, что у больного дни сочтены, собрали деньги на похороны. У бедолаги не было родных. Никого. А он возьми да обмани нас. Выжил! Произошло чудо: поборол молодой организм. И что бы вы думали? В 50-м году в Москве, на съезде фтизиатров подходит ко мне один товарищ и спрашивает: «Доктор, вы узнаете?» Это тот самый, которого мы собирались хоронить. Нет, Анна Георгиевна, не слушайте этого скептика… Верить мы обязаны до тех пор, покуда больной дышит. Вера врача — это своего рода гипноз для больного, — Григорий Наумович пальцами, с утолщенными суставами, собрал хлебные шарики, размял их в мякиш и принялся лепить какую-то зверушку.
— Если бы я был литератором, — снова заговорил он, — я написал бы роман о врачах-ремесленниках, о таких, которые глубоко убеждены, что диплома им хватит на всю жизнь, которые ничего не читают и не ищут, которые видят болезнь, а не больного. Ах, да что говорить о врачах-ремесленниках, врачах-служащих, вы их знаете не меньше моего. Да… я бы свой роман назвал так: «Долги, за которыми не приходят». Врач не бог. Он может заблуждаться. Но ошибаться он не имеет права. Врач что сапер, лишь с той разницей, что когда ошибается сапер — он сам погибает, а когда ошибается врач — гибнет больной.
— Но увы, Григорий Наумович, молодой врач не имеет, скажем, вашего опыта.
— Ты не прав, Сережа. Теперь молодой врач — это совсем не то, что в дни моей молодости. Сейчас к услугам молодого врача целая армия старших: кандидатов, докторов, заслуженных деятелей науки.
— А по-моему, самое страшное в том, что в медицинский институт идут порой случайные люди, — сказала Анна, — мне рассказывала одна больная, что ее села поддувать молодая врач, была такая Элла Григорьевна, и, держа в руках иглу, позволила себе сказать: «Будь проклят тот день, когда я пошла в мединститут». Видите ли, ей была головомойка от главврача, так она свое настроение сорвала на больной. — Анна замолчала, прислушалась: в комнате тихо, значит, Вовка лег. — Что у нас решает при приеме в институт? Получил тройку вместо пятерки, и ему не быть врачом, а набрал положенное количество баллов — врач. А человек-то в медицине случайный.
— Что же вы предлагаете?
— Ах, если бы существовала такая умная машина, которая определяла бы: годен, не годен. Готов ли служить человеку. А вообще-то я бы изменила правила приема. Смешно: поработает какая-нибудь девица на заводе, или еще хуже — в канцелярии, и пожалуйста — производственный стаж. Нет уж, если ты хочешь быть врачом, начинай с санитаров, пусть сестрой поработает, вот тогда будет толк.
— Анна Георгиевна, подписываюсь обеими руками! — воскликнул Вагнер. — Я знавал санитаров, которые стали врачами. Ничего, получилось.
— Насколько мне известно, — улыбнулся Журов, — Григорий Наумович в империалистическую войну служил санитаром.
— Так точно! — серьезно подтвердил Вагнер. — Вы не ошиблись.
Несколько минут царило молчание. Григорий Наумович разминал пальцами хлебный мякиш. Журов, позвякивая ложечкой в стакане, незаметно наблюдал за Анной.
Она сидела в излюбленной своей позе — опершись локтями о стол и положив подбородок на сцепленные пальцы.
Анна первая нарушила молчание.
— Кажется, Бернард Шоу говорил: туберкулез — болезнь хижин. Не будь этой проклятой войны, у нас была бы решена проблема жилья. Меня это вечно мучает, — как обычно горячась, произнесла она. — Но вот теперь, когда у нас столько строят, все же есть администраторы, которые находят тысячу лазеек, чтобы обойти наши человеческие законы. Думаете, они не знают, что изолированной жилищной площадью в первую очередь обеспечиваются туберкулезные больные?! Как бы не так! У меня был возмутительный случай: моя больная и ее трое детей жили в одной комнате, а квартира общая.
— И вы, конечно, для вашей больной добивались изолированной площади! — сказал Журов.
— Добивалась. Но, казалось бы, парадоксально: соседи этой женщины получали изолированные квартиры на том основании, что они не должны иметь контакт с больной. Представляете: здоровых людей благоустроили, а для больного человека ничего не могли сделать, хотя я была депутатом райсовета. А хотя бы пример с Асей. Получается, что всякого рода стяжатели и тунеядцы могут здесь проживать, а человек, который приносит пользу обществу и которому жизненно необходимо быть на юге, должен пройти через тысячу рогаток. Я считаю: слово врача должно быть решающим при распределении квартир, пока у нас есть так называемый жилищный вопрос и туберкулез.
— Вот мы говорим о коммунизме, — в раздумье продолжала Анна, — и всегда рядом ставим слово — изобилие. Дай человеку все, но отними у него здоровье, отними у него возможность трудиться — и человек будет глубоко несчастлив. Коммунизм — это прежде всего здоровье. Да, да, не улыбайтесь, Сергей Александрович, человечество будет лишь тогда счастливо, когда перестанет изобретать орудие смерти, а научится побеждать рак, туберкулез, психические заболевания, когда оно окончательно избавится от этих язв, как оно избавилось от оспы, чумы, холеры, тоже, казалось, когда-то неизлечимых. Можете сколько угодно, Сергей Александрович, улыбаться, но, ей-богу, настанет время, когда будут судить человека за то, что он заболел туберкулезом.
— Я не только готов улыбаться, но мне ужасно хочется вас поцеловать.
— Гм… Реакция, я бы сказал, не совсем для меня неожиданная, — пробурчал Григорий Наумович. Собачка из хлебного мякиша превратилась в бесформенный комок.
— Анна, вас невозможно не любить. Клянусь, я восхищаюсь вами, — Журов улыбался, обнажив ровные красивые зубы. — Да, да, восхищаюсь. Знаете, я не встречал еще таких женщин…
— Давайте без превосходных степеней, — перебила его Анна, тщетно стараясь скрыть смущение. — Извините, как будто Надюшка проснулась.
Надюшка спокойно посапывала. Анна просунула руку под одеяло.
Ловко переворачивая сонное, вялое тельце, сменила влажную рубашку.
Она слышала, как за дверью Журов сказал:
— Кажется, бездомным холостякам пора в свои берлоги!
— Мне это простительно, — отозвался Вагнер, — но тебе, Сережа, следовало бы задуматься.
Журов ничего не ответил.
Прощаясь, он дольше, чем нужно, задержал ее руку в своей и тихо сказал:
— Можно мне завтра зайти?
— Нет, пока Надюшка больна — не стоит, — сказала она, подумав: «Если ты захочешь меня видеть — придешь».
Спаковская говорила по телефону. Анна сидела по другую сторону стола и прислушивалась к ее отчетливому, лишенному оттенков голосу и думала: «Неужели все произошло с ведома Сергея?»
Три дня Анна не отходила от Надюшки. Втайне она надеялась: Журов нарушит запрет и придет. Но он не приходил.
Спаковская положила трубку, и Анна сразу заговорила:
— Я прошу вас объяснить: на каком основании вы и Журов устроили за моей спиной консультацию у хирурга Гаршину.
— Дорогая Анна Георгиевна, я вас отказываюсь понимать. То вы требовали консультации, а сейчас изволите выражать негодование.
— Я лечащий врач, и вы обязаны были согласовать со мной.
— Помилуйте, откуда же мы знали, сколько вы пробудете на больничном? — Спаковская пальцами, с розовыми, отточенными ногтями, барабанила по столу.
— Вы знали, что я-то здорова. В конце концов, за мной можно было послать.
— У вас странное понятие: кроме вас, нет врачей, а если и есть, то вы почему-то их знания и опыт ставите под сомнение. Канецкий славится как хирург.
Анна вспомнила гладкое, моложавое лицо Канецкого, и его фразу, полушутливо сказанную ей однажды: «Милейшая, если мы так будем расходоваться на каждого больного, то на всех нас не хватит».
— Я не беру знание и опыт Канецкого под сомнение, — сказала она, — но он не бог, может и он ошибаться. Я прошу вас: пригласите Кириллова. — И так как Спаковская сделала неопределенный жест, Анна поспешно добавила: — Он смелый хирург. Мнение одного хирурга не может решать вопроса об оперативном вмешательстве.
— Клиника не обслуживает наш санаторий. Вы же знаете.
— Обслуживает — не обслуживает… Речь же идет о жизни человека! — воскликнула Анна.
Спаковская вытащила из ящика стола сигарету, задурила и, не скрывая насмешки, проронила:
— Любите же вы сотрясать воздух! — И уже своим обычным голосом, тщательно выговаривая окончания слов, сказала: — Кириллова я не могу приглашать по двум причинам: во-первых, у меня нет денег, и, во-вторых, я не могу нарушать врачебную этику — проявить недоверие к Канецкому. Надеюсь, ясно? Кстати, Журов тоже заводил со мной разговор по поводу Кириллова. — Спаковская из-под полуопущенных век взглянула на Анну. — Между прочим, Сергей Александрович взял отпуск. К нему приехала жена.
«Он не говорил, что жена приедет. Значит, неожиданно», — подумала Анна и встала.
— К сожалению, я еще должна задержать вас на несколько минут.
«Господи, что еще?»
— Вы знаете: Виктория Марковна и Вера Павловна не сработались. Вера Павловна — человек пожилой и не совсем здоровый; Виктория Марковна ее всегда раздражает. Мы посоветовались на партбюро и месткоме и решили предложить вам, как врачу энергичному и опытному, взять второе отделение в свои руки и навести там порядок. Что вы на это скажете?
— А кого на мое место?
— Викторию Марковну.
— Что это она прыгает? То ей не нравилось со мной работать, теперь с Верой Павловной. Нет, я не согласна!
— Почему же? Вы, вероятно, знаете о почине Гагановой?
— Знаю, но не понимаю, какое отношение это имеет ко мне. В моем отделении — тяжелейшие больные. Я не могу их доверить Виктории Марковне. Я просто-напросто не имею права бросить своих больных на полпути.
— А почему вы считаете, что кто-то, а не вы, более знающий врач, должен вытягивать отстающий участок?
— Всегда ли разумно метод Гагановой механически переносить на врачебную работу? Викторию Марковну вообще нельзя допускать к больным.
— Вы нетерпимы к молодым.
— У нее есть, к сожалению, недостатки, не зависящие от молодости. Она глупа. Никто столько не приносит вреда, как дурак, выбравший себе профессию врача. К больным допускать ее нельзя.
— Вот вы не хотите взять отделение Виктории Марковны. Вы — коммунист и не хотите брать трудный участок. А кто же там должен налаживать работу?
— Вы и начмед. Разрешите мне идти? Мне еще надо навестить Гаршина. Он после вашей консультации слег.
— Хорошо. Ваш отказ мы обсудим на партбюро.
Женщина сидела выпрямившись, повернув голову к двери, в позе нетерпеливого ожидания. Перед ней лежали нераскрытые журналы.
Вовка, отодвинув учебники, читал, положив локти на стол. В своей кроватке спала, обняв облезлую куклу, Надюшка.
Женщина встала, и сразу бросилось в глаза, что она безупречно сложена. Светло-серый шерстяной вязаный костюм сидел на ней без единой морщинки. Удивительно свежий цвет лица, модная стрижка, какой-то необычный запах духов.
«Наверное, жена какого-то больного. Вот уж некстати!» — подумала Анна. Положив продуктовую сумку на стул, она мельком глянула в зеркало: «Ничего себе, видик».
Объяснение со Спаковской, потом разговор с Гаршиным окончательно вымотали ее. Около двух часов после работы она просидела у его постели. И все говорила, говорила…
— Нет, вы не безнадежный. Вы не смеете себе этого внушать. Я вас утешаю? Ну, Дмитрий Иванович, извините, — утешать можно девочку или слабую женщину. Вы — мужчина, молодой, а молодости свойственна сильная воля. Что я думаю о Канецком? Я скажу. Только сами понимаете, это мое личное мнение. Думаю, что он не учел всех ваших возможностей. В данном случае я с ним не согласна. Канецкий не представляет собой всех наших хирургов. Есть более опытные. У нас с вами есть еще время. Нет, никакого пожара! Если бы пожар, даю вам честное слово — я бы бросила все и повезла вас к Богушу. О, да! Это кудесник. Дмитрий Иванович, доверьтесь мне, не думайте вы о своей болезни, договоримся, что я буду за вас думать.
Она говорила и видела, как медленно-медленно в глазах Гаршина таяло недоверие.
Эх, попался бы ей сейчас под руку Канецкий. Уж она бы его научила, как нужно отбирать слова, разговаривая с больным. А ведь старик! Вика молодая, этот стар… Дело, конечно, не в возрасте, а в душевном таланте…
Еще обдумывая свое, Анна обратилась к женщине:
— Чем я могу быть вам полезной?
— Мне нужно поговорить с вами. Наедине, — женщина кивнула головой в сторону Вовы, не спуская с Анны каких-то настороженных глаз.
Анну кольнуло: ведь это жена Сергея.
— Пойдемте на веранду, — сказала она, открывая дверь и пропуская вперед гостью.
— Присаживайтесь, — привычным жестом Анна показала на стул у стола.
Только когда Анна плотно закрыла за собой дверь, женщина начала:
— Я Журова. Вы не находите, что нам нужно объясниться?
Анна обозлилась. Чего ради?! Почему она должна этой выхоленной даме давать еще какие-то объяснения! Ей достаточно своих забот.
Анна села к столу, провела рукой по холодной белизне тугой скатерти и, взглянув прямо в глаза Журовой, сказала:
— Не нахожу.
— Я вас такой и представляла, только немного постарше.
И так как Анна продолжала молчать, гостья снова заговорила:
— Я понимаю всю неловкость нашей встречи. Но я хотела вас предупредить: Сергей не способен на сильное чувство.
В комнате что-то стукнуло, кажется, упала книга. Анна сидела, откинувшись на спинку кресла, скрестив руки под грудью, и молча смотрела на гостью. Чем-то она похожа на хищную птицу. Это сходство вызвано то ли чуть загнутым с горбинкой носом, то ли жестким взглядом круглых глаз.
— Он любит вас?
Анна не отвела своего взгляда от допрашивающих глаз женщины.
— Вы же сами сказали, что он не способен на сильное чувство.
— Не способен. Он просто увлекся, а когда он увлекается, ему кажется, что он любит.
«А если он уже любит? Если бы…» — подумала Анна и сказала:
— Извините, все же я не пойму, чем я могу быть вам полезна? — Анна поправила цветы в вазе, прошлась по веранде и, повернувшись, столкнулась с пристальным взглядом Журовой.
Журова вытащила из сумочки фотографию и протянула ее Анне. Двое мальчишек, вернее, один в двух вариантах. Те же глаза, высокие и прямые брови, тонко обрисованные ноздри. Слегка припухшие губы и торчащие уши — все как у отца. Только у отца нет такой доверчиво-застенчивой улыбки.
Анна бережно положила фотографию на стол.
— Я хочу отца для своих детей. Возможно, вы решили, что наша семья разрушена, раз мы вместе не живем. Сергей из-за болезни вынужден здесь жить.
— Я знаю.
— У меня большая работа. Сергей тоже мечтает вернуться в Москву.
Анна промолчала.
— Если бы не дети… Вы можете ответить мне на один вопрос? Только на один… А если он придет к вам… ну, и… Вы согласитесь стать его женой? — Журова попробовала улыбнуться.
«Его женой? Всегда с ним… Снова почувствовать себя женщиной. Острый, иронический ум. Сильные горячие руки… Значит, он ей говорил. Ни с того ни с сего она не стала бы спрашивать. А эти мальчишки-близнецы? Его сыновья. А Вовка? Захочет ли Вовка? Он же помнит отца и любит. И все-таки с какой стати она меня допрашивает?»
— Я не соглашусь, а другие?
— От других он ко мне возвращался.
— И вы его принимали?
— Да, ради детей.
— А знаете, как бы я поступила? — Анна встала и выпрямилась во весь свой рост. В голубых глазах мелькнул лукавый смешок. Она нагнулась к Журовой и с веселым отчаянием сказала: — Я бы спустила его с лестницы.
— Вы смеетесь! Легко быть храброй, когда нечего терять.
Журова достала из сумочки пудреницу, провела пуховкой по лицу, подкрасила губы. Анна молча ждала, когда она уйдет. Голос прозвучал вежливо-высокомерно:
— Извините, что я отняла у вас столько времени.
Она еще на секунду задержалась, что-то хотела сказать, но, так и не сказав, ушла, постукивая высокими тонкими каблучками, вскинув стриженую круглую голову.
Надюшка спала. Вовка сидел с книгой за столом.
Анна сняла платье и, расправив его на плечиках, повесила в шифоньер, потом надела халат и направилась в свою крошечную кухню.
— Мама, тебе помочь?
Анна взглянула на сына, он поспешно отвел глаза. Ее поразило возбужденное, в пятнах, лицо и странный, стыдливо ускользающий взгляд. Неужели он подслушивал? Да. И он стыдится. Но чего? Своего поступка или того, что услышал? Теперь он судит ее, и судит с детской беспощадностью.
— Нет, спасибо, Вовочка, я сама. Тут особенно и нечего делать.
Вечером пришли Ася и Костя. Анна обрадовалась. По крайней мере, если придет Сергей, она будет избавлена от каких-либо объяснений. На сегодня с нее хватит.
Костя засел с Вовкой играть в шахматы. Анна приглядывалась к нему и Асе. Похоже, не все у них ладится. Костя мрачноват, на Асю не смотрит. У нее утомленный вид.
Вот Ася подошла, положила руку на плечо Косте и через него глянула на шахматную доску. Костя чуть повел плечами, и Ася поспешно убрала руку.
— А давайте-ка попьем чайку, по-нашему, по-сибирски, — предложила Анна.
Ася вышла за ней в кухню. Взяла чайник и поставила под кран. Не оборачиваясь, она сказала:
— Анна Георгиевна, Журов завтра утром вместе с женой улетает в Москву. Ему предложили там работу. Он останется после отпуска в Москве.
— Да?.. Хорошо… Отнеси, пожалуйста, варенье на стол.
Журов пришел, когда все сидели за столом.
Дверь Журову открыл Костя. Увидев Сергея, Анна почувствовала, что бледнеет. Она провела рукой по скатерти, будто разглаживая ее, и затем, поймав Вовкин взгляд, почти непринужденно сказала:
— Хотите чая?
С удовольствием, но он спешит. Обстоятельства вынудили его взять отпуск. Слышала ли она, что ему предложили работу в Министерстве? Уже слышала.
— Анна Георгиевна, — сказал он, тщетно пытаясь поймать ее взгляд, — вы не проводите меня немножко? Мне бы хотелось с вами посоветоваться по одному вопросу.
Анна почувствовала, как насторожился Вовка.
— С удовольствием, Сергей Александрович, но у меня сегодня… Я просто очень устала, да и ветер сегодня.
— Хорошо. Я хотел просить у вас совета. Вы ведь… как скажете, так и будет: уезжать мне или оставаться? Как скажете, так и будет.
«Если б хотел остаться — не спрашивал бы меня.»
— Кто же отказывается от работы в Москве? Конечно, поезжайте.
Вагнер посоветовал Анне обратиться к начальнику управления: в его власти устроить Гаршина в клинику.
— Начальник — человек новый — захочет проявить гуманность, — присовокупил Григорий Наумович, — учтите, между личностью, которая только что села в должностное кресло, и личностью, просидевшей несколько лет в вышеозначенном кресле, есть две большие разницы, как говорят у нас в Одессе.
Взяв выходной день после воскресного дежурства, Анна поехала в управление.
В кабинете начальника шло совещание.
Анна и еще несколько посетителей томились от ожидания в приемной. Худенькая остроносенькая женщина вытаскивала из сумочки какие-то бумажки, близоруко щурясь, перечитывала их, потом прятала обратно, щелкая замком, и, выпрямившись, устремляла взгляд на дверь начальника, всем своим видом давая понять: кто-кто, а она-то своей очереди не пропустит. В единственном кресле сидел, высоко задрав ногу на ногу, человек в петухастой рубашке. В углу, притулившись на краешке стула, дремала старушка. Толстяк с красным нотным лицом сдержанным баском что-то рассказывал тощему человеку с серым лицом.
Секретарша, хорошенькая девица с надменно-брезгливым выражением лица, сердито стучала на пишущей машинке. Когда к ней обращались, она отвечала сквозь зубы, не глядя собеседнику в глаза.
Было жарко. Анна подумала: «Я устала. Пора бы в отпуск. Нет, пока не устрою Гаршина в надежные руки, нечего и мечтать об отдыхе. А Сергей уехал. Может… к лучшему. Я не должна о нем думать. Не должна. Интересно, что представляет из себя новый начальник? С каким-то Русаковым я училась. Как его звали? Кажется, Андрей».
— Девушка, скажите, пожалуйста, как зовут Русакова?
Брови секретарши поднялись, глядя поверх Анниной головы, она процедила:
— Андрей Федорович.
Неужели он?
Наконец из распахнувшейся двери стали выходить совещавшиеся.
— Я первая на прием, — худенькая женщина предупреждающе щелкнула замком сумки.
— А я думаю, мы бабушку первой пропустим, — предложила Анна.
Старуха засеменила к дверям.
— При чем тут возраст? Девушка, наведите порядок.
Секретарша еще сердитее застучала на машинке.
Старуха скоро вернулась.
— Сказали к главному врачу, куда мне, дочка? — обратилась она к секретарше.
— Налево вверх, прямо, налево дверь.
— Куда, куда?
— Идемте, бабушка, покажу, — поднялся молодой человек в петухастой рубашке и, неожиданно подмигнув Анне, сказал секретарше: — Девушка, вы никогда не будете Лолитой Торрес. Весь мир завоевать улыбкой — это все равно что покорить космос.
Секретарша слегка покраснела. Самую малость.
Ничего от прежнего Андрея не осталось. Перед Анной сидел солидный мужчина с гладко выбритым черепом. Гладкое без морщин лицо.
— Андрей, здравствуй, — сказала Анна. — Не узнаешь?
Он поднялся и, улыбаясь, отчего сразу стал походить на прежнего Андрея, пошел ей навстречу.
— Здравствуй, здравствуй, Буран! — называя ее старым институтским прозвищем, проговорил он, беря ее руку в свои.
— Не ожидал?
— Ожидал. Как же. Я со всеми личными делами ознакомился.
— А что же не позвонил?
— Замотался я. Во все дела нужно основательно влезать. Я слышал о твоем несчастье. А у меня дома колхоз: трое ребят. Признаюсь, не ожидал тебя встретить просто врачом, с твоими способностями можно было сделать лучшую карьеру.
— По-моему, самая лучшая карьера — быть хорошим лечащим врачом, а остальное постольку-поскольку.
— Ты все такая же!
— Не знаю, — сдержанно проговорила Анна. — Стараюсь раньше времени не состариться.
Он не понял.
— Старость? Нет, ты еще в тираж не вышла. Ты еще в розыгрыше. А мне с кандидатской не повезло. Бросают все на административные посты. Где провал, туда и бросают Русакова. Что поделаешь, я — солдат. Куда пошлют! Нам надо встретиться, поговорить. Сейчас обстановка не позволяет. Прости, я должен спешить, меня вызывает горком, а еще посетителей сверх нормы. Ты по делу или так? По делу — тогда выкладывай.
Он слушал, разглядывая Анну, как-то по-бабьи положив щеку на руку.
— Вот снимки. История болезни.
— Спрячь, спрячь, — Андрей взглянул на часы. — Скажи-ка по совести, кем тебе приходится этот Гаршин?
— Как кем? — опешила Анна.
— Родственник? Или… Ну-ну! Что тут особенного?
— Вот уж не ожидала, что… Ладно… — Мысленно одернула себя: «Не надо горячиться. Я могу все испортить», — а вслух сказала: — Он мне не родственник и даже не любовник. Он мой больной. — И не удержалась: — Надеюсь, административные посты не убили в тебе врача?!
Ах, зачем она это сказала. У него сжались в одну твердую линию губы, в глазах метнулось что-то недоброе.
— Не надо громких фраз. Я бы рад помочь этому Грошеву, или как его — Гаршину. Но ты же сама говоришь, что ему отказали в операции. Насколько мне известно, у Канецкого посолиднее стаж, чем у Кириллова.
— При чем тут стаж? Канецкий дрожит за свою репутацию непогрешимого.
— Кириллов выскочка. Бьет на эффект. Но учти, у него самая большая смертность.
— Послушай, Андрей, ты же не знаешь Кириллова. Ты же повторяешь чужие слова!
— Ты ошибаешься. Мой пост обязывает все знать, — суховато произнес Андрей. — Извини, Анна, я ничем тебе не могу помочь. И потом, понимаешь, я буквально на днях троих знакомых устроил в клинику.
— Но тут речь идет о жизни человека!
— Что не могу, то не могу. Если что нужно будет, приходи, я всегда с удовольствием. — Он отвел глаза от Анниного насмешливого взгляда.
— Знаешь, а я жалею, что пришла. Человеку трудно расставаться с иллюзиями.
И, не дожидаясь ответа, вышла.
«Ну что же, будем стучаться в другие двери», — сказала себе Анна, выходя из управления.
Чтобы немного успокоиться, отправилась в клинику к Кириллову пешком, хотя она и находилась за городом.
В Кириллове было что-то чеховское. Сквозь толстые стекла очков глаза смотрели на собеседника пристально и доброжелательно. Во всей его фигуре, в скупых жестах красивых крупных рук какая-то внутренняя собранность и неуловимое изящество. Он слушал, глядя Анне в глаза, а когда она замолчала, заговорил не сразу, словно ожидая, не скажет ли она еще что-нибудь.
Потом долго изучал снимки.
— Да, да, согласен. Тут двух мнений не может быть. Операция нужна по жизненным показаниям. Это единственный шанс. Но прежде чем прийти к окончательному решению, следует посмотреть больного.
— Вам его привезти?
— Что вы? По нашим дорогам. Я приеду сам.
— Понимаете, — Анна замялась. — Главврач отказала мне в консультации. Ну, словом, я подпольным путем.
— Подпольным так подпольным, — Кириллов махнул рукой. — Только прошу: договоритесь с директором относительно места… — Он взглянул на часы: — Сейчас вы его еще застанете. Зайдите потом, чтобы я знал результаты.
Сидя в приемной директора, Анна вспомнила все, что слышала о Назаренко. Кандидат. Умен. Резок. «А что, если он так же, как и Андрей! Пойду тогда в горком», — решила она.
Назаренко, предложив Анне сесть, остался стоять.
— Прошу самую суть, — сказал он, — в моем распоряжении десять минут. У меня ученый совет.
Он так и не сел. Дважды их прерывали телефонные звонки. Рассматривая снимки, он с любопытством поглядывал на Анну.
— Все ясно. Мест у нас нет. Вы же знаете: нас лимитируют путевки, но коль вопрос стоит о жизни — найдем.
«Ты молодец!» — мысленно восхитилась Анна, а вслух сказала:
— Спасибо, — и протянула ему руку. Он энергично тряхнул ее и сказал:
— Я бы вас взял в нашу клинику. С удовольствием. Нет званья! Ерунда! Приобрели бы. Я люблю таких!
— Каких? — невольно улыбаясь, спросила Анна.
— Одержимых! Если бы я мог предложить вам квартиру, я бы перетянул вас. У вас нет мужа? Да?
Анна кивнула.
— Я так и думал. Вы похожи на вдову. Нет, пожалуй, не на вдову, а на женщину, которая выгнала мужа. Не обижайтесь. Считайте, что я сделал вам комплимент. Итак, если Кириллов убежден, что оперативное вмешательство показано, везите вашего больного — и все.
Договорившись обо всем с Назаренко, Анна решила остаток дня побродить по магазинам. Но очутившись на набережной, она вдруг почувствовала страшную усталость. Купив пару пирожков, села на скамью и, сняв туфли, вздохнула.
«Как все просто, когда люди на месте, и как же все сложно, когда в кресле сидит не врач, а служащий. И зачем столько усилий, столько треволнений понапрасну! С какими бы глазами я пришла к Гаршину, если бы вместо Назаренко сидел Андрей. И никакой он не солдат. Оловянный солдатик. Ах, не было бы больше нужды к нему обращаться!»
Анна подумала о том, что предстоящий разговор со Спаковской будет, конечно, неприятным; о том, что отношения их еще сильнее осложнятся; о том, что, бесспорно, предложение Назаренко заманчиво, но, увы, уже поздно…
Анна долго бездумно смотрела на море.
А потом то, о чем она весь день старательно силилась не вспоминать, — снова дало знать о себе.
«Вот и любовь кончилась. А если это только жажда любви?.. Тоска от постоянного одиночества. Не притворяйся… Тебе очень больно, что он вот так легко покинул тебя. Больно, больно, больно… Но это совсем не значит, что жизнь кончилась. Ни черта!»
Внезапно облачко, которое давно смутно белело на горизонте, превратилось в парус. Он казался не реальным, сказочным. Анна протерла глаза. Судно под парусами не исчезало. Оно медленно двигалось по густо-синей кромке, отделявшей море от неба. Странно: этот почти не реальный парус вернул ее к повседневным делам. Надо спешить в санаторий — обрадовать Гаршина, сказать, что Кириллов надеется на правое легкое, верит в благоприятный исход.
Анна встала и пошла по набережной. Оглянулась и то ли парусу, то ли себе сказала: «Существуешь ты или не существуешь, а жизнь продолжается. И она, эта жизнь, все-таки хорошая штука! Я-то знаю, что жить на свете стоит, хотя бы ради одного — чтобы вернуть эту самую жизнь Гаршину!»
Заседание партбюро было назначено на шесть. После работы Анна решила выкупаться.
Прошло десять дней после неприятного разговора со Спаковской, когда Анна пришла к «Королеве», чтобы оформить перевод Гаршина в клинику. Внешне все было в норме. Но каждая понимала: откровенный разговор предстоит на партбюро.
«Главное — спокойствие», — сказала себе Анна, спускаясь по крутым тропинкам к морю.
На берегу пустынно: день ветреный, солнце нырнуло за пестрые облака, по неприветному морю скользили, резвились волнишки, накатывались одна на другую, словно в чехарду играли. Море шумело, но не очень, вполголоса.
Запахи водорослей, мокрой гальки, соли, всего, чем извечно пахнет море, успокоили расходившиеся нервы. Анна разделась; ветер пробежался по спине, пощипал высокие ноги, тронул грудь. На берегу — никого.
Осторожно ступая ногами по обкатанным волнами камням, Анна вошла в море. Холодная вода приятно обожгла тело. Несколько шагов — и вот уже на губах ощущение соли. Анна вытянулась и, плавно разводя от себя руками и легонько отталкиваясь ногами, поплыла.
Дома — а для Анны домом была Сибирь — от житейских неурядиц и для душевной зарядки она уезжала в лес. Диво-дивное сибирские бескрайние леса, с их неповторимыми запахами разогретой солнцем смолки, хвои и грибным духом.
Возвратишься, бывало, из леса усталая, приткнешься где-нибудь на палубе трудяги-катера, ноги и руки ноют, а голова свежая, и с души словно короста спала.
Растираясь мохнатым полотенцем и чувствуя, как к свежей, чуть задубевшей от холодной воды коже приливает кровь, Анна подумала: «Возьму-ка отпуск да махну домой, заберусь куда-нибудь в тайгу».
…Бюро в шесть не началось. Кабинет Спаковской, куда все собрались, сиял белизной тугих чехлов дивана и кресел, сияла полированная гладь письменного стола. За окном, как бы оберегая порядок, дежурил величавый кипарис. Кого-то ждали. Анна делала вид, что просматривает журнал.
Григорий Наумович, напутствуя ее, сказал: «Не очень-то бушуйте. Себе дороже — плетью обуха не перешибешь». Интересно, как себя поведут члены бюро? Мазуревич станет подпевать Спаковской.
Жанна Алексеевна, конечно, проголосует «как все». Неплохой она человек. Но уж очень робкая, не захочет портить отношений со Спаковской. О чем она думает, отвернувшись от всех и глядя рассеянно в окно?
Шофер Макар Герасимович дремлет. На собраниях он обычно помалкивает. Только реплики, по-военному короткие, подбрасывает: «Точно», «Есть», «Нормально». А Мария Николаевна, как всегда, уткнулась в книгу. На нее можно положиться. Она-то молчать не будет. Вот ее бы вместо Мазуревича.
Ну, Дора Порфирьевна (она присутствовала как председатель месткома) будет вторить «королеве».
Наконец тот, кого ждали, явился. Это оказался тот самый румяный молодой человек, который сидел рядом со Спаковской на том злополучном собрании. Анна вспомнила его фамилию — Николаенко.
Мазуревич, окинув присутствующих строгим взглядом, объявил повестку. Первое: об отказе от работы врача Бурановой; второе: о подготовке к партсобранию по вопросу перевыборов.
Анна попросила слова.
— Вам дадут в свое время высказаться, товарищ Буранова. Слово предоставляется главврачу товарищу Спаковской.
— Разрешите мне. — И, не дожидаясь ответа, Мария Николаевна заговорила: — Неправильная формулировка: Анна Георгиевна от работы не отказывалась, она не согласилась перейти в другое отделение.
Мазуревич бросил реплику:
— Маргарита Казимировна уточнит в своем выступлении.
— И второе: я хочу спросить вас, — обратилась Мария Николаевна к румяному молодому человеку, — почему вы опоздали?
Николаенко встал.
— Прошу меня извинить, товарищи. Произошла авария с автобусом, вынужден был пересаживаться. Вообще-то, я сам должен был догадаться — пояснить… — он смешался и, неловко улыбаясь, замолчал.
«А он ничего парень», — подумала Анна.
Спаковская говорила коротко, в тоне горького разочарования. Такой врач, мы так надеялись. Думали, не подведет. Выручит в трудное время. Вся страна восхищается Гагановой, лучшие люди идут по ее пути.
Мария Николаевна курила в окно. Жанна Алексеевна украдкой бросала на Анну сочувствующие взгляды.
Спаковская кончила.
— Разрешите мне? — вскочила Дора Порфирьевна.
— Одну минуточку, — обратился Николаенко к Мазуревичу.
— Пожалуйста, пожалуйста, я считал — вы в конце, так сказать, подведете итог.
— Мне думается, — Николаенко не смотрел на Мазуревича, — прежде чем обсудить, следует послушать товарища Буранову.
— Вот тут говорили: коммунист Буранова отказывается идти на трудный участок — это антипартийный поступок. По форме правильно, — Анна сделала небольшую паузу. — По форме, но не по существу, — продолжала она. — Тот участок, на котором я работаю сейчас, — самый трудный. — Анна снова повторила все, что говорила Спаковской, а в заключение сказала: — Больные уже в меня поверили, и я должна их довести до конца. Не могу бросать на полпути.
— Анна Георгиевна, вы считаете, что вас некем заменить? А вы не думаете, что этим заявлением оскорбляете коммунистов, которые так в вас верят? — у Спаковской в гоне появились необычные для нее взволнованные нотки.
Мазуревич, перегнувшись через стол, вполголоса, но так, чтобы все слышали, сказал Николаенко:
— У нас незаменимых нет.
— Я не считаю, что меня некем заменить, — радуясь своему спокойствию, ответила Анна. — Но при данных обстоятельствах — некем.
Спаковская развела руками и выразительно оглядела присутствующих: «Вот, мол, что я говорила! Зазнайство налицо!»
— Не ставьте себя над коллективом, — сказала Дора Порфирьевна.
— Вы бы могли объяснить, что это за обстоятельство? — спросил Николаенко.
Макар Герасимович сосредоточенно разглаживал на коленях какую-то бумажку. Жанна опустила голову. Только Мария Николаева своими живыми темными глазами смотрела Анне в лицо и как бы приказывала: «Ну, говори».
— Безусловно, в нашем коллективе есть знающие врачи, добросовестные, которые с успехом меня заменят. Со спокойной душой я передала бы своих больных Григорию Наумовичу. Но вы знаете: Журов в отпуске… Второго рентгенолога у нас нет. Вера Павловна врач добросовестный, думающий, но она со дня на день уйдет на пенсию.
— Вы недооцениваете молодых врачей. Таисье Филимоновне, правда, тридцать пять лет. Но у нее уже тринадцать лет стажа. Что, она не может вас заменить? Мы выяснили: ей тогда обстоятельства не позволили задержаться. Надо быть объективной.
— Свое мнение о Таисье Филимоновне я высказала на предотчетном собрании. Нет, я повторяю, ей я своих больных не доверю. Могла бы справиться Жанна Алексеевна.
— Спасибо, — тихо сказала Жанна.
— Но мы знаем, Жанна Алексеевна недавно сама перенесла вспышку, да и у нее дети болеют, она и так ночи не досыпает. Просто ей сейчас такое тяжелое отделение не под силу.
— Всем не под силу, одной вам под силу, — буркнул Мазуревич. Он считает доводы врача Бурановой отговоркой. На днях один больной записал Таисье Филимоновне благодарность. — Я предлагаю за отказ коммуниста Бурановой пойти на трудный участок работы вынести строгий выговор без занесения в личное дело. А так как у нас нет больше времени, ставлю вопрос на голосование.
— Ну, нет! — поднялась Мария Николаевна. — Что это за диктаторство на партбюро, почему вы нам-то не даете говорить?
— Даю пять минут.
— Я не согласна ни с главврачом, ни с Мазуревичем. Доводы Анны Георгиевны считаю убедительными. Я знаю ее истинную, а не показную любовь к больным, которая ничего общего с сюсюканьем Таисьи Филимоновны не имеет. Я против выговора.
— Дай мне слово, — Макар Герасимович явно волновался, никак не мог начать. Он, конечно, в медицине не сильно понимает, скажем, совсем не понимает; только что это делается? Во втором отделении пораспустили санитарок — никакой дисциплины не признают, полное самоуправство, сестры ночные против дневных недовольство высказывают. А кто этим персоналом руководит?
— Дора Порфирьевна Усенко, — с места сказала Мария Николаевна, ее карие глаза посмеивались.
— Вот, вот. Усенко — старшая сестра. А какая же она старшая, коль она в своем хозяйстве порядка навести не может?! У нас в роте старшина был…
— Это к делу не относится, — перебил Мазуревич.
— Как не относится?! Относится! Ежели санитарка своих функций не выполняет, выгоните ее, чтоб другим не было повадно. Или какой нарядик вне очереди.
— Ерунду говорите! — снова оборвал Мазуревич. — Ставлю вопрос на голосование.
Кто же поднимает руки: Мазуревич, Спаковская. И все! Двое. Жанна, как бы стыдясь всего, что происходит, а возможно, и своего молчаливого безучастия, сжав губы и опустив глаза, сидела как-то уж очень напряженно выпрямившись. Макар Герасимович весьма недвусмысленно усмехался, в его маленьких, под нависшими бровями, глазах сквозило: «Наша взяла!»
— Переходим ко второму вопросу, — объявил Мазуревич. — Товарищ Буранова, вы свободны.
— У меня есть заявление в партийное бюро.
— Что же вы раньше молчали? Обсудим в разном. Ждите, когда мы обсудим второй вопрос. Мы не можем задерживать товарища Николаенко.
Николаенко снова смутился и покраснел.
«Тоже мне, послали какую-то красную девицу», — подумала Анна.
Николаенко, взглянув на Анну, заговорил:
— Доктора Буранову можно и послушать, если не долго, не заставлять же ее ждать обсуждения второго вопроса, которое, по всей вероятности, затянется.
Мазуревич согласился без особого энтузиазма. Не привык он не соглашаться с представителями вышестоящих организаций.
— Маргарита Казимировна, вы не случайно отмахнулись от Гаршина, — сказала Анна. — Да. Не случайно. История с Гаршиным на многое открыла мне глаза. Когда я приехала сюда, я была в восторге. Ландшафтотерапия, скамеечки, вешалки.
— Вас это не устраивает? — в голосе Спаковской сквозь иронию просквозило беспокойство.
— Почему? Устраивает! Но разве только в этом подлинная забота о больном? Что вы, Маргарита Казимировна, ответили мне, когда я просила вас о дополнительной консультации хирурга для Гаршина? Вы мне говорили о деньгах и врачебной этике, а речь шла о жизни больного! Вы боялись обидеть Канецкого. Это что, не равнодушие к человеку?! И еще: о чем я сегодня хочу сказать… Недавно на дежурстве я проанализировала истории и своих больных, и в других отделениях. И я, и другие врачи — повторяем одни, и те же ошибки.
Приезжает наш больной домой и идет на больничный. Потому что мы не сумели сделать все, от нас зависящее. Признаемся, положа руку на сердце, мы забываем о сопутствующих заболеваниях, по самому пустяковому поводу требуем консультации специалистов, хотя сами обязаны уметь лечить гастриты, ячмени и тому подобное, И еще. Разве хоть кто-нибудь из врачей продумал для больных пожилого возраста рацион питания? Никто! Мы забываем, что больного нужно лечить не в рассрочку, а в кредит. Я не скажу, что все, но хроники — это наши с вами просчеты. Это на нашей врачебной совести.
— Все это пустые бездоказательные фразы, — прервал Анну Мазуревич.
Спаковская молчала.
— Вам нужны доказательства? Извольте. Ангонесян, прошлогодний больной Таисьи Филимоновны (нынче он поступил ко мне). В его прошлогодней санаторной книжке записано — выписался с улучшением. Это ложь! Он выписался с ухудшением. Это увидит мало-мальски знающий врач — пусть только взглянет на анализы прошлогоднего обследования.
— Откуда у вас данные? — спросил Николаенко.
— А прошлогодние истории болезни сохраняются, — за Анну пояснила Мария Николаевна.
— Человек три месяца температурил, — возбужденно произнесла Анна, — а эта… Таисья Филимоновна не потрудилась сделать даже пункции. Сейчас мы с Марией Николаевной начали откачивать жидкость. Вероятно, потребуется полгода на лечение. Что это: медицинская неграмотность или равнодушие? Еще нужен пример? Таисья Филимоновна больному Слесаренко отменила лечение антибактериальными препаратами на том основании, что он жалуется на печень. Отменила, не сделав вовремя даже необходимых исследований К сожалению, когда выяснилось, что давать антибиотики можно, ему оставалось до конца срока лечения всего две недели.
— Ну и дела! — возмутился Макар Герасимович.
— Вы об этих фактах поставили в известность главврача санатория? — спросил Николаенко.
— Да. Сразу же, как узнала, — на пятиминутке. Но вы, Маргарита Казимировна, взяли тогда ее под защиту, дескать, просчеты у каждого бывают. То, что она бездарность, что она равнодушна к больному, мне давно ясно. А вот что вы, Маргарита Казимировна, равнодушны к больным, мне стало ясно только теперь. И никакая ландшафтотерапия этого не заслонит.
— Товарищ Буранова, вот мы внимательно слушали вашу, такую… я бы сказал, прокурорскую речь. — Мазуревич оглянулся на Николаенко. — Лично я не понял, чего вы хотите? Отменить ландшафтотерапию? — Он засмеялся, но посмотрев на Спаковскую, сразу же замолчал, нахмурился.
Она сказала:
— Анна Георгиевна, я с вами согласна: Таисья Филимоновна — плохой врач. Я не покрываю ее недостатки. Я ее предупредила: замечу подобное — ей у нас не работать. Но, действительно, нельзя же обобщать, говорить, что у нас в санатории равнодушны, к больным, видеть во всем штамп — это, это уж слишком. Нельзя же на том основании, что у Канецкого была другая точка зрения, утверждать, что мы… я равнодушна к больным. Наши консультанты пользуются большим доверием и уважением. Тут уж просто кощунство говорить о штампе.
«Не может быть, чтобы она не понимала», — подумала Анна, и сказала:
— Я настаиваю: вопрос о работе консультантов весьма серьезный, и мы не имеем права от него отмахиваться. Утверждаю: Канецкий живет старым багажом. Он не только физически, а мыслью одряхлел. Это знают все. Соблюдается форма: ни врачам, ни больным от подобного рода консультаций — толку нет. Я не помню ни единой расширенной консультации, на которой разбор состояния больного мог бы стать школой для молодых врачей. Для чего же он нам? Для страховки, чтобы можно было в случае чего сослаться на его авторитет?
— А наш невропатолог? — спросила Мария Николаевна. — Сплошной штамп: всем подряд одно и то же назначение: хлористый кальций с бромом, плюс адонизид и кодеин. Если у нас на пятницу назначено на консультацию восемь больных, то в четверг старшая сестра заказывает для семерых микстуру-панацею. Ведь так, Дора Порфирьевна?
— Так! Пять лет подряд так! — Поймав негодующий взгляд Спаковской, Дора Порфирьевна прикусила язык.
— Не понимаю, — Мазуревич развел руками, — значит, вы предлагаете сменить консультантов?
— Я предлагаю: пусть партбюро подготовит открытое партийное собрание. И на этом собрании дать бой равнодушию, штампу, поговорить о врачебной этике в самом глубоком и широком понимании…
Мазуревич предложил: «Вопрос о собрании обсудить в рабочем порядке».
Вечером за чаем Григорий Наумович, выслушав Анну, сказал:
— Интересно, как поведет себя Спаковская?
Спаковская держалась хорошо, словно ничего между ними не произошло. Иногда Анна ловила на себе ее взгляд: не то любопытный, не то сочувствующий.
…Однажды ей позвонили.
Мужской голос сказал:
— Анна, что это ты низвергаешь авторитеты?
Как глупо, неужели она еще не сумела с собой справиться. Смешно: Сергей, конечно, не вернется.
— Кто это?
— Русаков. Не узнаешь начальства?
«Эх, оловянный солдатик, ты даже боишься назвать себя по-старому, по-студенчески — Андреем!»
— Собственно, о каких авторитетах ты говоришь?
— Ну, не прикидывайся. Слушай, Анна, я не советую тебе громить все и вся!
— А я тебе не советую в таком тоне со мной разговаривать! — Анна положила трубку.
И сразу же затрещал телефон. Анна со злостью посмотрела на черный неподвижный, но кричащий аппарат. Пусть хоть треснет — она не снимет трубку.
Звонок не умолкал.
А вдруг кому-нибудь нужна ее помощь?! Анна сняла трубку.
— Мне, пожалуйста, доктора Буранову.
— Я вас слушаю.
— Анна Георгиевна?
— Да. А с кем я разговариваю?
— Говорит Николаенко.
— Ну, если бы вы сказали: Маршак, Баталов или Богуш — мне было бы ясно, с кем я разговариваю, — забыв о румяном молодом человеке и все еще не остыв от стычки с Андреем, проговорила Анна.
— У меня к вам серьезное дело. Видите ли, я волею судеб ведаю курортным отделом в горкоме.
— А-а-а, — протянула Анна, вспомнив, наконец, кто такой Николаенко. — Послушайте, — засмеялась она, — вы как-то больше похожи на учителя. Сельского учителя.
— Знаете, Анна Георгиевна, когда я беру новый роман в руки, я с тайной надеждой спрашиваю себя: «А вдруг? А вдруг герой романа, скажем секретарь райкома, опоздает на бюро райкома из-за любовного свидания? Или у него в кабинете рядом с другими портретами висит портрет Лермонтова, или, допустим, этот герой коллекционирует чучела птиц». Здорово было бы.
— А вы сами что-нибудь коллекционируете?
— А как же! Заядлый коллекционер. Зажигалки! У меня уже сорок две.
— Но вы же позвонили мне не затем, чтобы сообщить о своих зажигалках!
— Совершенно верно. Анна Георгиевна, у меня к вам просьба. Вы много интересного высказали на партбюро, на мой взгляд, верных. Напишите-ка статью в городскую газету. Об ответственности врача за больного, о рутинерстве в медицине. Словом, вам карты в руки.
— А ее опубликуют?
— Непременно. И организуем мы по этому поводу дискуссию. Потом пригласим товарищей и обсудим все наши наболевшие вопросы. Сознайтесь, ведь наболевшие?
— Еще как! Хорошо! Я напишу.
Анна положила трубку. «Вот тебе и румяный молодой человек!» Статью, конечно, она напишет. Но надо все основательно продумать, посоветоваться с Вагнером.
…Изо дня в день, после отправки рукописи в редакцию, Анна с надеждой разворачивала газетный лист, пахнущий типографской краской. Статьи не было.
Через неделю Анну вызвали в управление. Она решила: статью послали «для принятия мер» — бывает такое в редакциях. Андрей сейчас учинит ей головомойку.
Русаков поднялся Анне навстречу. Неожиданно:
— Входи, входи, Буран. Как жизнь молодая? — Улыбаясь, он протянул ей руку.
«С чего это его несет? — удивилась Анна. — Хочет подсластить пилюлю?»
Его предложение — принять пост начмеда вместо Журова — было для нее как гром в ясный день.
— Спаковская собирается в отпуск. Тебе она может доверить санаторий, — ироническая усмешка мелькнула на гладком лице Русакова.
— Это она сказала?
Русаков развел руками:
— Попробуй сама. Или боишься, что не сработаешься со Спаковской?
— Ну, я не очень-то трусливого десятка.
— Тогда решай. Тебе вот многое в лечебной работе не нравилось — можешь проделывать все по своему усмотрению. Ну как?
— Нет! Не знаю, — вздохнула Анна.
— Как это не знаешь! Мы дадим тебе хорошего врача, Яковлева Бориса Ивановича. Слышала о нем?
Анна вспомнила худощавого, невысокого, слегка прихрамывающего врача, выступившего недавно на семинаре с интересной лекцией.
— А его отпустят? Я бы его с удовольствием к нам перетащила! — Сказала и спохватилась.
— Стало быть, согласна?!
— А Спаковская?
— Ей трудно не согласиться, когда твою кандидатуру предлагает горком.
Из управления Анна отправилась в редакцию. Шагая по набережной, она раздумывала о том, с чего ей придется начинать. Юркнула мыслишка: может, отказаться, пока не поздно. Нет уж, взялась за гуж…
В редакции ей предложили подписать гранки. Газетчик, с шапкой ржаных волос, сказал Анне:
— Я ваш союзник. У меня друга угробили вот такие лжеученые мужи. Это ж не консультация! Цирк!
Он ходил из угла в угол кабинета и говорил, изредка поглядывая на Анну.
— Проконсультировал этак осторожненько, очередь отбыл, положил двадцать карбованцев в карман и — привет! А больной? А его судьба? — спросил он, неожиданно останавливаясь и глядя на Анну злыми глазами. — Надо, чтобы врач чувствовал ответственность за каждую каверну. Персонально отвечал: за материальные ценности люди несут ответственность перед обществом. А за жизнь человеческую? Жизнь загубили — нет виновного. Вот так друга моего загубили, гады!
С жадностью журналист затянулся сигаретой. Анна сказала себе: «Тебе, конечно, обидно вот такое слушать о врачах. Но ты слушай!..»
«25 мая.
Томка, дорогая моя! Письма твои не затерялись. Все до единого получила.
Я не предвидела, как осложнится моя жизнь у Кости. Сначала все было хорошо. Днем мы почти не виделись, а вечером — так уж сразу повелось — вместе ужинали, потом шли в кино или к Григорию Наумовичу — старик „угощал“ нас концертами. Но больше всего, кажется, Костя любил, когда мы оставались дома. Я занималась шитьем — перешивала старые платья или перевязывала кофты, а он мне читал или что-то мастерил. (Этакая почтенная пара). Мы много спорили. Костя иногда прямолинеен. Но в общем-то у него верное чутье. Однажды он мне сказал: „Ты хорошо знаешь литературу, могла бы с лекциями выступать в университете культуры“. Я тогда ничего ему не сказала — вдруг мне откажут. И все же пошла. Встретили меня без энтузиазма. Сказали: „Подготовьте — посмотрим“. Я решила доказать, что и мы умеем-можем. И сейчас я готовлюсь. Долго выбирала тему. Наконец остановилась на Твардовском. Очень люблю его.
Да, но я хотела рассказать тебе о том, как сложились наши отношения с Костей. Он столько для меня делает, что и мне захотелось сделать что-нибудь для него. Я отдала его старый костюм в химчистку, потом обузила брюки, вытащила из-под плечей вату. Словом, Костя его не узнал. Я заставила Костю надеть костюм. Он стоял передо мной сияющий. Я подошла к нему и подняла руки, чтобы поправить борта. Видимо, он истолковал мой жест по-другому, а может, ему изменила выдержка… Он чуть „не задушил ее в своих могучих объятиях“. Я наговорила ему бог весть что.
Ну, и Костя наговорил мне: он знает, как он мне противен; конечно, я его ни во что не ставлю, потому что он не умеет прикидываться донжуаном. И что вообще любить можно только подлецов. Этих подлецов никогда не забывают, им все: и любовь, и верность.
Сейчас три часа ночи. А ночь такая великолепная. На море — я вижу его с порога нашего дома — лунная дорожка. Мне всегда хочется пойти по этой мерцающей, бегущей по темному морю дорожке, вот так встать и пойти. Но сегодня мне почему-то беспокойно.
Целую тебя. Ася».
«6 июня.
Томка, кланяюсь тебе в ножки и спасибо за все газетные вырезки и статьи. Конечно, они пригодятся. Только, вероятно, я лекцию буду читать не раньше, чем в августе — сентябре. Так что времени у меня достаточно.
Но вообще-то свободных минут-часов у меня не очень. Домашнее хозяйство — это гнусная проза, от которой, как от судьбы, не уйдешь.
У хлопчика моего прилежания поубавилось. Лето. Много соблазнов. А тут еще Костя увлек его фотографией. Они целыми часами сидели в сарае (фотолаборатория), проявляли, печатали. Анна Георгиевна сказала, что хлопчику это вредно. Я запретила ему. Он надулся. Ломаю голову, как мне завоевать его снова.
На днях Костя утащил меня ночью на рыбалку. Никуда не денешься, пришлось взять нашего хлопчика. Он очень просился.
Я бы хотела, чтобы ты увидела, как прожектор „изучает“ море. Гигантский луч превращает море в нечто фантастическое: из воды поднимаются белые феерические облака — такими кажутся скалы, а когда прожектор „изучает“ горизонт, то появляется впечатление, что где-то далеко бегут сверкающие на гребне волны.
Я сидела, дышала и надумала — в жизни три чуда: море, воздух и Костя.
Твоя А.».
«10 июня.
Письмо твое получила. Привет Косте передала.
Томка, я все время обвиняла себя, что заставляю Костю страдать, и — напрасно.
Были соревнования по волейболу. Ходили с хлопчиком смотреть. Костя отличился. Он капитан команды. Спортивного вида девица преподнесла ему букет роз. Победитель сделал мне ручкой, и крикнув „Привет“, отправился со своей командой: видимо, в ресторан обмывать победу. А мы с хлопчиком вдвоем бродили по парку.
Конечно, он не обязан всюду таскать меня за собой. Я бы, наверное, и не пошла бы. Но позвать он меня мог.
А впрочем, все ясно: у Кости своя жизнь, у меня — своя. И, кажется, я получила по заслугам.
Час ночи, а его все нет.
Ася.
(Этого письма я тебе не пошлю. Уж не обижайся, Томка)».
«25 июня.
Дорогая Томка, Аннушка стала начмедом. Ура! Ура! Ура!
На днях меня стала поздравлять „с замужеством“ одна няня, я спросила ее, кто распространяет эти слухи? Нянечка поклялась: Костя об этом говорил сам товарищам в присутствии ее сына.
Я пошла поздно вечером к Косте на веранду. Он сидел за столом и что-то писал. Костя смутился. Он очень путанно стал объяснять: где-то выпивали, кто-то сболтнул обо мне… и он вынужден был заявить, что я его жена. Сейчас-то я понимаю, что все это могло разгореться внезапно. А тогда я под горячую руку крикнула ему: „Это подло!“
День я его не видела.
Он почти со мной не разговаривал. Не вытерпев, я спросила его: „Мне уйти?“ Он сказал: „Нет, уж лучше я уйду“. Я сначала не придала значения его словам. Но Костя неожиданно уволился, ушел работать бригадиром на строительство нового санатория. Я сказала, что ему будет трудно, ведь как раз подоспели экзамены на аттестат зрелости. Он сказал: „Ничего, я ведь рабочий, выдюжу“. И, действительно, сдал все экзамены. Принес мне аттестат. Я ему приготовила подарок: часы. Он был, кажется, тронут. Сказал, что, кроме матери, ему никто никогда не делал подарков.
Теперь мы видимся редко. Он работает в десяти километрах от дома. Работает много и остается на ночь в общежитии.
Твоя Ася».
В библиотеке прохладно, солнце сквозь густую листву сюда не пробиралось. Единственный читатель — худой старик в старомодном парусиновом костюме — еле слышно шелестел газетными страницами. Ася просматривала новые книги, любимейшее занятие нынче почему-то не приносило обычного удовольствия. Неужели поведение Кости так много для нее значит? Сама виновата, что он отвернулся. Выходит, можно страдать от невнимания человека (скажем так), которого ты не любишь. Тогда что? Уязвленное самолюбие?!
Асины грустные размышления прервало появление читательницы. «У вас есть Генрих Бель? Мой застольник только о нем и говорит. Возьму книгу и пойду на пляж. Счастливые вы — море всегда с вами».
Наконец ушла. Счастливые! Это они счастливые. Подлечатся, отдохнут и уедут домой. А тебе некуда ехать, да и дома у тебя нет. Если бы не Костя, так и угла бы своего не было. Теперь, когда Костя избегает встреч, очень уж стало одиноко. Неужели это не только привязанность? Неужели любовь?
…Снова чья-то тень мелькнула за окнами. Посидеть бы в одиночестве да поразмыслить… Знала бы Спаковская о нарушении трудовой дисциплины — в рабочее время думать о любви! Да, чувство юмора не должно тебе изменять — иначе пропадешь.
Костя не вошел, а ворвался в библиотеку. Ася невольно взглянула на часы — он примчался в свой обеденный перерыв. Опершись руками о край стола, он нагнулся и тихо сказал:
— Я по тебе соскучился.
— И я о тебе соскучилась.
Он покраснел. Страшно забавно, когда такой верзила краснеет.
— Ты… ты правду сказала?
— Да, и я рада, что ты пришел.
Он наклонился над ней, и она подумала: «Сейчас обнимет, как тогда». Костя осторожно убрал у нее со лба прядку волос и сказал:
— Ты жди вечером. Никуда не уходи. Нам необходимо поговорить. Я вел себя, как идиот. Я потом объясню. Но ты знай: я люблю тебя. Ты у меня вот здесь. — Он прижал ее руку к своей груди.
Ася ничего не успела ему ответить — хлопнула библиотечная дверь. Костя крикнул:
— Я беру эту книгу, — и, выхватив первую попавшуюся с полки книгу, умчался.
«В нем есть что-то мальчишеское», — подумала Ася. И вспомнила — Анна Георгиевна говорила: «Если в человеке сохранилось что-то детское — это почти всегда хороший человек».
Настроение у Аси мгновенно подскочило на ту высоту, где человеку кажется, что его обдувают легкие ветры и все его существо переполнено ожиданием чего-то необычайного. До чего же интересно разглядывать новые, пахнущие типографской краской книги! Мемуары отложим для пожилых — это их любимейшее чтиво, романы — для девушек; ну, а детективы — в санатории нарасхват.
Весьма кстати нагрянули знакомые журналисты — Антон и Сашко, договорилась вместе провести в библиотеке поэтический «огонек». Журналисты рассыпались в комплиментах: «Ася, вы самый прелестный цветок на Черноморском побережье», — это Антон. Они сыпали шуточками, остротами, новыми анекдотами. Ася поймала себя на том, что даже кокетничает. И прекрасно — значит, она еще хочет нравиться.
Вдруг Антон спросил:
— Синьора, нам стало известно, что инфанта сочеталась законным браком, и ее избранник — величайший и любимейший сын Нептуна — Костя Моряк.
Сказать — да, но ведь ничего не известно, не стоит себя и Костю ставить в смешное положение. Чтобы как-то избежать ответа, спросила:
— Какая крымская сорока принесла вам эту весть на своем лукавом хвосте?
Сказала, и только тут увидела Костю. Конечно, он все слышал. Ее поразило мрачное, замкнутое выражение его лица. Он молча, ни на кого не глядя, подошел, положил перед Асей книгу, захватил забытые им газеты и так же ни на кого не глядя — вышел. После его ухода журналисты, стараясь заполнить неловкую паузу, немного поострили и удалились.
Вечер провела в одиночестве, напрасно ожидая Костю. Легла поздно и не могла уснуть. Говорят, что бессонница — спутница любви. Когда-то считала истинная любовь — одна на всю жизнь. Думала о себе, Анне Георгиевне, романах, которые разыгрывались на ее глазах в санатории. Может быть, она боится повторения того, что случилось у нее с Юрием? Почему она не может жить, как другие, ничего не усложняя… Нет — ей подавай настоящую любовь. Горестные мысли о прошлом и тревожные о настоящем — плели паутину, из которой, казалось, нет выхода, особенно наедине с душной ночью. Потом сморила усталость.
Проснулась от непонятного стука, что-то грохнулось в коридорчике, отделявшем ее комнатушку от Костиной верандочки. Сначала подумала, что кошка, но — нет — шаги! Кто-то Костиным голосом чертыхнулся.
— Асёнка, ты меня извини. Я прошу — извини!
Голос заплетался, и Ася поняла: Костя пьян, и не отозвалась.
Костя постучал. Ася, стараясь неслышно ступать, подошла к двери и осторожно опустила крючок. Они стояли по обе стороны двери, и она слышала его тяжелое дыхание. Он потянул дверь к себе, Ася поняла это по тому, как дрогнул крючок, и тихонько повернула ключ в двери. Он, сразу оставив дверь, обиженно произнес:
— Закрылась. — И немного погодя: — Подонком считаешь? Да?
Нетвердые шаги удалились. На верандочке еще долго горел свет.
Утром Ася нашла у двери — подсунул в щель — записку: «Прости, больше этого не повторится».
Костя исчез. Вечерами Ася никуда не уходила, ждала его, обманывая себя, что сидит дома из-за плохого самочувствия. К концу недели заявился Григорий Наумович. Отдышался, внимательно рассмотрел Асину «библиотечку поэта» и со свойственной коллекционерам гордостью похвалился:
— А у меня триста пятьдесят два названия. Есть библиографические редкости.
— Завидую вам, — улыбнулась Ася и подумала: «Он, наверное, Костю разыскивает». Так и есть.
— Вы давно видели Костю?
— Давно, — призналась Ася, — он теперь в общежитии живет, там ему ближе. — «Похоже, что я оправдываюсь».
Чуть подавшись вперед и заглядывая ей в глаза, Вагнер сказал:
— Костя пьянствует. Конечно, он не святой — случалось, и раньше немного выпивал, но не позволял себе подобного.
Ася не нашлась, что сказать, и подавленно молчала.
Передохнув, старик продолжал:
— Он не живет ни в каком общежитии, околачивается у приятелей. Они-то и таскают его по злачным угодьям. Тревожит меня это, признаюсь вам, чрезвычайно.
— Это я виновата. Он из-за меня.
— Ну-ну, только не волноваться. Знаете, зачем я пришел? Хочу попросить вас съездить к Косте и передать ему, что я прошу его зайти ко мне. Скажите ему, что у меня приемник испортился. Он поймет значение этого события для меня. Ведь я становлюсь с каждым днем все менее подвижен, а приемник для меня — окно в мир. Ну-с, я отбываю.
Он отверг попытку Аси проводить его. Не такая уж он старая развалина, чтобы позволить молодым женщинам его провожать. Стариковские осторожные шаги медленно удалились…
Высокая, неуклюжая в своем заляпанном раствором комбинезоне, женщина, показав мастерком в сторону моря, пояснила:
— Купаться он пошел, — в глазах бесцеремонное любопытство — зачем, дескать, птичка пожаловала? И вдруг на полном с‘толстым носом лице скользнуло участие, подобревшим голосом женщина сказала: — Ты, милая, ступай во-о-н на ту скамеечку. Обожди в тенечке, он-то мимо пойдет.
Ася поблагодарила и пошла к скамейке, прижатой к великану-кедру.
Солнце уже припекало, но деревья пока еще силились удержать ночную прохладу. Море, очень тихое, светло-голубое, стелилось до самого горизонта. Впрочем, горизонт скорее угадывался, чем виделся. К морю опускались, громоздясь друг на друга, зализанные дождями и отполированные ветрами серо-сизые камни-валуны. Среди них крутилась бугристая каменная тропа.
Костя из-за громады камней вырос внезапно. Он по пояс голый, тренировочные брюки, закатанные до колен, обнажали упругие мускулистые ноги, на вихрастой голове — широкополая соломенная шляпа. Ася невольно подумала, что Костя превосходная натура для скульптора и что он по-своему красив. Удивительно, как она раньше этого не замечала. Завидев ее, Костя радостно заулыбался, но, быстро погасив улыбку, подошел и, глядя в сторону, не без иронии спросил:
— Чем обязан?
Путаясь от волнения, Ася объяснила, зачем-то несколько раз повторив, про приемник.
Костя присвистнул и небрежно произнес:
— Суду все ясно. Старик услышал о моих художествах и послал для спасения утопающих кроткого ангела.
Ее обожгла обида — с какими добрыми мыслями и чувствами она спешила к нему, а он иронизирует. Ася испугалась, что сейчас расплачется, и, выхватив из сумочки платок, помахала на горящие щеки: жарко!
Он мельком глянул на нее и сел рядом. Сосредоточенно курил. Его пахнущее морем плечо совсем рядом, а человек страшно далеко. Пусть он не хочет говорить, но она все должна ему высказать. Сбивчиво, ударяясь, как о каменную стену, о его замкнутое молчание, она принялась упрашивать его бросить пить.
— Тебя старик уполномочил? — Кажется, он даже усмехнулся. — Тебе-то что?!
— Как что?! Мы же с тобой друзья. Ты не думай, что я тогда закрылась, потому что испугалась. Пойми, для меня было страшно — увидеть тебя пьяным. Обещай мне, прошу тебя, что не будешь пить.
— Хорошо, обещаю, — сдержанно произнес Костя.
Ей показалось, что он это сказал, чтобы поскорее от нее отвязаться. Вероятно, кстати — на стройке ударили в рельсу. Костя поднялся.
— Вон твой автобус. Идем, а то придется долго ждать. Свернем вправо, здесь ближе.
Вот и все! Никакого душевного разговора не получилось.
Он шел на полшага позади и молчал. Его молчание и отчужденность пугали. И все же решилась:
— Костя, я приехала сказать тебе… Костя, женись на мне. Да, я хочу быть твоей женой.
Что-то дрогнуло в его лице, черные без зрачков глаза сузились.
— Так не шутят, — жестковато произнес он.
Они стояли друг против друга на каменистой тропе. У Аси легонько начала кружиться голова, она невольно схватилась рукой за ветку кипариса.
— Ответь на один вопрос. Только на один: ты любишь меня? — Теперь он пристально смотрел на нее.
Она на какое-то мгновение задержала ответ.
— Не мучайся. — И Костя повторил прицепившуюся к нему фразу: — Суду все ясно. — И, уже с трудом сдерживаясь: — Не такой я подонок, чтобы принимать жертвы. Ладно, вопрос исперчен!
Сказав, что надо задержать автобус, — добро, шофер дружок (Костя иногда любил подчеркнуть свою дружбу с рабочими парнями), он пошел вперед и все же крикнул: — Не торопись, здесь подъем, тебе тяжело.
Ася медленно взбиралась по тропе, придерживая, казалось, готовое выпрыгнуть и разбиться о камни сердце.
Он подсадил ее в автобус, болтал о каких-то посторонних вещах и, только прощаясь, впервые за это утро, близко заглянул ей в глаза И снова что-то дрогнуло в его лице, и он тихо сказал:
— Я вечером приду.
Когда стемнело, и она совсем уже потеряла надежду, что он придет на Костиной верандочке появился свет. Весь день она себя уговаривала, что должна окончательно помириться с Костей ради его спасения от приятелей-пьяниц, а в глубине души знала — Костя необходим ей самой, без него — пустыня.
Костя сидел на подоконнике и курил. Он обрадовался ее приходу. Объяснил, что задержался у старика.
— Поломочку приемника он инсценировал, — усмехнулся Костя, — это заметно было невооруженным глазом. Как бы между прочим, прочел лекцию о вреде алкоголя. Хитрющий старик.
— Он плохо выглядит.
— Врачи говорят: неизвестно, чем он там дышит, — помрачнел Костя.
Помолчали.
— Духотища ужасная. Пойдем искупаемся, — предложил Костя. — Если врачи тебе запрещают — посидишь, подышишь морем.
— Я без тебя ни разу к морю не ходила. — Не хотела, а вышло, будто пожаловалась. Деланно засмеялась, получилось еще хуже. Надо ли с Костей хитрить?! — Мне без тебя плохо было, — призналась Ася.
— Утешаешь? Ну ладно, не буду. У тебя есть большое полотенце, чтобы не сидеть на голых камнях?
Сонное море дышало глубоко и ровно. Береговая галька нагрелась за день. Сбросив босоножки, Ася вошла в море, к ногам прильнула теплая волна.
— Как хочется в воду, — вздохнула Ася.
Костя принялся уговаривать выкупаться. Чепуха, что нельзя. Противопоказано загорать, а купаться ему старик разрешал. Только сразу вытереться. Подумаешь, проблема — нет купальника. Можно зайти за камни и там раздеться. Ведь на пляже ни единой купающейся единицы. Да и кто ее в такой темени увидит. От Костиной хмурой сдержанности не осталось и следа. Он весел, даже чуточку лихорадочно весел.
Ася разделась за камнями и, осторожно ступая по гальке, пошла в море. Было страшновато лечь на воду, но сразу же обрела уверенность, море и впрямь держит, только надо ему помогать.
Крупными саженками подплыл Костя.
— Устанешь, возвращайся. Не бойся, я буду страховать.
Удивительно теплая, ласковая вода. Господи, как хорошо!
— Всё! — крикнул Костя. — Нельзя сразу много. Плывем обратно. Дыши ровнее. Не торопись. Не бойся. Я же рядом.
Скоро Ася стала задыхаться, испугалась и сильнее заработала руками.
— Здесь дно. Можешь встать! — скомандовал Костя.
Ася обрадовалась, она плыла из последних сил, хотела встать и поскользнулась на камне. Костя схватил ее за руку и помог подняться.
Они стояли лицом к лицу, взявшись за руки. Теплая вода легонько их покачивала.
— Устала? Почему ты так тяжело дышишь?
— Просто я отвыкла, немного голова кружится.
Костя одной рукой обхватил ее за плечи, другой под колени и пошел к берегу. Он нес ее бережно, глядя прямо перед собой.
К своему удивлению, Ася не испытывала ни стыда, ни негодования. Она обхватила его шею руками.
— Я люблю тебя.
— Еще раз скажи это.
— Я люблю тебя, Костя.
На берегу он так же бережно опустил ее на камни, накинул ей на плечи полотенце и ушел одеваться.
Они медленно поднимались в гору. Горячая и сильная рука Кости лежала у нее на плече. Перед крутым подъемом они останавливались. Костя притягивал ее к себе и целовал.
— Смотри, звезда за нами подглядывает.
— Она завидует нам, ей там одной плоховато.
— Одной всегда плохо.
— Теперь ты никогда не будешь одна — ты это знай. Слышишь!
Тишина спустилась с гор, утихомирила листву на деревьях, приглушила птиц, даже цикад заставила замолчать. Только море, извечное в своем непокое, шумно, с всплеском дышало у них за спиной.
«20 июля.
Томка, дорогая, спешу тебя успокоить: дело в том, что во время нашего телефонного разговора Костя сидел тут же в переговорной, и я не хотела, чтобы он понял, догадался о твоих вопросах. Не волнуйся — никакой „разности потенциалов“, то есть интеллектов. Да, в какой-то области я больше его знаю, но ты не учитываешь одного обстоятельства: Костя долго болел, а это для одаренного от природы человека (а Костя одаренный) кое-что значит. Он много читал, я часто поражаюсь его знаниям. Костя любит и знает физику. На днях он мне заявил, что поступает на заочное отделение электротехнического факультета. Признаться, я подумала, что делает он это из самолюбия, — дескать, „и у меня будет диплом“. Я встревожилась — не отразится ли это на его здоровье. Но Костя сказал, что он обязан подумать о будущем. „Пока нас двое, а если появится третий…“ Костя любит детей и говорит, что брак без детей — кощунство над природой. А ведь Юрий не хотел ребенка… Не удивляйся, про себя я теперь невольно сравниваю… Да, сравниваю свою прошлую семейную жизнь и нынешнюю. Ты же знаешь, что я боготворила Юрия, молилась на него и… боялась его. Боялась, что я недостаточно умна для него, боялась его насмешливого взгляда, иронического замечания; всё за нас обоих — решал он, только раз он предоставил право решать мне… Нет, не хочу вспоминать…
Ты просишь сказать — „по чистой правде“, — счастлива ли я. Только какой-то суеверный страх (ведь я не очень-то избалована жизнью) мешает кричать мне: я счастлива! Счастлива! Счастлива! Костя сильный и мужественный. Вероятно, ты читаешь и думаешь, что я идеализирую Костю. Чтобы доказать тебе свою объективность, признаюсь в двух Костиных недостатках — он вспыльчив и ужасно ревнив. Но, Томка, я знаю, как укрощать моего мужа. О! я стала мудрой женщиной. Только тайны своей никому не открою, а вдруг тогда потеряю силу…. Жду тебя в гости! Приезжай, познакомься с Костей, и тогда все твои сомнения рассеются.
Твоя Ася».
«30 июля.
Томка, мы встретились… Но нет, вечная моя манера забегать вперед — ты всегда требовала обстоятельного рассказа. Так слушай: сегодня воскресенье. Костя давно обещал съездить в Ялту, показать мне „Россию“. Мне вдруг захотелось хорошо выглядеть, Пока я наряжалась, Костя курил во дворе. Он вошел и сказал: „Мне даже страшно с тобой рядом идти“.
На катере — мы ехали в Ялту на катере — Костя шутил, смеялся. Нам было по-настоящему весело. Вчера А. Г. сказала, что если все дальше так пойдет, то через два года я смогу вернуться в школу. По этому поводу мы выпили с Костей шампанского.
В Ялте мы сразу же пошли смотреть „Россию“. Костя сказал: „Хочешь, я возьму отпуск и мы проедемся до Одессы?“ Я сказала: „Конечно, хочу“.
Я немного устала. Толчея, солнце. Но Косте хотелось посмотреть, как отчаливает „Россия“.
Я разглядывала пеструю, кричащую, машущую руками, шляпами, платками толпу на палубах. И вдруг увидела Юрия. И в тот же момент, именно в тот, Юрий увидел меня. Мы смотрели друг другу в глаза всего несколько мгновений Теплоход отходил. Юрий что-то крикнул, поднял сцепленные руки. Только здесь я увидела рядом с Юрием высокую красивую женщину. По тому, как она пристально смотрела на меня, я догадалась, что она меня знает. Но сразу же о ней забыла — это сейчас, когда пишу тебе, я вспомнила все подробно; я смотрела и видела его…
Томка, почему-то раньше редко-редко, если я позволяла себе думать о нем, мне представлялось: увижу его и сердце у меня разорвется. А тут у меня ничего, понимаешь, ничего на душе. Пустота! Мне даже страшно стало от этой пустоты, ее сменила боль, даже не боль, обида, что вот из-за этого человека чужого, совсем чужого, — так страдать, считать, что из-за него кончена вся жизнь!
Не знаю, так ли в тот момент я чувствовала все это. Я смотрела на него… и не могла даже пошевелиться.
Я сказала Косте: „Пойдем, я устала“, — и мы пошли на набережную.
Знаешь, я даже не оглянулась, и мне для этого не нужно было никаких усилий. С трудом отыскали свободную скамейку. Я спросила Костю: „Ты знаешь, кого я сейчас видела?“ Костя сказал: „Знаю“. Представь — он угадал. Видимо, любовь делает человека прозорливым. Не глядя на меня, он спросил: „Ты все еще любишь его?“ Я видела, как бьется у него на виске жилочка, как крепко сжаты челюсти, я уже знала, что это означает, и все ему рассказала: и то, как мы расстались с Юрием, и что я испытала, увидев его, казалось, после смертельной разлуки. Я писала тебе, что Костя ужасно ревнив, но правдивость моих слов он никогда не ставит под сомнение.
Дорогой был занятный эпизод. Хочу рассказать о нем. На катер мы не попали и взяли такси. Шофер, пожилой человек, с добрым и усталым лицом, все поглядывал на нас в зеркало, меня это даже малость смущало, и неожиданно сказал: „Что это вы, молодой человек, все держите девушку за руку? Боитесь, что убежит?“ Костя пошутил: „На мою жену не действует земное притяжение, боюсь, как бы она к звездам не упорхнула“. Я в тон ему ответила: „Если упорхну — то только с тобой“. Когда приехали и Костя расплачивался, шофер усмехаясь сказал: „Завидую вам, ребятки, моя молодость сгорела в танке“. Только тут я увидела, что у него все лицо в шрамах от ожогов. Знаешь, что я сделала? Я нагнулась и поцеловала его. Это я-то! Особа, отвергавшая всякие сентименты и превозносившая английскую сдержанность. Раньше я бы побоялась обидеть шофера. И напрасно. Он ни капельки не обиделся, а засмеялся и сказал: „Теперь я месяц умываться не буду“. Это с Костей я стала другой. Какая-то шелуха с меня соскочила.
…Сейчас, когда я тебе пишу, девять часов. Вечер. Я жду Костю, чтобы поужинать вдвоем. Его вызвали зачем-то на стройку. Какая-то авария. Он всегда всем нужен. Всем.
Кажется, кто-то идет. Наверное, он!
Прости, закончу письмо в следующий раз…»
За окном рентгеновского кабинета рос платан: огромный, величественный и неподвижный. Осень вызолотила широкие узорчатые листья платана.
Листья падали медленно, неохотно, с тихим шелестом.
Вагнер сидел у окна, откинувшись на спинку кресла.
Утром, бреясь перед зеркалом, он пристальнее, чем обычно, вгляделся в свое отражение. Что может быть омерзительнее старости? Кожа, обтянувшая выпирающие скулы, походила на пергамент — тонкая, сухая, вот-вот лопнет.
Ему приходилось слышать, как старики, жалуясь, говорили об усталости, «скорее бы смерть подобрала». Он не верил — хитрят. Никто так не цепляется за жизнь, как старики. Уж кто-кто, а старость-то знает — чего стоит хотя бы один, вырванный у смерти, день.
Вагнер не боялся смерти. Он уже ничего не боялся. Смешно чего-нибудь бояться человеку, пережившему три войны. Человеку, потерявшему жену и детей в Бабьем Яру. Человеку, столько раз видевшему смерть и столько раз отвоевывавшему у смерти жизнь.
Нет, он не боялся смерти, но это совсем не значит, что он хотел умереть. Правда, последние годы он как будто потерял вкус к жизни. Не потому, что она, эта жизнь, утратила свои краски, Просто он стал тяготиться одиночеством. Нет, он любил людей и постоянно был среди них, не только на работе. Его удручало другое: сам-то он не как врач, а как человек — никому не нужен. Так он думал, когда крымская ветреная и дождливая зима билась в окна его одинокой квартиры.
А потом в его жизнь неожиданно вошла женщина. Суровая и отзывчивая, строгая и нежная. Она была полной противоположностью его выдержанной и уравновешенной натуре. Вечно кипела, негодовала, то была чем-то недовольна, то чего-то искала. Иногда была резка. К нему — всегда неизменно добра. И не потому, что пожалела. Такие из жалости не дружат.
Он был по-настоящему счастлив, когда она приходила в его «логово», как он называл свою обставленную старой мебелью комнату, и, склонив набок голову, притихнув, слушала музыку. Немного печальная улыбка, светившаяся в широко поставленных голубых глазах, пряталась где-то в уголках розового рта. Вагнер еле сдерживался, чтобы не сказать: «Русской женщины тихая прелесть, и откуда ты силы берешь?..» Но он боялся показаться смешным.
Последние две недели он был болен. Совсем отказывало сердце. Она заходила чуть ли не каждый день. Среди тысячи шагов он узнавал ее шаги. Он втайне радовался болезни — стал чаще ее видеть, острее ощущать ее заботу о нем.
Вчера он обещал посмотреть на рентген Гаршина, поступившего снова к ним после удачно сделанной операции. Вагнер знал, что Анна волновалась и очень хотела, чтобы именно вместе они посмотрели Гаршина (какое счастье, что операция прошла удачно). Утром она прислала Вовку узнать о его состоянии.
— Мама велела… просила, — поправился Вовка, — если вам плохо, чтобы не ходили, — выпалил он.
— Ну, как я выгляжу? — спросил Григорий Наумович, вытирая бритву о бумагу.
Вовка с жестковатой откровенностью подростка сказал:
— Вообще-то, неважно.
— А что делать? — вздохнул Вагнер.
— Вы бы не ходили. Я скажу маме.
— Нет, нет. И чего ты выдумал? Скажи маме, я чувствую себя прекрасно.
Не пойти — это не видеть ее весь день. Теперь, когда она стала начмедом, у нее почти нет свободного времени.
Спаковская медленно сдает позиции.
Анна умница: сделала обход у Таисьи Филимоновны, взяла истории болезни ее больных, пригласила врачей, и, будьте любезны, послушайте и обсудите. Тут уж говорилось без анестезии. Ничего: лишь бы на пользу. Хотела этого или не хотела «королева», но ей пришлось встать на сторону Анны. Благо, что во всех начинаниях Анну поддерживает новый парторг Мария Николаевна. Удачная кандидатура. Но, бесспорно, Спаковская кое-какие выводы для себя сделала, особенно после комиссии. (Интересно, сколько раз в год можно обследовать санаторий?). Какой главврач не будет чувствовать себя на высоте, если его хвалят за лечебную работу! Пусть только Спаковская не мешает Анне. Она справится. «И откуда ты силы берешь…»
Обо всем этом Григорий Наумович раздумывал, одеваясь.
Чего, кажется, проще, одеться. Обычное дело. А вот натянул сорочку и устал. Сейчас примет таблетку и пойдет. Что-то боль снова отдает в руку. Время еще позволяет десять минут посидеть в кресле. Надо бы поесть. Вчера Ася принесла черносмородиновый кисель. Сибиряки любят кисели из ягод. Пожалуй, он выпьет его. Он рад, что эта милая девочка повеселела. Косте он сказал «Я рад, что ты счастлив!» Костя засмеялся: «Разве заметно?» Ах какие смешные! Пусть доживут до его лет, тогда и они научатся читать по лицам.
Второй раз боль в сердце дала о себе знать, когда ему оставалось пройти каких-то двести метров до своего корпуса. Он присел на скамейку и вытащил таблетку нитроглицерина, сунул ее под язык.
Когда боль чуть отпустила, он глянул в сторону дуба, росшего неподалеку. «Ну как, приятель, жив?» — «Жив», — прошелестел дуб.
Удивительное зрелище представляла крона этого гиганта, опоясанного железными обручами. На его ветвях, напоминавших зимой костыли, листья умирали не все сразу. Зеленые, еще сочные, продолговатые резные листья перемежались с желтыми и цвета высохшей корицы. Вот так же, наверное, угасают и чувства в старости. Что-то увяло, высохло, обесцвечено, а что-то еще молодо, зеленеет в сердце. Что же? Что тебя еще держит на земле? Если тебе недоступно то, что доступно было в те годы, когда ты не был такой дряхлой развалиной? Любовь? Да, любовь. Любовь к человеку.
Он думал об этом сидя на скамейке и потом у себя в кабинете за своим столом…
Хорошо, что он не вернулся с полдороги, испугавшись, что приступ может повториться на работе. Как только он надел белый халат, боль растворилась. Неужто сила привычки? Психологический фактор. Стоило помучиться, чтобы увидеть две пары счастливых глаз: Гаршина и ее. Ах как она умеет радоваться! Уметь радоваться — это тоже талант, это, как говорится, от бога. Люди, скупые сердцем, не умеют радоваться.
Они хотели вместе пойти домой, но Анну вызвали, и она сказала: «Вы меня подождите!»
Конечно, он дорожит каждой минутой, проведенной вместе с ней. Только вот сказать ей об этом он никогда не посмеет.
Она хотела позвонить Кириллову, порадовать его: оперированное легкое расправилось, оно уже дышит. Кириллов — волшебник, ювелирная работа. Вот кому он завидует. Завидует резерву времени — возможности творить добро.
Потом мысли стали таять, превращаясь в тончайшую паутину, обволакивающую мозг. Неожиданно почувствовал страшную усталость, пальцы разжались, и ручка упала на недописанную страницу. «Я немного устал, — вяло подумал он, — вероятно, следует серьезно подлечиться. Надо проглотить еще таблетку, две… Все равно. Не хочу, чтоб она видела меня таким». Пока он вытаскивал таблетку — все куда-то исчезло. Потом сознание вернулось. И он отчетливо увидел небо — столь яркое, что на него больно было смотреть, он увидел усыпанный золотыми звездами платан и услышал голос Кости и женский смех. Кто же так смеется? Ах, конечно, жена Кости! Что за прелесть — эти счастливые женские лица!
Он сделал попытку приподняться — и не смог.
Хоронили Григория Наумовича назавтра, и снова день был необычайно хорош. Все было ярким: небо, море, деревья.
Кладбище, его было видно с нижней дороги, расположено на горе, в небольшой кипарисовой роще. К нему, петляя, вьется неровная, каменистая дорога.
Похоронная процессия стала медленно подниматься в гору. Костя вскочил на подножку грузовой машины, покрытой ковром, на которой, утопая в цветах, стоял гроб. Он что-то сказал шоферу, и машина остановилась.
— Давайте, ребята! — обратился Костя к подошедшим к нему парням.
Вчетвером они сняли гроб с машины и понесли его на руках.
У Кости мокрая от пота рубашка потемнела, прилипла к спине.
Других сменяли, но, когда подходили к нему, он, мотнув головой, коротко говорил: «Я сам», — и шел дальше.
Спаковская, догнав Анну, сказала:
— Посмотрите, сколько народу! Вот уж не ожидала. Кажется, маленький был человек, а как много венков. Будто знаменитость хоронят.
Анна оглянулась, посмотрела вниз на дорогу: «Можно подумать, что в городе никого не осталось». Много своих. Почти все, кто не на дежурстве. Она узнавала лица своих больных из санатория. Ничего удивительного — и среди них у Григория Наумовича много друзей, Ей поклонился мужчина в очках, — она узнала Кириллова. Мелькнуло заплаканное лицо Вовкиной учительницы. Ах да, ее мужа лечил Григорий Наумович. «К кому я теперь буду приходить со своими бедами?» — подумала Анна.
— Он не был маленьким человеком.
Спаковская взглянула на Анну, как бы ожидая, что она еще что-то скажет, но Анна только глубоко вздохнула.
Маргарита Казимировна шла молчаливая, замкнутая, лицо у нее было усталое.
Подошла тяжело дыша Ася. Анна взяла ее под руку.
— Наверное, самое ужасное в жизни, когда от тебя никому ни тепло, ни холодно, — тихо проговорила Ася.
…Музыканты, сыграв траурный марш, пошли к автобусу. Засыпана могила.
Костя руками сровнял землю.
— Пойдемте! — Спаковская осторожно дотронулась до Анниной руки.
— Поезжайте, я еще побуду здесь.
— За вами послать машину?
— Не надо. Я дойду.
Ася и Костя отправились пешком. Анна несколько минут смотрела им вслед. Ася рядом с Костей казалась очень хрупкой. Молодая женщина слегка споткнулась, Костя взял ее под руку. Через полгода Ася станет матерью. Народится новая жизнь…
Чем измерить жизнь? Годами? Радостями или горестями? Хорошо прожить жизнь… Он много страдал, но жизнь хорошо прожил. Делать людям добро и не ждать наград за это добро…
Его последнее желание сбылось: он умер в белом халате.
Тишина.
Но тишина была только здесь. Внизу шумело море. А неподалеку, в распадке, под раскидистыми крымскими соснами, откликаясь эхом в горах, гомонили ребячьи голоса.
Анна прислушалась к ребячьим голосам и с особой остротой почувствовала, как, несмотря на все утраты, прекрасна жизнь!
Жизнь Нины Камышиной
Часть первая
В небольшой, тесно заставленной квартире Камышиных пахло горьковатым березовым дымом. Хотя топить еще рано. Осень. Можно было поберечь дрова. Кто знает, какая нынче будет зима. Прошлая — голодная, тифозная и холодная — кое-чему научила.
Вот уже месяц хлещут и хлещут дожди.
Пришла хозяйка дома, глядя куда-то в сторону, сказала:
— Конешным делом, при новых порядках пущай пропадает добро, а топить надоть. От сырости завсегда грибок заводится.
— Хорошо, я затоплю. До свиданья, — сказала бабушка.
Хозяйка поправила шаль на плечах, словно надеялась, может, бабушка еще что-то скажет, но бабушка молча ждала, когда она уйдет. Накинув шаль на голову, хозяйка ушла. Коля говорит, что она похожа на раскольницу из скита. Про раскольниц сестры читали у Мамина-Сибиряка. Пожалуй, похожа. Вечно их гоняет во дворе: землю не копайте, траву не топчите, под окнами не бегайте.
Печка, сердито выбрасывая черный дым из поддувала, долго не хотела растапливаться. Приходилось жечь французские книги, все равно их теперь никто не читал. Сестры из темной столовой смотрели, как бабушка в коридоре возится у печки. Когда у бабушки лицо хмурое и озабоченное, к ней лучше с разговорами не лезть. Наконец печка загудела дымоходом. Бабушка ушла к себе. Сестры выбрались в коридор и уселись напротив печки на высокий сундук с выпуклой крышкой. В открытую дверцу видно, как на поленьях пляшут веселые огненные человечки, корежат бересту, дрова фыркают, трещат, чернеют. Нина знает: если долго смотреть на листья, облака, тени на потолке — увидишь что захочешь. Нина, не мигая, смотрела на огонь; сначала появилась жар-птица с золотым хвостом, потом жар-птица исчезла, превратилась в цветок, каких и не бывает, цветок обернулся шаром, шар вытянулся, и огненный лохматый язык стал закручиваться, закручиваться, закручиваться…
— Я хочу есть, — плачущим голосом сказала Натка.
Все причудливое разом испарилось, огонь как огонь.
— Я хочу есть, — упрямо повторила Натка, — даже тошнит.
Нина почувствовала, как у нее засосало под ложечкой.
— Может быть, немножко бабушкиных лепешек осталось, — с надеждой проговорила она.
Эти лепешки — бабушкино изобретение — пеклись прямо на чисто вымытой плите. Мука, соль, вода. А все же они вкуснее хлеба. Коля говорит, что теперь в хлебе нет только опилок, а овес определенно есть.
— Осталось три лепешки. — Натка всегда знает, сколько чего осталось.
— Эти лепешки Коле, — сказала Катя.
— А нам дали по две, — кажется, Натка вот-вот разревется.
— Как ты не понимаешь, — рассудительным голосом старшей сказала Катя, — Коля взрослый, а взрослые всегда больше едят, чем маленькие.
— Я молока хочу, — заныла Натка, — а ты, Нина?
— Я гречневой каши с молоком, а ты, Катя?
— А я котлет с макаронами, а ты?..
Завязалась игра «а ты?» «а я?» — игра, дразнящая голодные желудки. Хуже всех Натке — она так мало помнит вкусной еды. Зато Катя знает даже какой-то бигус, этот бигус похож на клыкастого кабана. Нина неожиданно для себя вдруг сказала:
— Страшно вкусные сухоровены.
— Нет сухоровен, — облизнув пухлые губы, Катя попыталась улыбнуться. — Ты опять выдумываешь.
— Есть, помнишь, Катя, пирожки, такие розовые корочки, нежные, а в середине — ветчина кусочками и изюм. — Нина была почти уверена, что когда-то, еще на старой квартире, она ела сухоровены, только назывались они, кажется, как-то по-другому.
— Нет сухоровен! — У Кати задрожал голос. — Не существует никаких сухоровен!
— Существуют!
Вошла бабушка. Сестры тотчас замолчали. Бабушка подгребла угли и чуть задвинула вьюшку. В столовой часы пробили девять ударов. Сейчас бабушка скажет: «Дети, пора спать».
— А мы еще не почайпили, — тихонько, но так, чтобы слышала бабушка, прошептала Натка.
Старшие сестры взглянули на бабушку: в самом деле — почему? Обычно ужин в восемь, а сегодня…
— Катя, подложи горячих углей в самовар, — распорядилась бабушка, — сейчас должен прийти Коля.
Коля — студент. Но разве теперь до ученья! Совсем еще недавно Красная Армия одолела Колчака. Еще где-то в таежных углах, а таких не счесть в Сибири, отсиживаются, притаившись, беляки. Еще не справилась страна с разрухой. Еще голод идет по стране. Пусть кое-кто из мелких торговцев (те, что покрупнее, сбежали бог весть куда) и пооткрывали лавочки, но от этого безработным не легче. А их в городе полно. Да еще беженцы понаехали. Коля с товарищами разгружает баржи на пристани. Но вот-вот и этим заработкам конец.
Сестры только что уселись в кухне за стол, когда пришел Коля. Пока он мылся и переодевался, бабушка чай не разливала. Круглый никелированный самовар отдувался паром, высвистывал что-то свое, самоварное. Хлеб разложен на тарелки порциями — по три тоненьких ломтика, сверху ломтиков — кусочек сахара. На другой тарелке — картошка в «мундире», каждому по одной. Ничего, сегодня довольно крупные картофелины. Сейчас бабушка разольет горячий морковный чай в чашки, и можно будет есть. Наконец, Коля сел за стол.
— Дети, у меня к вам серьезный разговор. В общем так: Вена очень слаб. Завтра нужно отнести передачу. Давайте отдадим ему наш сегодняшний сахар. Без одного кусочка мы не умрем, а ему — пять. На два дня. Надо его поддержать. Ну как, согласны? Идет?
Вена самый близкий Колин товарищ, вместе летом сторожили по ночам студенческие огороды. Вена часто приносил к ним гитару и грустным голосом пел: «Пара гнедых, запряженных с зарею…» Ему нравилось, когда Нина декламировала: «…плакала Саша, как лес вырубали…» Вена слушал ее, почему-то прикрыв глаза ладонью. И вот Вена сидит в домзаке — так теперь называли тюрьму, — он слаб, и ему нужен сахар.
Нина оглянулась на Катю, а та на бабушку. Бабушка кивнула, и Катя поспешно взяла свою порцию хлеба, оставив сахар на тарелке. Нина, глотнув слюну, проделала то же самое. Натка, успевшая схватить свою порцию раньше сестер, низко наклонилась, лизнула сахар и нехотя положила на тарелку.
— Вот молодцы! — неестественно веселым голосом произнес Коля.
— Посмотрю печку, — бабушка вышла в коридор.
— Кто понесет передачу? — спросила Катя.
— Пойду я, — из коридора сказала бабушка.
— Тебе нельзя, мама, а вдруг приступ астмы.
— Пойдем мы с Ниной. Если дождь будет — потеплее оденемся и пойдем, — взрослым голосом сказала Катя.
Нина легонько вздохнула: ведь она хотела это же самое предложить, а теперь еще подумают, что она не хочет, и торопливо пробормотала:
— Я надену мамочкину шаль, ее никакой дождь не промочит.
— Вы же понимаете, ребята, если я пойду, мы все останемся без хлеба, — смуглое сухощавое лицо Коли непривычно озабоченно.
— Без хлеба можно умереть, — Натка шмыгнула носом.
Когда был проглочен последний кусочек корочки (корочка все же вкуснее мякиша, и ее оставляли напоследок, как лакомство), бабушка велела детям ложиться спать. Завтра рано подниматься.
Молились в темноте. Катя, как всегда, долго. Нина, стыдясь своей поспешности, торопливо прочитала «Отче наш», «Богородицу» и нырнула под одеяло. Кажется, Натка вовсе не молилась. От всего она увиливает. Пора понимать. Все же семь лет. Но под одеялом тепло, ссориться не хотелось.
Странно: в темноте ничего не различишь, а все как будто видишь — и Катину кровать справа, и Наткину слева, и комод в углу, и рядом с дверью гардероб, и стол между окон, и даже желтую, в чернильных пятнах клеенку на столе. Конечно, это не по-настоящему видишь, а как будто..
— Мамочка все еще на службе, — сказала Катя. — Наверное, опять всю ночь будет работать.
— Почему им обязательно ночью надо работать? — Нина села в кровати.
— Потому что у них продналог.
— А что такое продналог? — сонным голосом спросила Натка.
— Это когда крестьяне сдают продукты, понимаешь?
— А почему налог?
— Фу, какая же ты глупая!
— Ниночка, почему Катька обзывается? — заныла Натка.
Нина мысленно пыталась представить себе продналог: это такой толстый и строгий дядька, за плечами у него большая корзина с крышкой. У богатых мужиков продналог отбирает продукты и отдает их голодающим. Тут мысли Нины оборвались. По деревянным тротуарам за окнами простучали каблучки. Мама! Сейчас придет мама.
Нина крепко зажмурила глаза, ее будто качнула волна нежности. Придет мама, шепотом спросит: «Ну, как вы сегодня вели себя?» И пахнет от мамы всегда по-особенному.
С некоторых пор у Нины с мамой есть своя тайна.
Это было в субботу, когда бабушка ушла в церковь ко всенощной. У них в гостях была Нонна Ивановна — мамина подруга, они вместе служат в губпродкоме. В этот вечер Нина никак не могла заснуть — обидно спать, когда мама дома. Из кухни доносились приглушенные голоса. «За чем бы пойти на кухню? Ага, попрошу пить». Мама сидела на своем всегдашнем месте за столом у окна и курила! О господи!
«Подойди сюда», — сказала мама. Голос не сердитый, наоборот, даже ласковый. Притянув Нину к себе, мама зашептала: «Пусть это будет тайной. Не надо об этом говорить бабушке. У бабушки и так миллион огорчений. Очень трудно не курить, когда всю ночь напролет работаешь, когда сильно хочется спать». Нина чувствовал мамино дыхание на щеке, и ее распирало от гордости — теперь у них есть общая тайна.
Потом оказалось не так-то просто хранить тайну. Ужасно хотелось сказать сестрам. Когда Катя дала ей откусить от своего кусочка сахара, Нина чуть не проговорилась…
Они вышли из дому рано. Ночью у бабушки был приступ астмы. Собирая девочек в дорогу, она часто садилась, чтобы отдышаться. Катя кидалась ей помочь. Нина мучилась от собственной недогадливости. И сейчас, семеня рядом с крупно шагавшей Катей, спрашивала себя: «Почему Катя всегда знает, что надо делать, а я никогда не знаю?» Нина сбоку глянула на сестру: густые, сросшиеся у переносицы брови сжаты, пухлые губы сомкнуты. Совсем как большая. Говорят, что они похожи. Это неправда. У Кати глаза черные, а у нее, Нины, глаза и не поймешь какие. А кажутся они похожими из-за того, что одеты одинаково. В перешитых из старой Колиной шинели пальтишках они смахивают на приютских. Только приютские девочки стрижены наголо, а у них волосы длинные, гладко расчесанные на пробор и заплетены в две тугие косы.
На соседнем заборе висел мальчишка, крикнул им:
— Двести тридцать!
«Вот дурак-то», — подумала Нина и тут же догадалась: не двести тридцать, а две сестрицы. Мальчишку этого нечего бояться: пока он слезет с забора, всегда можно убежать, а вот другого мальчишку… До него осталось пройти два дома. Уселся прямо на тротуаре. Наверное, беспризорник. Рваная шапчонка. Такой маленький, а курит. Беспризорник крикнул:
— Эй, антилипупки, каво несешь? Даешь сюда!
Нина не успела опомниться, как Катя, схватив ее за руку, перетащила на другую сторону улицы. Пристроилась позади какого-то толстяка. Толстяк шлепал рваными галошами по деревянным тротуарам. Когда беспризорник остался далеко позади, сестры вынырнули из-за спины толстяка и, прижимая к себе узелки с передачей, прибавили шагу.
«Конечно, нехорошо быть трусихой, — рассуждала про себя Нина. — Коля говорит, что надо себе внушать, будто ты ничего не боишься. Но вот опять…» Нина опасливо покосилась на козу. Коза, мирно щипавшая траву в канаве, подняла бородатую морду и самым глупейшим образом уставилась на сестер. Нина перешла на другую сторону тротуара, так, чтобы коза оказалась с Катиной стороны.
— Боишься? — Катя насмешливо улыбнулась.
— Ни капли. — Нина почувствовала, что краснеет.
— Козы очень ласковые, — с превосходством взрослой произнесла Катя, останавливаясь.
Коза стукнула копытцами о тротуар. Сестры, взявшись за руки, бросились наутек.
Долго шли молча, не глядя друг на друга.
А улице, кажется, нет конца.
Новоселовская улица, на которой живут Камышины, берет свои истоки в поле, а вливается — в главную улицу города. Сестры любят свою Новоселовскую. Красивая — с двухэтажными разноцветными домами, а наличники окон, карнизы и ворота украшены деревянным кружевом. Нина любила разглядывать это «кружево», у каждого свой узор. По обочинам дороги — высоченные тополя, березы. Из-за заборов красуются островерхие темные ели, а весной наплывает черемуховый цвет. А теперь лишь кое-где на ветвях уцелели желтые листья — они под ногами, и их так жаль топтать…
Когда, наконец, добрались до тюрьмы, там вдоль унылой кирпичной стены стояла огромная очередь. Какая-то дама в шляпке и страусовом боа (у мамы тоже есть такое боа, только оно теперь лежит в нижнем ящике комода), взглянув на сестер, воскликнула:
— Боже, как это жестоко — посылать детей!
— Нас никто не посылал, мы сами.
Нина с благодарностью взглянула на сестру. Заняв очередь, они сели в сторонке на краешек тротуара, как тот беспризорник. Катя вытащила из кармана пальто пакет, в нем было шесть сухарей, три побольше она отдала Нине. И Нина вдруг всхлипнула, то ли оттого, что ныл палец на ноге, стертый рваным ботинком, то ли из-за этой дурацкой козы, и потом: что этой даме-мадаме надо?
— Ну чего ты? — У Кати голос задрожал. Но она сдержалась. — Смотри: у меня по два леденца. Это мне Коля дал. Его вчера одна барышня угостила. Они сами делают леденцы и продают. Не реви! Начнут еще нас жалеть. Я хотела их на обратном пути дать тебе. Ой, что ты: не грызи! Их надо сосать, чтобы дольше.
Неожиданно очередь заволновалась. Все наперебой заговорили. Ждут какого-то начальника из Чека. Будут пересматривать дела. Ходят слухи — половину из домзака выпустят. Дай бог! Дай бог! Все засуетились. Доставали какие-то прошения.
Сестры прислушивались — может, и им нужно написать прошение? Нина, взглянув на старичка, благодушно чему-то улыбавшегося, неожиданно спросила:
— А вы будете прошение писать?
— Боже упаси! — воскликнул старичок. — Мой зять, ради которого я здесь околачиваюсь, извините за выражение, прохвост первой марки, и чем он дольше пробудет в этой скромной обители, тем лучше не только для моей дочери, но и для всего человечества. А вы зачем здесь, милые барышни?
— Принесли передачу одному студенту. Он товарищ нашего дяди, — пояснила Нина, не понимая, почему это Катя ее толкает.
— А кто он? Возможно, я чем-то смогу быть вам полезен.
— Его зовут Вена Ракитин, — сказала Нина и тут же вспомнила: бабушка им строго-настрого запретила вести разговоры в очереди и сообщать, кому принесли передачу. Но было уже поздно.
— Позвольте, Вена Ракитин! — воскликнул старичок. Пенсне у него соскочило с носа и болталось на шнурочке. — Вот уж воистину тесен мир! Я же его отца прекрасно знал. Петербуржец был. Попал в наши столь отдаленные сибирские места не по собственной воле. Вену воспитывал его дядюшка по матери. Такой же прохвост, как и мой зятек. Только этот типиус вовремя успел ретироваться. Иначе красные его к стенке поставили бы. И правильно сделали бы. Позвольте, а разве дядюшка Вену не увез?
— Не увез, — сказала Катя. — Вена болел тогда, а потом он сам не захотел.
— Тэк-с, тэк-с… — в раздумье повторял старик, — тут недоразумение. Вена никакого отношения к мерзавцу дядюшке не имеет. Необходимо… — Старик оборвал себя, уставившись на дорогу.
Все смотрели на приближавшуюся пролетку. Лошадь, храпя и разбрызгивая грязь, остановилась у тюремных ворот. Из пролетки вышли трое: один в шинели, двое — в кожаных куртках. Тот, что в шинели, оглядел очередь и громко сказал:
— А дети здесь зачем?
Они испуганно переглянулись — сейчас прогонит!
Нина стояла, опустив голову. Она видела сапоги и полы шинели. Сапоги приближались. Сапоги были совсем рядом. Большой, пахнущей махоркой рукой человек осторожно приподнял ей голову. Нина взглянула в скуластое лицо с коротким широким носом и ржавыми усами. Она увидела это лицо сразу все, и морщины на лбу увидела. Из-под пшеничных кустистых бровей на нее смотрели светлые усталые глаза. Смотрели откуда-то издалека. У нее что-то часто-часто заколотилось в горле. Во рту стало сухо, как во время болезни. И тихо, одними губами, думая, что кричит, Нина прошептала: «Петренко», — и уткнулась лицом в пахнущую чем-то кислым шинель.
Свою короткую жизнь сестры делили на два периода: «на старой квартире» и «на новой квартире». Это были две несхожие жизни.
Старая квартира — это одноэтажный особняк из шести комнат, с окнами на улицу, с парадным и черным ходом. Это большая гостиная, в которой и стены и пол прятались за коврами, а в углу таинственно поблескивал рояль. По утрам маме кофе подавали в постель, а дети с няней завтракали в детской. После завтрака Нина тихонько проскальзывала к маме в спальню. Мама сидела на круглом пуфе перед туалетным столиком, расчесывала свои длинные блестящие волосы, а Нина смотрела.
В хорошую погоду сестер выводили на прогулку. Впереди, взявшись за руки, чинно выступали Катя и Нина, за ними с Наткой на руках шествовала нянька. Она часто останавливалась «перекинуться словечком». Разговор начинался с одних и тех же слов: «Барышни-то сущие ангелочки». Иногда «ангелочки» заменялись «цветочками». Няньке отвешивались комплименты: «Ишь как раздобрела на господских харчах». На что нянька неизменно отвечала: «А меня барыня почитает — чем захочу, тем и потчует». Потом разговор обычно переходил на какую-то Фроську — «так уж он ее, горемышную, бьет — живехонького местечка не осталось». Судя по этим разговорам, Фроське давно пора было умереть. Гулять скучно — с тротуаров не сойди: «Туфельки замараешь». Сестры остро завидовали мальчишкам, которые, засучив штаны, бегали по лужам. Счастливчики!
Зимой гулять еще скучнее, столько на тебя накрутят, что не повернешься.
По воскресеньям, после того как отзвонят на разные голоса церковные колокола, приходила бабушка. Тогда она носила траур по деду: со строгой черной шляпы спускалась за спину длинная черная вуаль. Бабушка была с детьми ровна и ласкова, но все равно они ее побаивались. Бабушка с Колей жили в большой уютной квартире. К ним надо было долго ехать на извозчике.
В те редкие вечера, когда мама оставалась дома, она садилась к роялю. Нина примащивалась обычно на тахте, от тоскующего маминого голоса ей хотелось плакать.
Иногда к ним приезжали гости. Одних гостей няня называла «настоящими господами», других — «шабурой беспортошной». «Настоящие господа» звенели шпорами, сверкали золотыми погонами: они подолгу засиживались в столовой, потом танцевали. Сестрам выходить из детской не разрешалось.
«Шабура беспортошная» под предводительством Коли вваливалась гурьбой; девицы в белых кофточках и строгих черных юбках; студенты и молодые люди в рубашках-косоворотках и сапогах. В такие вечера мама отправляла няню к ее знакомой прачке. Дети были вместе со взрослыми, иной раз у кого-нибудь на руках и засыпали. За столом гости о чем-то спорили. Громче всех и подолгу говорил высокий и худой студент в очках. Когда Катя спросила его: «Как вас зовут?» — он сказал: «Кашей Бессмертный, меня все убивают, а я воскресаю». Нина испугалась: «Насовсем убивают?» Кащей Бессмертный рассмеялся: «Черта с два! Так я им и дамся». Однажды он сказал: «А нам на руку, что царь Николашка — олух царя небесного. Поверьте, вся эта сволочь своей смертью не умрет». Мама воскликнула: «Федор Иванович, здесь же дети!» Он встал, подошел к маме и сказал: «Простите, дорогая Наталья Николаевич», — поцеловал ей руку. Кто-то воскликнул: «Ого, прогресс!» Все засмеялись, а мама покраснела.
Пели хором — «…Спускается солнце за степи, вдали золотится ковыль, колодников звонкие цепи…» Мамин голос будто колокольчик вздрагивал: «динь», а голос «Кащея» бухал — «бом». Все тихо подхватывали — «слышен звон кандальный», и опять мамин голос вызванивал — «динь».
Однажды нянька, усадив Нину на колени, принялась выспрашивать, о чем говорит «шабура беспортошная». Нянька неприятно дышала Нине в лицо, и она с плачем вырвалась от старухи и забралась под рояль. Вечером Нина сказала маме: «А няня спрашивает, что шабура про царя говорит. Это она про олуха?» Мама позвала няньку к себе в спальню. Дети слышали, как нянька громко голосила, приговаривая: «Прости ты меня, голубушка Наталья Николаевна, плохие люди меня попутали, сроду бы по своей воле…»
С той поры Колины друзья перестали у них бывать.
Как-то мама повела Нину гулять в городской сад. По аллее навстречу им шел Федор Иванович. Он сказал: «Я боялся, что вы не придете». Нина собирала сухие листья и раскладывала их на скамейке Мама села и принялась что-то чертить концом зонтика на песке. Кащей стоял перед мамой, прислонившись спиной к дереву, он сказал: «…вы самая очаровательная на земле женщина, но, боже мой, в каком вы плену предрассудков». Тут мама послала Нину сорвать ромашку. Непонятно, зачем маме нужна была высохшая ромашка, она на нее даже не взглянула, может, потому, что этот Кащей целовал ей руки.
Напомнил Кащей еще раз о себе зимой. Однажды мама, взяв с собой Нину, поехала с нею на извозчике. Оставив извозчика на перекрестке и наказав их ждать, мама взяла Нину за руку, и они пошли по узкой заснеженной тропинке. Они прошли двор, заваленный сугробами, и остановились у домика с мезонином. Мама постучала, за дверью спросили: «Вам кого?» Мама сказала: «Со мной девочка». Дверь открыли, и тот же голос сказал: «Проходите сюда».
Миновав темную, всю пропахшую жареным луком переднюю, они очутились в небольшой, тесно заставленной комнате. Лишь тут Нина разглядела женщину, открывшую им дверь. Высокая, худая, она странно кого-то напоминала.
Мама подняла вуаль и протянула женщине руку. Женщина сказала: «Вот вы какая». Нина по ее тону поняла, что мама понравилась женщине. Мама вытащила из муфты сверток и передала его женщине, сказав: «Теперь вы понимаете, я боюсь у себя держать. Я боюсь ее». — «Да, понимаю, — сказала женщина, — а прогнать — это выдать себя, показать им, что вы боитесь». Потом мама тихо спросила: «Я могу его видеть?» Женщина, не глядя на маму, сказала: «Вы знаете, ему вредно волноваться» — и открыла дверь в другую комнату. Нина увидела кровать и на ней худого человека, она приняла его сначала за Кащея. Но ведь Кащей был без бороды. Нина попыталась юркнуть за мамой, но женщина взяла ее за руку и сказала: «А ты со мной побудешь». Нине стало страшно, и она всхлипнула: «Хочу к маме». Женщина подвела ее к окну, где висела клетка, в клетке на жердочке сидела желтая птичка и смотрела на них круглым печальным глазом. Нине сразу же расхотелось реветь.
— Как зовут эту птичку? — спросила она.
— Канарейка.
— А птичка поет?
— Поет. Только хозяин ее сейчас болен, и она скучает. — Женщина вздохнула и погладила Нину по голове.
И все. Нина забыла о Кащее Бессмертном. Вспомнила о нем и о желтой птичке позже. Много позже.
По вечерам, когда мамы не было дома, уложив пораньше детей, нянька и сама заваливалась спать.
Оглядываясь на храпящую глыбу, Нина слезала с кровати и пробиралась к двери. Ночник под розовым абажуром бросал мягкий круг на скатерть. Сквозь верхние ажурные шторы просвечивало густо-синее небо. За дверью детской — темная и пустая гостиная. Не оглядываясь на черные углы, — нянька говорит: домовой, серый и мохнатый, прячется по углам, — подобрав длинную рубашку, Нина что есть духу пробегала через гостиную. В коридоре уже не так страшно — дверь в комнатушку денщика Петренко приоткрыта — там свет.
Петренко всегда сидел у стола, писал или читал газету. Он подхватывал Нину на руки, подбрасывал, целовал в голову, усаживал к себе на колени, а исписанную бумагу или газету заталкивал зачем-то за голенище сапога. Петренко умел рассказывать забавные и совсем нестрашные сказки. Умел ножом выстругивать из куска дерева кукол, матрешек и зверушек. В кованом сундучке Петренко хранились особенные лакомства: похожие на камушки коричневые блестящие кусочки серы, возьмешь ее в рот, чуть пожуешь, и она станет мягкая; длинные, «с хвостиками» леденцы. Петренко называл Нину «сэрденько» и «дивчаточка».
Когда нянька отправлялась вечером «посидеть к куме», Петренко приходил в детскую, иногда играл на гармони и негромко пел: «Из-за гаю сонце сходить, за гай и заходить, по долине увечери козак смутний ходить». Он пел, покачиваясь, полузакрыв глаза, склонив голову к гармони, будто вслушиваясь, как поют мехи, и его широкое лицо не улыбалось.
С воспоминанием о Петренко у Нины было связано воспоминание об отце.
Отец находился где-то далеко, «на позициях», как говорила нянька. Если дети не слушались ее, она грозилась: «Вот напишет маменька папеньке, он приедет и ужотко покажет вам». Об отце упоминалось вечерами, когда в длинных ночных рубашках в своих кроватках с высокими боковыми сетками сестры вставали на молитву. Мама обычно стояла около Наткиной кровати и вслух читала молитвы, дети за ней повторяли их. После молитв сестры хором произносили: «Пошли, господи, здоровье бабушке, мамочке и сохрани, милостивый боже, папочке жизнь». Потом мама крестила их, целовала и уходила. Если мамы не было, молитвы с ними читала нянька, и тогда Нина мысленно добавляла «от себя» (при маме совестно было так делать): «Дай бог, чтобы завтра было тепло и нас отпустили на прогулку» или: «Дорогой боженька, сделай, пожалуйста, так, чтобы у Петренко не болел порезанный палец». Иной раз выпрашивала у бога милостей и для себя: «Пусть мне подарят куклу с закрывающимися глазами, — и, крестясь с особым усердием, добавляла: — Только пусть у нее ножки и ручки сгибаются».
Нина спросила Катю, молится ли она «от себя». Оказывается, и Катя молится, но о другом — «чтобы папочка приехал». Нина, подражавшая во всем старшей сестре, раз помолилась, «чтобы папочка приехал», а потом забыла. Отец для нее был чем-то вроде бога, так же далеко. Только одно знает — наказывать. «Боженька накажет, папенька накажет».
Получив письмо от отца, мама закрывалась у себя в спальне и выходила только к обеду. Глаза у нее были красные, она о чем-то вздыхала и жаловалась на головную боль. Вечером она никуда не уезжала. Не зажигая лампы, лежала на тахте. В такие вечера мама к роялю не подходила. Так продолжалось дня три, потом она надевала свое любимое платье — серое с черным кружевом, серые замшевые туфли с черными лакированными носками. Набросив на плечи соболий палантин, мама уезжала. На другой день нянька судачила с кумушками: «Наша-то обратно ночью приехала, на тройке привезли. Муж на позициях кровь проливает, а она танцы растанцовывает. Греха не боится». Как ни мала была Нина, но она понимала: эти злые тетки обижают ее милую, самую хорошую на свете маму. Она решила отомстить: подошла и плюнула няньке на ботинок. Мама поставила Нину на целый час в угол и лишила за обедом сладкого.
Однажды утром Нина увидела на вешалке что-то странное — пальто не пальто, шуба не шуба.
В кухне Петренко, натянув сапог на руку, быстробыстро водил по нему щеткой. Присев перед Ниной на корточки, он долго объяснял ей, что «барышне на кухню ходить не положено, их благородие узнают — ругаться будут». Нина никак не могла понять, кто это «их благородие» и почему теперь в кухню ходить «не положено». Нянька насильно утащила ее из кухни.
Во время завтрака в детскую вошел отец.
— Поцелуй папочку, — сказала мама.
Нина отвернулась и закрыла лицо руками.
— Ну будь умницей, поцелуй папу… — мягко уговаривала мама.
Не в силах преодолеть страха и смущения перед этим незнакомым человеком, из-за которого ее теперь не будут пускать в кухню к Петренко, Нина громко расплакалась. Уходя, отец сказал: «Фу ты, какая плакса». С Ниной сделалось что-то вроде припадка. Пришлось позвать Петренко. У него на руках Нина притихла и задремала. Разбудил ее голос отца. Нина осторожно приоткрыла один глаз. Она уже лежала в кроватке. Петренко нет. Зачем он ушел? Это, наверное, его папа прогнал.
Отец и мама стояли друг против друга у стола.
— Никогда не понимал, — сердито проговорил отец, — твоего панибратства с прислугой. Как можно!.. Ты стоишь, а он сидит…
— Он же убаюкивал ребенка, — сказала мама, и по ее тону Нина догадалась, что мама тоже сердится.
— Он из команды выздоравливающих. Хватит ему отсиживаться, пора и в окопы! Там каждый штык нам дорог. — Все еще недовольным голосом отец повторил: — Пора и в окопы.
— А мне непонятно другое, — сказала мама.
— Что тебе непонятно?! Будь добра, договаривай! — повысил голос отец.
— А ты, будь добр, потише, ребенка разбудишь.
Нина поспешно зажмурила глаз.
— Она не спит, — отмахнулся отец. — Так что же тебе непонятно?
— Не понимаю, как ты можешь с таким пренебрежением относиться к людям, на которых держится земля русская?!
— Ах, уволь! — Отец поднял обе руки.
Нина теперь смотрела во все глаза, на нее никто не обращал внимания.
— На них держится земля русская, — с раздражением повторил отец. — Наслушалась черт знает чего и лепечешь глупости! Да они кричат, что им надоело вшей в окопах кормить! Им подавай землю и волю! Знаю. Начитался их прокламаций. Сыт по горло! Им дела нет до России! Им нужны свой клочок земли, своя хата, своя буренка! На нас держится Россия! Мы ее мозг! И мы не дадим… — Каким-то странным клокочущим голосом отец прокричал: — Не позволим! — Он круто повернулся, подошел к окну.
Нина видела его спину с приподнятыми плечами, нога у него почему-то подергивалась. Ей хотелось заплакать, но она испугалась, что еще сильнее рассердит отца, и сдержалась.
Мама все так же стояла, опустив голову, и для чего-то отдирала кружево от носового платка. И оттого, что они оба долго молчали, было особенно страшно.
Подрагивая ногой и растирая ладонями лицо, отец сказал:
— Извини. Погорячился. Сказывается контузия!
Он вышел из детской, даже не взглянув на маму.
…Петренко исчез. Нянька пояснила: «Не только нашего разлюбезного денщика, а и других-то всех позабирали. Германец шибко воюет».
Мама собирала в дорогу отца. Нина от него пряталась. Забиралась под рояль, раз залезла в гардероб.
Сестры лежали в постелях, когда он пришел прощаться. «Кажется, спит», — сказал он, склоняясь над ее кроваткой. Нина еще крепче зажмурила глаза. Он поцеловал ее в голову и ушел.
Нина скоро забыла об отце, она тосковала о Петренко.
Вместо него на кухне громыхала кастрюлями молчаливая Авдотья, Нина робко появлялась в дверях: а вдруг Петренко пришел? Авдотья поворачивала странно четырехугольную голову и шипела со свистом: «Брысь отцедова!».
Нине казалось, Петренко уехал ненадолго, он скоро приедет, возьмет ее на руки и скажет: «Яку гарнесеньку баечку кажу дитяточке». Но он не приезжал. Обняв деревянную, выструганную Петренкой куклу, она пробиралась к окну: по улице ходит много солдат, вдруг она увидит Петренко… Снег за окном крупный-крупный, будто бабочки мохнатые, всамделишные. Когда шел такой снег, Петренко говорил: «Бачишь, Ниночко, то на том свите чертяки перину трусят».
Сугробы в снежную погоду пухлые-пухлые, в солнечную — они блестящие, словно из стекляшек, на них даже больно смотреть. С каждым днем сугробы тускнели, оседали. Потом куда-то исчезали. Мама сказала — превратились в ручьи. Утром лед, вечером ручьи.
Нина больше не бегала в кухню посмотреть, не приехал ли Петренко, и с Катей о нем не разговаривала, а Натка не спрашивала: «Где Петреночка?»
И вдруг однажды Катя прибежала из кухни с красным лицом.
— Нина, там какой-то солдат, — задыхаясь, проговорила она.
Нина кинулась бежать, с размаху запнулась за ковер и, потирая ушибленную коленку, влетела в кухню.
Солдат сидел у стола. Совсем, как Петренко — одет так же и усы… Только это не Петренко. У этого лицо, как сыр — все в дырочках. И он старый. Нина убежала в гостиную. Легла на тахту, засунув голову под подушку.
— Ты чего? — спросила Катя. — Солдат маме письмо с войны привез. Ну, чего ты плачешь?
— Я не плачу, — скучным голосом в подушку сказала Нина.
Потом они играли в кубики. Нинин дворец все разваливался, она сказала:
— Я схожу, мне надо. — Нина долго на цыпочках ходила по коридору. Наконец кухарка ушла в лавочку и Нина приоткрыла дверь в кухню.
Солдат сидел за столом и ел.
— Ишь какая пригожая барышня! — сказал он, отодвигая тарелку и вытирая рот рукой.
Набравшись смелости, она спросила:
— А солдатов на войне убивают?
— А как же, барышня, — солдат покачал головой, — там много нашего брата полегло.
— Как полегло? — удивилась Нина. — Вы нашего Петренко там не видели? Знаете, у него усы и брови, знаете, такие толстые-толстые брови.
Солдат усмехнулся и покачал головой.
— Нет, барышня, не видел, там много нашего брата.
Нине казалось, что она плохо объяснила ему, какой Петренко. Но пришла мама, она спросила солдата, не хочет ли он погулять по городу. Солдат сказал: «Лучше бы соснуть малость» — и добавил, что в дороге он «ни на палец не уснул». Нина снова удивилась: как это можно — «уснуть на палец».
Вечером был семейный совет. Пришли бабушка, Коля и Лида, мамина молоденькая кузина, она теперь жила у бабушки. Пришел доктор с треугольной бородкой и тетя Дунечка. Теткой она приходилась маме, но не хотела, чтобы дети звали ее бабушкой. Тетя Дунечка говорила басом и на груди носила на золотой цепочке золотые часы.
Детей уложили пораньше спать. Одеваясь, нянька сказала:
— Отправляют, значит, меня к куме, чтобы я не слушала. Знаю я ихние мнения. Папенька прислал письмо, чтобы, значит, уезжали.
— Куда уезжали? — спросила Катя.
Не сказав, куда им надо уезжать, нянька ушла. Натка мгновенно уснула, а Катя и Нина смирненько лежали в своих кроватях и прилежно слушали, что говорят взрослые в гостиной.
Заговорила мама, но быстро и тихо, ничего нельзя было разобрать. Неожиданно мама заплакала.
— Наталья, возьми себя в руки, — сказала маме тетя Дунечка.
Нина поразилась.
— Катя, разве можно самой себя взять в руки?
— Не мешай слушать. Это так говорят.
— Не понимаю, Наталья, о чем тут еще раздумывать, — снова забасила тетя Дунечка, — у тебя такие возможности: дороги тебе нечего бояться, тебя же будет сопровождать солдат. А в Петрограде ты заграничные паспорта получишь без всяких затруднений. Он же пишет.
— Разве в этом суть?! — Голос Коли, кажется, прозвучал сердито.
— Во Франции Наталье не страшны никакие превратности судьбы, — бас тети Дунечки гудел ожесточенно. — Да и почему не отдохнуть на юге Франции.
Коля сказал непонятное:
— Только крысы бегут с тонущего корабля.
В гостиной стало тихо.
— Что же мне делать?!
От маминого грустного голоса у Нины защемило в горле.
— Был бы жив папа, — сказала бабушка (сестры знали — папой бабушка называла дедушку), — он бы сказал: что бы ни случилось, а Россия останется Россией. И если беда с Россией, так и мы с Россией.
— Надо же считаться с обстоятельствами! — воскликнула тетка.
Бабушка недовольно заметила, что можно детей разбудить, и, к великому их огорчению, велела Коле закрыть плотно дверь в детскую.
Солдат уехал.
В весенний воскресный день, когда ручьи неслись вскачь вдоль улиц, а копыта лошадей звучно цокали о булыжник мостовой, к дому Камышиных подъехала пролетка. С нее ловко спрыгнул высокий военный.
Как только появился гость, сестер отправили в детскую. Нина и Катя томились в ожидании, их обещали отпустить после обеда на прогулку. Наконец они услышали, что гость уходит, и тотчас же в детскую вошла бабушка, она притянула к себе Катю и Нину и непривычным срывающимся голосом сказала:
— Дети… Катюша… Ниночка… вашего отца… ваш папа погиб…
— Убил проклятый германец. Бедные сиротки… — запричитала няня.
— Замолчите, — строго оборвала ее бабушка.
— Совсем папочку убили? — спросила Натка.
Из черных, испуганно округлившихся Катиных глаз потекли слезы. Нине стало отчего-то страшно, может, оттого, что нянька зачем-то завесила зеркало темной шалью.
Вечером пришли священник и дьякон. Было как в церкви. В переднем углу на столе, застланном красной бархатной скатертью, стояли иконы. Сладко пахло ладаном. Священник с дьяконом пели: «Упокой, господи, душу усопшего раба твоего…» Было немного жутковато. Мама, бледная, очень красивая, в черном шуршащем шелковом платье, молилась и плакала. Бабушка стояла рядом с мамой, особенно строгая, и тоже молилась. К ней жалась Катя, Натка восседала на руках у няньки, улыбаясь, она поглядывала на блестящую ризу священника, наверное, ей казалось, что он, играя, машет кадилом. Нина стояла рядом с Колей. Она изо всех сил старалась подражать старшей сестре: Катя перекрестится, и она перекрестится, Катя заплакала, и Нина попыталась заплакать.
Коля ушел в детскую, Нина поплелась за ним. Он сидел, положив ногу на ногу, и смотрел в окно. Коля обнял Нину и погладил по голове, совсем как Петренко. Она разревелась…
— Ты чего? — спросил Коля.
— А Петренко могут убить?
— Ничего, брат, не попишешь.
Жизнь семьи Камышиных дала крутой поворот. Началось с того, что они вынуждены были оставить квартиру, ставшую им не по средствам.
Новая квартира из трех комнат помещалась в двухэтажном флигеле во дворе. Постепенно стали исчезать дорогие вещи, сначала увезли рояль, потом дошла очередь и до ковров. Бабушка, приходя к ним, сердилась на маму: «Наташа, ты совсем не хочешь думать о будущем».
Вместо няньки и Авдотьи появилась Луша. Развеселая Луша, шутя поднимавшая комод. Особенно веселилась Луша, когда приходил Коля. Увидев в первый раз Колю, она громко фыркнула и закрыла лицо локтем. Коля спросил:
— Вам что, пятки щекочут?
— А ну вас, шутники такие! — Луша со всех ног бросилась в кухню, своротив в коридоре сундук.
Вечером, укладывая детей спать, она заявила:
— Втюрилась я в вашего дядьку! Больно он с лица красивенький.
Когда Луша ушла, Нина спросила:
— Втюрилась — это когда хохочут?
— Втюрилась, ну это как будто влюбилась. Я слыхала, Лида сказала маме: «Ваша Луша влюбляется в каждого солдата», — ответила Катя.
Нина с острым совестливым любопытством наблюдала за Лушей, когда она водила их на прогулку. Лида, наверное, все знала: как они только выходили за ворота — сразу же появлялся солдат, но у него всегда почему-то менялось лицо. Потом стал приходить солдат в каске, и он назывался пожарник… По вечерам Луша пела: «…она просила говорить, и судьи ей не отказали, когда закончила она, весь зал заполнился слезами…». Она пела до тех пор, пока, разжалобив себя, не начинала на всю квартиру рыдать. Мама шла в кухню уговаривать. Луша кричала так, что было слышно и в детской:
— А на кой мне этот ирод сдался! Ни в жисть я вас не оставлю!
Скоро Луша вышла замуж за пожарника. Он пришел за ней какой-то странный, еле стоял на ногах, икал и говорил нехорошие слова. Мама отправила девочек в детскую. Катя с Ниной дали друг другу слово, что ни за что не влюбятся, а то еще придется выходить замуж за такого противного пожарника.
Лушу сменила Серафима, тихая, бесшумная, на детей она не обращала внимания, все вечера просиживала в кухне в полном одиночестве, заунывно читая псалмы.
Лида теперь приходила к Камышиным чуть ли не каждый день. Запиралась с мамой в спальне, и они о чем-то вполголоса подолгу разговаривали.
Лиду девочки любили. Правда, она легко могла рассердиться, но быстро отходила. Нина немного жалела Лиду, ведь она круглая сирота. Теперь Нина знала, что означает это слово. Родители Лиды ссыльные и умерли от тяжелых условий и несправедливости, когда Лида была еще маленькой, — так объяснил сестрам Коля. Воспитывалась она в частном пансионе, куда ее устроила какая-то богатая родственница. Но Лиду можно было жалеть, только когда ее не видишь.
Статная, розовощекая, веселая, в белой накрахмаленной блузке, Лида всегда приносила в дом Камышиных оживление.
В тот вечер казалось, что метель через ставни и двойные рамы вот-вот ворвется в дом. В детскую вошла Лида, и сразу запахло снегом.
— Вы еще не спите, — сказала она, — ну и прекрасно! Живо одевайтесь — и в столовую. Вы тоже должны отпраздновать Революцию.
— И детей взбудоражила, — сказала мама, застегивая на Нине платье. Но мама явно не сердилась, она улыбалась.
Улыбалась не только мама, но и все гости. Их было много: и Вена, и кое-кто из тех, кого нянька называла «шабурой беспортошной».
Нина сразу догадалась, что Революция — праздник: все друг друга поздравляли, радовались, пили шипучее вино. Потом пели хором: «…ради вольности веселой собралися мы сюда-а-а…». А когда запели про колодников и дошли до слов: «Идут они знойною степью, шагая в пыли тяжело…», Лида неожиданно больно сжала Нинино плечо. Нина снизу вверх глянула на свою молоденькую тетку, ее лицо так вдруг исказилось, будто Лиде больнее, чем ей, Нине…
Назавтра у Камышиных состоялся семейный обед. Тетя Дунечка своим обычным, не терпящим возражений тоном заявила, что у русских монархизм в крови и ни в какие революции она не верит. Нина потихоньку спросила у Коли, что такое монархизм. Он ответил: «Это когда царь». Нина задумалась: неужели и у нее, Нины, царь в крови? — но спросить об этом Колю не решалась: бабушка не любила, если дети ввязывались в разговор взрослых, она уже раз сердито посмотрела в сторону Нины.
Доктор, играя шнурочком от пенсне (Нина боялась, что он оторвет шнурочек), сказал:
— Все неизбежно. Столкнулись тучи, и прогремел гром…
Нина не удержалась и спросила:
— А Илья-пророк?
Доктор засмеялся и сказал:
— Илья-пророк ушел в отставку. — И, помолчав, добавил: — Многое теперь уйдет в отставку.
Все заговорили о чем-то непонятном. Одна бабушка ничего не говорила. А на все вопросы отвечала: «Поживем — увидим».
Как-то, вернувшись от бабушки, Катя с таинственным видом сообщила: «Бабушка сильно боится, что Колю возьмут на войну, а тетя Дунечка сказала, что его спасет молодость».
Вскоре в семье Камышиных произошло два события.
Богомольная Серафима, укладывая спать непоседливую Натку, то щипнет ее, то шлепнет. Мама, обнаружив у Натки синяки, прогнала Серафиму. Второе событие было куда значительнее: к ним в дом переехала бабушка с Колей. А Лида где-то снимала комнату, но часто оставалась у них ночевать, потому что вечерами по городу стало опасно ходить.
На сестер навалились болезни: не успели избавиться от коклюша, свалил дифтерит. Теперь им никто не приносил дорогих игрушек и сладостей. Лида помогала маме выхаживать детей. По вечерам взрослые подолгу засиживались в столовой и что-то обсуждали. Нине очень хотелось знать, о чем они говорят, но даже Лида говорила вполголоса. Бабушка, забыв про вязанье, барабанила пальцами по столу и все поглядывала на Колю.
Как-то Нина проснулась ночью, и ей показалось, что она на старой квартире, а на кухне разговаривает Петренко. Она села, прислушалась. А через минуту стояла у кухонной двери, дверь была заперта. Заглянула в замочную скважину: Петренко, только без усов, сидел у печки и, потирая руки, что-то говорил вполголоса. Мама стояла спиной к двери.
— Мамочка, открой, я только посмотрю.
За дверью послышались шаги, шепот, шорох, что-то стукнуло. Мама не сразу открыла дверь. В кухне никого не было. Мама сердито сказала:
— Сейчас же иди спать. Что за фантазии.
…Спустя много лет Нина узнала: в ту ночь Петренко пришел к ним и попросил разрешить ему остаться до рассвета. Он ничего не объяснял. Мама не расспрашивала. Накормив его ужином, она осторожно разбудила бабушку.
— Нам нет дела до его убеждений, но раз он пришел к нам — значит, у него положение безвыходное, — сказала бабушка.
Петренко ушел от Камышиных под утро.
…Дни становились тревожнее. Это чувствовали и дети, их постоянно выпроваживали в детскую: «Нам надо поговорить». Все было непонятным: куда делись сладости и масло? А главное — почему Колю взяли на войну, а он никуда не уехал? Он только сменил студенческую тужурку на военную форму. Почему бабушка, как только Коля уходит, запирается в своей комнате?
Пили чай в столовой. Бабушка у самовара, в черных, под густыми бровями глазах — тревога, но, как и всегда, в ее жестах нет суетливости, голос звучит ровно, спокойно. На другом конце стола зябко кутается в пуховую шаль мама. Все на своих местах — сестры по одну сторону стола, Лида рядом с мамой по другую. Только Колин стул около бабушки пуст. Почему взрослые молчат? Как им не надоест молчать? Нине надоело, и она спросила:
— Лида, а революция против царя?
— И против буржуев. — У Лиды на щеках появились ямочки, у нее всегда ямочки, когда она улыбается.
Чистым звонким голосом Натка сказала:
— Все буржуи сволочи, — ее плутоватое лицо сияло.
Катя и Нина испуганно посмотрели на бабушку.
Неожиданно дзинькнуло стекло, что-то чиркнуло над их головами и впилось в дверь.
— Пуля! — крикнула Лида.
Первой пришла в себя бабушка. Обычным тоном она приказала:
— Дети, в коридор!
Мама, как была в домашних парчовых туфлях, выбежала во двор. По ногам шибануло холодом. Раздался стук, мама закрывала ставни. Бабушка, опрокидывая стулья, переходила от окна к окну, закрепляя болты. Мама вернулась, потирая озябшие пальцы. Долго сидели, не зажигая огня, прислушиваясь. Кто-то тяжело протопал сапогами по тротуару. Раздался выстрел. Бабушка хотела бежать в сени, но у нее подкосились ноги, и она грузно опустилась на сундук в коридоре.
Завесили окна одеялами и уложили детей спать. Натка, обняв своего любимого безухого зайца, скоро уснула. Нина никак не могла согреться. Почему, когда чего-нибудь боишься, всегда холодно?
— Где Коля? — спросила она.
— На батарее, — сказала Катя.
Натужно заскрипела ставня. Может, ветер? А вдруг кто-то хочет открыть?!
— Катя, мне страшно!
— Пойдем. Не разбуди Натку.
Сунув босые ноги в пимы и прихватив одеяло, осторожно пробрались в коридор. Дверь в кухню закрыта не очень плотно. Бабушка, если их увидит, тотчас прогонит. Укрывшись одеялом, сестры уселись на пол за сундуком.
Сквозь сон услышали голос Коли:
— Утром город займут красные. Приказ отступать. Через два часа выезжаем. Я пришел проститься.
— О господи! Тебе нельзя бежать. — Нина не узнала бабушкиного голоса.
— Но здесь могут убить… — сказала мама.
— Катя, какие красные? Совсем красные? Или у них только лицо красное? И куда Коле нельзя бежать?
— Это все вранье! — громко сказала Лида. — Они никого не убивают, когда к ним добровольно переходят!
Мама тихо назвала какую-то фамилию.
— Но он же мерзавец был! — крикнула Лида.
— Если все красные, — сказала мама, — такие, как наш Петренко, то я не боюсь.
— Катя, Катя, — зашептала Нина, — значит, он красный? Да? Это хорошо? Ну, говори: хорошо?
Бабушка, а за ней Коля прошли в свою комнату, дверь за собой они не закрыли.
Сестры притаились. Надо бы встать, уйти. Но что-то удерживало их.
Чиркнула спичка. Бабушка зажгла лампаду, с подсвеченной снизу иконы смотрел безжизненный лик.
Бабушка опустилась на колени. Она долго молилась. Коля стоял, понурив голову. Он даже не крестился, просто стоял.
Наконец бабушка поднялась, повернулась к Коле. Лицо ее сливалось с белой кофточкой, это даже в свете лампады было заметно.
— Останься.
Коля тоскливо произнес:
— А воинский долг…
— На свете один долг — перед Россией! — воскликнула бабушка и уже тише сердито произнесла: — Не верю я этому верховному правителю! Все они рыцари на час!.. Боже мой! Они ведут Россию к гибели… они же готовы торговать Россией… Это не офицерские полки, а банды! Дикие орды. Они жгут деревни, расстреливают, вешают… Пойми… ни в чем не повинных людей…
Коля что-то тихо ответил.
— Ты ничего плохого им не сделал. Ни одного выстрела. Тебя солдаты любят…
И опять Коля тихо что-то сказал.
Бабушка внезапно упала на колени и, обняв ноги Коли, прижалась к ним головой. Сестры услышали чужой, незнакомый голос:
— Видишь… я прошу…
Безотчетно повинуясь непонятному ощущению душевной неловкости, сестры встали и тихо побрели в детскую.
Коля ушел из дому на другой день к вечеру к себе на батарею, как сказала Лида. Бабушка лежала в постели и задыхалась. Тогда-то и схватила ее впервые астма.
Мама с красными от слез глазами отпаивала бабушку лекарствами.
Никому ничего не сказав, Лида куда-то ушла. Она вернулась вечером.
— Красные в городе, — сказала Лида, разматывая шаль.
— Тише! — Мама глазами показала на дверь в бабушкину комнату. Но было уже поздно: в ночной рубашке и сбившемся набок чепчике бабушка стояла в дверях. Она шепотом спросила:
— Коля?..
Мама кинулась к бабушке. Лида торопливо стала рассказывать: все страхи кончились. Она была на батарее. Ну, конечно, видела Колю. Вся батарея перешла на сторону красных.
…Коля пришел домой через трое суток.
Целуя Нину, он сказал:
— А я, Нинок, видел твоего Петренко. Знаешь, кто он? Большевик он, вот кто!
— Ты его видел? Он теперь придет к нам?
— Вероятно, не придет, — сказал Коля, — ему не до нас.
«Это неправда, он придет. Раз он не на войне — придет», — решила Нина. Но Коля был прав — Петренко не приходил. Она больше ничего о нем не слышала и не видела его до того дня, когда он подошел к ним у тюремной стены.
Еще несколько лет назад тот край Новоселовской улицы, на котором жили Камышины, упирался в лес. Сразу за домами стояли березы. Сюда по землянику и за грибами слетались горластые и драчливые, как воробьи, оравы мальчишек; сюда бабы и старики приходили ломать березовые веники, тайком пробирались на свидания, здесь до войны устраивали гулянья. Через этот лесок на берег речушки съезжались на пикники купчики, мещане, мастеровые. Жгли костры, водили хороводы, варили уху. Томно надрывалась гитара, пели разомлевшими голосами: «ах, зачем эта ночь так была хороша, не болела бы грудь, не томилась душа…», спутница простого люда — забубенная гармонь, лихо выговаривала: «Вы не вейтеся, черные кудри…» и неизменную — Камаринскую. На другом берегу реки стеной стоял темный бор — потомок вековой тайги. Там, в бору, гуляли татары. Доносились гортанные крики, лошадиное ржанье. Нередко подвыпившие купчики натравливали жиганов из Нахаловки на татар. Татары бойко вели в городе торговлю и раздражали купчиков. Жиганы стягивали короткие сапоги гармошкой, закатывали выше колен широченные шаровары и шли к броду. Еще с берега, зажав в кулаках финки, они орали: «Эй, татарва, покажи свиное ухо!». Начинались жестокие драки, заканчивающиеся поножовщиной.
В гражданскую березы порубили. (Каким-то чудом уцелела роща, что примыкала к дому, в котором жили Камышины.) Земля, поросшая прежде разнотравьем и усыпанная рясной земляникой, ощерилась черными провалами окопов.
Вместе с беженцами в далекий сытый край, где прежде на рыбных базарах кетовую, зернистую и паюсную икру продавали бочонками, добрался голод. Горожане корчевали пни, распахивали землю под огороды и картофельные поля.
…Сюда-то и привела Катю и Нину соседка Камышиных — Степанидиха. Накануне Степанидиха сказала бабушке: «Известно, как ранешние-то господа картошку копают. Че они белыми ручками делать умеют. Дополна наоставляли. Наберут девчонки на похлебку, и то ладно». Бабушка сестер отпустила, но наказывала не отставать от Степанидихи. Как же от нее не отстанешь! Пока она рассказывала сестрам, «сколько в ранешнее время здесь миру гуляло», за ней еще можно было поспевать.
Громогласная Степанидиха с оравой рыжих веснушчатых ребятишек и молчаливым мужем Кузьмичом поселилась в их дворе недавно. Простоволосая, с подоткнутым подолом, она вечно носилась по двору. Завидев бабушку в окне, она кричала: «Ну как, Петровна, на здоровье не обижаисся?» И удивительное дело — бабушка, которую все во дворе считали гордячкой, ходила к Степанидихе и лечила ее ребятишек.
Больше всех в семье Степанидихи сестер интересовала Гранька. Остроглазая, остроносая, с косичками-хвостиками, она была совсем не похожа на тех чистеньких и скучных пай-девочек, которых к сестрам приводили когда-то на елку.
Гранька являлась к Камышиным под окна и таким же пронзительным, как у матери, только потоньше, голоском кричала:
— А ну, девчонки, айдате на улку!
Сестры открывали окно и влезали на подоконник. Гранька усаживалась на край тротуара под окнами и принималась дразниться.
— Ага, сидите, как кутята! Баушка-то не пущает! Бааабуууськааа, — шепелявя, тянула Гранька, — пустиии меня лади хлиста погулять… А я че знаю, мамка говорит — один человек помер, капусты объелся, его стали потрошить, а у него сердце капустными листьями обложено. Как, значит, капуста к сердцу подошла, так и задавила его. Вот побожусь!
Однажды Гранька изменила репертуар. Бросив камешек в ставню, она молча ждала, когда сестры займут свои позиции. Не говоря ни слова, Гранька принялась корчить рожи, она выворачивала губы, таращила глаза, высовывала язык.
Неожиданно нашлась Натка — она в точности принялась повторять Гранькины рожи. Гранька распалялась: «А вот так не умеешь». Но Натка проявила недюжинные способности — у нее получалось еще забавнее.
И вдруг за спиной голос бабушки:
— Это что еще за фокусы!
Граньку как ветром сдуло.
…И сейчас, идя по тропинке, обегавшей окопы, заросшие бурьяном, Нина думала о том, что было бы гораздо веселее, если бы Степанидиха прихватила Граньку. Степанидиха, похожая в шинели на красноармейца, оставила их далеко позади.
Дошли до огородов. День выдался солнечный, но с осенней прохладцей. Ветер гулял по полям, ворошил измочаленную картофельную ботву, гнал перекати-поле.
— Вместе ходить будем — ничего не наберем, — сказала Степанидиха. — Ступайте по ту руку, а я сюда.
Сестры, оглядываясь на Степанидиху, побрели по полю. Но где же тут картошка?
— Смотри, — Катя кивнула в сторону Степанидихи, — она разрывает лунки, давай и мы.
Они принялись руками разрывать землю. От холода немели пальцы. После долгих усилий нашли пять картофелин.
— На похлебку хватит, — сказала Катя.
— Жаль, что Гранька с нами не пошла. Правда, она смешная?
— Она вруша и сплетница, — жестко сказала Катя.
Нина чувствовала, что, всегда такая спокойная, сестра чем-то расстроена. Но чем? Почему она ополчилась на Граньку? Ведь сама же над ней смеялась.
— Катя, ты что-то знаешь. Да? Я угадала?
Катя села на борт канавки, разделившей два поля, Нина — напротив.
— Ты никому не скажешь? Поклянись!
— Клянусь! — Нину испугали мрачный тон сестры и требование клятвы. — Вот ей-богу! — торжественно произнесла она и для большей убедительности перекрестилась.
— Знаешь, что мне Гранька сказала, — неожиданно Катин голос дрогнул, — помни, ты поклялась. Она сказала… В общем… папа хотел нас бросить.
— Как бросить? — Нина ничего не понимала. — Папу убили.
У Кати лицо хмурое и несчастное. Нина не выносила, когда у кого-нибудь лицо бывало несчастным.
— Помнишь, солдат к нам приезжал? — спросила Катя. — Еще письмо привозил, помнишь? Степанидиха у нас белье стирала. Она подслушала, как мама читала Лиде это письмо.
— Ну и что? Не понимаю я…
— Ах, господи, как же ты не понимаешь… Помни, ты поклялась… Отец написал мамочке, что если она не приедет, то он… он… — Катя кулаком вытерла покрасневшие глаза, — тогда он женится… У него будет другая жена и другие дети… Ну, теперь-то ты хоть понимаешь?!
— Так не бывает, — растерянно произнесла Нина.
— Бывает. — Из Катиных глаз по смуглым щекам покатились крупные слезы.
Нине стало жаль сестру, но она не могла понять Катиного горя, она ожидала чего-то другого, страшного. Тайна — а это была, конечно, тайна, раз с нее взяли клятву, — скорее удивила, чем огорчила ее.
— Катя, Катечка, не плачь. Чего ты плачешь?! Он же мертвый. Теперь же все равно. И Гранька врет. Давай спросим у Коли.
— Коля не скажет правду. Скажет: вы еще маленькие, я знаю. Давай лучше у бабушки спросим.
— У бабушки?! — Нина не представляла, как можно у бабушки об этом спросить.
«Интересно, — думала она, — сколько верст может прокатиться вот так перекати-поле? Наверное, пока за какой-нибудь куст не зацепится. Я все-таки черствая. Мне его не жаль. Неужели я родного отца не люблю?! Катя любит, раз так переживает». Но тут все мысли полетели кувырком. Может, это только показалось? Нет, не показалось. Репа! Большая репа! Сладкая репа! Репу можно съесть. И, захлебываясь от восторга, она закричала:
— Смотри, смотри — репа!
Они вымыли репу, бабушка дала им с собой бутылку с водой. Откусывали по очереди.
— Как яблоки, — сказала Катя.
— Еще вкуснее, — отозвалась Нина, она забыла вкус яблок.
Уходя с поля, Нина оглянулась. Там, далеко-далеко, у края неба — лес. Издали лес кажется синим, только кое-где желтые и красные пятна. Это на осинках и рябинах еще уцелели листья. Там, где кончалось поле, тоже росла осина, на ее оголенных ветвях беспомощно трепыхалось несколько листочков. Подует ветер и их, наверное, оборвет.
До самого дома, шагая за Катей по тропинке, огибавшей окопы, заросшие ржавой травой, Нина раздумывала об осинке. Вот всегда так с ней — зацепится за что-нибудь и думает, думает…
Дома, еще в коридоре, сестры заметили, что в столовой сидит кто-то чужой. Нина увидела ноги в сапогах, екнуло сердце — Петренко! Со дня встречи у тюремной стены прошло пять дней. Тогда, прижимая Нину к себе, он расспрашивал Катю. О чем-то говорил старичок в пенсне. Петренко приказал взять у них передачу и ушел.
Каждое утро Нина просыпалась с надеждой — он придет. Но он не приходил. А сейчас…
— Бабушка, кто там? — спросила Нина и испугалась: «Я, кажется, зареву».
Из столовой вышел высокий человек с очень бледным лицом, обросшим кудрявой бородкой. Он смотрел на нее и улыбался.
— Это же Вена, — шепнула Катя.
— А-а-а… — протянула Нина и побежала в детскую. Кинулась на кровать, засунув голову под подушку.
Пришла Катя, села рядом, заговорила. Вену освободили, Коля сказал, что Петренко молодчина, он сразу понял, что Вена не виноват. А Вена сказал: «Это меня девочки спасли». Но бабушка сказала, что Петренко, безусловно, благородный человек. А потом бабушка еще сказала: «Век живи — век учись понимать людей».
За ужином все хвалили похлебку и Катю с Ниной. Сестры чувствовали себя именинницами. Им разрешили посидеть со взрослыми после ужина. Улучив момент, когда Коля пошел в кухню курить, Нина отправилась за ним. Помявшись, спросила, как он думает, придет ли теперь к ним Петренко?
— Вряд ли, — пуская дым в печную дверцу, сказал Коля, — работы у него много.
— А как называется его служба?
— Называется Чека.
Пришла бабушка. «Пора спать». Спать не хотелось, но раз бабушка сказала — тут уж проси не проси. Взрослые закрыли дверь в детскую и негромко разговаривали. Дождик тонкими карандашиками постукивал в ставни.
Натка сонным голосом спросила:
— Нина, а Вена взаправду твой жених или понарошку?
— Тебе рано еще о женихах разговаривать, и вообще у тебя одни глупости на уме, — строго сказала Катя.
— Я же не от себя выдумала. Вена же сам сказал — выросла же невеста!
Под шум дождя всегда спать хочется, но сегодня… У Нины оттого, что долго была на ветру, горело лицо, она прижималась горячей щекой к подушке. Сон отгоняли разные мысли. «Жених — слово не то чтобы стыдное, но все-таки… Неужели, когда я вырасту, у меня будет жених? А может, и не будет — я такая страшная… У страшных женихов не бывает. Катя бы узнала, про что я думаю, сказала бы — глупости. Вот Катя наверняка про все правильно думает, а мне одни глупости в голову лезут».
Хлопнула входная дверь. Катя сказала:
— Это Вена пошел домой, а Коля пошел его провожать. Я слышала, как они договаривались. Ниночка, прошу тебя, я очень тебя прошу: спроси у бабушки про отца, — Катин голос задрожал.
Нина молчала. Не хочется спрашивать. «Спрашивала бы сама», — с упреком подумала Нина. Но она понимала — Катя не может. Катя старше ее, Нины, Катя умнее, добрее, правильнее. А вот не может.
— Ну иди, иди, — торопила Катя.
«Сама иди, — про себя огрызнулась Нина. — Может, не ходить? Я спрошу, спрошу…» Стараясь оттянуть время, долго натягивала чулки, платье. Катя ждала. В глубине души Нина надеялась: бабушка уже спит. Не будить же…
Но бабушка не спала. Дверь из ее комнаты в коридор открыта. Перед иконой еле-еле теплится лампада, бабушка, в белом чепчике и темном капоте, стоит на коленях и молится.
Нина обрадовалась — нельзя тревожить человека, когда он молится: она уже хотела вернуться, но бабушка оглянулась и, не поднимаясь с колен, спросила:
— Ты чего?
— Пить, — пробормотала Нина.
В кухне она осторожно нащупала на столе самовар. Противно пить тепловатую воду, но, чтобы наказать себя за трусость, выпила два стакана. Ее замутило. Когда ей бывало стыдно, всегда казалось, что вот-вот стошнит. Захотелось все разом кончить, и, уже ни о чем не раздумывая, чуть ли не бегом бросилась в бабушкину комнату.
— Ты чего? — испуганно спросила бабушка. Опираясь одной рукой о край стола, она поднялась с колен.
Нина скороговоркой выпалила:
— Бабушка, скажи, правда, что наш папа… наш отец хотел нас бросить, если мы, то есть мамочка, к нему не приедем, что тогда у него будет другая жена и другие дети…
— Кто это тебе сказал? — голос бабушки дрогнул.
— Доносчику первый кнут, — в смятении пролепетала Нина бабушкины же слова.
Бабушка привлекла Нину к себе, и она услышала слабый запах уксуса.
— Хорошо, можешь не говорить. Отец твой погиб, — бабушка говорила медленно, словно извлекая слова из какой-то глубины. — А про мертвых плохо не говорят. Ты это запомни. Иди с богом. Христос с тобой! — Бабушка перекрестила Нину, поцеловала и легонько подтолкнула к двери.
Катя слушала молча, а потом с непонятным ожесточением проговорила:
— Значит, правда, что он хотел нас бросить.
— Не выдумывай! Бабушка же сказала, что про мертвых нельзя плохо говорить.
— Да ты пойми: нельзя потому, что мертвый, а если бы был живой… — Катя всхлипнула. — Я не буду за него молиться!
Нина готова была и сама зареветь — так жаль Катю. А как же теперь быть с отцом? Ну и пусть бы бросил. Есть мамочка, бабушка, Коля…
Она лежала, поджав колени к подбородку, так скорее согреешься. Почему взрослые не говорят детям правды? Они считают: раз маленькие — значит, не понимают. Учат говорить правду, а сами ее не говорят. Бабушка всегда все скрывает, как только начнется о правде разговор — сразу же из комнаты выставляет. Маме вообще некогда разговаривать. Один Коля, что спросишь, ответит. И тут же она подумала про Граньку — смешная она все-таки. Интересно, а почему, если на зеленый бор издалека смотреть, он будто синий? Ставни скрипят… А Катя все плачет. Интересно, а хорошие отцы бывают?
Из-за хороших, наверное, не плачут…
Мама сказала:
— С понедельника Катюша пойдет в школу.
Сестры, пораженные новостью, молчали. Сколько раз они просили отдать их в школу, но бабушка считала, что домашних занятий вполне достаточно.
— А я? — растерянно спросила Нина.
— Ты пока не пойдешь. Ты еще слабенькая. У тебя было осложнение после ангины. И одеть вас двоих в школу я не могу. Катя старше на полтора года. Ей уже тринадцатый. Она и так из-за дифтерита отстала, а с тобой, как всегда, будет заниматься бабушка.
Мамины слова доходили до Нины словно через подушку. Катя счастливая! Катя пойдет в школу! Нина молча повернулась и вышла из столовой. В детской у окна стоял гардероб. Если влезть на подоконник и опереться спиной о гардероб, то так можно долго простоять, и никто не помешает, можно сколько угодно реветь — никто не увидит. Нина ревела весь день и довела до слез маму.
— Пойми, тебе надо окрепнуть, — утешала Нину мама. — Скоро выпадет снег, а у тебя нет пимов. Бабушка тебя за зиму подготовит, и ты сразу пойдешь в четвертый класс.
Ждать целый год! Если бы к ним пришел Петренко… Пожаловаться бы ему. Он же все может. Он даже Вену освободил, и его все должны слушаться. Но не придет он.
Катя пришла из школы странно притихшая. На вопросы отвечала односложно и как-то скучно. Да, вместе учатся девочки и мальчики. Учительницу слушаются, а на переменах мальчишки плохо себя ведут. Учительница? Ничего, строгая.
Нина была разочарована. Ей казалось, что Катя должна захлебываться от восторга. Вечером, когда они остались вдвоем, Катя таинственно сообщила: закон божий в школе не учат.
— Вот замечательно! — вырвалось у Нины. Для нее закон божий был обязательным уроком каждый день. Скука ужасная, и почему-то все прочитанное сразу вылетало из головы.
— А я буду учить, бабушка будет со мной заниматься. — Глаза Кати, как всегда, когда она волновалась, стали очень черными.
Нина поняла: нельзя с ней об этом говорить, она робела перед набожностью старшей сестры.
…Нине было четыре года, когда Лида, проводившая каникулы у Камышиных, научила старших сестер читать. Часто болея, Нина рано пристрастилась к книгам. Читала что попадется под руку, проливая слезы над Клавдией Лукашевич и Чарской. Коля как-то сказал: «Ну уж Диккенса тебе не одолеть». Порой страницы толстенной книги превращались в добровольное наказание. Зато с гордостью сообщала Коле: «А я одолела! „Давид Копперфильд“ прочитала. Вот!»
Но все книжное становится «как будто видишь», если вслух читает бабушка… Дети сидят у длинного обеденного стола. Катя занята починкой своего бельишка; Натка слушает, приоткрыв рот; Нина, подперев голову руками, смотрит на заледенелое окно. Постепенно все начинает исчезать: светлый круг на столе от лампы, огромные тени от филодендрона на потолке, заледенелые окна, и даже сестры, и даже сама бабушка… Остается лишь живой голос бабушки. Он неторопливый, немного однообразный. Но вот он неожиданно поднимается на ноту выше… и обрывается. Секунду молчит голос, давая детям подумать, и опять ведет, ведет за собой. Нина не только слышит, но и видит, как «ветки седые стоят в стороне», «а по бокам-то все косточки русские»… Даже мурашки по коже…
Новая жизнь началась с большущего сундука, что стоял в кладовке под лестницей. Нина заглянула в него из любопытства. Сундук был набит книгами, их вынесли в кладовку, когда бабушка с Колей переехали. Вытащила первую попавшуюся: темный переплет, покрытый плесенью. Соскоблив ножницами плесень, прочитала: «М. Ю. Лермонтов». Бабушка, увидев ее с книгой в темном переплете, сказала: «Рано бы тебе», но книгу не отобрала.
Свершилось необычайное — Нина перестала быть девочкой, неловкой, в длинном нелепом платье, перешитом из верблюжьего одеяла. Она превращалась в черноокую черкешенку Бэлу или в красавицу княжну Мэри, а то в Нину Арбенину — «О, сжалься! Пламень разлился в моей груди, я умираю».
Нина сидела в углу дивана, подобрав под себя ноги, и, прижимая к груди книгу в темном переплете, беззвучно что-то шептала. Нина представляла — все происходит с ней, как у Лермонтова. Один раз, к собственному удивлению, она была Печориным и скакала по горной дороге в погоне за Верой, а потом, упав на камни, безутешно рыдала.
Стихи стала читать из-за интересной картинки — черноволосый юноша карабкался по скале, внизу бурлил горный поток. Лицо у юноши красивое, но какое несчастное! «Немного лет тому назад…» Ее поразило звучание необычайных слов… «струи Арагвы и Куры», «и солнце сквозь хрусталь волны сияло сладостней луны…» И она повторяла: «…сквозь хрусталь волны…». И еще раз, и еще… Мцыри! Бедный Мцыри! Тебе ужас как было плохо! Иконы, кельи, монахи и «кадильниц благовонный дым». Ей показалось — в ее жизни и жизни Мцыри есть что-то схожее. Ее вот тоже никуда не пускают, как в заточении.
Нина залезла на окно за гардеробом. Увидела низкое небо в сумрачных облаках, как будто на небе громоздились скалы, увидела голую черемуху у забора. Нина все повторяла и повторяла еле слышно: «Я знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть…».
«Жизнь, полная тревог», была, конечно, там, в школе. Вот возьмет и убежит, как Мцыри. Куда убежишь — ночью выпал снег, у нее нет пимов. Написать бы Петренко, он бы обязательно достал ей пимы, но вот беда — адреса Петренко она не знает…
Зима нагрянула с метелями, с сильными снегопадами, с трескучими морозами; трещали углы домов, скрипел снег, повизгивал под полозьями саней. Воробьи на лету замерзали и падали на ухабистые дороги. В морозные дни город погружался в сизо-голубой туман. Белые стены собора, величественно возвышавшегося на площади, рядом с городским садом, в такие дни как бы растворялись в тумане. Только висел в сизо-голубом воздухе золотой крест.
Холодно и сумрачно в квартире Камышиных. Окна покрыты толстым слоем льда и серебристым инеем. Сестры с нетерпением ждали вечера. Вечером бабушка затопит печку, нажарит к ужину котлет. Только подумать — котлеты! Днем пришел татарин, предложил купить конину.
Тетя Дунечка, теперь она всегда старалась как бы случайно попасть к обеду, тряхнув головой, отчего поблекшие розочки на ее шляпке судорожно закивали, воскликнула:
— Лучше умереть с голоду! Есть эту погань! Нет, лучше голодать!
Татарин обиделся:
— Свинья поганый, конь чистый.
— Да, да, лошадь чистое животное, — сказала бабушка, — она не станет пить из грязного ведра.
Ужинали, как в былые времена, не в кухне, а в столовой. Нина старалась отламывать по маленькому кусочку, но две котлеты исчезли моментально, — вкусная еда ужасно быстро съедается. За чаем, придвинув к себе лампу, бабушка вслух читала газету.
— Волна беженцев не стихает… расселение беженцев… Нет, вы только послушайте: по декабрь в нашу губернию прибыло с Поволжья семнадцать тысяч беженцев.
— К моей хозяйке, — сказала Лида, — вчера с Поволжья приехала сестра с ребенком. У нее умерли от голода муж и двое детей. На женщину и ребенка смотреть страшно — живые мощи. Хозяйка злится, самим есть нечего.
Мама страдальчески поморщилась:
— Не стоит при детях про такие вещи рассказывать.
— А по-моему, стоит, — упрямо возразила Лида, — достаточно, что нас под стеклянным колпаком воспитывали.
— Ну, сейчас не время обсуждать методы воспитания, — сердито сказала бабушка. — Да, вот интересная заметка… «Курсанты Энской пехотной школы постановили взять на свое иждивение 15 человек детей из голодных губерний. Молодцы курсанты! Кто за ними?» — Бабушка помолчала, а потом подобревшим голосом, произнесла: — У русских солдат всегда была святая душа.
— Но это же красноармейцы! — ехидно заметила Лида.
Бабушка хмуро глянула поверх очков.
— Солдаты всегда остаются солдатами.
— Но они же красные, — не унималась Лида.
Мама поспешно спросила, что идет в театре.
Бабушка не ответила. Хмуря густые и все еще черные брови, она сказала:
— Сколько бедствий принесла революция! Голод. Беженцы. Эпидемии. Дожили… только подумать: за конину платим серебром…
— Голодали и до революции! — рассердилась Лида. — И раньше были эпидемии, а в придачу к спекулянтам были и ростовщики и всяких мастей буржуи. Только до революции нас это не касалось. Вот мы и не замечали. Все эти бедствия неизбежны после двух войн…
— Уволь, пожалуйста, — оборвала Лиду бабушка, — я уже стара, чтобы мне мораль читать! — Бабушка ушла в свою комнату.
— Зачем ты так? — с упреком сказал Коля. — Вечно ты маму дразнишь. — Он ушел за бабушкой.
— Умный она человек, а не понимает, — оправдывалась Лида.
— Это ты не понимаешь… Дети, идите в свою комнату, — распорядилась мама.
Вот опять, как что особенное, так — «идите к себе».
— Лида воображает, будто умнее бабушки. Вон что красные наделали, — сказала Катя в детской. — Уж ты, Нина, должна понимать: тиф, беженцы, голод…
— Ты сильно понимаешь, думаешь — учишься в школе, так все и понимаешь, — в спорах Натка всегда принимала Нинину сторону.
— В школе… — лицо Кати стало грустно-озабоченным, — в школе… нам учительница говорила, что помещики издевались над крестьянами, продавали их…
— Живых? — с интересом спросила Натка.
— Ах, боже мой, ну конечно же!
— Ты не махай рукой! — закричала Натка. — Это ты сама все напутала, Нина мне читала — продавали только мертвые души, а людей этих звали Чичики.
Катя даже не улыбнулась.
— А еще учительница говорила, что белые у красных на коже, на спине и на груди вырезали звезды, расстреливали за то, что они за бедных воевали.
— Значит, за нас, — убежденно сказала Натка.
Старшие сестры переглянулись.
— Мы раньше не были бедными, — Нина вспомнила Петренко; когда говорили про «раньше», она неизменно его вспоминала. — Петренко наш красный, Вену в тюрьму посадили несправедливо, а он выпустил. Значит, бабушка не за справедливость?
— Не смей так говорить про бабушку! — закричала Катя.
— Ну, а вы о чем спорите? — спросила Лида, заглянув в детскую.
Она вошла, присела к столу и принялась что-то рисовать на листке бумаги. Рисует Лида замечательно. Бабушка говорит, что у нее дар божий, только она к нему несерьезно относится. Лида сейчас какая-то рассеянная, даже не заметила, что сестры не отозвались. Мама говорила, что ей трудно живется. Нелегко искать уроки музыки, сколько и без нее безработных учителей. А еще Лида взяла да и отказалась от выгодного урока. Поссорилась с родителями своих учениц из-за убеждений — так непонятно Лида пояснила маме свой отказ.
Коле тоже почему-то не везло с уроками. Готовил по физике какого-то балбеса, а балбес провалил экзамен и не заплатил. Занимался с двумя студентками, а потом узнал, что они сами нуждаются, и ничего с них не взял. Лида сказала, что это донкихотство, а Коля тогда засмеялся и сказал: «Сама не лучше». Лиде сейчас, наверное, неприятно, что она бабушку рассердила. Вот ей, Нине, всегда неприятно, когда она кого-нибудь рассердит.
— Ты что рисуешь? — спросила Нина, подойдя к столу.
— Видишь? Дорогу.
— А куда эта дорога?
Вместо ответа Лида пририсовала в конце дороги улыбающееся солнце.
— Идем, провожу тебя, — предложил Коля, появляясь в детской, — мне как раз по пути, — и, протянув Лиде сверток, добавил: — Вот мама посылает сестре твоей хозяйки, беженке, немного конины.
Когда они ушли, Катя, торжествуя, сказала:
— А что я говорила?! Бабушка добрая! Будешь еще спорить?!
— Я и не спорю, — Нина пожала плечами, — только почему бабушка так про революцию?
— Что про революцию? Молчишь. Не знаешь, что сказать, — рассердилась Катя.
Внезапно тяжело заболел Вена. Он снимал где-то далеко комнату. Никого у него не было. Коля на время Вениной болезни переселился к нему. Бабушка носила им еду.
Мама приходила со службы поздно. Она часто жаловалась:
— Когда же все установится? Курс рубля падает, меняется чуть ли не каждый день, приходится все заново пересчитывать.
Нина ненавидела этот курс, он заставлял маму щелкать счетами всю ночь. Наверное, из-за этого несчастного курса мама совсем перестала петь.
Теперь возить воду стало обязанностью сестер. Водоразборная будка не работала — ездить надо было на ключик за два квартала. Пустую, обледенелую бочку тащить еще ничего, правда, когда с горы — она ударяла по ногам, а вот с водой, да еще в гору — у сестер слезы намерзали на ресницах.
У проруби — огромная очередь. Откуда-то вынырнула Гранька. Вытерев нос рукавицей, она сообщила:
— А я вашего дядьку с барышненкой видела.
— Какого дядьку? — не поняв, спросила Нина.
— Че, не знаешь? Ну, дядю Колю.
— Врешь, — строго сказала Катя, — он ухаживает за больным товарищем и вообще ни с какими барышненками не ходит.
— Чтобы я врать? Вот побожусь. — Гранька перекрестилась. — Идет вот эдак, — она подбоченилась и, с трудом переставляя ноги в огромных пимах, покачиваясь, прошлась перед сестрами. — Я ему «здравствуй» сказала, а он: «Здравствуй, курица».
Сестры переглянулись — он!
— А какая она из себя?
— Ужасти какая красивенькая! — Гранька даже зажмурилась от восторга. — Глаза как у кошки, так и зыркает, так и зыркает. Коса до задницы.
Гранькин поток красноречия оборвал сердитый окрик Степанидихи:
— Гранька, куды тебя холера унесла!
Гранька бросилась со всех ног, из рваного пима по снегу волочилась портянка.
Сзади кто-то басом сказал:
— А ну, сороки, подвигайте свой кабриолет.
Воду доставать из проруби не так-то просто: Катя спустилась к проруби, а Нина стояла вверху и принимала ведерко от Кати. Стараясь не расплескивать, выливала воду в кадку.
— Они бы еще наперсток взяли, — проговорил кто-то насмешливо.
Мальчишеский ломающийся голос произнес:
— Они же маленькие, им же тяжело.
Нине очень хотелось посмотреть: кто же это сказал, но она боялась разреветься, закусив губу, таскала воду. И все же она поскользнулась, ведерко с грохотом покатилось, вода выплеснулась под ноги. Тот же недовольный голос проворчал:
— Теперь изволь из-за этих девчонок ходить с мокрыми ногами.
Нина, глотая слезы, поспешно вскочила. Примерзшие сани долго не могли сдвинуть с места.
Катя промочила ноги, к вечеру у нее заболело горло.
Мама сказала:
— Придется мне Нину взять завтра с собой на толкучку, Катюше надо посидеть дома.
Нина обрадовалась: она поможет маме везти вещи, которые они сменяют на продукты, и будет приглядывать, как бы чего не утащили.
Бабушка разбудила Нину, как ей показалось, еще ночью.
— Вставай, Ниночка, пока до барахолки доберетесь — рассветет.
Были вещи красивые и нужные, а затолкали эти вещи в мешок, чтобы везти на барахолку, и они сразу стали барахлом.
Утро серое, пасмурное. Падал легкий снежок. Покрытые серебристо-игольчатым инеем деревья стояли неподвижные, будто промерзли до корней. На столбах заборов лежали пухлые снежные шары. Голубели сугробы, голубели заледенелые окна в домах, что-то голубое, чуть приметное, повисло в проемах между домами и клубилось в дали улицы.
Барахолку было слышно издалека.
«Вот почему барахолку еще и толкучкой называют, потому что здесь все толкутся», — подумала Нина, пробираясь следом за мамой. Спины, спины и ноги. Спины в полушубках, в шинелях, в овчинных поддевках, в бархатных и беличьих шубках. Наконец мама выбрала свободное местечко, постелила на сани коврик.
— Залезай сюда, — сказала она, — притопывай почаще, чтобы ноги не замерзли. — Мама повесила Нине на одну руку кружевную накидку, на другую — черную ажурную кофточку, у ног поставила чугунную собаку. — Пусть тебя караулит, — пошутила мама.
Нина скорее угадала, чем поняла, — маме не до шуток, мама чем-то озабочена и даже испугана, и вдруг Нина почувствовала, что у нее дрожат колени. Она боязливо огляделась. Рядом с ними стоял красноармеец в буденовке и шинели, он тяжело опирался на костыли. Красноармеец продавал зажигалки. Около них юлила старушка в плюшевом салопчике и с облезлой муфточкой на шнурке. Дребезжащим голоском, будто ложечкой стучали о стакан, старушка выкрикивала:
— Открытки с видиками! Покупайте открытки!
Пахло жареным мясом. Нина оглянулась: неподалеку на железной печке (такие печки почему-то назывались «буржуйками») огромная бабища жарила пироги. Нина облизнула губы. Бабища неожиданно тонким и для ее туши пронзительным голосом закричала:
— Пироги с лучком, перцем и с собачьим сердцем!
— Не знаете, почем пирожки? — спросила мама красноармейца.
— За пару двадцать тыщ просит спекулянтка, язви ее в душу! — Голос у красноармейца простуженный.
В глазах рябило от беспрерывного мелькания пестрых фигур, от назойливых выкриков звенело в ушах. Одна мама молча прижимала к себе свое любимое серое платье и пышный бобровый воротник. Наверное, у них поэтому никто ничего и не покупал, даже не спрашивал. Наверное, надо зазывать покупателей. Нина хотела сказать об этом маме, но рядом кто-то хрипло прокричал:
— Берите галоши, господа хорошие!
Перед ними остановился высокий человек в черной шубе, он был какой-то ненастоящий — борода и усы, а голова повязана платком, поверх платка — дамская меховая шапочка, на руках напялены галоши. «Ненастоящий», глядя на маму, хлопнул галошиной о галошу и воскликнул:
— Явление мадонны народу! Зрите, верующие! Венера Милосская!
Нина взглянула на маму. У мамы дрогнули брови. Высокая, в черной бархатной шубке, она стояла, держась, как всегда, очень прямо и смотрела куда-то поверх толпы.
Тетка с длинным красным носом и близко посаженными злыми глазками закричала:
— Ишь, уставился! Не видал, черт бородатый, буржуйских дамочек! Пришла небось торговать, знаю я ее, денщиков имела, на извозчиках каталась! Что, и тебя приперло?! Хватит, попили нашей кровушки!
У мамы дрожал подбородок, но она стояла все так же прямо, глядя поверх толпы. Кажется, никогда так не любила Нина маму, как в эту минуту. Что-то колючее подступило ей к горлу, и, неожиданно для себя, она крикнула:
— Дура! Дура! Дура! Собака! Паршивая собака!
— Маленькая щеня, а кусается, — тетка захохотала, будто телега по булыжникам загрохотала, и двинулась к ним.
У Нины по спине поползли мурашки.
Красноармеец взмахнул костылем.
— А ну, катись, стерва!
— Ниночка, — сказала мама, — нам надо потерпеть. Ведь мы ничего еще не продали.
— Конечно, мамочка, — взрослым, Катиным, голосом проговорила Нина.
Начали зябнуть ноги.
Парень в плисовых широченных штанах, заправленных в белые с красными разводами пимы, остановился возле них. Шапка сдвинута набок, полушубок распахнут.
— Сколь просите? — парень двумя пальцами приподнял кружевную накидку.
Старушка с открытками за его спиной делала маме какие-то знаки.
— Два фунта, — сказала мама и торопливо добавила: — Два фунта хлеба.
— А не жирно?
— Я не знаю, но это же дорогая вещь. Возьмите за полтора…
Все произошло за несколько секунд: парень, сказав: «Моей шмаре подарочек», сунул накидку под полушубок, и толкучка его проглотила. Нина испуганно взглянула на маму, хотела сказать: «Уйдем скорее отсюда», но не посмела. Мама стояла очень прямо и смотрела поверх толпы, будто ничего и не случилось, будто их тут на народе не ограбили.
— Мамочка, я же не знала… — начала она.
— Молчи, Ниночка, — тихо сказала мама.
Старушка с открытками зашептала, пугливо озираясь:
— Я же показывала вам, это же известный жиган. Он ходит грабит. И все его боятся.
Нина еле сдерживалась, чтоб не зареветь. Стыдно. Засмеют. Она зябла все сильнее. Маме тоже, наверное, в ботиках холодно, она ногой о ногу постукивает. Боже мой, неужели этот мужик что-нибудь купит?! Что у него в мешке? Мука! Белая мука! Ну, конечно, мука, у него и рукавицы в белой муке.
Мужик, маленький и тощий, он словно утонул в огромном тулупе, уставился на бобровый воротник.
— Че, для бабьего пальта подходящий? — спросил он и, сняв рукавицу, пощупал воротник.
— Подходящий. У вас мука?
— Мука, сеенка. — Мужичонка хмуро глянул на маму, поскреб голову под рваной шапкой. — Давай, че ли, меняться. Однако, фунт дам.
— За воротник? Да вы что! — возмутилась мама. — Он же новый, вот смотрите.
Мужичонка протянул руку с корявыми пальцами и пощупал шаль у мамы на голове.
— Вот че, — сказал он, — давай меняться. Забирай все, — мужичонка тряхнул мешком с мукой, — тут, однако, полпуда будет. — Мучка первеющий сорт. Давай ворот и шаль — и айда по рукам!
Мама, не раздумывая, принялась снимать шаль с головы, она зацепилась за крючок на шубе, и мама никак не могла отцепить ее замерзшими пальцами.
— Ты не шибко, кабы не порвать, — приговаривал мужик.
Нине хотелось крикнуть в лицо мужичонке так же, как той тетке, что-нибудь злое, обидное. В маминых пышных волосах путались снежинки. Наконец мама отцепила шаль и вместе с воротником отдала мужику. Нина испугалась: вдруг убежит, как тот жиган?! Если побежит, она его догонит — в тулупе далеко не убежит.
— Не прохудилась? — мужичонка корявыми пальцами распяливал шаль. Он недоверчиво покосился на маму.
— Ну что вы. Я ее почти не носила. Оренбургская…
— Мамочка, не отдавай, — жалобно попросила Нина, — тебе холодно.
— Ничего, ничего… Сейчас пойдем домой… Вот мешочек, пожалуйста, сюда пересыпьте. — Мама говорила быстро-быстро, неестественно веселым голосом.
Дома их заждались. Бабушка, увидев маму, ахнула.
— Боже, в каком ты виде! Что у тебя на голове? Где твоя шаль?
Мама стащила с головы бархатную безрукавку и, пачкая шубку мукой, отнесла мешок в кухню.
— Вот променяла на муку.
— И это все? — удивилась бабушка.
— Все. А еще воротник отдала в придачу. Никто ничего не брал. Нина замерзла, не хватало еще ее простудить.
Бабушка сердито сказала:
— Ты, Наташа, абсолютно не приспособленный к жизни человек. Тебя ничего не стоит обмануть. Не понимаю, как можно…
Мама неожиданно засмеялась, как-то странно, нехорошо засмеялась.
— Я неприспособленная… Боже мой, я неприспособленная! А откуда мне быть приспособленной?! Я же барынька! Что я умела? Приказывать денщикам… Мне ведь все преподносили… Другие на меня работали… А я неприспособленная! — Мама опять нехорошо засмеялась, потом схватилась за горло и громко, навзрыд заплакала.
— Дети, выйдите! — Бабушка поспешно выставила сестер в коридор. — Идите в детскую.
Какое уж тут в детскую! Натка потянула Катю за руку.
— Кать, ну, Катя, почему мамочка плачет?
— Помолчи, — отмахнулась Катя.
За дверью мама, всхлипывая, говорила:
— Что меня такой сделало? Я же просила вас с папой… просила… просила отпустить учиться… Нет, неприлично бегать по курсам… Я могла быть врачом… учительницей, а теперь… Я ничего не умею… неприспособленная…
Бабушка голосом совсем не бабушкиным, а другим сказала:
— Прости, Наташенька…
Нина взглянула на Катю, но та отвела глаза и решительным тоном заявила:
— Идем в детскую.
За вечерним чаем мама все зябко передергивала плечами под старенькой шалью, лицо у нее было усталое, веки красные. К великому удивлению Нины, мама закурила при бабушке, и бабушка ничего не сказала, словно это было самое обычное дело. Как будто сегодняшний день сделал их обеих главными.
Ночью Нине снилась барахолка, парень в плисовых штанах, огромная бабища. От страха она просыпалась.
Домнушка, она прежде стирала бабушке белье, предложила сменять вещи на продукты, и не в городе, а в деревне. Там у нее сестра живет, вместе с сестрой и походят, уже ее-то никто не обманет. С тех пор в семье Камышиных, особенно дети, с нетерпением ждали появления Домнушки. Как-то следом за Домнушкой из сеней шагнула маленькая фигурка, укутанная по самые глаза платком.
— Вот привела к вам поиграть, — сказала Домнушка. — Дочка моя. Разболакайся, Варюша.
Девочка — большеротая, лоб узенький, волосы чем-то густо напомажены — смотрела исподлобья, недоверчиво. Но зеленовато-карие, под черными бровями глаза хороши.
— Варюша будет вашей новой подругой, — сказала бабушка, — играйте с ней и не обижайте гостью.
Варя, войдя в столовую, присела на край дивана.
— Ты учишься? — спросила Катя.
Варя отрицательно помотала головой. Бабушка так «мотать» им не разрешала.
— Тебе сколько лет?
Они удивились: двенадцать — ровесница Кати, а такая маленькая.
— У тебя книжки есть? — спросила Нина.
— Кого?
— Надо говорить не «кого», а «что», — поправила Катя.
Варя покраснела и ничего не сказала. Нине стало ее жаль.
— Ты к нам еще придешь. Ладно?
— А кто его знат.
Варя так и просидела на краешке дивана, сама ни о чем не спрашивала, украдкой разглядывала игрушки, книги, комнату. Сестрам она не понравилась — скучная какая-то. Но все же они обрадовались, когда Домнушка, уезжая в деревню, привела к ним Варю. Привезла она на саночках два ведра картошки и овсянки на кашу.
— Не отказывайтесь! — заявила Домнушка. — В случае чего не обернусь — Варюша поживет у вас. Откель еще и на нее харчей доставать. Пошла на базар хлеба купить — фунт семнадцать тысяч. Думаю, ладно, обожду маленько, может, какой красноармеец на махорку выменяет. Через час прихожу, а уже двадцать тыщ просят. Сейчас заглянули, а он, хлебушко наш, уже двадцать пять тыщ! Ну, креста на людях нету!
Домнушка уехала. Вечером, когда бабушка ушла в церковь, Варя удивила сестер, неожиданно спросив:
— А танцевать кто из вас умеет? Ага, не умеете!
— Краковяк немного, — сказала Нина.
Варя пренебрежительно фыркнула, ловко скинула пимы, приказала:
— Подайте платочек, — выхватив у Натки платочек, она дребезжащим, но верным голоском запела: — Ты, старуха, на носок, — легонько побежала на носках, — ты, старик, на пятку, — тут Варя прошлась на пятках, — ты, старуха, как-нибудь, я старик, вприсядку. — Прыгала, как мячик, чулки на ней рваные — только голые пятки сверкают.
— Ты хорошо танцуешь, — похвалила Катя.
— А я и по-другому умею. — На цыпочках Варя поплыла по комнате, проделывала какие-то замысловатые движения, сгибалась чуть ли не до полу, крутилась на одной ноге, потом вдруг распласталась на полу.
Сестры кинулись ей на помощь.
— Это же помирающий лебедь! — Варя смерила их презрительным взглядом. — Что, не видите?
Запыхавшаяся Варя уселась на диван.
— Где ты так научилась танцевать?
— А у меня сестра артистка.
— Ты не врешь? — строго спросила Катя.
Варя молча повернулась к иконе и перекрестилась.
— Она с вами живет?
— Не, в великий пост приедет на гастроли.
Слово «гастроли» окончательно сняло подозрения, и Варя в глазах сестер выросла необычайно.
— Мы никогда не были в театре, — вздохнула Катя.
— Давайте играть в театр, — предложила Нина.
В столовой устроили сцену. Для зрителей поставили стулья в детской. Вместо занавеса — двери. Выступали все по очереди. Первой «сцену» предоставили Варе.
— Знамынытый ыврапыйскый таныц каныкан в исполнении звызды сызона Варвары Нежной! — объявила она.
Варя задирала ноги, так что были видны залатанные штанишки, гримасничала и пела песенку, за которую однажды Натка отстояла час в углу.
— Ах, шарабан мой, американка, — пела Варя, как-то странно закатывая глаза, — а я девчонка, да шарлатанка, ах, шарабан мой, шааарабан…
— По-моему, этот танец неприличный, — сказала Катя.
— Это кордебалет. Много вы понимаете, — фыркнула Варя.
Кате нечего было возразить, что такое «кордебалет», сестры не знали.
— Теперь ваша очередь, а я погляжу, — не без вызова сказала Варя.
Катя назидательным тоном прочитала басни Крылова, Натка спела «Травка зеленеет»; стараясь доходить на Варю, она закатывала глаза. Катя ее одергивала: «Не кривляйся».
Свое выступление, или гастроли, как она объявила, Нина оставила напоследок. Закрыла дверь на крючок — пусть не видят приготовления: обмоталась простыней, обсыпала маминой пудрой лицо, чтобы «как мертвец», и только потом распахнула дверь.
— Все васильки, васильки, красные, желтые всюду, — замогильным голосом декламировала Нина. — Видишь! — взвизгнула она и, снизив голос почти до шепота, выдавила — Торчат на стене. Слышишь! — (снова визг) — Сбегают по крыше. Вот подползают ко мне, — тут Нина подпрыгнула, — лезут все выше и выше! — завопила она и шарахнулась в сторону, сделав вид, что лезет на стену.
Натка, закричав: «Я боюсь, я боюсь!» — бросилась к Кате.
— Ну тебя, перестань! Только Натку испугала, — рассердилась Катя.
Нина обиделась на сестер. Одна Варя одобрила, а все потому, что сестра артистка.
Варя стала постоянной гостьей, приходила в субботу, и, как только бабушка отправлялась в церковь, дома начиналось светопреставленье: все сдвигалось со своих мест, цветы ставили на пол — «будто сад». Разыгрывали пьесы, придумывала их Нина. Пьесы назывались «Княжна Джаваха», «Спящая красавица», «Мцыри», в зависимости от того, что в это время Нина читала.
Но лишь раздавался церковный благовест — вещи водворяли на свои места, все четверо чинно усаживались за стол с раскрытыми книгами. Бабушка говорила: «Так и надо себя вести во время всенощной». Катя мучилась: «Обманываем бабушку».
Потом игры в театр прекратились. Сестры дружно заболели корью. От скуки они постоянно ссорились. Днем еще ничего, а вечерами хоть плачь, только ведь не поможет. Длинный-предлинный вечер начинается с сумерек, с противных сизых сумерек, которые в четыре часа дня уже ползут через обледенелое окно, прячутся по углам.
— Хотите, я буду сочинять? — как-то спросила Нина.
Сестры согласились охотно.
— Слушайте, только, чур, не перебивать. Называется драма. В одном замке жил герцог. У герцога была дочка, а матери не было.
— У герцога матери не было?
— Натка, я же сказала — не перебивать. Ну вот…
Каких только страданий Нина не послала на бедную голову маленькой герцогини и, когда уже больше ничего не могла придумать, бросила свою героиню в воду. Помолчав, пусть сестры переживают, Нина прошептала: «И зеленые волны покрыли ее».
— Бедняжка, — сказала Катя.
— Ты больше про страшное не сочиняй, — попросила Натка, — а то я боюсь ночью на горшок вставать.
Нина возмутилась: так все перевернуть!
Наутро Нина решила: раз у нее так легко сочинялась драма, то почему бы ей не сочинить стихи, и она принялась за дело. Стихи придумывать оказалось куда труднее. Никак не могла решить, о чем же сочинять, наконец вспомнила: «В старинном замке скребутся мыши…» А что, если про замок? Писала, зачеркивала… Если бы Катя не уговаривала ее: «Не мучайся, все равно ничего не получится», она бы бросила.
Стихи сочинились вдруг. Дрожащим от волнения голосом Нина прочитала:
Сначала сестры пришли в восторг от Нининых стихов, но потом Катя сказала, что она читала «очень похожие». А Натка твердила:
— Ну совсем, как настоящие.
Подружек к ним не пускали, но Гранька все же прорвалась, улучив минутку, когда бабушка вышла во двор развешивать белье.
— Че, ишшо не околели?
— А мы не собаки, чтобы окалевать, — сердито отозвалась Катя. — Ты вот можешь заразиться от нас. К нам из-за болезни ходить нельзя.
— На-кось! Не заражусь. Мамка сказала, че на мне всякая заразная воша подохнет, — отпарировала Гранька и похвасталась: — А мы вскорости на новую квартиру переезжаем. Все барахло уже поснимали, прощаться пришла. — Гранька оглядела комнату. — Хорошо у вас, чисто. — Погрустнев, шмыгнула веснушчатым носом и призналась — Неохота мне уезжать, там ребятишки больно хулиганят, дерутся почем зря. Идти надо, а то ваша бабушка надает мне по зашеям. Ну, прощевайте. — Гранька протянула руку дощечкой. Потом вышла на середину детской и низко поклонилась в пол. Бабьим голосом чуть ли не пропела: — Уж не обижайтесь, может, че не так сделала, может, че не так сказала.
Растроганные сестры принялись утешать: что это она выдумала, может быть, они ее обижали, это только нечаянно, пусть она тоже на них не сердится.
Гранька с хитрецой щурилась. Сестры не знали, что час назад Степанидиха прощалась с соседями и говорила те же самые слова.
Доктор разрешил Кате и Натке встать, а Нине пришлось лежать — какое-то осложнение на ноги. По утрам Коля переносил ее в столовую на диван. Нина завидовала сестрам: счастливые, Катя ходит в школу, Натке купили на барахолке пимы, и ее стали выпускать на улицу. Мама сказала, что летом отвезет Нину в деревню.
Скорее бы лето! Скорее бы в рощу!
От крыльца Камышиных до калитки, ведущей в рощу, десять шагов. Сразу за калиткой — полянка, расчищенная под крокетную площадку. А кругом березы, березы, березы, из-за них и забора не видно. Посредине рощи — аллея, обсаженная елями. Раньше аллею посыпали красным песком, теперь она поросла мохом. У самого дальнего забора, куда летом надо пробираться через заросли лопухов, лебеды и чертополоха, цветет черемуха. А первые фиалки! Их разыщешь не сразу, они любят играть в прятки, прикрываясь потемневшими под снегом палыми листьями или прошлогодними травинками. Фиалки пахнут листьями, за которыми прятались, снежной свежестью и солнцем. Солнце ведь тоже приносит запахи. Но главная радость — березы. Обнимешь березу, а она как живая, теплая, прислушаешься — листья тихонько-тихонько лопочут когда ласково, когда жалостливо, а когда и сердито. Береза живая! По-своему, конечно. Ведь плачет же она, если ее кору искромсают хулиганы ножами. Будто даже кровью плачет. Самой нарядной береза бывает, когда она закудрявится сережками. Бабушка говорит, не зря про березу поется — «раскудря-кудря-кудрявенькая». Весной роща светлая, распускаются листья на березах, и свет в роще особенный, какой-то радужный.
В роще бегай сколько хочешь — никто не скажет: «Не шуми». В роще можно даже кричать, и никто не оборвет: «Веди себя приличней». Захочешь — и на дерево залезешь. Легче всего на рябину. Две рябины растут у небольшого овражка. В нем долго еще под прелыми листьями лежит лед. А летом весь овражек зарастает крупными ромашками.
Каждый день, когда Натка возвращалась с улицы, она сообщала Нине, что снег «и не думал еще таять».
Раз Нина не выдержала — решила сама проверить: притворилась, что спит, а когда все ушли из детской, добралась, держась за стену, до окна за гардеробом. С трудом залезла. Сначала все было тихо, она терпеливо ждала. И вдруг — дзинь, будто стекло о стекло стукнуло. Ага, вот оно: сверкнула льдинка, и тотчас же что-то дзинькнуло… Неужели скоро весна?! Весна… Но что же это такое! Ноги совсем не слушаются, ноги не гнутся! Нина от страха громко закричала. Прибежал Коля.
— Ты что? Зачем сюда залезла? Вот дурак-то. — Он снял Нину и отнес ее на диван.
Вечером Коля сказал маме:
— Надо, чтобы Нина дышала свежим воздухом.
Он вытащил из кладовки старое кресло-качалку с провалившимся сидением, починил его. Закутанная в одеяло, Нина сидела на крыльце в кресле-качалке. На снег было больно смотреть, грудь распирало от холодного чистого воздуха.
Под навесом, в навозе у сарая, копошились воробьи. Похоже, что все-таки скоро весна — вон сколько сосулек по карнизу крыши.
— Натка, сбегай за ворота, посмотри.
— Ручьев еще нету, — доложила Натка и умчалась. Вернулась она с незнакомой девочкой; в коротком пальто и шапке-ушанке, высокая, коренастая, она смахивала на мальчишку. За ней плелся черный кудлатый пудель, у пса одно ухо поднято, другое повисло, на глазу бельмо.
— Вот, познакомься, — сказала сияющая Натка.
Девочка протянула Нине широкую руку и, крепко сжав Нинины пальцы, мальчишеским голосом сказала:
— Мара, — и, кивнув на Нинины ноги, спросила: — Что, болят?
— Не очень, только ходить не могу. Это твоя собака?
— Моя. Пэдро, пойди сюда!
— Так собак не называют, — сказала Натка.
— Собак называют по-всякому. Это братишка придумал ему такое имя. Пэдро, дон Пэдро. — Мара погладила пуделя, а он лизнул ей руку.
— У тебя много братьев?
— Есть. Микчишка.
— У вас какие-то понарошечные имена: Пэдро, Мара, какой-то Микчишка! — Натка расхохоталась.
— Ох ты и глупая! — обозлилась Мара. — Во-первых, Пэдро — это собака, а меня зовут Марианна, а Мику — Максим. Пэдро, пошли!
Нина сидела в одиночестве и раздумывала: «Хорошо бы у нас были братья, они бы завели собаку, мальчишкам всегда все позволяют. А Мара, наверное, теперь не придет. Обиделась».
Она пришла на другой день как ни в чем не бывало. За ней лениво семенил Пэдро.
— Сегодня болит? — осведомилась она.
— Немного лучше, — соврала Нина.
— Скоро встанешь. — Мара сказала это таким тоном, что Нина поверила — скоро она будет бегать как все.
Мара вытащила из-за пазухи розовато-золотистую булку с поджаренным гребешком и разломила ее: половину протянула Нине, вторую половину — еще пополам, кусок себе, кусок — Натке.
— Вкуснецкая булочка! — Мара прищелкнула языком. — Настоящая французская. — И внезапно огорошила: — Это я сперла в булочной Артюшкина.
Вот тебе на! Сперла — это, значит, украла. Нина чуть не подавилась.
— Ты… ты булку взяла без денег?
— Вот еще! Буду я деньги всяким паразитам давать! Булочник, думаете, кто? Буржуй! Вот он кто. Эксплуататор. Нас эксплуатирует. Я знаю, мы в школе проходили. Ничего с ним не стрясется! Подумаешь, одну булку взяла! А ему можно честных людей обманывать? Ну, пока! Надо бежать, а то мне влетит.
Мара умчалась, за ней — Пэдро.
— Как по-твоему: она хорошая? — растерянно спросила Натка.
— Н… н… не… знаю…
Воры — преступники, самые подлые люди. Так говорит бабушка. Мара не похожа на подлую, она же не сама съела булку, а принесла им, самой ей досталось совсем немножко. Ничего не поймешь, надо спросить Колю. Он засмеялся и сказал:
— Ай да девица! Ты мне ее покажи, — но, поймав Нинин взгляд, стал серьезным. — Воровать нельзя ни при каких обстоятельствах. Мало ли что! Мало ли чего у нас нет! Воровать подло! Противно! Это унижает человеческое достоинство. Понял?
— Поняла, — Нина помолчала и с затаенным злорадством спросила: — А зачем ты доски из забора воровал? — «Значит, Маре нельзя, потому что она маленькая, а тебе можно, потому что ты большой». Она чуть этого вслух не сказала.
— Видишь ли, это, конечно, тоже паршиво, но заборы были ничьи, хозяева сбежали. Все их разбирали, и потом не замерзать же вам… Я это делал для вас…
— И она булку нам принесла.
— Вы бы без этой булки не умерли. Понял? И не вздумай сама красть! Вот ты уж и ревешь, я ведь так… предупредить.
— Я не реву. Коля, а почему булочник — буржуй и эксплуататор?
— Это тебе Мара разъяснила? Да потому, что на Артюшкина гнут спину два работника. А прибыль, ну, выручку, булочник кладет себе в карман, а работникам достаются гроши. Ясно?
Нина помолчала.
— Почему же тогда Советская власть Артюшкина не прогонит?
— Потому что пока ей самой не справиться с торговлей. Есть дела поважнее.
— Значит, всегда-всегда будут буржуи?
— Дойдет очередь и до них. Сейчас вот надо басмачей усмирять. Ага, так и знал: спросишь — кто басмачи? Контрреволюционные бандиты. Ну, мне пора собираться. Сегодня у нас в институте субботник. — Поглядев на задумавшуюся Нину, Коля спросил: — Ты помнишь, когда вы болели корью, я приносил масло и сахар? Помнишь? Так это для вас посылал Петренко.
— Ты видел Петренко? — встрепенулась Нина. — Почему он к нам не пришел?
— Ему, брат, некогда. Он, наверное, уже уехал воевать с басмачами.
— А он, когда вернется, придет к нам?
— Если… — начал Коля и поспешно закончил: — Конечно, придет. Он про тебя спрашивал. Ну ладно. Опаздывать нельзя, а то еще припишут саботаж.
Нина живо представила: чистое поле, по полю на белом коне скачет Петренко, в одной руке у него красное знамя, в другой сабля наголо. Милый Петреночка, конечно, как только он победит басмачей и вернется в город, — он придет и к ним…
Наступала весна. Наступало бездорожье. Наступал голод. Домнушка из деревни, как она говорила, возвращалась «с таком». В дальние деревни к богатым мужикам ни на санях, ни на телеге не доберешься.
Катя, уходя в школу, брала с собой тощий бутерброд — кусочек хлеба и ломтик картошки, а за спину бабушка привязывала ей завернутое в тряпку, чтобы мальчишки не дразнили, полено. В школе не было дров.
Раз мама пришла со службы и сообщила новость:
— Мы на Нину будем получать паек. Оказывается, было указание Ленина больным детям выдавать паек.
— А почему Ленин? Ленин кто? — спросила Натка.
— Сто раз тебе объясняла, — сказала Катя, — Владимир Ильич Ленин — вождь мирового пролетариата.
Здорово! У Нины даже дух перехватило. Вождь мирового пролетариата заботится о ней, потому что она больна и ей нужно хорошо питаться.
Натка, конечно, не удержалась от глупого вопроса:
— А Ленин большевик?
Бабушка сказала не Натке, а маме:
— Ленин дворянин. Ваш продкомиссар никогда бы до этого не додумался.
Мама оглянулась на детей, притихших у печки, и негромко сказала:
— Дело в том, что у нас на всех пайков не хватало, и решили давать только чахоточным детям, а комиссар велел меня внести в список… Он знает, что у меня трое и что Ниночка больна… Он мог и не включать в список.
Назавтра мама получила паек. Бабушка к ужину сварила манную кашу и положила в тарелку кусочек настоящего сливочного масла. Нину распирало от гордости: вот и ее болезнь пригодилась, а то вечно все за ней ухаживают… Хоть бы от хорошей еды скорее поправиться, а то калека какая-то — ноги как бревна и так по ночам ноют.
Субботний вечер. Мама дома. Со своей сослуживицей Нонной Ивановной она шила из тряпья какие-то костюмы для спектакля. Тут же за обеденным столом Катя раскрашивала географическую карту.
Сестрам нравилась Нонна Ивановна.
Все она умела: петь (особенно хорошо «Гайда, тройка, снег пушистый»), рисовать, шить. Даже стихи Нонна сочиняет, и эти стихи печатают в газете.
Но более всего Нонна Ивановна поразила сестер, когда однажды они застали ее сидящей на диване, а рядом, совсем отдельно, стояла Ноннина нога в чулке и туфле. Нонна Ивановна встала и, прыгая на одной ноге, допрыгала до стола, положила папиросу в пепельницу, ловко повернулась и запрыгала к дивану. А они-то не знали, что у нее нет ноги, даже не догадывались. Ведь люди без ноги несчастные, у Вариного отца вместо ноги — деревяшка, так он и молчит всегда. А Нонну Ивановну они ни разу не видели мрачной, она постоянно что-нибудь смешное рассказывает, ходит на высоких каблуках, даже танцует.
Много позже они узнали, что несчастье случилось с Нонной Ивановной в последнем классе гимназии. Нонна принесла в гимназию прокламацию и ухитрилась наклеить ее на классную доску. Заподозрили дочку мастерового. Ей учинили допрос и обещали, если чистосердечно сознается, — простят, а виновного искать не будут. Девушка, поверив начальнице гимназии, взяла вину на себя. На другой день ее исключили из гимназии. Нонна заявила начальнице, что виновата во всем она, Нонна. Но ей не поверили. Нонна бросилась под поезд.
Нина восторгалась Нонниным героизмом: броситься под поезд! Все она делает не так, как у них дома; если у Камышиных о чем-то не принято говорить — Нонна говорит.
Вот почему сейчас сестры и навострили уши, когда Нонна сказала:
— Кажется, Екатерина Петровна не очень-то довольна новым знакомством Коли.
Мама громко вздохнула, но никак не отозвалась на Ноннины слова. Ну, конечно, у них об этом нельзя говорить.
— Эта красавица, по-моему, легкомысленна, — сказала Нонна.
— Она из хорошей семьи, — помолчав, заметила мама.
— Ах, Наташа, ты все еще живешь старыми понятиями. Ну что такое хорошая семья? Я часто думаю о вашей семье, — продолжала Нонна, — все вы, ты и Коля, очень благородные, добрые люди, но вы немного толстовцы. Понимаешь?
Нине послышалась в тоне Нонны жалость к ним.
— В гимназии я считала себя толстовкой, — усмехнулась Нонна. — Революция на многое открыла мне глаза. Теперь я себе не представляю, как можно, когда тебя бьют по левой щеке, подставлять правую.
— Я ухожу, — сказала бабушка из коридора, — закрой за мной, Наташа.
Нина уткнулась в книгу, но читала не вникая в прочитанное. «Интересно, почему же мама и Коля толстовцы?»
Мама вернулась, отложив шитье, закурила. Нонна засмеялась. Мама вопросительно на нее взглянула.
— Девочки побаиваются бабушки?
— Вообще-то да, — призналась Нина.
— Я тоже ее побаиваюсь. — Нонна снова засмеялась.
— Ну, а она тоже, по-твоему, толстовка? — В мамином вопросе сквозило скрытое лукавство.
— Расскажи о бабушке, — попросила Нонна.
— Мама родилась в Семипалатинске. Мой дед был казачий есаул. Его любили не только солдаты, но и окрестные киргизы. Маму отдали учиться в прогимназию в город Верный. На каникулы за ней на лошадях приезжал солдат. Места там степные. И однажды за ними погнались волки. Солдат что есть мочи нахлестывал лошадей. Но волки вот-вот готовы были напасть. И тут мама схватила ружье. А ей тогда было шестнадцать лет.
Нина с Катей переглянулись. Вот так бабушка!
— Ты не удивила меня: это похоже на Екатерину Петровну. Ну, а замуж она рано вышла?
— Через два месяца после окончания прогимназии. Лишь три встречи с женихом — и она стала женой молодого хорунжего: отцу не было и двадцати, когда он женился. Со свадьбой поспешили, так как полк, в котором служил жених, отправлялся на Дальний Восток. «Для освоения окраин царской России» — так было записано в послужном списке моего отца. Всем офицерам предложили срочно жениться. Надо было заселять окраины России. Это было необычайное путешествие. Полк шел маршем. Жен везли в кибитках. Вообрази это путешествие: бездорожье, осенью — дожди и грязь непролазная, зимой — морозы, снегопады и метели. Отдохнули, когда Байкал переплывали. Много раз приходилось обгонять арестантов. Их гнали этапом, оборванных, изнуренных…
— Под кандальный звон? — спросила Нина.
— Да, под кандальный звон. Полк прибыл в Читу через десять месяцев. Там я и родилась. Принимала меня ссыльная акушерка, крестили в церкви, которую строили декабристы. А когда полк добрался до Дальнего Востока, у меня уже был братец. Вот сколько времени понадобилось для этой дальней дороги. Вероятно, все, что пришлось маме увидеть и пережить в самом начале своей самостоятельной жизни, сделало ее такой сдержанной и требовательной не только к нам, детям, но и ко всем окружающим. Представляешь, в семнадцать лет она стала не только «ваше благородие», но и «матушка заступница». Не знаю, как она ухитрялась, ведь у нее не было медицинского образования, но в пути она лечила солдат. Чем? Настоями трав и мазями. Она сама их приготовляла на бивуаках. Научилась она этому искусству у своей матери, которая тоже лечила солдат и окрестных киргизов. Мама писала письма родным солдат, умела за них и заступиться, ты ведь знаешь, что тогда применялись телесные наказания. Отец мне рассказывал, что маминого языка, несмотря на ее молодость, офицеры побаивались…
Солдаты свою заступницу боготворили, — продолжала рассказывать мама, — был такой случай: застрял в грязи возок, в котором ехала мама. Солдаты распрягли лошадей и вытащили возок, несли его через грязь на руках, мама тогда ждала меня. Потом маме тоже не очень легко жилось. Семья была большая, кроме меня и Коли, еще четверо, они все умерли от скарлатины. Недвижимого имущества не было, жили на армейское жалование. Вероятно, нам трудно приходилось бы, если бы не мамины уроки, к нам на дом приходили ученики. Мама ни за что не хотела, чтобы Коля стал военным, отец ведь участвовал в обороне Порт-Артура. Там и погиб. Помню, был еврейский погром — мама спрятала у нас в доме евреев, а когда пришли черносотенцы, вышла к ним и заявила, что никому не позволит оскорбить дом русского дворянина. За дверями стоял денщик с ружьем, а мама под шалью спрятала револьвер…
Пришел Коля, и на этом рассказ о бабушке оборвался.
Выехали они еще до восхода солнца на попутной подводе, которую Домнушка подрядила на базаре.
Мама, целуя и крестя Нину, напутствовала: «Смотри, слушайся Домнушкину сестру, пей молоко, одна в лес не ходи и не скучай. Я скоро за тобой приеду». Бабушка сказала: «Будь умницей».
Сначала телега тарахтела по булыжникам, потом ее корежило на ухабах. Нина лежала, свернувшись калачиком, на свежем сене. Домнушка прикрыла ее одеялом. Небо быстро светлело, по нему словно разлился брусничный сок. Домнушка разговаривала с хозяином подводы. Он на что-то жаловался баском с хрипотцой.
— Теперича каждый много об себе понимает…
Нина засыпала и просыпалась, она видела лес; он рос по обеим сторонам дороги, и такой густой, что за стволами деревьев темным-темно. Потом открылась просека, длинный зеленый коридор, а когда Нина проснулась в другой раз, никак не могла понять, куда она попала. Она лежала на широкой лавке. Потолок низкий, пол некрашеный, стол — выскобленный добела. В переднем углу закопченная икона. На печке какое-то тряпье. Может, это все сон? Нужно покрепче зажмурить глаза, и тогда проснешься в детской. Нет, ничего не получается. Она долго и терпеливо ждала. Наконец, вошла Домнушка. Но это все еще продолжался сон: вошли сразу две Домнушки.
— Вот и выспалась, — сказала одна Домнушка и, показав на другую, пояснила: — Сестра моя будет, Марфушка. У нее и погостишь.
Тут Нина поняла, что все это не сон, а правда, и ей вдруг стало тоскливо, захотелось зареветь. Но было совестно, и она сдержалась. Удивительно, до чего Марфушка похожа на Домнушку. Такая же худущая, такой же сивый пучок на макушке, так же поминутно вытирает слезящиеся глаза.
Марфушка принялась выкладывать сестре деревенские новости. Домнушка хлопала себя руками по тощим бедрам и приговаривала: «Надо же!» или: «Ах чтоб его пятнало».
— Так, говоришь, Краснуля пропала у Сидорихи! Надо же!
— Так Васька Кривой чуть от денатурки не сгорел! Ах чтоб его пятнало!
Нине стало скучно.
— Можно мне на улицу пойти? — она взглянула на Домнушку.
— А чего ж нельзя. Ступай, погляди на деревню.
Нина вышла на высокое без перил крыльцо. Вот она, оказывается, какая бывает деревня! Дрова свалены в кучу. У старенькой сараюшки копошатся куры. Забор из длинных жердей, калитки нет. Где же тут играть? Ни травы, ни деревьев. Нина вернулась в избу. Когда Марфушка, схватив кринку, помчалась за молоком, Нина подошла к Домнушке.
— Возьмите меня домой. Я не хочу здесь оставаться.
— Не могу я. Поправляться тебе надо. Бабушка и мамочка на меня обидятся. — И, желая утешить, добавила — Это попервости, а потом попривыкнешь, с ребятишками ознакомишься.
— А у вашей сестры дети есть?
— Какие там дети! Она вековушка. — Домнушка вздохнула.
— Как это вековушка? — не поняла Нина.
— По-городскому, стало быть, старая дева.
— А почему она осталась старой вековушкой?
— Мы ведь из бедных. — Домнушка вздохнула еще громче. — Беднее нас никого в деревне не было. Таких-то не шибко сватают.
— А вы?
— Я в городе жила, а Марфушка по чужим дворам ходила, в няньках с семи лет.
— С семи лет! — ужаснулась Нина. Натке семь лет. Попыталась представить Натку в няньках и не смогла. — А зачем она в няньки пошла?
— Изба наша сгорела, вот и пошла. Всем нам тогда хоть по миру идти в пору было. Так Марфушка век по чужим людям бы маялась. Спасибо, крестная перед смертью свою избу ей отказала.
На другой день Домнушка уехала. Еще до восхода солнца Марфушка будила Нину и подавала ей большую кружку теплого парного молока. Выпив молоко, Нина валилась на постель и окончательно просыпалась, когда солнце пекло вовсю, а под потолком монотонно гудели мухи. На столе, прикрытый полотенцем, ждал завтрак: пшеничный калач, холодная картошка и простокваша.
Днем Марфушка прибегала и торопливо варила похлебку. Марфушка постоянно куда-то спешила.
Под вечер к ней заглядывали, стучали в окно и наказывали: «Приходи завтра подсобить». И она чуть свет уходила. Раз пожаловалась:
— Заставляют до ночи спину гнуть. Намеднись полола от света до света, а харчи — редька с квасом да квас с редькой. Норовят совсем задарма работников держать.
— А вы не ходите к ним, пусть сами все делают, — посоветовала Нина.
Марфушка вздохнула совсем как Домнушка.
— Как же не пойдешь. Коня-то у меня нет, безлошадные мы. Землицу вспахать — иди поклонись, семян надо — обратно поклонись. А после бегаешь, отрабатываешь. Они уж свое возьмут.
— Они — это богатые? — спросила Нина.
— А кто же еще, — печально усмехнулась Марфушка, — они нашего брата в дугу согнут да еще хомут тебе на шею наденут. Вот и коровки у меня нету. Чужое молочко-то кусается. За него, поди-кось, горб гнуть заставляют.
— Знаете, — Нина почувствовала, что краснеет, — я не буду пить больше молоко.
Марфушка переполошилась:
— Вот удумала-то! Домнушка привезла скатерть и всякого барахла, вперед за все заплатила. Наталья Николаевна, мамочка-то твоя, расстаралась. Пусть Нина пьет молочко досыта. Вот с лица какая бледная.
Но разговаривали они редко. Впервые за свою короткую жизнь Нина узнала одиночество.
В день приезда к дому Марфушки прибегали деревенские ребята. Нина, не понимая, зачем она это делает, спряталась от них в кладовке. Они пришли и на другое утро — Нина слышала их голоса. Но снова что-то помешало ей отозваться. Ребята пошумели под окнами и ушли.
…Нина сидела у окна и смотрела на улицу. Собственно, и смотреть тут не на что. Неужели все улицы в деревне такие? Сразу под окном — крапива и лопухи, и чуть подальше — невысокая трава. Туда к вечеру приходят гуси, противные, злые. Вытянут длинные шеи и шипят! Посредине улицы — огромная лужа. Удивительно: дорога сухая и пыльная, а лужа никак не может высохнуть. Напротив Марфушкиного дома какая-то кривобокая изба. Страшно скучно весь день сидеть и смотреть на эту избу и пустую улицу с грязной лужей. Пойти погулять, но куда? Одной страшновато. Раз, не успела выйти, на нее накинулись собаки. Хорошо, что соседи отогнали. Скорее бы домой, скорее бы побегать в роще. Теперь ноги у нее уже совсем не болят. Марфушка растирает их на ночь какой-то мазью. От жестких, как щетка, рук Марфушки кожа просто горит.
Однажды ночью ее разбудили голоса. В окно заглядывала луна. На лавке тускло поблескивало жестяное ведро. Разговаривали где-то совсем близко. Дверь в сени была открыта, на пороге — Марфушка. В темных сенях гудел низкий глухой голос. Нина прислушалась:
— Маесся, маесся, а толку ничуть. Кажинный год — колос от колоса не слыхать голоса. Лонись недород, нонче недород. Скажешь, неправду я говорю? — бубнил невидимый голос.
— Что правда, то правда, — со вздохом поддакнула Марфушка.
— А кто тебя с хлебом выручат? Окромя Сазонова некому. Хлебушка-то свово до рождества не хватит, однако…
Марфушка не то вздохнула, не то всхлипнула.
Нина задремала, а когда проснулась — свет луны переместился в передний угол, как будто для того, чтобы осветить стоящую перед иконой Марфушку. Она не крестилась, не кланялась, руки ее, всегда такие суетливые, висели. Громким шепотом она даже не молилась, а похоже, что просто рассказывала богу.
— Господи, вразуми ты меня, бобылку несчастную, живу я как в поле обсевок. — Тут Марфушка всхлипнула и принялась сморкаться.
Нине казалось, что сердце у нее лопнет от жалости к Марфушке. «Ну что она спрашивает у бога — все равно он ей ничего не скажет!» — с ожесточением подумала она. Впервые подумала так о боге.
И в следующую ночь ее разбудил бубнящий в темноте голос. За окном шлепал по крапиве и лопухам дождь. Из сеней несло едким вонючим табачным дымом. Нина засунула голову под подушку. Сквозь сон слышала, как еще долго Марфушка жаловалась молчаливому богу.
Когда на другой день вековушка разбила кринку, Нина, подбирая черепки, сказала:
— Знаете, а вы его прогоните. Чего ему надо?
— Вишь, девонька, велит на покос пойтить подсобить. А я так, чего по хозяйству, могу, а копны таскать — не по силам мне. Порченая я. Ишшо в девчонках батрачила, так с надрыву у меня что-то внутри нарушилось.
— Не ходите, еще заболеете.
— Вот и комбед не велит. Выручим, говорят, с хлебом.
— Комбед — это Советская власть?
— Совецкая, Совецкая.
— Раз Советская — значит выручит, — убежденно сказала Нина и, подумав, добавила: — Одного человека несправедливо посадили в тюрьму, а Советская власть его выручила.
…Уже неделя, как Нина в деревне. Сидит у окна, семь дней подряд сидит и смотрит на кособокую избу. Сейчас утро. Дома пьют чай в кухне. Окна в комнатах от жары прикрыты ставнями. В столовой на столе букет, мама так любит цветы. После чая сестры побегут в рощу.
Нина не заметила, как под окном собрались ребята. Они стояли, сбившись в кучку, и с откровенным любопытством смотрели на Нину. Они почему-то походили друг на друга: девчонки в длинных платьях, на головах платочки; у мальчишек волосы обрезаны «под горшок», рубашки не подпоясаны, штаны длинные, внизу бахрома, на плечах и коленях просвечивает голое тело.
Несколько минут Нина и ребята молча разглядывали друг друга. Девчонка, чем-то напоминавшая Граньку, наверное веснушками, спросила:
— Ты городская? Пошто приехала?
Нине не хотелось говорить про больные ноги, и она промолчала.
Маленькая белоголовая девочка, улыбаясь беззубым ртом сказала:
— Ждраштуй.
Нине стало смешно.
— Бонжур, мадемуазель.
Ребята помолчали.
— Гляди-кось, — произнес лобастый мальчишка с царапиной во всю щеку, — видать, нерусская.
Слова мальчишки подзадорили Нину, и ее, как говорил Коля, понесло: вот когда могут пригодиться французские слова, которые вечно зубрит Катя.
— Пардон, мусье. Пермете муа де ките ля клас. Ля пом, ля папир, адью, мерси. Эн, де, труа, же ве кан ля буа, катр, сенкс. Же ву при.
— Вот чешет-то! — восхитился лобастый мальчишка.
Запас французского «красноречия» у Нины иссяк.
Веснушчатая девочка попросила:
— Ишшо маленько поговори.
Нина помедлила всего лишь секунду, а потом выпалила:
— Гюго, Гюи де Мопассан, Дюма, Д’Артаньян, Айвенго, уксусэ, бззе, кабриолет, ватер клозет.
Лобастый мальчишка плюнул через зубы («вот не знала, что можно так далеко плеваться») и с презрением произнес:
— А че с ней, нерусской, разговаривать! Пошли, че ли?
— Вовсе я русская, — обиделась Нина.
— А по-каковски ты говорила? — спросила высокая синеглазая девочка.
— По-французски, — промямлила Нина, краснея.
— Айда с нами по ягоды, — позвала синеглазая девочка.
— А куда?
Девочка строго сказала:
— Не закудыкивай дорогу. Недалече пойдем, за Медвежью балку.
— Там медведи?
Ах, лучше бы она об этом не спрашивала! Они так хохотали, что лобастый мальчишка даже присел на корточки. У Нины горели уши. Уйти? Но от смущения она не могла пошевелиться. Под защиту ее взяла та же синеглазая девочка.
— Будя вам! — сердито прикрикнула девочка на хохотавших ребят. — Она же городская. — И, обратившись к Нине, почти приказала: — Бери корзинку, и айдате.
Нина заколебалась: Марфушка придет не скоро. А потом, вдруг они все время будут над ней смеяться?
— Ну, иди за корзинкой — мы обождем, — повторила синеглазая.
Нина схватила в сенях корзинку и выскочила во двор. Ворота из жердей не смогла открыть, но ловко перелезла через них. Кажется, это ребятам понравилось.
На Нине клетчатое короткое платье, тапочки из парусины на веревочной подошве и белые вязаные носки. Что ребята так пристально ее разглядывают? Бабушка говорит, что так смотреть на человека неприлично. Хорошо, что нет больших мальчишек, одна мелкота. И все они слушаются синеглазую Марусю. Нина старалась быть поближе к ней.
Сразу же свернули в переулок, прошли мимо огородов, спустились к реке и перешли ее по ветхому мостику. Плахи на мостике подвижные, будто клавиши пианино. Дорога поползла по косогору, повиляла и спустилась в низинку.
Прямо у ног дремало озерко не озерко, пруд не пруд. Словно в огромное блюдце налили зеленую воду. На воде круглые блестящие, как у фикуса, листья, а на них тоже круглые, точно фарфоровые, белые и желтые цветы. И над всем этим великолепием кружатся стрекозы с голубыми стеклянными крыльями.
— Не отставай. — Маруся взяла Нину за руку. — Ждать да догонять — хуже нет.
Скоро они вошли в лес. Дорога не торная, поросшая мелкой травкой. Березы раскидистые, ветви у них начинают расти низко над землей, а у елей, наоборот, ветви растут высоко и на них висит густая, как бахрома, хвоя.
— Какие елки высокие! — сказала Нина.
— Это не елки, а лиственницы, у них иголки на зиму опадают.
— Опадают? — удивилась Нина. — И деревья стоят голые?
— Голые, — повторила Маруся, она засмеялась и беззлобно сказала: — Чудная. Ты что, впервой в лесу?
— Да, первый раз. У нас есть роща, но это совсем другое. Ты не знаешь, как называются такие круглые цветы? Ну те, что растут прямо на воде? — Нина махнула рукой в сторону озерка.
— То кувшинки.
Нина быстро устала, а ребята, словно назло, с пригорка неслись вприпрыжку.
— Дальше не пойдем, — наконец объявила Маруся, — тут ягоды сколь хошь. Каждый собирает сам себе.
Ребята рассыпались в разные стороны. Нине Маруся наказала:
— Смотри не отставай, звать будем — откликайся.
Оставшись одна, Нина села и с наслаждением вытянула ноги. Здесь ее никто не увидит, никто не будет смеяться, что она, как старуха, сразу уселась отдыхать. Ну и заросли! За кустами, кажется, вода журчит.
Наверное, оттого, что она отвыкла так помногу ходить, ноги страшно ныли… Она чуточку полежит на спине, с закрытыми глазами, как учила мама, и все пройдет.
Приятно лежать — трава мягкая, от ключика тянет свежестью. Вода журчит, журчит…
Нина проснулась так же внезапно, как заснула. Кругом тихо, голосов ребячьих не слышно. Только вода журчит. Она крикнула: «Аууу!» Никто не отозвался, она испугалась и закричала: «Маруууусяяяя!» Снова молчание. Побежала в ту сторону, откуда пришли, — нет никого! Может, они в прятки с ней играют? Не надо бы кричать, но она не могла удержаться и кричала все громче и громче. Маруся бы отозвалась, значит, они ушли.
Но реви, не реви, а идти куда-то надо, она поднялась и побрела наугад. И вдруг услышала — кто-то идет за кустами, тяжело идет, даже ветки трещат. Медведь! Нина хотела крикнуть, но у нее пропал голос, хотела побежать, не смогла. И почти тотчас же увидела бурую телку. Вот кто ее выведет в деревню! А вдруг телка заблудилась? Тогда ее придут искать. Телка брела не спеша, останавливалась пощипать траву, почесаться о дерево.
— Ах вот ты куда забралась!
Нина оглянулась. На нее смотрел высокий худощавый мальчик.
В руках у мальчика длиннющая палка.
Это тебя ребятишки искали? — спросил он.
— А они искали? — обрадовалась Нина.
— А как же, нешто не будут искать. Ты заблудилась, что ли?
Нина молча кивнула.
— Ничего, тут до деревни рукой подать, — мальчик говорил степенно, рассудительным тоном. Нина успокоилась.
— А зачем такая длинная палка?
— Это удилище. Ну, пошли.
Телка послушно шла за ним. Нина старалась не оглядываться на телку, еще мальчик подумает, что она трусиха.
— Тебя как зовут?
— Нина. А вас?
— Антон. В городе жить интересно: школы, библиотеки разные… — Паренек вздохнул. — Мы ведь нездешние…
— Вы жили в городе?
— Мы с Поволжья.
— А-а-а, — Нина вспомнила — бабушка читала: «…волна беженцев растет». Вот, оказывается, какие беженцы бывают.
На прощанье Антон сказал:
— Смотри не ходи одна в лес, заблудишься с непривычки.
Ребята пришли на другой день, звали ее. Но она спряталась в сенях — будут еще смеяться. Они покричали и ушли. Потом упрекала себя: противно прятаться, если еще придут — непременно выйдет к ним. Вечером на подоконнике оказался огромный капустный лист, а на нем крупная смородина. Решила — наверное, Маруся.
А ночью сквозь дрему Нина снова слышала робкие оправдания Марфушки и въедливый голос мужика. Проскрипели ворота. Залаяли собаки. Нина уже знала: когда этот страшный невидимый мужик уходит, всегда лают собаки.
Нина привыкла просыпаться на рассвете, когда пастухи гонят в поле стадо. Коровы мычат на разные голоса: одни ревут протяжно и свирепо, другие — кротко, а иные — лениво, будто спросонок. На все лады — от тонкого ягнячьего до густо-басовитого — овцы. Нине нравилось смотреть из окна на стадо, особенно на овец. Смешные, бестолковые, сбиваются в кучу, шарахаются.
В избу вошла Марфушка, а за ней с кринкой в руках соседка Архиповна, высокая костистая старуха.
— Коли недужится, нече ходить, — проговорила Архиповна, ставя кринку на стол.
Марфушка, держась одной рукой за поясницу, достала с полки кружку, налила в нее молока, дала Нине.
— Пей да ложись, раным-рано еще, — кряхтя, Марфушка опустилась на лавку. — Кабы не нужда, разве пошла. А то придет беда — и лебеда еда…
— Сулил же тебе комбед, — сказала Архиповна, она стояла у дверей, сложив руки под грудью.
— Сулил-то сулил, — Марфушка безнадежно покачала головой. — В Петуховке, слыхала поди, был комбед, да богатеи разогнали. Вот и надейся… Да и кому наперед дадут помощь — тому, у кого детишки… Не мне бессемейной…
— Да уж, однако, так, — согласилась Архиповна.
Нина тянула теплое, пенящееся молоко, слушала и с жалостью поглядывала на Марфушку.
— Эй, Марфа! — донесся с улицы женский голос.
Под окном стояла с коромыслами на плечах некрасивая носатая женщина.
— Сазониха! — ахнула Марфушка и кинулась к окну.
— Али разбогатела, — жестко произнесла женщина. — Кажный погожий день дорогого стоит, а ей горя мало? Небось, как припрет, идут к Сазонову, а долги платить — так вас и след простыл. Не придешь — на себя пеняй! — Не дожидаясь ответа, носатая зашагала прочь.
Марфушка, охая на каждом шагу, принялась собираться.
— Чтоб она сдохла! — с ожесточением плюнула Архиповна и, сокрушенно покачав головой, добавила: — Однако всех нас переживет. Видать, кому не умереть, того всем миром не спереть.
— Знаете что, — сказала Нина, — а вы на этого Сазонова пожалуйтесь.
— Кому ж на него жаловаться-то?
— Советской власти.
— И, девонька, он тогда совсем меня со света сживет. Не понимаешь ты наших деревенских. Мала еще, вот и нет понятия об деревне.
Оставшись одна, Нина долго не могла уснуть. Противно-нудно жужжали под потолком мухи. В голову лезли скучные мысли. Так было бы интересно пойти с Марфушкой на покос, но неудобно сейчас. Ей, конечно, не до того… Как она сказала: «Придет беда — и лебеда еда…» Лебеда — нужда, лебеда — беда, беда — бедные. Марфушка бедная… Бедные — это, наверное, те, у которых все время беда… беда… беда…
В полдень пришла Архиповна.
— Штец тебе принесла, — сказала старуха, — постные шти-то, но молочком забелила, все, гляди-ка, повкуснее. Ты кушай, кушай, пока не простыли. — Архиповна села на лавку, подперев щеку рукой. — Совсем занедужила Марфа-то. Внучка моя бегала на покос, харчи носила, так сказывали бабы: свалилась Марфа, положили они ее под кустики в холодочек.
— Почему же ее к доктору не повезут?
— Эээ, милая, дохторов у нас на деревне нету. Вечером привезут, поправлю ей маленько спину да живот, бог даст, полегчает.
Щи невкусные, несоленые, но, боясь обидеть старуху, Нина ела.
— Уж не до тебя Марфе-то, — вслух, будто Нины здесь вовсе и не было, рассуждала Архиповна, — взяла бы я тебя к себе, да негде тебе у нас расположиться. Ты вот спать привыкла в отдельности. Ну, и дед у нас-то хворый, дух от него чижолый…
После ухода Архиповны Нина долго слонялась по избе, не зная, чем себя занять. Принялась было читать «Оливера Твиста», но перед глазами у нее все была Марфушка-вековушка. Знала бы о ее болезни мама! А если написать письмо? Нина вытащила из своей корзинки бумагу и конверт. Села к столу.
«Дорогая мамочка, Марфушка сильно заболела. Ее надо лечить, а в деревне докторов нет. Этот Сазонов ужасно злой. Марфушка говорит, что он со свету ее сживет. Мне Марфушку ужасно жалко. Она порченая. Мамочка, приезжай скорее и забери меня. Целую тебя, твоя дочь Нина. Скажи Домнушке: пусть она приезжает. За Марфушкой некому ухаживать. Мамочка, попроси у доктора Аксенова какого-нибудь лекарства для Марфушки».
Запечатала письмо, написала адрес. Но где почта? Как-то Марфушка говорила, что почта в соседней деревне Петуховке. Но как пройти в Петуховку? Антон. Вот кого надо спросить.
Мостик, на котором доски прыгали, как клавиши, Нина нашла, без труда. Наверное, и сегодня Антон погонит здесь телку. Чтобы никто ее не увидел, Нина забралась под мостик. Сидела и швыряла камешки в воду, но скоро забыла про камешки — заели комары.
В Деревне лаяли собаки, за мысиком озабоченно крякали утки, а в кустах тальника на другом берегу какая-то птичка жалобно выводила: чиииирр… чииир… чиир… «Зовет детей», — решила Нина. Интересно, а могут птицы думать? Любят же они своих птенцов, кормят их. Коля сказал, что это инстинкт. Ну, а если птица потеряла детей и ей грустно? Нет, наверное, птицы хоть немножко думают… Интересно, что про нее Антон думает? А вдруг он пойдет другой дорогой? Она решила сосчитать до тысячи и уйти, досчитала до двух тысяч, сбилась и бросила.
Она его увидела не по ту сторону реки, а на том же берегу, где она сидела. Значит, он перешел брод где-то выше. Со всех ног бросилась к Антону. Заметив Нину, он быстро пошел ей навстречу. Антон протянул капустный лист с крупной смородиной.
— Значит, это ты приносил?
Он молча кивнул. Они шли рядом. Нина машинально кидала в рот ягоды, мучилась, не зная, как ему обо всем рассказать.
— Ты чего бежала? — спросил Антон.
Он с первых же слов все понял:
— Ладно, давай письмо, я отнесу его в Петуховку. Почта там. Может, угадаю под отправку — так завтра мамаша и получит. — Антон вслух прочел адрес.
— Ты умеешь читать? А Марфушка говорила, что в деревне все неграмотные.
— Умею. Дома я учился. Ты ступай, — сказал он, — я напою телку. Письмо я отнесу на почту, может, сегодня и отнесу.
Нина медленно побрела по берегу. Кто-то ее догонял, она оглянулась. Антон, сказав: «Погоди», снял потрепанный картуз и вытащил из-под подкладки бумажку. Сунув бумажку ей, он пробормотал: «Дома прочтешь» — и убежал.
Почерк четкий, как у Кати на уроках чистописания.
У Нины захватило дух. Это он написал про нее. Антон. Она шепотом сказала: «Антон» — и засмеялась.
Марфушка была уже дома, лежала на лавке, жаловалась, что спину «ни согнуть, ни разогнуть» и голову «трамтит и трамтит чегой-то».
Вечером Нина в деревянной лохани мыла ноги на ночь. И вдруг кто-то негромко окликнул. Антон! Он стоял у ворот и смотрел на нее. Одернув платье, она с мокрыми ногами подбежала к воротам.
— Отнес я письмо. Почтарь сказал: завтра получат.
Антон так же внезапно исчез, как появился. Нина даже поблагодарить его не успела.
— Кто там приходил? — слабым голосом спросила Марфушка.
— Мальчик один, я его попросила… он ходил на почту… Его зовут Антон.
— А, этот… Они хорошие люди, надежные, из беженцев, А может, хуторской Антошка?
— У них еще телка, он ее пасет. Такой добрый мальчик… Он обещал…
— Тогда из беженцев. Только не ихняя телка-то. Чужую он пасет. За кусок хлеба и пасет. Они и с детей готовы три шкуры содрать. Антон хоть уж, почитай, большак, а брательник у него, еще десяти годочков нет, они вместе весной на пашню ходили. От темна до темна батрачили. Господи, будет такое время, когда ребятишки на богатеев спину гнуть не станут? Будет аль не будет?
— По-моему, будет, — сказала Нина.
— Добро, кабы по-твоему, — Марфушка глубоко вздохнула и сказала: — Кабы дожить.
Нина никак не могла заснуть и очень обрадовалась приходу Архиповны.
— Дай-кось, думаю, погляжу, как она, сердешная, — проговорила старуха, присаживаясь к Марфушке на лавку.
— Однако помираю я, — со всхлипом вздохнула Марфушка.
— А ты не кликай смерть, настанет час — небось ее замешкается, — строго сказала Архиповна. Она зажгла лучину и прикрепила ее к таганцу на шестке. — Настою из травки принесла тебе, выпьешь, гляди-ка, и полегчает. Девонька-то кушала? Али некушамши легла?
— Спасибо, я молоко пила.
— Ну и ладно. Ты, милая, спи. Повернись к стеночке и спи, а я малость Марфе спину поправлю.
Архиповна осталась ночевать. Сквозь сон Нина слышала, как она то и дело вставала к стонущей Марфушке, грозилась на кого-то найти управу, давала Марфушке воды «испить», потом так же сердито шептала молитвы, будто выговаривала богу.
Мама и Домнушка, очень встревоженные, приехали через день к вечеру.
Домнушка осталась в деревне, ухаживать за сестрой. Марфушка, несмотря на жару, все зябла, потихоньку охала и без конца просила пить.
Провожая их, Домнушка вытирала слезы головным платком.
— Гнула Марфа спину на богатеев, да, видать, сломалась.
На выезде из деревни, у речки Нина увидела ребят и Марусю. Она помахала им рукой, поискала глазами Антона и не нашла.
— Знаешь, мамочка, тебе письмо отнес один мальчик, то есть не тебе, а в Петуховку.
— В Петуховку? — удивилась мама. — Это же верст пять.
Выходит, Антон ради нее прошел пять верст туда и пять обратно. А она ему даже спасибо не успела сказать. Увидит ли она еще его когда-нибудь?
Мохнатая коротконогая лошаденка споро бежала, отгоняя хвостом паутов. Нина вглядывалась в кусты: не покажется ли бурая телка…
Радость возвращения — особая радость. Во дворе на черемухе черные шелковистые ягоды, возьмешь в рот — язык сразу к нёбу привяжет. В роще крапива вымахала вровень с забором. Под лопухом, все равно что под зонтиком, можно укрыться от дождя. На березках кое-где уже просвечивали желтые листья.
— Роща — это что… А лес знаете какой бывает!.. — рассказывала Нина сестрам. Лес… Маруся… Как заблудилась и как ее спас от медведей (в «Медвежьей балке», конечно же, живут медведи) мальчик Антон. Сестры сидели на своем излюбленном месте — в конце аллеи на пеньках. Нина вытащила из кармана потемневшую на сгибах бумажку. Катя и Натка от стихов пришли в восторг.
— Он в тебя влюблен! — воскликнула Катя. — Девочки в школе говорили: если кавалер влюблен в барышню, он обязательно пишет ей стихи.
— Глупости! Во-первых, он не кавалер, просто он хороший мальчик! — Нина рассердилась больше из-за того, что сама считала: конечно, влюблен, только об этом она должна одна знать.
Каждый раз ее рассказы о деревне обрастали все новыми подробностями: таких стрекоз в роще и не бывает, та стрекоза была с карандаш, а на ней сидела божья коровка. Коля, услыхав, как он его назвал, «стрекозлиный» рассказ, спросил:
— А не перевозила ли стрекоза на своей спине настоящую корову?
Нина постаралась больше при Коле не распространяться.
…Нина помогала бабушке мыть посуду, когда вошла Домнушка и, заплакав, проговорила:
— Привезла я Марфушку. Кровью харкает, горемычная. Видать, скоро богу душу отдаст… Может, и к лучшему — хоть отмаялась бы… Прости меня, господи, грешную!
— Не следует так говорить, — сказала бабушка. — Завтра схожу к доктору Аксенову. Он устроит Марфушку в больницу. Никогда нельзя отчаиваться.
— Загубили злые люди нашу голубицу бессловесную, — причитала Домнушка. — Я ли не молила господа бога… За что ее господь покарал? Ведь нет на ейной душеньке ни единого греха.
В столовой раздался бой часов. Шесть раз. Скоро придет Коля. Он теперь матрос, ходит в плаванье. Сейчас пароход ремонтируют, а Коля разгружает баржи.
Нина пробежала по двору и уселась на лавочку у ворот.
Худощавую фигуру Коли она увидела еще издали и заторопилась ему навстречу.
— Что-нибудь случилось? — спросил он озабоченно.
— Случилось. Домнушка привезла свою сестру, а она кровью харкает. Скоро умрет. Домнушка говорит, может, и к лучшему, хоть отмаялась бы…
— Что за чушь! — рассердился Коля. — Ее лечить надо.
— Знаешь, богатый мужик заставил ее, больную, идти на покос, за хлеб отрабатывать. Бог его за это накажет?
— Черта с два! Скажи бабушке: я пошел к доктору.
…Аксенов устроил Марфушку в больницу. Варя и Катя носили ей передачу.
— Принесла я доктору сеенки, — рассказывала Домнушка. — На дочкино, актрискино, пальтишко выменяла. Доктор уж так на меня рассерчал, чуть ногами не затопал. Теперь, говорит, медицинская помощь бесплатная. Это, говорит, великое достижение Советской власти.
— Аксенов глубоко порядочный человек. Он и раньше не брал денег с бедных, — сказала бабушка.
— Другие-то брали, — вздохнула Домнушка. — Ох брали.
Вскоре новое событие растревожило семью Камышиных. Лида собралась в Москву. Насовсем. Мама отговаривала Лиду. Бабушка долго ее увещевала. Лида вышла из бабушкиной комнаты с упрямо стиснутыми губами и красными глазами. Сестры слышали, как тетя Дунечка сказала бабушке: «Дикие фантазии взбалмошной девицы». Лидин отъезд в Москву представлялся сестрам чуть ли не геройским поступком.
— Как можно куда-то уезжать, — взрослым голосом повторяла Катя бабушкины слова, — когда кругом такая разруха, такой голод?
— А я бы поехала. Обязательно поехала, — твердила Нина.
Ее подмывало расспросить Лиду, но удалось это только в день отъезда. Мама ушла в лавочку, Натка увязалась за ней. Катя помогала бабушке готовить обед.
В столовой на диване — раскрытый на две половинки старинный кожаный баул, на столе — стопка белья. Лида укладывала вещи. Она то вынимала их из баула, то снова запихивала. Самое подходящее время для разговора.
— Тебе не страшно уезжать? — спросила Нина.
— Немного страшновато.
— Зачем же тогда уезжаешь?
— Вот поэтому и еду. Поняла? — Лида посмотрела в окно.
— Нет.
— А у тебя появлялось когда-нибудь желание ничего не бояться?
— Сколько раз, — уныло призналась Нина. — Еще осенью мы с Катей носили Вене передачу, так даже от козы убегали.
— Вена вчера не приходил?
— Не приходил. А в деревне я гусей боялась.
— Положим, я гусей тоже боюсь. — Лида швырнула в баул какой-то сверток, подошла к Нине, убрала с ее лба прядь волос и сказала: — Я про другое — можно тихонько сидеть в своем уголке, зарабатывать на хлеб насущный и ждать, когда все в мире устроится. Но можно и самой все устраивать.
Удивительно приятно, когда с тобой разговаривает как со взрослой, а не говорят: «Ты еще мала» или: «Это не твоего ума дело».
— А как это: самой устраивать?
— Вот этого-то я и не знаю, — вздохнула Лида.
«Милая Лида, никогда она не воображает, будто все знает».
Лида закинула руки за голову и, положив сплетенные пальцы на затылок, стала прохаживаться по комнате. Все-таки Лида очень хорошенькая…
— Но я должна узнать, как надо мир перестраивать. Всем вам, конечно, смешно! Но меня это не трогает… — Тут Лида оборвала себя и прислушалась. — Кажется, кто-то идет? Ниночка, выгляни в окошко, посмотри.
Нину удивила Лидина просьба: сама стоит у окна и просит. Но пожалуйста, разве трудно.
— Коля идет, — сообщила она.
— Один?
— Один.
— Я так и знала. — Лида улыбнулась, но не очень весело — ямочки на щеках сразу же исчезли.
Нина почему-то не решилась спросить, что «так и знала» Лида.
— Мальбрук в поход собрался, — пропел Коля, появляясь в столовой.
Лида промолчала, хмуря брови, она заталкивала в баул шаль. Коля потрепал легонько Нину за косы и провозгласил:
— Вена не сможет прийти.
— Понимаю, — кивнула Лида и стала что-то сквозь зубы насвистывать.
— Ничего ты не понимаешь, — мягко проговорил Коля, — он действительно не может прийти. У него болит нога. Кажется, растяжение. — Коля, наверное, ждал, что Лида заговорит, но она продолжала насвистывать.
— Ну, чего ты злишься? — Коля сел верхом на стул, вытащил из кармана железную коробку с махоркой и принялся вертеть длиннющую цигарку. Поглядывая на Лиду, он тихо проговорил:
— Ты могла бы понять Вену, сгоряча он решился, а когда все обдумал, взвесил…
— Когда все взвешивают… — Лида оттолкнула баул, — не может быть и речи…
— Не делай скоропалительных выводов. Постарайся его понять. Он пережил такое потрясение. Здесь его все знают. Да он сам тебе все объяснил. Вот его письмо. — Коля вынул из кармана тужурки незапечатанный конверт и протянул его Лиде.
Но она не взяла конверт, даже не взглянула на него.
— Передай ему, — сказала она, — что мне и без его объяснений все ясно. Где же моя блузка? Ах, я ее, кажется, в гардеробе оставила. — Лида поспешно вышла.
Странно: только что сама уложила блузку в баул и ищет?!
— Плохи, брат, твои дела, — тихо сказал Коля, встал и, оглядываясь на дверь, засунул конверт на дно баула. Погрозив Нине пальцем, Коля снова уселся верхом на стул.
Вошла Лида. Похоже, что она плакала, глаза сильно красные.
— Скажи, положа руку на сердце, — сказала Лида, глядя на Колю сверху вниз, — ты при данных обстоятельствах поступил бы так же?
— Типично дамский вопрос.
— Ах да, я забыла — ты же слова худого про товарища не скажешь. Что же мне еще нужно уложить?
— Что касается меня, я уехал бы на паровозной трубе…
— Ты это серьезно? Поедем! — оживилась Лида.
— Я не могу маму оставить. А они? — Коля кивнул в сторону Нины. — Наташе одной их не вытянуть.
— Ты человек долга, — сказала Лида, — а я чувствую себя свиньей… Столько вы для меня сделали…
— Еще скажи, что мы твои благодетели! — сердито сказал Коля. — Ерунда на постном масле.
Неожиданно Коля засмеялся.
— Ты о чем? — с обидой спросила Лида.
— О том, что ты первая женщина в нашем благородном семействе, покидающая родные пенаты. Первая ласточка!
Нина не поняла, говорит Коля шутливо или серьезно, а Лида показала на нее.
— Вот еще ласточка растет.
— Я тоже, когда вырасту, поеду в Москву, — заявила Нина.
— Собственно, что ты тут торчишь? Шла бы в рощу, — сказал Коля, — любишь ты взрослых слушать.
— А что, разве нельзя? Я Лиду провожаю.
— Ладно, сиди уж, — разрешил Коля и повернулся к Лиде. — Ты лучше объясни: на какие шиши собираешься жить?
— На те же, что и здесь. Я здоровая. У меня есть знания. Думаю, что образованные люди везде нужны.
— Не очень пока в этом уверен. В команде, не считая капитана, я единственный шибко образованный. Но для того чтобы драить палубу, грамота не нужна.
— Не представляю, как ты там. Как к тебе относятся?
— Сначала настороженно… Приглядывались. Конечно, у меня по сравнению с настоящими матросами кишка тонка. Но когда вместе в передрягах побываешь, когда разделишь последнюю щепотку табака — найдешь общий язык.
На вокзал — провожать Лиду — бабушка не поехала. Не хотели брать младших сестер, но Натка подняла такой рев, за двоих, что пришлось взять.
Когда все вернулись с вокзала, в кухне сидела заплаканная Домнушка. Вытирая краем головного платка глаза, она рассказывала маме:
— Не сегодня-завтра Марфушка отдаст богу душу. Высохли белые рученьки, ни кровиночки-то не осталось…
Бабушка поспешно выпроводила сестер. Нина убежала в рощу. Какой ужасный день! Уехала Лида… Как много народу на вокзале. И все куда-то торопятся, куда-то едут… Нина закрыла глаза и мысленно увидела: черный, горячий, в седых клубах пара паровоз; зеленые, медленно вздрагивающие вагоны; и Лида в окне вагона. Сколько шума на перроне: звенит колокол, пыхтит, гудит паровоз, визжат вагоны, кричат что-то провожающие, кричат, будто не понимают, что все равно ничего не услышишь.
Неужели и она, Нина, когда-нибудь поедет в Москву? Одна. А мама заплачет и вот так же скажет: «Неужели мы ее больше не увидим?»
Коля рассердился на маму и сказал: «Она же не умирает». А вот Марфушка умирает.
Подул ветер. Посыпались желтые листья.
Уходило лето…
Уходило детство…
Часть вторая
За большим, во всю стену, венецианским окном голубело небо и падал крупный сверкающий дождь. Занятно — откуда же собрался дождь? Выскочить бы хоть на минутку и посмотреть. Но когда, как говорят мальчишки, «держит речь» сам заведующий школой — Сергей Андреевич Тучин (Туча — по-школьному), — не так-то просто вырваться из класса. Подумать только, вот и она, Нина Камышина, — ученица восьмой группы второй трудовой школы с педагогическим уклоном! Здорово!
А, кажется, совсем недавно мама привела Нину первый раз в школу, сразу в четвертую группу. Сейчас-то с улыбкой вспоминается, как она ошалела от школьной сутолоки, гвалта и озорства мальчишек. Как у нее тряслись колени, если учительница вызывала к доске! Хотя знания у нее были отличные (бабушкина подготовка). Пока не училась — зима была долгой-долгой, а школьные зимы несутся вскачь.
Но все-таки, о чем говорит Туча? Ага «…с первого дня бороться за стопроцентную успеваемость… опираться на комсомольскую ячейку… провести чистку „Синей блузы“… староста группы — правая рука каждого школьного работника…» Интересно, кого выберут старостой? Наверное, Королькова. Он ужасно любит начальство из себя корчить. Нина оглянулась на Королькова. Сидит будто аршин проглотил и глазами ест Тучу. Ну и ну!
Корольков перехватил Нинин взгляд и укоризненно качнул головой, глазами показав на Тучу — дескать, слушай. «Уже поучает. Мара права: Корольков — зануда жизни».
Мара за лето вытянулась, загорела. Еще бы! Марин отец лесничий. Повозил ее по заимкам и лесным кордонам… Но по-прежнему она смахивает на мальчишку… Наверное, короткой стрижкой.
Нина разглядывала сидящую рядом подругу — пятый год на одной парте.
— Что уставилась?
— Давно не видела! В невесты выходишь!
Мара фыркнула на весь класс.
Конечно, если подурачиться — лучше всего с Марой, а вот о серьезном поговорить — так это с Зоей Гусаровой. Нина взглянула на парту справа. Зоя улыбнулась. Зоя и ее соседка по парте Галя Петрова, пожалуй, лучшие ученицы в группе. Они совсем разные: Зоя высокая, самая высокая в группе, полная, медлительная и сдержанная. Галя голубоглазая, нос клювиком, на парте крутится, как волчок. Девочки считают, что Галя со вкусом одевается. Если бы у нее, Нины (вернее, у мамы), были деньги, она бы сшила точно такую же, из синей шерсти, матроску. Строго и красиво. А чулки у Гали шелковые… Сегодня все принарядились.
Нина все лето на такие чулки копила деньги. Но пришлось их потратить. Прихворнула Катя, доктор Аксенов прописал ей молочную диету, а молока не на что было купить. Тогда Нина купила на базаре четверть молока. Бабушка сразу стала допытываться: «Где деньги взяла?» Пришлось сознаться. Бабушка сказала: «Рановато думать о шелковых чулках» — и, конечно, прочитала нотацию: человека украшают не чулки, а поведение. Так-то оно так, но бабушка совершенно не представляет, как неловко выходить к доске в штопаных-перештопанных чулках. Кажется, все на тебя смотрят… Лучше всех в школе одеваются деточки нэпманов. Эта задавала Лелька Кашко (у ее отца своя собственная фотография) заявилась раз на вечер в бархатном платье и лаковых туфлях. Мальчишки за ней бегали хвостом, даже противно. Неужели для мальчишек важнее тряпки, чем…
— Камышина! — прогремел голос Тучина. — Возможно, тебе неинтересно в классе? Возможно, ты мечтаешь прогуляться по коридору? — Он смотрел на Нину поверх очков, наклонив круглую голову.
— Нет, что вы! Спасибо. — Она не соображала, что говорит.
Грохнул хохот. Тучин улыбнулся. «Добряга. Никогда не сердится».
— Коль так, можешь остаться в классе.
Нина опустила ресницы, и теперь уже сказала нарочно:
— Оздоровим «Синюю блузу». Не будем тонуть в болоте мещанства! — Не очень-то, конечно, остроумно. Но хохочут. Наверное, устали слушать Тучу.
Сергей Андреевич, пряча под усами улыбку, погрозил ей толстым и коротким пальцем. Герман Яворский, он сидел в среднем ряду на первой парте, поставил крышку торчком и на внутренней стороне написал мелом: «Нишкни! Еще начнет спрашивать. Даешь речугу!»
Быстрее всех сообразила оборвать опасно затянувшуюся паузу Галя. Встала и попросила рассказать, как педсовет и вообще наши преподаватели и комсомольская ячейка решили ликвидировать отставание бригадно-лабораторного метода проработки учебного материала.
Делая вид, что слушает, Нина разглядывала Тучина. Весь он как-то лоснится, лоснятся жирные румяные щеки, лысина, борта пиджака. Лоснятся глаза под круглыми очками. Говорят, что жена у него молодая. А он старый. Забавно. Сколько ему лет? Наверное, лет сорок-сорок пять. На парту шлепнулась записка. Нина прочла: «Твои чарующие глаза и губки сводят меня с ума». Она оглянулась. Конечно, это красавчик Леня Косицын. Нет, она не Лелька Кашко, чтобы принимать всерьез такие записочки. Перечеркнула и написала: «Пошло».
— Это еще что за записки? — Тучин стоял около парты. — Дай сюда.
Нина обомлела. Все произошло в одну секунду. Герман Яворский оглушительно чихнул, записка слетела па пол. Герман полез под парту, записка исчезла. Нина как бы со стороны видела свое красное, перепуганное лицо. «Вечно со мной какие-то идиотские истории». Под самыми дверями задребезжал, слава богу, звонок.
— Зайдешь ко мне после уроков, — сказав это, Тучин выкатился из класса.
Последний урок не состоялся. Объявили митинг.
В зале над сценой лозунг: «Наш ответ Чемберлену»…
— Девочки, Чемберлен кто? — спросила Лелька Кашко, усаживаясь возле Германа Яворского.
— Ты меня спроси, — Герман скроил свирепую рожу. — Чемберлен — капиталистическая гидра. Лорд. И на этом основании ненавидит Советский Союз и делает нам гадости.
— Тихо! — провозгласила Мара. — Явление первое: на сцене наш Григорий Шарков, уч. восьмой нормальной.
Значит, комсомольская ячейка поручила митинг открыть Грише Шаркову. Сапожишки на нем стоптанные, брюки залатанные, лохматый.
— Ну и видик у Шаркова! — хохотнула Лелька Кашко.
Ваня Сапожков, самый сильный в группе, а глаза голубые, безмятежные (вот уж кто ни в какие потасовки не ввязывался), оборвал Лельку:
— Болтаешь что попало!
— Полегче, Лелечка, с замечаниями, — не утерпел Герман Яворский, — между прочим, Шарков и Ваня ходят на вокзал подрабатывать. Носильщиками. Ясно, мадам?
Шарков, наверное, чувствовал себя на сцене неловко и растерянно молчал. А зал гудел.
— А ну поддержим: раз… два… три… — скомандовал Яворский.
Хором гаркнули:
— Ти-хо! Ти-хо! Ти-хо!
Водворилась тишина.
— Ребята, — сказал Гриша срывающимся баском, — мы должны, как и все советские граждане, дать свой ответ Чемберлену. Но сначала, ребята, я хотел напомнить… Да, я думаю, никто не забыл… Я, ребята, про казнь Сакко и Ванцетти. Американские капиталисты казнили борцов за свободу. Весь мир протестовал. Но их казнили. Их посадили на электрический стул и сожгли электрическим током.
Физик Сем Семыч, он сидел в первом ряду, поднялся и, повернувшись лицом к залу, тихо, но его все услышали, сказал:
— Почтимте память казненных рабочих-революционеров вставанием.
На сцене, опустив голову и сжав кулаки, стоял Гриша Шарков.
Кажется, синеблузники первыми негромко и торжественно запели:
Нина стояла, как и Гриша, опустив голову и сжав кулаки.
И Нина вспомнила: зимним вечером все сидели за чаем в кухне. (В том году зима стояла особенно суровой, в кухне Камышины спасались от холода.) Протяжно загудели гудки. Это не был веселый гудок расположенного за рощей завода «Маслопром», — гудели и фабрики и паровозы.
Гудки оборвались, и стало страшно тихо. Потом снова загудели. И так три раза. Все сидели за неубранным столом и чего-то ждали. Скрипучие, морозные шаги за окном.
Не снимая полушубка, Коля прошел в кухню.
— Ленина хоронят!
— Что будет с Россией? — сказала бабушка, тяжело поднимаясь из-за стола.
Коля ушел в институт, бабушка — в церковь.
Примчалась Мара и сообщила, что все ученики идут в школу на траурный митинг. Сначала мама никак не хотела отпускать сестер, но потом, закутав их по самые глаза, пошла с ними.
В школьном зале было необычайно тесно. Кто-то из учителей, кажется Сем Семыч, принес маме стул и поставил его около самой сцены. Мама взяла Натку на руки, а Нина с Марой и Катей стали у них за спиной. На сцену поднялся старик. Он долго молчал, а потом произнес:
— Братцы… Ильич… — старик закрыл лицо шапкой, так, ничего больше не сказав, ушел со сцены.
Потом все хором запели: «Вы жертво-о-о-ю пали в борьбе роковой…»
Тогда мама, сбросив на стул свою подбитую облезлым мехом бархатную шубку, шагнула на сцену. Подошла к роялю, подняла крышку и привычным жестом положила руки на клавиши.
Мама играла. Все стоя пели. Тогда Нину впервые охватило чувство причастности к чему-то, что было дорого не только для нее, но и для всех…
После Гриши Шаркова стали выступать другие ребята. Все они клеймили позором Чемберлена. Нина слушала и недоумевала: этот Чемберлен, хоть он и государственный деятель, просто идиот. Как можно не признавать Советскую страну, когда она существует почти десять лет и, безусловно, не исчезнет оттого, что Англия не хочет ее признавать.
Конечно, на сцену вылез Корольков (разве он утерпит) и заявил, что общее собрание членов кустарно-промысловой артели «Красная заря» — «где трудится простой работницей моя мать…» — ввернул Корольков.
— Это он сообщает всем о своем соцпроисхождении, — шепнул Нине Герман Яворский.
— …постановило, — продолжал Корольков, — отчислять в фонд «наш ответ Чемберлену» один процент от своего месячного заработка в течение трех месяцев. Я призываю товарищей школьников внести свой вклад.
«А предложение правильное», — подумала Нина и сказала Маре:
— Можно платный вечер устроить, спектакль, лотерею, буфет, а всю выручку — в фонд.
Лелька Кашко попросила слова.
— Я предлагаю… — и повторила Нинины слова.
Ей аплодировали. Нину немного утешило, что Яворский сказал Лельке Кашко:
— А ты, Кошка, на ходу чужие мысли подхватываешь. Почему не сказала, что это предложение Камышиной?
Так Лельке и надо. Она, кажется, влюблена в Яворского, пусть получает. В общем-то не все ли равно, кто выступил, важно, что ее идею приняли и теперь вся школа как надо ответит лорду Чемберлену.
После митинга Корольков подошел к Нине:
— Камышина, тебя ждет заведующий.
Тучин взглянул на Нину поверх очков и спросил:
— Ты зачем?
«Наврал Корольков. Туча забыл, а я-то дура…»
Но он вспомнил.
— Надеюсь, для тебя не новость, что ты теперь учишься в восьмой группе?
— Не новость, — выдавила Нина, с тоской подумав: «Ну, начинается, сейчас скажет о святом долге юности…»
Сергей Андреевич погладил себя по плешивой круглой голове.
— Святой долг юности…
Нина прикусила губу и уставилась в пол — теперь только надо, не улыбаясь, выслушать все до конца.
В кабинет, бесшумно прикрыв за собой дверь, вошел преподаватель черчения Генрих Эрнестович Шелин. За яркие голубые глаза, словно нарисованные тонкие брови и кудрявую бородку его прозвали Христосиком.
Шелин всегда в полувоенной форме: щегольские сапоги, галифе и нечто среднее между гимнастеркой и модной «толстовкой». Шелин никогда не кричал, но самые отчаянные головорезы его боялись.
Мельком взглянув на Нину, он сказал:
— Признаться, не ожидал от Камышиной подобного легкомыслия. Подобным образом вести себя на вводной беседе заведующего школой…
«Кто-то ему уже наябедничал, — подумала Нина, — интересно, кто? И потом, какое его дело? Вечно вяжется».
Глядя ей в переносицу, Шелин продолжал отповедь:
— Имей в виду, Камышина, вопрос о твоем переводе в параллельную группу обсуждался на педсовете. Тебе известно, кто учится в параллельной группе?
Да, Нине было известно: второгодники, и они платят за учение. А еще деточки нэпманов.
— …Тебя отстоял Сергей Андреевич. Мы учли, что твоя мать в настоящее время относится к остро нуждающимся.
Нина, глядя на Шелина, думала: правильно, что Христосика в школе не любят. Ребята-старшеклассники рассказывают: он раньше заигрывал с ними, вместе курил, а как-то стал допытываться, какое у него прозвище. Сказал, что и они в гимназии всем преподавателям давали прозвища. Тогда один ученик брякнул: «Христосиком вас зовем». Так Шелин этого ученика выжил, родители перевели мальчишку в другую школу. Лелька Кашко (ей, конечно, от папочки, члена родительского комитета, все известно) рассказывала: если учителя собираются на вечеринку, то многие заявляют: «Ни в коем случае Шелина не приглашать!»
А Шелин все отчитывал:
— ….в вашей группе дети достойных людей… ты учишься бесплатно… тебе сделали снисхождение… Надеюсь, ты поняла! — Шелин вышел, он и не ждал ответа.
Выходя, Нина взглянула на Тучина: Сергей Андреевич поспешно отвернулся. У Нины мелькнула догадка — Туче стыдно за Христосика и неловко перед ней, Ниной. Как не стыдно напоминать человеку, что ему делают снисхождение, да еще из-за бедности! Какое противное слово — снисхождение.
В вестибюле ее окликнули:
— Камышина!
Оказывается, Зоя ее ждала. Высокая, полная, в элегантном дорогом пальто, она показалась Нине совсем взрослой.
Школа, каменное двухэтажное здание с нишами и венецианскими окнами, стояла в конце улицы. Сразу за школой — поле. С правой стороны дороги, вымощенной булыжником, лепились домишки с голубыми и зелеными ставнями, с геранями и фуксиями на окнах.
На голом, по-осеннему неприбранном поле, уже тронутые желтизной, топорщились кусты. В голубом, здесь, на просторе, особенно высоком небе громоздились, как сугробы, рыхлые облака.
— Христосик меня отчитывал, — сказала Нина.
— А ему что надо? — Зоя тряхнула коротко стриженными волосами. — Впрочем, могу сообщить новость: он будет руководителем нашей группы.
«Теперь начнет придираться», — тоскливо подумала Нина. Занятая своими мыслями, она не очень вслушивалась в то, о чем толковала Зоя. Но вдруг поразилась: как это уйти из школы?! Выходит, Зоя и Галя будут сдавать в вуз экстерном. К весне подготовятся, следующей осенью станут студентами. Зоя говорила долго и таким тоном, словно Нина возражала.
— А школу тебе не жаль?
— Жаль. Но тебе пятнадцать, а я на два года старше. Папа говорит, что перестройка школы очень плохо отражается на знаниях учащихся. Папа сказал, что репетиторы дадут больше знаний, чем школа. Пойду в медицинский. А ты кем хочешь быть? — спросила Зоя.
…На пасху бабушка подарила сестрам по рублю. Катя купила себе чулки и перчатки, Натка — сладостей, а она — билеты в театр. Пошли с Варей на «Анну Каренину».
С того момента, как медленно и торжественно начинал раздвигаться тяжелый занавес, весь мир, кроме тех, кто ходил на сцене, смеялся, плакал и жил своей необыкновенной трагической жизнью, переставал для нее существовать.
Еще долго после спектакля, как только Нина оставалась одна, начиналось наваждение — она видела огни рампы и темный тихий зал. На сцене Анна Каренина. Нет, это она — Нина…
— Так кем же ты хочешь быть? — переспросила Зоя.
— Иногда мне кажется, — не очень уверенно сказала Нина, — в общем я хотела бы, хотя я понимаю — таланта у меня нет, — разозлившись на себя, что так мямлит, выпалила: — артисткой хочу быть. Тебе смешно?
— Нисколько. Про талант еще неизвестно, а декламируешь ты хорошо. Но сильно волнуешься.
— Трясусь, как дура, — сказала умышленно грубо.
— Почему ты ушла из «Синей блузы»? Тебе надо развивать свои способности.
«Синяя блуза»… Это, конечно, не театр. Всего-навсего самодеятельность. Синеблузники подхватывали газетные лозунги. Был лозунг: «Гармонь под покровительство комсомола». Взявшись за руки, синеблузники изображали мехи гармони, то раздвигаясь, то сближаясь, и приговаривали «Тын-ка… Тын-ка… Тын-ка». Выступление Нины сводилось к единственной фразе: «С песней звонкой, переливной, как близка гармошка нам».
— В прошлом году бабушка часто болела, у нее астма, — сказала Нина. — Надо было все дома делать. Катю плеврит замучил. Но «Синяя блуза» — это не то, вот драма — это настоящее. Но я буду учительницей. Это я могу.
— Лелька, по-моему, влюблена в Яворского. Она ничего, хорошенькая. Только глаза как студень, — сказала Зоя. — А он к тебе неравнодушен.
— Ко мне? — притворно удивилась Нина. И тут же стало неловко от своего лицемерия. — Кажется, немножко. А с чего ты взяла?
— Записку спрятал, напал на Лельку. Это всегда почему-то заметно.
Они немного помолчали.
— Что такое, по-твоему, любовь? — неожиданно спросила Зоя.
Нина, не находя нужных слов, молчала. Зоя снова спросила:
— Скажи, ты могла бы, как Ларина Татьяна, выйти замуж за старика?
— Но ведь с ним же надо целоваться! — уныло сказала Нина.
Зоя с пристальным, непонятным для Нины любопытством разглядывала ее.
— Ты еще очень наивная.
Нина смущенно промолчала, разве она виновата — Мара как-то хотела объяснить ей об отношениях мужчин и женщин, но сразу почему-то рассвирепела и заорала: «А ну тебя! Ни черта ты не поймешь!»
— Представь, мне один папин знакомый сделал предложение. — В тоне Зои прозвучала нарочитая небрежность.
— Какое предложение?
— Предложил руку и сердце. — Зоя как-то по-взрослому засмеялась, тряхнув короткими волосами.
— Он старик?
— Нет. Он пожилой. Лет, наверное, тридцати пяти. Некрасивый. Декан, работает вместе с папой.
— Что ты ему ответила? — Нину прямо-таки захлестывало любопытство. Господи, выходит, через два года и ей могут сделать предложение.
— Я сказала ему, что еще молода.
— Правильно!
Девочки заговорили наперебой, больше слушая себя. Конечно же, любовь бывает только одна и на всю жизнь. Без любви подло выходить замуж. Лучше остаться старой девой. От слов любовь, верность, он радостно щемило сердце.
На ботинки налипла грязь, на платья и чулки нацепились репьи, но подруги ничего не замечали. Они еще долго провожали друг друга, часто повторяя: «Ты только смотри никому не говори». Нину все время мучило желание спросить Зою, верит ли она в бога. Удерживала боязнь показаться смешной.
В «нормальной» восьмой группе событие. Перед началом занятий ученики с веселой удалью выкинули парты и втащили столы.
— Уроки словесности отменяются, — объявил староста группы Корольков. — Будет, значит, собрание. На повестке дня вопрос о проведении в жизнь бригадно-лабораторного метода учебы.
Поднялся невообразимый гвалт.
— Сидеть за столами, — старался всех перекричать Корольков, — будем побригадно.
Мальчишки принялись скандировать:
— По-бри-гад-но, по-бри-гад-но! — с особым усердием делали ударение на слоге «гад». Пауза. А потом — оглушительно и удивленно — «но!».
Столы длинные, на каждую бригаду стол. Пришлось их поставить торцом к доске. Сидеть боком к доске не очень-то удобно, но ведь заниматься станут лабораторно. Мара заявила, что она «не намерена терпеть тесноту», и уселась спиной к доске. Мальчишки последовали ее примеру. Корольков объявил, что бригады организуются «по принципу добровольности». Мара пренебрегла принципом добровольности, она показывала пальцем на угодного ей ученика и объявляла:
— Ты… Вот ты! А еще тебя беру.
Бригадно-лабораторный метод привел в восторг всю группу. Преподаватель коротко пояснял тему для лабораторной проработки. Потом бригада поручала кому-нибудь сделать доклад или реферат. В зависимости от знаний выступающего засчитывалась работа всем членам бригады. Оценок две: «зч» (зачет) и «нзч» (незачет). Учиться стало неожиданно легко — всегда кто-нибудь вывезет.
Особенно вольготно себя чувствовала восьмая «нормальная» на уроках немецкого языка. Берта Вильгельмовна преподавала в их школе первый год. Своим видом она поразила учеников. Высокая прическа с локончиками на затылке время от времени подозрительно сползала набок. Герман Яворский клялся, что Берта лысая и носит парик. Платья немки, с множеством бантиков, с рюшами, оборочками, замысловатыми воланчиками и буфами на рукавах, вызывали у девочек удивление и тихое веселье. С широкого плоского лица немки с нежно подрумяненными щечками не сходило выражение легкого испуга. Она плохо говорила по-русски. Иногда не выдерживала:
— Лозовский, ви дольго пересталь разговаривайт?! — Немка хваталась за сползающую прическу.
Мара вскакивала и, тараща глаза, под хохот мальчишек выкрикивала:
— Их ист недольго пересталь разговаривайт! — и, состроив невинную мину, смиренно добавляла: —Только я Лозовская, потому что их ист девочка.
— Зицен зи зих, — неуверенно бормотала Берта Вильгельмовна.
С немецкой педантичностью она ни на шаг не отступала от бригадно-лабораторного метода. Войдя в класс, она объявляла:
— Лабораторно проработайт параграф нумер цван-циг.
«Прорабатывал» параграф в Мариной бригаде лишь добросовестный добродушный силач Ваня Сапожков, а долговязый Васька Волков списывал у него. Васька известный лодырь — взяли его в бригаду, потому что без его друга Сапожкова Ваську исключили бы за неуспеваемость.
На одной из перемен к Нине подошел Корольков и отозвал в сторонку. Тихо, озираясь по сторонам, спросил: не кажется ли Камышиной, что химичка Алла Викторовна Чарова саботирует бригадно-лабораторный метод, не считает ли Камышина, что этот вопрос необходимо обсудить на учкоме? Лично он, как член учкома, хотел бы посоветоваться с массами.
Нина терпеть не могла Королькова. Все в нем было противно: белое, словно обсыпанное мукой, лицо, и липкий голос, и манера оглядываться.
— Нет, не кажется, — она и не хотела скрывать своей неприязни и с насмешкой прибавила: — А тебе, если кажется, перекрестись.
Корольков поджал тонкие губы.
— Я всегда был фактически уверен, что ты несознательная.
Что значит несознательная?! Нет, только не оправдываться. Неожиданно для себя самой закатила глаза и нараспев продекламировала:
— «О, закрой свои бледные ноги»… — повернулась и побежала от него.
Корольков дрожащим от злости голосом крикнул ей вслед:
— Ненормальная!
Алла Викторовна, по общему мнению девочек, не походила на учительницу. Высокая, полная, с высоко взбитой прической, она входила в класс, постукивая каблучками. С ней здороваться одно удовольствие — всегда улыбается. Герман Яворский на ее уроках из кожи лезет — острит.
До неприятного разговора с Корольковым Нина не задумывалась, «саботирует» ли Алла Викторовна бригадно-лабораторный метод. Теперь невольно стала приглядываться: все как будто правильно. Алла Викторовна дает тему, все побригадно прорабатывают… Нет, нет, постой… Алла Викторовна выходит к доске и говорит:
— Косицыну непонятен вывод формулы… — и начинает объяснять.
Ага, все хватаются за ручки. Вот и получается, что объяснила Алла Викторовна. А как же с самостоятельной проработкой?
— Леля Кашко, иди к доске и расскажи…
Нина с Корольковым сидят за соседними столами спиной друг к другу. Он шипит ей в спину:
— Видишь, видишь, не доклад, не реферат, а самый настоящий опрос…
Но тут химичка, похвалив Кашко, предложила самостоятельно вывести некоторые формулы. Нина дернула Королькова за рукав и показала ему язык.
— Имей в виду, вопрос об уроках химии будет стоять на учкоме, — тихо и торжествующе пообещал Корольков.
Идея пришла неожиданно — не придется Королькову «ставить вопрос». В конце урока Нина подняла руку:
— Разрешите мне в следующий раз сделать реферат на тему «Окиси, кислоты и соли».
Алла Викторовна несколько замешкалась, но пытливо взглянув на Нину, улыбнулась и согласилась. Пусть только Камышина подумает о содокладчике. Вообще они уже достаточно проработали материал, на другом уроке она распределит темы рефератов.
— Ага, что, съел? — шепнула Нина Королькову.
Группа с нетерпением и любопытством ждала, как же отнесется к бригадно-лабораторному методу математик. Неужели строгий Платон Григорьевич Боголюбов, которого, кажется, побаивается сам Тучин, перестанет спрашивать и выставлять в журнал беспощадные отметки? Боголюбов был болен.
Наконец он появился. Вошел. Поздоровался. Положил портфель. Протер очки. И своим скрипучим голосом, который знало не одно поколение учащихся, спросил:
— Что сей сон значит? — И, помолчав, он добавил: — Яворский, Косицын и Лозовская, ваши спины не вызывают во мне острого желания их созерцать, к тому же, если вы не хотите меня видеть, будьте любезны, выйдите в коридор.
Прокатился смешок.
Мара вскочила.
— Платон Григорьевич, извините! Можно нам остаться? — она оглянулась на мальчишек. — Мы пересядем.
Боголюбов кивнул и произнес фразу, известную всем учащимся второй трудовой школы второй ступени:
— Не увлекайтесь, и не будете увлеченными.
Под тихий хохоток Мара и ребята поспешно пересаживались.
Платон Григорьевич прошелся по классу и таким тоном, словно он только вчера «гонял» лентяев у доски, произнес:
— Повторим кое-что из пройденного. К доске пойдет… — он пристально, из-под очков, оглядел необычно притихший класс и, конечно, угадал — Волков.
Длинный, нескладный, цепляясь коленями за скамейки, Волков поплелся к доске. По его спине Нина чувствовала — Васька все перезабыл. Хотя бы Платон ее вызвал! Как здорово, что бабушка в дождливые дни засаживала их за учебники! Но Боголюбов как-то ухитрялся вызывать тех, кто плохо знал урок. Прохаживаясь между столами и заглядывая в тетради, он сказал своим скрипучим, насмешливым голосом:
— Я вижу, вам созданы прекрасные условия для списывания.
«Интересно, утерпит Корольков? — подумала Нина. — Утерпел. Боится, что Платон его вызовет».
Боголюбов объявил:
— Вам, Волков, неуд (он всем ученикам, даже в пятой группе, говорил «вы»), извольте заниматься. Спрошу на следующей неделе.
— Ничего, Вася, — зашептала Нина, когда красный от смущения Волков сел рядом с ней, — мы тебя натаскаем. Надо только формулы запомнить.
— Вот именно — запомнить формулы, — подтвердил Боголюбов.
«Ну как он все слышит?» Нина любила математику. Платона любила, но, как и все, побаивалась его. Ей нравилось, что на его уроках все постоянно начеку — не заскучаешь. Коля говорит, что математика — гимнастика ума, без нее мозги заплесневеют. Однако за лето у многих мозги заплесневели — к концу урока в журнале стояло двадцать «неудов».
На перемене Нина забежала в класс за завтраком — «бутерброд» — хлеб с картошкой, школьный буфет ей не по карману. В пустом классе двое — Давыдов и Корольков. Анатолий Давыдов самый старший в группе, говорят, что ему скоро двадцать. Одевается безукоризненно, даже — единственный из мальчишек носит галстук. У него умное, некрасивое, интеллигентное лицо. В группе он как-то на отшибе, перемены простаивает у окна с книгой. За манеру отвечать едкой иронией на насмешки ребят его прозвали Чацким. Может, он держится так потому, что чувствует себя взрослым среди детей.
Ни Корольков, ни Давыдов ее не заметили. Она услышала, как Давыдов сказал с откровенным презрением:
— …это твое дело. Я хочу поступить в вуз, и мне нужны знания. Я уважаю Платона и писать на него доносы не собираюсь!
Корольков что-то промямлил своим липким голосом.
— Иди ты… к… — Давыдов выругался.
Вот тебе и Чацкий… Нина выскочила из класса. В душе она была рада — так и надо Королькову.
Видимо, все же Корольков пожаловался — на следующих уроках Боголюбов выставлял оценки не в журнал, а в свою записную книжечку. Корольков встал и, оглядываясь, как бы ища поддержки, заявил:
— Платон Григорьевич, у нас оценки выставляют по-бригадно, а не поиндивидуально.
— Видите ли, Корольков, — за очками глаза Боголюбова сверкнули сухо и насмешливо, — у меня двести с лишним учеников, а человеческая память — увы! — несовершенна.
Он взял портфель и, сказав: «До грядущих встреч», вышел из класса.
На другой день Корольков явился в школу с внушительным синяком под глазом. У Давыдова на щеке запекшаяся царапина, Яворский прихрамывал, у Косицына вспухла губа. Дрался Леня, конечно, не из-за убеждений, просто во всем подражает своему другу Яворскому. Мара сообщила: «Вчера после занятий мальчишки дрались. Всыпали Королькову за донос».
После первого урока Шелин вызвал в учительскую участников драки. Девочек удивило, что в драке был замешан комсомолец Гриша Шарков, прежде за ним такого не водилось.
Давыдова и Яворского (поговаривали, что они затеяли драку) исключили на две недели из школы. Шаркова и Косицына помиловали, но они из солидарности в школе не появлялись. Досадно, что дома не с кем поделиться школьными переживаниями. Катя к ним равнодушна. Вообще с Катей творится что-то неладное. Однажды Нина застала сестру с зеркалом в руках.
— Скажи мне правду, — казалось, Катя вот-вот заплачет, — я очень страшная? Только не утешай. Ты всегда говоришь правду. Скажи сейчас!
Катино волнение передалось Нине, никак она не ожидала, что ее старшей, такой положительной и рассудительной сестре свойственно легкомыслие (а это, конечно, легкомыслие — думать о внешности).
Пусть Катя не расстраивается: уж если говорить правду, она не такая хорошенькая, как Натка, но зато глаза у Кати красивее. Большие, черные. Даже романс есть «Очи черные». В одной книге написано, что самое красивое, когда белки глаз голубые, а у Кати голубые. Может посмотреть в зеркало и убедиться.
— Ты вот стала волосы на висках подвивать, тебе это очень идет.
— Если бы ты знала, чего мне это стоит, — вздохнула Катя.
Да, Нина знала. Бабушка высмеивала сестру за «локоны» (и никакие это не локоны, а так себе — слабенькие завитушки), смеялась над тем, что Катя укоротила платья, — «неприлично коленками сверкать». А когда, обижаясь на насмешки, Катя плакала, бабушка называла ее девицей с драматическим уклоном. Что-то Часто Катя стала плакать.
— А ты знаешь, для кого я волосы подвиваю? — немного помолчав, спросила Катя, непривычно щурясь, будто вглядываясь в кого-то. — Знаешь, я влюблена. Ты никогда не угадаешь в кого. В нашего учителя физики. Если бы ты видела, какое у него лицо! — Катя заговорила быстро-быстро: — Он просто удивительный, замечательно рассказывает.
Раз она помогала ему делать опыт на кружке (так вот почему Катя ходит на занятия кружка), и он назвал ее Катюшей.
У нее болел бок на уроке, он сказал: «Если ты плохо себя чувствуешь — иди домой». Такой чуткий.
Нина поразилась: как можно влюбиться в учителя?
Но скоро и Нина и все девочки восьмой нормальной влюбились в нового преподавателя обществоведения.
Однажды в класс, хлопнув дверью, ворвался молодой человек в стоптанных сапогах, кожаном галифе, видавшем лучшие времена, в ярко-зеленой косоворотке. На худощавом горбоносом лице диковато сверкали черные глаза, черно-синие кудри, казалось, облиты лаком.
Похоже, что Демон из поэмы Лермонтова залетел к ним в класс.
У доски, чуть покачиваясь на носках, он командирским голосом гаркнул:
— Здорово, товарищи!
Группа в замешательстве молчала. Первыми нашлись мальчишки:
— Здорово! — с энтузиазмом, но несколько вразброд закричали они.
— Меня зовут Якобсон. Я у вас буду вести обществоведение.
Как потом выяснилось, Якобсон отказался, чтобы Тучин представил его учащимся.
На первом же уроке Якобсон заявил: учитель и учащиеся прежде всего товарищи по совместной работе, а раз товарищи — они должны говорить друг другу «ты».
— Как тебя зовут? — тотчас же обратился к нему Яворский, оглядываясь на Нину с Марой и подмигивая им, вот, дескать, будет потеха.
— Я же сказал: зовите меня «товарищ Якобсон».
Якобсон уселся на учительский столик. Немедленно Яворский и Косицын взгромоздились на свои столы. Якобсон даже глазом не повел. Он заявил, что не намерен прорабатывать с товарищами учащимися историю — эту грязную потаскуху капиталистического общества. История нужна была для прославления гидры капитализма, царей Романовых и прочей дворянской сволочи. Ему, Якобсону, важно, чтобы товарищи учащиеся были политически грамотными и идейно подкованными.
— Я предлагаю, — прогремел Якобсон, — на учебе по обществоведению десять минут отдавать политинформации. Сообщение делает желающий. Кто за — поднимите руки!
Проголосовали все без исключения. Политинформация — это интересно. Особенно если делает ее желающий.
Якобсон весело воскликнул:
— На ять постановочка вопроса! — Он ловко спрыгнул со стола, встал у доски в позу оратора и загремел командирским голосом. Он призывал бороться с нытиками и маловерами. Скоро товарищи станут красными спецами, и тогда их революционный долг бороться с гадами буржуйчиками, кулачьем и их прихвостнями.
Нина не очень поняла, как они должны бороться, но, когда Якобсон сказал, что через три года весь земной шар охватит мировая революция, она пришла в восторг. Нина смотрела на его сухощавое горбоносое лицо и думала, что вот теперь она, кажется, влюблена. Ее покоробило, когда Мара, словно подслушав ее мысли, шепнула:
— В него втюриться можно по уши.
После урока начался невероятный галдеж.
Яворский кричал:
— На ять постановочка преподавания!
— А по-моему, молодец! В советской школе учитель должен быть для нас старшим товарищем, — сказал своим петушиным баском Шарков и, поймав Нинин взгляд, покраснел. Он всегда краснел, встречаясь с ней глазами.
— Девочки, он такой красавчик! — Лелька Кашко даже зажмурилась.
— Вот ты, Кашко, и будешь делать политинформацию. Я тебе, как староста, поручаю, — сказал Корольков.
— Ты не распоряжайся, — вступилась за Кашко Мара, — слышал — желающий, — и, к удивлению Нины, заявила: — Мы с Камышиной будем делать политинформацию.
— Как тебе понравился Якобсон? — спросила Нина Давыдова.
— Оригинал, — пожал плечами Давыдов, — только зря ругает старушку историю. Мы тоже когда-нибудь будем историей.
В этот день за обедом Нина принялась рассказывать маме о новом преподавателе (впрочем, весь свой пыл она адресовала бабушке).
— Очень скоро не будет разных национальностей. Все люди будут жить одной семьей и говорить на одном языке.
— На русском? — спросила Натка.
— Нет, эсперанто.
— Боже, какая чушь! — не выдержала бабушка. — Никто не считает попугая самой умной птицей, хотя его можно научить говорить.
«Я не умею доказывать, — с досадой подумала Нина, — ах, если бы бабушка послушала Якобсона, он сумел бы ее убедить».
Домашние удивлялись неожиданному интересу Нины к газетам. Она даже не представляла, сколько увлекательного происходит в мире.
…Медицинская помощь самоедам. (Как там живут? Вот бы побывать!)
…В Сочи прибыла первая партия больных немецких рабочих. Помощь ревельским рабочим. (Интересно, а Чемберлен об этом знает? Нас не признают, а мы оказываем помощь. Здорово!)
…Протест русских матросов, заключенных в китайскую тюрьму.
Вся группа увлеклась политинформацией. У каждого определился свой уклон. Герману Яворскому нравилось поражать сенсациями. Однажды он сообщил, что на Дальнем Востоке в глухой тайге найден поселок, не знающий никакой власти. Жители — охотники.
В другой раз — о лондонской машинистке, переплывшей Ла-Манш.
Новая сенсация: найден скелет доисторического человека длиной 15 аршин, череп — полтора аршина в диаметре.
— Заправляешь! — беззлобно оборвал Германа Якобсон.
— Я? — Яворский скроил оскорбленную рожу.
— Вранье чистейшей воды, — засмеялся Давыдов.
Корольков, конечно, все поднял на принципиальную высоту.
— Предлагаю за безответственное отношение, — заявил он, — лишить Яворского права делать политинформацию.
— Надо понимать шутки, — попробовал Давыдов заступиться за Германа.
Но Королькова поддержал Якобсон.
— Предложение товарища Королькова — в точку. Меньше брехни будет.
Герман не сдался. На следующем уроке обществоведения он вывесил плакат: на белом ватмане углем изображена петляющая дорога. Внизу контуры города, от него к горизонту бредет, опустив голову, путник. Внизу наклеена вырезка из газеты: «Выселили рабочего за пределы Палестины за принадлежность к МОПРу». Еще ниже рукой Яворского выведено: «Боятся МОПРа, гады!»
Нина глянула на плакат Яворского и живо вообразила палящую пустыню, жгучий, въедливый песок и задыхающегося от зноя и жажды горбоносого человека, и ничего кругом. Человек и песок.
Корольков накинулся на Яворского.
— Сними плакат. Я староста и отвечаю за порядок в группе.
— Кто дотронется до плаката — в морду получит, — заявил Яворский.
Ждали, как поступит Якобсон.
Он сразу же обратил внимание на плакат. Молча подошел. Прочел.
— Чья работа? — оглядел ребят. — Ты? — спросил Яворского.
— Я! — с вызовом подтвердил Яворский.
Якобсон покачал головой, захохотал, шлепнул ладонью Германа по плечу и изрек:
— Мирово! Отменяю приказ о запрещении делать политинформации.
Яворский напялил кепку и торжественно отдал честь.
— Бузить любишь, — не то упрекнул, не то похвалил Якобсон.
Он вышел к доске и командирским басом:
— Товарищи учащиеся! Сегодня на повестке урока: влияние ленинских субботников на классовое самосознание. Прорабатывать данную тему предлагаю практически. Довожу до вашего сведения: в городской больнице нет дров, нет рабсилы. Наша задача: пойти на вокзал и разгрузить вагон с дровами. Вопрос ставлю на голосование. Кто за — поднимите руки.
На вокзал отправились строем. Самозабвенно пели:
И верно: ощущение, что идешь на штурм. Тем более, что рядом лихо отбивает шаг Якобсон. Только полы потрепанной шинели развеваются.
— Правый фланг, подтянись! — гремит командирский бас.
Печатали шаг по мерзлой гулкой земле. Поздняя осень всюду распорядилась. Жались в палисадниках обглоданные ветрами кусты, сумрачные тополя, растеряв листву, безмолвно вздрагивали черными от дождя, словно обугленными ветвями.
Холодно. С уже по-зимнему серого, низкого неба срывались белые мухи.
И хотя на другое утро Нина с трудом поднимала руки и разгибала поясницу, она еще долго, как праздник, вспоминала субботник.
Вагон с дровами оказался в тупике. Рядом свален лом, пустые бочки, разбитые ящики. Куда разгружать? Тут и к вагону не доберешься. А как вывозить?
— Саботаж! — крикнул Корольков.
— Не кидайся словами, — остановил его Шарков.
— Согнали, как баранов! — размахивала руками Лелька Кашко. — А сами ничего не подготовили.
— А чего тебе надо было готовить? Лежала бы Кошка на печке.
— Надо, чтобы люди в больнице не мерзли, — старалась всех перекричать Мара.
Удивительно: Якобсон в спор не вмешивался. Похоже, ему нравилось (он даже улыбался), что все орут, а когда замолчали, отправился к станционному начальству, прихватив с собой неизменного Королькова, Шаркова и для представительства — Давыдова. Яворский, как он заявил, пошел добровольно. Он, смеясь, рассказывал: коротконогий, словно шарик, начальник станции испугался не баса Якобсона, не брызгавшего слюной от негодования Королькова — вот штука! — корректного Давыдова. В разговор Давыдов не вмешивался, очень многозначительно произносил: «Будет доложено» или «Поставим в известность», а потом неожиданно приказал Яворскому: «Пишите».
Во всяком случае, сипевший от усилий старый паровозишко подтащил вагон к дровяному складу.
Встали цепочкой, лицом друг к другу, и из рук в руки передавали сырые тяжеленные поленья. Впрочем, поначалу Нина не почувствовала тяжести. Вместе со всеми орала: «Эй! Ухнем! Еще разик, еще раз…»
Разошелся обычно сдержанный Давыдов.
— Гражданочки и граждане! — провозглашал он. — Равняйтесь на дрова! Это вам не польку-бабочку выкаблучивать! — И с серьезной миной обращался к Королькову — Так я говорю, товарищ староста?
Корольков только хмурил редкие бровки. К кому другому он прицепился бы, но Давыдова побаивался. Нина быстро выдохлась. Но, когда Якобсон объявил: «Девчата, которые устали, могут пойти в вокзал отдохнуть», она осталась.
— Иди, Нин, ты даже побледнела, — шепнула Мара.
Ну уж нет! Подумаешь, неужели она не выдержит того, что другие? Сейчас она ненавидела свои слабые руки. В ушах от напряжения звенело. И вот опозорилась! Полено выскользнуло из рук, упало, чуть не отдавив ноги Лельке Кашко. Лелька тонко взвизгнула.
— Громче, — обозлилась Мара, — не все слышали.
Подбежал Якобсон и закричал на Нину:
— Осторожно! — Взглянув на нее, уже тише сказал: — Нечего фасонить. Устала, так валяй передохни!
Теперь уходить совсем невозможно — это расписаться в собственном бессилии.
Выручил Шарков. Он отправил Лельку Кашко на свое место, а сам встал вместо нее. Шарков подмигнул Маре. Теперь не успевала Мара передать полено Нине, как Шарков выхватывал его у Нины из рук. Получилось, что она еле дотрагивалась до поленьев.
— Ребята… — начала она.
Но Мара ее оборвала:
— Помалкивай в тряпочку.
Нина передохнула, не выходя из строя. Потом силы — вот странно — вернулись, работала наравне с другими, будто и не было изнуряющей усталости.
Когда возвращались домой, Давыдов со своей иронической усмешечкой сказал:
— Ну как, товарищ Камышина, ощущаешь, что твое классовое самосознание выросло? Что касается меня — так я определенно ощущаю. — И уже серьезно добавил: — Кстати, Якобсон гораздо умнее, чем я предполагал.
Нина в душе дулась на Якобсона за его окрик.
Перед тем как всем разойтись по домам, Якобсон подошел к Нине:
— Устала? Но ты молодец! Выдержала.
— Это не я молодец, а Шарков и Мара, если бы не они…
Он не дал ей договорить.
— Буза. Они тебя сильнее. Учти: точка зрения марксизма — основное — идея.
Так же неожиданно, как и появился, Якобсон исчез. Одни говорили, что он уехал на строительство Турксиба, другие — будто служить в пограничники. То и другое походило на Якобсона. От его уроков у Нины осталась привычка ежедневно заглядывать в газеты.
Плакат висел рядом с общешкольной стенной газетой — на самом видном месте. Если бы Мара так энергично не работала локтями, вряд ли Нина добралась до него.
Всего два слова: «Бога нет!» Два слова на фоне голубого неба и белых круглых облаков. Впрочем, внизу карандашом нацарапано: «Есть бог!», а еще ниже: «Докажи!»
— Глупо! Глупо! — кричала Лелька Кашко. — Слушай, Шарков, передай своим комсомольцам: такими идиотскими плакатами никого не переубедишь, когда вы сжигаете… — Лелька замялась.
— Чучела попов, — подсказал Яворский.
— Хотя бы. Посмотрит, допустим, какой-нибудь верующий и что, по-твоему, после этого в церковь не пойдет? — Лелька наступала на Шаркова, размахивая руками, вот-вот вцепится в его лохматую голову.
«Не такая уж она дура, — подумала Нина, — конечно же, сжигание никого не убедит, и плакат тоже».
— Ну, какой в этом смысл?! — кричала Лелька.
— Есть смысл, — за Шаркова ответил Давыдов. Он стоял, заложив руки за спину, и, кажется, с интересом разглядывал Лельку.
— Любопытно. В чем же смысл?
— Смысл в том, что жечь попов, по мнению верующих, — кощунство. Так ведь? Бог накажет, громом и убьет и прочее. Но громом, как выясняется, никого еще не убило.
— Он накажет потом!
Кто это сказал? Нина оглянулась. Девочка из девятой группы. Ее можно было бы назвать даже хорошенькой, если бы не глаза — очень светлые в бесцветных ресницах, они кажутся белыми.
Ребята с интересом разглядывали белоглазую.
— Ты что? Верующая? — высунулся Корольков.
— У нас, кажется, свобода вероисповедания! — Белоглазая повернулась, чтобы уйти.
— Погоди! — Шарков схватил ее за руку. — Ты в самом деле считаешь, что «потом накажет»? А ты, наверное, знаешь… Все знают, что белые в гражданскую служили молебны, чтобы, значит, всемогущий господь помог им победить красных. Победить, понимаешь? Побеждать на войне — это убивать!
— Кстати, — снова вмешался в спор Давыдов, — в заповеди господней сказано: не убий.
— Да, да, — обрадовался поддержке Шарков. — Белые молебны служили, а победили красные! Безбожники!
— Это ничего не доказывает, — ответила девочка и пошла не оглядываясь.
— Раз убегаешь, значит, сама ничего не можешь доказать, — крикнула вдогонку Мара.
Платон появился внезапно. Он сегодня дежурный преподаватель.
— Что тут за митинг! Вы не слышали звонка? Попрошу разойтись по классам.
— У нас диспут, — ответил за всех Шарков.
Платон взглянул на плакат, и губы его дрогнули в усмешке.
— Платон Григорьевич, а вы верите в бога? — голос у Королькова вкрадчивый, липкий.
— Уже прицепился, — шепнула Мара.
Нина вспомнила: на днях Корольков чуть ли не каждому из их группы с таинственным видом сообщал, что «доподлинно известно — Боголюбов из поповской семьи».
Прежде чем заговорить, Платон протер очки.
— Я верю в разум. И не верю в сверхъестественное. Еще с гимназических лет миф о сотворении мира меня отнюдь не умилял. Религия — это один из видов духовного гнета. Так сказал Ленин.
«Жаль, — подумала Нина, — что Катя не слышит».
— Платон Григорьевич, — не унимался Корольков, — судя по вашей фамилии…
— Вас, Корольков, во искушение вводит моя фамилия? — Платон поверх очков внимательно взглянул на Королькова.
— Такие фамилии — Боголюбов, Протопопов, Архангельский, — задирался Корольков.
— Если так рассуждать, — перебил Королькова Давыдов, — ты должен быть потомком королей. Но что-то непохоже.
— В общем сведения собраны точные — мой дед поп-расстрига был сослан на вечное поселение в Сибирь. Надеюсь, из-за этого уроки сегодня не отменяются? Попрошу разойтись по классам.
— Вот человек! — восторженно сказал Яворский.
Вечером Нина рассказывала Кате о споре у плаката. Катя, пожав плечами, ответила, что у нее много заданий и ей не до споров.
Нина записала в своем дневнике: отныне она верит только в разум и не намерена менять своих убеждений. Наоборот, должна их отстаивать.
Однажды бабушка, особенно сурово и требовательно глядя на Нину, сказала сестрам:
— Пора в церковь сходить. Рождественский пост. Говеть я вас не принуждаю. Это зависит от духовной потребности…
Нина не посмела ослушаться бабушки, пошла в церковь. Впрочем, она пошла не молиться, а так, посмотреть, Натка с полдороги удрала к подружкам. Порошил снежок. Все белое, узорчатое. По накатанным тропинкам вдоль тротуаров, размахивая руками, летят на коньках мальчишки. Джик-джик! Кружатся вороны, стряхивая снег с деревьев. Над крышами домов парят сизые дымы. Сумерки осторожно наплывают на улицы.
Если бы можно было просто так, без всякого дела, бродить по городу, слушать перезвон колоколов, рассматривать прохожих!
Катя всю службу истово молилась, крестилась, не спуская глаз с лика божьей матери, ее пухлые губы что-то беззвучно шептали. Нине неловко смотреть на сестру, будто подглядываешь за чем-то сокровенным. Нина думала о постороннем… «Каждый писатель пишет про свое — Толстой про высшее общество, Достоевский про бедных, Станюкович про море. Увидеть бы море. Интересно, какое оно? Коля говорит, что разное. Как это — разное? Река тоже бывает разная: когда небо голубое — река голубая, если солнце садится, река начинает розоветь, а если туча, то и река темнеет. Но море — это, конечно, совсем-совсем другое. Скорее бы стать взрослой, самостоятельной. Хорошо бы поездить, посмотреть все своими глазами. Неужели всю жизнь так и проживешь в этом городишке…»
Под конец службы Катя неожиданно попросила:
— Давай исповедуемся.
— Ну вот еще!
Катя упрашивала настойчиво, в глазах у нее блестели слезы. Одна она не может, но ей надо! Испугавшись, что Катя вот-вот расплачется, Нина согласилась. С внезапно охватившим ее ожесточением Нина мысленно повторяла где-то услышанную фразу «чем хуже — тем лучше». Пусть.
Она не хочет больше себя обманывать.
— Ты иди первая, — шепнула Катя, опускаясь на колени и мелко крестясь.
Волнение сестры передалось Нине. В первые минуты она не поняла, о чем бормочет священник. Твердила про себя: «Сейчас, сейчас досчитаю до десяти и скажу… всю правду скажу… только не врать…» Пугаясь собственных слов, прошептала:
— Батюшка… я… мне кажется… нет, не кажется, а правда, я не верю в бога…
Нина ждала. Внутри у нее что-то похолодело, сию минуту священник скажет нужные слова, и все прояснится, и никаких сомнений. Она с надеждой взглянула в лицо священника и увидела пустые глаза, как у святых на иконах. Эти глаза ее, Нину, не видели. Батюшка торопливо забормотал:
— Молись, дочь моя. Да ниспошлет всемилостивый господь наш на тебя благодать… — Продолжая бормотать, он накрыл ей голову епитрахилью.
На мгновение стало душно, и что-то горькое и злое подступило к горлу. Захотелось крикнуть что-нибудь обидное этому холодному, как плиты на могиле, старику, — ведь она ему в таком страшном призналась, а он… И все же Нина сдержалась — сработала бабушкина муштровка. Привычно-вялым жестом священник ткнул ей в губы пахнущую воском сухую руку.
Из церкви сестры шли сначала молча. Потом Катя сказала:
— Я рада, что исповедовалась, а ты?
По ее мягкому тону Нина поняла, что сестра находится в том умиротворенном, вселюбящем и всепрощающем настроении, которое и она раньше испытывала после исповеди.
Уклоняясь от ответа, Нина спросила:
— Когда ты пойдешь на курсы?
Все, о чем Катя с явным удовольствием говорила, она сто раз слышала. Пусть на здоровье рассказывает, лишь бы не затрагивала господа бога.
— Через четыре месяца я научусь печатать на машинке, — тихим, счастливым голосом говорила Катя, — буду сама зарабатывать. Коля обещал достать сдельную работу.
— Про деньги, наверное, грех говорить после исповеди, — у Нины это вырвалось само собой.
— Ты всегда вот так, — сказала Катя обиженно. — Не надо, Ниночка. Завтра пойдем причащаться. Я рада, что новая жизнь начнется с причастия.
Нет больше сил сдерживаться.
— Чему радоваться?! А ты вдумывалась, что такое причастие? Нам дадут тело Христово съесть и выпить кровь Христову. Ужас! Съесть и выпить… Нет, я не могу! Не могу!
Сестры стояли под какими-то освещенными окнами. Нина видела, как побледнело, а потом покраснело Катино лицо, как его исказила гримаса испуга, пухлые губы раскрылись, вот-вот заплачет. Надо бы остановиться. Но ее распирало от негодования, жалости к чему-то непонятному, от протеста против этой постоянной фальши.
— Я не могу больше притворяться! Ведь они все врут! — крикнула она.
Катя подняла руки, как бы отталкивая от себя страшные слова сестры.
— Ты… Ты кощунствуешь! Замолчи! Я не хочу тебя слушать! — Катя кинулась в темный переулок.
Домой они пришли разными путями.
Утром Нина решила не ходить в церковь, она была уверена, что Катя ее не выдаст, не скажет бабушке об ее отказе от причастия. Как бы сестры ни ссорились, они никогда друг на друга не жаловались.
Постепенно воспоминания о ссоре сгладились, и старшие сестры старались избегать скользкой темы. Изредка, когда Катя уходила в церковь, Нина мучилась — не может она Катю переубедить. Успокаивала себя тем, что Катю надо щадить: ей нелегко совмещать обучение машинописи и занятия в школе. И в последнее время Катя частенько прихварывала.
Ссора вспыхнула внезапно и с неожиданной силой. Натка — пальто нараспашку — влетела в столовую, размахивая сумкой с книжками.
— Я записалась в кружок безбожников! — огорошила она сестер и лихо запела: — Сергей-поп! Серге-ей-поп! Сергей-дьякон и дьячок рааз-гоо-ваарива-ют.
Старшие сестры враз подняли головы от учебников и воззрились на Натку — Катя возмущенно, Нина с любопытством. В свой тринадцать лет Натка сильно вытянулась, челку себе подстригла. Попало ей от бабушки, но челка-то осталась.
— Этого еще не хватало! — наконец пришла в себя Катя. Она скрестила на груди руки и, как обычно, когда сердилась, стала еще сильнее походить на бабушку — так же брови хмурит, сплошная черная полоса над черными глазами, так же плотно сжаты пухлые губы.
— Что значит не хватало?! — взвилась Натка. — Все записывались, и я записалась. Всем можно, а мне нельзя?!
— Вот, радуйся! — Катя обернулась к Нине. — Это твое влияние.
— Ничего особенного, — охрипшим от волнения голосом проговорила Нина. На мгновение у нее мелькнула мысль, что дверь в бабушкину комнату открыта и бабушка может услышать их разговор. Пусть. Надо отстаивать свои убеждения.
— Как это ничего особенного? Да ты соображаешь, что ты говоришь! — Катя даже захлебнулась от негодования.
— У Натки могут быть свои убеждения. — Нина изо всех сил старалась сдержаться, не перейти на крик.
— Это у Натки-то убеждения! — фыркнула Катя.
— Почем ты знаешь! — обиделась Натка. — Может, у меня собственных убеждений побольше, чем у тебя.
— Неужели ты не понимаешь? — Нина обращалась к Кате, но говорила, пожалуй, для бабушки. — Не понимаешь, что вся религия сплошное надувательство? Нет, нет! Пожалуйста, не перебивай! — воскликнула она, хотя Катя молчала. — Мы же учим и естествознание и биологию. Ты же сама учила! Учила! И ты веришь в миф о сотворении мира? Веришь, что сначала появился свет, а потом солнце и луна? Веришь, что Еву бог сотворил из Адамова ребра? Ага, молчишь? А церковь? Выйдет поп, — она нарочно сказала — «поп», а не «священник», — бормочет что-то, гнусавит себе под нос. И не поймешь что… Грехи замаливает. Грешат, а потом замаливают. Выходит: ври, обманывай, а потом покайся, и бог тебе отпустит грехи… Значит, богу надо, чтобы ему кланялись. И подлому простит — только пусть кланяется…
Натка уже давно делала Нине какие-то знаки.
— А сами попы? Ты же читала в газете: пьяный дьякон избил попа в алтаре! В святом месте! Только неграмотные, отсталые люди могут верить…
Катя встала и, не проронив ни слова, забрала учебники и ушла в детскую, Нина отправилась было за ней, но Катя перед ее носом закрыла дверь на крючок.
Натка зашептала:
— Бабушка выходила в коридор. Я тебе моргала. Она шаль из сундука доставала. Она все слышала, ей-богу! — И Натка, записавшаяся в кружок безбожников, быстро перекрестилась.
Натка еще о чем-то шептала, но Нина ее не слушала. «Теперь бабушка все знает. Тем лучше. Я не могу притворяться. Я должна отстаивать свои убеждения». Ей не терпелось внести ясность — если бабушка сердится, надо попытаться доказать свою правоту. Зачем бы пойти к бабушке? Вспомнила — давно собиралась в библиотеку сменить книги.
Бабушка проверяла тетради своих учеников. Она готовила их в вуз. Стоя в дверях, стараясь говорить как можно независимее, Нина спросила:
— Бабушка, разреши мне сходить в библиотеку?
Не поворачивая головы, тем убийственно холодным тоном, который был пострашнее всякой «проборки», бабушка сказала:
— Мне нет до тебя дела. Можешь ходить куда угодно. После твоих наглых разглагольствований я не желаю с тобой разговаривать.
— Раз я убеждена…
Но бабушка оборвала ее:
— Закрой дверь. Ты мне мешаешь.
Не так-то легко отстаивать свои убеждения.
Время шло, а на все попытки Нины «выпросить прощенья» бабушка неизменно отвечала: «Я не желаю с тобой разговаривать».
Уже давным-давно помирились старшие сестры. Правда, теперь не возникало задушевных, таинственных разговоров — «смотри, чтобы никто не знал». Нине казалось, что дома у них уже нет прежней любви друг к другу, что живут они каждый своим и прячут это свое от близких. У Натки, которая прежде во всем подчинялась Нине, появилась «собственная» подруга — Юля, изящная девочка с очень белым, как у всех рыжих, лицом, маленьким носиком, вялым ртом и вкрадчивым голосом. Юля всех называла ласкательными именами, и это почему-то раздражало Нину.
Скучно дома…
Зато школа всегда, как новая дорога, — за каждым поворотом что-то новое. На занятиях литературного кружка можно сколько угодно спорить, отстаивать свои убеждения и никто на тебя не смотрит как на пустое место.
Катя, наблюдая, как Нина одевается, удрученно сказала:
— Счастливая, увидишь Мэри Пикфорд. А я, наверное, никогда больше не смогу пойти в кино.
— Глупости. Поправишься и пойдешь! Знаешь, мы вместе пойдем. — Нина стащила с ног гамаши и сунула их в гардероб. — Пойдем, когда ты поправишься, а до этого и я не буду ходить в кино. Честное слово!
— Нет, нет, что ты… — не очень уверенно запротестовала Катя, — это ведь эгоизм, если из-за меня.
— Подумаешь, не видела я Мэри Пикфорд! Хочешь, я тебе почитаю.
Вот уже месяц Катя не поднималась с постели. Чуть ли не каждый день приходил доктор Аксенов, подолгу выстукивал и выслушивал Катю. С мамой он разговаривает так, будто она тоже больна. Мама опять без работы. По воскресеньям Домнушка уносила узел с вещами на барахолку. Все, кроме Кати, ели картошку и черный хлеб, единственная роскошь — молоко к чаю. Мама получала пособие, но его хватало на неделю. Коля чуть свет отправлялся на биржу труда, а ночами сидел над чертежной доской. Но сдельная работа приносит гроши. Да и не всегда она бывает.
Нередко на рецепте значилось zito. Нина узнала все аптеки города. Старый, лысый, в очках, аптекарь однажды спросил:
— Кто у вас, барышня, болен?
— Сестра.
— А сколько ей лет?
— Семнадцать.
Протянув Нине бутылочку с розовым гофрированным колпачком на горлышке, аптекарь покачал головой.
— Ай, ай, бедная барышня.
От двери Нина вернулась.
— Вы не скажете, какая болезнь у моей сестры?
— Разве я знаю, — развел руками аптекарь и привычными движениями тонких пальцев принялся перебирать порошки. — Разве я доктор.
Нина решила сама спросить Аксенова и, ожидая его, полчаса дрогла на крыльце.
— Доктор, скажите, Катя скоро поправится?
— Конечно, конечно, — пробормотал он.
Ответ насторожил Нину.
Нинину и Наткину кровати поставили в столовой. Из бабушкиной комнаты в детскую перетащили кушетку, и мама теперь спала на ней. Катя по ночам стонала. Мама тихо успокаивала ее:
— Потерпи, Катюша, сейчас пройдет.
Натка всхлипывала.
— Мне так жаль Катюшу.
Но днем Натка оставалась Наткой — могла громко запеть, засмеяться, затеять ссору.
И вот в эти тревожные, напряженные дни в дом как-то незаметно вошел бывший мамин сослуживец Африкан Павлович Илагин. Он встретил маму в комиссионном магазине, проводил ее до дому, зашел на чашку чаю. Илагин поцеловал бабушке руку, щелкнул по-военному каблуками, зайдя к Кате, пообещал привезти нового доктора — он мигом поднимет ее на ноги.
Ради его прихода бабушка из своего заветного шкафика извлекла окаменелые сухарики к чаю. Нина украдкой разглядывала гостя: голова как яйцо — узким кверху, он бреет ее из-за лысины, она начинается ото лба и ползет до самой шеи, а нос на семерых рос. Но чем-то гость напоминает военного. Наверное, усами, а еще сапогами и галифе. Он вызывал в Нине непонятное раздражение, может, оттого, что глаз с мамы не сводил. Ну, чего, спрашивается, уставился! Натка под столом толкнула ее ногой. Нина чуть не фыркнула: сестра держала так же, как гость, мизинец на отлете. Смешно! Только у нее пальчик тонюсенький, розовый, а у Илагина — чуть корявый, желтый от табака, с длинным ногтем. Для чего, собственно, такой коготь?
Потом бабушка отчитывала сестер в кухне:
— Ната, неприлично набрасываться на сухари, будто ты из голодной губернии. Нина, сколько раз я говорила, некрасиво так пристально разглядывать людей, им это может быть неприятно.
Понемногу сестры привыкли к Илагину. Никого уже не удивляло, что вечерами он заходил узнать о здоровье Катюши. Он взял у мамы серебряный подстаканник, сказав, что у него приятель большой ценитель старинных вещей. Подстаканник действительно продал за высокую цену. В доме наступило относительное благополучие. Илагин являлся, когда сестры уже спали. Африкан (так они между собой называли Илагина) подолгу засиживался у них. Просыпаясь, сестры слышали сдавленный басок.
Раз Натка срывающимся от волнения голосом сообщила:
— Знаешь, я нечаянно слышала, как он сказал мамочке «Натуся».
— Тебе показалось! — возмутилась Нина.
— Ничего не послышалось, он сказал: «Не расстраивайся, Натуся».
«Что же это такое? Выходит, он маму назвал на „ты“. Натуся! Да как он смеет?!»
— Тебе послышалось, — с сомнением, но упрямо твердила Нина.
Терзаясь, она стала потихоньку наблюдать за ними. Мама сделалась еще молчаливее, всегда озабочена, много курит. Он смотрит на маму преданно и умоляюще. От этого взгляда Нина испытывала обидную неловкость.
Бабушка с ним вежлива, но за столом не засиживалась — уходила к Кате или запиралась у себя в комнате.
Катя таяла: на лбу и на обтянутых скулах появились пепельно-желтые тени. Глаза нестерпимо сухо блестели. Нину пугал ее пронзительный взгляд, казалось, Катя угадывала мысли. Иногда на нее без всякого к тому повода нападали приступы непонятного раздражения. Ссоры затевала из-за пустяков, кричала сестрам:
— Я знаю, что вам надоела! На меня противно смотреть! Нечего меня жалеть. Я не нуждаюсь в вашей жалости!
А после плакала и просила прощенья. И это было еще хуже.
…От густо падающего за окном снега в комнате как бы растворилось снежное сияние. Откинув черноволосую голову на подушки, Катя смотрела в окно.
— Принеси мне снегу.
Просьба прозвучала неожиданно. «Я так старалась читать, а она вовсе и не слушала, наверное про свое думала — все ходят, а ей — лежи». Нина, накинув шубейку, выскочила на крыльцо. Осторожно набрала в пригоршни снег.
Наконец-то Катя улыбнулась — вдоль рта острые морщинки.
— Дай, я понюхаю.
Нина поднесла к Катиному лицу ладони со снегом.
— Почему-то теперь не слышу запахов. Я же ведь помню — снег зимой пахнет арбузом. А я не слышу…
Нина, бросив снег на стол, долго терла клеенку тряпкой. «Бабушка не велела при Кате реветь, но она так говорит…»
— Я знаю, почему не поправляюсь. Меня бог наказал.
— Вот уж сочиняешь.
— Сядь, сядь здесь… — Катю трясло.
«Может, бабушку позвать?» — но сестра схватила ее за руку и потянула к себе, Нина присела на край кровати.
— Ну что ты так? Успокойся…
— Не успокаивай! Не смей со мной разговаривать так, будто я маленькая или полоумная. Не прерывай! Ну, можешь ты хоть раз выслушать до конца? Слушай, я давно хочу тебе сказать… Хотела бабушке сказать, но не могу! Меня так это мучит. — Катя говорила быстро, как в бреду, на лице — незнакомая жалкая улыбка. — Я знаю — бог меня наказал! Помнишь, мы с тобой исповедовались? И мы поссорились. Я тебе доказывала, а сама… Сама я уже не верила… Вот, знай! И не то чтобы сомневалась. Уж если по правде — думала так же, как ты. И про священника, и про церковь… И про бога! Но это в душе, а на словах — другое. На словах вроде я самая верующая. Видишь, какая лицемерка? Подлость ведь, правда? Я теперь знаю — бог мне послал испытание, и я его не выдержала. Он меня и наказал. — Катя, всхлипнув, глотнула воздух, по пепельно-желтым щекам потекли слезы.
Нину так напугали Катины слова. И даже не само признание, а безнадежное отчаяние, глядевшее из ее неправдоподобно расширенных зрачков, и этот жест — худые руки терзали ворот рубашки, будто ворот давил Катю.
— Видишь… видишь… ты молчишь… — с каким-то странным удовлетворением выдавила Катя.
— Ничего не молчу. Все совсем не так. Почему же меня бог не наказал? Я ведь тоже…
— Молчи! Молчи! — с испугом закричала Катя. — А не то… — Катя захлебнулась воздухом и закашлялась.
Нина взяла Катину тонкую, с выпирающими косточками руку и принялась ее тихонько гладить. Катя примолкла. Спустя несколько минут она заглянула Нине в лицо и попросила:
— Ниночка, сходи в церковь. Помолись за меня.
«Господи, ну разве можно о чем-то еще спорить!»
— Значит, ты согласна? Да? В моем ящике, в комоде, есть деньги, ты их возьми на свечи. Поставь… Я тебя прошу… — Катя слабо сжала ее руку и закрыла глаза.
…Обещание нужно выполнять, тут уж никуда не денешься. Выручают дела, можно день ото дня откладывать, но каждое утро, как бы мимоходом, Катя спрашивает: «Ты сегодня пойдешь?»
Илагин сдержал свое слово: привез на извозчике профессора и хирурга. Высокий, сутулый, с широким крестьянским лицом, профессор скорее походил на ответственного партработника, чем на ученого. Хирург, белокурый, полный, элегантно одетый, все время, по выражению Натки, «пялил глаза» на маму. Рядом с приезжими знаменитостями доктор Аксенов выглядел домашним и очень старомодным со своими негнущимися манжетами и пенсне в золотой оправе.
Врачи долго осматривали Катю. Потом бабушка пригласила их к себе, сказав маме:
— Ты побудь с Катюшей.
Мама, вымученно улыбнувшись, молча кивнула.
Нина с Наткой уселись в кухне, распахнув дверь в коридор. Но, увы, ни единого словечка не услышали. Наконец врачи вышли одеваться.
— Надеюсь, — обратился профессор к бабушке, — лекарство, которое я прописал, облегчит страдания.
При этих словах профессора бабушка, властная, неуязвимая, казалось, не знающая сомнений, положила руку на Нинино плечо, как бы ища у нее поддержки. В первую секунду Нина растерялась, но повинуясь душевному порыву, обняла бабушку и тесно прижалась к ней.
Бабушка тихо сказала:
— Только бог поможет нашей Катюше.
Когда сестры остались одни, Катя, странно притихшая, спросила:
— Ты сегодня сходишь в церковь? Сегодня ведь суббота — всенощная.
Нина отправилась в собор, хотя он и дальше от их дома, чем Ярлыковская церковь, старалась оттянуть встречу с богом. Как молиться, когда не веришь? Вот и собственные убеждения! «Но разве я могла отказать Кате?» Бабушка сказала: «Только бог поможет».
Пришла в собор рано. Служба еще не начиналась. Нина выбрала укромный уголок и опустилась на колени перед иконой божьей матери. На нее смотрели длинные кроткие глаза богородицы. «Ну, зачем я здесь? Ведь это все вранье…» Нина испуганно оглянулась — показалось, что вслух произнесла крамольную фразу. Нет, рядом женщина с исплаканным лицом усердно молится. Когда она подошла? В мехах, кажется, соболя. Ах да, это жена какого-то профессора физики, Мара ее показывала. Тоже научный работник, а молится. Может, и она за чье-нибудь здоровье. Домнушка знает мальчика, его один монах исцелил — молился за него. «Господи, если ты есть — помоги Кате! Ты же добрый! За что Катю наказывать? Помоги. Ведь она ничего плохого не сделала. Помоги. — Нина прильнула лбом к холодному каменному полу. — Я буду верить, буду — только помоги». — Она повторяла одни и те же слова, повторяла, как заклинанье. Казалось, если остановится, то померкнет крошечная искорка веры, и тогда уже Кате не поможешь!
Пришла в себя, когда от долгого стояния заныли колени. Оглянулась. Женщина в мехах исчезла.
Служба давно началась. Велеречиво гудел голос протодьякона. Последние слова протодьякона подхватывал, как эхо, хор. Постепенно хор набирал силу: нежные и чистые альты мальчиков, бьющие по нервам сопрано и торжественные басы, сливаясь воедино, растекались под высоким куполом собора.
От благостного пения хора или от зыбкого сияния свечей, отражавшегося в окладах икон, Нина успокоилась, все смутное куда-то отодвинулось. Стараясь не расплескать ощущение внезапной умиротворенности, Нина поспешила в притвор. У монашки, с лицом, будто вылепленным из воска, купила свечи. Где-то в толпе молящихся мелькнула знакомая белая, мучнистая физиономия. Неужели Корольков? Нет, этот в черном пальто, у Королькова нет такого пальто.
Нина пошла от иконы к иконе, зажигала одну от другой тонкие свечи, устанавливала их, крестилась и, поклонившись в пол, целовала холодный запотевший оклад. Она терпеть не могла из-за брезгливости (все лижут) целовать иконы и обычно, обманывая бабушку и сестер, чмокала воздух. Но сейчас, прижимаясь губами к иконам, упивалась собственным смирением. Пусть! Чем ей неприятнее, тем лучше для Кати.
Субботняя служба кончилась поздно.
Улицы темные, прохожих мало, бегут подгоняемые морозом и хлестким ветром. Скрипит снег под пимами. Зябнут руки и лицо.
Дома бабушка ахнула: «Щеки поморозила». Принялась оттирать снегом, намазала гусиным жиром. В кухне уютно, тепло, хотя окна доверху покрыты мглистой изморозью. Самовар выводил тоненькую песенку. Бабушка налила Нине чаю в свою большую чашку.
— Пей сколько можешь: чай — первое средство от простуды. Живо согреешься.
Накидывая петли на спицы, бабушка рассказывала: приходил Аксенов, сделал Катюше укол, и она уснула. Все спрашивала, не пришла ли Нина. Мама тоже уснула, пусть поспит. Натка отправилась ночевать к Юле, Варя забегала, заглянет завтра утром. Катюша повеселела. Ей всегда легче, когда Аксенов приходит.
Давным-давно бабушка не разговаривала с ней так доверительно, а на ночь поцеловала Нину, что она делала только, когда сестры были маленькими.
Утром Катя, уже умытая и причесанная, позвала Нину и нетерпеливо спросила:
— Ходила в церковь?
— Да, в собор, на все деньги поставила свечи.
— Спасибо. Знаешь, мне уже лучше. — Катя улыбнулась спекшимися губами, по желто-пепельному лицу поползли паутинками морщины.
— Конечно, лучше, ты сегодня хорошо выглядишь, — проговорила Нина, ужасаясь Катиной худобе.
— У меня ничего не болит. Я хочу есть.
Обрадованная Нина помчалась в кухню.
— Катя есть просит!
Бабушка засуетилась. Все забыли, когда Катя просила есть. Накануне бабушка отнесла в торгсин свое обручальное кольцо, получила крупчатку, сахар, масло, французский белый батист в подарок Кате.
Неожиданно для всех Катя с удовольствием поела и скоро уснула. Нина отправилась в кухню, прихватив алгебру.
Мороз пошел на убыль. За окнами валил и валил густой снег. От непрерывного мелькания в комнатах какое-то особое свечение. Пощелкивала дровами печь. Пахло сдобным тестом. Завтра Катин день рождения, бабушка испечет ее любимый сладкий пирог с урюком.
Доктор Аксенов, когда ему наперебой принялись рассказывать, что Кате лучше, никакой радости не проявил. Нина заметила, как доктор с бабушкой переглянулись. После его ухода бабушка долго сидела в своей комнате, не зажигая света. В доме сладко пахло валерьянкой.
И в этот вечер бабушка отправила Натку ночевать к Юле, а Варю оставила у них. Ночью сквозь сон Нина слышала неясные шорохи, шепот. Просыпаясь, видела слабую полоску света под дверью детской.
…Кто-то осторожно теребил ее за плечо. Бабушка, в съехавшем на затылок чепчике, что-то шептала. Варя, одетая, сидела на Наткиной кровати, прижав носовой платок к лицу. Бабушка тихо, с отрешенным спокойствием сказала:
— Вставай, Ниночка, Катюша умирает. — И прибавила: — Нельзя кричать — это может затянуть агонию, и тогда Катюша долго еще будет мучиться.
Бабушка прошла в детскую, открыв настежь двери.
В детской какой-то странный клекот.
Мама потерянно повторяла одну и ту же фразу:
— Сейчас пройдет, сейчас пройдет…
Нина прислонилась к косяку. Бабушка и мама, склонившись над кроватью, заслонили Катю. У иконы желтым светом мигала лампада, на комоде в высоком бронзовом подсвечнике оплывала толстая свеча. «Наверное, лампаду зажгли потому, что Катя умирает».
Нина увидела лицо Кати, и даже не лицо, а одни глаза, круглые, с расширенными зрачками, они смотрели на нее. И вдруг Нина поняла — Катя ее не видит… С черных потрескавшихся Катиных губ срывались несвязные обрывки слов…
Катя забилась в руках мамы, потом притихла и почти явственно прошептала:
— … дними меня.
Мама приподняла ее с помощью бабушки, посадила в подушки. Катина голова запрокинулась, словно тонкая шея не в силах ее поддерживать.
Катя затихла. Совсем.
Все, что потом Нина делала, ей казалось, делает кто-то другой, и этот другой — черствая, эгоистичная девчонка, у которой никогда сердце не разорвется от жалости к Кате и от горя, которая способна, как это ни странно, пить и есть, когда в столовой в переднем углу стоит гроб, а в нем Катя, чужая, застывшая. И это черствая девчонка даже заметила, что на похороны пришли чуть ли не все ребята из Катиной группы, что все плачут и жалеют Катю.
Кто-то громко сказал:
— Сегодня день рождения Кати. — Оказывается, это она, Нина, сказала.
Незнакомая тетка (зачем она пришла? Но как будто так полагается) спросила:
— Сколько годочков покойнице?
Нину резануло слово «покойница», и она промолчала. За нее ответила Варя.
— Сегодня восемнадцать исполнилось.
Тетка в голос запричитала. Коля поспешно выпроводил ее.
Потом Нина шла за катафалком, ведя под руку маму. Удивительно: снег падал на очень черные брови Кати, на щеки и не таял.
Прислушиваясь в церкви к заупокойному бормотанию дьячка, Нина вдруг поняла, что они в любимой Катиной Ярлыковской церкви. «Любимая церковь!» И с неожиданной остротой вспомнила всенощную в соборе и Катину радость, что за нее помолились, и свое настроение за день перед смертью Кати. Молилась! Свечи ставила! Бог помог… Христос или божья матерь? У кого милости просила? Нина так стиснула в руках тонкую свечку, что она сломалась и погасла. Варя взяла свечу и дала другую, зажженную.
На кладбище Нина с тупым страхом заглянула в мерзлую черную яму. Натка, весь день не отходившая от Нины, всхлипывала, уткнувшись ей в плечо.
— Кинь горсточку землицы, — шепнула Домнушка.
Нина, сняв рукавичку, взяла смешанную со снегом землю. Нагнулась. Гроб почти засыпали. Если бы не Натка, рванувшая ее к себе, она бы свалилась в яму.
Дома стояли накрытые столы, на видном месте красовался именинный пирог с урюком. Нина услышала, как тетя Дунечка изрекала басом:
— Поминки — хороший обряд, его придумали, чтобы сгладить первые минуты горя.
Священник в лиловой шелковой рясе, расправляя пышную бороду, провозгласил:
— Помянем новопреставленную господу богу.
Мама куталась в шаль и заплаканными глазами поглядывала на детей.
Илагин вместе с бабушкой по-хозяйски ходил вокруг стола и угощал всех. Мама сказала:
— Ей сегодня восемнадцать. Боже мой!
— Смиритесь, матушка, — пробасил священник, — бог дал, бог взял.
— Тебя небось не взял! — пробормотала Натка.
Услышал ли ее батюшка?! Возможно, и услышал, но виду не подал. Дьякон, тот определенно услышал, он — вот чудо! — подмигнул Натке. А Илагин укоризненно покачал головой.
Коля подошел и сердито прошептал:
— Ну, знаешь, это не вежливо. Изволь помалкивать.
— Фатум, — многозначительно произнесла тетя Дунечка, — очень вкусный пирог с рыбой. Непременно запишу рецепт.
Звякали ножи и вилки. Жуют. Пьют. Но самое ужасное, что и Нина ела, более того, она никак не могла насытиться. Думала, в рот ничего не возьмет… Ужас какой!
— Ты, брат, держись, — Коля положил Нине руку на плечо, — ты теперь старшая.
«Старшая! А Катя?» Ее внезапно замутило от вида еды, она вылезла из-за стола и пошла в детскую. Прижалась лбом к заледенелому оконному стеклу. Подошла Натка и встала рядом.
Сестры вздрогнули от громкого смеха Илагина.
— Чего он радуется? — со злостью вырвалось у Натки.
— Не говори так. Он добрый. Могилу заказывал. Бабушка сказала, что мы век должны быть ему благодарны.
— Я благодарна. — Натка помолчала и упрямо добавила: — Только чего он радуется?
— Ты с ума сошла! Чего же ему радоваться! Просто он такой. — В душе Нина разделяла Наткино недовольство. Да, он помогал. Спасибо. Но, узнав о Катиной смерти, стал неприятно суетлив. Будто рад случаю продемонстрировать свою расторопность и нужность.
Нину терзал страх. Она его гнала, стыдилась, но ничего не могла с собой поделать. Никому она не в силах была сознаться — ни Натке, ни Варе. Она боялась умереть.
Мучило воспоминание: Катя, когда еще только слегла, просила сходить к Лельке Кашко за рисунком кружева, а она так и не сходила. И Катя плакала из-за нее. Но еще больше, чем запоздалое сознание своей вины, терзает страх, что и от тебя ничего не останется. Ночами, уткнувшись в мокрую подушку, Нина казнилась: «Я подлая, я боюсь смерти, но я не хочу, как Катя…»
Бабушка по-прежнему не плакала. Деловито, без суетливости, занималась с Домнушкой побелкой и уборкой комнат, что-то перешивала. Удивительно, как она умела для себя и для всех домашних находить неотложные дела. И ни слова о Кате. И вдруг… Нина, она стала последнее время рассеянной, зашла в бабушкину комнату не постучавшись. На столе незаконченный пасьянс, рядом вязанье. Сгорбленная, опустив руки на колени, бабушка беззвучно плакала. Внезапно Нина поняла: в тот день мнимого улучшения Катиного здоровья бабушка уже обо всем знала, и вот также одна сидела у себя и плакала, и никому ничего не сказала. Поэтому-то она и отправила Натку из дома, а Варю оставила у них.
— Бедная Катюша, лучше бы я… — бабушка не договорила.
Странно, но после этих слов Нину перестал преследовать страх смерти…
И вот бабушка ушла из дома Камышиных. Ушла, прожив с ними десять лет. Поселилась с Колей в маленькой квартирке на Красноармейской улице.
Как могла бабушка их оставить? Мама смутно пояснила — бабушка старенькая, ей тяжело с большой семьей справляться. Неубедительно, семья стала меньше, они старше. Маму все тот же Африкан (благодетель, как его называла Натка) устроил на службу в КУБУЧ (Кооператив улучшения быта ученых) счетоводом. Со службы мама возвращалась поздно.
Натка откровенно радовалась бабушкиному уходу. Наконец долгожданная свобода! Иди куда хочешь, являйся домой хоть ночью. Не стало совместных обедов и ужинов.
Раз, зайдя к ним, бабушка обнаружила груды грязной посуды и желтые листья на пальме. Она не пощадила самолюбия сестер. Вяло оправдываясь, они подоткнули подолы и принялись за уборку.
Но скоро все пошло по-старому.
Нина больше не искала уединения. Наоборот, она не выносила теперь одиночества. Дома постоянно толпились подружки: Варя, Мара и Юля. Сражались в подкидного дурака, щелкали кедровые орехи, распевали модные песни: «Кирпичики», «На окраине где-то города я в рабочей семье родилась…», «Он был шахтер, простой рабочий, служил в донецких рудниках…» и «Во солдаты меня мать провожала…».
Никогда еще Нина не жила «такой бурной жизнью». И все-таки где-то на дне души притаилась тоска о Кате и страх, что вдруг все, а главное, она сама исчезнет.
В воскресенье мама попросила никуда спозаранок не улетучиваться, а попить всем вместе чайку. В кухне пыхтел самовар. Сидели, как при бабушке, своей семьей за столом и наперегонки с Наткой уничтожали румяные лепешки. «Вот что странно, — раздумывала Нина, — раньше все казалось плохо — скучно, нудно, а теперь, когда вспоминаешь, — нет, хорошо. Неужели так всегда бывает, когда о чем-нибудь вспоминаешь?»
— Девочки, я хотела бы с вами поговорить, — сказала мама.
Нину насторожил смущенно-виноватый тон мамы.
— Ну вот, девочки… я… мы решили с Африканом Павловичем пожениться. Он к нам переедет. — Мама отодвинула чашку и торопливо закурила.
Сестры молчали. Нина опустила глаза, нестерпимо видеть мамино смущенное, в красных пятнах лицо.
— Я так устала, девочки, — тихо сказала мама.
Натка первая пришла в себя и кинулась целовать маму. У Нины чуть не вырвалось нелепое: «А Катя?» При чем теперь Катя? Но почему-то Нина была уверена: Катя бы страдала от маминого замужества. У всех есть отцы. У Вари — старый пожарник, лицо во въедливых черненьких точечках — обгорел на пожаре, и ногу потерял на пожаре — жизнь чью-то спасал. Ходит на деревянной ноге — скырлы, скырлы… Борода черная, лопатой. Сначала боялась его, потом убедилась — добрее человека не сыщешь. У Мары отец представительный, высокий, здоровенный, усы пушистые. Хозяин всех лесов и тайги в округе! Мара его любимица, недавно подарил ей два отреза шерсти на платья. Мара постоянно у папы деньги на кино выуживает — он щедрый, дает на всю компанию. Даже у преподобной Юлечки есть отец — папочка. Лицо у него красивое — правда, борода рыжая. Юлина мать вечно его ругает «пьяницей проклятущим». А вот Юля в нем души не чает. Еще бы! Если она в школе на вечере долго задержится, он ходит вокруг школы, ждет. Если ее провожают ребята, он вышагивает позади, ни за что не подойдет. И только у них нет отца.
Когда днем мама ушла с Илагиным к бабушке, сестры принялись с подружками обсуждать новость.
Мара с присущим ей апломбом видавшей виды женщины заявила:
— Нечего носы вешать — теперь у вас житуха будет полегче. Мужчина в доме — это не фунт изюму.
— Легче-то легче, но, что ни говори, отчим не родной отец, — возразила Варя.
— Начихать! — свистнула Мара, видимо желая показать свое пренебреженье к отчиму. — Ты, Нин, намекни, что у тебя нет ботинок. Пусть раскошелится.
— Дело не в материальной стороне, а в том, что чужой… — Нина хотела добавить «влез в нашу семью», но испугалась, что разревется, и замолчала.
— Вот что, если он начнет из себя хозяина строить, ты его сразу поставь на место! — гремела Мара.
Скромная квартира Камышиных стала неузнаваемой. В столовой как в настоящей гостиной: дубовый овальный стол под бархатной скатертью, обитые красным плюшем стулья, кресла и диванчик с гнутыми ножками. Особенно сестер поразил китайский фонарь — стекла в нем причудливо разрисованы, с фонаря свешиваются красные кисти, от этого великолепия по потолку бродят фантастические тени. Но все чужое, такое же чужое, как Африкан, с его безапелляционным тоном, громким хохотком, скрипучими сапогами и бесчисленными изжеванными окурками.
Детская превратилась в спальню мамы и Африкана, а сестры поселились в бывшей бабушкиной комнате. Почему раньше Нина не замечала, какая это сумрачная комната: два окна упирались в высокий, поросший мохом забор, под окнами торчала пожарная лестница. Всю зиму громоздились до половины окон покрытые копотью сугробы. Натка возмущалась: «Это он нас выпер из детской». Нина была даже рада — по крайней мере, просыпаясь, не видишь вместо Катиной кровати пустоты.
В суматохе, когда перетаскивали вещи, сестры сняли иконы и вытащили их в кладовку. Самое удивительное, что мама этого даже не заметила.
Пришли на торжественный обед бабушка и Коля.
— У вас теперь шикардос на длинной палке! — сказал Коля.
— У нас и раньше неплохо было, — преувеличенно громко сказала Нина.
Бабушка многозначительно посмотрела на нее.
— Покажи, как вы с Натой устроились.
Конечно, бабушка заметила, что они сняли иконы, но ничего не сказала.
— Лампочку бы надо пониже опустить, — бабушка села к их обшарпанному столу, немного помолчала. — Я тебя попрошу — ты ведь старше: будь сдержаннее. Если и ты станешь дерзить Африкану Павловичу, то ты же знаешь Натку, она тогда закусит удила… Ты всегда помни о матери.
Бабушка еще долго говорила. Нина слушала невнимательно, думая о том, что ведь нельзя же к чужому человеку относиться так же, как к близкому. Положим, любила же она Петренко. Но он был добрый.
— По-моему, Африкан Павлович злой, — сказала она, хотя за секунду до этого не хотела ничего говорить.
— С чего ты взяла? — рассердилась бабушка.
Нине вдруг показалось, что бабушка потому и рассердилась, что она в точку попала.
Наутро Африкан вышел из маминой комнаты неряшливо одетый: шлепанцы на босу ногу, в нижней сорочке с подтяжками. Нина чуть не задохнулась от стыда и злости. Натка не разделила ее негодования: «Подумаешь, он же у себя дома!»
Нина старалась почаще исчезать из дому. Похоже, что Африкану это не очень нравилось. Однажды, когда она поздно пришла из школы, спросил:
— Почему ты так задержалась?
— У нас был литературный кружок, — Нина постаралась ответить как можно независимее. Мара убеждала: «Важно с первых дней уметь себя поставить».
Его прорвало:
— А кто будет посуду мыть и обед на завтра готовить? Мать придет со службы и еще должна в кухне хлестаться! Что важнее: общественные нагрузки или здоровье матери?
Нина хотела сказать, что ничего не случится, если домашние дела она сделает на три часа позже, но он не дал ей говорить.
— В ваши годы люди сами себе кусок хлеба зарабатывают, а вы сидите на шее матери и не хотите помогать!..
Нина долго ревела в подушку: какое он имеет право попрекать?
Пришлось оставить литературный кружок. Не дожидаться же, чтобы еще раз такое услышать.
Маму Африкан обожал. В ее присутствии никогда не повышал тона, кидался ей навстречу, когда она приходила со службы, и, опустившись на колени, снимал с нее боты. Оживлялся он еще, когда собирался в гости или ожидал гостей. С ними просиживал до утра за преферансом. Выпив, становился разговорчив, целовал руки дамам, отпускал, как говорил Коля, гусарские комплименты. К удивлению сестер (они его считали стариком), Африкан великолепно танцевал: легко кружил даму, прищелкивая лихо каблуками. При гостях он всегда приглашал Нину: «Мадемуазель, на тур вальса». Нонна Ивановна как-то назвала Илагина «душой общества». «Душа общества» не походил на того молчаливого человека, постоянно чем-то озабоченного, с брезгливой миной на лице, к которому привыкли сестры. Нина ни разу не видела отчима за книгой. За утренним чаем, просматривая газету, он язвительно говорил:
— Поглядим, что товарищи сегодня нам соврут.
— Зачем же вы вранье читаете каждый день? — не выдержала Нина.
— Все надеюсь, что правду напишут. — Африкан иронически взглянул на нее поверх газеты.
— Писали в газете, что построят новое здание для ЦРК, и построили. — Нина сделала вид, что не замечает маминых предупреждающих знаков. — Вот видите, не вранье же!
— Действительно, построили Центральный Рабочий Кооператив — деревянный сарай! А ты магазин Второва или Елисеева видела когда-нибудь? Ага, не видела, а тоже лезешь спорить.
— Вы почитайте первую страницу, — настаивала Нина. — Тут написано, сколько миллионов Советское правительство отпустило на ликвидацию беспризорности и на кредиты крестьянству.
— Читал, — Илагин небрежно отбросил газету и, оттопырив мизинец, принялся размешивать сахар в стакане, — не душили бы крестьян налогами, и кредиты не нужны были бы.
— Бедняки не платят налоги. Это только кулаки…
— Вечная манера у тебя спорить, — оборвала Нину мама.
То, чего опасалась бабушка, все же случилось: Натка отчаянно надерзила отчиму. Скандал разыгрался, когда Нина была в школе. Еще с порога в нос шибануло нашатырным спиртом и валерьянкой. (После смерти Кати эти запахи неизменно вызывали тревогу.) Натка с красным, распухшим от слез лицом жалась в кухне к печке. На вешалке знакомая шуба доктора Аксенова. Нина кинулась в столовую. Мама лежала на диване: на голове мокрое полотенце, в ногах — грелка. Доктор Аксенов, сидя у стола, выписывал рецепт.
Сняв пенсне, он посмотрел на Нину не то укоризненно, не то печально, и покачал головой, будто она, Нина, в чем-то виновата.
— Сходи в аптеку, — тихо проговорил Африкан, — как можно скорее, — на Нину он даже не взглянул.
Удивило лицо Африкана, таким несчастным Нина его еще не видела: под глазами набрякли мешки, кажется, даже пышные усы сникли.
— Что с мамочкой? — спросила Нина у Аксенова шепотом.
— Сердечный приступ, — тихо произнес доктор. — У мамы больное сердце, его надо беречь.
Мама протяжно застонала. Отчим бросился к дивану, взял мамину руку, попытался нащупать пульс и испуганно зашептал:
— Доктор, пульса нет…
Доктор склонился над мамой. Маленький, круглый, из-под рукавов пиджака торчат тугие накрахмаленные манжеты, милый-милый. Вытащил из кармана знакомые с детства часы с двумя золотыми крышками.
— Ну, ну, без паники, — пробурчал Аксенов, — пульс есть. Н-да, слабенький. Но есть.
Нина шагнула к маме, но Африкан умоляющим тоном повторил:
— Сходи в аптеку. Как можно скорее.
Во дворе Нину догнала Натка.
— Я ведь не хотела… Не думала, что мамочка так расстроится…
— Лучше побыла бы там. Вдруг что-нибудь понадобится.
— Он меня не подпустит к мамочке…
В аптеке, где сестрам пришлось ждать лекарства, Натка призналась, как все произошло.
— Я мыла пол. Забежала Юля… Нам надо было поговорить… Я недалеко ее проводила. А мамочка пришла и стала сама домывать пол, а тут принесло Африкана. Он, конечно, стал меня отчитывать: я — такая, я — сякая, такая же эгоистка, как старшая сестра. Это, значит, ты. Тут я обозлилась и заявила, что не намерена выслушивать замечания от постороннего человека. Ну и началось.
Он кричит: «Ты неблагодарная девчонка!» А я: «Вы не смеете на меня орать…» Мамочка вдруг упала… Дай мне твой носовой платок. Разве я знала, что так получится!
— Кто позвал доктора?
— Тетка Дунечка явилась. У нее особый нюх на всякие неприятности. Хотя хорошо, что явилась, Африкан отправил ее за доктором. Она сказала, что зайдет к бабушке. Теперь жди от бабушки нагоняя.
Натка не ошиблась — бабушка пришла на другой же день. Увидев ее в окно, Натка засела в уборной, а потом потихоньку удрала. Пришлось Нине одной выслушивать наставления. Бабушка отчитывала долго.
— Ты должна быть примером для младшей сестры. Ради спокойствия матери вы обязаны быть вежливы с Африканом Павловичем.
— Если я его терпеть не могу, значит, мне притворяться? Ты сама говорила, что не выносишь лицемерия. — В душе Нина возликовала: нечего бабушке возразить.
Бабушка пожевала губами и испытующе, как бы проверяя Нину, посмотрела ей в глаза.
— Удивительное понятие у современной молодежи — все отрицать, даже вежливость, — скорее печально, чем сердито произнесла бабушка. — Пора, кажется, тебе кое-что усвоить. Вежливость еще никого не унижала, а хамство унижает прежде всего того, кто хамит.
Нина хотела сказать, что на хамство нужно отвечать хамством. Ведь не толстовцы же они, чтобы подставлять правую щеку, когда ударят по левой, но не успела.
— Вежливость не притворство, не лицемерие. В вежливости не нуждаются только дикари. Ты еще много в жизни встретишь людей, которые будут тебе почему-либо неприятны. И если всякий раз станешь демонстрировать свою неприязнь, ничего этим не докажешь. И вообще: и ты и Натка обязаны считаться с Африканом Павловичем.
— Почему?
— Хотя бы потому, что он старше вас и муж вашей матери.
— А если он не прав? Я тоже должна молчать? Вежливо молчать? Разве принципиальные люди так поступают?
Бабушка долго не отвечала. Нина подумала, что бабушка ее вопрос отнесла к категории «наглых» вопросов, на которые она обычно не находила нужным отвечать.
Наконец, явно сердясь, бабушка сказала:
— Нечего сотрясать воздух высокопарными словесами. Принципиальность, как ты ее понимаешь, ничего не стоит, если она идет во вред человеку. Лучше бы подумала о доброте. Ты всегда должна понимать, что у матери плохое здоровье и потом мать… — бабушка на несколько секунд замешкалась, как бы подыскивая подходящее слово.
— Неприспособленная! — неожиданно для себя выпалила Нина.
Бабушка снова пристально глянула Нине в глаза. Очень трудно выдержать этот взгляд, в нем не то укор, не то обида.
Пальцы коричневой, сухонькой руки выбивали тревожно дробь.
— В мирное время (мирным временем бабушка называла дореволюционные годы) женщинам не нужно было работать, они занимались только домом и семьей.
— Ты сама говорила, что нет ничего безрадостнее кухни.
— Да, но это не нами было заведено. — Бабушку, видимо, утомил этот спор, и уже прежним, не терпящим возражений тоном она сказала, что матери с ее здоровьем не по силам одной лямку тянуть, что службой она обязана Илагину — это он ее устроил. Такая безработица… Коля до сих пор не найдет постоянной службы. Матери важно справиться с отчетом. Нине, вероятно, неизвестно, что Илагин каждый день ходит помогать маме. Одной, с маминым-то опытом, отчетность не одолеть.
Все, о чем говорила бабушка, справедливо, но почему-то росла уверенность, что бабушка Илагина не любит и этот разговор для нее, пожалуй, так же неприятен, как и для Нины.
У мамы повторился сердечный приступ. Африкан, возвращаясь со службы, заходил за мамой и провожал ее домой, тащил толстенные гроссбухи, перевязанные бечевкой. Илагин не разрешал маме вечерами сидеть над отчетом, она отдыхала в спальне, а он в столовой, разложив ведомости на большом обеденном столе, оттопырив мизинец, бросал-кидал костяшки счетов до полуночи. Да, безусловно, к маме он добр. Надо быть справедливой. Но почему так трудно быть благодарной человеку, которого невозможно уважать?
Что-то новое вкралось в отношения сестер к маме. Побледневшая, усталая, она как бы жила за стеклянной стеной. Ее видишь. Но попробуй дотронься! — сломаешь стену. И вот что страшно: осколки обязательно поранят маму. На страже этой невидимой, но так болезненно ощутимой стены стоял отчим.
Прислонясь к березе, Нина сидела на скамейке, нагретой солнцем. У ее ног, положив морду на вытянутые лапы, дремала Данайка, собака, умеющая думать и чувствовать по-человечески, сестры в этом почти убеждены. Данайка к тому же красавица — шерсть у нее белая, шелковистая, в желтых подпалинах, уши длинные, лохматые и лапы лохматые. Все о чем хочет сказать Данайка, говорят ее глаза — преданные, сочувствующие, когда подходит кто-нибудь чужой — предостерегающие. Собаку привел в дом Африкан, и сестры с ней быстро подружились.
Весь день Нина маялась от жары. Домашние от городской духоты сбежали в деревню к бабушке, а ее оставили караулить квартиру. Впрочем, мама звала с собой, но весь день торчать на глазах у Африкана, как говорит тетя Дунечка, — «покорно благодарю». Мама очень уж поспешно согласилась, и, чтобы приглушить обиду, Нина затеяла генеральную уборку — это в воскресенье-то. Зато теперь можно на законном основании отдохнуть. На коленях у Нины раскрытая книга, но даже читать в такую духотищу не хочется.
Мысли ползут так же лениво, как зеленая букашка по стеблю лютика. «Лютики-цветочки…» — Варина песенка. Варя недавно похвалилась: у нее новый знакомый, и намекнула — почти жених! Кажется, с ним уехала за реку. Но вот что странно: почему она, Нина, не влюбляется? Мара считает ее слишком наивной.
Натка влюбляется беспрестанно, весь дневник про мальчишек. Нет уж, если она, Нина, кого-нибудь полюбит, то на всю жизнь. Надо бы Натке эту мысль высказать. Натка гостит у бабушки с Колей в деревне. Они снимают дачу — крестьянскую избу. Коля женился. Правда, Леля не красавица — маленькая, худенькая, но современная. Говорит: «Не пропускайте ни одной хорошей картины, ни одного хорошего спектакля». Заявила, что длинных платьев никто не носит, и подрезала им с Наткой подолы.
Данайка, метнувшись к забору, лапами открыла калитку и оглушительно залаяла. Нина кинулась за Данайкой. Лай оборвался. Нина распахнула калитку и от неожиданности замерла: перед Данайкой на корточках сидел незнакомый человек, а собака, помахивая хвостом, обнюхивала незнакомца. Господи, ненормальный какой-то!
— Поди сюда, ну, кому говорю! — Нина схватила собаку за ошейник.
Человек поднялся. Данайка угрожающе зарычала.
— Она сбила вас с ног. Вы извините. Она бы не укусила. Я бы… — Нина смешалась и замолчала.
Незнакомец что-то очень уж пристально ее разглядывал, высокий, в очках, он кого-то удивительно напоминал.
— А я и не боюсь, — улыбаясь, проговорил он. — Когда собака бросается, надо присесть — ни за что не тронет. — Помолчав, он нерешительно спросил: — Катя?
— Нет, я — Нина, — она на секунду запнулась, — Катя умерла.
— Умерла?! Давно? Что с ней было?
— Этой зимой. Я не знаю, отчего она умерла, врачи, по-моему, тоже не знают. Вам кого? Маму? Ее нет дома. Уехала к бабушке на дачу. Нет, не скоро вернется. Или вечером, только с последним поездом, или завтра утром.
Он, кажется, огорчился. Еще помолчал. Потом предложил:
— Пройдем в рощу.
Нина заколебалась на секунду — с Данайкой хоть, ночью не страшно. Никто не посмеет тронуть. Идя за ним («ого, дорогу знает»), Нина недоумевала, кто бы это мог быть?
Они сели на скамейку. Данайка улеглась у Нининых ног, не спуская предостерегающих глаз с незнакомца. Нина исподтишка оглядела его. Одет так себе: полосатые брюки, полотняная вышитая рубашка, подпоясана мягким вязаным пояском. Она не выдержала:
— А вы кто?
Он улыбнулся, опять напомнив кого-то.
— Федора Ивановича помнишь? Забыла. А Кащея Бессмертного помнишь?
Нина засмеялась. Нахлынуло что-то радостное.
— Ну, конечно, помню. Только у вас были усы.
Федор Иванович потер рукой гладко выбритый подбородок и грустно сказал:
— Усы — это еще не самое дорогое, с чем мне пришлось расстаться. Вот теперь я вижу, что ты Ниночка, Катюша была черноглазая.
Нина вспомнила городской сад. «Он целовал мамины руки. Так он же был влюблен, а я тогда не понимала».
— Почему вы раньше не приходили? — И тут же одернула себя: ну как можно такие вопросы задавать?
— Я живу в Омске. Мама здорова?
— Здорова. Спасибо. — «Интересно, знает ли он, что мама замуж вышла?»
Федор Иванович расспрашивал о бабушке, о Коле, записал Колин адрес. Поинтересовался, где мама работает. Нина все ждала, что он спросит про Африкана. Но он спросил:
— Тебе сколько? Пятнадцать?
— Уже шестнадцать. Недавно исполнилось. — Нина про себя огорчилась: «Неужели все еще пигалицей выгляжу»? — Я перешла в девятую группу.
— Да, да, — рассеянно проговорил он, доставая из кармана брюк пачку папирос.
Неожиданно для себя самой у Нины вырвалось:
— А мама замуж вышла.
Федор Иванович снял очки и принялся их протирать.
Теперь-то она была уверена: он ничего не знал про мамино замужество.
Они долго молчали. Нина была рада, когда Федор Иванович сказал:
— Принеси, пожалуйста, спички. Вечно забываю.
Нина помчалась за спичками. Данайка бежала следом, тычась мордой в голые икры.
Вернулась и увидела — курит. На пачке папирос лежит коробок спичек. Нина поспешно сунула спички в карман платья. Хорошо, что он и не заметил.
— Мама здорова? — спросил он.
Она чуть не сказала: «Вы уж об этом спрашивали», да вовремя спохватилась.
— Здорова. — И вдруг неизвестно для чего высказалась: — Он бухгалтер. Мы с Наткой его не очень… — Она осеклась. Это походило на предательство по отношению к маме.
— Где Натка? Какая она стала? Наверное, хорошенькая?
Нина заторопилась рассказать о Наткиных достоинствах: учится великолепно, на гитаре играет, в «Синей блузе» участвует, вообще она общественница.
Наконец, Нина выдохлась и затихла. Он сказал:
— Пойдем с тобой вечером в гости. Со мной тебе можно?
— Мы теперь не спрашиваемся.
— Только я тебе не скажу, к кому пойдем, — сама увидишь. Это тайна Кащея Бессмертного. Последний поезд, с которым мама может приехать, во сколько? В семь с половиной? Подождем, если мама не приедет, отправимся в гости. Согласна?
Еще бы! Она робко позвала его выпить чаю.
— С удовольствием, — сказал он.
В столовой Федор Иванович долго разглядывал вещи, а потом произнес:
— Ничего не узнаю.
— Это все его. А ковры продали еще в голодные годы.
За чаем Федор Иванович ничего не ел, хотя Нина вытащила из подполья еду, которую Африкан берег для своих знакомых.
— Вы какого поэта больше любите? — «Ох, дура, умную из себя строю».
— Какого поэта? — повторил он рассеянно, взглянул на нее и улыбнулся, отчего вдоль щек у него показались две глубокие морщины. — Стихи, Нинок, превосходная вещь. — Чуть нараспев он продекламировал: — «И веют древними поверьями ее упругие шелка, и шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука…»
«Это он про маму», — подумала Нина и спросила:
— Это чьи стихи?
— Это Блок. Таких поэтов не так уже много на Руси.
— Я не знаю Блока, — Нина почувствовала, что уши у нее горят, и виновато добавила: — Мы его еще не прорабатывали.
Федор Иванович покачал головой и невесело сказал:
— Поэтов не надо прорабатывать. Их надо просто знать. — И, взглянув на нее, добавил: — Ничего, у тебя еще много времени впереди. — Утешили не его слова, а улыбка.
Неожиданно ни к селу ни к городу он сказал:
— Да, дважды нельзя войти в одну и ту же реку. — И, помолчав, спросил: — А что вам преподносят на уроках словесности?
— Перед каникулами прорабатывали, вы знаете, у нас все так говорят, «Преступление и наказание». Судили Раскольникова.
— Суд? Как это суд? Расскажи, пожалуйста. Это, вероятно, интересно.
— Да просто ужасно как интересно! Все как на самом деле, скамейка для подсудимого. Раскольниковым был Герман Яворский. Он вообще-то подходит. Всегда оригинальничает. А на суде знаете что выкинул? Когда его спросили, какая у него последняя просьба, он сказал, что просит сохранить ему жизнь и тогда он исправится и клянется стать таким, как Корольков.
Федор Иванович с понимающей улыбкой смотрел на нее.
— Кто же этот Корольков?
— Тип один. Все ходит вынюхивает и в свой кондуит записывает. Он, конечно, на суде в судьи вылез. Ох, он и обозлился на Германа, нос даже побелел от злости. Знаете, я сделала вывод: по носу можно определить характер человека. У Королькова нос, чтобы вынюхивать.
— А ты кем была на суде?
— Адвокатом.
— Что же ты говорила в защиту Раскольникова? Вы часто… — Федор Иванович не договорил, прислушался к нежному бою часов. — А часы те же, — сказал он.
— Да, они были у нас еще на старой квартире. Помните?
— Я все помню. — Он сверил свои часы и сказал: — Ну, теперь уже ясно, что мама не приедет. Пошли в гости.
Нина, сказав: «Я сию секундочку», закрылась в детской. Надо хоть немного принарядиться. Волосы заплела в одну косу, оставив пушистый конец. Юбка немного заштопана, но незаметно. Зато блузка абсолютно новая, да еще с галстуком. Только вот туфель нет, но неважно — летом можно и в тапочках.
«Ничего, вид строгий, — оглядывая себя в зеркало, подумала Нина. — Ты воображаешь, что хорошенькая? — спросила она насупленную сероглазую девчонку в зеркале. — Глаза у тебя ничего. В школе говорят, что ты их подкрашиваешь. Это вранье! И ресницы ничего себе. И не большеротая. Только вот бледная, просто до безобразия. Интересно, к кому мы пойдем?»
К вечеру жара спала. В воздухе плавал тополиный пух, оседая на резных наличниках окон, заборах, тротуарах, покрыл белым налетом траву в канавах. У заборов топорщились длинные уши лопухов. Федор Иванович вел Нину переулками. На лавочках у ворот сидели горожане и лузгали семечки. Дети на дорогах играли в лапту. Изредка протарахтит телега, и снова ленивая и липкая, как тополиный пух, тишина. Свернули на Монастырскую улицу. Нина ее не любила — ничего хорошего: с одной стороны длинная кладбищенская стена, а с другой — обрыв. Внизу лепились домишки. Сверху они казались игрушечными. Нина предпочла бы идти по главной улице. Может, и встретили кого-нибудь, пусть бы увидели, что у нее есть знакомый, взрослый солидный человек.
— В наводнение все эти карточные домики затопляет, — сказал Федор Иванович. — Кстати, лет этак через двадцать о наводнениях будут знать только по рассказам. Вон, видишь, голубой домишко? — Федор Иванович показал на вросший в землю маленький дом с рябиной у крыльца. — Я жил там когда-то.
По его улыбке Нина поняла, что с этим домом у него связаны какие-то воспоминания и что он нарочно пошел этой улицей, чтобы увидеть голубой домишко.
Они вышли к деревянному мосту. Внизу, меж зарослей ивняка, пряча дно, сонно пробиралась зеленая речушка. С моста видно, как речушка впадает в широкую полноводную реку.
— Люблю старые города, — будто вслух подумал Федор Иванович.
— А я больше никаких городов не видела, — вздохнула Нина.
— Увидишь. Времени у тебя много впереди. Теперь я тебе открою тайну — мы идем к Ивану Михайловичу.
— К какому Ивану Михайловичу? Кто он?
— Ты забыла Петренко?
— Петренко?! Нет, что вы! Петренко я не забыла. — Нина от радости не знала, что и сказать. Боже мой, сейчас она увидит Петренко. Часто забилось сердце, как в те далекие-далекие времена, когда она через темную гостиную бежала к нему на кухню. — Он здесь? Да? Значит, я… то есть мы, идем к нему? Я сразу не поняла, про какого Ивана Михайловича. Знаете, у нас никогда его не звали по имени, а только по фамилии. — Все время сбиваясь от смущения, словно оправдываясь, пыталась объяснить Нина.
— Ну, ну… Ты была маленькой. И в том, что солдат не называли по имени, виновато общество, в котором ты жила.
— Но и теперь ведь еще есть такие, как раньше… — почувствовав, что сейчас ко всему она еще выложит и наболевшее про Африкана, Нина замолчала.
Он посмотрел на нее ласково, внимательно.
— Я рад, что у вас побывал…
Небольшой одноэтажный флигелек стоял в глубине двора. У забора вперемежку росли сирень и черемуха.
Во дворе густо лежал тополиный пух. Они поднялись на высокое крылечко, навес над ним подпирали точеные столбики. Пришлось долго стучать, Нина испугалась: а вдруг никого нет дома и она так и не увидит Петренко? Дверь открыла молодая женщина, показавшаяся Нине очень красивой. Она стояла в черном провале двери. Нина увидела ее сразу всю: высокую, статную, полногрудую.
— А, Федор Иванович, проходи! — певуче проговорила она. — Это что, твоя дочка?
— Нет, к сожалению, не дочь.
— Вот, понимаешь, не знала за тобой…
Федор Иванович не дал ей договорить.
— Это дочка моих хороших знакомых. Иван знает ее с тех пор, когда она еще пешком под стол ходила.
Комната, куда провела их женщина, несколько удивила Нину — казалось, хозяева только что переехали или собираются уезжать. Голые стены. В одном углу — корзинка с крышкой, на ней громоздился фанерный баул. К стене сиротливо жалась, обтянутая черной потрескавшейся клеенкой, продавленная кушетка. В этой неприбранной, лишенной и тени уюта комнате странное впечатление производило превосходное беккеровское пианино. Вероятно, так же бы выглядел цветущий куст роз в голой пустыне.
— У меня малость завозно, — весело, словно сообщая радостную новость, сказала женщина. — Нагрузок до черта. Дома не поспеваю с хозяйством управиться. Ну, давай твои пять — будем знакомиться, — энергично, по-мужски, тряхнула Нинину руку. — Анфиса, женорг, — представилась она. — А тебя как звать? Благородное имечко. Не сравнишь с Анфисой. Как ты полагаешь: может, сменять? Теперь все меняют. — Анфиса захохотала и скрылась за дверью. — Обождите, я тут малость подмарафетюсь.
— Это кто? — шепотом спросила Нина.
— Жена Ивана Михайловича, — усмехнулся Кащей.
«Значит, у него есть жена! Вот уж не думала. А вообще-то что особенного? Но он же старый. Я была совсем маленькой, а он — солдат. Он старый, а Анфиса молодая». — Мысли эти вызвали глухое недовольство.
Анфиса с треском распахнула дверь, и на секунду задержалась, как бы давая собой полюбоваться. Она была действительно хороша. Наверное, про таких говорят: кровь с молоком. Короткая челка кокетливо, веером рассыпалась на выпуклом лбу.
— Заходьте, — пригласила Анфиса, — а то Вань уж заждался.
Незнакомый человек лежал на широкой железной кровати. Его левая нога, забинтованная по колено, покоилась на подушке. Лохматая крупная голова. Гладко выбритое, с твердыми скулами незнакомое лицо. Из-под густых пшеничных бровей на Нину тепло смотрели глубоко посаженные глаза.
— Вот она какая! — сказал человек удивительно знакомым, идущим из далекого детства голосом.
И тут она поняла: человек с гладко выбритым лицом и совсем-совсем не старик — это и есть Петренко. Почему она его сразу не узнала? Каждый раз он другой, там, у тюремной стены, был другой.
— Вот, привел, — сказал Федор Иванович, с улыбкой поглядывая на них.
— Здравствуйте, — проговорила Нина. Ее сковывало присутствие Анфисы, зорко, с ухмылкой наблюдавшей за ней.
— Здравствуй, здравствуй, бери-ка стульчик да присаживайся поближе.
Нина подвинула стул к кровати, села и, не зная, что говорить, куда деть руки, принялась теребить галстук.
Анфиса рылась в комоде, тихо поругиваясь:
— И куда ее холера занесла.
Наконец Анфиса рывком задвинула ящик комода и, ни капли не смущаясь, что-то спрятала за вырез блузки.
— Вы тут гостите, а меня товарищи ждут, — громко оповестила она. — Шамовка в кухне. Если поздно ворочусь, ты уж, Федор Иванович, расстарайся. Пошла я.
Иван Михайлович оборвал себя на полуслове, внимательно и грустно посмотрел на Анфису. Она же на него не взглянула. Гулко простучали в соседней пустоватой комнате ее шаги.
— Анфиса заведует женотделом, — сказал Петренко, — дают ей бабы прикурить. Ни одного свободного вечера.
Хотел ли он оправдать внезапный уход Анфисы или ему неловко было за домашнюю неустроенность?
— Очень у вас болит нога?
— Теперь-то не шибко.
— А отчего она заболела?
— С басмачами, Ниночко, воевал. Бисов вражина меня и покалечил. Не поберегусь, и одолевает хвороба.
Нина уловила в его голосе знакомые с детства интонации — так в детстве Петренко рассказывал ей свои «баечки».
— Большая стала, — Петренко улыбнулся ей, — а что, Федор, если нам и вправду перекусить малость? И чарочку пошукаем. Поищи там на кухне каких-нибудь харчишек.
Федор Иванович отправился на поиски харчишек. Они остались вдвоем.
— А я вас сразу не узнала, — сказала Нина, разглаживая рукой скрученный галстук.
— Старой стал?
— Нет, что вы! Наоборот, я почему-то думала, что вы не то что старый, а пожилой.
— Эх, Ниночко, как ни крути, а четвертый десяток разматываю. Но ничего — мы еще мировому капитализму кровь попортим. Расскажи, как ты живешь? Слыхал я про Катю. Тихенькая была. Послушная… У тебя как здоровьице? А бабушка? Я ее не раз вспоминал. Случалось, у нее нелегальную литературу прятал, еще когда у вас служил. Ясное дело, догадывалась, а виду не подавала. Говорит: «Не беспокойся, твои вещи — ведь бачила, какие вещи, — в сохранности будут». — Петренко замолчал, вытащил из-под подушки металлическую коробочку с табаком и курительной бумагой. Большие, рабочие руки ловко свернули цигарку.
— А про нас вы вспоминали? Про нас, маленьких?
— А як же! Человек на чужбине к доброму-то сильно сердцем прикипает. И у меня спервоначалу здесь ни друга, ни товарища. Да и ты: чуть чего — ко мне бежишь. Любила байки слушать. — Петренко засмеялся и с явным наслаждением закурил.
Слышно было, как на кухне бушует примус.
Иван Михайлович расспрашивал, где учится, не трудно ли? Выслушав, сказал:
— Мне вот тяжеловато с наукой справляться, — он кивнул на стол, заваленный книгами и бумагами. — Грамоте-то я учился у дьячка, а платила мать за мое ученье своим горбом — стирала на них, мыла. Я у них летом телят пас. Ну, а куда думаешь после школы?
— Хочу в университет, если попаду. А вообще-то хочу быть учительницей.
— Це дило. Эх, Ниночко, деревня-то у нас темная. Вот куда учителя позарез нужны. Ездил я коммуну организовывать. Так и парни и мужики, за жинок уже и не говорю, вместо подписи кресты ставили. Расписаться и то не умеют.
Переложив книги на подоконник, Федор Иванович подтащил стол к кровати, поставил на него сковородку с жареной картошкой, селедку и пучок зеленого лука, бутылку водки и красного вина в графинчике с отбитым горлышком. Федор Иванович разлил водку по граненым стаканам, Нине налил красного вина. Нина чокнулась, с удовольствием подумав, что у Вари и Мары, когда она им расскажет, глаза на лоб от зависти полезут: она пила настоящее вино…
Выпив и заметно оживившись, мужчины заспорили. В воздухе плавал густой табачный дым. Они спорили до хрипоты. Когда говорил Федор Иванович, Нина поражалась: как же он все правильно рассудил, конечно, же недобитые буржуйчики при нэпе распоясались. Вон деточки нэпмачей в школу ходили в бархатных платьях, а Шарков, сын пролетария, в рваных сапожишках. Справедливо это? Нет, несправедливо! Заговорил Иван Михайлович. Нет, конечно же, прав он: как было подниматься на ноги обнищавшей России — голод (бабушкины овсяные лепешки), беженцы (мальчик Антон пас чужую телку), сыпняк, сколько от тифа умирало (бабушка шила белье для больниц). Ясно, что нэп нужен.
То и дело Петренко подмигивал Нине или, смеясь, говорил:
— Бачишь, Ниночко, какой теоретик выискался.
— Ну что же. Вернемся к старому спору. — Собирая лоб с высокими залысинами в морщинистую гармошку, сказал Федор Иванович. — Знаю, ты не будешь обвинять меня в оппортунизме, ведь я так же, как и ты, ради идеи, торжества идеи готов на все. Скажут мне: съедай каждый день по фунту земли, это-де необходимо для построения социализма. Согласен буду лопать землю. И я не являюсь благородным исключением. В этом соль русского характера. Нужно — русский человек взвалит на плечи гору.
— Так, — усмехнулся Петренко, — а теперь ты скажешь, что треба на вещи реально смотреть, а это значит: социализм в одной стране не построить.
— С тобой я могу быть откровенным, — невесело произнес Федор Иванович, — мы затеваем колоссальное строительство. Мы не маниловы. Наше техническое оснащение: кайло, лопата, тачка… Рабочие живут в продувных, вшивых бараках. Всюду грязь по колено. А рабочие в лапоточках. Да-с. Ты должен знать об этом.
— Бачил, — кивнул Петренко.
— И все же утверждаешь, что социализм мы построим?
— Утверждаю.
Спорили они по-разному. Петренко весело, улыбчиво, из-под пушистых бровей поглядывал на горячившегося хмурого Федора Ивановича.
— Ты не учитываешь одного важного обстоятельства, — у Федора Ивановича все время гасла папироса, и он чиркал спичкой о коробок, — не учитываешь, что наша матушка Россия — страна крестьянская. Не мною сказано, что человечество споткнется на слове «мое». Мужик собственник. И вот этого собственника не так-то просто затянуть на социалистические рельсы. Тут не пятилетки, а века нужны. Собственник выковывался тысячелетием… — заметив попытку Ивана Михайловича возразить, Федор Иванович торопливо закончил: — Все твои доводы мне известны. Повторяю: голого энтузиазма и классового самосознания не-до-ста-точно. Делать ставку на большую индустриализацию без поправок на кайло и лопату — это, это….
— Фантазия? — усмехнулся Петренко. — А революция?
— Представь: я так и знал! — хлопнул ладонью по столу Федор Иванович. — Революция — твой основной козырь. Да, Красная Армия победила Антанту. Но ты прекрасно знаешь, что для этого была основательная историческая база. Была гениальная всенаправляющая рука Ленина — мозг партии, ее душа.
Они оба помолчали, а потом Федор Иванович с горечью воскликнул:
— А есть ли у нас база для построения социализма? Лорды, чемберлены — это ведь не карикатуры и дергающиеся паяцы на грузовиках агитколонн в дни демонстраций. Это реальная угроза.
Петренко покосился на Нину и сказал:
— А мы вот молодежь спросим. Ну, Ниночко, как ты считаешь: построим мы социализм?
— Обязательно! Якобсон, наш преподаватель обществоведения, говорил, что не все крестьяне собственники. Например, бедняки. Они же не собственники. И потом рабочие и крестьяне после революции работают на себя… — Нина выкладывала прописные школьные истины и ясно сознавала: Федор Иванович не слушает ее, а нетерпеливо ждет, когда она замолчит. Так и есть, он сразу заговорил:
— Я инженер. Привык считать. Однажды на досуге я подсчитал, какая потребуется сумма, безусловно, приблизительно, чтобы поднять большую индустрию хотя бы в масштабах Сибири. Цифирия получилась грандиозная. Где взять средства? На займах далеко не уедешь — нужна техника, оборудование. Приходится кланяться капиталистическим государствам.
Петренко взглянул на Нину.
— Мы не кланяемся. Мы покупаем, а расплачиваемся золотом, — уверенно произнесла она.
— Ай да Ниночко!
— Почему ты-то молчишь, Иван? — с легкой досадой произнес Федор Иванович. — Почему не опровергаешь мои доводы?
— Сколько раз их треба опровергать? — став серьезным, спросил Петренко. — Партийную установку ты знаешь не хуже меня. Наш с тобой спор рассудит время. Оно, товарищ дорогой, покажет, а точнее сказать, докажет, что в Советской стране социализм будет построен.
— Как говорится, дай-то бог, — Федор Иванович помолчал, а потом с раздумьем заговорил: — Для меня остается загадкой, откуда у тебя, да и у других я наблюдал, такая… что ли, уверенность?
— Отгадка простая, — Петренко кивнул Нине, — я кормил вшей в окопах в германскую. В окопах-то рядом со мной был мужик, крестьянин. Думки его знал, как свои. Еще хлопчиком распознал, как батрак на богатея работает, Ниночкин-то обществовед правильную установку дал: по-другому крестьянин трудится, когда знает, что землица для него хлебушко родит. Ты вот, Федор, чего побачил на стройках? Продувные бараки, кайлу да лопату. А как работают, не приметил? Случается, жрать нечего, на тухлой селедке сидят, а выдают по две, по три нормы. С чего бы, а? Ты вот вникни. Так что энтузиазм — тоже сила. Балакал я с одним хлопчиком по этому вопросу. Знаешь, что он мне ответил? «Наши, — говорит, — батьки Врангеля, Деникина, Колчака и прочую сволочь одолели, так неужто мы временных трудностей не одолеем?» Чуешь? Подкованный хлопец! Наша комсомолия не хуже, выходит, своих батьков. Так что время покажет, чья правда, а чья кривда.
— Верь, Иван, я буду счастлив, если победит твоя правда, — Федор Иванович поднялся, — пора мне в дорогу, а то на поезд опоздаю.
На прощание Петренко сказал Нине:
— Непременно приходи. — И ни с того ни с сего добавил: — Анфиса женщина славная, душевная. Ты ее поймешь, когда побольше познакомишься.
Он так и не объяснил, что надо понять. Нина подумала: «Он будто в чем-то хочет ее оправдать».
Улицы потонули в чернильной тьме. Федор Иванович окликнул извозчика, и они поехали.
— Ты не теряй дружбы с Петренко, — сказал Федор Иванович. — Превосходный человек.
«Я всегда знала, что он превосходный, — подумала Нина, — теперь я не маленькая. Я везде его разыщу».
Лето Нина проводила в одиночестве. Мама с Африканом после службы закрывались в своей комнате или уходили в гости. Натка редко приезжала с дачи. Отошла Нина и от подруг. У Мары болела мать…
С утра оставалась одна в квартире. Наскоро справившись с домашними делами, прихватив книгу и старое байковое одеяло, Нина шла в рощу. У дальнего от калитки забора в зарослях черемухи она устроила шалаш. Тут никто тебя не увидит и не жарко. Когда надоедало читать, лежала, разглядывая сквозь ветви небо.
Что за прелесть следить за облаками! То летят они, то еле-еле скользят, цепляясь за что-то невидимое, как цепляются туманы в поле за кусты, а то вдруг в высоком небе выстроится из облаков замысловатый замок или потянутся скалистые берега.
О чем она думала, лежа в своем шалаше? Заново переживала встречу с Петренко. Постепенно тот Петренко из далекого детства объединился с новым Петренко. Вот уж он — хороший человек! И ему, наверное, обо всем можно рассказать. Он все поймет, как надо.
Мама к ее рассказу о встрече с Кащеем Бессмертным и Петренко отнеслась спокойно. Только вечером засобиралась к Нонне Ивановне. Африкан было увязался за ней, но мама сказала, что Нонна нездорова, неловко идти вдвоем.
— А ты к Петренко не зайдешь? — спросила Нина, провожая маму.
— Нет. — Помедлив, мама сказала: — Но ты всегда заходи к нему. Он очень хороший человек.
Нина пошла к Петренко в первый же субботний вечер. Окна во флигеле были закрыты, на ее стук никто не отозвался. В другой раз, не открывая двери, Анфиса заспанным голосом сказала:
— Нету его дома. Уехал.
Нину мучило: может, Анфиса узнала ее голос и нарочно не открыла. Решила больше не ходить. Только еще один-единственный разок, будто нечаянно, прошла мимо. Но никого не встретила.
Как ни старалась Нина «держать язык за зубами» и не ввязываться в ссоры с отчимом, но, кажется, он сам вызывал ее на скандалы. Обычно начиналось за обедом.
…Африкан, оттопырив мизинец, держал перед собой газету. Мама, как всегда, ела молча. Очень она молчаливая. Почему? Коля любил разговаривать, мама редко-редко разговорится. Интересно, что Африкан выискивает в газете? Наверное, к чему бы придраться. Ага, нашел! Швырнув газету на подоконник, он сказал:
— Н-да, пятилетку построим и будем без штанов ходить. Девицы платья из крапивы сошьют. Вот уж от кавалеров отбоя не будет.
Ну, как тут промолчишь? Стараясь не замечать маминых умоляющих глаз, она выпалила:
— При царе, значит, всем хорошо жилось! И в деревне не голодали!
— Лодырям всегда плохо жилось. И в деревне, кто работал, тот и ел. А теперь не ест тот, кто работает.
— Неправда, я читала — раньше целые деревни от голода вымирали. Даже Толстой ездил на голод.
— Умирали, когда неурожай был, стихийное бедствие.
— А почему буржуи и помещики не умирали от стихийного бедствия? Выходит, их стихийное бедствие не касалось?
— Ты ничего не знаешь, а споришь. Как раньше было, ты знаешь по книжечкам, а я эту жизнь видел своими глазами.
— Если вам хорошо жилось, это еще не значит, что всем было хорошо. Если всем так хорошо жилось, почему же революция победила? Вот это вы ничем не докажете.
— Я ничего тебе не собираюсь доказывать. На службе политграмота в зубах навязла, и еще дома спокойно поесть не дают! — Африкан поднялся и, на ходу бросив маме: — «Натуся, я пройдусь», вышел из столовой, хлопнув дверью.
— Зачем ты так? Боже мой, сколько я просила не спорить! Он устал, у него неприятности на работе, а ты… — мама закурила. Лицо грустное, страдальческое. — Прошу тебя: не ввязывайся ты в спор. Неужели ты промолчать не можешь?
Удивляясь своей черствости, Нина испытывала не жалость, а обиду на маму: почему она никогда не заступится? Ведь ясно же, кто прав.
— Ладно. Постараюсь, — пообещала Нина.
Стремясь заглушить растущую с каждым днем обиду, она набросилась на книги. Читала все подряд.
Мысль самой написать рассказ пришла неожиданно, когда она мыла посуду. Мокрая тарелка выскользнула из рук и разлетелась на кусочки. Конечно же, Африкан заглянул в кухню. Увидев разбитую тарелку и улыбающуюся Нину, он выразительно покрутил растопыренными пальцами у себя над головой и тихо, чтобы мама не слыхала, прошипел:
— Все в облаках витаешь. Пора и на землю спуститься.
Продолжая улыбаться, она сказала:
— Это вы спускайтесь куда хотите.
— Идиотка!
Так же тихо, но весело она кинула ему вслед:
— Сам идиот!
Судя по тому, как дернулась его спина, он слышал, но предпочел сделать вид, что ничего не произошло.
Она сразу же забыла о нем. В другое время терзалась бы, переживала каждое обидное слово, волновалась бы, как все объяснить маме, чтобы она поняла. Сейчас ее занимало одно: рассказ. Наскоро закончив уборку в кухне, Нина помчалась в свой шалаш.
Писала, не отрывая карандаша от бумаги, захлебываясь словами. Как назвать героиню? Аделаида. Нет, вычурно. Соня. Не подходит! Почему? Неизвестно, не подходит — и все. Лиза. Вот теперь подходит. У Лизы отчим, а мама всегда на службе. У отчима сын, вредный мальчишка. Он делает Лизе пакости. Нет, не надо. Лучше никого нет — она всегда одна-одинешенька. Отчим к Лизе вечно придирается, дает подзатыльники. (Тут Нина всхлипнула.) Лиза боится пожаловаться маме. И вот урок физики (Нина любила математику, но скучала на физике), Лизу спрашивает физик, но она ничего не успела выучить — отчим велел ей перегладить белье и выутюжить ему костюм. Стала учить ночью и заснула. Из-за Лизы всей бригаде ставят незачет…
Вечером мама и Африкан отправились в гости. Нина засела за свой стол. Она представляла, что самое трудное позади — рассказ написан, осталось ерунда — переписать набело. С первых строк она споткнулась о «который» и «было». «Был рассвет, который…» «У нее были косы, которые…» «Отчим, который встал, был одет»… Нина пришла в отчаяние, как она могла такое понаписать?! Ведь еще бабушка говорила: «Пишешь сочинение — помни о словах, они тебе за небрежность отомстят». Выходит, переписывать куда труднее, чем писать. Оказывается, слова могут быть назойливыми — прилипнут, как репей, еле отдерешь: слова могут играть в прятки — ну ни за что не отыщешь; слова могут дразнить — мелькнут и исчезнут. Нина впервые ощутила, что слова — это не мертвое сочетание букв, а живые существа, и все зависит от того, какое слово, словечко, словцо — стоит рядом. Оно бывает ласковым — огонек, милым — ромашка, презрительным — подлиза…
Жаль — некогда все это додумывать. Часы пробили в столовой двенадцать, а переписана всего одна страница. Вернулись из гостей мама и господин Илагин. Прошли к себе в спальню. По его хохотку Нина поняла — выпил. Теперь станет то и дело в кухню лазить — пить воду.
— Пора ложиться.
Она не отозвалась.
— Тебе говорю.
Она промолчала.
Через полчаса заявился: в шлепанцах, подтяжки болтаются.
— Потуши свет!
«О господи, какой нудный!» Пришлось погасить. Подождала, когда прошлепал через столовую, зажгла свет и, схватив стул, засунула его ножку в дверную ручку. Пусть попробует теперь войти. «Интересно, припрется еще?» Видно, его мучила изжога. Зашлепал. Наверное, выдал свет под дверью. Безуспешно подергал дверь. «Черта с два! Попробуй открой!»
— Ложись сию минуту. Скажу обо всем матери. Сама не зарабатываешь, а свет жгешь.
Он так и сказал — жгешь. Раньше бы она непременно поправила: «А по-русски — жжешь!» Сейчас все равно. Наплевать.
Казалось, часы, сбившись с толку, бьют чаще положенного. Нина распахнула окно. Роща прошелестела: «Пишешь?» — «Пишу» — тихонько сказала она и, потянувшись всем телом, села к столу.
Свет электрической лампочки путался с предрассветными сумерками. Нина упрямо — «не буду считать, сколько пробило», — писала.
Наконец все! Последняя фраза… Точка. Все! Все! Все! Да, а название? Как же она забыла про название? Настоящие писатели сначала, наверное, придумают название, а потом уже берутся за рассказ. Неожиданно легко придумалось — «Бедная Лиза». Ликовала минуты три. И вспомнила… ту настоящую бедную Лизу. Что, если «Падчерица»? Нет, смахивает на сказку. Вот где маета.
Так и не придумала. Заснула.
Разбудил скулеж Данайки под дверью. Нина подняла голову и увидела поросший мхом, черный от сырости забор. Листья крапивы и лопухи блестели, словно их смазали маслом. От крыши сарая в соседнем дворе поднимался легкий пар. Шел дождь, а она и не слышала. Проспала, положив голову на исписанные тетрадочные листки.
Данайка взвыла за дверью. Нина впустила ее.
— Идем в кухню. Покормлю. Знаешь, Данайка, новость — я рассказ написала.
На столе в кухне записка от мамы: «Что это за манера закрываться и жечь свет по ночам? Сходи на базар, купи четверть молока и ведро картошки. Недовольна твоим поведением. Приду — поговорим».
Отправилась с Данайкой на базар, и все равно в голове крутилось название. Забыла заплатить за молоко. Краснолицая тетка стыдила на весь базар.
— Ишь, они нонче все ушлые! Приличная барышня, а норовит словчить.
— Вы извините, — растерянно бормотала Нина, — я просто задумалась.
— Гляди-ка, ей просто, а мне — кровная копейка!
Нина бродила между возов, тщетно пытаясь придумать что-нибудь стоящее. Вот уж не знала, что название может быть такой загвоздкой. И вдруг услышала:
— Так ить она из Степановки, из чужой деревни, чужая и есть.
Что-то кольнуло Нину. Чужая! Кто чужая? Вот и название — «Чужая». Подходит? Подходит!
Домой летела, распевая: «Чужа-а-я-я».
Нина удрала из дому, не дожидаясь прихода мамы.
Ее одолевал зуд прочитать кому-нибудь рассказ. Но кому? Мара, наверное, уехала к маме в больницу.
Нина забрела в городской сад. Выбрала укромную скамеечку. Плохо жить человеку, когда некому даже прочесть свой собственный рассказ.
Подошел, прихрамывая, старичок и старомодно приподнял соломенную шляпу «здравствуй и прощай», сказав: «Разрешите». Он долго осторожно умащивался, наконец успокоился, снял шляпу, вытер лоб клетчатым платком и, опершись подбородком о набалдашник палки, погрузился в свои мысли.
Нина вытащила из книги тетрадочные листки и в сотый раз за сегодняшний день принялась их перечитывать. Хорошо бы, вместо старичка подсел кто-то другой! Она ни за что бы не обратила на него внимания. А он спросил бы: «Что вы читаете?» Она так небрежно ответила бы: «Рассказ». Он спросил бы: «Чей?» И она просто, без всякого хвастовства сказала бы «Мой». А вдруг старичок спросит? Нина украдкой глянула на соседа. Старичок дремал, нижняя челюсть у него вот-вот отвалится.
Уговаривая себя, что «просто пройдется», Нина пошла к Петренко. Ей повезло: в открытое окно увидела его крупную голову, а подойдя ближе, услышала, что он с кем-то разговаривает. Значит, Анфиса дома, но, может быть, у нее какая-нибудь нагрузка и она уйдет. Вот хорошо бы!
Все двери — наружная и из сеней в квартиру — были распахнуты настежь. Никого, кроме Петренко, в комнате не было. Он разговаривал по телефону, зажав трубку рукой, сказал:
— Проходи, проходи. Трошки обожди, я сейчас.
Он разговаривал, поставив больную ногу на табуретку. Иван Михайлович выглядел помолодевшим, то ли от коричневого загара, покрывавшего его широкое крестьянское лицо, то ли от военной формы. Слушая, что ему говорят, он косился на Нину из-под кустистых бровей.
В комнате прибрано, пол чистый, на столе скатерка из сурового полотна, а в глиняной кринке — букет ромашек, и от цветов комната как-то утратила свой унылый вид.
Иван Михайлович повесил трубку и сказал:
— Молодчина дивчина! А я думку держу: что это Ниночко не приходит?
— Я приходила, только вас дома не было.
— Хозяйка моя в командировку уехала, я вот сам…
— Сколько у вас книг! — сказала Нина, разглядывая забитую книгами этажерку. — А зачем вам «Горное дело»? Вы хотите в горном учиться?
— Рад бы учиться, да не пускают. Говорят: поважнее для тебя, товарищ, дела есть. А горное дело мне треба знать. Разбираться по долгу службы мне нужно во всем, а знаний-то у меня с гулькин нос. Вот и штурмую, — потерев ладонью лоб, Петренко спросил: — Кушать хочешь?
Тут Нина вспомнила, что не обедала.
Петренко притащил из кухни блюдо с варениками и горшочек со сметаной.
— А на десерт у нас малина с молоком.
Слово «десерт» перенесло Нину на «старую квартиру», к тому далекому — из другой эпохи — времени, когда Петренко подавал десерт и мыл в кухне грязные тарелки.
— Иван Михайлович, а вы меня не считаете буржуйской барышней?
Еще минуту назад ей не пришло бы в голову задать такой вопрос.
Он внимательно посмотрел на нее, подвинул стул к кушетке, на которой она чинно сидела, и, сев лицом к ней, взял ее руки в свои.
— За то, что было, ты себя не виновать. Никто себе заранее хату, в которой ему родиться, не выбирает. А вот за то, как тебе свою жизнь прожить, ты в ответе.
Петренко встал, прошелся по комнате, закурил и сказал:
— По совести человек должен жить. А это, Ниночко, трудненько. Бывает, совесть твоя о такой порожек запнется, что не знаешь, как этот порожек и переступить. А бывает, что ты уж и ногу занес, а тебя обратно тянут, дескать, не ходи, ничего не случится — мы в ответе за то, что ты не пошел. А так-то дуже сподобно получается, когда кто-то за тебя в ответе. Самому надо быть за себя в ответе. — Он одернул гимнастерку, поправил ремень. Молча пошагал по комнате и, повысив голос, повторил: — Самому.
— На самой что ни на есть правильной дороге перекрестки попадаются. И вот человек на перекрестке свернул с большака на обходную тропочку, а та тропочка петлять начинает, а то, гляди, и в трясину заведет. Ты, ежели не туда свернул, сбился, торопись вернуться, ищи дорогу к большаку, ноги сбей в кровь, а найди. Другой из-за гордости ошибку свою не хочет признать. На такую гордость уздечку надо надевать. — Иван Михайлович щелкнул зажигалкой, поднес ее к потухшей папиросе и с жадностью затянулся.
Нина смутно догадывалась: Петренко не только ее убеждал, но и с кем-то спорил.
А он спохватился: соловья баснями не кормят. Они сели к столу. Ели вареники, малину с молоком. Потом он снова разговаривал с кем-то по телефону, а Нина, собрав тарелки, отправилась на кухню.
Вернулась и снова уселась на кушетку. Когда он повесил телефонную трубку, Нина сказала:
— Знаете, а я рассказ написала. Хотите, прочитаю? Он не очень большой.
Петренко только раз ее перебил:
— Ты помаленьку, не торопись.
— «…шел сильный дождь, — читала Нина охрипшим от волненья голосом, — Лиза промокла до нитки. Она подняла воротник, но от этого ей не стало теплее. — „Ох, дура, будто от воротника бывает теплее, — мысленно упрекнула себя, — это место надо вычеркнуть“. — Лиза встала, чтобы пойти домой, но вспомнила об отчиме и осталась сидеть на лавочке. А дождь все лил, холодными струйками стекая за воротник. Очень обидно и одиноко сидеть одной в темноте на мокрой лавочке у ворот — можно ведь и простудиться. Но зачем идти домой, когда дома ты всем чужая!» — Нина аккуратно сложила листки на кушетку. — Вот и все, — сказала она, не решаясь взглянуть на Петренко.
— Это ты что же, про себя?
— Не совсем.
— А подзатыльники?
— Нет, что вы! Пусть только попробует! — запальчиво проговорила она. Нину тронуло участие, прозвучавшее в его тоне, но она ждала от него других слов. Не выдержав, спросила: — А как, по-вашему, рассказ?
— Дуже справно, — сказал он и с откровенным удивлением добавил: — Ты скажи, сама сочинила!
Нина не могла удержаться от самодовольной улыбки.
— А как вам фабула?
Он засмеялся.
— Не знаю я, Ниночко, с чем эту фабулу кушают. Не больно-то я спец по таким делам. Рассказывал тебе, как в детинстве учился. Рабфак недавно кончил. Ты вот про французского писателя Оноре Бальзака, наверное, давно знаешь? А я про него только вчера узнал — у Ленина прочитал. Чуешь? Читал я в госпитале рассказик про одного хлопчика, Ваньку Жукова. Во-во, писателя Чехова. Знаешь, стало быть. Сам читал, а потом, значит, бойцам прочитал, а тоже… слеза прошибла. Разумеешь, в кого этот писатель стрелял? За кого он боролся? Да за мальца. За угнетенный народ. Вот так я понимаю. А ты про какое время пишешь? Нашенское?
Нина кивнула.
— Получается, что никакой разницы нет, что при царской власти, что при Советской, измывайся над дитем, никто не заступится.
— Но ведь так же бывает!
— Бывает всякая бывальщина. А ты мне укажи, как бедной дивчине поступать, ежели такое случится, кто за нее должен заступиться? — Он глянул на погрустневшую Нину и сам ответил: — Школа. Учителя — вот кто. У Ваньки-то Жукова школы не было. Чуешь разницу?
— Чую, — невесело улыбнулась Нина.
Как бы желая ее утешить, Петренко провел рукой по Нининой опущенной голове.
— Нет теперь такого права, чтобы человека можно было безнаказанно унижать.
— Иван Михайлович, а какого человека можно считать хорошим? По-настоящему. Если человек не делает подлости — значит он хороший?
— Ну этого еще мало. Вот если он не только себе, но и другим не позволяет подлость совершать, тогда он по-настоящему добрый человек. Ты вот примечала: упадет на улице человек — один увидел и засмеялся. Бачишь, смех ему, что человек упал. А другой, хороший-то человек, бежит сразу на помощь. Вот она и разница. А еще есть такие товарищи — дома они лучше некуда, к своему семейству, а для общества — нуль. Можно, к примеру, такого человека считать хорошим?
Затрезвонил телефон. Из отрывистого разговора Нина поняла: Петренко куда-то срочно вызывают.
Вышли на улицу вместе. Прощаясь, Иван Михайлович торопливо сказал:
— В обиду себя не давай. И Натку, если что… — Он дотронулся до ее плеча и исчез за углом.
Нина прислушалась к его шагам в темноте, чуть прихрамывающим, но быстрым. «Положим, Натка сама себя в обиду не даст», — подумала она. И сразу же ее мысли перескочили на рассказ.
— Дуже справно, — произнесла она вслух и громко засмеялась.
Дома Нину ожидал сюрприз — приехала с дачи за покупками Натка. Она повзрослела, загорела, кажется, еще больше похорошела. Сестра без умолку болтала: в деревне жить — шикардос на длинной палке! — как говорит обожаемый дядюшка. Леля ну совершенно простая. Научила их с Юлей плавать. Нина даже не представляет, как в деревне весело. Познакомилась с девчатами. Все парни влюбились в нее, Натку. Ну, поголовно все! Она научила девчат танцевать вальс и польку-бабочку. Ходила с ними на покос, и они научили ее частушкам.
Нина слушала не особенно внимательно. Ей не терпелось сообщить про рассказ. Но только вечером, когда Натка, угомонившись, забралась в постель, Нина сказала:
— Знаешь, а я написала рассказ. Хочешь, прочитаю?
— Давай завтра, — зевнула Натка. — Спать охота. Мы в деревне вставали с восходом солнца. Так замечательно! Ну не обижайся — я думала, лучше на свежую голову. Читай.
Натка разика два воскликнула: «Здорово! На ять! Вот это на большой!»
По коридору несколько раз прошлепал Африкан. Шаги около дверей их комнаты замирали. Показав глазами на дверь, Натка шепнула: «Подслушивает, гад!» Пусть. Нина читала еще громче. Натка притихла.
— Ну, как по-твоему? Ничего? — спросила Нина и лишь тут увидела, что Натка, свернувшись калачиком, безмятежно спит.
Наутро сестры поссорились. Натка самозабвенно каялась: если бы она не устала, просто ужас как, ни за что бы не уснула.
— Понимаешь, я же до самых петухов шлялась с Володькой, — трещала Натка, — я тебе про него говорила. Представляешь, он мне ноги целовал, а я босиком была. — Натка чуть не задохнулась от смеха.
— Ты там совсем развратилась, — возмутилась Нина, — не забывай: тебе еще и пятнадцати нет.
— Если хочешь знать, так мне одна девочка призналась, что она с десяти лет целуется с мальчишками. Ты бы тоже рада целоваться, только на тебя никто не смотрит. Глупо из себя корчить монахиню!
— Я не корчу монахиню. И вообще, если ты хочешь знать, так я с мужчинами вино пила.
Натка пристала, как репей: «Расскажи, никто не узнает. Даже Юля». Невозможно отвертеться от Натки, если она захочет что-нибудь выпытать. Нинин рассказ о Петренко и Федоре Ивановиче Натка выслушала с некоторым разочарованием.
— Буза, — сказала она, — я думала, ты с настоящими кавалерами познакомилась, а они же старики. А я не помню никакого Кащея.
По дороге на вокзал (пришлось помочь Натке тащить к поезду корзину с продуктами) Нина отмалчивалась, а сестра всячески старалась помириться.
На прощанье Натка сказала:
— Ты бы приезжала в деревню, а то даже и не загорела.
— Мне некогда ездить. Кто будет на базар ходить? Обед готовить? Кто? — И мстительно добавила: — Не все могут только развлекаться.
Как обычно, дверь отперла своим ключом. Африкан шарил в их письменном столе! Поспешно задвинул ящик.
— Вечно газету к себе прячете, — сказал и бочком вышел из комнаты.
Нет, в ту минуту она его не заподозрила. Сначала решила, что положила рассказ не в стол, а к себе под подушку. Перерыла все, рассказ исчез. Неужели стащил? Зачем? Долго караулила его, стоя у двери. Наконец вылез.
— Это вы взяли мой рассказ?
— Ты что свихнулась? — ответил холодно. В глазах недоумение. Пожал плечами. Усмехнулся.
«Может, Натка увезла, чтобы всем показать, таскала же она в школу мои стихи. Завтра с утра поеду на дачу».
Утром, выгребая золу из плиты, увидела обгоревшие листки. Долго лежала ничком на кровати, плакала, уткнувшись в подушку.
А Африкан вечером (только подумать!) спросил:
— Ты что, заболела?
Глядя с ненавистью в его желтые зрачки, она сказала:.
— Зачем вы сожгли мой рассказ?
Он пожал плечами и почти ласково произнес:
— Ты, видно, и вправду заболела.
Нина попробовала восстановить рассказ. Ничего не вышло: бесцветные слова путались, еще сильнее разбирала обида.
Лишь через месяц Африкан выдал себя.
Нина, гладя его рубашку, нечаянно подпалила воротничок. Он, конечно, сразу же заметил, влетел в комнату.
— Что это такое?! — тряс Африкан рубашкой.
— Вы же видите, — равнодушно ответила она.
Кажется, его больше всего взвинтил ее спокойный тон.
— Ни черта делать не умеешь. Это тебе не пасквили писать! — Он повернулся и вышел.
Что за наглость! Украл рассказ, сжег! И еще насмехается! Как он смеет! Ни мама, ни бабушка без спросу их дневники не читали. Сказать бабушке?.. У нее на все один ответ: пожалей мать.
С утра валил рыхлый снег, к концу дня стало подмораживать. Тротуары покрылись ледяной коркой — быстро идти невозможно.
…Месяц назад Нина прочитала в газете объявление: «Нужен репетитор. Желательно молодая барышня: студентка или выпускница школы с педагогическим уклоном». Затолкав газету в карман, Нина помчалась по указанному адресу. Рядом с Аникинским переулком студенческий городок, еще явится какая-нибудь студентка раньше ее, и тогда все пропало.
Постояла у старого парадного: «Может, повезет! Хоть бы согласились». Постучала. Дверь открыла растрепанная девица.
— Чаво, не видишь звонка? — девица с явным пренебрежением оглядывала Нину. — Барабанит как оглашенная. Ты к кому?
Краснея, Нина пробормотала, что она «по объявлению». Девица, ухмыляясь, провела ее через широкий коридор в просторную столовую.
— Обожди маленько, хозяйку позову.
Массивный дубовый буфет, хрустальная искрящаяся люстра, ковер — все эти дорогие вещи наступали на Нину, вот-вот раздавят. Она как бы со стороны видела себя: свои рваные ботинки, пальто с короткими рукавами, красные от холода руки. И эти несчастные косы! Ну, как она не догадалась спрятать их под пальто, все бы повзрослее выглядела.
Прошуршала шелком нарядная дама, протянув Нине руку, предложила сесть. Разговаривала вежливо, как со взрослой. Спросила:
— Сколько вам лет?
— Семнадцатый.
Проронив: «Извините, я на минуточку», дама вышла.
Вернулась с представительным мужчиной. У него как-то странно с затылка на макушку зачесаны волосы. Теперь спрашивал он.
— Как вас зовут?
— Нина.
— А дальше?
— Камышина.
— Да-а-а? А отчество?
— Что? — сначала не поняла Нина. — Николаевна.
Дама и представительный мужчина с улыбкой переглянулись.
— Итак, Нина Николаевна, — она не сразу сообразила, что слова относятся к ней, — ведь ее в первые назвали по отчеству, — мы с Верой Евгеньевной решили, что вы нам подходите, должен вас предупредить: Леня, наш сын, весьма способный мальчик, но…
— Он рассеянный, — поспешила вставить Вера Евгеньевна.
— Ленивый, — уточнил Лёнин папа.
Нина подняла голову и увидела какую-то отдельную от лица вежливую улыбку. Глаза его не улыбались, они зорко разглядывали ее. И она снова увидела себя как бы со стороны, начиная от рваных ботинок и кончая красными обветренными руками.
— Наш мальчик отстал по русскому языку и арифметике, — продолжал Лёнин папа, — нас устраиваете вы. Будете приходить к шести часам. Заниматься ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Деньги получите за месяц — шесть рублей. Ждем вас в понедельник к шести часам. До свиданья.
Нина домой мчалась чуть ли не вприпрыжку. Ей и в голову не приходило, что у нее не спросили даже согласия: все решили без ее участия. Радость омрачила Марино негодование.
— Шесть рублей и пять раз в неделю шляться в такую даль! — возмущалась она. — Эксплуататоры несчастные! Они что, опупели?! Откажись!
Нина молчала: хорошо Маре — у нее есть отец, он любит и балует Мару. Нет уж, хватит слушать попреки от Африкана.
Леня оказался не только ленивым, но и упрямым мальчишкой. Он, кажется, твердо был убежден: репетитор приходит для того, чтобы решать за него задачи. Он отказывался думать, брал ее измором: не сидеть же до ночи с ним. Пожаловаться родителям? Но тогда они усомнятся в ее педагогических способностях и, чего доброго, еще откажут!
Одна была надежда на педологию. Педолог — вот кто откроет ей тайны преподавания. А его уроки, как назло, все откладывались. Наконец он появился. Высокий, лысый, со скучным лицом и тусклым голосом, он не понравился Нине с той минуты, как вошел в класс. Педолог монотонно вычитывал длинные фразы. К концу урока у нее в тетради появилась единственная запись: «paides — дети, logos — понятие, учение». Педолог говорил о влиянии наследственности, Нина прикидывала к Лене — нет, не подходит: его папа и мама преподают в вузе. Мальчишка хвастался: «Они ученые! Больше вас знают!»
На следующем уроке педолог предложил самостоятельно поработать над тестами, дав несколько примеров.
Оказывается, можно при помощи тестов определить коэффициент умственной активности. Интересно, что можно определить при помощи такого теста: «Из шести кубиков, лежащих на столе, один упал на пол. Какой кубик упал на пол?»
Забыв о своем ученике, Нина вместе со всеми тихо веселилась, придумывая тесты.
Герман Яворский прислал их бригаде записку со своими тестами. Мара прочла вслух: «К доске вызвали трех шатенок и двух дур-блондинок. Какой масти дуры?» И еще: «Педолог жевал тесты. Кто педолог?»
Давно Нина не помнила такого развеселого урока. И только вечером, ложась спать, подумала: ни за что не предложит Лене тесты, еще увидят его родители и посчитают ее идиоткой. Все равно если бы даже и смогла определить коэффициент умственной активности Лени, этим не заставишь его самостоятельно решать задачи.
…Погруженная в свои мысли, Нина чуть не шагнула в огромную лужу, затянутую ломким ледком. Успеть бы до темноты проскочить кладбище, оно напротив бывшего женского монастыря. Глупо бояться кладбища. Но все-таки…
«Надо бы сходить к Кате. Позвать с собой Варю». Просто эгоизм забыть о Варе.
Утром Нина получила письмо. Небрежные строчки, написанные карандашом. Письмо от товарища Вариного жениха. Ошеломленная Нина прочитала: «Сергей умер в Москве, куда он поехал защищать диплом. Нина, я знаю, что вы лучшая Варина подруга, и поэтому обращаюсь к вам. Варя безумно любит Сергея, и она не переживет его смерти. Нина, проявите к Варе чуткость и ласку. Подготовьте ее к страшному несчастью.
Друг Сергея
Петя».
В школе Нина показала письмо Маре, и они вместе погоревали над ним. Упрекали себя в невнимании к Варе, вспомнив, что последнее время почти не виделись, и Варя, не заставая их дома, оставляла записки.
Договорились, что Мара забежит после школы за Варей на работу и приведет ее к себе домой. Осторожно ее подготовит, дескать, слышала от знакомых студентов, что Сергей болен. «А потом, когда ты придешь, мы ей все скажем».
Бедная, бедная Варя!..
Раздумывая о Варе, Нина незаметно добралась до кладбища. Бесконечно длинная ограда, а над ней — темные до черноты деревья. Теперь уж было не до осторожности — Нина мчалась что есть духу. Раз поскользнулась и грохнулась на обледенелый тротуар.
Долго очищала щепкой грязь с ботинок, прежде чем нажала кнопку звонка.
Урок тянулся невероятно долго, зябли мокрые ноги. Леня ныл:
— Вы только первое действие скажите… Я не понимаю…
Розовый чистенький мальчик. Ах, если бы его можно было стукнуть! Ну хотя бы разок. Вот об этом почему-то ничего в педологии не сказано. Возможно, Леня умственно отсталый? Нет, непохож. Вон какую ветряную мельницу из картона сделал. Просто лодырь, а она, педагогша несчастная, избаловала ученичка. «Ни за что сегодня не подскажу. Пусть сам».
— Подумал над задачей? Что нам надо узнать в первом действии?
— А вы не сказали.
— Ты хоть раз можешь самостоятельно решить? Прочитай еще раз условие задачи.
— Я его сто раз читал. Вы скажите.
— Нет, не скажу. Ты совсем не хочешь думать.
Леня обиженно уставился в задачник. Чтобы хоть как-то согреть ноги, Нина принялась ходить по комнате. Собиралась быть учительницей, а с одним не в состоянии справиться. Но ведь не все такие лентяи. Мара ее просила: «Ты сегодня поскорей кончай волынку». Как бы не так. Мара ждет, наверное, не дождется. Ну ладно, другим ребятам еще хуже: Вася Волков помогает отцу-сапожнику — все вечера просиживает над колодкой, у Гриши Шаркова мать прачка, часто болеет, и тогда Гриша за нее стирает. А Вера Глухова и Роза Блох из 9-го «Б» в школу являются в шерстяных и бархатных платьях, носят часы. Больше ни у кого из ребят нет часов. При социализме все будет по-другому… Вот Варе тоже из-за бедности пришлось пойти на службу. Скорей бы этот лодырь задачу решил.
Нина взглянула на него и обомлела. Леня, невинно улыбаясь, отрывал кусок бумаги, заталкивал его в рот и сосредоточенно жевал.
— Что ты делаешь?
— Жую бумагу. Вот проглочу, — он затолкал бумагу за щеку, — подавлюсь и умру. Раз вы не хотите…
— Выплюнь сейчас же, — она приказала шепотом, чтобы не закричать.
— Я не могу задачу решить. Раз не говорите… Все равно проглочу.
«Неужели снова уступить мальчишке?»
— Глотай, — тихо проговорила Нина. — Ну, чего же ты не глотаешь? — «Вдруг проглотит, что тогда?»
— А вы скажете, как решать задачу?
— Не скажу. — «Вот нахал, еще торгуется!»
На кукольном личике появилась растерянность. Леня исподлобья поглядывал на Нину, видимо, пытаясь что-то понять… Потом наклонился и осторожно выплюнул под стол бумагу.
Нина перевела дыхание.
— А вам скоро уже уходить, — заныл Леня.
— Я не уйду, пока ты не решишь задачу. Понял? Буду сидеть хоть до ночи. — Нина вытащила из сумки учебник по алгебре.
Он ерзал на стуле. Поглядывал на нее. Хныкал… И… не выдержал — придвинул к себе задачник…
Натягивая в коридоре раскисшую от снега мокрую борчатку, Нина ликовала: «Решил же! Он и правда способный. Теперь знаю, как с ним разговаривать».
Растрепанная девица, держа тряпку в руках, проворчала:
— Топчут тута грязными ногами.
Стыдно? Наплевать. Бабушка всегда говорит: ложный стыд — удел мелких душ.
И снова Нина мчалась вдоль кладбищенской стены, подгоняемая страхом.
Дверь ей открыл Марин брат — Мика.
— Мара куда-то поперла Варю. Утешать, что ли? — сообщил Мика, пропуская Нину. — Ты с урока? Мама велела тебя накормить. Она спит. У нее опять плохо с сердцем.
Нина замерзшими пальцами пыталась расстегнуть верхний крючок на борчатке.
— Давай я, — расстегивая, Мика наклонился над Ниной.
Просто удивительно, как он за этот год вырос. Он вдруг прямо и близко заглянул ей в глаза и тут же отвел взгляд.
— Ну и воняет твоя овчина!
Вот, всегда так. Почему он вечно говорит ей гадости?! Она сама ненавидит эту овчину. Еще не хватало, чтобы он заметил, как у нее дрожат губы, она торопливо отвернулась.
— Обед тебе оставлен.
— Спасибо, я не хочу есть.
— Ну это ты врешь.
Он притащил в столовую тарелку густого пахучего борща и котлету.
— Не будешь есть — разбужу маму, — Мика кивнул на закрытую дверь.
Нина принялась за борщ. Он присел к столу с газетой.
— Неужели у Вари был жених? Вот так номер!
«Выходит, Мара сказала ему про Сергея», — догадалась Нина.
— Почему у Вари не может быть жениха? — обиделась за подругу Нина. — Она ведь старше меня на три года.
— Дура. При чем тут старше!
— А без дуры ты не можешь?
— Могу. Я вижу, ты чуть не лопаешься от любопытства, — небрежно произнес Мика. — Тебе нужно знать, куда Мара потащила Варю? Могу открыть секрет. Сначала они выли в два голоса. Ну, а потом… Разве ты не знаешь, как утешаются девчонки? Обыкновенно — жрут сладости. Итак, они поперлись покупать пирожные. А ты лопай, лопай. Мясо для нашего органона полезнее пирожных.
«Мог бы без грубостей», — подумала Нина, торопливо глотая котлету.
— Я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Хочешь, скажу?
— Пожалуйста.
— Ты думаешь: был пай-мальчик, а стал хам. И как он смеет со мной, Ниной Камышиной, так обращаться?! Угадал?
Нина покраснела.
— Вижу, что угадал. Чего молчишь? Выплесни чашу презрения на голову хама.
— И выплесну! Не понимаю, интеллигентная семья и…
Он насмешливо оборвал ее:
— Брось только эти кисленькие слова. Какие мы интеллигенты! Просто недобитые господа. Интеллигенция. И вообще мы прослойка. Недобитые господа, коих история отправит на свалку. Ты хоть это понимаешь?
Нина растерялась ненадолго. Вспомнила, что говорил Петренко.
— Глупости. Никакие мы не недобитые! Никто себе заранее хату, в которой ему родиться, не выбирает. А вот за то, как тебе свою жизнь прожить, — ты в ответе.
Мика присвистнул.
— Ты что — сама доперла или тебе умный человек прояснил?
Подмывало сказать — сама, но это было бы нечестно по отношению к Петренко.
— Умный человек. Поумнее многих. Что значит недобитые буржуйчики? У нас, например, никакого богатства не было. Даже дома не было. А дворянское происхождение — так я его не выбирала.
— Тебе, случайно, не усатый Африкан все разобъяснил?
— Ну да! Он все советское ненавидит. Раньше все было шик, блеск, красота. И люди были не люди, а ангелы ходячие, а теперь… А сам-то хоть на себя посмотрел бы…
— Ты Илюху Хаймовича знала? — снова перебил ее Мика. — Мы с ним в восьмом учились, я остался на второй год, а он держал экстерном в университет, выдержал блестяще. На физико-математический. А его не приняли. Знаешь почему? Папа — частник. А он тоже не выбирал себе тятю от станка. Как, по-твоему, это называется? Классовый подход. Ты об этом задумывалась? Вижу по твоему голубиному взгляду, что не задумывалась. Заруби на своем носу, кстати, он у тебя не греческий, мы с тобой еще запоем модную песенку: «Дайте мне за все червонцы тятю от станка».
— Пой на здоровье, если тебе охота. А я не собираюсь. Буду работать, сама делать свою биографию…
— Посмотрим!
— Посмотрим!
Недовольные друг другом, они разошлись по разным комнатам. Нина пыталась решить хоть одно уравнение из «Шапошникова и Вальцева», но алгебра не шла на ум. Мерзли ноги в мокрых ботинках. Злилась на Мику, не признаваясь себе, кажется, больше всего за то, что обязательно он что-нибудь неприятное скажет про наружность. Подумаешь, не обязательно всем иметь греческие носы. «Недобитые господа». Неужели он и про своих родителей так? Отец Мары и Мики — высокий, пышноусый здоровяк. Красный спец — как теперь говорят. Мама бухгалтер. Она очень добрая, тихая (а отец — шумный, резкий, Мара — в него.)
Жили Лозовские в одноэтажном особняке. Семья лесничего занимала три комнаты, в двух других больших комнатах размещалась контора. В кабинете Лозовского камин. Сюда Мика и позвал Нину погреться. Видно, ему одному скучно? А может, ему хочется доспорить?
Нина с удовольствием подсела к огню и положила вытянутые ноги на решетку камина.
— Э, мамаша, да у тебя ноги-то мокрые! — воскликнул Мика. — А ну, снимай ботинки, и чулки снимай! Да не жмись ты. Я в спортклубе девчонок вижу чуть ли не голых.
«Надо же, и чулок порвался, а ступни красные, как гусиные лапы».
Неожиданно он наклонился и взял ее красную узкую ступню в свои горячие ладони и принялся ее растирать. От смущения Нина на него не смотрела.
— Ну и дуреха, сколько времени молчала!
Он принес ей шлепанцы.
— Суй ноги, а то простудишься. Ты ведь известная дохлятина.
Потом они сидели молча, уставившись на огонь в камине. Она видела, хоть и не смотрела на него, русые Микины вихры на крутом лбу, верхнюю короткую губу (в детстве за эту губу Мику дразнили лягушонком), тупой нос и ямочку на подбородке.
Она не выдержала и спросила:
— А ты теперь не сочиняешь стихи?
Это было давным-давно, в детстве. Четыре года назад. Ей — двенадцать, ему тринадцать. В то лето все они увлекались крокетом. Мика играл необыкновенно хорошо. Он первым выходил в разбойники и ставил шар Нины на превосходные позиции, он проводил Нинин шар через мышеловку. Он делал это вопреки правилам, даже если играл в другой партии. Мика прибегал каждый день, с удалью перемахивал через забор. Он заговорщически о чем-то шептался с Наткой. «Настанет чудное мгновенье, — таинственно вещала Натка, — ты узнаешь тайну жизни и смерти». Порция мороженого, отданная Ниной младшей сестре, ускорили «чудное мгновенье». Натка повела Нину к дальнему забору, где росла старая корявая береза с дуплом. Из дупла Натка вытащила коробочку из-под пудры «Лебяжий пух» и протянула Нине. «Открой», — прошептала Натка, хотя их никто не мог слышать — в роще не было ни души.
Нина извлекла из коробочки кусочек бересты. Красным нацарапано: «Люблю тебя, как ангел бога, люблю тебя, как смерть косу».
— Это он написал кровью, — торжественно провозгласила Натка. — Возьми, твоя коробка. Он про тебя, принцесса.
В тихое росистое утро, когда березы в роще, и ярко-голубое небо, и мокрые лопухи у забора — все сияло, все казалось таким же веселым и ситцевым, как ее новое платье, Нина увидела на березах, вокруг крокетной площадки, и на черной от сырости скамейке, и на самой площадке свое имя — Нина, Нина, Нина… А в центре — сердце, пронзенное стрелой, и вензель «М» и «Н».
Натка вызвала Нину в рощу и, оглядываясь, приказала:
— Садись и жди, а я буду караулить.
В своем дневнике Нина в тот день записала: «Он выскочил из-за березы, будто спустился с неба. Он подошел и сел на лавочку. У меня сердце жестоко забилось. И вот это совершилось — он меня поцеловал. О, я была как во сне! Он меня любит. Не успела я сказать „Мика“, он изчез, как горный дух или Зевс».
В тот день Нина разбила чашку и чуть не расплавила самовар, забыв налить в него воды. Весь день бабушка читала ей мораль об ответственности за свои поступки, а Нина глупо улыбалась. Бабушка думала, что она нарочно улыбается, а она ничего не могла поделать со своими губами.
…Обрывая воспоминания, а заодно и детскую дружбу, Мика тем нарочито-разухабистым тоном, которым он почему-то считал нужным разговаривать с девчонками, сказал:
— Наши Джульетты, наверное, обожрали всю кондитерскую. — Он взял полено и принялся с ожесточением сдирать с него кору. — Я влюблен в одну барышню, — сказал Мика с отчаянием. — Она старше меня на три года. В общем — барышня.
Нине сразу стало грустно. «А мне какое дело».
Мика с яростью, словно срывая злость на полене, затолкал его в камин. Пламя выбросило вихрастые искры.
— Она пустая, ветреная, — сказал Мика и, мельком глянув на Нину, закричал: — Ну, что уставилась!
— Если будешь орать, я уйду, — сказала она.
— Не сердись, я не на тебя ору, а на себя. — Он сел на корточки, так, чтобы Нина не видела его лица. — У моей барышни есть ухажер. Чистопородный нэпман. Лаковые ботинки, галстук бабочкой. Водку хлещет, как ломовой извозчик — мы были с ним вместе у моего товарища на именинах. Привез ее на лихаче.
— А она?
— Что она?
Нине хотелось узнать, влюблена ли «пустая, ветреная» в Мику, но вместо этого спросила:
— А она красивая?
— При чем тут красота?
Помолчав, он тихо, без злости и ломанья сказал:
— Если она мне велит утопиться — утоплюсь.
— Как ты можешь только говорить такое?!
Вдруг Мика неестественно захохотал, потянулся и дурашливым тоном небрежно сказал:
— Я тебе наврал с три короба, а ты и уши развесила. — И ушел посвистывая.
В черных оконных стеклах отражалось зыбкое пламя. От тепла хотелось спать и почему-то было ужасно тоскливо. С чего, собственно? Подумаешь, давным-давно один мальчик был в нее влюблен. «Люблю тебя, как смерть косу». Смешно. Очень смешно. А теперь мальчик любит (по-настоящему любит) «ветреную, пустую». Только одна она, Нина, ни в кого не влюблена. Пусть. И ее никто не любит. Пусть. Можно прожить и без любви. Она будет учительницей. Всю себя посвятит детям.
Пригревшись, незаметно заснула.
Разбудила ее Мара.
— Лежит в моей комнате и плачет, — сообщила она. — Я ей все рассказала. По дороге Варя немного отвлеклась. А сейчас как увидела твою шубу на вешалке, так и заревела. Сейчас я напою вас чаем.
Потом они сидели у камина. Щелкали кедровые орешки.
Неожиданно Варя запела: «Ты сидишь у ка-мина-а-аааа»…
Мара с Ниной переглянулись. Заметила ли Варя это, но она сразу же оборвала пение и с глубоким вздохом сказала:
— Это он мне пел, — и закрыла ладонями лицо.
Но Варя быстро успокоилась и, как обычно, когда она была в хорошем настроении, много смеялась.
Нина недоумевала: неужели так можно?
Они проводили Варю до дома, за всю дорогу она ни разу не вспомнила об умершем женихе.
Было поздно, и они решили, что Нина переночует у Лозовских. Сначала шли молча. Первой не выдержала Мара:
— Или она черствая, или у нее сила воли.
— Сила воли, — стараясь заглушить сомненье, сказала Нина.
Когда подошли к дому Лозовских, увидели, что только в Мариной комнате горел свет.
— Повадился братец у меня сидеть, — сердито проговорила Мара, — все своей барышнешке стихи сочиняет.
И снова неизвестно почему это укололо Нину.
— Ты хоть ее видела?
— Выдра, — коротко отрекомендовала Микину «любовь» Мара.
Но Мика не стихи сочинял, а, вооружившись зачем-то лупой, разглядывал письмо товарища Вариного жениха.
Мара налетела на брата: да как он смеет чужие письма читать, она же его любовные записки не читает! Мика принялся хохотать.
— Вы дуры. Наивные, как воспитанницы из института благородных девиц. Дуры в квадрате, в кубе. Вас Варя провела и вывела. Да подожди ты, не ори! — отмахнулся он от Мары. — Никто не умирал, а письмо написала ваша обожаемая Варечка собственной ручкой. Ну, что рты поразевали?! Смотрите! — Мика протянул им Варину записку и письмо.
Мика совал им лупу и требовал обратить внимание, что крючок у буквы 3 «вроде отваливается», что у Л верх остренький, а У «падает вправо». Без Микиных объяснений было ясно: записка и письмо написаны одной и той же рукой.
— Но бывают же одинаковые почерки, — проговорила Нина.
— Не бывает, — отрезала Мара. — Может, он удрал от нее, а ей совестно признаться. Погоди, но ведь письмо из Москвы, тут же обратный адрес.
— Чепуха чепушистая, и нет никакого правдоподобия, — заявил Мика. — Адрес я вам, благородные девицы, хоть какой присобачу. А штампик? Штампик нашего города, где живете-поживаете вы и ваша преподобная Варенька.
— Штамп здешний, — мрачно подтвердила Мара.
— А если правда он ее бросил? — сказала Нина. — Только не понимаю, зачем ей было врать? Мы никогда в жизни не стали бы над ней смеяться.
— Мура! — сказал Мика. — Дело в том, что у нее вообще никакого жениха не было.
— Не тяни кота за хвост, — обозлилась Мара, — выкладывай, что ты там еще раскопал.
— Видите ли, благородные девицы, сиречь дуры…
— Ты у меня дообзываешься, — пригрозила Мара.
— Ладно, мне же за вас обидно. Ну, вот я читал рассказ, в котором одна малохольная девица сама себе пишет письма от несуществующего вздыхателя, а потом над ними слезы проливает. Всякой породы дуры бывают. Варенька ваша давно на вас обижалась, а потом решила вас завести — вот и придумала себе кавалера. Врала, врала, а когда надоело врать — решила его угробить.
— А теперь ты заврался. Кавалер у нее был, но он ее бросил. Ничего, я ее на свежую воду выведу.
— Не было жениха Сергея Орлова. Пока вы провожались, я позвонил своему другу — у него отец декан горного. Никакого Орлова в институте нет. На защиту диплома в Москву никто не уезжал. — Мика замолчал. Насмешливо улыбаясь, он закурил.
— Дай мне, — попросила Мара.
Тайком от родителей они изредка курили.
Нина подавленно молчала — целый год врать! Мара кипела от негодования:
— И это называется подруга! Только подумать — она грохнулась в обморок, когда я ей сказала. Наверное, сестра-артистка научила. Мы ее выведем на свежую воду!
Выводить Варю на свежую воду отправились на другой день. Жила Варя в маленьком, вросшем в землю флигельке: кухня и комната, разгороженная дощатой перегородкой на две половины. Домнушка чистила в кухне картошку.
— А, девчонки-печенки! Спасибо, что пришли. Варюшка моя чегой-то скучает. Разболакайтесь. Она в горнице.
— Нам некогда. — Мара, схватив за руку топтавшуюся у порога Нину, потащила ее в горницу.
Много раз Нина видела эти тесные каморки, заставленные грубо сколоченной самодельной мебелишкой, эти глядящие в землю оконца, но только сейчас почувствовала все убожество Вариного дома. На миг кольнула жалость: глядя на этот низкий потолок, Варя выдумывала свою любовь.
Варя лежала на высокой кровати, накрытой лоскутным одеялом, и читала. Кажется, она сразу все поняла: взгляд ее пугливо метнулся в сторону, лицо покрылось красными пятнами.
Дорогой Нина и Мара договорились начать объяснение «выдержанно», показать свое «холодное презрение». Но Мара сорвалась с первых же слов.
— Падай в обморок! — закричала она. — Никакого Сергея нет! Никто не умирал. Мы все точно проверили. Молчишь.
— Зачем ты нам врала?
— Мы, дуры, тебе верили, а ты над нами насмехалась.
Они ожидали, что Варя начнет оправдываться или станет упорно молчать, как раньше с ней бывало, или заплачет, а затем чистосердечно во всем признается. Но такого… Варя, виновница, уличенная во лжи, тихо со злостью проговорила:
— Убирайтесь! Ничего вы не понимаете. Пошли вон! Ну…
И только спустя много лет Нина поняла, как они с Марой были жестоки к маленькой некрасивой машинистке.
Нина не сразу обратила внимание на новенькую в их группе. Рассмотрела, когда Платон вызвал новенькую к доске. Невысокая, в очках, видимо, близорукая. У нее оказался низкий и густой голос, и этим голосом, все перевирая, но ни капли не смущаясь, она пыталась доказать теорему. Платон поминутно сухо покашливал — первый признак раздражения.
— Да-с, девица, знания у вас не блестящие. Корольков, включите Антохину в бригаду посильнее, ну хотя бы к Лозовской.
В перемену новенькая подошла к столу, за которым сидела Нинина бригада, и, сильно встряхивая каждому руку, повторяла:
— Кира Антохина, Кира Антохина… — И зачем-то дотрагивалась до очков.
— Вы мне поможете, ребята, я немного по алгебре приотстала, — просто сказала Кира.
— И по геометрии, — ввернула Мара.
Позже Нина раздумывала над тем, как бы все сложилось, если бы не случайность — в этот день она потеряла талоны на сахар. Помчалась в школу — может, там выронила.
В пустом классе сидела Антохина и деловито жевала черствую булку.
— Я так и подумала, что ты потеряла, — проговорила она, протягивая Нине талоны, — уж хотела к тебе идти, да не знаю, где ты живешь.
— Вот спасибо, — обрадовалась Нина, — знаешь, меня бы Африкан за них заел.
— А кто такой Африкан?
— Тут один. Почему ты домой не идешь? Пойдем вместе.
Кира, как что-то обычное, пояснила: дома у нее нет, а значит, и идти некуда. Нет, никто ее не выгонял. Просто она далеко живет, на маленькой железнодорожной станции. Приехала в город, чтобы закончить школу второй ступени и поступить в вуз. Надо снять комнату или койку. Вот поест и пойдет искать. Нина пришла в восторг от Кириной самостоятельности: нет жилья и не унывает. Решение пришло мгновенно. Нечего ходить куда-то искать комнату. Кира пойдет к ним. Основное — уговорить отчима. Мама, конечно, согласится, мама у них сама доброта. Кира убедится. У них так пусто без Кати. «Катю никто не заменит, — подумала Нина, — но будет вместо Вари новая подруга».
Мама, как и ожидала Нина, встретила Киру очень приветливо: «Отдельной комнаты у нас нет, если Кира согласна поселиться в вашей комнате, пусть живет. Только сначала надо поговорить с Африканом Павловичем». К удивлению сестер, отчим охотно согласился.
— Пущай живет, места всем хватит.
Его манера нарочно коверкать слова, считая это духом времени, обычно возмущала Нину. На этот раз она промолчала.
— Бывает же он добрый, — с раскаянием сказала Натка.
Почему-то Кира больше сошлась с Наткой. Кира, оказалось, любила душещипательные романсы и распевала их с Наткой. Но свободного времени у нее становилось все меньше — она постоянно заседала, то в ячейке, то в учкоме, даже в педсовете.
Раз Шарков (его избрали старостой группы, а Королькова — председателем учкома) сказал Кире:
— Антохина, ты не сильно-то загибай. Долг комсомольца-общественника — не отставать в учебе. По алгебре до сих пор хромаешь.
— Ты принципиальный товарищ, — Кира тряхнула Шаркову руку. — Спасибо. Учту твое замечание. — И вышла из класса.
На скуластом некрасивом и умном лице Шаркова мелькнула ироническая усмешка.
Они были вдвоем в классе: Шарков что-то чертил, Нина подбирала Лене задачи.
— Как ты с ней дружишь? Вот что меня удивляет, — сказал Шарков. — Она у тебя сдула сочинение?
— Мы все сдуваем, — улыбнулась Нина, — даже Корольков. Только он это делает втихаря. Впрочем, он не сдувает, а принимает помощь от товарища.
— Я читал твое сочинение. Здорово ты про Базарова написала. — И без всякого перехода: — Почему ты в комсомол не вступаешь?
— Почему? А меня примут?
— Конечно. Ты хороший товарищ. Я знаю, что ты еще с осени уроки даешь. Поговори с Антохиной, она же у нас секретарь ячейки. Уж кого-кого, а тебя она знает.
В тот же вечер Нина завела с Кирой разговор о комсомоле. В их комнате, как когда-то в детской, три кровати, обшарпанный письменный стол, громоздкий гардероб и «остатки прежней роскоши» — два ковра. Вероятно, ковры не сохранились бы, но уж очень их моль побила, и покупателей на них не нашлось. В комнате тепло: Африкан, никому не доверяя — «только дрова переводите», — топил печи сам.
В печной трубе подвывал ветер, к вечеру задурила метель, кидалась в окна снегом, пыталась сорвать ставни с крючков; ставни скрипуче жаловались. Нина забралась с ногами на кровать и занялась штопкой чулок. Хорошо сидеть в такие вечера дома, в тепле и вести задушевные разговоры.
Кира сидела на своей кровати, теребила струны гитары, что-то вполголоса напевая. Поймав Нинин взгляд, Кира спросила:
— У тебя, что, голова болит?
— Кира, скажи мне… Только правду. Меня в комсомол примут?
Кира сжала струны в горсть и сразу же все выпустила. Струны вразброд тренькнули. И это треньканье почему-то насторожило Нину.
— Как тебе объяснить…
— Объясни, я ведь не слабонервная барышня, — проговорила Нина, пытаясь не выдать своего беспокойства.
— А это как сказать. Вот ты уже и обижаешься!
— Что мне обижаться! Ты-то ведь не слабонервная, — сказала и с тоской подумала: «Не то. Не так мы разговариваем».
Кира поджала губы. Кажется, и она обиделась. Отложила гитару, и снова струны тренькнули, но на этот раз еле слышно.
— Если хочешь, скажу тебе с комсомольской прямотой, — голос Киры прозвучал привычно уверенно, так она говорила, когда выступала на школьных собраниях, зная, что ее слушают.
— Ну, чего ты тянешь? Говори!
— Скажу. Ты — неустойчивый элемент.
— Докажи!
— Докажу. Во-первых, любишь упадочные стишки…
— Какие стишки?
— А Есенин? «…Под низким траурным забором лежать придется так же мне…» Что, скажешь, не переписывала стишков… В общем, про всякую чертовщину.
— А ты подглядывала?
Упрек не подействовал на Киру.
— Ты сама их везде разбрасываешь, — в ее тоне ни на капельку не убавилось самоуверенности.
— Ну и что ж, что разбрасываю. Ты письма свои тоже разбрасываешь, но ведь я же их не читаю. Ладно, что же еще, кроме Есенина? Что во-вторых?
— Ты всегда всех высмеиваешь. У тебя презрительное отношение к простым людям.
— Это к кому же?
— Скажешь, ты не высмеиваешь Королькова?
— Но разве ты не понимаешь, какой он? Подлиза. Каждого подсидеть хочет. Вечно во все длинный нос сует…
— Вот видишь! Видишь, как ты свысока оцениваешь товарища!
Неизвестно, чем закончился бы этот разговор, если бы не пришли Натка с Юлей. Подружки потащили Киру в столовую разучивать новую песню.
Нина поспешно улеглась в постель, накрылась одеялом с головой. «От себя говорит Кира! Или все в ячейке считают ее такой? Презрительное отношение! Тоже придумала. Что сказать Шаркову? Ну, сказала бы, что я плохая общественница. Справедливо? Справедливо. Хотя, когда мне в школе оставаться? Ей-то что — придет домой, а я ей обед приготовила. Жаль, что я про это не сказала. Нет, некрасиво обедом попрекать… Пойти и рассказать бабушке? Бабушке теперь не до них. У Коли сынишка, и Коля к ним не приходит. Говорит, что некогда. А еще и потому не приходит, что не любит Африкана…»
Вошла Натка, окликнула Нину, но она притворилась спящей.
К Нининому удивлению, Кира утром заговорила с ней как ни в чем не бывало. Нина отвечала сдержанно. По дороге в школу Кира участливо сказала:
— Если ты перевоспитаешься, мы тебя примем в комсомол. Но учти: с твоим социальным происхождением это не так-то просто.
Нина прибавила шагу. Кира что-то говорила. Нина не вслушивалась в ее слова.
— Может, ты обиделась…
Нина просто не могла слышать этот низкий голос, уверенно печатавший слова, и она побежала.
Кира что-то кричала ей вслед.
В школе все перемены просидела в классе, уткнувшись в книгу. Раньше всех удрала из школы. Никого не хотела видеть. Но Шарков догнал ее за углом. Молча пошел рядом.
Улицы тонули в сугробах. На крышах одноэтажных домишек снег горбом навис над окнами. На воротах и заборах белая волнистая кайма. Все белым-бело, даже больно глазам. Желтое солнце в синем небе, холодное и далекое.
— Говорила с Антохиной? — спросил Шарков.
— Она сказала, что мне надо перевоспитываться, — нехотя ответила Нина.
— Ишь ты, заправляет, — усмехнулся Шарков, — всем нам надо перевоспитываться. Ей, между прочим, тоже не мешало бы. Не читала в газете статью о комчванстве? Я ей дал эту статью почитать. А еще какой «тезис» она выдвинула?
Нина сняла рукавичку и прихватила снегу.
— Еще… Социальное происхождение у меня неподходящее.
— Мало ли что. Братва из губкома говорила — приняли они даже одного дворянского сына. Потому что свойский парень. Понятно?
— Понятно.
— Ты, того… Не расстраивайся. Я агитну в ячейке…
— Нет, пожалуйста, не надо, — попросила Нина. — Знаешь, я действительно еще не готова. У меня с общественными нагрузками плохо. Вот попрошу какую-нибудь нагрузку и тогда… Ладно?
— Ладно, — не очень охотно согласился Шарков.
— А из чего в губкоме заключили, что этот дворянский сын — свойский парень?
— Школу кончил и пошел работать кочегаром на паровоз. Молодец.
— Конечно, молодец. Важно ведь, какой ты сама станешь, — Нина сказала это почти весело. Запустив снежком в забор, сунула озябшую руку за пазуху. — А ты кем собираешься быть?
Он, видимо, обрадовался, что она не унывает. Кем быть? Он уже выбрал. Отец его был шахтером на копях. Завалило его… Много тогда шахтеров погибло. Отец раз брал его с собой в шахту. Ну, если бы ад существовал, то в аду было бы так же. Черное, мокрое подземелье. Давит на тебя низкая кровля, стены давят, тьма сплошная… В общем он пойдет в горный. Надо перестраивать шахты. Это уже точно. Уголек-то нужен. Ленин что сказал: коммунизм — это Советская власть плюс электрификация. Уголь дает электричество. Значит, сейчас это самое важное. В шахте очень много зависит от грамотного инженера. Нельзя, чтобы люди погибали…
…Близился конец учебного года. Кажется, все в группе сами понимали, что пришла пора наверстывать упущенное.
Дома у Нины стало совсем невыносимо. У Африкана на службе прошла, как писали в газетах, «чистка соваппарата», и его вычистили. За что? Он ругал завистников.
Теперь отчим совал свой нос всюду: заглядывал в кастрюли, копался в буфете, лазил в кладовку и сам выдавал продукты на обед.
Но, странно, к Кире он не придирался, относился к ней с подчеркнутой симпатией.
Кира пропадала в школе, прибегала домой поесть и мчалась на очередное собрание, а вечерами заваливалась спать. Если раньше Кира хоть что-то делала по дому, то теперь она ловко от всего увертывалась.
Натка ничем не могла помочь Нине — ее замучили фурункулы — сказались голодные годы. Приходилось все по хозяйству делать одной. Тут уж не до общественных нагрузок. Вот поправится Натка, тогда Нина на школьном собрании потребует, чтобы и ей дали нагрузку.
Вскоре Коля принес Илагину сдельную работу — снимать копии с чертежей. Африкан сидел над чертежами даже по ночам.
Однажды отчим предложил и для Нины достать сдельную работу — переписывать карточки продналога. За всю свою жизнь более нудной работы Нина не знала. В первый же день отчим вернул из 20 переписанных ею карточек 17. Выходит, она за долгий субботний вечер (свободный от урока с Леней) заработала три копейки — по копейке за карточку. Отказаться от переписки самолюбие не позволяло.
Теперь Нина постоянно торопилась: надо успеть приготовить обед, не опоздать в школу, вовремя прийти на урок с Леней, а потом — переписка карточек. И все надо, надо, надо… Приходилось дольше засиживаться над учебниками. Бригадно-лабораторный метод существовал формально. Остались столы и сидение за ними.
— Запомните, для вуза нужны ин-ди-ви-ду-альные знания, — частенько твердил Платон.
…Шли дни, и Нине казалось, что встречи с Петренко были давным-давно, что лето, шалаш, в котором она, глядя на облака, бог весть о чем мечтала, ожидание чего-то прекрасного, и тот незабываемый день восторгов и немыслимых терзаний, когда она маялась над рассказом, все это было тоже давным-давно. И совсем не с ней.
В глубине души Нина надеялась, что Шарков все же «агитнет братву в ячейке». Но разговора о комсомоле он больше не заводил. Повидать бы Петренко, все ему выложить — и про прослойку, и про социальное происхождение, про объяснения с Кирой…
Как-то после уроков Нина пошла к Петренко. Недалеко от его дома наткнулась на толпу. Простоволосая, растрепанная баба с визгом кричала:
— Бейте его, гада! Спасу от их нету!
Нина пробралась в толпу, и через плечо мальчишки увидела дикое зрелище — на затоптанном снегу лежал маленький оборванец, а здоровенный парень пинал оборвыша. Пинал, будто перед ним не человек…
— Что вы делаете! Как не стыдно!
Не оглядываясь, парень пробормотал:
— Мотай отсюда! Тоже по шеям дать?
Нина кинулась к дому Петренко. На ее счастье, Петренко колол дрова у крыльца.
— Петреночка! — Она непроизвольно назвала его как в детстве. — Там… там… бьют мальчишку!
Он ни о чем не стал расспрашивать, а, схватив с поленницы полушубок и, на ходу одеваясь, помчался за Ниной.
Оборвыш стоял на коленях и, размазывая грязные потоки слез по лицу, что-то жалобно гнусавил. Здоровенный парень ударил оборвыша по шее.
— Что за самосуд? А ну убери руки! — приказал Петренко.
— Кому така холера нужна, — буркнул парень и как-то незаметно исчез.
Толпа поспешно отступила. Отойдя на приличное расстояние, простоволосая растрепанная тетка выкрикнула:
— Пораспущали беспризорников. Оды-ды[1] придумали. Деньги, собирают, а они обворовывают честных граждан.
Остались две-три любопытствующие старушонки, мальчишки и толстяк в старомодной шубе и каракулевой шапке пирожком.
Оборвыш нацелился удрать, но толстяк с удивительной для его толщины ловкостью схватил мальчишку за шиворот.
— Он украл у меня кошелек и не сознается, паршивец.
— Не брал я ихнего кошелька, — загнусавил оборвыш. — Нужон мне ихний кошелек. Пустите, дяденька.
— Отпустите его.
— Что вы! Он удерет! — возмутился толстяк, но, глянув на Петренко, отпустил оборвыша.
Нина решила: сейчас мальчишка удерет. И правда, он пригнулся, как для прыжка. Петренко не схватил его, нет, а просто положил мальчишке на плечо руку и что-то тихо произнес. Оборвыш зашмыгал носом.
— Ну, побыстрее! — сердито сказал Иван Михайлович.
Оборвыш запустил руку в лохмотья, выудил из них кошелек и со злостью швырнул его на снег.
— Подними!
Оборвыш, стрельнув на толстяка колючими глазами, выхватил у него из-под носа кошелек и подал его Петренко.
— Сосчитайте, все ли там. — Иван Михайлович вручил кошелек толстяку.
— Больше ничего нет? — спросил Петренко.
— Есть утирка, — оборвыш вытащил носовой платок.
— А еще? Все равно узнаю, — пригрозил Петренко.
Оборвыш нехотя полез в лохмотья и извлек золотой медальон, заставив дружно ахнуть старушонок.
— Представьте, я даже не заметил, как этот сукин сын… Ах, господи! — разахался толстяк и куда-то заспешил.
К удивлению Нины, оборвыш, как знакомому, сказал Петренко:
— Гражданин начальник, отпустите, ей-богу, в последний раз.
— Врешь ты все, — скорее с грустью, чем сердито, сказал Петренко, — ты же давал мне слово и нарушил.
Теперь Нина хорошо рассмотрела лицо мальчишки. Он совсем не такой уж маленький, каким показался ей вначале. Лицо у него желтое, и вот что непонятно — даже в морщинах. Мальчишка-старичок!
— Я разе сам по себе, — заныл оборвыш.
— Слушай, Кешка, ты не крути, — строго сказал Петренко, — ты что, опять сбежал из Дома беспризорника?
— Не-е-е, зимой куды побегешь, — вздохнул беспризорник. — Разе я сам по себе… Проиграл ребятам в карты…
— Как проиграл?! — невольно вырвалось у Нины.
Оборвыш покосился на Нину с явным презрением — дескать, этой что здесь надо!
— Объясни, как проиграл.
— Шамать-то охота, а шамовка хреновая. С такой шамовки, однако, загнесся. Кто в карты проиграл, ну, того шкеты посылают шамовку доставать. Я проиграл. Не пойдешь, поди, знаете — темная.
— Погоди, — Петренко с сомненьем покачал головой, — я звонил неделю назад, вам продукты выдали сполна.
— А Липа их тю-тю! — беспризорник выразительно присвистнул.
— Ну, пошли к вам.
— Михалыч, а ты меня не продашь?
— Разве, Кешка, я когда-нибудь тебя продавал? — Петренко шел не оглядываясь, будто твердо знал, что Кешка плетется за ним.
Нина потопталась нерешительно, потом, догнав их, спросила:
— Можно мне с вами?
Петренко сначала отрицательно мотнул головой, но потом переменил решение.
— Идем, — он положил руку ей на плечо.
Беспризорник тихо спросил:
— А легавая на што?
Петренко промолчал: или в самом деле не расслышал, или не захотел отвечать.
Дом беспризорника стоял на пустыре, неподалеку от реки, оттуда к дому подбирался холодный снежный ветер. Неприютное серое здание, с кое-где заколоченными фанерой окнами. Заборов нет. Кругом грязные сугробы. В стороне дощатые уборные с хлопающими на ветру дверками.
— Маленько обождите, — Кешка юркнул под крыльцо и через минуту вылез в потрепанном пальтишке.
— Так, — оглядев Кешку, проговорил Петренко, — маскарад получается.
Дверь распахнута в черный провал длинного коридора, в углы намело снега.
— Что же вы тепло не бережете, — покачал головой Петренко.
— Липа дровишки тоже… того… — шепнул Кешка, — на подводу, и ваших нет. Михалыч, я на чердак, а то скажут шкеты, что начальничка навел.
Кешка исчез, будто растворился в темноте. Петренко стал открывать двери одну за другой. Безлюдные холодные комнаты: столовая с длинными некрашеными столами и скамьями; классная комната, судя по растерзанной географической карте на стене и поникшему глобусу на ветхом шкафу. А что же это? В нос шибануло застоялой мочой. Неужели спальня? Окна забиты фанерой. Топчаны — один к одному, без проходов, на топчанах тряпье. Кто-то хрипло дышит. Иван Михайлович отогнул край шубейки. К грязной, без наволочки, подушке будто прилипла голова мальчишки.
— Постой у двери, — сказал Нине Петренко.
Оказалось, еще двое больных. Петренко спросил их:
— Здоровые здесь же спят?
Парнишка с красными слезящимися глазами простуженным голосом сказал:
— Здеся. Других спальнев не топят.
Мутило от вони. Нина обрадовалась, когда вышли в темный коридор. В конце хлопнула дверь и раздались мальчишеские голоса, смех.
— Вот они где, субчики-голубчики, — тихо сказал Петренко.
Комната большая, в ней полно мальчишек. Нине показалось, что они все на одно лицо. Все Кешки. Видно, мастерская — у стен верстаки. Ребята резались в карты, сидя прямо на полу. В центре круга бутылка с мутноватой жидкостью. Бутылка и карты исчезли. Моментально.
— Здорово, хлопцы! — громко сказал Петренко.
Хлопцы не отозвались, а молча разглядывали Петренко и Нину.
Рыжий широкоплечий парнишка, с лицом, заляпанным веснушками, после выразительной паузы ответил за всех:
— Здрасьте, начальничек.
И снова молчание. Нина невольно подвинулась к Петренко. Он подсадил ее на верстак, сам сел рядом. Расстегнул полушубок, полез в карман гимнастерки. Шкеты отчужденно следили за малейшим его движением. Иван Михайлович достал пачку папирос, одну взял себе, пачку протянул рыжему.
— Всем поровну.
Рыжий буркнул что-то непонятное, показав желтые зубы. Сосредоточенно посапывая, разделил папиросы. Закурили.
— На ять папиросочки! — выдохнул кто-то с восторгом.
— А ну, докладывайте про шамовку! — предложил Петренко. — Только без матерков. Здесь девочка. Ясно?
— Ну доложим, а чо с того толку? — Рыжий даже сплюнул. — Ходют всякие, спрашивают, и ни фига!
— Ты, Фитиль, не фитили, — теперь Петренко обращался к одному рыжему. — Харчи вам отпускают. Это я точно знаю. Поэтому должен знать, чем вас кормят.
Молчат. Курят и молчат.
— Мне надо знать, — повторил Петренко, — я хочу вам помочь. Слов я на ветер не бросаю. Кое-кто может подтвердить. Если, конечно, не трус!
Откуда-то из задних рядов прорвался голос Кешки:
— Шкеты, это Михалыч! Гад буду: сказал Михалыч — отрубил.
Что поднялось! Орали, стараясь перекричать друг друга. Про тухлую рыбу, кислую капусту, хлеб с овсом. Ругали на чем свет стоит Липу. Нине казалось: вот-вот начнется потасовка.
Петренко дал им выкричаться. Потом вынул блокнот, набросал несколько строк и подал записку рыжему.
— Беги. Сдашь кому написано. Где милиция, знаешь?
— Гы… кто не знает, — ухмыльнулся Фитиль.
Крики разом смолкли. С Петренко не спускали глаз.
— Кешка, беги за извозчиком. Одна нога здесь, другая там. Извозчик стоит за пустырем. Отдашь мою записку и гони сюда. Пусть поторопится, — скомандовал Петренко.
Когда хлопцы умчались, Петренко сказал:
— Узнайте, где Липецкий.
Сразу ответило несколько голосов.
— У себя в мезонине дрыхнет.
— Он завсегда после шамовки дрыхнет.
— И завхоз дрыхнет.
— Денатурки надрызгались.
— Теперь до ужина как мертвяки.
Петренко приказал:
— Хлопцы, чтобы тихо. Он ничего не должен знать. Сами расставьте караул. Чтобы никто чужой не выходил и не входил. Задача ясна? — И сказал Нине: — Идем, Ниночко.
Уходя, Нина услышала:
— Брюква, гони на лестницу! С тобой пойдет Козырь. И чтобы тихо.
Петренко взял Нину за руку и вывел во двор. Морозный воздух показался необыкновенно чистым. Прошло меньше часа, как они переступили порог этого беспризорного Дома беспризорника, а сумерки уже заволокли сугробы.
— Мне бы этих хлопцев, — печально произнес Петренко, — я бы из них сделал человеков. Ты вот что: опиши все своими словами. Ты это умеешь. И завтра занеси мне утречком домой. Пораньше. Ты все запомнила?
— Запомнила.
— А сейчас я тебя отправлю домой на извозчике.
— А вы?
— Мне остаться надо.
А через несколько дней Нина прочитала в газете заметку о Доме беспризорника и узнала в ней свои фразы: «застоявшийся запах нечистот», «маленькие оборвыши», но из заметки же ей стало известно, что «голая» комната — гимнастический зал, что педагоги сбежали (или, как сказано было в газете, саботировали) и, самое главное, заведующего Липецкого за кражу станут судить со всей строгостью революционной законности.
Нина без конца перечитывала заметку. Напечатали. Напечатали! Пусть нет подписи. Но это ее слова, фразы… Нина помчалась на почту, купила пять экземпляров… Вырезала заметки и подклеила их в свой дневник. Как и тогда с рассказом, распирало желание показать кому-нибудь.
Натка прочитала заметку вслух.
— Вот здорово! Вот молодец! — она не скупилась на похвалы. — Ты всегда хорошо сочиняла. Значит, ты ходила с Петренко в Дом беспризорника? Ужасно интересно. Молодец, что позвала Петренко. Этот хулиган мог до смерти забить беспризорника!
На стене резвились, точно играли в чехарду, солнечные зайчики. Солнце било в огромное венецианское окно. По карнизу окна, раздув шеи, расхаживали и самозабвенно гулили голуби. А там, подальше, — ярко-зеленая тополиная листва.
С поля в открытые настежь форточки лился настой мокрых трав, наплывал сладковато-душный аромат цветущей черемухи.
Скоро лето.
Кончается школьная жизнь. Скоро! Завтра!
Скоро она понесет документы в вуз.
Их группа собралась в последний раз. Собралась, чтобы обсудить характеристики. Сегодня необычайно торжественно: за двумя сдвинутыми столами, покрытыми кумачом, заседает комиссия: представитель (кажется, из окроно или Союза шкрабов — школьных работников), лысый, средних лет человек с внушительным лицом; Шелин, руководитель группы; Сем Семыч, физик; и вся в бантиках, рюшечках и завитушках Берта Вильгельмовна; и, конечно же, Кира, секретарь школьной ячейки; и «ответственный товарищ» Корольков, председатель учкома.
С Кирой и Корольковым Нина, как только переступила порог школы, немного повздорила:
— Цветы — это мещанство, — заявил Корольков, увидев Нинин букет черемухи, — у нас деловое совещание.
— Мещанство проявляется в другом. — Нина поставила свой букет на стол. — Оно проявляется в поступках людей, а совсем не в цветах.
— Цветочки, стишки, — ввернула Кира.
Но в общем-то за последний месяц отношения с Кирой наладились. Вместе занимались. Кира жаловалась: из-за общественных нагрузок так много упустила. Ей туго давалась математика, но кое-чего Нина добилась. В школу они теперь ходили вместе, по дороге репетируя «вопросы и ответы» по словесности и обществоведению. Контрольные вопросы каким-то образом стали известны Лельке Кашко, а от нее и всей группе.
Сегодня Кира ушла в школу чуть свет: «Нужно провернуть организационную часть вопроса». Нина долго провозилась с блузкой, ночью шел дождь, и блузка не просохла, пришлось ее досушивать утюгом. А что юбка в двух местах заштопана, так это надо очень приглядываться, чтобы заметить. Все это чепуха, важно, какую комиссия и группа дадут ей характеристику.
Ребята говорят, что хорошая характеристика — путевка в вуз. Нина думала об этом со смутной тревогой и робкой надеждой. А вдруг… Герман Яворский вчера сказал: «Завтра скрестятся шпаги». Только Нина открыла утром глаза, как ее охватило лихорадочное беспокойство, оно не покидало ее дома, когда, обжигаясь, пила чай, и по дороге в школу, и сейчас, когда смотрела на солнечные зайчики на стене. «Уж скорее бы началось. Скорее бы все кончилось».
Встал Шелин.
А верно ребята окрестили его Христосиком. Будто с иконы сошел. Вот Якобсон был открытая душа, а этот… Но что он говорит?
— …вы вступаете в жизнь… Ваш долг перед рабочим классом… Мы должны не допустить ошибки, оценив по заслугам каждого, проявив максимум внимания и объективности…
Жаль, нет ее доброжелателя Шаркова. Яворский прислал записку: «Гришка смотался на строительство Турксиба. Считает, что это главная политическая задача на сегодняшний день». Вот это да! Он же собирался в горный поступать. Его-то уж непременно бы приняли. Вот он, настоящий комсомолец! И Мара не пришла — опять слегла мама.
— Предлагаю обсуждение проводить не по алфавиту, а побригадно. Так будет логичнее, — сказал Корольков, вопросительно глянув на представителя. — Предлагаю начать обсуждение с Антохиной. Все мы ее знаем как хорошего, принципиального товарища. Да, она заслуживает того, чтобы мы сегодня говорили о ней первой…
«Переборщил насчет того, что у Киры добросовестное отношение к академике (подумаешь, академика!). Сказали бы, к учебе, что ли, — думала Нина. — А то, что лучшая общественница, — правильно!»
— Кто еще хочет высказаться?
Выступили Христосик, Лелька Кашко (ну, эта рада стараться).
Оказывается, характеристику группа не только обсуждает, но и голосует за нее. Нина вместе со всеми голосовала за Кирину характеристику. Поймав Кирин взгляд, Нина показала большой палец. Кира поспешно отвернулась.
Все справедливо о Ване Сапожкове. Добросовестный — верно. Скромняга — о своих общественных заслугах не кричит, а, выходит, чуть ли не один всю школьную библиотеку переплел. Так, значит, Лозовская. Надо все запомнить до единого словечка. «Серьезное отношение к академике». Ну, положим, Мара посмеется, услышав такое. «Политически грамотная». Это верно — на обществоведении всю бригаду вывозит. «Хорошие организаторские способности». И это верно — не она ли организовала субботник. Сама возила тяжелющие тачки с мусором, чтобы устыдить мальчишек. Школьный двор вычистили под метелочку.
— Камышина.
Нина вздрогнула, насторожилась. Интересно, что скажут? Не сводила глаз с мучнисто-белого лица Королькова, пыталась сосредоточиться, но какие-то слова проскакивали, и она никак не могла их уловить.
— …Способная… вообще развитая…
«А не вообще? Ты слушай, слушай», — одернула себя.
— Я, как председатель учкома, считаю… отношение к академике несерьезное…
«Что он говорит?! Почему несерьезное?!»
— …часто пропускала занятия… мы даем характеристику не за один год. В восьмой группе Камышина по неделе не ходила в школу.
— У нее болела сестра, — с места сказал Яворский и вполголоса, но так, что все слышали, добавил: — Нечего было болтать про объективность!
Шелин постучал карандашом по столу:
— Яворский, веди себя приличней. Можешь взять слово в прениях, и тогда скажешь свое мнение.
Кажется, Христосик взъярился на Германа за «объективность».
— …в общественной жизни школы не участвовала…
И опять Герман не удержался и крикнул:
— В седьмой группе была редактором стенной газеты.
Шелин поднялся.
— Попрошу Яворского выйти.
Вот и отомстил Христосик. Может, кто другой и стал бы извиняться, но Герман, не глядя на членов комиссии, демонстративно вышел.
А Корольков, оглядываясь на президиум, говорил:
— Камышина не случайно отказывалась от нагрузок — это ее классовое самосознание…
«Ну что он говорит!»
— Камышина идейно чуждый, нам элемент…
Нина стиснула ладони, вся спина взмокла от пота. «Это я-то чуждая? Да как он смеет!» Нина с надеждой взглянула на Киру! Сейчас Кира встанет и защитит ее. Все выяснится. Нина в упор смотрела на Киру, стараясь поймать ее взгляд: «Ну выступи, выступи…»
Кира сняла очки и принялась их протирать. Она всегда так — протирает очки перед тем, как выступать.
Кира надела очки. Молчит, глядя в пол.
— Попрошу слова, — поднял руку Давыдов и встал. — Не очень-то Корольков объективен. Камышина хороший товарищ. Я сто раз видел, как она помогала ребятам. И по алгебре и по литературе. Той же Антохиной. Кстати, Антохина меня удивляет… Не прерывай, Корольков! Я твои высказывания слушал. Я, например, от Лозовской знаю, что Камышина написала заметку о безобразиях в Доме беспризорника. Заметка была напечатана в газете — разве это не общественная работа?! Антохина живет у Камышиной. Знает же она про заметку.
— Я читал заметку, — заявил Корольков, — мне Лозовская тоже говорила. Но учтите, товарищи, заметка без подписи. Вот, когда я писал…
— Не тебя спрашивают, — всегда выдержанный, Давыдов повысил голос. — Пусть выскажется Антохина.
Кира как бы нехотя, даже головы не повернула в Нинину сторону, проговорила:
— Правильно. Заметка без подписи, — она на секунду запнулась, а потом обычным уверенным тоном отчеканила: — Лично я не видела, когда Камышина писала заметку.
«А я еще надеялась на нее…»
— Па-а-азвольте, — поднялся Сем Семыч.
«Неужели и он?!»
Сем Семыч засунул кисти рук за ремень, он бывший военный и всегда поверх толстовки носит ремень.
— Па-а-азвольте. Дело не в заметке. Мы знаем Камышину с пятой группы, и ни разу на педсовете о ней как о неуспевающей не говорили. Так в чем же дело? Не вяжется что-то. Училась хорошо, а отношение к академике несерьезное.
Представитель согласно кивал головой. Нина на секунду воспрянула духом. Но Шелин наклонился к представителю и принялся что-то шептать на ухо. «О чем он? Про меня. Но что он может сказать?» — терзалась она.
Сем Семыч вытащил из кармана толстовки пачку папирос, но, видимо спохватившись, где он находится, сунул ее обратно. Покашлял и, сердито косясь на Королькова, сказал:
— Вы вот, сударь мой, тут изволили бросить обвинение — классовое самосознание не развито, идейно чуждый элемент… такие вещи нельзя говорить с бухты-барахты, а уж ежели говоришь — надо доказывать.
Нина испугалась, что она сейчас при всех заревет, и на минутку задержала дыхание. Этого еще не хватало!
— Я отвечу, — Корольков поднялся. — Я говорю на основании фактов. Нам известно, что Камышина увлекается упадочническими стишками.
«Кому известно? — встрепенулась Нина. — Это Кире известно. Значит, она…»
— Какими это еще стишками? — сердито проворчал Сем Семыч. — По-всякому можно любить стихи.
— …А она любит упадочнические стихи. Камышина восхищается Есениным. Вот спросите ее, что она сама скажет, — торжествующе произнес Корольков.
— Камышина, мы ждем вашего ответа. — Шелин смотрел куда-то поверх ее головы. — Потрудитесь встать, — недовольно произнес он.
Нина медленно приподнялась, в коленях странная дрожь. «Что отвечать? Что люблю стихи Есенина? А они мне запишут…»
— Ну что же ты молчишь? Говори, восхищалась Есениным?
Все смотрят. Тихо. Слышно, как комар жужжит. «Корольков — комар. Я его не боюсь. Ты спрашиваешь, восхищалась ли я Есениным, так получай!»
— Я не отказываюсь… не отказываюсь… Я люблю стихи Есенина. Люблю!
Шелин молча развел руками, дескать, сами видите.
— Это еще ничего не доказывает, — проворчал Сем Семыч, — мало ли какими поэтами мы в молодости увлекались, — он снова полез за папиросами и теперь вертел пачку в руках.
«Милый Сем Семыч, сколько лет хожу в школу, а ничего про вас не знала. Что еще скажет Корольков?»
Он многозначительно произнес-:
— Есть и еще доказательства. Сознайся, Камышина, ты была в церкви перед крещением в прошлом году?
— Не помню… Кажется, не была. — Вопрос ее напугал.
— Ах «кажется!»
Каким-то краешком сознания Нина уловила в противном, вкрадчивом голосе нотки ликования. «Чего это он обрадовался?!»
— А вот мне, Камышина, не кажется. Ты была в церкви, — провозгласил Корольков. — Была. Под крещенье. Я ходил лично проверять сигнал и видел тебя в Новом соборе. Ты молилась на коленях, а потом каждой иконе свечку ставила.
Нина вдруг отчетливо вспомнила: она пошла в притвор купить свечи, в толпе мелькнуло мучнисто-белое, знакомое лицо… Она еще подумала, что ошиблась. Как же долго он держал камень за пазухой…
— Отвечай, Камышина.
Кто это сказал: Корольков или Христосик? Не все ли равно! С ней что-то случилось — на нее напало оцепенение. Невозможно все объяснить. Не выворачивать же ей душу наизнанку. Разве они поймут, что она выполняла просьбу Кати, последнюю… Она не может, абсолютно не может, чтобы над этим смеялись… В висках что-то стучало, мелко тряслись руки.
— Мы ждем: была ты в церкви или не была? Или Корольков ошибся?
На какую-то долю секунды мелькнула трусливо-спасительная мысль: отпереться, никто, кроме него, ведь не видел. Чувствуя страшную усталость, она сказала:
— Была.
— Раз ты призналась, ты теперь, надеюсь, не будешь отрицать, что ты верующая и выполняешь религиозные обряды? — Шелин спрашивал спокойно, корректно, со вкусом.
Нина ухватилась за край стола.
— Буду отрицать.
— Ну, знаете, — Шелин улыбался, красивые губы обнажили белые до голубизны зубы. — Вот теперь действительно концы с концами не сходятся.
Кто-то хохотнул, Нина не поняла кто.
До нее издалека дошел спокойный голос Шелина:
— …отношение к академике несерьезное… в общественной жизни школы не участвовала… идеологически невыдержанна…
Нина, продолжая стоять и держаться за край стола, с мольбой глянула на Киру: «Ну, скажи, скажи, ты же знаешь — я в церковь не хожу, не молюсь… скажи…» Ей чудилось, что она кричит. Она молча смотрела на Киру.
Кое-кто начал поглядывать на Антохину. Возможно, ждали, что она выступит в защиту. Нина вспомнила об этом после. Сейчас она никого не видела, кроме Киры. Круглое лицо, ямочки на щеках. Плотно сжатые губы.
Еще долго — месяцы, годы — Нина вспоминала свой умоляющий взгляд и то, как в глубине Кириных зрачков метнулась жалость и как она поспешно опустила глаза. И промолчала.
— Предлагаю голосовать, — Корольков поднял руку.
Нина услышала голос Давыдова:
— Я — против! Что касается Есенина, так ты, Корольков, и о Маяковском не имеешь понятия. А он, между прочим, пролетарский поэт…
— Сейчас не время для литературных дискуссий, — оборвал Давыдова Шелин.
Все, кроме Сем Семыча, Давыдова и Лени Косицына — друга Яворского — подняли руки.
Кончилось. Все кончилось.
Нина опустилась на скамейку. Ее душевных сил хватило лишь на то, чтобы здесь, при всех, не зареветь. Что говорили о других, не слышала. Выскочила первой из класса.
Все было, как всегда: сонные облака цветущей душной черемухи за пыльными заборами, мальчишки, играющие в бабки, в неглубоких канавках вдоль деревянных тротуаров желтые лютики и седые шапочки одуванчиков. Все это привычное, ну просто до боли привычное и любимое. Но сейчас ничего не нужно. Можно ли после того, что сейчас произошло, жить?! Ну нет, тогда и Петренко поверит, что она поддалась упадничеству. Она еще всем докажет, что сильная.
Дома с ней что-то случилось непонятное: слезы подступили к горлу, но не проливались.
Натка перепугалась, совала трусящимися руками рюмку с валерьянкой. Позже Натка призналась: ей померещилось, что Нина умирает — «такая ты стала страшная, бледная-бледная, а губы синие».
Кира явилась часа через два. Стараясь избегать Нининого взгляда, без тени смущения сказала:
— Надеюсь, ты понимаешь, что дружба…
Нина больше не желала сдерживаться, нет, уж теперь она выскажет все начистоту этой праведнице.
— У нас не было с тобой дружбы. Я таких друзей не признаю!
— А я хочу, чтобы ты поняла: когда постановка вопроса принципиальная, дружба ни при чем. Ты не можешь обижаться. Да и ты во всем сама созналась.
Голос Киры окреп, теперь она обличала.
— А ты разве не понимаешь, — сказала Натка, — что Нину с такой характеристикой и в вуз не примут и на работу она не устроится?
Нина только после слов Натки поняла, чем для нее обернется характеристика.
— Надо было раньше позаботиться о своей характеристике. Жалость ни при чем, когда дело в принципе.
— Кричишь о принципиальности, а почему ты не сказала, что я не молюсь, что мы сняли иконы. Натка же тебе рассказывала, как мы снимали. У меня несерьезное отношение к академике, а у тебя серьезное? Почему ты не сказала, как списывала у меня алгебру, как я за тебя сочинения писала, как у Сапожкова сдувала переводы, а Мара за тебя готовила политинформацию? Небось тут ты подавилась своей принципиальностью!
— Ты выбирай выражения. Еще считаешь себя интеллигенткой.
— Не хочу я с тобой выбирать выражения. Я не знаю, какая я, но предательницей не была.
— Поосторожней! — крикнула Кира.
— Ниночка, — Натка пыталась остановить Нину.
Но где там.
— Такие, как ты и Корольков, только позорят комсомол. Вас когда-нибудь вышвырнут из комсомола. Вот увидишь! Ты предала меня, донесла про упадочные стихи. А ты их читала?! А ты… ты… Нож в спину. То-то без меня побежала в школу. Как бы тебя в дружбе со мной не заподозрили. Предательница!
Разрядка наступила, слезы хлынули. Комкая полотенце, она еще что-то кричала.
Кира убежала в кухню и там отчаянно рыдала. Ее успокаивал Африкан. Нина слышала, как Африкан громко, специально для Нины, сказал:
— Что заслужила, то и получила, а теперь на других валит вину.
Пришла со службы мама. Африкан увел ее в спальню и там что-то бубнил.
Мама зашла к ним в комнату, опустилась на Наткину кровать.
— Ниночка, успокойся. Нельзя так. Прошу тебя… Ну хочешь, Африкан Павлович поговорит в школе.
— Нет уж! Не надо! Я не хочу, чтобы он…
— Хорошо, хорошо… — мама оглянулась на дверь и, понизив голос, проговорила: — Не думаю, что характеристика играет решающую роль…
— Разве я из-за этой паршивой характеристики! Я из-за несправедливости! Эта лицемерка, эта предательница…
— Тише, тише! — Мама усталым жестом потерла виски. — Ну, у тебя неприятности в школе, но зачем же оскорблять Киру, она ведь живет у нас…
— Нн-н-н-не знаю, — заикаясь, проговорила Нина, — как ты м-м-мо-жешь так говорить… — Ее внезапно захлестнуло что-то похожее на ненависть: «Как мама не понимает?! — она испугалась этого неожиданного чувства. — Неужели я могу так ее ненавидеть! Ужас какой-то! И все из-за Киры!» Нина вскочила.
— Пусть она отсюда убирается! Если она… будет здесь жить, то я уйду…
Она убежала к Маре. У Лозовских все были добры к Нине, и она постепенно успокоилась.
На четвертый день к Лозовским примчалась Натка.
— Идем, бабушка ждет тебя на бульваре. В гору ей тяжело подниматься.
Бабушка? Интересно. Впрочем, без нотации дело не обойдется. Дорогой Натка сообщила: Кира смоталась домой. Вообще-то не сильно ей хотелось уезжать — дома надо возиться с огородом.
— Она тоже не сильно-то пролетарий, — болтала Натка, — у них свой дом, корова, даже лошадь. Правда, потом от лошади она отперлась. Когда я сказала, что у них середняцкое хозяйство. Это я чтобы она не воображала. Кира сказала, что скоро приедет. Просила тебе привет передать.
— Мне наплевать, как она живет! Мне не нужны ее приветы, — Нина попыталась говорить спокойно. — Не смей больше никогда о ней и заикаться.
— Думаешь, мне не наплевать? — поспешила заверить в своей преданности Натка.
День яркий, солнечный. За деревьями городского сада сияли золотые купола собора; солнце растекалось по крышам домов, озаряло тополя и березы, высветив каждый листок; оно даже ухитрялось заглянуть под деревянные тротуары и выгнать оттуда нахальную зеленую травку. Ах, как было бы славно, если бы не это собрание!
Бабушка сидела на скамейке, сложив свои маленькие темные руки на коленях. Чесучовый жакет — ее обычная летняя одежда — что-то уж очень стал ей просторен. Неужели бабушка выглядела когда-то величественной? Только взгляд из-под густых и темных бровей по-прежнему проницательный, как будто бабушке известны все Нинины мысли.
Нина поцеловала бабушку и села рядом. Когда Натка убежала, бабушка спросила:
— Ты документы и заявление подала в вуз? Если подавать еще рано, то нужно все заблаговременно подготовить.
«Сказать или не сказать про характеристику?»
— У нас давали характеристики… — начала Нина.
— Знаю, — прервала ее бабушка, — но в вуз все равно необходимо подать документы. Ведь у тебя в удостоверении об окончании школы второй ступени все предметы, или, как теперь говорят, дисциплины, зачтены.
Нина поразилась бабушкиной осведомленности.
— Ну-с, а всякий здравомыслящий человек поймет, — сказала бабушка, — что только добросовестно относившийся к занятиям ученик мог получить зачеты по всем предметам. Так что о несерьезном отношении к академике, — при слове «академика» бабушка усмехнулась иронически, — стало быть, не может быть и речи.
«Значит, бабушка читала характеристику».
— В заявлении напишешь, — продолжала бабушка, — что, учась в девятой группе, ты вынуждена была зарабатывать — давать частные уроки. Надеюсь, в приемной комиссии поймут, что времени для общественных нагрузок у тебя не оставалось.
— Хорошо. А если меня все равно не примут?
— Не будем гадать на кофейной гуще. Время твое еще не ушло. Тебе всего-навсего семнадцать. Наступает такой век, когда женщине необходимо учиться. Я бы и то, сбросить бы десятка два годочков, пошла учиться, — усмехнулась бабушка.
— На доктора? — Нину от любопытства прямо-таки распирало.
— Нет. Меня всегда прельщала ботаника. Вот представляешь: даже петуний насчитывается четырнадцать сортов. И, возможно, еще многие сорта неизвестны. Да приходи, посмотри, какой цветок у нас расцвел. И вообще заходи почаще. Ну, мне пора, а ты сейчас пойдешь домой, — это было сказано так, будто Нине и в голову не могло прийти не подчиниться.
— Хорошо, только если она вернется…
— Не вернется, — сказала бабушка.
«Неужели бабушка разговаривала с Кирой? Наверное, и с мамой».
Несколько минут они молча шли по бульвару. Солнце прорывалось сквозь листву акаций и тополей на дорожку. Под ногами светлые и темные пятна. Светлые и темные… За деревьями тарахтела пролетка, лошадь цокала копытами.
Бабушка остановилась передохнуть.
— Принципиальность Киры, а она свое невмешательство выдает за принципиальность, не стоит медного гроша… Это самая настоящая трусость… Запомни: подругу, вообще близкого человека, если, безусловно, он прав и заслуживает этого, защищать не только можно, а необходимо… Даже в ущерб собственной репутации… Иначе это измена… дружбе и самому себе… Ну, я тебя жду.
Они расстались.
Пройдя несколько шагов, Нина оглянулась. Бабушка шла медленно, по-стариковски осторожно ступая. Под чесучовым жакетом выпирали костлявые лопатки.
Догнать, пойти за бабушкой! С ней связано детство, и велик соблазн сбежать в страну детства, где взрослые все решают за тебя.
Часть третья
Мокрые от тихого нудного дождика кусты сникли, нависли над глинистой тропинкой; она то вьется рядом с дорогой, то уползает в кусты. Этой тропинкой можно вернуться в город. Но думать о доме сейчас, по крайней мере, глупо.
Старуха Архиповна, когда Нина еще девочкой была в деревне, сказала: «Не понимаешь ты наших деревенских». Теперь Нина постарается понять. Должна понять. У нее и сейчас еще перед глазами Марфушка-вековушка. Тихая, покорная, всем она обязана была «подсоблять».
От того ли, что небо над головой унылое, или от угрюмого молчания возницы, но с каждой минутой угасало возбужденно-приподнятое настроение, не покидавшее Нину последние две недели.
…Возницу мама отыскала на базаре.
— Понимаешь, как повезло, — непривычно суетилась мама, — Карпыч из Лаврушина, он говорит, что и на квартиру тебя определит.
Нина радовалась, что Африкана унесло на охоту. Не надо говорить какие-то вымученные слова. Мама читала все утро наставления: «Не пей сырой воды, питайся получше. Не ходи с мокрыми ногами, не забывай про свое горло». Нина пропускала мимо ушей мамины наставления. Поминутно смеялась и… торопилась поскорее уехать… Зачем, спрашивается, торопилась?! Украдкой вздохнула и покосилась на Карпыча. Сидит как гриб.
Он в самом деле походит на гриб. Шапчонка круглая — будто шляпка. Нахохлился, оброс мохом-бородой. Карпыч всхрапывал, на ухабах просыпался, причмокивая, щелкал кнутом:
— Н-н-нноо, Пягашка! — и снова погружался в дрему.
На Нину он не обращал внимания, словно вез мешок картошки, а не ликвидатора неграмотности.
Еще утром за столом, глядя, как Карпыч со всхлипом тянет из блюдечка чай, она терзалась от нетерпения: «Скорее бы остаться с ним один на один и выспросить про обстановку». А теперь она решительно не знала, о чем его спрашивать. Сколько дворов в Лаврушине ей сказали в наробразе — сорок. Мама обрадовалась: меньше работы будет. Бабушка, когда Нина пришла прощаться, сказала:
— Что-то не слыхала о такой деревне. Глушь, вероятно, несусветная. Не понимаю, как это тебя мать отпускает.
Нину подмывало сказать, что она теперь взрослая. Бабушка, конечно, тоже преподнесла порцию наставлений: «Никогда ничего не обещай, если не можешь выполнить. Обманешь — крестьяне перестанут тебя уважать, а без уважения ничего не добьешься. Хоть лоб расшиби. — И предостерегала: — Имей в виду — взрослых учить труднее, чем детей».
— Да нам говорили на курсах.
— Тебе что-нибудь курсы дали? — поинтересовалась бабушка.
— А как же! Политическую обстановку. Между прочим, теперь метод целых слов.
— Это еще что за метод? — удивилась бабушка.
С некоторым превосходством Нина пояснила: сначала освоить целое слово, потом разбить его на слоги, а слоги — на буквы.
— Все выкамаривают, — бабушка недовольно покачала головой. — Боюсь, что методом целых слов ты не ликвидируешь неграмотности. Не будут твои ученики усваивать — не мудрствуй лукаво.
Бабушка обняла Нину, перекрестила и, сказав: «Езжай с богом», сунула сверток. В нем оказались простыня, полотенце и полдюжины носовых платков. Все дарили «на дорожку». Коля принес шерстяной шарф и такую же шапочку.
— Ты же никогда деревни не нюхала. Взвоешь!
Взвыть? Нет уж, ни за что!
Африкан, узнав, что она едет в деревню, громогласно заявил:
— Давно пора. Сколько можно сидеть на материной шее.
Сколько? Три месяца с лишним…
Сначала ждала: вдруг попадет в вуз. В газете прочитала: «Определенное число мест бронируется для окончивших рабочие факультеты и для отсталых национальностей. Предпочтение будет отдано рабочим, крестьянам (батракам, середнякам и беднякам) и их детям; детям бывших политкаторжан, ссыльнопоселенцам; лицам рядового и нач. состава…» Нет, ни к одной этой категории Нина не подходила и все-таки, вопреки здравому смыслу, надеялась…
…Сейчас, когда все уже было позади, глядя на темный от пота круп Пегашки, Нина подумала: хорошо, что у нее хватило тогда ума не сказать о «несправедливости» Петренко. Все правильно.
— Мы далеко отъехали? — спросила Нина, чтобы как-то завязать разговор.
— Однако, три версты будя, — Карпыч длинно плюнул, подстегнул лошадь: — Н-н-ннооо! Язви тя в душу!
— Скажите, а у вас в деревне много неграмотных?
— Чаво? Неграмотных-то? А, почитай, все.
— Это ужасно. Неграмотному человеку тяжело жить!
— Известное дело — неграмотный человек темный, — согласился Карпыч.
Нина обрадовалась его поддержке. Зря ее пугали, что она не найдет общего языка с мужиками. (Особенно на это напирала тетя Дунечка, а Африкан ей поддакивал.) Нина почти восторженно изрекла:
— Вы это хорошо сказали — темный!
Мужик глянул на нее с ухмылкой, поскреб бороду.
— Только, барышня, я так полагаю — без грамоты ишшо можно дюжить, а вот без хлебушка человеку хана.
«Странно, при чем тут хлеб?»
— Но у вас в деревне есть хлеб. В этом году урожай. — Вот когда пригодилось, что на курсах, так же как и в школе при Якобсоне, их заставляли проводить политинформацию.
— Есть-то есть, да не про нашу честь. — Карпыч вытащил кисет и принялся сворачивать козью ножку.
«Это он о сдаче хлеба государству», — догадалась Нина, радуясь своей политической подкованности.
— Государству надо помогать, — сказала она, уловив в своем голосе нотки председателя рика, проводившего с курсантами беседу.
— Оно, конечно, надыть. Куды денесся. — Карпыч, свернув козью ножку, прикурил. Из его бороды повалил дым, — Облагать надыть по-божески, а то своим дружкам потрафляют.
— Каким дружкам? — Напрасно ждала ответа. Немного погодя пробормотала что-то путаное о классовой самосознательности.
«Не умею я проводить индивидуальные беседы». Прошлое, как едкий самосад Карпыча, снова надвинулось на нее…
Три месяца день за днем одно и то же — неопределенность, неверие, надежда и разочарование. Ежедневные ожидания и ежедневные крушения. Отправлялась на биржу труда чуть свет. Все еще дома спали. В квартире полумрак. Пила торопливо в кухне холодный чай. Никогда не удавалось прийти первой на биржу. Но попробуй-ка захватить первую очередь, в газете Нина прочитала: «На бирже труда состоит на учете 3235 безработных, в том числе 2119 женщин, подростков — 206 человек».
Биржа помещалась в унылом ветхом доме, расположенном в глубине двора. В семь утра во дворе выстраивалась длинная очередь, и начиналась проверка по списку… Лохматый высокий человек в очках и рваных башмаках на босу ногу хорошо поставленным баритоном выкрикивал фамилии безработных. Он каждому приклеивал прозвище.
— Двадцать первая! Ах, это наш колобок, — обращался он к простоватой женщине, как бы собранной из шариков.
Здесь были товарищ Дон-Кихот, худой усатый мужчина, постоянно споривший со служащими биржи; синьора — особа в шляпке с пожухлыми цветочками и кружевных перчатках без пальцев. Нину он прозвал сероглазой Офелией, а себя — Люмпен-пролетарием. Кое-кто стал всерьез называть его «товарищ Люмпен». Он отзывался.
В половине девятого проводилась вторая перекличка. После нее наступала относительная свобода. Нина пристраивалась на плахах, сваленных в углу двора, читала. К часу забегала Натка, и сестры отправлялись в студенческую столовую, самую дешевую в городе. В ней можно было получить за двугривенный глиняную миску жидкого супчика и микроскопическую дозу манной каши с подсолнечным маслом. После обеда Натка убегала к подружкам, а Нина отправлялась на биржу. Когда, наконец, очередь позволяла шагнуть в узкий, пахнущий затхлостью и кошками коридорчик, Нину била дрожь. А вдруг повезет? Вдруг маленький человечек, с запрятанным между отвислых щечек красным носиком, вручит ей направление на работу? Но человечек за окошком молча качал головой и торопливо произносил: «Следующий». Иногда, осмелев, Нина спрашивала:
— Может, есть место учительницы в деревне? — Она протягивала справку из школы о том, что ей, Нине Камышиной, присвоено звание учительницы первой ступени.
Красноносый человечек неизменно спрашивал:
— В профсоюзе состоишь?
Нина признавалась, что в профсоюзе не состоит.
— Мы членов профсоюза не можем обеспечить, — сердился человечек и захлопывал окошко.
Возвращаясь с биржи домой, Нина мысленно произносила гневную речь: «Как вы не понимаете, что я должна полгода проработать и только тогда меня примут в профсоюз. Ведь от вас же зависит, чтобы меня приняли в профсоюз!» Она непременно все это выскажет красноносику. Но отказ, хотя, казалось бы, и пора к нему привыкнуть, каждый раз повергал Нину в такое уныние, что она забывала о подготовленной речи.
Август был дождливым и холодным. Оттого, что дрогла под дождем, сильнее страдала от голода. Тут уже не до чтения. Куда-то исчез товарищ Люмпен, а с ним исчезла и шутливо-доброжелательная атмосфера. Возвращаясь с, биржи, съедала картофельную запеканку, запивала горячим чаем и забиралась в постель. На экране кино «Глобус» выкидывал свои сногсшибательные трюки Дуглас Фербенкс, на стадионе шли соревнования и о бегу и прыжкам, в городском саду в медные трубы гудел духовой оркестр, а в укромных местечках загородной рощи кто-то кому-то назначал свидание. Но все это было не для нее. «Сероглазая Офелия» жаждала одного: стать членом профсоюза.
В один из этих тоскливых дней она встретила Петренко. Он шел вверх по главной улице, его широкое крестьянское лицо показалось Нине мрачноватым и красивым. Она обрадовалась, первым ее движением было броситься к нему, окликнуть. Но тут же растерялась: что ему сказать о себе? Жаловаться? Плакать? Так-то она сама себе зарабатывает социальное положение! Нина поспешно юркнула в аптеку. Из окна проводила его взглядом…
Отрываясь от прошлого, покосилась на возницу.
Карпыч дремал, уткнувшись в бороду. Пегашка плелась еле-еле. Дождь сеял полегоньку. Черная взъерошенная ворона опустилась на мокрый выутюженный дождями стог сена. Будоража лесную тишину пронзительным карканьем, воронье напоминало, что ненастье надолго.
…Пронесся слух, что красноносика «вычистили». Слух скоро подтвердился. Однажды на крыльцо биржи вышел черноволосый человек на деревянной ноге и простуженным басом объявил:
— Товарищи, с сегодняшнего дня завбиржей буду работать я, Акимов. — Он вытащил из кармана потрепанной гимнастерки тетрадочный листок и, не заглядывая в него, сообщил: — На данное число бирже требуются следующие профессии: два грузчика на пристань. Есть таковые?
Пятеро мужчин подняли руки.
— Так. Становись справа, — скомандовал Акимов. — Гражданочка в белом платочке, куда вы? Вы же и полпуда не поднимете.
Сухонькая женщина сконфуженно вернулась на свое место.
Нина по себе чувствовала — люди напряженно ждали.
Акимов потребовал пекаря (вышло четверо), истопника (вышло человек двадцать). Нина с надеждой смотрела в рот Акимову. Нет, ни счетоводом, ни приказчиком, ни тем более плотником она не может быть. Она испугалась, когда Акимов, так ни разу и не заглянув в тетрадочный листок, спрятал его в карман гимнастерки.
— Остальных прошу разойтись! — объявил он.
Очередь не двигалась.
— Расходитесь, товарищи. Бесполезно ждать. Даю вам слово партийца, — убеждал Акимов.
Ушли немногие. Прокатился недоверчивый слушок: «Обманывает. Не хочет себя утруждать. Уйдем, а он своих знакомых устроит». Упрямо, вместе с другими дрожала под дождем и Нина. Разве Африкан чему-нибудь поверит. Непременно ввернет: «Мы ведь сахарные — под дождем растаем».
Но Акимов не обманул. Больше не было необходимости торчать целыми днями на бирже.
Дома Африкан ворчал:
— Никогда не поверю, что за месяц нельзя устроиться. На кой черт было девятилетку кончать.
Нина негодовала: ведь сам безработный. Правда, он хорошо чертежами зарабатывает, еще хвастается, что в профсоюз не платит.
Однажды Нина дождалась, когда коридорчик биржи опустел. Акимов, в очках с оловянной оправой, что-то писал. Он взглянул на нее снизу из-под очков и, не дожидаясь ее вопроса, сказал:
— Нет у меня, дорогуша, работы.
— Я, знаете… я не член профсоюза… но мне надо… понимаете… надо работать…
— Ты говори толком.
— Вы сказали, что, кто хочет судомойкой, пусть завтра приходит… Завтра мне не достанется. Пошлите меня судомойкой. Правда, я не член профсоюза, но я вступлю… Честное слово.
Акимов улыбнулся, показав желтые прокуренные зубы.
— Сколько групп кончила?
— Девятилетку с педуклоном.
Акимов свистнул и принялся закручивать цигарку.
— Ты вот что, дорогуша, покуда ступай домой, а я что-нибудь придумаю. Шибко жирно, если с девятилеткой будем посуду мыть. Как ты понимаешь, государство на тебя трудовые денежки тратило? Тратило. А мы, значит, эти денежки будем по ветру пускать…
…Внезапно Пегашка встала. Мгновенно оборвались воспоминания. Раскисшая дорога, дождь, лес. Между черными стволами сосен — сизый туман. Пахло мокрой хвоей и сырой землей, как в непогоду на кладбище. Нину пронизывала дрожь, казалось, еще немного, и она не выдержит. Карпыч протянул ей мешок.
— Накинь-ка на плечи. Однако, помене мокнуть будешь. Сенца-то из-под низу сухого вытягай да под ноги-то положь. Оно, глядишь, и потеплеет. Скоро нагреемся, за развилкой дорога пойдет все в тянигус да в тянигус.
За развилкой дорога стала взбираться в гору. Ага, значит, «тянигус» — это в гору.
— Ты, однако, слезай, барышня, — Карпыч вышагивал теперь рядом с лошадью, — пройдесся — ментом согреесся.
«Сама не могла догадаться», — упрекала себя Нина, с трудом переставляя онемевшие ноги. Сначала она еще выбирала дорогу, но скоро плюнула — ступала куда попало. Приходилось то и дело вытаскивать из грязи галоши. Наконец, не выдержала, сняла их и засунула в телегу под сено. Жаль новые желтые ботинки с высокой шнуровкой. Но что поделаешь! «Сколько протянется еще этот тянигус… тянуть… тянуться… Отсюда, наверно, и тянигус».
У нее всегда был спасительный якорь, она хваталась за него в злосчастные часы: по ночам, когда не спалось после очередной ссоры с отчимом, когда возвращалась с уроков через кладбище или изнывала в очередях на бирже. Этот якорь — память. Стоит только вспомнить что-то приятное, восстановить в мельчайших подробностях это приятное или что-нибудь придумать в этом роде — и уже не так тошно, и время летит незаметно.
А придумывалось разное.
«Нам понравился ваш рассказ, товарищ Камышина. Чувствуется пролетарская сознательность. Мы его напечатаем в газете. Приносите еще ваши рассказы».
Или:
«Он (высокий, глаза черные, волосы курчавые, похож на Демона или Якобсона) взял меня за руку и сказал: „Нина, я вас люблю“. Я отвечу с затаенной грустью: „Верю в ваше благородство, но у меня есть призвание, мой святой долг служить этому призванию“».
Или:
«Африкан Павлович, моя мать вышла за вас замуж, поверьте (Нине особенно нравилось это „поверьте“), не ради любви. Она испугалась жизни. Теперь вы свободны. Я достаточно зарабатываю, чтобы прокормить семью. Пока вы безработный, я буду помогать вам. Забирайте все ваши вещи.
Не забудьте захватить китайский фонарь, вы же не сможете существовать без мещанского уюта».
Но вытаскивать ноги из грязи и ждать, ждать, когда кончится этот тянигус — скиснешь. Тут не до выдумок. Но ведь было же и по-настоящему хорошее. Ведь оно было же! Было.
…Часа три кряду она бродила по главной улице вверх-вниз, вверх-вниз. Осторожно поглядывала в витрины магазинов. Толстые стекла витрин отражали тоненькую девчонку с длинными косами. Девчонка встряхивала головой и грациозным движением руки (так ей казалось) перебрасывала косы за спину. Удивительно легко шагалось в новеньких, с высокой шнуровкой ботинках.
Стрелка на часах почтамта подвигалась к цифре «пять». Скоро начнет темнеть, надо успеть сбегать на кладбище, проститься с Катей. Видно, так и не удастся ей встретить Петренко (дома его, конечно, не оказалось), так и не удастся показать ему удостоверение, выданное на имя ликвидатора неграмотности Нины Николаевны Камышиной. Проверила, тут ли оно. Удостоверение лежало в толстой общей тетради — «Дневник ликвидатора».
Кладбище окончательно испортило настроение, нагнало тоску.
Нина постояла у Катиной могилы. Холм засыпали желтые листья. Венок на кресте высох, затянулся паутиной. Нина почему-то не могла оторвать взгляда от муравья, он полз вниз по кресту. От кладбищенской тишины прохватил озноб. Стараясь не глядеть по сторонам, стала пробираться к выходу.
И вдруг услышала:
— Ниночка!
У свежей могилы стоял Петренко. Она никогда не видела у него такого помятого, печального лица. Первой мыслью было — «Анфиса». Нина подошла, испуганно глянула на новый, выкрашенный белой краской крест и прочитала: «Анна Степановна Петренко родилась в 1865 году, скончалась…» Всего две недели, как умерла.
— Вот, Ниночка, похоронил матушку, — сказал Петренко. — Не пожилось ей в Сибири. За своей хатой тосковала, за вишневым садочком журилась. Приехала и… Кабы знать… Идем. Темнеет уже.
Петренко шагал сосредоточенно, глядя себе под ноги. Нина маялась: почему она никогда не может найти нужных слов? Но разве тут слова помогут?
— Вот так, — произнес он, потирая переносицу. И, помолчав, неожиданно признался: — А за крест меня прорабатывали. Просила меня матушка перед смертью… Не мог я слова нарушить.
— Конечно же, не могли, — сказала Нина, чувствуя, что не в силах выразить жалость, сострадание и нежность за доверие, за то, что говорит с ней как со взрослой.
— К Катюше приходила? — спросил Петренко.
— Да, я ведь уезжаю. Завтра. — Она очень торопилась все ему выложить (вдруг скажет «мне пора»): и про вуз, и про биржу труда, и про красноносика, и Акимова, и про то, как Акимов дал направление на курсы ликвидаторов неграмотности.
— У тебя есть время? — спросил Петренко. — Мне нужно зайти в одну мастерскую. Ты не проводишь меня?. Добре. Почему ты не приходила к нам? На работу я бы тебя устроил. — Иван Михайлович остановился, чтобы закурить.
— Знаете, может, это и глупо, но я хотела сама. Понимаете? — Нина взглянула в лицо Петренко. Понял ли, что у нее на душе? Понял.
— Молодец, Ниночко! — улыбнулся Иван Михайлович. — Ну вот мы и добрались. — Петренко открыл дверь в узенькую, как щель, часовую мастерскую.
Нина впервые в жизни увидела столько часов, деревянные резные избушки на курьих ножках с гирями-шишечками, часы в строгих из красного и черного дерева футлярах, жестяные ходики.
Прислушалась к их тиканью. Те, что в футляре-избушке, весело отсчитывали секунды, в дорогих футлярах — внушительно, часы ходики как-то сконфуженно, будто стесняясь, что и им приходится напоминать людям о Всемогущем Времени.
— Ниночко, — окликнул ее Иван Михайлович, — дай-ка руку. Нет, не эту, левую.
К ее изумлению, радости и смущению, он надел ей на руку круглые часики с красной цифрой 12. Остальные цифры — черные.
— Это мне? — спросила она.
— Тебе. В честь начала трудовой жизни, — несколько торжественно произнес Иван Михайлович.
Он выложил перед часовщиком три десятки и, взяв Нину за руку (совсем как в детстве), вывел на улицу.
— Ну, вот теперь мы с часами, товарищ ликвидатор неграмотности, — сказал весело Петренко. Когда-то он так же радовался, подарив ей деревянную куклу.
— Но они же дорогие, — пробормотала Нина, поглядывая на часы. — Разве я могу вот так…
— Можешь.
Видимо, желая дать ей возможность прийти в себя, он заговорил непривычно отвлеченно. Неизвестно, кто становится богаче: тот, кто берет, или тот, кто отдает. От своего человека можно принимать с чистым сердцем, от чужого — лучше голодать. Лично ему часы подарил в гражданскую комиссар. И завещал: все можно догнать, только время не догонишь. Время учит понимать людей, оно заставляет оглядываться на прошлое и заглядывать в будущее. Время судит своим судом. Мудрецы для того и поделили время на самую малую малость, чтобы люди дорожили каждой долькой минуты. Есть такие, что не берегут эти дольки, спохватятся, а время, глядишь, им приговор подписало. Поздно.
Потом Петренко на целых полквартала замолчал.
Дошли до перекрестка.
— Можно мне вас проводить?
— Не проводить, а идем к нам, угощу тебя вареньем. Еще матушка варила. Помянем ее.
Нина почему-то ожидала, что Анфисы не будет дома. Нет, дома. Встретила она их ворчаньем: «Сказал, что скоро вернется, а сам…»
— Ну, ну, не серчай, — добродушно проговорил Петренко. — Поздравь Ниночку, она у нас ликвидатор неграмотности. Едет в деревню. Начинает свою трудовую жизнь.
— Давно пора. Не белоручкой же ей расти. Я вон с десяти лет в няньки пошла, — Анфиса с грохотом выставляла на стол чашки.
— То было раньше, — проговорил Петренко. — А при Советской власти дети должны учиться. Так что ты на нас не нападай.
— Я пойду, мне домой пора, — Нина старалась на Анфису не смотреть.
— И не думай! — Анфиса взяла Нину за плечи и легонько подтолкнула к столу. — Чаю попьешь — тогда иди.
Анфиса подвинула к Нине тарелку с пирогами.
— Ты ешь давай. Это хорошо, что в деревню едешь. Там пища хоть и грубая, но пользительная. А то сильно худая. Что глядишь на меня, будто я злыдня какая?
— Нет, что вы! — сказала и подумала: «Скорей бы уйти, что ли».
— За белоручку не обижайся, — так, к слову пришлось. Мне другое обидно, — сердито продолжала Анфиса, — батрачила. Всякого навидалась. Хлебушек-то чужой с горчинкой. Бывало, слезьми умоешься — с тем и ляжешь. А теперь находются партийцы — идейные товарищи, по всем статьям подкованные… А спросить, кого они защищают? Жалеют тех, кто нашего брата угнетал.
— Пироги дуже смачные, — похвалил Петренко, будто слова Анфисы вовсе его не касались.
— Будет в прятушки-то играть! — Анфиса так хватанула ладонью по столу, что на самоваре боязливо звякнул колпачок.
— Потише ты, Аника-воин! — улыбнулся Петренко.
— Ты зубы не заговаривай!
Пили чай, не глядя друг на друга.
Первой не вытерпела Анфиса.
— Ну, хватит в молчанку играть! — покосилась она на Петренко. — Уж сознался бы! Выговор-то схлопотал?
Петренко отодвинул стакан и потянулся за папиросами.
— Тебе что, сорока на хвосте принесла?
Слова Анфисы как бы стерли с его лица то выражение доброжелательности и ласкового внимания, к которому Нина так привыкла.
— Сообщил один товарищ. Руководящий. Погоди! Тебе еще правый загиб запишут. Заступник какой нашелся! — С каждой фразой Анфиса повышала голос. — За кого заступаешься-то?! За классового врага! За лишенца! Ты бы хоть подумал своей головой! — Глаза у Анфисы горели, щеки пылали, она была похожа на разъяренную кошку.
— Верно. Каждый обязан думать своей головой. — Петренко не повысил тона, только голос его стал жестче. — Мужик этот никакой не классовый враг. В германскую воевал, в гражданскую в партизаны подался. Все сам нажил. Не захребетник. Лишили его прав незаконно.
— Выходит, ты один прав, а в окружкоме не правы?! Классового врага нужно уничтожать. Под корень! Забыл, чему Ленин нас учит?!
«Ведь и в газетах пишут: классового врага нужно уничтожать, — вспомнила Нина. — Но Петренко просто не может быть не прав».
— Ты вот что: чем словами кидаться, лучше бы Ленина повнимательнее почитала. Вот как раз рубить всех под корень это не по-ленински. Ленин не этому нас учит. А ежели человек нужен для революции, треба его на свою сторону привлечь. Сделать так, чтобы он не супротив нас работал, а на социализм.
— Ждешь, что кулак на социализм будет работать? Однако не дождешься, — Анфиса сердито хохотнула.
— Я о середняке. Ты из-за леса не видишь деревьев. Дерево, к примеру, рубишь, и то глядишь, кабы живое не загубить. А тут не дерево, а человек… У него тоже, поди, и мать есть, и жинка, и детишки… — Иван Михайлович взял стакан и залпом выпил холодный чай.
Воспользовавшись паузой, Нина поднялась.
— Спасибо. Я пойду. Мне собираться надо. До свиданья.
— И мне пора. — Петренко поднялся.
Анфиса как-то мгновенно остыл, и, по-бабьи пригорюнившись, проговорила:
— Все-то ты, Ваня, на особицу. Все-то со всеми несогласный, — и повернулась к Нине: — Ну, прощевай. Ты слушай мой совет: в деревне полагайся на баб. Они тебя всегда вызволят.
Уже темно. В небе видны неяркие звезды. Кое-где зыбится свет от уличных фонарей. Ветер трогает в палисадниках сухие листья. Где-то мяукает котенок.
Петренко шел рядом с Ниной — он шаг, она — два — молча.
— Знаете… Я думаю, что вы правы, а… — Нина замолчала, не зная, как поделикатнее сказать, что Анфиса не права.
— Анфиса человек верный, — медленно произнес Петренко, — и если чего и недопонимает, так ведь грамотешка у нее невелика. И та трудно ей досталась. Да и не одна она считает, что если партия кому доверила ответственный пост, так уж ответственный товарищ не может ошибиться. А мы, Ниночко, — ты крепко это запомни, — первые на всей земле строим советскую жизнь. Первые! Нам не на кого оглянуться, чтобы ошибку какую не допустить. Человек, когда брод ищет, где и оступится — да и в яму, где стремнина, попадется… Стало быть, в обход надо. Трудно это, первыми-то. — Он остановился, закурил. — Провожу тебя, времечко у меня есть. — Немного погодя спросил: — Сколько же, Ниночко, тебе жалованья положили?
— Двадцать пять рублей.
— Не жирно. Но в деревне прожить легче, чем в городе. Вот работать потруднее. Тебе с непривычки особо трудно покажется. Не поймешь чего — приезжай. Побалакаем. Запомни: борьба за Советскую власть в деревне продолжается. Чуешь?
— Когда я была маленькая, — сказала Нина, — мама меня в деревню возила поправляться, так там один богач заставлял одну вековушку на него работать, а она была больная.
— Вот видишь. Мужику надо доказать преимущество коллективного хозяйства. А наш округ по коллективизации сильно отстающий. Тут причин много. Край-то наш какой: тайга да болота. Селились как душеньке было угодно, чтобы от властей подальше. Хуторов да заимок — чертова прорва. Ну и хозяйствовали там зажиточные мужики. Основное — мужик на слово не хочет верить. Его ведь испокон веку объегоривали. А кто: купец, поп, урядник. Ты постарайся понять мужика…
Петренко долго говорил об обстановке в деревне. Нина слушала его рассеянно. Все для нее было ясно. Она даже ни о чем не спросила. Лишь после поняла: когда ничего не смыслишь, то и вопросов нет.
Вот и Заболотная: темная, грязная, кривобокая улица. Нина боялась одна по ней ходить. Через два квартала их дом.
— Ну что, Ниночко, по русскому обычаю присядем на прощанье, — предложил Иван Михайлович.
Они сели на чью-то маленькую лавочку у ворот. Из щелей между ставнями вырывались узкие полосы света, они скользили по темным кустам в палисаднике и упирались в выщербленные плахи тротуаров. Петренко зажег спичку, осветив выпуклый, с бороздкой посредине подбородок и твердые губы. До ее дома они дошагали молча.
— Так пиши, Ниночко, — сказал Иван Михайлович, — и всего тебе наикращего!
Нина дошла до ворот и оглянулась. Подбежала к нему и, привстав на цыпочки, поцеловала в твердые губы.
— Ну, ну, — растроганно проговорил Петренко и засмеялся.
По двору тогда она не бежала, а летела. Все было как во сне…
…На землю ее вернул голос Карпыча:
…— Ей, барышня, однако, садись, тут под гору.
Нина взгромоздилась на телегу. Ноги мокрые. Стащила ботинки и засунула ноги в свернутый рулоном матрас. Мама заставила взять матрас с собой.
— Далеко еще до Лаврушина?
— Однако, половину проехали…
Лаврушино притулилось под горою, с другой стороны деревеньку обегала торопливая речка Бургояковка. Летом — сказали Нине — баба Бургояковку перейдет и подола не замочит. Но в эту пору года речка вздулась, побурела, тащила за собой лесные охвостья: сбитые непогодой сухие листья, тальниковые ветки, хвоинки.
В Лаврушине всего-то одна улица, от нее растопырились к лесу и речке огородные проулки. Огороды опоясаны плетнями, дворы окольцованы жердями. Разные избы в деревне, пятистенные, добротные, сияют бревенчатыми боками, их видно издалека. Больше изб так себе, через пень колоду. Есть и совсем никудышные, они глядят на улицу из-под прохудившихся крыш оконцами-бельмами. В таких избах полным-полно сопливых ребятишек и непременно в люльке, подвешенной к потолку, кричит младенец.
Вся обстановка состоит из грубо сколоченного стола, некрашеных лавок вдоль стен, полатей и неизменной прялки со встрепанной куделью.
На краю деревни Нина остановилась в нерешительности. На отлете изба не изба, сараюшка не сараюшка. У двери рябина. Ух и пылает!
— Не бойся, Ниночко, — сказала она себе вслух и зашлепала по грязи.
Отворив дверь, Нина очутилась в тесной избе. В нос ударила застоялая вонь — в углу на мокрой соломенной подстилке теленок. С печки свешивались кудлатые головы ребятишек, не поймешь, кто мальчик, кто девочка — все стрижены «под горшок». У окна старуха искала в голове у босоногой девчонки. Бросив свое занятие, старуха уставилась на Нину тусклыми, исплаканными глазами. Держась за спину, поднялась, вытерла ладонью единственную в избе табуретку.
— Садись, барышня, — сказала старуха, — гостьей будешь. Потчевать, вишь, нечем.
— Спасибо, что вы!
— В бедности живем-тужим. Хуже и не бывает, — старуха привычно заплакала, по изжеванным морщинами щекам-впадинам покатились мелкие слезинки. Без всякого перехода спросила: —Чаво, Миколавна, нашенских ребятишек приехала грамоте учить?
«Откуда она знает, как меня зовут?»
— Я не учительница. Я ликвидатор неграмотности. Взрослых буду учить, даже пожилых.
— Лирк-рик-видатор, — с трудом произнесла старуха и неожиданно хрипло рассмеялась, — нешто старух будешь учить?
Этот внезапный смех острее, чем слезы, поразил Нину. А старуха уже опять жаловалась на судьбу:
— С таким-то семейством одна дорога — по миру идтить. Самого-то лесиной задавило. Остались мал мала меньше. Всего восемь душ. Сама-то Авдотья нешто кормилица. Хворая она, чуть чаво, под сердцем подкатывает. Извелась чисто. Уж так лихо, так лихо… Меньшой-то ишо титьку сосал, кады Федор, сын-то, богу душу отдал. Царство ему небесное, — старуха перекрестилась на закопченную иконку, притаившуюся в переднем углу. Пожевав губами, старуха добавила: — Давала нам Совецкая власть, спасибо ей, помощь, да куда мы без свово коня!
Нина принялась втолковывать старухе о пользе грамотности. Старуха зачем-то скребла скрюченным пальцем по столешнице. Дождавшись паузы, искательно попросила:
— Ты уж, ради Христа, нашего Кольшу не замай. Ему, сердешному, куды там до грамоты. Один он у нас кормилец-поилец.
И опять Нина не нашлась что ответить. Значит, пока она произносила речь, бабка думала о своем.
— Сын-то мой Федор, Кольшин отец, — продолжала старуха, — на позициях мало-мальски грамоте поднабрался. С этой грамоты и жизни решился.
— Почему? Он был партийный?
— Не то штобы… А около. Все про коммуну долдонил. То ли господь его за отступничество покарал, то ли злой человек… Прости меня, господи, грешную… — Старуха снова закрестилась на передний угол.
Подошла босоногая девчонка, ткнула пальцем в часы.
— Это че? — спросила она.
— Часы.
На печке поднялась возня, но скрипнула дверь, и кудлатые головы насторожились. На пороге стоял парнишка: смышленое мальчишеское лицо, одежда и сапоги-бахилы на нем, наверное, отцовские. Он снял с головы шапку и с достоинством поклонился. Зажав ногу между порогом и дверью, он стащил сапоги-бахилы. Вразвалочку подошел к Нине и подал руку дощечкой.
Нина пожала негнущуюся руку, с трудом сдерживая улыбку.
— Ты это… запиши-ка в школу, — солидно произнес парнишка.
Старуха всполошилась:
— Вишь ты, и энтот! Да куды же мы…
— Картошки сварились? — строго спросил парнишка.
И странное дело: старуха подчинилась — заковыляла к печке, схватилась за ухват и принялась им орудовать.
— Ты Кольша? — спросила Нина.
— Не, Кольша с мамкой на пашне. Бабы сказывали — учительша ходит по избам, в школу записывает. — И скомандовал: — Пиши! Лаврушин Кольша, и меня пиши — Лаврушин Ваньша.
Нина от волнения сломала карандаш, так нажала. Пока зачинивала, чувствовала на себе строгий взгляд Ваньши из-под насупленных бровей и очарованный — босоногой девчонки. Вот оно как! Она ходит по деревне, а где-то на пашне все известно, и какой-то Кольша оторвал братишку от работы ради того, чтобы записали его в ликбез. Это же замечательно! Непременно написать об этом Петренко. Он обрадуется.
— Гляди, меня запиши, — заглядывая в тетрадку, попросил Ваньша.
«Сколько ему лет? Десять? Двенадцать? Как отказать? Запишу, там видно будет».
Из окраинной избушки Нина вышла в приподнятом настроении. Глянула на опрокинутые в лужах облака, на пылающую у крыльца рябину. «В саду горит костер рябины красной…» Ну что же! Обучит она какого-нибудь Кольшу или Ваньшу грамоте, может, и они вот такие же стихи напишут. Ведь Есенин так необыкновенно писал потому, что с детства смотрел на рябину, на облака, любил коней и собак.
Нину не покидала радость, несмотря на то, что почти в каждой избе ей говорили одно и то же: «Нас что учить, мы уж как-нибудь доживем. Ты вот ребятишек обучи грамоте. Миром заплатим. Век бога за тебя будем молить». Нина обещала похлопотать о школе для детей.
В душе росло и ширилось удивительное чувство своей необходимости для лаврушинских крестьян: живут в грязи (ведь чуть ли не в каждой избе на вонючей подстилке либо теленок, либо овца), даже молодые не прочли ни единой книжки, не имеют понятия о кино, нет электричества, заедают вши и клопы. И все, конечно, потому, думала Нина, что они неграмотны. И она, Нина Камышина, поможет им прозреть, для этого и послала ее в деревню Советская власть.
В одном доме ее поддержали. Эта изба выгодно отличалась от других: рубленая, пятистенная, с высоким крыльцом, просторными сенцами, с кухней и двумя горницами.
Ее угощали чаем из пузатого никелированного самовара. На столе поверх домотканой скатерти — клеенка; на кровати (железной, а не деревянной) из-под сатинового стеганого одеяла красовался кружевной подзор, к потолку поднималась гора подушек. Все здесь говорило о достатке, и белые с красными разводами пимы на хозяине, и пуховый платок на полных плечах хозяйки.
Отказаться от угощения было неудобно, хозяйка, кланяясь, нараспев тянула:
— Уж не побрезговайте нашим хлебом-солью, откушайте чего бог послал.
Бог послал хозяевам меду, сала, сметаны, масла, яиц и янтарных блинцов. За столом сидели и хозяйские дети: дородная дочь — в мать, и кудрявый — в отца — сын. Встретившись с Ниной взглядом, парень краснел и опускал глаза, чем немало ее потешал. Хозяин, поглаживая кудрявую, словно тронутую изморозью, бороду, вел неторопливую беседу.
— Оно конешно, грамотный человек все едино что зрячий. Пущай молодые учатся. Даю свое родительское благословение. Слышь, Пашка, Надька!
Надька и Пашка враз кивнули.
— Теперича новая жизнь пошла, — разглагольствовал хозяин, — и энту жизнь нада понимать. Так я говорю, барышня?
— Меня зовут Нина. — Помедлив, добавила: — Николаевна.
— Слышь, Нина Николавна, мы премного довольны новой жизнью. Сроду мужик как медведь в берлоге, а Совецкая власть ему свет показала. Так я говорю?
— Так, — поспешила согласиться Нина. «Есть, оказывается, в деревне сознательные».
— Вот Нин Николавна, ты, может, думаешь, что к кулаку аль к подкулачнику в дом пришла чаевать…
Вот тебе раз! Как же она сразу не догадалась! Сидит и пьет с кулаком чай — только подумать! Что скажет Петренко! Как стыдно! Так влипнуть… Сразу перед беднотой политически неграмотной себя показала. Охваченная смятением, Нина подавленно молчала.
А хозяин все объяснял:
— …запросто — ать-два — мужиков на две половины не поделишь. Энто баранов легко: по одну руку — черных, по другую — белых. А среди мужиков, доведись и до нашей деревни, всякие есть и со всячиной. Про себя скажу, к примеру, сама видишь, как проживаю. В достатке. Грех жалобиться.
— Уж будя выхваляться, — испуганно отмахнулась хозяйка.
— Не боись, не сглажу, — засмеялся хозяин. — А пошто я так живу? Да пото, что отродясь лени не знавал. Встаю — зорька еще не зорюет, ложусь, почитай, последний на деревне, хоть кого спроси, как в Лаврушине строился Василий Медведев. На пустом месте строился. Тайгу корчевал. Тайга богатейшая, руки к ней приложи — одарит. Дичь какую набью, коня запрягу — и в город. А то шишковать в тайгу всей семьей наладимся, орех наготовим и обратно в город на базар. Вот копеечка копеечку и накопила.
Он долго, со вкусом рассказывал, как на телку копили, «от нее сметана хошь ножом режь», как привели во двор Буланого, как хозяйка пряла по ночам с лучиной — «веришь, керосину не на что было приобресть».
Нина слушала и с озлоблением думала — оправдывается. Ага, так и есть — заговорил о хлебе.
— …сдал государству. Сколь положили — столь и сдал. До фунта.
«Зачем он это все мне рассказывает? — недоумевала Нина. — Кулак, настоящий кулак. А я сижу, чай распиваю. Вдруг узнают, скажут — приехала и завела дружбу с кулаком. Встать и уйти. Что говорил председатель рика на курсах: „Кулак — антисоветский элемент на селе“. Встать и уйти. Ах, воспитанная барышня, не можешь оборвать хозяина на полуслове — так и сиди, дуй чай у кулака».
Выручил приход нового гостя. Хозяин вышел к нему, но почему-то в горницу гостя не пригласил. Услышала просящий голос:
— …дык ужо, ради Христа, дай хошь…
Хозяин поспешно прикрыл дверь.
Наскоро попрощавшись, Нина заторопилась домой. За ее спиной хозяйка сердито (и куда девался ее елейный напевный голосок!) прошипела:
— Ходить и ходить, прости господи, как побирушка.
В кухне Нина мельком увидела «побирушку» — высокий, в армяке, худой, длиннобородый, лицо иссечено продольными морщинами. Он поклонился Нине, не поднимая глаз. Судя по красному насупленному лицу, хозяин недоволен появлением побирушки. Еще бы, у него, кулака, просят Христа ради. Наверное, еще деньги дает под проценты, как Гобсек. Небось бедняка не пригласили к столу, не стали потчевать блинцами. А она-то, дура, обрадовалась, что в этом доме ее поняли, уши развесила… О господи, когда она поумнеет!
…Собираясь вечером на свою первую встречу с учащимися, Нина не знала, как ей быть с косами (все, что ей надо сказать, она записала и вызубрила). Натка перед Нининым отъездом утверждала: «Если распустишь косы, никто тебя не будет слушаться — сильно девчоночий у тебя вид». Мара твердила свое излюбленное: «Важно произвести первое впечатление». Наконец, решившись, Нина заколола косы шпильками на затылке. Хозяйки: и старуха — Никитична, и молодая — Мотря единодушно одобрили:
— Эдак поболе личит вам, — сказала Мотря.
— Старшее выглядаешь, — сказала Никитична, — ребятишки лучше слухать станут.
В который раз за сегодняшний день Нина задала себе вопрос: почему они считают, что ликвидатор обязан учить ребятишек?
Идя на ликбез, Нина раздумывала о том, что ей повезло с квартирой.
Карпыч подвез ее к дому уполномоченного сельсовета Степана Прохорова. Семья ужинала, когда она вместе с Карпычем вошла в избу. Мотря помогла ей стащить промокшее до нитки пальто. Никитична заставила надеть теплые пимы. Усадила с собой за стол. За ужином хозяин, медлительный конопатый мужик, как о решенном, сказал:
— У нас и живи. Ежели не гребуешь, так и харчи наши.
— Нет, что вы! С удовольствием. А сколько… сколько за харчи? — спросила и испугалась, а вдруг не хватит двадцати пяти рублей?
Оказалось, и за квартиру — маленькая горенка, и за харчи — всего-то десятку.
«Из первого жалованья, — думала Нина, осторожно переходя улицу, — смогу купить себе пимы. С хозяевами мне тоже повезло».
Главный в семье, конечно, Степан. Говорит он мало, но все его слушаются, даже жена, строптивая Мотря. На свекровь Мотря огрызается. Но старуха добрая. Толстая, неуклюжая, как комод. Ноги у нее ужасные — перевитые вздутыми венами. Говорит, что родила шестнадцать, а живых всего трое! Какая была страшная смертность раньше. И вот еще что удивительно: хозяйки никогда даже не присядут так, без дела, чтобы отдохнуть. А встают они, как заголосят петухи. Никитична весь день тяжело топчется у дышащей хлебом, щами, паренками печи; а Мотря, худая, или, как говорит о ней свекровь, ледащая, допоздна сигает из избы во двор — управляется со скотиной. Вечерами свекровь и сноха усаживаются за прялки. Никогда они не жалуются на усталость. Будто так и надо… работать… работать… работать…
А старик, сухонький, седенький, сморщенный, как домовой, все спит на печке, посвистывает. Ребятишки славные, похожи на котят. Только надо научить их умываться и вытирать носы.
Лишь добравшись до вдовы Леонтихи (у нее сельсовет снял избу под ликбез), Нина поняла: всю дорогу она старалась думать о посторонних вещах, чтобы подавить в себе страх. А вдруг никто не пришел? Она читала про такое в газете.
Нина потянула на себя тяжеленную дверь и с захлестнувшей ее радостью услышала многоголосый гул со всхлипами девичьего смеха.
С этой минуты как бы начали существовать две Нины. Первая — Нина Николаевна — уверенно поздоровалась, спокойно сняла пальто, будто она привыкла это делать под любопытными взглядами стольких глаз. Спокойная, уравновешенная Нина Николаевна, кажется, даже не очень огорчилась, когда Леонтиха передала ей всего-навсего семь букварей. (А ее уверяли в рике, что букварей много, так как еще в прошлом году собирались открыть ликбез в Лаврушине, но что-то помешало.) Нина Николаевна тоном, требующим беспрекословного подчинения, попросила детей оставить ликбез. Обещала, что непременно побывает в рике и окружном отделе наробраза и похлопочет, чтобы школу открыли.
Потом, когда дети ушли и Леонтиха встала на страже, Нина Николаевна попросила всех сесть, привычным жестом подкрутила фитиль в лампе, глянула невидящими глазами на сидящих за столами своих взрослых учеников, и только тут та, вторая Нина Камышина, страдающая от застенчивости, сомневающаяся, вытеснила уверенную в себе первую… Забыв все записанные на бумажке гладкие фразы, немного помявшись, Нина робко спросила:
— Может быть, у вас какие-нибудь вопросы есть? Задавайте, я отвечу.
Отозвалось сразу несколько голосов.
— Чего спрашивать-то?
— На што они, вопросы?
— Учиться нада бы.
Нина невольно улыбнулась и увидела не ряды сидящих, а отдельные лица. Ласково и понимающе на нее смотрит круглолицая румяная женщина, к ней жмется большеротая Мотря, и она улыбается — давай, мол, учи. А вон и дородная Надька — дочь кулака. «При чем отец? Буду и ее учить». Странно: мужчины сели по одну сторону, женщины по другую. Против учительского столика сидит парнишка со знакомым смышленым лицом. Ваньша! Как он остался? Ведь все его сверстники ушли.
Поймав Нинин взгляд, Ваньша локтем толкнул сидящего рядом с ним парня. Конечно, это Кольша, такой же выпуклый лоб и выпирающие скулы. Ого, и Кольша заулыбался, кажется, даже подмигнул: дескать, чего там — начинай.
У Нины не хватило духу выставить за дверь Ваньшу. Ладно, он же взрослым себя считает. Пусть пока посидит, а там видно будет. Пауза затягивалась. Надо было что-то делать… Но что? Вступительное слово? Сказать им о культурной революции в деревне? На какую-то долю секунды она увидела все со стороны: нештукатуреные стены, плакат, кричащий «Долой неграмотность!», классную доску, небольшой колченогий стол с куском мела на нем. Увидела и себя — худую девчонку со взрослой прической, нелепо застывшую посредине класса…
В задних рядах кто-то фыркнул. Нина схватила кусочек мела и повернулась к ним спиной. Подумала: «Я не объяснила, что буду обучать методом целых слов. Неважно. Потом объясню. Надо скорее начать. Начинать со слова. С какого? Мама? Смешно. Они же взрослые! Дом? Но ведь нужно слово разбить на слоги, слоги на буквы… Не подготовить никакого слова…» И вдруг осенило: Нина четко, как еще в пятой группе на уроках каллиграфии, вывела на доске:
ЛЕНИН
За ее спиной, ее неграмотные ученики прочитали: «Ленин».
В лесу тихо. Но тишина кажущаяся. Постепенно, когда осталась далеко позади деревня с ее звуками — ржанием лошадей, скрипом телег, мычанием коров, ухающим стуком топора и въедливым визгливым пением пилы, начинаешь понимать, что и лес до макушек наполнен звуками своими, лесными. Вот за деревьями прошуршало. Может, белка, учуяв человека, метнулась на ветку повыше, а может, и глухарь сорвался с насиженного местечка. Стукнувшись о ствол кедра, с легким посвистом стрельнула шишка. За буреломами, спотыкаясь о корни деревьев, куда-то спешил ручей. Живет разграбленный осенью лес. Но скоро он утихомирится. Скоро зима. Снег и безмолвье. Зима уже делала набеги: по утрам высылала заморозки, порошила тающим снежком, выставляла на речке забереги. Но у Бургояковки характер непокладистый, взломав береговой ледок, она перекатывалась по камням, словно частушки выговаривала. Лес покорнее встречал зиму. Он хранил в овражках и ложбинках наметы снега, подолгу утрами не хотел расставаться с голубой изморозью на когда-то высоких, а теперь сникших и пожухлых таежных травах; не растаивал ледяные корки на дорожных лужах.
В лес Нина отправилась рано — деревня еще только просыпалась.
Шла, поглядывая на громады кудлатых кедров, высокомерные сосны, боязливые осины, белобокие березы и, рыжие вихрастые рябины. Дорога поднималась в гору. Крестьяне говорят, что за горой — непроходимая тайга.
Обо всем, что с ней случилось за эти три недели, непременно надо написать Ивану Михайловичу. Столько нового…
Она еще спала, когда заявилась Леонтиха. Присела на краешек табуретки у Нининой кровати и плачущим голосом сообщила:
— Ума не складу, чего делать? Обратно они пришли в школу. Не гнать же их взашей.
— Да кто пришел? — спросила Нина, ничего не понимая.
— Хто, хто! — сокрушенно покачала головой Леонтиха. Левый глаз ее лукаво смотрел в сторону, правый — сморгнул слезинку. Эта особенность ее глаз всегда смущала Нину, ей казалось, что Леонтиха над ней подсмеивается.
— Известно хто — ребятишки. Обешшала, грит, Николавна нас учить.
— Да я же вчера им все объяснила! — встревожилась Нина. — Не могла же я ночью съездить в рик?!
— Я им че и толкую, — вздохнула Леонтиха, и опять ее левый глаз лукавил. — Ты уж, Нин Николавна, сама им все как след обскажи, — попросила Леонтиха. — Могет, тебя и послухают.
Нина бежала в школу, как упорно называла Леонтиха ликбез. «Это уж слишком. Что думают родители? Ведь, кажется, русским языком все объяснила».
Они сидели тихо, как мыши. Они не встали, когда она вошла, как это полагается ученикам. Они смотрели на нее: кто исподлобья, самые маленькие — с беззубой улыбкой, старшие — боязливо.
Нина в полной тишине, только сверчок надсаживался за печкой, прошлась по классу. Леонтиха, скрестив руки под грудью, молча подпирала притолоку.
Нина глянула в окно… Дождь идет по деревне. Мокнут избы. Мокнет красный теленок под серым плетнем. Из-за дождя на горе и леса не видно, так — дымная синева какая-то…
Дети молчали.
— Ну вот что… — Она увидела сидящего за передним столом босоногого мальчишку и на секунду замолчала. Его грязные в цыпках ноги не доставали пола. Нина кашлянула, чтобы проглотить что-то застрявшее в горле, и, тщательно выговаривая слова, сказала: — Когда входит в класс учительница, надо вставать.
— Слава те господи! — Леонтиха истово перекрестилась на пустой передний угол, оба ее глаза выкатили по слезинке.
«Я напишу ему, — думала Нина, — что у меня не хватило духу отправить их домой».
Конечно, тяжеловато, когда утром школа, а вечером ликбез. Но самое трудное с букварями: четыре букваря для взрослых и три — для детей. Приходится писать печатными буквами на доске, иначе как их научишь читать?
Отправилась на попутной подводе в Верхне-Лаврушино. Тот самый председатель рика товарищ Степанчиков, что проводил с ними беседу на курсах ликвидаторов неграмотности, похвалил Нину.
— Молодец, товарищ Камышина! Растет у крестьянского класса тяга к учебе. Проявляешь активность. Учи ребят, а жалование мы тебе выхлопочем. Получишь что положено. Не волнуйся.
— Я не о себе, — Нина покраснела, — мне же не выдали букварей на ребят.
Степанчиков снял очки в оловянной оправе, потер рукой заросшую щеку и сказал:
— Пишем: «Ударим букварем по тьме и невежеству!» Грамотеи. Откуда я тебе возьму букварей! — обозлился Степанчиков. — Ты собрания проводишь с крестьянами? — сердито спросил он.
— А зачем? — Нина замялась. — То есть я хотела спросить: на какую тему?
Обращаясь к портрету Калинина, Степанчиков пожаловался:
— Посылают девчонок, а тут налаживай политпросветработу. Ты, Камышина, проведи беседу о коллективизации. Разъясни текущий момент. Поясни, что идут бои за новую соцдеревню. Зарубила? Ясно?
Нина промолчала. Как же она себя теперь презирала за это молчание! Надо было честно признаться, что ничего ей не ясно. Ведь она же никогда не проводила бесед с крестьянами. Струсила. Испугалась, что он еще раз скажет: «Посылают девчонок». Испугалась и ничего не спросила.
В заключение он еще пристыдил:
— Необходимо бороться с трудностями. Это только маловеры спирают на то, что нет средств. Зарубила? Месяц-другой можешь поработать и на ликвидаторском жалованье.
Ночью, лежа в постели, она мысленно продолжала спорить со Степанчиковым: «Напрасно вы считаете, что я из-за денег. Я сама прекрасно понимаю, что ликвидация неграмотности — это один из боевых участков культурной революции. Но вы-то понимаете, что у меня на двадцать шесть школьников три букваря?! А откуда я возьму тетради? Это хоть вам ясно? Если хотите знать, так у меня нет ни одного задачника! — Тут Нина яростно прошептала в ночную пустоту своей горенки: — А маловером я никогда не была и не собираюсь быть. Зарубили?!»
Вот если бы она все это высказала в глаза Степанчикову! А то ушла, как побитая собака. Пусть кто хочет считает ее маловером, а лаврушинские ребятишки учатся, хотя школы и нет. Правда, каждый день ей приходится записывать, кому дает на дом букварь, и того, кому следует передать букварь на вечер. И об этом она напишет Петренко. Но вот о последнем событии так не хочется писать.
Незаметно Нина дошла до развилки: направо — торная дорога, налево — заросшая проселочная; по ней, наверное, возили сено — клочья его вцепились в оголенные прутья кустарника. Поколебавшись, Нина свернула на проселочную дорогу.
Немного поостыв, она пришла к выводу, что Степанчиков, конечно, прав — она абсолютно не занимается политмассовой работой. Необходимо провести собрание.
Мужиков набилось в избе Леонтихи — некуда шапку положить. Сидели даже на полу вдоль стен. О чем только она не говорила: что в Москве проходил Всероссийский съезд по ликвидации неграмотности, о строящемся в Сибири первом цементном заводе, и о Кузнецкстрое, о круговом полете аэроплана «Крылья Советов», и о том, что Чан Кай-ши пошел по стопам Керзона и Чемберлена.
Ее несколько смущал сидящий на корточках у окна мужичок с головой луковкой. Он все что-то ухмылялся и шептался со своим соседом — черным, как цыган, мужиком. Остальные слушали как будто внимательно, чадя самосадом.
Нина, удивляясь и радуясь собственному красноречию, чуть ли не целиком пересказывала газетные статьи. Вспомнив Якобсона, заявила:
— Через три года грянет мировая революция.
Мужик с головой луковкой, выставив редкую бороденку, смиренно сказал:
— Оно и ладно, мы не возражам.
Кто-то поперхнулся хохотом.
Все газетные новости мгновенно выскочили из памяти. Надо говорить о конкретном, понятном для них — так советовал Петренко. Действительно, когда заговорила о коллективизации, перешептываться перестали. А бедняк в армяке, что приходил к кулаку Василию Медведеву просить денег, даже ладошкой оттопырил ухо, чтобы лучше слышать.
Но странно: потом никто не хотел задавать вопросов. Сидели и дымили, о чем-то вполголоса переговаривались, точно ее здесь и не было.
Отчаявшись, что мужики так и не заговорят, она промямлила: если нет к ней вопросов, то собрание можно закрыть. Все время подспудно она чувствовала: мужик-луковка должен задать какой-то заковыристый вопрос.
— А чаво его не закрыть, — сказал он, — ента не артель закрывать. Вот вы — конешна, образованная, городская, на все понятия имеете — обсказали бы нам, пошто так в Верхне-Лаврушине приключилось. Стали там, значит, мужики артель организовывать, посвезли все в кучу…
Не кашляли, не переговаривались.
Кто-то из задних рядов оборвал тишину, пробасив:
— Крути давай, Никишка!
И вот тут-то она улыбнулась. Глупо ужасно. Но она вдруг вспомнила идиотскую песенку (ее пели с упоением Натка и Юля) — «Крути давай, Гаврила, Гаврила, Гаврила, не то получишь в рыло мозолистой рукой». И потом ее насмешило, что почти старика назвали Никишкой.
— Могет, вам и смех, — сказал Никишка, — но мужикам из Верхне-Лаврушина не до смеху, вот оно што… В артель вписалась не токма голытьба, значит, вроде меня, а справные мужики. А теперича вот какое дело — когда сноп гнилым свяжешь, что с ним бывает? Рассыплется такой сноп. И артель рассыпалась. А кому от энтого худо? Обратно мужику. Мой сват в артель две коровы и нетель сдал, а привел домой одну коровенку, да и ту хоть сейчас на живодерню. С чаво бы энто?
Все молча чего-то ждали.
— С чаво бы энто? — повторил Никишка и сам ответил — А с тово: коли мое — буду обихаживать, а не мое — катись кобыле под хвост. — Он снова оживился, видимо, знал, что его слушают. — Вот у вас часы на ручке — ходют, видать, исправно, а отдай вы их другому, третьему в пользование… Никто по-вашему берегчи не станет. А пошто? Не мое — вот в чем загвоздка. Так я, мужики, говорю? Не мое.
Заговорили разом:
— В точку гвоздь вбил.
— Никишка нешто не скажет!
— Кабы чужое, как свое берегчи…
А он уверенно гнул:
— Вы вот слова сказали, и на том конец. А нам свою корову на чужой двор вести.
— Не на чужой, а на общественный, — наконец, нашлась она.
— А все едино, как ни назови… Не мое — не мое и есть… Бабы верхне-лаврушинские сказывали: без молока наплакались. Ребятишки у кажного. Всяк бы в артель вписался, кабы польза… Говорить-то оно легше…
И тут длиннобородый бедняк в армяке (а она-то ждала от него поддержки) бухнул:
— Ботало болтает — дык хоша польза.
Нина знала свою способность краснеть, знала, что не только лицо, но и уши и шея у нее покраснели. Где уж найти необходимые слова.
…«Конечно, это было отступление и провал», — думала Нина, идя по таежной дороге.
От мрачных мыслей и самобичевания ее отвлекла береза. Тоненькая, упругая, затянутая в белую шелковистую кожу, описав дугу над дорогой, береза припала верхушкой к кусту шиповника. Казалось, она это сделала нарочно, балуясь, и вот-вот выпрямится.
Ужасно неприятно, что тогда ее спас, вызволил из неловкого положения, кулак Василий Медведев. Он заполнил пустоту, унизительную пустоту, отделившую ее от крестьян.
Поглаживая черно-серебристую бороду, степенно заговорил:
— Правильна вы высказывали насчет смычки города с деревней, и опять же про ин… инстру…
— Индустриализацию, — подсказала Нина.
— Индустриализацию, — медленно повторил он, — мы это понимаем. Значит, так: мы городу хлебушко — город заводы построит, даст нам плуги. Мы государству — оно нам. Все правильно. Мы вот подмогнули государству, и хлебушко дали, и денежки свои на займ внесли. А нам — ни тебе облигациев, ни расписок. Уехал представитель рика — и Митькой звали.
Никишка пояснил:
— А фамилье у него козлиное — Козлоногов…
Мужики засмеялись.
Она обещала собранию выяснить про облигации и ничего не добилась. Написала сначала Козлоногову. Он не ответил. Написала Степанчикову, пожаловалась ему на Козлоногова, и снова никакого ответа. Поехать самой — неудобно просить подводу: мужики торопятся до распутицы закончить полевые работы. А пешком идти девять верст. Да и страшно одной. Бабушка говорила:
«Никогда ничего не обещай, если не можешь выполнить».
— Я должна пойти, — сказала она вслух, — иначе они всегда будут считать меня боталом.
Решила не откладывать, пойти завтра, благо завтра суббота. И, как всегда, если найдешь выход для себя в чем-то запутанном, сразу стало легко. Снова нахлынули запахи леса. Огляделась. «Однако я далеко забрела».
Внезапно услышала голоса. Если кто-нибудь из знакомых — подвезет. Пошла на голоса. Увидела чудо-пень: огромный, вывороченный. Будто черное вихрастое сторукое чудовище поднялось на скрюченные лапы.
Небольшая поляна. Телега. Мешки с картошкой. В телеге доски или ящики. Какие-то люди. Нина в нерешительности остановилась за деревьями. Длиннобородый в армяке, тот, что сказал «ботало болтает». Долговязый парень. Сын, наверное, очень похож. Оба копают яму. Зачем? Ах да, закапывают картошку. Мотря говорила, что они вчера тоже где-то закопали в яму картошку до весны.
Старик громко и мерзко выругался.
Нина на цыпочках метнулась за чудо-пень и притаилась. Больше всего на свете она не хотела, чтобы они ее увидели.
— Кажись, кого-то носит, — насторожился парень.
— Белка, видать, — отозвался старик, — кто к крестику пойдет?
Нина вспомнила рассказ Никитичны про «крестик». Девушка зимой ушла в лес и не вернулась. Весной, когда сошел снег, обнаружили «белые косточки». Никто доподлинно не знал, отчего погибла девушка, то ли от зверя, то ли от лихого человека. Никого у этой несчастной не было, кроме выжившей из ума бабки, а потому и похоронили прямо в лесу. Старухи рассказывали, что живет в этом месте лесовик, кто-то божился, что собственными глазами видел. Бабы сюда не ходили ни по ягоды, ни шишковать.
Боязливо озираясь, Нина выбралась на дорогу. Крестик она увидела сразу. Как не заметила его раньше? Черный, почти сгнивший крест, а вокруг темные елки. В деревню чуть не бежала, и все чудилось — кто то за ней гонится.
Старик с кхеканьем колол дрова. Он никак не мог понять, кого Нина ищет.
— Ори громчее, — приказал он. Наконец, разобрав, махнул рукой. — Стал быть, стрикулиста надобно — ступай по колидору, в кабинете председателя портянки сушит.
«Так и есть, — подумала Нина, — никто Козлоногова не уважает. Я ему все выскажу…» Рывком открыла дверь. За столом, взгромоздившись на табурет с ногами, сидел совсем молодой человек в кожаной куртке и буденовке со звездой. А ей-то казалось, что он старик и непременно с сивой козлиной бородкой. Оказывается, Козлоногов совсем молодой и даже красивый.
На печке действительно сушились портянки и подсыхали обляпанные грязью сапоги. На столе: алюминиевая кружка, краюха хлеба и остатки сухой воблы. Козлоногов улыбнулся Нине, дружески, радостно, даже немного глуповато.
Нина чуть не ответила на его улыбку и, обозлившись на себя за «идейную беспринципность», резко заговорила: почему товарищ Козлоногов не ответил на ее письмо? Пришлось из-за этого девять верст пешком тащиться. Потому, что стыдно? Предположим, с ней он мог не считаться. А какое он имеет право обманывать крестьян? Он же подписку проводил не лично от себя, а от имени государства! И они теперь считают, что государство их обманывает.
— Погоди, что ты несешь! — оборвал Нину парень. Его лицо, сначала улыбчивое, потом недоумевающее, выражало теперь досаду.
— Не смейте мне говорить «ты!» Вы не так уж меня и старше! Я учительница. Если не хотите меня уважать, так уважайте учительницу.
Он смотрел на нее во все глаза и вдруг заулыбался.
Все разом прорвалось: неопределенность со школой, обида на бедняка, который не только не захотел ее поддержать, но и обозвал «боталом». А дорога? Разве легко было переться девять верст по раскисшей дороге. Сам бы попробовал. Хорошо еще, что нашлась попутчица. Правда, простоватая Стеша только пугала: «Ой, ктой-то, кажись, стоит за кустом!» А то еще хуже — примется рассказывать, «как намеднись волк мужика задрал». Сейчас, когда уже нечего бояться, просто идиотство реветь. Нина кусала губы, слизывая предательские слезы, и ничего с собой не могла поделать.
Мягко ступая, парень подошел к Нине, осторожно дотронулся до ее плеча.
— Ну, что ты… что? Успокойся, — участливо проговорил он.
Этого еще недоставало, чтобы Козлоногов ее жалел. Она резко отвернулась.
— Вы смеетесь, — сказала она, хотя он, кажется, и не думал смеяться, — это они над вашей артелью смеются. Они из-за вас уже никому не верят…
— Подождите, вы меня с кем-то путаете, — сказал парень, переходя на «вы», — я никого на заем не подписывал, никому ничего не должен.
— А вы кто? — слезы у нее моментально высохли.
— Я кто? Зорин. Виктор Зорин. Наша бригада приехала из города…
Она была так пристыжена и подавлена, что ему пришлось несколько раз повторить:
— Вы откуда? Где работаете?
Нина путано принялась объяснять, что формально она не учительница, а всего-навсего ликвидатор неграмотности. Но это только формально, потому что на самом деле она учит ребятишек, и, окончательно смешавшись, замолчала.
— Лаврушино далеко? — спросил Зорин.
— Я же сказала вам — девять верст.
— И все пешком?
— Я же сказала — подводы не было.
Странное у него лицо: что-то в нем девичье, и потом оно все время меняется. То улыбается, то хмурится.
Зорин быстро обулся, бросив на ходу: «Сбегаю за дровами», исчез за дверью.
Только сейчас Нина поняла, как устала. Пока шла, не так зябли ноги, теперь же их до боли ломило от холода.
Зорин вернулся с охапкой дров. Через несколько минут круглая железная печка раскалилась докрасна.
— Садитесь погреться, — сказал он, подвигая к печке табуретку.
Нина села и с наслаждением вытянула ноги.
— Вы извините… Это дед — он дрова колет — мне сказал, что Козлоногов сидит в кабинете председателя и сушит портянки. Вот я на вас и накинулась…
— Ерундовина, — весело отмахнулся Зорин, — по правде говоря, я рад, что он вас сюда направил, — и, видимо заметив ее смущение, снова заговорил о деде: — Хитрющий старик, любит всякие штучки отмачивать. Он не представлялся глухим? Вот-вот, а сам, между прочим, слышит что надо! Я уже его тут за три дня изучил.
Зорин присел на корточки перед печкой, пошевелил клюшкой дрова, лицо его стало розовым и очень юным. «Сколько ему лет?» — подумала Нина.
Выкатив клюшкой горячий уголек, Зорин ловко подхватил его и бросил на край печки. Нина заметила, что он все делал ловко: накручивал без единой складки портянки, отдирал бересту от полена, а теперь прикурил от уголька и голыми пальцами бросил уголек в печку. Плечи у него узкие, талия, перетянутая красноармейским ремнем, тонкая, а руки будто от другого человека — большие и грубые. Но зато смотреть, как они орудуют, — одно удовольствие.
— Между прочим, — сказал Зорин, — Козлоногов, как наша бригада приехала, сразу удрал в город. Расскажите про ваши дела. Может, я смогу чем-нибудь помочь.
Он говорит так, точно они давным-давно знакомы. Она ему рассказала, как ребята заявились на ликбез.
— Знаете, я не могла их прогнать.
Он молча кивнул.
— А Степанчиков сказал: «Зарубила?!» А я ничего не нашлась ему ответить.
Нина рассказывала, и все, о чем она говорила, отражалось на его лице: сочувствие, растерянность, негодование и ярость, когда она сказала: «Ботало болтает». Зорин, пока она говорила, ни разу не поднял на нее глаз. Возможно, боялся спугнуть ее откровенность.
— Ну, вот я и пошла сюда, — закончила она свой рассказ.
— Вы не отчаивайтесь. Я среди своих братишек — я в депо работаю — всегда знаю, какое принять решение, а в крестьянском вопросе… надо с ними сто пудов соли съесть. Но дело-то ведь не терпит! — воскликнул Зорин и принялся пространно и пылко доказывать, что путь колхозного строительства — путь на уничтожение классов. Необходимо очистить сельсоветы от кулацких ставленников. Известно ли Нине, что беднота помогает кулакам прятать хлеб? Помогает — в том-то и дело! А отчего артели разваливаются?! Да потому, что кулаки тоже свою агитацию ведут.
Наконец он Спохватился, обозвал себя дураком — она, видать, до смерти устала и есть хочет, а он ей лекцию читает. Зорин заявил, что сегодня ей нечего и думать возвращаться, тем более они в Народном доме (бывший купеческий дом) проводят вечер вопросов и ответов, и ей не мешает познакомиться с этой формой культмассовой работы. Завтра утром приезжает Степанчиков, и они вместе поговорят с ним о художествах Козлоногова. Со Степанчиковым договорятся и о подвозе для нее. А сейчас Нине необходимо пойти, чтобы поесть, на квартиру, где остановилась их бригада.
Она с готовностью подчинилась — приятно ни о чем самой не думать, ничего самой не решать. Ныли ноги. Неужели вернется болезнь, которая мучила ее в детстве? Если бы хоть немного отдохнуть — тогда, может, все пройдет. Хорошо, что идти на квартиру пришлось недалеко.
Хозяйка, круглолицая, пышнотелая женщина, выслушав Зорина, сказала:
— Надо же! Лаврушино не ближний свет. Не сумлевайтесь — накормлю чем бог послал. Сами-то хоть откушайте.
Но Зорин, узнав от хозяйки, что бригада ушла в школу проводить собрание с учителями, умчался.
— Обходительный молодой человек, — сказала хозяйка, когда за ним захлопнулась дверь, — утром дров наколол и натаскал, а девки ихние по воду сходили.
Нине хотелось узнать что-нибудь про «девок», но сил для разговора не было. Видимо, хозяйка поняла ее состояние: напоила горячим молоком с медом «от простуды» и уложила на свою кровать, укрыв овчинной шубой. Нина мгновенно уснула и проспала, наверное, долго, потому что, когда проснулась, за окнами было черно. На столе горела керосиновая лампа. У стола сидели две девушки. Та, что постарше, долгоносенькая, волосы и ресницы белесые, склонилась над тетрадью. На ней новехонькая юнгштурмовка и портупея через плечо. Другая — в лыжном из толстой байки костюме — штопала рукавичку. Рыжая, курносая, коротко стриженная. Ну, мальчишка и мальчишка! Первой заметила Нинино пробуждение рыжая. Оглянулась и уставилась светлыми веселыми глазками. И Нина не могла отвести взгляда от странно знакомого лица. Рыжая улыбнулась, показав белые мелкие зубки. И эту лукавую насмешечку Нина когда-то видела.
Рыжая, все продолжая улыбаться, скороговоркой выпалила:
— Катя. Нина. Натка. Камышина. Бабушка. Дядь Коля, — и засмеялась, закинув голову.
— Да-а-а, — недоумевая, протянула Нина, силясь вспомнить, где же она все-таки видела эту рыжую.
— А ты — Нина! Не узнаешь?
Вспомнила! Под окном худенькая девчонка корчит рожи… Гранька!
— А ты: Грань… Граня.
— Я самая! — обернувшись к долгоносенькой девушке, Гранька сказала: — Гляди, Маруся, это Нина Камышина — в девчонках в одном доме жили.
Маруся неопределенно пожала плечами, как бы этим жестом выразила — ну что же, мол, бывает.
— Выходит, это ты и есть ликвидатор неграмотности из Лаврушина? — продолжала удивляться Гранька.
— Выходит, я и есть, — засмеялась Нина.
Неожиданной радостной встрече чем-то мешала, видимо своим равнодушием, Маруся.
— Выходит, это ты оторвала девять верст! Вот молодец! И Зорин сказал — молодец!
«Ага, значит, сказал. Но почему он не идет?»
— А ты работаешь вместе с Зориным в депо? — спросила Нина, вспомнив, что Гранькин отец был железнодорожником.
— Не. Я учусь. В медицину ударилась. Маруся на третьем курсе, я — на первом. Угадай, кто меня надоумил? Сроду не угадаешь. Бабушка ваша. Помнишь, она нас всех, малышнят, лечила? Так я ей помогала. Бывало, спросит: «Не боишься?» А я: «Чего бояться?» Это когда банки ставила. А у самой все поджилочки трясутся. — Гранька давно уже отбросила варежку, руки ей нужны были, чтобы отчаянно жестикулировать.
— И с тех пор ты решила стать врачом?
— Не. Нынче, как только школу кончили, мамка послала меня отнести вашей бабушке земляники. Пришла, и вот смехота, чувствую — боюсь. Вроде мне влетит за что-то от бабушки. Она вообще-то со мной ласково разговаривала. А по мне мурашки, будто я с вашего огорода морковку воровала. Бабушка меня чаем напоила и спрашивает, куда я решила поступать. Я говорю — в горный. А сама еще ничего не решила. Так брякнула, чтобы удивить. А она, бабушка-то, говорит, что мне обязательно надо на медицинский, что это женское дело, а в горный — не женское. «У тебя, — говорит, — определенно способность есть. Ты, — говорит, — еще маленькая была, а научилась банки ставить, перевязки ловко делала». Потом давай мне про русско-японскую войну рассказывать, как сестры милосердные солдат спасали. А я слушаю да соображаю: верно, самая нужная профессия. Я любила лечить — может, помнишь? А горный мне как лягушке галоши.
«Мне про Граньку бабушка ничего не сказала, — подумала Нина, — наверное, не хотела, чтобы я завидовала. А я и не завидую. Разве чуточку завидую. Хорошо все-таки быть студенткой».
— А почему ты в вуз не пошла?
«Да, она должна была об этом спросить, и я все время ждала, что спросит…»
— Ты же училась здорово! — воскликнула Гранька. — Мне Гришка Шарков рассказывал. Он с моим старшим братишкой дружил, с Толькой. Не помнишь его? Так Гришка сильно тебя расхваливал. Неужели на экзаменах срезалась?
— Нет, я не срезалась, — каким-то очень чужим высоким голосом проговорила Нина, — меня просто не допустили к экзаменам, — сказала и подумала: «Совсем-совсем не просто».
— Не допустили? Соцполож…
И тут все время молчавшая Маруся, а казалось, что она даже не слышала их разговор, резко перебила Граньку.
— Ты, Камышина, делаешь важное дело. Ликвидация безграмотности у нас самый отстающий и самый важный участок на фронте культурной революции в деревне. Мы должны за два года покончить с безграмотностью в стране. И потом, если все пойдут в вуз, кто пойдет работать в деревню? — Маруся укоризненно взглянула на Граньку. — Надо думать, когда говоришь…
— Я ведь ничего, — принялась оправдываться Гранька.
— Не мешало бы договориться, как проведем медицинскую часть вечера, — заполняя неловкую заминку, предложила Маруся.
— Чего договариваться, — откликнулась Гранька, — гигиену я им растолмачу. А ты валяй первую помощь. Вопросики я уже кое-кому всучила. Картошка сварится. Пошамаем — и айдате.
Глянув в окно, Гранька оповестила:
— Профессор чешет. Слышь, Нина, в нашей бригаде профессор. Анатом. Простецкий дядька. Ты его не стесняйся.
Гранька явно покровительствовала Нине.
Профессор — коренастый крепыш, бритоголовый. Ни бороды, ни усов. Взглянув на Нину поверх запотевших стекол пенсне в золотой оправе, сказал:
— Откуда вы, прелестное дитя?
Гранька принялась рассказывать: «вместе играли»… «бабушка у нее знаете какая»… «Нина девять верст оттопала и не побоялась…»
— А вы, Виталий Викентьевич, побоялись бы?
— Я охотник.
«Но все-таки, — подумала Нина, — где же Зорин? Может быть, он и на вечер вопросов и ответов не придет? Мне, конечно, все равно, но уж если обещал…»
— А чего вы Зорина с собой не привели? — напала на профессора Гранька. — Что он такое делает, что даже про жратву забыл?
— Составляет с этой высокой учительницей план политмассовой работы.
Нине внезапно стало грустно: позвал на вечер, а сам…
— С высокой? — спросила Гранька. — Вот уж пусть какая она расхорошая, а в нее не влюбишься, такая она страхитозина.
— Неправда, в ней есть шарм, — почему-то покраснев, вступилась за учительницу Маруся.
— Все французишь? — возмутилась Гранька. — И откуда у тебя цирлихи-манирлихи берутся? Происхождения ты пролетарского, а послушаешь, так можно подумать, что мадам Бовари.
— Происхождение пролетарское ни при чем. — Маруся одернула портупею. — Почему ты считаешь, что культура речи — частная собственность потомственных дворян? А потом ты же знаешь, что наша ячейка объявила поход против словесных паразитов.
— Буза, — отмахнулась Гранька.
Все невольно засмеялись, громче всех хохотала Гранька.
Стукнула входная дверь. Девушки насторожились.
— Однако вас заждались, — сказала за перегородкой хозяйка.
Нина заметила: Маруся украдкой глянула в зеркало, поправила волосы. «Неужели?..» Но она не успела додумать: в дверях стоял Зорин. Он отыскал Нину глазами.
— Выспались?
Нина молча кивнула, удивляясь и радуясь своему внезапному волнению.
Зорин скинул кожаную куртку и буденовку, и Нина про себя ахнула — на голове у него целый сноп золотой соломы. Он расчесал сноп собственной пятерней. Маруся, улыбаясь, протянула ему гребенку.
— Ну как, девчата, шамовка готова?
За столом, уплетая картошку с квашеной капустой, много смеялись, даже Маруся повеселела. Под конец ужина не обошлось без спора. Зорин сказал:
— Виталий Викентьевич, вы вчера замечательный доклад сделали.
— Слова, слова… — покачал головой профессор.
Маруся сразу прицепилась:
— Вы считаете антирелигиозную пропаганду бесполезной?
— Во всяком случае, малоэффективной.
— А что эффективно? — встрепенулся Зорин.
— То, что делает сия молоденькая барышня, — сказал профессор.
Нине было и лестно и неприятно, что он назвал ее барышней. Небось Марусю не назвал бы.
— Вот видите, — сказал Зорин и легонько коснулся ее руки.
Он сидел рядом. Нине от этого дружеского прикосновения стало жарко и безотчетно весело.
— Ясное дело: пока крестьяне неграмотные, их трудно отвернуть от религии, — сказал Зорин.
— Видите ли, борьба с религией значительно сложнее, чем мы это себе порой представляем. Читать доклады — все равно, что бросать щепку в море — ее тут же выбрасывает обратно.
— Что же вы предлагаете? — спросила Маруся.
— Надо, чтобы деревня окрепла экономически, чтобы мужик не боялся завтрашнего дня, чтобы освободился от надежды лишь на господа бога.
— Что-то очень туманно, — сказала Маруся.
— К сожалению, очень ясно. Почему мужик идет в церковь? Каких он благ для себя вымаливает? Два блага: урожая и здоровья. Надо устранить первопричину…
— То есть? Болезни еще долго будут существовать и неурожаи, конечно, — сказала Маруся.
Похоже, что она сердится.
— Ешьте вы картошку, — вмешалась Гранька. Ей, по-видимому, надоел серьезный разговор. — Остынет же!
— А я понимаю, — неожиданно для себя сказала Нина.
Все оглянулись на нее. Отступать было поздно.
— При коллективизации крестьяне не будут бояться неурожая, — сказала Нина и, заметив одобрительный кивок Зорина, смелее продолжала: — Если везде будут больницы, они пойдут не в церковь молить о здоровье, а в больницу. Я сюда шла с одной девушкой, Стешей, моей ученицей. У нее мать больна, возили в город в больницу, Но там не оказалось мест. Вот мать и отправила Стешу в Верхне-Лаврушино отслужить молебен за ее здоровье. А еще они хотят поискать знахарку.
— Вот видите, факты упрямая вещь! — заметил профессор.
— Здесь есть фельдшер, — сказала Маруся, — разве ты не знала?
— Можете представить, у того фельдшера вторую неделю запой. Но вообще-то бабы говорят, что лечит он не хуже докторов. — Гранька пропела: — Пьет дена-ту-у-урку заместо кваса-а-а-а.
— Религии нужно противопоставить культуру, — профессор всем корпусом повернулся к Зорину и, склонив голову набок, приготовился слушать. И, так как тот молчал, спросил: — Вы со мной, Виктор Иванович, не согласны?
— Как сказать? Возьмите Англию. Культуры ей не занимать. А религия там процветает. Религия процветает там, где это выгодно господствующему классу. Как хотите! Но я верю, что слова действуют. Вот Ленин умел же бороться! Ему верили, что революция победит. Его слова действуют.
— Эко, батенька, куда метнули, — такие умы, как Владимир Ильич, рождаются раз в века. Я утверждаю, что нужны более действенные средства. Но ежели хоть одному человеку то, что я говорю, заронит в душу сомнение, я готов читать лекции и доклады денно и нощно. Уж я-то знаю, как попы калечат души.
— Пора, товарищи, — спохватился Зорин. Он взглянул на Нину. — Вы пойдете с нами?
— Что за цирлих-манирлих? — возмутилась Гранька. — Подумаешь, не будет же она здесь одна сидеть. Одевайся, Нина.
В Народном доме Зорин потянул Нину за рукав.
— Идемте с нами на сцену, включайтесь в нашу бригаду.
— Говорите мне «ты».
— Ты тоже, — сказал он.
— Хорошо, я буду говорить тебе «ты».
Ничего, кажется, необыкновенного они друг другу не сказали и все-таки сказали. Его взгляд как бы говорил: «Ты очень славная», а она ответила взглядом же: «Ты тоже».
В углу Народного дома пылала огромная, неуклюжая железная печка. Две висячие керосиновые лампы-«молнии» — одна на сцене, а другая посреди зала — все же плохо светили. Народу набилось столько, что не закрывалась дверь. Ребятам места на скамейках не хватило, и они расположились на полу у сцены.
Нина устроилась на скамейке в глубине сцены и с любопытством наблюдала за ребятами. Они, показывая пальцами, громко переговаривались:
— Энтот, в кожане, комиссар!
— А где у него револьверт?
— Может, он его под кожаном прячет. Станет он всякому револьверт казать.
— Гляди-ка, баба, а курит. Видать, тоже комиссарша. Ремней-то сколь.
«Комиссарша, конечно, Маруся», — мысленно отметила Нина.
— Глянь, а энтот, энтот, — не унимались мальчишки, — голова голая, как пузо.
Настроение у Нины приподнятое, как в праздник, хотелось, чтобы время шло как можно медленнее. Она с удовольствием слушала лекцию профессора, хотя с детства знала, что гром и молния отнюдь не силы небесные. Как все просто и понятно объясняет профессор!
— Ты будешь выступать? — тихонько спросил Зорин Нину.
— Нет, что вы! — испуганно произнесла Нина, вспомнив свой провал на собрании в Лаврушине.
— Опять «вы»?
— Ты, — сказала она, улыбаясь.
…Разве можно определить, когда зарождается любовь? Почему вдруг все — взгляд, улыбка, слово — приобретает совсем новое и такое важное значение?
— Зорин, веди собрание, — в сдержанном шепоте Маруси разве чуть-чуть прорвалась досада. На Нину она не смотрела.
И снова Нину уколола догадка: строгая, суровая Маруся тоже…
Зорин пересел к столу и объявил выступление Маруси. Как ни старалась Нина с особым вниманием слушать, но Марусины гладкие книжные фразы, минуя Нину, опрокидывались в зал. Не поворачивая головы к Зорину, каким-то боковым зрением Нина видела каждое его движение. Вот он вытащил из пачки, лежащей на столе, папиросу, повертел и положил перед собой. Вот погрозил мальчишкам, затеявшим возню. Потом он вышел за кулисы покурить, Возвращаясь, шепнул ей:
— Садись за стол, а то спряталась в угол, как Золушка.
Он посадил ее рядом с собой.
— Пиши протокол, — взяв протокол у Граньки, положил его перед Ниной и громко объявил, что слово для ответа на вопросы предоставляется товарищу Никифоровой.
— Вот тут одна гражданочка хочет знать, — Гранька помахала чистым листком бумаги, — можно ли присыпать землей рану? Отвечаю: которые несознательные хотят умереть — можно.
Нина радовалась: и у нее есть дело. Особенно старательно записывала слова Зорина. Ага, смычка города с деревней — оказывается, рабочие и служащие их города собрали деньги и купили два трактора, первые два трактора в округе. «Завтра же надо в Лаврушине всем об этом рассказать». Тракторы решили отдать району, первым сдавшему излишки хлеба государству.
— Два трактора — это начало. Настанет время, когда не только в каждом районе, но и в каждой деревне будет трактор.
Из задних рядов чей-то мужской голос произнес:
— Пой, ласточка, пой!
Нина испугалась: что, если Виктор, так же как и она тогда, растеряется и скомкает собрание?
— Кто это сказал? — почти весело спросил Зорин. Его улыбчивое лицо стало хмурым, как-то затвердело. — Молчите? Выходит, трус в кармане фигу показывает. Не верите? Были ведь и такие, что не верили в Советскую власть. Грозились: год-два, и Советам крышка, а мы десятилетие Октябрьской революции отпраздновали. Даю вам честное слово комсомольца — будет трактор в каждой деревне!
Первым захлопал в ладоши профессор, за ним Гранька и Маруся, а уж потом стали аплодировать в зале.
Речь Зорина не походила на привычную ораторскую речь: плавную, с обычными оборотами, целевой установкой, тезисами и выводами. Виктор прерывал себя, отвечал на вопросы. Спорил. Доказывал, убеждал: мужику без коллективизации не прожить, прижмет его кулак, заберет в кабалу.
Вот тут и взорвалось: не в один, а в несколько голосов стали кричать:
— Не агитировай!
— Хлебнули мы коммуны! Язви вас в душу, агитаторы!
— Свово коня заимеешь, веди куды хошь. Я заместо коня падлу с той коммуны получил.
В первом ряду поднялся приземистый мужик. Про одежонку на нем Леонтиха сказала бы — «одно звание». Заговорил он уже знакомым Нине тоном — с подковырочкой.
— Вот вы, товарищ уполномоченный, не знаем, как вас звать-величать, все про нашу жизнь рассудили: куды нам вступать да про нашу выгоду. Да про труд нашенский, значит, — тяжело мужику в одиночку свою землицу сохой обрабатывать. Про мозоли трудовые тут нам объясняли. А вы, товарищи городские, могете понимать, как себе хоша одну мозольку справить?
По рядам прокатился одобрительный смех.
Нина взглянула на Зорина и замерла. Сделав стремительный шаг, он спрыгнул со сцены и ринулся к приземистому мужику. На какой-то момент Нине показалось, что он собирается драться. Зорин протянул к мужику руки ладонями кверху.
— Смотрите, — сказал Виктор звонким, срывающимся голосом. — Как следует смотрите, имею я право про мозоли говорить? Или не имею?
Мужики одобрительно гудели. Кто-то хлопнул Зорина по плечу.
— Вот, — сказал Виктор, — я этими руками ремонтировал тракторы у нас в депо. Думаете, их исправными привезли? Ни черта подобного.
Встал профессор, неуклюже засеменил по сцене. Неуклюже спрыгнул и зашагал к Зорину.
— Ну надо же! — всплеснула руками Гранька. — И этот туда же!
— Уважаемые товарищи, — несколько церемонно обратился профессор к мужикам, обступившим Виктора, — прошу вас учесть — рабочие депо работали бесплатно. И не только вечерами, а и по ночам. Ведь дело новое — никто из них в глаза раньше трактора не видел.
В наступившей тишине отчетливо прозвучали слова Зорина:
— А давайте так: мы, рабочие депо, соберем для вас трактор. Я не так сказал — для вашего колхоза. Организуйте колхоз — получите трактор.
Поднялся невообразимый гвалт. Зорин и мужики прошли к печке. Закурили. И профессор с ними.
Нина больше не слышала голоса Виктора. Как же собрание? Как же протокол?
— Не пойму, — сердито сказала Маруся, — перерыв, что ли, они объявили?
Гранька попыталась к ним прорваться, о чем-то поговорила с Виктором. Вернулась и сообщила:
— Матерщина там стоит — оглохнуть можно. Зорин велел отчаливать. Он сказал, что еще побеседует.
В дверях Нина обернулась. Виктор помахал рукой и что-то сказал. Кажется, «скоро придем».
Но ужинать они так и не пришли.
Наутро Нина узнала, что Зорин и профессор ночевали у секретаря партийной ячейки, где и после собрания продолжались споры.
Гранька с Марусей, прихватив с собой профессора, ушли к фельдшеру. Еще вечером заходила Стеша и сказала, что их подвезет ее крестный, он поедет за сеном, идти им останется не больше трех верст.
Нина сидела у окна, с грустью поглядывая на дорогу. Неужели Зорин так и не придет? Думала о нем с тревогой: так ничего и не подсказал, как быть с Козлоноговым. Но в глубине души она понимала: больше всего обидно, что не спешит увидеть ее.
Он крикнул с порога:
— Как хорошо, что я тебя застал! Нам же надо проучить этого Козлоногова. Здесь на него жаловаться нет никакого смысла! Да и Степанчиков еще не приехал. Надо написать заметку в газету. Мы завтра возвращаемся в город, и я сам передам в редакцию твою заметку. Здорово? Ты когда едешь? Ну и на ять — успеем соорудить заметочку. Ты писала когда-нибудь? С тобой что?
— Ничего, — сдержанно проговорила она. Выходит, если бы она уехала, он бы пожалел только потому, что не успели написать заметку.
Виктор скинул тужурку, буденовку и все поглядывал на нее, видимо силясь понять, что произошло.
— Я так торопился, — сказал он, — боялся, что ты уехала. Даже собрание в комбеде перенес.
— Хорошо, я напишу заметку, — мигом повеселев, сказала она, — только я всего раз писала, да и то сильно переделали.
Они вместе писали эту замечательную, хлесткую, бичующую заметку.
Виктор сказал:
— Жаль, что ты уезжаешь. Оставайся.
«Значит, ему небезразлично», — обрадовалась Нина.
— Я не могу остаться. У меня завтра с утра уроки в школе… — Она подумала: «Мне так не хочется с тобой расставаться» — и сказала: — Мне тоже жаль, что уезжаю…
Они сидели за столом друг против друга. Виктор взял ее руки в свои, осторожно сжал их.
— Нам с тобой не пришлось поговорить…
Но Виктор так ничего и не успел сказать — пришли профессор и Маруся с Гранькой.
На прощанье Гранька расцеловала Нину. Маруся хмуро отмалчивалась. Нина поймала па себе ее сумрачный взгляд.
— Я тебе напишу, — сказал Виктор, пожимая Нине на прощанье руку. — Напишу про заметку. Ты жди.
Три дня Нина запрещала себе ждать писем от Виктора. Потом прибавила еще три. Писем не было.
Писала мама: «Как ты там, Ниночка? Душа у меня за тебя болит». Петренко, тревожась, спрашивал, почему молчит. Утешал: «Не казни себя, если что не так. Опыт — дело наживное. Нет хуже, когда человек перестает верить в свои силы…» Мара сообщала: «…жизнь шикарная. Поступила на службу (папина протекция) в лесоустройство. От поклонников нет отбоя. Приезжай — познакомлю. Нечего прозябать в глуши». Натка разразилась жалобами на пяти закапанных слезами страницах. «Африкан меня заедает…» Нина живо представила Наткины злоключения.
…Поздно, после комсомольского собрания, Натка в кухне разжигает примус.
Врывается отчим и начинает орать:
— Шляешься до полуночи!
Натка презрительно молчит. Обозленный Наткиным молчанием, Африкан кричит:
— В комсомол вступила, чтобы был предлог шляться с парнями. У вас в комсомоле свобода любви…
Натка сдерживается, пока он ее ругает, но комсомол она никому не позволит оскорблять! Хватит деликатничать! Рубануть так рубануть! И она с ненавистью выпаливает:
— Заткни хайло копытом!
Африкан зеленеет от злости, размахивается и бьет Натку по лицу…
(«Только подумать — нас ведь никто никогда не бил!»)
Натка бежит на улицу! В ночь. И до утра дрогнет под дождем. Натка твердо решила бросить школу, уехать в деревню и наняться в батрачки.
Нина написала сестре: пусть не смеет бросать школу. Африкан не может оскорбить комсомол. Никто не может оскорбить комсомол. Написала и Африкану. Высказала все. Если он хоть раз еще ударит Натку, она, Нина, напишет об этом в газету, ему тогда не поздоровится. Как и следовало ожидать, Африкан на ее письмо не ответил.
Зорин упорно молчал. И все-таки Нина ждала. И заметка не появлялась в газете. Мог бы хоть об этом написать… Никитична заметила раз: «Ежели кручина, видать, у девки причина».
Уже прочно утвердилась зима. Намела сугробы под окнами, завернула в снеговые пуховики крыши, сковала толстым голубым льдом Бургояковку, перемела дороги в лесу.
В субботний вечер Нина возвращалась с ликбеза. Из окон изб сочился скудный свет. Над крышами дым столбом. Значит, мороз. Глухо на улице. Сегодня топят бани. В общем-то однообразная жизнь в деревне. Темень. Тьма. Темнота. В городе освещенные улицы. У кинотеатров веселая толпа. На окраинах полно лыжников. В актовом зале концерт. Писали, что приезжает знаменитая певица Ирма Яунзем… Съездить бы в город на один денек. Обнять маму, Натку. Может, удастся свидеться с Петренко. Поехать в город необходимо, хотя бы для того, чтобы выяснить про заметку. Но самое важное — все выяснить о Зорине, и если он забыл о ней, то и она найдет в себе силы никогда его больше не вспоминать.
Мотря всегда знает, кто едет в город. Прибавила шагу; надо успеть, пока Мотря не улеглась спать.
С трудом потянула стылую дверь на себя и с порога увидела Виктора. Он стоял у печки. На нем лыжный костюм, он смотрел на Нину и улыбался. Его появление настолько было неправдоподобным, что она на секунду даже закрыла глаза. Он? Он!
— Вот братец приехал, — объявила Никитична, подталкивая седые космы под платок, — экая страсть, на лыжах прибег! Сорок пять верст без малого, и все бягом и бягом. Маленько личность себе не познобил.
— Что, сестренка, разве не рада? — улыбнулся Зорин.
— Рада. Но ты не писал. Ты правда на лыжах? — Нина так растерялась, что не знала, о чем говорить. — Пойдем ко мне.
Никитична «наладила» им ужин у Нины в горнице.
Наконец они вдвоем.
— Ну, здравствуй, — он шагнул к ней, взял ее руки в свои.
Сейчас поцелует. Но он только заглянул ей в глаза и отошел. Наверное, и Виктор испытывал то же чувство радостного смятения.
— Однако, самовар поставлю, — сказала за дверью Никитична. — С такой-то дороги ладно будет и чайком побаловаться.
— Я сама, — кинулась Нина.
— Ладно, угощай брата. Эка столь бягом на лыжах. Конь и то пристанет.
— Добрая старуха? — спросил Виктор. — Тебя не удивляет, что я братом объявился? Хотел объявить себя женихом, но не знал, как ты к этому отнесешься.
Нина понимала, что ее молчание может обидеть Виктора, но все нужные слова куда-то провалились.
— Ты ничего мне не ответила.
— Да, — сказала она.
Он, улыбаясь, покосился на дверь.
— Очень хочется тебя поцеловать, — тихо проговорил он.
— Как брату, конечно?
— Ты не ждала меня?
— Нет, то есть я не думала…
— Не думала, что приеду?
— Ты пришел, — напомнила она. Только сейчас до Нины дошло, что он пробежал сорок пять верст. — Ты очень устал?
— Не очень. У меня же по лыжам первенство по городу.
— Я эгоистка. Ты же голоден. Садись. Ужин остынет.
Потом они пили чай, сидя друг против друга.
— Ты от какой организации? Тебя послали или ты сам попросился?
— Я сам от себя, — он засмеялся. — Понимаешь, считается, что я в Понизовье, я там в командировке. В окружкоме комсомола мне разрешили два дня проболтаться в городе, отдохнуть. Ну вот я и махнул к тебе.
— Я ничего про тебя не знала. Ты не писал.
— Я не писал — надеялся все время вырваться. Да и письма оттуда страшно долго идут. Глушь, еще почище здешнего.
— Ты мог сбиться с дороги, — испугалась она. — Обратно ты поедешь, я попрошу у хозяев тулуп. Кажется, во вторник хозяин поедет на базар.
— Не могу я до вторника ждать. Я же говорю: меня отпустили только на два дня.
— И нельзя пробыть лишний денек?
— Нельзя. Завтра днем мне надо выходить, чтобы засветло добраться до большой дороги. Понимаешь?
Виктор спохватился: он же привез Нине газету — заметку напечатали, теперь-то Козлоногов не отвертится. Виктор обнял Нину и через ее плечо стал читать вслух заметку. У нее буквы замелькали перед глазами. Она прислушивалась к себе, а не к его словам. Она любит этого человека. Виктора Зорина. А ведь еще совсем недавно она даже не знала о его существовании…
В горенке всегда холодно. Нина, укутав ноги одеялом, забралась на кровать. Виктор подвинул табуретку поближе. Разговаривали вполголоса. За стеной Мотря укладывала ребятишек спать, монотонно выводила; «Спи, спи, спи, усни-и-и-и… крепко глазыньки за-жми-и-и-и… а-а-а-а».
Виктор осмотрелся, будто только что увидел ее горенку. Нина проследила за его взглядом. Да, ничего не скажешь — убогая обстановочка: железная узенькая кровать, шаткий столик, две табуретки. Единственное украшение — над кроватью вырезанный из хрестоматии и наклеенный на картон портрет Лермонтова.
— Разве нельзя найти потеплее комнату?
— Можно. Но отдельную не найдешь. Знаешь, иногда так хочется одной побыть. Ну, с собой. — Она не сказала, что у нее нет возможности платить дороже за комнату.
— Тебя, наверное, тоска здесь забирает?
— Иногда. Днем нет времени, а вечером…
— Дай-ка я тебе ноги потеплее укутаю, — сказал Виктор.
Она не удержалась — провела рукой по его волосам.
Время летело.
Трещали от мороза углы избы.
Уже за полночь, а они еще не успели о себе всего рассказать…
Отца Виктора расстреляли белогвардейцы в гражданскую. Мать умерла от тифа. Жили вдвоем с бабушкой, как она говорила, в избушке-завалюшке. Туго приходилось, перебивались за счет квартирантов-нахлебников. Окончил девятилетку, хотел пойти в вуз, но бабушка совсем состарилась — надо было ее кормить. Пошел работать в депо, там отец когда-то работал. Бабушка померла, избушка, вот что удивительно, будто того и ждала — сразу же развалилась. Теперь сам живет на квартире. Какая там квартира — угол снимает. На будущий год пойдет в индустриальный, в окружкоме обещали дать путевку. Техника теперь решает все.
— Знаешь, нас тоже бабушка воспитывала, — сказала Нина. — Твоя была строгая? Наша строгая.
— Мухи не обидит. Но больше меня воспитывал квартирант один. Замечательный человек! Все знал. Самому жрать нечего, а книг — два ящика. Он доказывал, что человек начинается с языка. Положим, я с ним не согласен. Помещики или там разные буржуи выражались культурно, а из рабочего класса и крестьян вместе с потом кровь выжимали. Этот студент, между прочим, научил меня не просто читать, а вникать в смысл книги. А еще научил правильно говорить, а то я такое выворачивал…
Бабушка всегда твердила сестрам: плохо, когда человек первому встречному все о себе выбалтывает. Виктор не первый встречный. И потом нехорошо не ответить на доверие доверием. Нина рассказала Виктору о Кате, о распрях с отчимом, о дружбе тоже с замечательным человеком — Петренко.
— Он старый? — Виктор на нее не смотрел.
— Нет, что ты! — и поспешно добавила: — У него жена Анфиса. Очень красивая.
За стеной Мотря пела: «Спи, спи, спи, усни-и-и-и… крепко глазыньки зажми-и-и-и… а-а-а-а».
— А-а-а, — голос Виктора прозвучал веселее. — А ты?
— Что?
— Ты кого нибудь любила?
— Нет. Никого. — Ей хотелось спросить: «А ты?» Но удержалась. Пусть сам.
Он сказал:
— Я тоже, — и внезапно покраснел. Его лицо выразило смятение, потом стало сумрачным.
Еще не зная, что он скажет, Нина со страхом ждала его признания. В том, что это будет признание и неприятное для нее, она не сомневалась.
— Мне нравилась одна… я даже думал, что люблю…
Ему явно трудно говорить. Но Нина не желала ему помогать. Пусть сам.
— Хотел на ней жениться… — Виктор опустил голову, сцепив пальцы рук в замок.
— Почему не женился? — Нина не узнала собственного голоса — такой отвратительно-противный. Будто ей все равно.
— Она не захотела развестись. Она замужем… Муж у нее — человек что надо, а она… Торричеллиева пустота… Я потом это понял. А когда увидел тебя и понял, что ту я совсем не любил, что любовь — это другое… Почему ты не смотришь на меня? Не думай обо мне плохое. У меня ничего с ней… Совсем ничего… Я всего раз ее поцеловал… Дай мне твои руки. Какие холодные… Я все время думаю о тебе, все время…
Убаюкав детишек, легонько всхлипывала Мотря. Высвистывал на печи дед.
Сонная утлая деревенька, как заблудившийся кораблик в океан-тайге.
Только двое не спят. Смотрят друг другу в глаза. Молчат.
Замигала лампа, по стеклу поползла копоть. Пойти заправить лампу — еще перебудишь всех. Пора ложиться. Хорошо, что Никитична устроила из тулупа постель в углу горенки. Два часа. Виктору необходимо выспаться, иначе завтра не хватит сил добраться до города. Обидно тратить время на сон. Но что поделаешь, ведь ей-то никуда не идти.
Поспорили из-за подушки. Пусть она спит на подушке, он привык по-походному. Они чинно пожелали друг другу спокойной ночи. Виктор улегся на полу, завернувшись в тулуп. Прижимаясь щекой к холодной подушке, Нина вглядывалась в темноту.
— Нина, — он окликнул ее очень тихо.
Она не отозвалась. «Если еще позовет…»
Он молчал. И хоть из угла не доносилось ни шороха, Нина знала, что он не спит. «Он завтра уедет», — подумала Нина с непонятной острой жалостью к нему и себе. Она торопливо, боясь раздумать, натянула халат и, схватив подушку, на цыпочках пробежала по обжигающе холодному полу.
Виктор пружинно приподнялся. Стоя на коленях, обеими руками обнял Нину, прижался к ней головой. Нина нагнулась, взяла его голову в руки и поцеловала Виктора.
— Ты спи, — сказала она еле слышно.
Было так темно, что она скорее угадала, чем увидела, — Виктор лег ничком. Она подтолкнула ему под голову подушку.
Он поймал ее руку и поцеловал в ладонь.
Пробежала по ледяному полу и нырнула в свою холодную постель. Прислушивалась и все не могла унять озноба. Успокоилась, когда из угла донеслось ровное дыхание.
Утром договаривались о встрече в городе, записывали адреса. Виктор изо всех сил пытался рассмешить Нину, она вымученно улыбалась. Странно: они говорили о каких-то пустяках, когда ей столько еще нужно сказать: объяснить, почему она не в комсомоле, и расспросить его, как он относится к Марусе.
Нина отправилась провожать Виктора за деревню. Хорошо, что мороз спал. Березы стояли будто стеклянные, кажется, дотронься — разлетятся вдребезги. Елки выложили на сугробы заснежённые лапы. На голубом снегу множество следов: птичьи — крестиками, заячьи — петли.
Вот уж и деревни не видно.
Виктор воткнул палки в снег, одной рукой привлек Нину к себе. Поцеловал в губы, в глаза.
— Ты возвращайся, — попросил он, — а то я не могу от тебя первый уйти.
…Перед сумерками Нина вышла за околицу. Голубую лыжню кое-где уже перемело.
В газете заметка называлась «Стыдись, Козлоногов!». У Нины было по-другому: «Козлоногов, ты обманул народ и Советскую власть!» Редакция сократила текст заметки раз в пять, он уложился в тридцать газетных строк. Удивительно: заметка от этого нисколько не проиграла. Но самое основное — подпись: «Камышина, ликвидатор неграмотности д. Лаврушино».
На другой день, как привезли газету, деревня узнала о заметке. Бабы поджидали ее с ведрами у проруби.
— Дай тебе бог здоровья, Нин Николавна, что о наших денежках позаботилась.
Но самым первым высказал одобрение Игнатий, младший брат хозяина.
Игнатий умел лишь расписываться, но читал для малограмотного довольно бойко.
Мотря ненавидела деверя.
— Только и знат, что языком чесать, — жаловалась она Нине, — ребятишкам жрать нечего, а у него, как заведется живая копеечка, норовит пропить. А налижется, паразит, кидается с кулаками на Акулину. Забьет он ее, вот помяните мое слово. Известно: пить да гулять — добра не видать.
У Акулины, жены Игнатия, лицо вытянутое, книзу шире. Прежде времени состарившаяся, нечесаная, с впалой грудью, Акулина вызывала у Нины жалость. Она всегда удивлялась, как мог Игнатий, красивый, хоть и рыжий (раньше Нина почему-то считала рыжесть чуть ли не физическим недостатком), статный мужик, жениться на Акулине. Раз Нина спросила об этом Мотрю.
— Опозорил он Акулину, — коротко пояснила Мотря.
— Как опозорил?
— Нешто не знаешь, как парни девок позорят? Ну, обрюхатил. Чо скраснела? Игнатий такой кобель, прости господи, не одну девку испортил. Политик окаянный! — Мотря принялась, не стесняясь в выражениях, честить Игнатия. Отведя душу, продолжала: — Он-то на другую метил. Дочку справного мужика хотел взять. Не отдали тую девку родители за Игнатия, а выдали за богатого. Ну и запил.
Нина даже посочувствовала Игнатию. Разве не достоин человек участия, если у него не задалась любовь? Жалея Акулину, она все же не могла представить, как можно ее любить.
Вскоре после своего приезда в Лаврушино Нина попросила Игнатия (он повез картошку в город на базар) заехать к ним домой, передать маме письмо. Игнатий охотно взялся за поручение, а вернувшись из города, громогласно восторгался:
— Приняли, как попа. Мамаша угощала, как знатного гостя. На бархатный диван спать поклали.
Игнатий повадился ходить в избу старшего брата чуть ли не каждый день. Заявлялся он обычно в те часы, когда Нина сидела за тетрадями: кроме проверки, приходилось самой их линовать. Днем Нина открывала дверь на хозяйскую половину, чтобы шло тепло к ней. Игнатий усаживался на пороге ее горенки, попыхивая цигаркой, и, косясь на Нину горячими пьяными глазами, пускался в рассуждения.
— Читал я в газетке, будто Муссолини в Риме внес, значит, законный проект, будто по которому установлено нести воинскую службу мужикам заместо тридцати девяти лет пятьдесят пять. Так как же, Нин Николавна, принятый энтот законный проект?
Нина, краснея, признавалась, что не помнит, принят ли законопроект Муссолини.
Однажды, когда он начал опять выспрашивать о политических известиях, Нина нашлась:
— Вот последние газеты. Почитайте, пожалуйста.
Он забрал газеты и, ухмыляясь, ушел. У него появилось заделье приходить к ней за газетами. Садился на порог и, дымя цигаркой, следил каждым ее движением. Нагловатая усмешка и горячий косящий взгляд Игнатия пугали Нину.
Конечно же, Игнатий не пропустил случая поговорить о Нининой заметке в газете. Заявился днем, когда она сидела за тетрадями. В рваных штанах, расхристанной рубахе, с всклокоченной бородой, он походил на разбойника с большой дороги. Садиться не стал, прислонился к косяку двери, набычив голову.
— Читал вашу статейку в газете. — Сказал и замолчал. Наверное, ждал, что она повернет к нему голову.
Но Нина продолжала с усердием править тетради.
— Стало быть, устыдить Козлоногова хочете. — Игнатий притворно зевнул. — Зазря старались. Ничего с этого не будет. И до вас, которые писали, помощи не видали.
Нина снова умышленно промолчала: должен же понять, что у нее нет времени с ним разговаривать. Интересно, на какие деньги он пьет? Мотря говорит, что у них в деревне гонят самогонку, но кто гонит — помалкивает.
— Пишут вам из дому? Братец тоже, однако, пишет?
— Пишет.
— Что-то я братца у вас дома не видел. Сестрицу видел. Огонь девка.
— Он — двоюродный брат, — сказала Нина. «Я не обязана перед ним отчитываться».
— Сродный, значит.
Игнатий огляделся. Зачем? Никитична вышла во двор. Дед с ребятишками на полатях. Степан с Мотрей за дровами уехали. «Что, если прогнать Игнатия?» Нина низко наклонилась над тетрадью, чтобы Игнатий не видел ее лица. Коля всегда говорил: «По твоему лицу можно прочесть, о чем ты думаешь».
— Нина Николавна, а вы сильно гордая, сразу видать, что благородного происхождения… — И после вязкой паузы добавил с издевочкой: — Разговаривать не хочете.
«Про благородное происхождение ему, конечно, наболтал Африкан. Откуда бы он взял…»
— Нет, почему же, у меня тетради… Я тороплюсь… — Нина подняла на него глаза, и слова застряли у нее в горле. Прослоила за его взглядом и запахнула халат на груди. «Сейчас я скажу ему, чтобы уходил».
Игнатий, пошатнувшись, шагнул в горенку.
— Я тебя… — произнес он каким-то свистящим шепотом, — вот такую чистенькую…
Нина вскочила и, прижав руки к груди, отступила к окну. И тут услышала спасительный голос Мотри.
— Не успеешь полы помыть, как натопчут, ироды!
Игнатий круто повернулся и, пошатываясь, вышел.
Мотря застала Нину в слезах. Она лежала, уткнувшись в подушку.
— Вы что, Нин Николавна, неужто этот рыжий кобель обидел? Он хоть кого обидит. Варнак паскудный! Ну, погоди, я налажу его отцедова!
Мотря прибила на дверь щеколду. Нина стала запираться изнутри. Игнатий приходил дважды. Нина, не отозвалась на его стук. И он оставил ее в покое.
Новое событие отодвинуло на задний план страх перед Игнатием. Заявились прямо на урок Степанчиков и Козлоногов. Степанчиков отправил ребят по домам, сообщив, что им нужно обсудить «текущие вопросы». Козлоногов, тщедушный, неопределенных лет мужчина, никакого интереса к Нине не проявил. Словно и не она писала о нем в газету.
Степанчиков начал миролюбиво. Пожурил: дескать, негоже сор из избы выносить. У нее тоже могут быть неполадки в работе. Потом он разъярился и начал кричать:
— У самой политпросветработа стоит на точке замерзания, а туда же, указывать!
Отправил Леонтиху собирать мужиков, подписавшихся на заем. Мужики приходили по одному. Степанчиков, грозно поглядывая на Козлоногова, заявил, что секретарь всем, у кого брал деньги, выдаст расписки, а на днях привезет облигации. Никакого списка у Козлоногова не оказалось, но он с непостижимой легкостью выдавал расписки на ту сумму, что ему указывали. Мужики кланялись начальству и, улыбаясь, заговорщически поглядывали на Нину. Кое-кто не без умысла громко благодарил:
— Спасибо тебе, Нина Николавна, а то плакали бы наши денежки.
Нина в душе торжествовала. Радость омрачил Степанчиков.
— Про школу, — сказал он, — имей в виду — нет никаких указаний. Сама заварила кашу, товарищ Камышина, сама и расхлебывай. Можешь распустить школу — официально ее не существует. Зарубила?
— Это неважно, — с неожиданной для себя смелостью сказала Нина. — Важно, что ребята учатся. И станут учиться! Вам ясно?
— Ты смотри! — только и нашелся ответить Степанчиков.
Пообещав через неделю привезти облигации, Степанчиков и Козлоногов уехали.
Потянуло в город — встретиться с Виктором. Рассказать о своей победе. Повидаться бы с Петренко, услышать от него: «Молодец, Ниночко». Решила поехать в город в первое же воскресенье. Поездка сорвалась. Ударили морозы, да такие, что ребятишки притаскивали в школу замерзших воробьишек и тщетно пытались их отогреть на печке Леонтихи. Нина простудилась после бани в своей стылой горенке. Заболело горло. Никитична напоила Нину чаем с сушеной пареной малиной и укрыла тяжелым жарким тулупом. «Болезнь-то, она потом выходит».
Сквозь сон померещились голоса. Показалось, что чужие. Проснулась — темно. То ли вечер, то ли ночь… Нет, разговаривают. Услышала голос Никитичны: «Всяк умен — кто сперва, а кто потом. Сдается, понапрасну они эдак Василия… Не подумавши…» О чем-то быстро заговорила Мотря. Ее прервал Игнатий (и он здесь). «Как же! Подставляй карман шире. Покуда разберутся — Василия Митькой звали». Получается, что она подслушивает. Нехорошо. Засунула голову под подушку: «Неужели из-за горла сорвутся занятия? Спать, спать… Никитична говорит: „Сном проходит болезнь“».
Утром, совсем еще затемно, явилась Мотря.
— Не спишь, Нина Николавна? Че вчера было!
— Я слышала голоса. Мне сначала показалось, что чужие.
— Правильно. Степанчикова и этого Козлоногова принесло. Приехали гости по наши кости.
— Зачем они приезжали? — известие огорчило Нину. — Сюда они заходили? Меня спрашивали?
— А как же! Кто приедет — завсегда попервости к нам. Спрашивать-то спрашивали. Мамаша им обсказала: занедужила, мол, наша учительница. Спит.
Нина живо представила, как Степанчиков насмешливо проговорил: «Посылают девчонок».
— А что сказал Степанчиков?
— Несамостоятельный он, — Мотря замялась, — ну говорит… пусть поспит… Дескать, без нее собрание проведем.
— Проводили собрание?! — Нина села в кровати.
— Накройтесь. Простынете. За ночь-то выстыла горница. Скоро затопим. — Помолчала и со вздохом проговорила: — Вроде беда, Нина Николавна. На собрании энтот Степанчиков Василия Медведева в лишенцы обозначил. Не знаете Медведева? Так вы ишшо попервости чай у них пили.
«И про чай знают».
— Мотря, он что, кулак?
— Какой там! Справный мужик. Да как им не жить-то! Сами рассудите. Их четверо. И все работники. Пелагея, баба Василия, как начнет жать, так за ней не угонисся. Сам не пьет. Не то что наш Игнатий. Работников сроду не держивал.
— Тогда за что его в лишенцы?
— Вот и говорю: за что?
— Ужасно обидно, из-за этого горла я собрание прозевала.
— Думаете, они вас послушали бы! У нас, говорит, на то свыше полномочия есть. Надо, грит, разобраться, Прохоров, — это моему-то мужику, — какой ты ни на есть середняк. Ну, тут на него поднялись. Все помнят, как на избу комбед ссуду давал. Работников-то у нас двое, а ртов — шесть. — И с грубоватой непосредственностью призналась: — С того и квартирантов держим — все лишняя копеечка.
Мотря повздыхала и ушла управляться по хозяйству.
Вечером на занятия ликбеза не пришли Надька и Пашка Медведевы. Почему? Неужели из-за отца? Не пришли они и на другой вечер. Куда-то исчезла самая примерная ученица Груня Кожина. В газете Нина читала про одного незадачливого ликвидатора неграмотности. Он додумался до того, что стал штрафовать учеников, пропускавших занятия. Как же она радовалась: «Я-то сумела их привлечь». Вот и сумела!
После занятий отправилась к Груне. Вдруг больна?
Изба, в которой живет Груня, обычная: с громоздкой русской печкой, полатями, широкими лавками вдоль стен. За столом, что стоял в переднем углу, сидел знакомый мужичок. Где же Нина его видела? Мужичок поднял голову. Карпыч! Вот это здорово! Не встречала его с того дня, как он привез ее в деревню. Сидит Карпыч и с Груниной тетрадки переписывает на бумажку слова. Выходит, у нее, Нины, есть «подпольные» ученики!
— Видела, барышня, Грунька заставляет, — как бы оправдываясь, объяснил Карпыч.
Нина с азартом принялась доказывать, что учиться никогда не поздно. И если он не хочет на ликбез ходить, то она сама через день будет приходить к нему, а в остальные дни пусть Груня помогает. А где же Груня?
— Спасибо, барышня. Мне бы хоть заявление как-никак научиться писать да вывески читать. В город приеду — чисто слепой.
— Где же Груня? — повторила свой вопрос Нина.
— Однако, на дворе, че ли.
— Можно ее позвать?
Карпыч, будто не расслышав ее вопроса, схватил ухват и полез в печку. Неизвестно зачем ему понадобилось вытаскивать чугун. Запахло крепким мясным наваром. Нина следила за его неловкими, суетливыми движениями и ничего не понимала. Почему отмалчивается? Похоже, он и не собирается звать Груню.
— Я пойду, а когда Груня освободится, пусть зайдет ко мне домой.
С полатей раздался ломкий мальчишеский голос:
— Нина Николавна, а Грунька с мамкой в город уехали. Мясо продавать.
— Что же вы скрываете? — удивилась Нина.
— А, чтоб тебя холера взяла! Тянули тебя за язык, — рассвирепел Карпыч и погрозил кулаком невидимому мальчишке на полатях. — Скрывать не скрываем, а ты, Нин Николавна, про мясо никому не сказывай. Я че. Я супротив был. Бабы поднялись. Отберут коровенку. Ялова она. Сам-то поехать не могу, ревматизма донимает. Болит, холера. Ребятишек семеро. Груня-то старшая. Может, и ничего бы, и не забрали коровенку-то? Вошли бы в положение? Василий Медведев разве располагал на такое…
Карпыч говорил, а до, Нины медленно доходил смысл его слов. Ему нечего бояться. Корову они зря зарезали. И с Медведевым разберутся. Говорят, его еще только в списки внесли. Списки будут еще утверждать. Все это Нина высказала Карпычу, страдая от неубедительности собственных слов. Карпыч как будто обрадовался, когда она собралась уходить.
Нине показалось, что и у Медведевых ее встретили настороженно. Василий на черной половине избы чинил хомут, Надька у печки пряла. Жена Василия, видимо, уже легла, было слышно, как в горнице скрипела под ней кровать, когда она грузно ворочалась.
Василий молча выслушал Нину и сказал, что детей он не приневоливает, пусть с них и спрашивает.
Надька, покраснев всем лицом, тихо проронила:
— Сказывали, что откажут нас теперя учить.
— Кто это выдумывает? — возмутилась Нина. — Приходите. Отстанете, потом трудно будет догонять, — сказала и поняла: каких-то других слов от нее ожидали.
— Спасибо, Нина Николавна, — проговорил Василий Медведев, потянул дратву, и она лопнула.
В доме вроде бы все так же сытно и ухоженно. На полке, под чистым домотканым полотенцем отдыхают смуглые караваи. Пахнет хлебушком, мясным варевом, квашеной капустой. И все-таки в чем-то еле приметном обжитой порядок нарушен. В чем же? Может, в сдержанности всегда такого разговорчивого хозяина дома? Или в надрывных вздохах хозяйки и в выражении какой-то смиренной виновности на лице Надьки?
— Не слыхали, Нина Николавна, — после трудной затянувшейся паузы спросил Медведев, — болтают, будто лишенцев станут выселять в Нарым? Из своих деревень, значит.
В горнице со всхлипом заплакала хозяйка, зашмыгала носом Надька.
— Не реви, — приказал дочери Василий.
Что ответить Медведеву. В газетах пишут — выселяют лишенцев. Но разве можно такое в глаза человеку сказать?
— Я не… знаю, — пробормотала Нина. Никогда она не испытывала такого смятения, такой унизительной беспомощности. Ведь они ждали, конечно же, ждали от нее ответа. Иначе Медведев не сказал бы, когда она уходила:
— Может, заявление какое подать?
Она промолчала. Почему? Потому что где-то, пусть очень глубоко, таилось сомнение: а что, если Василий (она же читала про такое) кулак, который умело маскируется?
Медведев, наверное, почувствовал ее сомнение и беззлобно сказал:
— Может, и не след писать. Степанчиков упредил: «Пошлешь заявление, мне же оно и попадет в руки». Вот оно как…
Все это Нина заново пережила, лежа с открытыми глазами в постели. Да, она не нашлась сказать Медведеву что-то вразумительное. А если не кулак? Мотря же говорит, что не кулак. У кого спросить совета? Как говорил Петренко: человек упал, один мимо пройдет, да еще засмеется, а другой кинется поднимать. А тут люди в беду попали. Как же она могла забыть о Петренко? Он же говорил: если что не поймешь — пиши. Но пока идет письмо, Медведева могут выслать. Тогда пусть сам Медведев едет к Петренко. Если он выедет утром, то в городе будет только к обеду. Степан, чтобы успеть на базар, выезжает в часа три ночи.
Зажгла спичку: десять минут первого. Встала. Тихонько оделась. Никитична в кухне окликнула ее с печки, где она спала.
— А, Нин Николавна, — и тут же захрапела.
Снег на улице отчаянно скрипит под пимами. Ни единого огня. Тихо. Только тайга однотонно гудит. Луна с откушенным краем обиженно прячется за облака, и тогда избы наступают на сугробистую улицу.
В горнице Медведева темно, а на кухне неяркий свет. А вдруг и он, как кулак Савелий, прячет что-нибудь и собирается бежать? Заледенелое окно не занавешено. Если встать на завалинку… Вскарабкалась, заглянула в небольшую проталинку в стекле. Медведев сидел все на том же месте, только теперь он чинил не хомут, а пим, зажав его между колен. Но вот он отложил иголку с дратвой, шило и повернул голову к двери, шею вытянул. Слушает. Может, он поэтому и не ложится спать, что всю ночь вот так слушает?
Осторожно слезла. Дверь заперта. А ее хозяева дверь на ночь не запирают…
— Кто? — в голосе явная тревога.
— Это я, Нина Николавна. Пожалуйста, откройте.
Она заметила, что пропустив ее вперед, он заглянул за дверь. Наверное, подумал, что она кого-то с собой привела.
Он понял ее с первой фразы.
— Панька, запрягай коня.
С полатей свесилась кудлатая голова.
— Куды, тятя? Рано по дрова. — У Паньки спросонья голос хриплый.
Отец прикрикнул на него. Панька живенько спрыгнул с полатей. Спал он не раздеваясь. Схватил полушубок, нахлобучил шапку и опрометью кинулся из избы.
Василий спрятал Нинину записку в подкладку шапки, сунул краюху хлеба в мешок. Оделся. На пороге горницы бесшумно появилась в исподней рубахе жена Василия. Испуганно глянула на мужа, всплеснула руками и запричитала:
— На кого же ты нас оставляешь…
— Ну, завела, как по покойнику, — с грубоватой ласковостью проговорил Василий и, взяв за руку, увел жену в горницу.
Провожать Нину пошел Пашка. У ворот, смущенно потоптавшись, он сказал:
— Нина Николавна, вы не сумневайтесь… Тятя мне наказал… Я чтобы кому сказать, что вы к нам приходили… Да пусть у меня язык лучше отсохнет.
Через день Надька и Пашка пришли на занятия. Во время урока заглянула Леонтиха.
— Нина Николавна, выдь на минуточку. Там вас на дворе спрашивают. Заходить не хочут.
Нина накинула пальтишко. Высокий человек в тулупе нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Он заговорил, и Нина узнала голос Медведева. Василий степенно поклонился.
— Спасибо, Нина Николавна. Уважительный товарищ. Живи, грит, спокойно, поболе вашего Степанчикова начальники есть. Списки, грит, не окончательное дело.
— Я же говорила вам, что он замечательный человек, — обрадовалась Нина.
Самой бы поговорить с Петренко. Рассказать бы обо всем Виктору (писать о своих сомнениях ему абсолютно невозможно. Попробовала, но так запуталась в объяснениях, что бросила). В город вырваться просто необходимо. Решила поехать в воскресенье.
Возвращаясь в субботу вечером с ликбеза, еще издали увидела свет в окне своей горенки. Неужели Виктор? Как тогда — на один вечер. Помчалась что есть духу.
— Гость, видать, заждался, — сказал во дворе Степан.
Ворвалась в горенку, не стряхнув снега с пимов, с белыми ресницами, заледенелыми, выбившимися из-под шапки волосами.
За столом сидел Петренко и улыбался.
— Вы?! — удивилась Нина и тут же обрадовалась: — Вот хорошо-то! Никак не думала, что вы приедете.
— А я догадался, что тебе туговато, и приехал.
— Иван Михайлович, — Нина оглянулась на дверь и, понизив голос, спросила: — Этот Медведев, как по-вашему, кулак?
— Нет.
Сразу как гора с плеч.
— Иван Михайлович, а я так боялась. Если кулак — значит, правильно его в лишенцы… Выходит, я ничего не понимаю… Все говорят, не кулак. Ведь просто ужасно, если я все путаю.
— Эх, Ниночко, если бы ты одна путала… Но ничего, кое-кого поправили. Списки будут пересматривать. Степанчикову мозги прочистили. Ну, расскажи, как ты тут живешь.
— Здесь народ хороший. Ребятишки послушные и очень понятливые. У меня был частный ученик, когда еще в школе училась, Леня. Так никакого сравнения, И на ликбезе хорошо. Читаем вовсю. — Рассказывая, Нина сняла пальто, шапку.
— Ого, и причесалась по-взрослому, — улыбнулся Петренко.
— А вы похудели. Почему вы не в военной форме? Вы надолго?
— Видишь ли, Ниночко, здесь я как уполномоченный от окружкома партии. А про мою работу говорить не надо — такая уж у меня служба. Медведев мужик понятливый — тоже помолчит. Он тебя хвалил. Говорит, уважает тебя народ. Порадовался я и привез тебе награду — приглашение на совещание ликвидаторов.
Подумать только — ее вызывают на совещание! Она поедет и увидит Виктора. Но вот что плохо: выезжать надо завтра пораньше (совещание открывается в шесть вечера), а Петренко останется с тем, чтобы вечером выехать в Верхне-Лаврушино.
Ужинал Петренко с хозяевами на кухне. Пришел Игнатий. Уселся у порога и задымил цигаркой. Он был трезв и с угрюмой сосредоточенностью слушал разговор об урожае, индустриализации, не встревая в него. «Выжидает», — решила Нина. Так и есть, как только замолчали, он сказал:
— Читал я в газетах, будто конфискации у кулаков подлежит имущество, стало быть, такое: скот, постройки, какой-никакой сельхозинвентарь. Стало быть, государство конфискует? Так я понял?
— Так, — подтвердил Петренко.
— А вчерась другую статейку прочитал. — Игнатии полез за пазуху и вытащил помятый лист. Чуть запинаясь, прочел: «…Пресекать все попытки у отдельных лиц использовать служебное положение для извлечения личных выгод в присвоении кулацкого имущества. Немедленно снимать с работы таких разложенцев…»
— Чего же тут непонятного? — спросил Петренко.
— А то непонятно: как же это получается? Кулаку, значит, богатое хозяйство не дозволено, а ежели ты Советская власть — тебе можно. Может, вы разъясните. Али неправильное у меня понятие?
«Я не знаю, что ему ответить», — подумала Нина.
— Неправильное. Присваивает кулацкое имущество не Советская власть.
— Это как же понимать?
— Вы же читали: отдельные лица используют служебное положение. Отдельные! А Советская власть такие незаконные дела преследует и через газету призывает пресекать такое беззаконие. Да и каждый из вас за такое дело в ответе.
— И я, к примеру, в ответе? — усмехнулся Игнатий. — Сосед грабит, а я отвечай?
— Советская власть — это вам не сосед. Глядите, во все глаза глядите, кого в сельские исполкомы выбираете.
«Ну и нечего тебе возразить», — торжествовала Нина.
Она никогда не видела Степана ни веселым, ни усмешливым, ни озабоченным — он всегда одинаково спокоен. А тут будто человек чем-то удивлен, что-то пытается разгадать. Он заговорил медленно, с расстановочкой, прикидывая каждое слово.
— Я вот не возьму в толк… крестьян, значит, агитировают в коллективы. Сулят — налогу помене, тебе льготы, тебе то, тебе се. Нам, значит, крестьянству, выгода. А государству какая тут выгода?
Игнатий насмешливо хмыкнул.
— Чего понимать-то! Попервоначалу товарищество, потом, глядишь, в артель, опосля в коммуну, а в конце концов — работай на чужого дядю.
— Скажи мне, Игнатий Захарович, только по чистой совести, где ты весной семена берешь? — поинтересовался Петренко.
— Савелий Горлов давал. Кулак, промежду прочим, выручал.
— У тебя хоть какие сельскохозяйственные машины есть?
— Мясо было бы — пельмени делал бы, да муки нет, — засмеялась Мотря как-то по-особому — горлом.
— Не про нас машины! — безнадежно махнул рукой Степан.
— Значит, обратно иди к Савелию кланяйся.
— Значит, так, — со злостью признался Игнатий.
— А потом сам-три отдавай. История известная. Так, что ли?
— Куды денесся.
— А тебе, Игнатий Захарыч, не сдается, что ты и без колхоза на чужого дядю работаешь?
Мотря громко засмеялась.
— Что касается выгоды, — продолжал Петренко, — так я вам тут привез статью, где сказано, сколько за год получают колхозники. Я ее вам потом прочту. А сейчас у меня к вам, мужики, вопрос. Не видели, не зарывал ли хлеб в землю Савелий?
— Ежели и зарыл, — сказал Игнатий, — то искать — все равно что по птичьему следу идти.
— Я осенью гуляла, — сказала Нина, — так случайно видела, как он картошку зарывал. В ящиках.
Степан и Игнатий переглянулись, Мотря протянула:
— Гляди-ка…
Только один Петренко не обратил внимания на ее слова. Он поднялся и, натаивая полушубок, сказал, что пора спать, он пойдет ночевать в школу. Там еще к нему придут мужики, нужно кое с кем побеседовать, а товарищ ликвидатор (он улыбнулся Нине) пусть собирается и часам к шести утра подойдет к школе. Там ее будет ждать подвода. Возможно, ей придется выступать на совещании. Надо подготовить сведения по успеваемости.
Боясь проспать, Нина провела ночь беспокойно. И ровно к шести подошла к школе. Леонтиха счищала снег с крыльца.
— Встал уполномоченный?
— Он, поди-кось, и не спал. Сидит в классе, чегой-то пишет.
Никогда еще Нина не видела Петренко таким озабоченным. Он сказал, что Нина должна знать: Савелий прятал в ящиках не картошку, а, вероятно, оружие. Говорить об этом никому не следует. Не только в деревне, но и дома. Степана и Игнатия он предупредил. Они ведь догадались.
— И Мотря догадалась?
— И Мотря.
«Господи, какая же я наивная дура! — мысленно ужаснулась Нина. — Думала, что о таком только в газетах пишут, а тут под носом!»
— Ты помнишь дорогу к тому месту, где Савелий зарывал ящики?
— Очень хорошо помню: там столько примет, там береза как арка. У самой полянки, где ящики зарыты, — огромный пень. Там еще недалеко крест стоит. Теперь, наверное, много снега нанесло. Я могу пойти и все вам показать. Я все помню.
— Ничего показывать не надо. Возьми листок бумаги и нарисуй-ка мне дорогу со всеми приметами.
На прощанье Петренко сказал:
— Помни, Ниночко, никому ни слова. Тебе, наверное, скажут, если мы найдем оружие. Ты промолчи, будто ничего не знала. Это хорошо, что ты уезжаешь — тебя при этом не было. Ясно? Будь осторожна. Пугать тебя не хочу. Савелий сбежал, а сын здесь где-то прячется. Читала в газете, что селькора убили в Колотушкине? Ну, там народ другой. Но все же одна по улице не ходи…
Она ехала в город в удобной кошевке. На этот раз ее возницей была Ульяна, статная улыбчивая женщина лет сорока. Она подергивала вожжами и что-то тихонько сквозь зубы напевала.
Чем ближе к городу, тем тише тревога. Ничто не мешало думать о Викторе, пыталась представить встречу с ним. Падал тихий снежок. Темный лес безмолвно принимал на свои плечи снежную заметь. Гудели провода — звали в город.
Лошадь сытая, а зимняя дорога по ледяной реке сократила долгий путь. Добрались до города, когда начало смеркаться. Душа Нины вбирала с детства привычный мир: золотые луковицы — купола церквей, двухэтажные дома, подсвеченные изнутри разноцветными абажурами. Вот и ворота, из которых она вырвалась в самостоятельную жизнь. Въехали в широкий двор, такой просторный после деревенских дворов. Нина, улыбаясь, кивнула роще, серой громадой теснившейся за забором. Прыгая через ступеньку, взбежала на крыльцо с навесом, лежащим на витых столбиках.
Дома гости за праздничным обедом: бабушка и тетя Дунечка. Все вышли в коридор. Нина переходила из объятий в объятия.
— Деревенский воздух пошел тебе на пользу, — отметила бабушка.
Ульяна сообщила, что поедет к своим сродственникам.
Оказалось, что совещание переносится на понедельник. Тем лучше — можно сегодня же сходить к Виктору в депо…
Депо на другом конце города. Нина села в промерзший, набитый пассажирами автобус. Он вздрагивал на ухабах, и казалось, вот-вот перевернется.
Постепенно автобус пустел. А вдруг Виктора нет в депо? Но писал же он: «Работаем без выходных». Наконец-то Виктор увидит ее прилично одетой. На ногах у нее не старые, подшитые пимы, а новенькие, маленькие, их купила мама на Нинины деньги. Мама приготовила ей кучу обновок: пальто (из старого маминого) с роскошным воротником из маминой пушистой муфты (рысь), из каких-то старых кротовых манжет мама сшила ей шапочку.
Долго плутала, шагая через рельсы мимо обшарпанных вагонов, деревянных бараков, пока отыскала депо. Грохот, лязг. Совсем рядом гудки паровозов. Пробиралась по огромному депо, косясь на застывший паровоз. Прежде Нина видела паровозы «живые», они сыпали искры, весело пыхтели, выпуская клубы пара.
— Гражданочка, вы куда?
Нина оглянулась — прямо на нее чумазый парень (только белки глаз да зубы сверкали белизной) катил тачку. Нина поспешно отскочила.
— Вы не знаете, как пройти в слесарную мастерскую?
Парень (кепка назад козырьком) оглядел Нину и утвердительно сказал:
— Из окружкома комсомола. Идите за мной.
Посредине цеха красное полотнище, а на нем огромными буквами: «Даешь трактор деревне!» Ясно, что именно здесь работает Виктор. Чумазого окружили рабочие. Все молодежь. Они, кажется, за что-то его ругали. К Нине подошел высокий худощавый парень и, строго приподняв белесые брови, спросил:
— А вам, товарищ, по какому вопросу нужен Зорин?
— Нам надо поговорить, — неуверенно произнесла Нина.
Из-за станка высунулся круглолицый парнишка.
— Вам Зорина? Тут он, на верстаке, спит.
Спит? Да, он спал на верстаке, подложив под голову полено и накрывшись кожаной тужуркой. Нина обернулась. Парни во все глаза смотрели на нее.
— Скажите: он болен?
Парни переглянулись. Чумазый теперь уж с сомнением спросил:
— Так вы не из окружкома?
Нина отрицательно качнула головой. Кажется, чумазый обрадовался, что она не из окружкома, и, переходя на «ты», сказал:
— Понимаешь, он две ночи не спал. Случай тут у нас был. Ну, братва уговорила его малость поспать, — и с сожалением добавил: — Всего часа два как лег. Охота, чтобы выспался. Разбудить?
Ах, как им всем хотелось, чтобы Виктор выспался! В то же время им любопытно: кто же она такая? Это тоже видно по их глазам.
— Нет, пусть спит. Я ему записку оставлю. Есть у кого-нибудь бумага и карандаш?
И то и другое появилось тотчас. Нина написала: «Витя, я приехала на совещание. Приходи вечером. Буду ждать. Нина».
Попрощалась со всеми за руку. И снова холодное железо, безмолвный паровоз, а где-то за стенами депо — гудки «живых» паровозов.
Виктор догнал ее, когда выходила из депо. Улыбаясь, еще заспанным голосом сказал:
— Ты на них не обижайся, они прочитали твою записку и, видишь, решили разбудить.
Как только вышли из депо, Виктор обнял ее и поцеловал. Оба засмеялись и, взявшись за руки, побежали к автобусной остановке.
В автобусе, кажется, не так уж бесприютно. И даже весело. На ухабах Виктор поддерживал ее. Они сидели на последней скамейке. Виктор снял с Нины рукавички и взял ее руки в свои. «Теперь не замерзнут». Было хорошо и совсем не нужны слова. В центре сошли с автобуса. Слабо освещенные улочки дремали. Валил густой снег. На перекрестках, где горели фонари, снег искрился. Незаметно очутились около студенческой столовки.
— Жаль, что закрыта, — сказал Виктор. — У меня есть два талона. Жрать охота.
«Позвать его к себе? Нет, дома Африкан».
— Отсюда недалеко живет моя бабушка, пойдем к ней, — предложила Нина, — у нее поедим.
Упрашивать Виктора не потребовалось.
Бабушка жила в небольшом одноэтажном домике. Окна ее комнаты освещены. Значит, не спит. «Лучше бы спала. Коля-то ничего. Разве только начнет усмехаться. А вот бабушка… Возьмет и скажет при Викторе: „Это что еще за наглость заявляться так поздно?“ Что, если сначала одной зайти? Подготовить… А он будет на улице ждать? Догадается. Нет, так не годится… Отступать поздно».
Постучала в окно. Открыла бабушка. В тесном коридорчике Нина лепетала что-то маловразумительное. Шли из депо. Замерзли. Решили зайти…
— Обметайте ноги, раздевайтесь и проходите, — тоном, в котором быди и недовольство и выговор, сказала бабушка. Повернулась и ушла в комнату.
Нина боялась взглянуть на Виктора. Он шепнул:
— Давай удерем.
— Неудобно. Раздевайся.
Да, одет Виктор не ахти как: гимнастерка засаленная, брюки в мазуте, на коленях грубые заплаты. Ну и пусть.
Бабушка появилась в дверях. Может, она надеялась, что они уйдут. Они, конечно, сразу же уйдут, но Виктор должен сначала поесть.
— Бабушка, познакомься — это Виктор Зорин.
Пренебрегая правилами хорошего тона, Виктор первый протянул руку.
— Проходите, — все так же вежливо и сухо проговорила бабушка и прошла в комнату, служившую одновременно ей спальней и столовой.
— Коля дома?
— Нет, они с Лелей в кои-то веки выбрались в театр, — бабушка села к столу и принялась за пасьянс.
— Гадаете? — спросил Виктор.
«О господи! Это бабушка-то гадает! Кажется, все-таки не надо было его сюда приводить».
— Нет, это пасьянс. Такая игра с самим собой.
— Как в шахматы играешь сам с собой. Неинтересно.
Бабушка встала и молча направилась в кухню.
— А ну ее, эту шамовку! Пошли, — тоскливо проговорил Виктор.
«Значит, он все время об еде думает».
— Ладно. Подожди. Я сейчас, — Нина помчалась в кухню. «Я все сейчас ей выскажу». Что «все», Нина не успела додумать.
Бабушка подкидывала угли в самовар.
— Что это за поздний визит? Что за манера, глядя на ночь, приводить в дом посторонних?
Глупо было ожидать другого. Конечно, только выговор. Нина молчала всего несколько секунд, а потом сорвалась… За что бабушка презирает Виктора? Что он рабочий и на нем замасленная одежда? Мысленно одернула себя: «Что я говорю? При чем здесь „презрение“?» Но ее несло. Виктор двое суток не выходил из депо. Они тракторы собирают в нерабочее время. Их никто не просил. Они сами. Он спал на верстаке. Она видела собственными глазами. Голодный. А столовка закрыта. Если бы не Африкан, она повела бы его домой. Но боится Африкана, он такое скажет, что гостю кусок в горло не полезет.
Замолчала. Когда она успела схватить полотенце и так его скомкать? Теперь оставалось одно — уйти.
— Мы пойдем.
Бабушка взяла у нее из рук полотенце и тоном, не терпящим возражений, произнесла:
— Попьете чаю и пойдете. Не к чему горячку пороть.
Бабушка пошла в комнату, Нина — за ней. Странно: Виктор исчез. Неужели ушел? Бежать за ним! Догнать!
Но бабушка, глянув на открытую дверь в Колину спальню, сразу все поняла: Виктор стоял у кроватки маленького Кольки. Зорин оглянулся и виновато проговорил:
— Он сильно кричал. Не могу терпеть, когда они так… Я ему соску сунул, он и замолчал. Такой клоп, а понимает. — Проследив за бабушкиным взглядом, пояснил: — Вы не смотрите, что руки у меня черные, это от мазута. Я их мыл, — кивнув на Кольку, добавил: — Вы его маком, чтобы спал, не поите. Вредно.
Давать бабушке советы! Нина испуганно глянула на бабушку. Маленький Колька бабушкин кумир, и гигиена тут на равных правах с богом. Удивилась, услышав оттаявший бабушкин голос:
— Маком я не пою. А откуда вы знаете, что этого нельзя делать?
— У хозяев есть вот такой же. Так докторша их ругала за это дело.
Нина еле сдержалась, чтобы не фыркнуть. Если бы даже Виктор старался расположить к себе бабушку, то и тогда он не смог ничего лучше придумать.
— Ступайте в ту комнату. Я переверну Колюшку и тогда напою вас чаем.
Нина осторожно прикрыла за собой дверь.
— Ну и мозоли у тебя! — сказала она, беря его руку в свои.
— До свадьбы заживут. До нашей с тобой свадьбы.
«Я ужасно счастливая, и у меня, наверное, ужасно глупое лицо».
— Ты что улыбаешься?
— А ты?
Вошла бабушка.
— Вы любите пельмени?
Виктор пожал плечами.
— Я позабыл, когда их ел. Наверное, когда еще бабушка была.
Нина чересчур (она только потом это сообразила) радостным голосом сообщила:
— Витю тоже бабушка воспитывала. Только она умерла.
Лицо бабушки смягчилось.
— Пойди свари пельмени, — сказала она Нине, — возьмешь в кладовке на дощечке.
Нина помчалась в кухню, чуть стул не сшибла. Когда она вернулась, бабушка рассказывала Виктору о Дальнем Востоке, а он дотошно ее выспрашивал и называл бабушку — бабушкой. Вот этого-то она терпеть не могла. Все, даже Варя, называли ее только Екатериной Петровной. А тут — ничего. Терпит.
На улице Виктор признался:
— Понимаешь: я сначала перепугался. Ну, думаю, влип! Когда вы ушли, решил — удеру. Подожду тебя на улице… А тут мальчонка заорал…
— И хорошо, что заорал, — засмеялась Нина. — Бабушка только кажется такой — ну, злой, а она добрая. Маленькая я этого не понимала.
— Про Дальний Восток она здорово рассказывала. Дед твой, оказывается, портартуровец.
— Да.
— Это его портрет — в эполетах, с бородой?
— Да.
— Погоди! Выходит, ты «благородного» происхождения?
Что-то в ней сжалось. Охватило ощущение вины.
— Я не выбирала себе родителей, — сказала и тут же устыдилась: это походило на предательство по отношению к маме, бабушке… — Ты не думай, я от них не отказываюсь. Декабристы тоже были дворяне, Толстой даже граф… Если, если… тебе неудобно со мной… — противно задрожал голос, и Нина замолчала.
Виктор, наверное, все понял, он обнял и поцеловал ее в глаза.
— Дурочка ты.
…Вечером, расчесывая на ночь перед зеркалом косы, Нина старалась представить лицо Виктора: его чуть вздернутый нос, золотую копну на голове, выпуклый подбородок. Закрыла глаза и повторила про себя его слова: «Когда хочу тебя представить, всегда закрываю глаза и вижу как живую».
— Нина, я тебе говорю, а ты не слушаешь, — с досадой сказала Натка. — Ты влюблена! Сознайся, влюблена?
Нина молча кивнула.
— Это в того, про которого ты писала? Да? В золотоволосого? — допытывалась Натка.
Сестры легли и погасили свет. Самое подходящее время для душевных излияний.
— Ты где была?
— Представь: у бабушки.
— А я думала, ты на свидание ходила.
— Я и ходила на свидание. Мы вместе с ним были у бабушки.
— Ужас! Она вас не вытурила?
— Нет. Знаешь, Виктор необыкновенный.
— Ну, теперь рассказывай все подробно, — потребовала Натка. — Он тебе объяснялся в любви?
— Я сейчас не могу рассказывать. Ты не сердись. Потом когда-нибудь. Ладно?
— Ты стала очень скрытная.
— Знаешь, я, наверное, так привыкла… в деревне…
Зато у Натки миллион новостей.
— Во-первых, Африкан полностью — ты заметила? — меня игнорирует. Но я на него чихала. Моя настоящая жизнь проходит в школе. В группе у нас много несознательного элемента. Недобитые нэпманчики. Организовали оппозицию, стали выпускать подпольный журнал. Назвали его «Черный кот», собезьянничали с вузовских «черных котов». Девиз у них — «мы вне программы». Представляешь: к ним переметнулись и две комсомолки — ну, явное сползание с классовых рельсов. Мы провели комсомольское собрание, повесили лозунг «Не позволим срастаться с мелкобуржуазной стихией». А одна девчонка после этого собрания подходит и говорит: «Камышина, можно тебя на одну минуточку?» Мы отошли с ней в угол, а она так зло говорит мне: «А сама-то ты какого социального происхождения? Если, — говорит, — хочешь, мы напомним». Представляешь? Ну что ты молчишь? Разве я виновата? Ведь я отца и не помню. Что же ты? Может, эта девчонка права и я недостойна быть в комсомоле? Как ты считаешь?
— Считаю, что ты говоришь глупости. Петренко сказал, что дело не в том, в какой хате ты родился, то есть какого ты происхождения, а главное то, какую ты пользу народу принесешь.
Сестры замолчали. Неизвестно, какие мысли одолевали Натку, но, видно, беспокойные — она ворочалась, вздыхала.
— Ты спишь? — спросила Натка. — Я приняла решение. Сказать?
— Скажи, — улыбнулась Нина.
Бабушка всегда говорила, что у Натки «семь пятниц на одной неделе».
— Я твердо решила — кончу семилетку и пойду работать на производство, буду врастать в рабочий класс. Я сама, собственными руками заработаю себе социальное положение.
— Только ради этого?
— Не только. Я говорю: буду собственными руками строить социализм.
Интересно! Натку тревожат те же мысли, что прежде так волновали и ее, Нину. Только Натка молодец. Решительнее. Не впадает в отчаяние из-за дураков. А самое главное, добилась своего — комсомолка!
…Совещание разочаровало Нину. Но чего, собственно, она ожидала? Что в докладе заведующий окрнаробразом не только будет ругать ликвидаторов неграмотности за плохую посещаемость, а назовет и тех, у кого хорошая посещаемость? «У товарища Камышиной стопроцентная посещаемость». Неужели она честолюбива? Просто любит справедливость. Глупости, ей еще нечем хвалиться. Она не организовала ячейки ОДН — Общества «Долой неграмотность!» — и СВБ — «Союза воинствующих безбожников». Могла бы, кажется, как другие, додуматься поставить платный спектакль, а средства сдать в фонд ячейки ОДН…
О совещании она забыла, еще не успев сбежать с лестницы. Самое важное сейчас свидание с Виктором.
Уговорила Натку уйти к Юле. «Знаешь, у нас единственный вечер, когда мы сможем побыть вдвоем».
— Заметано, — сказала Натка, — сегодня репетиция «Синей блузы», я — ведущая. После репетиции пойду к Юльке ночевать. Тебе повезло — у нашей бухгалтерии годовой отчет. Мамахен и отчимахен явятся не раньше двенадцати. Я выпытала.
Натка и Юля, рискуя опоздать на репетицию, все же дождались прихода, как выразилась Юля, «Ниночкиного хорошего знакомого».
Уходя, Натка шепнула Нине: «Я думала, что какой-нибудь шкет, а он, оказывается, симпатяга. На ять парнишечка!»
Нина подумала: «Надо поговорить с ней, чтобы не корежила русский язык».
Виктор был чем-то озабочен.
Как только они остались вдвоем, сообщил: уезжает на два месяца. Посылает его окружком ВКП(б). Задание ответственное. Плохо с хлебом. Кулачье устраивает хлебные забастовки. Хлеб нужен не только городам, но и стройкам. Придется организовать красные обозы. Надо торопиться. Ведь в марте дороги ханут (в Лаврушине мужики тоже говорят «дорога ханет»). Уезжает он завтра утром на рассвете.
— По крайней мере, не обидно — ты ведь тоже завтра уезжаешь, — сказал Виктор и, поглядев на часы, добавил: — К девяти меня вызывают в окружком. Выйду в половине девятого — туда нельзя опаздывать. За полчаса добегу.
Значит, им вместе быть всего два с половиной часа. Немного. Почему у них всегда так мало времени? Надо торопиться. Он сегодня, пусть хоть и ненадолго, ее гость. Прежде всего надо гостя накормить. Ужинать накрыла в столовой. Виктор зачем-то пощупал бархатную скатерть, осторожно потрогал фарфоровую статуэтку — японку с веером и с каким-то мальчишеским восторгом сказал:
— Вот это мадамочка! — Походил по столовой, качнул причудливый абажур — китайский фонарь и неожиданно заявил: — Пошли-ка к тебе в комнату, а то у меня от этого мещанского уюта в голове вихри враждебные.
— Это все его — Нина пнула ногой ни в чем не повинный овальный стол. — Приданое отчима.
— Это твоя койка? — спросил Виктор, когда они вошли в комнату сестер.
— Моя, а как ты угадал?
— По портрету Лермонтова.
И неожиданно они чуть не поссорились. Разглядывая ее книги, он наткнулся на томик Есенина. Виктор с яростью напал на Есенина. Разве это поэт?! Разве такие стихи помогают строить социализм?!
— Маяковский — поэт! Это да! Он бьет в набат! Крушит всякую гниль. Ты не согласна?
— Не согласна. И Есенин нужен.
— Какое у него идейное содержание? Чему он учит?
— Учит любить природу. Учит любить Русь.
— Какую Русь? Избы и иконы?!
Нину поразил насмешливый тон Виктора. Неужели и он вроде Королькова?
— Ты послушай:
— Я не все тебе прочитала, — сказала Нина, — только отрывки. Хочешь взять с собой Есенина? Наверное, и знаешь-то всего «Ты жива еще, моя старушка…» Это все знают, потому что поют.
Виктор слушал, сидя верхом на стуле. Он как-то странно, похоже, что восторженно, смотрел на нее.
— А ты умеешь свое мнение отстаивать, — сказал он. — Терпеть не могу, когда люди сразу соглашаются.
— Я не всегда умею отстаивать, — краснея от удовольствия, что он ее похвалил, и хмурясь, что пора признаваться в не очень-то лестном для себя. — Знаешь, на последнем школьном собрании нам давали характеристики, и вот один ученик…
Он слушал Нину, не сводя с нее глаз. А потом напал на нее.
— Почему ты не защищалась? Из гордости? Выходит, ты ставишь себя выше своих товарищей. Почему не сказала, что дала слово сестре… Они бы поняли…
— А ты… ты бы мог? — у нее задрожал подбородок, и, чтобы унять эту дрожь, она прижала к нему ладонь. — Ты бы мог душу вывернуть перед всеми?.. Перед этим Корольковым? Ведь это не только мое было, но и Катино…
Он раздумывал, опустив голову.
— Не знаю… Может, и не смог.
Только сейчас она перевела дыхание.
Часы в столовой били с механической безликостью.
Они вместе сосчитали.
— Осталось полчаса, — сказала она и не удержалась от упрека, — а я-то думала, что мы хоть один вечер вместе побудем. Наши придут поздно…
Нина сидела в старом, помнившем Нину-девочку кресле и с ожесточением выдирала из подлокотников серую, клочкастую вату.
Виктор пробежался из угла в угол и остановился посреди комнаты, обеими руками ероша волосы.
— Понимаешь, так получилось.
— А трактор? — она ухватилась за этот трактор как за спасение. — Без тебя смогут сделать?
— Смогут. Думаешь, мне охота сейчас уходить? Но ведь у нас еще столько вечеров с тобой будет. — Он подошел, присел на ручку кресла. Обнял.
Ветер, словно не желая нарушать тишины, легонько трогал печную вьюшку.
Повосторгавшись обновками: «Пимки-то куды с добром!» — Мотря, тараща большущие глаза, принялась выкладывать новости:
— Вы, Нин Николавна, будто утром отбыли, а тот же день, только к ночи, милиция понаехала. Болтают — оружие из лесу вывезли. Хошь Степана спросите, не даст соврать. Сперва-то грешили на вашего гостя, опосля удостоверились, что тот вечер он собрание в Верхне-Лаврушине проводил. — Оглянувшись на дверь, Мотря снизила голос до шепота: — Дознались ведь, Нин Николавна, чье оружие-то.
— Чье? — спросила Нина, а у самой мурашки по спине.
— Правда ли, неправда, а показали на Савелия Горлова. Пошли к нему, а его и след простыл. Агафья-то, жена его, сказала, будто ушел на охоту. А какая там охота! Слыхала я от ихней кумы, будто он на Васюганские болота подался. Видать, не зря волк в лес побег.
Известие напугало Нину. Про такое пишут в газетах. Но нельзя малодушничать. Надо заняться общественной работой. Когда расставались, Виктор сказал ей: «Нажимай на молодежь! Для каждого активиста молодежь — опора в деревне».
И теперь Нина попыталась сблизиться с чуравшимися ее сверстницами. По воскресеньям стала их приглашать к себе, читала им вслух. Девки шушукались, откровенно зевали, одна даже всхрапнула. В следующее воскресенье никто не пришел.
Заметив, что Нина то и дело выбегает во двор посмотреть, не идет ли кто, Никитична сказала:
— Понапрасну ждешь. Им книжки без надобности. Однако, сало жмут на посиделках.
— Я пойду на посиделки, — заявила Нина. — Мотря, где сегодня посиделки?
— И не думай и не мысли, — запротестовала Никитична, — там столь похабства! Не про тебя то.
— Забыла, как сама-то на посиделки бегала, — прошипела Мотря. Одной рукой она ловко выхватывала из пряжи маленький клочок, а другой — с непостижимой скоростью крутила веретено. Последнее время Мотря не ладила со свекровью. Никитична, жалея Акулину и внучат, то снесет им свежих калачей, то сунет туесок меду, а недавно оттащила Игнатию телячью ляжку. В тот вечер Мотря жаловалась Нине: «Мы со Степаном чертомелем допоздна, а свекруха лучший кусочек Игнашке припасает. Мы на него спину гнуть не нанимались. Ирод-то пропил ее гостинчик».
И сейчас она не упустила случая поругаться со свекровью.
— Вам-то, оно, конешно, только бы на печке спину греть, а Нин Николавна, поди, молодая, не все ей книжку читать!
— Это я-то на печке лежу! — рассвирепела Никитична. — Да побойся бога…
Тихая Никитична расшвыривала ухваты. Мотря стучала прялкой об пол. Ребятишки, свесив белобрысые головы с полатей, ревели в два голоса. Нина притаилась в своей горенке, и не рада, что затеяла разговор.
Через полчаса к ней заглянула Мотря — в новом полушалке и новой в оборках юбке.
— Нин Николавна, айдате на посиделки, — весело, как ни в чем не бывало, позвала Мотря. — В нашей деревне учительши постарше вас были, а завсегда на посиделки ходили.
По дороге она рассказала: посиделки устраивают обычно у вдовы Миронихи, платят ей кто чем может. Баба она непутевая. Всем ясно, как божий день, что Мирониха гонит самогонку. Приезжал милиционер не раз. Переночевал у нее и по начальству доложил: дескать, аппарата не нашел.
— Наш Игнатий тоже к ней похаживает, — сообщила Мотря, — лонись моего Степана к ней повел. Так мне бабы передали, я туда. Миронихе так рожу поцарапала, однако, месяц на люди не показывалась.
— Что, Мирониха такая уж красавица? — поинтересовалась Нина.
— Толстая, — вздохнула Мотря, — а мужикам чё и надо. Каво ей не быть гладкой — ни детей, ни плетей. Сама себе барыня.
Мирониха, красномордая, дородная бабища, увидев Мотрю с Ниной, перекривилась. Но сладко, тонким для ее туши голосом запела:
— Вот не ждала, не гадала. Спасибочко, что не потребовали. Ужо извиняйте за наше убранство. Проходьте в передний угол — дорогим гостям завсегда дорогое место.
Мотря многозначительно подталкивала Нину локтем под бок.
— Может, бражки откушаете? — предложила Мирониха и, не дожидаясь ответа, принялась разливать из четверти в граненые стаканы золотистый пенный напиток. — Для важных гостей держу, — пела Мирониха, — не подумайте чего плохого. Хмельного тут с наперсток. Вот парни с девками собрались, дело молодое, конешно. Сочувствие надо иметь. Народного-то дома у нас нету. Да и куды денесся — дело вдовье. Мне избы не жалко.
— Без вас, Нин Николавна, — зашептала Мотря, — Мирониха меня наладила бы отцедова будь здоров! — Кажется, Мотря наслаждалась местью: смакуя каждый глоток, тянула бражку.
Хлопнув себя крутым, могучим бедрам, Мирониха объявила, что «надоть по хозяйству управиться», и вышла, сильно стукнув дверью.
Вдоль стен большой и чистой избы — крашеные широкие лавки. Девушки сидят отдельно, парни отдельно. Щелкают орехи, перебрасываются шуточками. Все чинно, благородно. Серега-гармонист, красивый, чубатый парень, слегка трогает лады гармони. Почти все Нинины ученики. В первый момент их смутило ее появление. Вежливо поздоровались и либо притворялись, либо в самом деле тотчас же забыли о ней. Нина сидела с застывшей неестественной улыбкой, даже скулы ломило от этой идиотской улыбки.
Парни по очереди стали куда-то исчезать. Возвращались с красными лицами, заметно навеселе.
— Видать, в открытую-то Мирониха не смеет, — шепнула Мотря. — Где-нибудь в сенцах или в амбарушке подносит парням самогон. Не зазря, конешным делом, задарма она и не плюнет.
Постепенно веселье налаживалось. Пригнув голову к мехам, гармонист наяривал частушки. Девки вытолкнули па круг Надьку. Она пожеманилась для интересу и пошла по кругу, выстукивая дробь коваными сапогами на высоком подборе. Приятным голоском Надька пропела:
Надьку сменила чернявая Фроська, ни капли не смущаясь разношенных сапожишек, она старательно выбивала дробь:
Девки выходили одна за другой на круг и, выбивая ногами немыслимую дробь, выкрикивали частушки с каждым разом хлестче и хлестче. Нина почувствовала, как у нее горят уши. Вот оно, «похабство», про которое говорила Никитична. «С ними необходимо поговорить. Как не стыдно! Ведь девушки!» Покосилась на Мотрю — улыбается. Привыкла, наверное. Казалось, что про свою учительницу все забыли. Но вот один парень похабно выругался, и Кольша крикнул парню:
— Эй, ты! Прикуси свое жало!
— А ты что за начальник!
Где-то она видела этого длиннорукого и длинноногого парня, но где, не могла вспомнить. На ликбез он не ходил. Кольша показал длиннорукому увесистый кулак: «Этого не хотишь?» — и тот утихомирился.
Парни все чаще покидали избу, а возвратясь, садились к своим симпатиям на колени. Они не очень-то церемонились. Девки взвизгивали…
Больше Нина выдержать не могла, шепнув Мотре: «Пошли», первая стала пробираться к выходу. Они прошли через сенцы, где парни, матерясь, пили самогон.
На улице с наслаждением втянула в себя колючий, морозный воздух. Тишь в деревне. Только слышно, как гудит тайга. Вспомнила, что по ночам на поскотину забредают голодные волки, и что-то медленно стало стынуть у нее в груди. Все бросить. Уехать домой… Но как потом смотреть в глаза Петренко? Барышня заскучала в деревне!
Снова сиди весь вечер одна в горенке. Сиди и кукуй. Нина забралась в кровать, подвинула табуретку поближе и поставила на нее лампу. Самое отрадное — взяться за письмо Виктору, но только утром отправила ему длиннющее послание. Давно не писала Петренко. Но что ему написать? Как сегодня парни и девки веселились на посиделках, а она, Нина, им мешала?
Потушила лампу, укрылась с головой одеялом, чтобы скорее согреться и заснуть. Трудно иногда заснуть. А что, если поставить в Лаврушине спектакль? Ведь решила это еще на совещании и забыла! Тогда не станут ходить на посиделки и глушить самогон. Но где взять пьесу? Натка жаловалась, что мало хороших пьес «из советской жизни». Здесь же пьеса нужна про деревню — тогда всех заинтересуешь. Пьесу она напишет сама. Подумаешь, сложно! Ведь одни разговоры. Нечего откладывать в долгий ящик. Пьесу она напишет сегодня же, хоть до утра просидит, а напишет. Навьючила на себя все теплое, что было, и уселась к столу.
Полагала, что к утру с пьесой разделается. Но придумала только сюжет: кулак свою дочку-красавицу хочет насильно отдать замуж за кулацкого сына. Но в дочку кулака влюбляется бедняк. У бедняка мать умирает — надорвалась, работая на кулачье. Кулак выталкивает бедняка, когда тот приходит сватать любимую девушку. Но в конце концов добро побеждает, зло наказано. На следующий вечер начала писать — это оказалось куда труднее. И снова легла под утро. Так повторилось и на третью ночь. Порой наваливалось великое искушение прилечь хоть на десять минут, но боялась проспать до утра.
На четвертые сутки не выдержала: во время занятий присела на подоконник и задремала. Разбудил ее смех.
Кольша, набросив на плечи полушалок, изображал кого-то у доски. Он поправил воображаемую прическу и, склонив голову набок, тонким голосом со знакомыми интонациями сказал:
— Прошу списывать с доски внимательно, без ошибок. — От дружно грянувшего хохота замигала лампа. Смеялась со всеми и Нина.
— Нам необходимо подготовить спектакль, — объявила она. — Кто хочет играть на сцене, пусть останется.
Ушли немногие. Оказалось, сначала нужно было объяснить, что такое спектакль и как это «играть на сцене». Лаврушинцы отродясь не видели ни одного спектакля, ни одной кинокартины. Остались они из любопытства. Нину это обстоятельство не смутило, пренебрегала она и тем, что пьеса не дописана. Пересказала, импровизируя на ходу, сюжет.
Замолчала и услышала, как за печкой бренькает сверчок. Ну хоть бы кто-нибудь слово сказал! Не понравилось им, что ли? Выручила Мотря — сердито тараща глаза, сказала:
— Пиеска куды с добром. Меня-то в Лаврушино сосватали из другой деревни. Так у нас завсегда с городу со спектаклей наезжали.
— А знатно кулацкого сына поперли из женихов, — заметил одобрительно Кольша.
Тут же распределили роли. Кольша пожелал играть кулака, Надька — невесту. Для Ваньши пришлось срочно выдумать роль — он никак не хотел отставать от брата. Беспокоило одно: как артисты выучат роли — они же с трудом по слогам читают. Но оказалось, что роли они выучили с Нининых слов чуть ли не на первой репетиции.
Артисты важничали, соблюдали таинственность, выставляли за дверь посторонних. Только Мотре, как Нининой хозяйке, разрешалось присутствовать на репетициях. Больше всего Нина маялась с исполнительницей роли матери бедняка Груней Кожиной. Среднего росточка, бледнолицая Груня стеснялась, хихикала в кулак в самые неподходящие моменты. И однажды, когда раз Нина пришла совсем в отчаяние, поднялась Мотря. Подойдя к примостившейся на скамейке осовелой Груне, Мотря властно сказала:
— Гляди, как надо. — Повязав голову полушалком, Мотря неожиданно у всех на глазах преобразилась: уголки большого рта страдальчески опустились, на лбу собрались морщины, даже ее яркие глаза как будто потускнели. Тихо, с придыханием Мотря заговорила:
— Послухай ты меня, сыночек родименький, не по себе ты дерево рубишь, — Мотря закрыла лицо концом полушалка и неожиданно запричитала: — Изведут они тебя, окаянные! На кого ты меня, горемычную, спокинешь?
Нина пришла в восторг — это же талант, настоящий самородок! Тем более, что в пьесе таких слов не было — Мотря «от себя» их выдала. Все наперебой принялись уговаривать Мотрю участвовать в спектакле. Мотря, соблюдая приличие, поотказывалась и согласилась.
Дома разыгралась буря. Никитична кричала:
— Где же это видано, чтобы баба вместе с девками и парнями на игрищах выкамаривала!
— А теперича не старый прижим, чтобы баба никуды не ходила! — кричала свекрови Мотря.
— Мужик бы пошел — туды-сюды, а то баба со двора бегает, — не унималась Никитична.
— Равноправия, — всхлипнула Мотря.
Нина попыталась урезонить Никитичну.
— Это же общественная нагрузка.
— Вон ейная нагрузка, — указала Никитична на притихших ребят.
Подал с печи голос и дед-молчальник:
— В ранешнее-то время заголили бы ж… да розгами наддали б, тады знала б, как со двора по шпектаклям бегать.
Мотря в голос рыдала.
Нина обратилась: за помощью к Степану, он молча ковырял шилом хомут.
— Степан Захарович, вы же уполномоченный сельсовета, а мы проводим политпросветработу. Разве вам все равно, куда пойдет молодежь: к Миронихе или к нам на спектакль?
Тугодум Степан долго не отвечал. Мотря, притихнув, сверлила его глазищами. Наконец он заговорил:
— А вы, Нин Николавна, заместо Мотри девку поставьте.
— В том-то и дело, что невозможно заменить Мотрю, она играет лучше всех! Без нее и спектакль не получится. Я в рик написала, — покривила душой Нина, — что это по вашему предложению мы решили ставить спектакль.
Кажется, последний довод подействовал на Степана, и он милостиво разрешил Мотре играть. Нина дала себе слово сегодня же написать Степанчикову.
Настал день спектакля. Подмостки соорудили, сдвинув столы, сшили из половиков занавес, отделив им «сцену» от «зрительного зала». Нашелся грим: уголь, свекла — румяна, мука — пудра. Из пакли сделали усы и бороды.
Зрителей набралось — стоять негде. Кольша слегка переигрывал, нес отсебятину. Но публика была в восторге. «Ей, Кольша! — орали зрители. — Пузу не потеряй». Невеста Надя, оробев, еле выдавливала слова. Но снисходительные зрители громко ей сочувствовали: «Словечка-то, бедной, молвить не под силу». Больше всего успеха досталось на долю Мотри. Бабы вытирали глаза. Но самое удивительное — Мотря голосила, а по вымазанному лицу текли самые настоящие слезы.
Не обошлось и без небольшого курьеза: когда кулак Кольша стал выгонять жениха Серегу Лаврушина, Серегин товарищ, сидевший в первом ряду, одним махом взлетел на сцену с криком «Бей его, холеру!». Самое занятное заключалось в том, что публика решила — так и следует по ходу действия.
После спектакля бабы окружили Нину.
— Завсегда бы так.
— Помене бы хану пили!
— Не будут хоть последнее Миронихе тянуть!
На другое утро Нина написала Петренко: «…ко мне здесь все относятся прекрасно. Я почувствовала это после спектакля. А пьесу я сочинила сама…»
В нос шибанул тяжелый воздух. Нина испугалась, что ее вырвет. Как ужасно живет Игнатий! Тесно, темно. На печке трое ребятишек, в люльке маленький. Трехгодовалый Игнатка хрипит на лавке.
За Ниной с плачем пришла Акулина.
— Мальчонке недужится, видать, глотка болит. Может, че знаешь, Николавна.
— Я же не доктор, — попыталась отказаться Нина.
— Все же таки образованная. Пойдем, ради Христа.
И вот Нина застыла в нерешительности перед Игнаткой.
— Где у тебя болит? — спросила она, стараясь припомнить, что в таких случаях делал доктор Аксенов. — Дайте маленькую ложечку. Ах, у вас нет маленькой ложечки, так я сейчас принесу.
Она обрадовалась возможности хоть ненадолго оттянуть осмотр ребенка. Вспомнила, что доктор Аксенов всегда носил в карманах конфеты в ярких обертках. Конфет у нее не было, прихватила кусок сахару и пряник. Маленький Игнатка отбивался руками и ногами, но за кусок сахара согласился показать горло. Да, конечно, у него ангина (сколько раз сама мучилась). Приготовила полосканье из соли и соды — все, что им когда-то делал Аксенов.
— Погляди у Гришатки голову, Николавна, сдается мне, что лишай у него, — попросила плачущим голосом Акулина.
Гришатка, рыжий, весь в отца, деловито осведомился:
— Сахар дашь? — И, поковыряв в носу, объявил: — И пряник.
— Век буду молить за твое здоровье, — тянула Акулина.
Выручила память: когда-то бабушка лечила Степанидиных ребятишек, именно лишаи лечила. И Нина не очень уверенно произнесла:
— Знаете, иногда помогает клюква.
Акулина обрадовалась и тут же притащила клюкву.
— Вот делайте так, — поучала Нина, раздавливая ватным тампоном на арбузообразной голове Гришатки клюкву.
Вечером Мотря не без ехидства сообщила, что свекруха сама лечила горло Игнатки, смазав его керосином.
Неизвестно отчего, но горло у Игнатки скоро зажило. Каждый день, пробежав босиком по снегу, Игнатка являлся к Нине и требовал пряник, и тут же поспешно разевал рот. Дескать, смотри, не жалко.
Но лишай явно вылечила Нина. Акулина по всей деревне разнесла славу: «Не хуже докторов лечит». К Нине стали приходить за помощью: кто просил «подсобить от изжоги», кто «каплев от живота». Пришлось попросить у мамы лекарств. Та беспокоилась: «Наживешь еще себе неприятности. Не вздумай серьезные болезни лечить. Лекарства с оказией пошлю.»
…Нина на коромысле несла воду, когда увидела Игнатия. Проулок безлюдный — ясно, что он нарочно ее здесь подкараулил. Низко поклонился и, опустив голову, проговорил:
— Нина Николавна, не серчайте вы на меня. Не со зла вас обидел. Спьяну чего наш брат не наболтает. А вы вот моими ребятишками не побрезговали.
— Зачем вы пьете? — Нет, на такого Игнатия она не могла сердиться. — У вас же дети, семья…
Не поднимая головы, он пробормотал:
— С того и пью… Кабы… — Игнатий безнадежно махнул рукой и, подняв на Нину глаза, с удивившей ее мягкостью произнес: — Барышня вы, а воду носите красиво — в ведрах-то не плюхается. Кабы все по-другому, — он резко оборвал себя и зашагал к реке.
Он снова повадился приходить за книгами и газетами. Особенно понравилась ему тургеневская «Муму».
— Нина Николавна, кто такой Герасим? — говорил Игнатий. — Почитай, тварь бессловесная, однако, богом обиженный, а без ласки, выходит, и ему жизнь невозможная, — косящий взгляд Игнатия тоскливо блуждал по стенам горенки.
Торжествуя, Нина написала Виктору: «Только теперь я поняла силу и власть книги — она облагораживает душу».
А через день с плачем прибежала Акулина.
— Глянь, Николавна, как энтот ирод надо мной измывается. — Акулина, охая, задрала кофтенку.
На худой сутулой спине Акулины сплошной кровоподтек!
— Хошь бы ты, Николавна, поговорила с моим иродом. Он же тебя так почитает, так почитает, готов на божничку поставить. И не верь ты ему, сладкие слова он могет говорить. — В тоне Акулины Нина, к своему ужасу, уловила ревнивые нотки.
Пришлось пообещать Акулине во что бы то ни стало поговорить с Игнатием, хотя предстоящее объяснение и вызывало у Нины страх. Но Игнатий стал явно ее избегать. Однажды, завидев ее на крыльце — дворы братьев разделяла изгородь из жердей, — Игнатий нырнул в сараюшку. В другой раз Нина отправилась к ним в избу — Игнатий, притворясь спящим, так и не слез с печки.
Вскоре Мотря сообщила:
— Покатил наш гуляка в город. Вот помянете меня — все деньги, что выручит на базаре, пропьет. Сгорит он от ханы!
…Заявился Игнатий, когда Нина одна была в избе. Слышала, как, зацепив табуретку, он выругался. Положив на Мотрину кровать сверток, Игнатий окинул Нину знакомым горячим косящим взглядом и прохрипел (голос, видно, пропил):
— Привез вам от мамаши лекарства. У родителев, значит, ваших гостевал. Поговорил с вашим вотчимом… К вам пришел… Дозвольте книжечку…
— Вот что, — у Нины от негодования перехватило дыхание, — я… я знала, что вы издеваетесь над женой… Но такого?! Если еще тронете ее хоть пальцем, я заявлю в милицию! Так и знайте!
На лице его, как маска, застыла ухмылочка, глаза налились кровью. Потеряв над собой власть, Нина крикнула:
— Убирайтесь отсюда!
Что-то бормоча, странно косолапя, он вышел.
Не успела прийти в себя от пережитого волнения, как услышала истошные крики во дворе. Бросилась из избы и на пороге столкнулась с Никитичной, простоволосой, в слезах.
— Пойдем девонька, — Никитична схватила Нину за руку, — убивает он Акулину! Бежи за мужиками!
В распахнутую из сеней дверь Нина увидела Акулину. Она лежала у порога своей избы, правая рука ее неловко подвернута, платье изорвано, лицо залито кровью.
Игнатий, сбычив голову, шел к плетню.
— Ой, ноженьки мои, — запричитала Никитична, — сдвинуться с места нет сил… Зови, Николавна, мужиков! Убьет он ее, — старуха плюхнулась на лежащие в сенцах дрова. Нина почувствовала: и у нее ноги точно приросли к порогу.
Игнатий, выломав из плетня орясину и пьяно бормоча, двинулся к Акулине.
Что-то толкнуло Нину, что-то подхватило и понесло: она не перелезла, а перелетела через низкую ограду, разделявшую дворы братьев. Подскочила и схватилась обеими руками за орясину. Сивушный перегар ударил в лицо. Впервые так близко увидела глаза Игнатия — дикие, налитые кровью.
Легким движением Игнатий стряхнул ее, как котенка. Нина провалилась в сугроб.
— Ой, люди добрые, помогите! — голосила Никитична.
Нина выкарабкалась из снега, в два прыжка догнала Игнатия и повисла у него на руке.
— Не замай, — пробормотал он, глядя на нее бешеными, невидящими глазами.
— Прошу вас… прошу вас… Ну не надо… Ну голубчик! Ну голубчик!.. — повторила Нина, не выпуская его руки с орясиной из своих рук.
В пьяной сумрачности его глаз мелькнула искорка сознания. Игнатий вдруг увидел ее.
— Чистенькая. — Выпустив орясину, он схватил Нину за косы и, запрокинув ее голову, наклонился над ней. То ли истошный крик Никитичны: «Не тронь девку!», то ли страх и отвращение, которое он прочел на лице Нины, подействовали на Игнатия, но он отпустил ее и почти трезво произнес: — Не боись, силком не стану!
Спотыкаясь, побрел со двора.
— Куды ты, ирод! — надсадно закричала Акулина. — К Миронихе своей! Уж добей меня, добей, окаянный!
Пока Мотря со свекровью обмывали и переодевали Акулину, Нина пылко убеждала Акулину разойтись с Игнатием: не должна ни она, ни дети терпеть такое издевательство. Можно уехать в город и устроиться там на работу. Она знает одного женорга, товарища Анфису, та непременно поможет.
— Не говори, что зря, Нин Николавна, — строго сказала Никитична, — где ей с такой семьищей прожить в городе, без своей-то избы и коровы…
Игнатий явился домой на другой день к вечеру и завалился спать. Встал тихий, с Акулиной по-хорошему, поехал с сынишкой по дрова — все это сообщила Мотря.
В избу к брату Игнатий не заходил, за газетами и книгами присылал ребятишек. Завидев Нину, снимал шапку и низко кланялся. Нина отвечала, не поднимая глаз, и торопливо проходила мимо.
Акулина забегала похвастаться:
— Мой-то ребятишкам пимы подшил. Прялку новую изладил.
— Он ведь как трезвый, так руки у него золотые, — подтвердила Мотря, — что хошь наладит. — И со злорадством сообщила: — Энта, сучка-то, Мирониха, давеча встретила меня и грит: «Передай Акулине — никуды от меня Игнатий не денется». Про кулаков пишут в газетах, а она самая что ни на есть кулачка. Ей и посеют, и покосят, и домой привезут. Все на самогонку купит.
Однажды Мирониха окликнула Нину.
Стояла самогонщица у себя во дворе, навалившись грудью на ограду. Одета по-праздничному — в черном дубленом полушубке, на голове оренбургская шаль.
— Извиняйте, чегой-то вам сказать надобно, — пропела Мирониха, нагло поглядывая на Нину.
— Пожалуйста… Только я тороплюсь в школу.
— Не сумлевайтесь, долго не задержу, — на красном лице Миронихи расплылась улыбочка, — правду сказывают, что наши артисты в нонешнее воскресенье поедут в Верхне-Лаврушино спектаклю ставить? Может, зря болтают?
— Поедем. А в чем дело?
— Значит, моих гостей от меня отваживаете. Может, еще в газетку напишете, что я самогонщица? — Улыбочка сползла с лица Миронихи, она зло сверлила Нину заплывшими глазками.
«С чего это она? — подумала Нина. — Наверное, Мотря ей газетой пригрозила».
— На меня жалобились, — в голосе Миронихи появились визгливые норки, — только ничего не нашли. По-добру упреждаю. Промежду прочим, ты у меня вот где. — Мирониха протянула руку, сжатую в кулак. — Игнатий мне по пьяному делу проговорился.
— Обо мне нечего говорить!
— Есть, милая, есть! Забыла, в чем признавалась?
«Что она плетет?! — возмутилась Нина. — Зачем я ее слушаю!» Круто повернулась и пошла как можно медленнее (еще подумает, что испугалась).
Мирониха в спину визгливо пропела:
— Чии-стеень-кая!
У громоздкой, как сундук, раскаленной докрасна железной печки Нина пыталась отогреться после дороги. Верхне-Лаврушинский народный дом! Здесь они были вместе. Вот здесь, на сцене, где сейчас ее кружковцы прикрепляли занавес, у нее родилось это удивительное, тревожное и восторженное чувство. Нина ждала радости от встречи с воспоминаниями, а на самом деле ей тошнехонько. Его нет. И потом это неприятное происшествие в дороге.
Подводы в Верхне-Лаврушино давали не очень-то охотно. Степан и тот срочно отправился за дровами — лишь бы не гоняли его коня «ради баловства», как выразилась Никитична. Мотря обозлилась и ушла пораньше в школу. Однако Порфишка не только дал свою подводу, но и сам заехал за Ниной. Похвалился, что конь у него сытый — «ментом доедем». Порфишка, как говорила о нем Мотря, «парень непутящий», начал было учиться на ликбезе — бросил, снова принялся за ученье, потом опять пропал, поговаривали, что пьет. Нине не очень хотелось ехать с Порфишкой, но отказаться — обидеть человека. А человек он, выходит, не безнадежный, раз у него есть общественное сознание. Это надо поощрять.
Действительно, сначала их подвода далеко обогнала другие, но потом почему-то Порфишке пришлось перепрягать, и они оказались последними. С Ниной ехали еще парень (он все время молчал), в темноте Нина не видела его лица, и три девушки.
Когда выбрались из леса и выехали на большую дорогу, сани-розвальни на раскате занесло, и все из саней вывалились. Хохотали, Нине было не до смеха: падая, ушибла колено. Проехали сажени три — снова раскат, и снова сани на бок. В суматохе кто-то больно толкнул ее в спину.
Соскочив со своей подводы, к ним подбежала Мотря.
— Балуешь! — сердито крикнула Мотря на Порфишку. Увела Нину и усадила рядом с собой в сани.
…И теперь у Нины разболелось колено, даже через чулок заметно, что оно припухло.
Порфишка торчал, как каланча, у входной двери и что-то рассказывал сутулому парню, стоявшему к Нине спиной. Парень захохотал и оглянулся на Нину. «Обо мне говорят», — тоскливо подумала она.
Порфишка подозвал парня в добротной бекеше. Они о чем-то поговорили, и парень в бекеше направился к Нине. Одет он хорошо: в сапогах с галошами — особый деревенский шик, — на голове лихо заломлена каракулевая папаха. Лицо у парня неприятно дергалось, глаза даже не бегают, а суетятся.
— Здравствуйте, — парень в бекеше поклонился, — для нашей деревни шибко почетно, что вы с театрами приехали.
— Ну, какой это театр, так — самодеятельность.
Парень степенно кивнул, глаза его суетливо шныряли, оглядывая ее. Что-то мешало встать и уйти: страх ли, который неизвестно почему внушал этот парень, или то, что те двое — Порфишка и сутулый наблюдали за ними.
— В деревне, что ли, танцы! В городе танцуют по-городскому — падыкатыр, — с трудом выговорил он.
Нина невольно улыбнулась. Кажется, парень принял ее улыбку за издевку.
— Чаво? — угрюмо спросил он.
— Если вы умеете танцевать по-городскому, то поучите девушек. Правда ведь, девушки? — Нина оглянулась, ища поддержки у девчат, только что гревшихся у печки, но их как ветром сдуло.
— Девки наши необразованные, — парень в бекеше пренебрежительно махнул рукой, — у них никакого понятия нет. Я вот в городе жил в высоком дому, и заплот высокий, чтобы никто не убег…
Он нес околесицу. А за его спиной незнакомая девушка делала Нине непонятные знаки.
Нина обрадовалась, когда Пашка, щеголяя новым словечком, крикнул:
— Нина Николавна, можно гримироваться!
Нина поспешила на сцену, где распоряжался избач. У него болели зубы, и он все время держался за щеку.
— Скажите, — обратилась к избачу Нина, — этот парень, что сейчас со мной разговаривал, ненормальный?
Все произошло неожиданно: парень в бекеше в несколько прыжков очутился на сцене, подскочил к Нине и замахнулся… Если бы не Кольша, то удар пришелся бы по голове, а так — в плечо. Нина упала. К ней подбежали Мотря и Надька, помогли подняться. Какие-то мужики связали беснующегося парня.
Нина сидела за кулисами, закрыв лицо платком. Ее трясло. Верхне-лаврушинская учительница, рябенькая, немолодая, тихим голосом рассказывала:
— Он не сильно буйный. Народ здесь несознательный — раздразнит его ради потехи, ну, тогда он убить человека может. А еще из-за злобы наши деревенские натравливают его.
Нина вспомнила Порфишку и сутулого (она так ни разу и не увидела его лица). Что она плохого сделала Порфишке? Они подослали к ней сумасшедшего. Все это загадочно и страшно, но раздумывать об этом некогда — пора начинать спектакль.
Кружковцы старались изо всех сил, даже Кольша порол отсебятины меньше, чем обычно. Нину ничего не радовало: ни успех пьесы, ни частые аплодисменты, прерывавшие действие. Суфлируя за кулисами, она вздрагивала от каждого шороха.
Ночью Нина решила: «Уеду! Брошу все и уеду!» А утром, как обычно, у ворот ее ждали ребята, чтобы вместе пройтись по деревне.
— Нина Николавна, вы не ездите в Верхне-Лаврушино, сказывали — тот сумасшедший одну бабу до смерти убил! — советовал кто-то из ребят. Нина от волнения даже не разобрала кто. Значит, все уже знают.
— Не шибко убились, Нина Николавна? — участливо спрашивали бабы. — А то, хошь, баньку истоплю. Подсобляет.
— Спасибо, большое спасибо!
Нина еще издали заметила мощную фигуру Миронихи — и эта ждет. Сначала Нина решила сделать вид, что не заметила ее, но тут же возмутилась: «Еще не хватало перед этой притворяться!» Взглянула на нее и отвернулась, не ответив на подобострастный, но с издевочкой поклон. Враги так враги!
Дома Мотря сообщила:
— Не успели вы со двора уйти, как заявился Игнатий. Верите, тверезый! Однако третью неделю не пьет. Выспрашивал, как ездили. Как прослышал про сумасшедшего, матюкаться начал на чем свет стоит! Велел вам пересказать, чтобы одна вечером не ходили.
Мотря чего-то не договаривала, но выспрашивать из-за самолюбия Нина не хотела.
Вечерами с ликбеза ее теперь неизменно провожали Кольша с братишкой и Пашка. Нина не просила: не Игнатий ли подговорил парней? Во всяком случае Нина была благодарна: она стала бояться темной улицы. Но Порфишка и сутулый больше не попадались ей на глаза.
«Как я уеду, — раздумывала Нина на уроках с детьми, поглядывая на их опущенные круглые головы, — ведь их никто учить не станет, считается же, что школы нет. Как только откроют школу, уеду в город… Еще убьют, как того селькора».
Но ненадолго в город поехать необходимо: кончились тетради, надо поговорить в наробразе о школе. Может, Анфиса что-нибудь посоветует. Поездку Нина решила приурочить к возвращению из командировки Виктора. Мотря же, уговаривала Нину уехать в город на митрин день — престольный праздник. Ни детишки, ни взрослые учиться не станут — грех. Все равно без толку — целую неделю гулять будут.
— У нас уж такое заведение, — присовокупила Мотря. — С утра, а то и с вечера в церкву в Верхне-Лаврушино поедут, апосля разгуляй-малина!
— Учиться — грех, а пьянствовать — не грех, — сказала Нина.
— Оно, конешным делом, — соглашалась Мотря, — но обижайтесь не обижайтесь, а в праздник я на ликбез не приду. Свекруха меня заест.
Еще за неделю в деревне начали готовиться к празднику. Коптили окорока, резали телят, варили бражку. Никитична три дня подряд пекла пироги. Мотря побелила избу.
Обычно занятия в школе начинались, когда рассветет. Керосин отпускали только на ликбез. Но в школу в этот злополучный митрин день Нина пошла чуть позже. И напрасно — никто ее у ворот не ждал.
В сенях Нину встретила Леонтиха.
— Зазря беспокоились, Нина Николавна.
— Что, не пришли еще?
Леонтиха безнадежно покачала головой. Один глаз ее смеялся, из другого выкатилась слеза.
Нина вошла в пустой класс, повесила пальто на гвоздь в углу, села за стол. Леонтиха, против обыкновения, постаралась — навела праздничный порядок. Пахло свежевымытыми полами, березовым дымком и хвоей, у порога набросаны пихтовые ветки.
Вчера ребята дружно заверяли: «Придем, не сумневайтесь». Ребят, конечно, не пустили родители. На душе, как любит говорить Мотря, сумно: от Виктора писем нет и нет, ее запросы в окрнаробраз об открытии школы остаются без ответа, а тут еще эта страшная поездка в Верхне-Лаврушино, нелепые угрозы Миронихи. Как во всем этом разобраться? Неужели это и есть классовая борьба? Но при чем тут Порфишка и длиннорукий, натравившие на нее сумасшедшего? При чем она, Нина? И снова мысли, как по кругу, вернулись к пустым партам. Вчера нарочно сходила, хотя болело распухшее колено, раз десять с коромыслом за водой к проруби, чтобы поговорить с бабами. «Мы не запрещаем, пущай учатся», — хитрили бабы.
Заглянула Леонтиха.
— Шла бы домой, Нина Николавна. Не придут они.
— Посижу еще.
— А то пойдем на мою половину, мимо не пройдут. Я коралек испекла, медком разжилась.
— Спасибо, не хочется.
Леонтиха поморгала, повздыхала и, шаркая подшитыми пимами, пошла на свою половину, села у окна, подперев щеку ладонью. Что-то в поникшей, унылой фигуре Леонтихи кольнуло Нину. Что ей известно про эту одинокую старуху? Привыкла к ней, как привыкают к необходимым предметам. Например, к печке. Все же в ней, в Ниночке Камышиной, есть этакое пренебрежение к людям. Ну чего, спрашивается, оттолкнула старуху? Ведь Леонтиха от души пригласила ее к себе. Ведь старуха могла уйти в церковь…
— Знаете, — смущенно сказала Нина, — а я, пожалуй, с удовольствием выпила бы чаю. Вы, кажется, в него какую-то травку кладете для запаха?
— А как же, кладу, кладу, миленькая, — обрадовалась Леонтиха. Она постелила на стол вместо скатерти исстиранное до ветхости полотенце, поставила глиняную миску пирогов с калиной, меду в вазочке с отбитым краем из синего стекла, коральки выложила прямо на полотенце. Суетясь у самовара, сказала: — Медку-то мне Ульяна, она еще вас в город возила, принесла. Добреющей души женщина, меня она, можно сказать, от смерти вызволила.
— Ульяна вам родня?
— Какая там родня! Нашему огороду двоюродный плетень. Но всех мер женщина. Блюдечков-то, извиняйте, у меня нету, — Леонтиха подала Нине чай в граненом стакане, себе налила в глиняную кружку.
— Мария Леонтьевна, — сказала Нина, отпивая горячий, с запахом смородины чай, — а дети у вас были? — спросила и испугалась, а вдруг она вековуха, как Марфушка?
— А как же, и мужик был, и дети были, и молодая была, — вздохнула Леонтиха. — Идут-бегут года своим чередом. Вода землю размывает, а времечко — горе. В праздник трудно. Людям праздник неохота печалить, а с души просится сказать. Спасибо, что слушаешь.
— Ну что вы, — сконфуженно пробормотала Нина.
— Ты пей, пей без стеснениев, откушай пирожка с калиной. Калина, она пользительная. А мужика моего, Нина Николавна, беляки в гражданскую шашками порубали. А детки, я боле все сынов носила… три сына в германскую голову сложили, два — в гражданскую, ну а остальные-то… все в одночасье померли, что ни день — домовину готовь. Шесть душ тиф покосил. Всего-то у меня одиннадцать душ было… Вот и расстроила я тебя…
За окном проскрипел снег.
— Никак к нам идут! — всполошилась Леонтиха. — Ты слезы-то утри краем рушника. Нехорошо, коль увидят, еще подумают, что из-за них… А… мимо… Ну, да я говорила, не придут сегодня. Ну-кось, я тебе горяченького налью. Как, значит, все это случилось, я сама не своя стала — руки и ноги у меня поотнимались, глаз-то у меня с той поры недвижимый… Пропала бы я, кабы не Ульяна. Взяла она меня к себе. Лежала, почитай, все лето на вольном воздухе, она с ложки меня кормила. А на ночь возьмет на руки, как малого ребенка, и на сеновал затащит, чтобы и спала на вольном воздухе. Отошла. Мы, бабы, отходчивые… Ты кушай, кушай… Сильно ты худая, как тростинка… Ты думаешь, с чего наши девки, как сытые телки, а с того, что едят все, что ни попало. Хошь, я тебе калины попарю — она бо-ольшую силу человеку дает.
«Как хорошо, что я пришла к ней!» — подумала Нина.
— Спасибо вам за чай, — и, помолчав, добавила: — И за все. Правда, попарьте мне калины, я себя неважно чувствую. Я вам буду очень благодарна.
Сияющая Леонтиха заверила, что за ней дело не станет.
Нина терпеть не могла пареную калину. Когда в детстве у Вари ее угощали калиной, она потихоньку, чтобы не обидеть хозяев, выплевывала ее в платок. Но сейчас понимала, как важно для Леонтихи быть чем-то необходимой людям.
Так вдвоем с Леонтихой они прокоротали школьные часы. И кто из них был больше благодарен, трудно сказать.
Дома на чистой Мотриной половине — сдвинутые столы (и Нинин колченогий столишко сюда же перекочевал) завалены всякой снедью. Но изба пустая, даже деда нет. Видимо, ушли гулять к кому-нибудь из соседей. Теперь станут из дома в дом ходить.
От запаха еды и омерзительной сивухи поташнивало. Нина накрылась пальто и легла на кровать. Из головы не выходил рассказ Леонтихи. «Что, собственно, я перенесла? Какое самое большое в жизни страдание? Голод в детстве? Но тогда голодали все, еще хуже, чем наша семья, голодали. Смерть Кати? Это самое страшное, потому что тут ничего не исправишь. Ну, что еще? Собрание, когда давали характеристику?»
Нину удивило, что воспоминание о злополучном собрании не вызвало обычного чувства унизительной обиды. Можно ли так страдать от уязвленного самолюбия? Нет, дело не в самолюбии, а в предательстве и несправедливости Киры. И все-таки все ее прошлые горести и то, что здесь приходится переживать, — песчинка по сравнению с ужасными бедами Леонтихи! Вот сколько раз читала, слышала — человек с сильной волей. Волю надо в себе воспитывать. Не вообще, а конкретно. Не пришли ученики в школу. Стоит ли из-за этого огорчаться? Тут же возмутилась: конечно, стоит! Как она проводила антирелигиозную пропаганду? Говорила ученикам, что бога нет — и все! А они взяли да и не поверили ей! Какие она доказательства привела? Никаких! Антирелигиозную пропаганду надо начинать не с детей, а с их родителей. Но как?
Мысль эта так взбудоражила Нину, что больше лежать она не могла.
На собрания надеяться особенно-то нечего, надо, как советовал в письмах Петренко, для агитации ходить по избам, читать газеты. Вспомнила слова Шаркова: «Белые служили молебны, им „помогали“ церковь, попы, а победили не верящие в бога — красные! Кто помог угнетенным рабочим и крестьянам? Бог? Как бы не так! Помогла Советская власть, а Советская власть не вымаливала у бога справедливости, а сама ее завоевала!» Так она скажет своим ученикам. А еще скажет про Леонтиху. Все верующие говорят, что бог милосердный (ведь слышала об этом с детства), а какой же он милосердный, если послал столько горя на Леонтиху! У них есть еще такое объяснение — бог покарал за грехи. Во-первых, что-то уж очень он жестоко карает, а во-вторых, за какие грехи он карает детей? Чем были виноваты дети Леонтихи? Потом, сколько народов — столько богов, у каждого народа — свой бог. Сколько было войн, чтобы заставить другой народ верить своему богу. А бог все терпел!
«Надо все записать», — решила Нина. Стол занят, но ничего, можно писать и в кровати, тем более что холодно — мерзнут руки.
Она так ничего и не успела записать. Услышала тяжелые, неровные шаги и соскочила с кровати. Игнатий был пьян. Одет по-праздничному: в новых суконных штанах и синей сатиновой рубахе. Высоченный богатырь с рыжей бородой лопатой и всклокоченными рыжими кудрями.
— Что вы ходите! Я, кажется, просила…
Неожиданно Игнатий стал медленно опускаться на колени. В первое мгновение ей даже показалось, что он падает.
— Чистенькая, — почти явственно выговорил Игнатий, снизу вверх глядя на нее, — прости ты меня, Христа ради! — Он в пол поклонился. — Продал я тебя. Как Иуда! — в голосе Игнатия прозвучала такая нестерпимая тоска, что у Нины невольно сжалось сердце.
Игнатий с трудом, схватившись за косяк двери, поднялся. Уходя, так шарахнул стол, что звякнули стаканы.
«Что он сказал? Почему продал? Может, он бредит? Кажется, когда напиваются до белой горячки, бредят. Кому продал? Будет ли конец этому дню? А еще предстоит вечер. А что, если действительно не ходить вечером на ликбез? Пьяные уже орут на улице». И все же решила идти.
— Мария Леонтьевна! — окликнула с порога сторожиху.
Никто не отозвался. Значит, и Леонтиха ушла. Наверное, к Ульяне.
В классе горел свет. Ваньша сидел на своем обычном месте и, оттопырив губы, водил пальцем по букварю. Один Ваньша.
Один на весь ликбез.
— Здравствуй, Ваня. — Нина сняла пальто и, потирая озябшие руки, проговорила: — Начнем с чтения, — сказала так, будто для нее привычное дело заниматься на ликбезе с одним учеником.
— Нина Николавна, — Ваньша просительно улыбнулся, — обождем маленько — Кольша сейчас придет.
— Мы никого ждать не будем. Придет, так хорошо… — и тут же услышала голоса.
Кольша не только пришел сам, но и привел кружковцев. Девушки в цветных узких кофточках и широких, в оборках юбках. На парнях праздничные сатиновые и ситцевые рубахи — голубые, красные, розовые. По классу потянулся крепкий душок самогона.
После того как — больше для формы — почитали и порешали примеры, Нина объявила: с сегодняшнего дня у них вводится новый предмет — обществоведение. Она расскажет про Чапаева. Почему про Чапаева, она и сама не знала. Ей как-то хотелось отблагодарить их. Ничего, что один уснул… Всего один. Зато остальные слушали. Еще как! Ахали. Переспрашивали.
Еще кто-то под окнами прошел, и не один. Голос Леонтихи. Вернулась, значит:
— Ноги-то обметайте!
Нина с улыбкой оглянулась на дверь и увидела длиннолицего парня в красной шелковой до колен рубашке, на ногах красные с белыми разводами пимы, на плечи накинут дубленый полушубок. Из-за спины длиннолицего выглядывал Порфишка. Нина вспомнила: и тогда в Народном доме этот парень был с Порфишкой, это его сутулую спину она видела в дверях Народного дома и еще — в лесу, у вывороченного пня, когда прятали оружие. Это сын Савелия!
— Учитесь? Туды вашу… — в воздухе повисла трехэтажная брань.
Нина ничего не успела подумать, ничего сообразить, как завязалась драка. Завизжали девушки. Сбились в кучу.
Клубок дерущихся с визгом, руганью покатился к дверям.
— Попомнит твоя учительша! — крикнул Порфишка.
Кто-то ударил по лампе. Тьма. Крики. Тяжелое дыхание дерущихся.
Кольша, Нина узнала его по голосу, схватил ее за руку и подтащил к окну. Ударом выбил раму. Сухо ударилась об пол замазка. Кольша шепотом:
— Бегите! Ваньша вас проводит. — Он чуть ли не вытолкнул ее за окно.
Не поняла, как Ваньша очутился рядом. Мальчишка сунул ей пальто.
— Наденьте, простынете. Айдате за мной. Сюда! Там увидят.
Нина побежала за Ваньшей. Пальто она накинула на плечи и придерживала его руками у горла. Зачем-то они спустились к речке, пробежали по льду. Потом перелезали через какие-то плетни и очутились во дворе Игнатия.
— Вота ваша изба, — шепнул Ваньша и куда-то исчез.
Никитична с Мотрей мыли посуду. Нине хотелось незамеченной юркнуть к себе в горницу. Но у нее так дрожали ноги, что она села на первую попавшуюся табуретку.
— Да ты чегой-то? — спросила Никитична. — Никак попугал кто?
Нина попыталась улыбнуться и не смогла. Мотря заохала, стащила с Нины пальто, налила горячего молока и заставила выпить.
— Это Евстигней всех подбивает, — сразу все поняв, сказала Мотря.
— Чей Евстигней? — спросила Никитична.
— Не знаете Евстигнея, че ли! Первый варнак на деревне — сын Савельев, он и Порфишку подбивает. Однако, Нина Николавна, надо вам куды-нибудь сховаться. Лезьте на полати, — скомандовала Мотря.
— А вы вправду, Нина Николавна, прилягте на полатях, — посоветовал Степан. — Мало ли че.
— Так, так, — испуганно озираясь, закивала Никитична, — береженого бог бережет.
На полатях пахло вениками, укропом и пылью. Уткнувшись в какие-то мешки, Нина беззвучно плакала.
Мотря забросила на полати тулуп и зашептала:
— Лягте подале, за веники, холодно — так тулупом накройтесь. Не боитесь, мы вас в обиду не дадим.
Как это бывало в детстве, от слов утешения слезы полились еще обильнее. В щель между досками полатей видела, как Мотря что-то шептала, а Степан скреб затылок и сокрушенно качал головой. Душно, но Нину бил озноб.
Они заявились примерно через час. Как только Нина услыхала пьяные крики за окном, решила — они.
На сыне Савелия Евстигнее красная шелковая рубашка разорвана, под глазом здоровенный синяк, у Порфишки нос в крови.
— Учительша дома? — спросил Порфишка. — Пущай выйдет.
Нина испугалась, что они увидят ее. Хотя и понимала, что это нелепо.
— А где у вас «здравствуйте»?! — напала на них Мотря. — Чай, в чужой дом вошли.
— Не приходила она, как ушла в школу, так и не приходила. — Никитична опасливо поглядела на парней.
— Врешь, старая. — Евстигней заглянул в горницу.
— Говори! — Порфишка сжал кулаки.
— А ты полегче, — поднялся из-за стола Степан. — Сказано — не приходила. Не веришь, погляди сам. — Степан схватил за плечо Евстигнея и повел его в горницу.
Порфишка, переминаясь на пороге, взглядом шарил по углам.
И тут Нина увидела на табуретке свою кротовую шапочку, пальто Мотря вместе с тулупом закинула на полати. Видимо, и Мотря увидела Нинину шапочку, она поспешно села на нее.
— Связался, прости меня господи, с варначьем. Головы не жалеешь, — вполголоса ворчала на Порфишку Никитична.
— Может, к кому из девок ушла с ночевкой, — сказал Степан, возвращаясь. За ним вышел Евстигней, он все озирался, уставился на Мотрю:
— Вот она знает. Говори, где учительша!
— А ты че разорался! — обозлилась Мотря.
— Ну, ты! — Евстигней засунул руку в карман и угрожающе: — Мы и по-другому поговорить можем.
Степан подошел к печке, взял топор, в другую руку — полено и, делая вид, что собирается щепать лучину, сказал:
— Вы вот что, парни, отваливайте подобру-поздорову. Бумага у меня есть, извещение, должон милиционер приехать. Сами знаете, к кому первому пойдет, — к сельуполномоченному. Кабы неладно не получилось.
Евстигней пьяно бормотал, что время посчитаться еще придет.
Ушли.
Никитична бухнулась на колени перед иконой и громко зашептала молитвы. Степан закрыл дверь на засовы, на которые она никогда не закрывалась, и долго о чем-то шептался с Мотрей у себя в горнице.
«Ну что я им сделала плохого?» — терзалась Нина. Она, все еще боясь шелохнуться, тихо лежала на полатях и слушала ночные шорохи: как, помолившись, укладывалась, скрипя старой деревянной кроватью, Никитична, как ветер сердито урчал в печной трубе — просился, чтобы его впустили в избу, как орали песни запоздалые гуляки, как провожал их истошный собачий лай. Нина все вслушивалась, не заскрипит ли снег под окнами, и… не заметила, как задремала.
Во втором часу ночи Мотря разбудила Нину.
— Вставай, одевайся, Степан свезет тебя в город, — переходя на «ты», шептала Мотря. — Долго ли до греха! Меня с ребятишками Степан к своим завезет, тебя в город, так-то лучше будет. Да ты че дрожишь? Теперь-то что — нализались и дрыхнут.
Когда Нина уже оделась, Мотря спохватилась:
— Тебе тут бумажка — телеграфисты прислали из Верхне-Лаврушина, из-за этих варнаков совсем запамятовала, еще днем привезли. — Мотря достала из-за божницы телеграмму.
При свете лучины (лампу не зажигали, чтобы не привлечь нежеланных гостей) Нина прочитала: «Выезжайте город немедленно Назарова». Никакой Назаровой Нина не могла вспомнить, вероятно, из наробраза. Возможно, по поводу школы, наверное, вопрос об открытии школы решен положительно, иначе не стали бы вызывать…
Она навсегда запомнит эту поездку в город. Скрип полозьев, тихий и, как казалось ей, вкрадчивый. Черная тайга. Потом белые пустынные поля. Застывшая луна. Посапывание сонных ребятишек. Унылые вздохи Мотри: «Господи, будет ли конец нашей темноте».
Потом теплая чужая изба, мать Мотри, такая же большеглазая, только вся седая. Чай с медом и топленым молоком. Сочувствие Ниловны — Мотриной матери:
— На кого руку подняли! Сучье племя! Ты же былинка! Кушай, дитятко! Христос с тобой!
Все это казалось нереальным — сном каким-то, и, как во сне, преследовал страх.
Когда Степан вышел попоить коня, а Ниловна укладывала внучат, Мотря поманила Нину к печке и, тараща глаза, зашептала:
— Что хочу сказать, Нин Николавна… Может, раньше надобно было сказать. Ты нашим-то, боже упаси, не проговорись. Степан велел тебя упредить…
— В чем дело? — Нину опять начал бить озноб: по тону Мотри она чувствовала, что ей грозит еще что-то страшное. — Говорите же!
— Значит, когда Иван Михайлович, уполномоченный-то, приезжал, — шептала Мотря, — помните, спрашивал: хлеб, мол, не прячут, мужики, а ты возьми да скажи — дескать, видела, как картошку в ящиках зарывают. Ну, уполномоченный-то сразу и сдогадался, какая «картошка», да и сообщил милиции. Наши мужики, Степан да Игнатий, смикитили, что в ящиках оружие. С того и Евстигней озлился. — Мотря замолчала, в глазищах сквозь участие так и светится любопытство.
Несколько минут Нина ошарашенно молчала, с трудом пытаясь связать это все с сегодняшними событиями.
— Подождите, Мотря, — сказала она, — а откуда про это мог узнать сын Савелия?
— Эх, Нин Николавна! Да спервоначалу я только догадывалась, а сегодня мне Игнатий признался, что Миронихе он пьяный проболтался. Вот Евстигней за отца-то, понимаете? Они, упаси бог, какие зловредные… Не зазря свекруха говорит: сын в отца, отец во пса, весь род собачий.
— Что же вы раньше мне об этом не сказали?
— Не обижайтесь, Нин Николавна, не хотела тревожить вас, а я уж начала догадываться, когда Порфишка сани опрокинул. Я тогда поняла, что неспроста. Евстигней-то с вами в санях сидел…
В город Нина ехала вдвоем со Степаном, он все время дремал…
Теперь понятно, почему каялся Игнатий, почему Мирониха кричала: «Ты у меня в кулаке!» Если бы раньше знала, что в ящиках оружие, сразу бы поехала к Петренко.
Голова наливалась невероятной тяжестью, казалось, вот-вот лопнет!
Дорога стелилась по ледяной реке — гладкая, ровная дорога. Под полозья набегала сухая поземка.
На нетерпеливый Нинин стук дверь открыла Натка.
— Ты уже все знаешь? — испуганно спросила Натка.
— Что все? Что с мамой? Где она?
— На службе, и Африкан на службе. — Идя за сестрой, Натка бестолково говорила. — Мы думали, ты позже приедешь, газеты в деревню с опозданием приходят. Мы не знали, что тебе телеграмму дали. Это ужасно. У нас в школе был митинг. — В коридоре, перейдя на шепот, Натка сказала: — Назарова в нашей комнате сидит, тебя ждет. Такая странная! Я ее убеждала, что тебя приведу, а она говорит, что сама тебя дождется.
В их комнате сидела Маруся. Она подняла на Нину глаза, и лицо ее сморщилось.
— Я за тобой… Он звал… просил тебя привести…
— Кто?! — пугаясь неестественно-спокойного тона Маруси и зная наперед, что она ответит, спросила Нина.
— Виктор, — Маруся долго раскуривала папиросу, и Нина со страхом следила за ее дрожащими пальцами.
— Что с Виктором? Да говорите же вы?! — взмолилась Нина.
Натка громко всхлипнула.
— Перестань! — прикрикнула на нее Маруся.
Натка, зажав рот платком, выскочила из комнаты.
— Что с Виктором? — Ноги у Нины сами собой подогнулись, и она опустилась в кресло.
Все тем же глуховатым, неестественно спокойным тоном, останавливаясь, чтобы затянуться дымом, Маруся пояснила: Виктор Зорин, как Нине известно, организовывал красный обоз. В тайге на обоз напали кулаки с обрезами. На первой подводе сидел секретарь партячейки. Кинулись на них. В них стреляли. Они отстреливались… Виктор… — Маруся шарила руками по столу, как слепая, ища спички. Она взглянула на Нину и поспешно сказала:
— Нет, нет! Он ранен. Ему сделали операцию, вынули пулю. Ната! Принеси воды! — крикнула Маруся. — Делал профессор Санин.
Нина взяла из рук Натки чашку и, проливая воду, с жадностью стала пить.
— Одевайся, — сказала Маруся, хотя Нина так и не сняла пальто.
— Вы хоть поешьте, — попросила Натка.
— Нет, что ты! Пошли, пошли, — заторопилась Нина.
Натка собралась было пойти с ними, но Маруся решительно запротестовала.
Квартала два они прошли в молчании. От быстрой ходьбы у Нины снова разболелось колено.
— Не беги, — сказала Маруся, — сейчас консилиум, нас еще могут не пустить к нему.
— Он в тяжелом состоянии?
Маруся удивленно взглянула на Нину и вытащила носовой платок.
— Я, кажется, немного простудилась, — сказала она, сморкаясь. Помолчав, снова заговорила, не глядя на Нину. — О героизме Виктора написали в газете. Я потом найду тебе эту газету.
Снег падал такой густой, что в нескольких шагах ничего не было видно.
Наконец, сквозь сплошную движущуюся пелену снега замаячили высокие корпуса клиник. Маруся оставила Нину в приемном покое, а сама куда-то ушла. Вернулась в белом халате, другой халат несла для Нины.
Потом Маруся взяла Нину за руку и повела по широкому коридору. С одной стороны окна, за ними белые деревья и белый снег, с другой — белые двери, вдоль стен диваны в белых чехлах.
— Подожди минутку. — Маруся скрылась за дверью и тотчас же вышла с высокой женщиной. — Вот, доктор, она, — сказала Маруся и слегка подтолкнула Нину к женщине.
Доктор несколько томительно долгих, вязких секунд — ведь за какой-то из этих белых дверей Нину ждал Виктор — разглядывала Нину.
— Деточка, будь умницей. Ему нельзя волноваться и ни в коем случае нельзя говорить. Если сумеешь держать себя в руках, я тебя пущу к нему. Обещаешь?
— Обещаю, — Нина хотела спросить доктора, как себя чувствует Виктор, но испугалась, что не сумеет скрыть своего волнения — тогда ее не пустят, и промолчала.
Маруся легонько пожала ей руку.
— Иди.
Доктор обняла Нину за плечи и ввела ее в палату.
В палате две койки. На одной мальчик с белой повязкой на голове и на груди, он весь забинтован, другая койка пустая — на подушке еще сохранилась вмятина от головы, одеяло откинуто. Наверное, Виктора унесли на перевязку.
— Мне подождать? — шепотом спросила Нина у доктора.
Мальчик что-то замычал. Нина мельком взглянула на него и в смятении сделала шаг к двери. Но взгляд мальчика заставил ее смотреть на него. Ей показалось, что прошло много времени, хотя прошло не более секунды, как она все поняла: мальчик — это не мальчик, а Виктор. Черты лица его утончились, рот стал непомерно-большой, пухлые губы запеклись.
Нина знала, что болезнь изменяет человека, но Катя менялась постепенно. А сейчас… этот Виктор был новым, чужим человеком и, казалось, ничего общего не имеет с тем парнем в юнгштурмовке.
Доктор подвела Нину к кровати, посадила на стул.
— Помни, голубчик, — тихо произнесла она, — ты мне обещала. Нашему герою разговаривать запрещено.
В палату вошла пожилая сухонькая женщина в белом халате.
— Это сестра, — сказала доктор, — понадобится что-нибудь — сестра рядом, в дежурке. — Пощупав у Виктора пульс, доктор вышла.
Наконец и сестра ушла. Они остались вдвоем.
— Подвинься ближе, — прошептал Виктор.
— Тебе нельзя разговаривать, — испугалась Нина.
Он нахмурился, силясь что-то сказать ей взглядом. И так как Нина не могла понять, что ему нужно, она нагнулась и поцеловала его в щеку и, оглянувшись на дверь, — в запекшиеся губы.
Он улыбнулся одними глазами, его прежде такое изменчивое лицо осталось неподвижным, словно на него надели маску.
— Ты… — что-то у него в груди забулькало, и он замолчал.
— Не разговаривай, тебе же нельзя. Знаешь, давай так: я буду говорить за тебя и за себя. Если это то — ты закроешь глаза. Даже интересно — умею ли я твои мысли угадывать.
— Ты все знаешь? — спросил он.
— Да, все. Если будешь говорить, я уйду или меня выгонят. Ну, а теперь посмотри мне в глаза, и я узнаю, что ты хочешь спросить. Ага, догадалась: соскучилась ли я о тебе. Очень. Да, я тебя люблю очень, очень. — Она взяла его левую руку, — правая была в лубке — и поцеловала.
— Ты хочешь пить, — она заметила, что он облизывает запекшиеся губы. Напоила его из поилки, потом намочила марлю и вытерла ему лицо.
Он, неподвижный, скованный повязками и болью, следил глазами за каждым ее жестом.
Потом, глядя в глубину его глаз, живших отдельной от неподвижного тела жизнью, Нина говорила за него и за себя.
— Ты спрашиваешь, как я без тебя жила! Хорошо. Я, конечно, очень скучала, особенно когда письма задерживались. Да, да, я же понимаю, что ты далеко был. Ездила, как ты мне советовал, в Верхне-Лаврушино. Знаешь, я сидела у печки… Помнишь, там в углу такая громадная железная печка… грелась и смотрела на сцену. Ну, конечно же, думала о тебе, как ты тогда соскочил со сцены и пошел в зал…
Виктор закрыл глаза. Нина замолчала, она подумала — уснул, но он открыл глаза и хрипло, в груди у него что-то разрывалось, заговорил:
— Жалею, что тогда… у тебя в деревне… — взгляд Виктора как бы запрещал прерывать его, — еще хозяйка ребенка укладывала… что тогда… ты не стала… моей женой… — Он пристально и очень серьезно смотрел на нее.
— Да, — сказала она, — но все равно я твоя жена, когда ты поправишься, мы поженимся.
— У тебя остался бы сын. — Судя по глазам и по судороге, пробежавшей по его лицу, он пытался улыбнуться.
— У нас будет сын! — проговорила она, и только сейчас до нее дошел смысл «остался бы».
Нина молча гладила его руку.
Он, кажется, успокоился и задремал.
Все время она старалась смотреть ему в глаза. Только в глаза, чтобы не видеть ничего другого: не видеть тонкой шеи. Очень тонкой. Не видеть забинтованной головы.
Сейчас, когда его пристальные, допрашивающие глаза не следили за ней, она все это увидела.
Теперь, когда он спал, можно отойти к окну. Нина смотрела на мельтешащий за окном снег и теребила тесемки халата.
— Нина!
Ее напугал звенящий прежний голос.
— Ты плакала?
Нина каким-то чутьем понимала — сейчас всякое притворство оскорбит его:
— А как по-твоему? Я должна радоваться, что ты так мучишься.
— Ты хорошая, — сказал Виктор. Он еще что-то попытался сказать, но не смог.
Силясь понять, Нина нагнулась над ним. Его взгляд ускользал от нее, куда-то уходил. Потом его глаза стали такими же неподвижными, как лицо. Нина взяла его еще теплую руку в свои.
Она не сразу поняла, что все кончено. Даже после того, как заглянула сестра и очень быстро вернулась с доктором и Нина услышала их отрывистые фразы: «Нет пульса», «Не поможет».
Потом доктор обняла Нину и отвела в дежурку.
Доктор долго внушала Нине, что она очень еще молода, что, безусловно, первая любовь — это большое чувство, что Виктор Зорин был настоящий герой… И тут Нина поняла…
— Как был?! Он? — она хотела спросить: «Умер?» Но не могла выговорить это слово. — Правда?
— Да, деточка, — она еще что-то говорила, но Нина ее не слушала, все теперь не имело никакого значения.
— Мне можно к нему? — прерывая доктора, спросила Нина.
— Нет, сейчас нельзя. Ты потом придешь с ним проститься, а сейчас тебе нужно пойти домой.
Вошли двое мужчин в белых халатах, один сказал:
— Как долго сопротивлялся организм!..
— Кажется, он был спортсменом. Но не в этом дело, а в мужестве… Зверское убийство…
Потом кто-то увел ее, помог одеться, спросил, не проводить ли до дома. Она отказалась. Ей надо было еще что-то сделать. Ей просто необходимо что-то предпринять ради Виктора. И это ужасно, что такое важное она могла позабыть.
Снег все еще валил, будто собирался засыпать город. Когда умерла Катя — тоже шел снег. Но Катя долго и сильно болела. А Виктор был здоровый. Ах, что же она должна сделать? Сейчас. Немедленно.
Нина сняла рукавичку и набрала в пригоршню снега.
От холода заломило зубы.
Что сказал тот второй в белом халате? Он сказал: «Зверское убийство».
— Его убили, — произнесла Нина вслух, и тотчас мысль, которую она так тщетно пыталась уловить, стала ясной: надо пойти к Петренко. Сейчас же! Сию минуту!
Открыла ей Анфиса, спросила:
— Тебе кого? — Всмотрелась и испуганно: — Мамочка родная, эк тебя перевернуло! Хвораешь? Заходи, заходи.
Она втащила Нину в тесную прихожую, сама сняла с нее пальто.
— Совсем, видать, закалела, руки как ледышки. Ты чего такая? Проходи, садись сюда, к печке.
Нина поискала глазами знакомую кушетку, негнущимися ногами прошла и села.
— Его убили, — каким-то деревянным голосом сказала Нина.
Анфиса ошарашенно молчала, глядя на Нину во все глаза.
— Виктора Зорина зверски убили кулаки, — чуть повышая голос, но не меняя интонации, проговорила Нина.
— Читала я… в газете было, — ничего не понимала Анфиса.
— Знаете, мы хотели с ним пожениться… — губы у Нины запрыгали, и она замолчала.
— Ты бы поплакала, — жалостливо сказала Анфиса.
Нина молча пожала плечами.
— Поплачешь, полегчает, — всхлипнула Анфиса и, прислушавшись, сказала: — Слышишь, пришел…
Нина кинулась к Петренко. Когда-то через темную гостиную от своих детских страхов и от своего детского одиночества она вот так же во весь дух летела к нему. Он обнял ее, гладил по голове, приговаривал давно забытые ласковые украинские словечки.
Иван Михайлович подвел Нину к кушетке, усадил рядом с собой.
— Нашли этих бандюг? — спросила Анфиса, рукавом кофточки вытирая мокрое от слез лицо.
— Найдут. Одного уже нашли. Никуда они не уйдут. — Иван Михайлович еще что-то говорил, но его слова до нее не доходили. Нине важно было слышать его голос.
Зазвонил телефон, и Петренко ушел в другую комнату.
— Ты ночуй у нас, — предложила Анфиса. — Мне пора на рабфак. Можно было бы и не ходить, да сегодня у нас заседание партячейки.
Она ушла. За закрытой дверью вполголоса разговаривал Петренко.
Нина подумала, что у всех свое дело… Она встала, тихонько оделась и осторожно выбралась на улицу.
Ее обогнала, судя по голосам, молодая пара. Мужчина сказал женщине:
— Сколько раз тебе говорил: одевайся теплее, вот простудишься.
«У всех свое, — с холодным отчаянием подумала Нина. — А я? Зачем жить, если его убили? Если он, как Катя, — белый холмик…» Разболелось колено. С каждым шагом брести по занесенным улицам становилось все труднее. Нина присела на лавочку у чьих-то ворот.
Мимо прошел высокий человек в военной бекеше, оглянулся. Постоял и подошел к ней.
— Ниночко, что ты тут делаешь? Зачем убежала? Пойдем, я провожу тебя до дому.
К вечеру у Нины заболело горло, поднялась температура, к ночи навалились кошмары. Ей чудилось — она бежит по ломкому льду речки, спасаясь от Порфишки и длиннорукого, с разбегу проваливается в черную ледяную воду… Нина открывала глаза и видела перепуганное лицо мамы, а за ним электрическую лампочку, завешанную газетой. И снова, как только она закрывала глаза, наваливались кошмары, снова за ней гнались, она пряталась в подполье, на полатях, падала с саней, расшибалась и кричала: «Голова, голова, держите голову!»
Все страшное, дикое, лаврушинское обрушилось на нее. Самым ужасным было — ее убивали, но она знала — мертв мальчик с тонкой шеей, неподвижным лицом и остановившимися глазами.
Однажды она увидела близко знакомое лицо и долго не могла вспомнить, где она видела это пенсне в золотой оправе.
— Кажется, нам получше, — произнес знакомый голос.
Доктор Аксенов!
— Доктор, вылечите Витю, — сказала она и удивилась, какой у нее хриплый и слабый голос.
— Ты о чем, Ниночка? — спросил доктор.
— Она бредит, — пояснила Натка.
Пришла Нина в сознание на третьи сутки, ей казалось, что она только вчера вернулась из клиники, но Натка, глядя ей в глаза, сказала, что Виктора уже похоронили. После Нина узнала, что Натка по просьбе мамы обманула ее. Виктора хоронили именно в этот день. Но похороны были Нине не под силу, и хотя она это и понимала, но долго не могла простить Натке ее милосердной лжи. Натка спрятала газету и испортила потихоньку от Африкана радио.
В конце второй недели, когда Нина бродила уже по комнате, пришло письмо из рика, подписанное Степанчиковым: товарищу Камышиной предлагалось немедленно явиться «по месту работы», срочно провести выпуск ликбеза и сдать дела…
Мама решительно восстала:
— Никуда ты не поедешь, после ангины у тебя может быть осложнение на ноги. Сходи в амбулаторию, тебе дадут справку, что ты больна. Напиши Степанчикову, а Натка отнесет письмо на почту.
— Я должна поехать, — сказала Нина и соврала: — У меня уже ничего не болит.
— Боже мой, никогда вы меня не слушаетесь! — разволновалась мама. — Считаете себя взрослыми.
Нина с трудом дождалась (разговор происходил еще до утреннего чая), когда мама с Африканом ушли на службу, а Натка — в школу. Написала маме: «Я поехала. Не сердись, я должна. Вернусь через три дня. — И, чтобы утешить маму, приписала: — Мне так легче, чем одной лежать». В душе она была убеждена, как всегда бывает убежден человек, когда его постигает большое горе, что легче ей никогда уже не будет, что все хорошее, радостное теперь позади.
Оделась потеплее и отправилась на ближний базарчик. Боялась, что до большого базара ей не добраться. Шла, жмурясь от яркого уличного света и вдыхая всей грудью морозный воздух. И все-таки зима повернула к весне. Дорога побурела, на ней, разгребая конский навоз, суетились воробьи. По карнизам крыш весна, чтобы о ней не забывали, развесила, точно стеклянные украшения, сосульки. Значит, днем пригревает солнце, значит, скоро весна. Высвободится из-под снега черемуха, что видна за забором, наберет силу и зацветет. В природе все умирает и все возвращается. Не возвращаются только люди. Что-то тяжелое, гнетущее, поселившееся у нее в душе в день смерти Виктора, снова дало о себе знать… Она не услышала скрипа саней. Перед глазами лошадиная морда — Нина отскочила и повалилась в снег.
— Куды смотришь, раззява, мать твою так… — услышала она грубый окрик. Мужик остановил коня и уже участливо спросил: — Не зашиблась?
Нина поднялась, глянула на мужика и обомлела: это же Карпыч, тот самый Карпыч, который осенью первый раз вез ее в Лаврушино.
— Карпыч, вы меня не узнаете?
— Чаго ж не признаю? Нин Николавна, — Карпыч был явно смущен. — Сразу-то не приметил. Такое дело получилось — не серчайте. Да вы никак занедужили? Сказывали бабы, однако.
Нина попросила довезти ее до Лаврушина.
— Только, знаете, у меня сейчас денег нет, — сказала она, краснея, — если можно, я отдам вам в деревне. Мне, наверное, туда уже привезли жалованье.
— Толкуй, — отмахнулся Карпыч, — наших робят учишь за фунт лиха, а с тебя — деньги. Думаешь, на всех нас креста нет? — Карпыч сгреб в кучу остатки сена. — Садись сюды да тулупчиком накройся.
Заскрипели полозья, замелькали дома.
Нина старалась ни о чем не думать. Главное, не вспоминать. Ну и что ж, что весна! Она не для Вити, значит, и не для нее. Вон вывесили скворечник, ждут скворцов… Надо разговаривать, вот тогда можно не думать.
— Что нового в деревне?
— Как жили, так и живем, хлеб жуем. Откель у нас новости-то?
Не очень разговоришься с Карпычем.
— Порфишку непутевого знашь? — спросил Карпыч, когда выехали за город. — Ну так он Сереге, что в спектаклях играл, голову проломил.
— Голову? За что?
— Известно, по пьяному делу. В праздник.
— Как Серега? Отвезли его в больницу?
— Чего не отвезти. Сказывают, дело на поправку пошло.
«А Витя не поправился».
С полчаса проехали в молчании. Закуривая, Карпыч сказал:
— Порфишку забрали.
— Арестовали?
— Видать, что так.
— А этот… другой… сын Савелия?
— Евстигней? Бежал. Однако отец-то похитрее сына. Отца, сказывают, так и не споймали, а энтого словили. Батрачка ишшо у них жила, глухонемая девка. Слыхала, поди? Так он… Ну, девку с Серегой в больницу отвезли, а Евстигней в тайгу подался. Его уж там и ждали.
— А вы говорите, нет новостей.
— Эх, Нин Николавна, коли это новости?! Сказывали, будто в нардом в Верхне-Лаврушине радиво проведут — вот энта новость!
— Знаете, скоро в каждой деревне будет радио. — Нина вспомнила слова Виктора и добавила: — И в каждой деревне — трактор.
— Дай бог! Дай бог!
— Даст Советская власть.
Еще отмахала Пегашка версты две, Карпыч, не то сокрушаясь, не то удивляясь, сказал:
— Ты скажи, свой на свово. Случалось парни или мужики дрались, так из-за бабы или силу померить, ну, там без памяти — по пьянке. А пошто Серега с Прошкой схлестнулись? Евстигней подбил. Ты, грит, за Совецкую власть — так, грит, получай! Всем, кричал Евстигней-то, такое будет, кто, значит, против кулаков. Пошто подбивал Евстигней Прошку? Из-за политики.
Произнеся такую длинную для себя речь, Карпыч надолго замолчал. Потом, будто вслух, подумал:
— Ты скажи, свой свово…
— Не только своего, — сказала Нина, и снова в душе что-то жесткое, нетающее.
Дорога стала взбираться в гору.
— Может, погреесся, — как в тот первый раз, предложил Карпыч, — тут все в тянигус.
Взбираясь в гору, Нина думала, что прошло не так уж много времени, как она в первый раз проделала этот путь, но все эти дни, ночи, месяцы она все карабкалась и карабкалась в гору… Все в тянигус и в тянигус… Неужели все люди так? Витя тоже шел в гору, его гора была покруче. Он не боялся… Он не дошел… Его сбросили…
Мотря и Никитична, увидев Нину, принялись, бестолково перебивая друг друга, объяснять: «Сказывали, боле не приедет».
Нина прошла в свою горенку. На ее кровати, не сняв пимов, лежала незнакомая женщина.
— Видали, — с вызовом сказала Мотря, — я же говорила, Нин Николавна вот-вот приедет.
— Сама нешто не зудила: сдадим да сдадим, копеечка не лишняя в доме, — не замедлила отвести удар Никитична.
Нине и обидно и противно их слушать. Люди хорошие — так зачем же такое?
Женщина встала и принялась растирать веснушчатые щеки большими некрасивыми руками.
«Все-таки ей, наверное, неудобно», — подумала Нина.
— Здравствуйте, зовут меня Агриппина Власьевна, очень приятно, будемте знакомые, — женщина протянула Нине руку, она попыталась изобразить улыбку, но только показала желтые прокуренные зубы.
И, так как Нина молчала, не зная, что говорить, Агриппина Власьевна продолжала:
— Я учительница, меня прислали председателем комиссии по выпуску ликбеза. Третий день вас дожидаю. Я извиняюсь — нехорошо получилось с квартирой…
«Учительница, а говорит „извиняюсь“, „дожидаю“», — подумала Нина.
— А кто же еще в комиссии? — спросила она.
— Да никого, одна я. — Агриппина Власьевна пространно и немного виновато стала рассказывать: в Лаврушине открывается школа, но ее уполномочили передать товарищу Камышиной, что деньги за те месяцы, что прошли, ей не заплатят, так как официально школы не существовало. Глядя куда-то мимо Нины, Агриппина Власьевна сказала: — В новую школу меня назначили. — Она вытащила из книжки какую-то бумажку и протянула ее Нине.
«Тов. Сидорова назначается учительницей вновь открываемой школы первой ступени в д. Лаврушино Верхне-Лаврушинского района…» — прочитала Нина.
— Так это же замечательно! — воскликнула Нина.
— Что замечательно? — опешила Агриппина Власьевна.
— Да что школу открыли! — сказала Нина.
— А чего я говорила, — громко за дверью воскликнула Мотря, — они же нисколь за копеечкой не гонятся!
— Выходит, не зря я столько писала в окрнаробраз.
— Может, вы считаете, что меня не по справедливости назначили, — сказала Агриппина Власьевна, на ее веснушчатых щеках пробился румянец, — так я год ходила безработной, а на моей шее дети, мать…
— Нет, что вы! Я все равно собираюсь в вуз поступать. — Сказала первое, что пришло в голову, только бы утешить женщину.
Было уже поздно, договорились, что выпуск проведут завтра. Ночь Нина спала плохо, мучили все те же кошмары. Встала с тяжелой головой, болело горло. Мама права: болезнь вернулась. День провалялась в постели. Заявилась Ульяна.
— Не горюйте, Нин Николавна, завтра свезу вас в город к мамаше, полечат вас, хворь как рукой снимет. Тогда ваша мамаша водила меня к доктору, он дал мне каплев от живота — про боль и думать забыла.
Не успела Ульяна уйти, как пришла Мотря и, присев на корточки, принялась выкладывать новости.
— Миронихе-то хвост прищемили. Как по Серегиному делу милиция понаехала, так и до нее добрались, докопались. Тю-тю аппаратик! Забрали. Небось сала на боках поубавит теперь. Наш ирод окаянный дома сидит. Все приходит будто так, а меня не проведешь, ходит узнавать, не приехали ли вы.
— Не надо про него, — попросила Нина.
— Пес с ним! А учительша-то, Агриппина, чай со свекрухой пьет, подлаживается к старой. Ладно, не буду, только как знаете, а неантилегентная она. Ну, спите. Пойду я.
Сквозь дрему Нина слышала, как приходили ее кружковцы, но Мотря не пустила их, сказав: «Болеет Нин Николавна».
Вечером Нина еле держалась на ногах, говорила шепотом. Опрашивала ликбезовцев Агриппина Власьевна, щедро хвалила знания учащихся — быстро научились читать и писать.
Ульяна заехала за Ниной чуть брезжил рассвет. Проводить пришла Леонтиха, притащила гостинчик — туесок пареной калины.
— Хошь от какой болезни помогает, — Леонтиха сморгнула с обоих глаз по слезинке.
Нина подарила Леонтихе полотенце и фарфоровую чашку; заметив, как ревниво блеснули Мотрины большущие глаза, подарила ей тарелку и наперсток.
Ульяна привезла Нину в город совсем больную. Ангина дала осложнение на ноги и надолго привязала к постели.
Однажды слышала, как Африкан рассказывал тете Дунечке:
— Из школы нас выперли. Если бы хорошо себя зарекомендовала, так ее бы и оставили, а то занималась не тем, чем следует…
Слова отчима только уязвили, но странно — новая боль не то чтобы радовала ее, а как бы приближала к тому страшному, о чем она не хотела ни на минуту забывать. Когда нестерпимо ломило суставы, она говорила себе: «Ему было хуже».
Изнурительно медленно, как беспросветное ненастье, тянулись дни болезни. Нина вычитала — старость характерна отсутствием надежд. У нее не было надежд. Дело ведь не в годах…
Однажды пришла Маруся. Положила на стол солидный сверток, сдержанно сказала:
— Тут кое-что из его вещей и твои письма. Есенин твой?
— Да, мой.
— Я сразу догадалась, что твой. Я собрала все это для тебя.
— Спасибо большое. Знаете, я тогда заболела. Поэтому не была на похоронах.
— Знаю. Я приходила. Мама твоя не пустила к тебе. Ты была без сознания. Что у тебя?
— Ангина и осложнение на ноги, это у меня с детства. А вы как?
— Не говори мне «вы». Я не так намного старше тебя.
Замолчали. Каждая знала, о чем думает другая. Чтобы как-то прервать паузу, Нина сказала:
— В Лаврушине открыли школу первой ступени. Учительницу там другую назначили.
— Это несправедливо. Могу тебе помочь.
— Спасибо, не надо. Я, наверное, буду учиться. Ты покажешь мне его могилу?
— Да. Поправляйся. Я хотела тебе сказать… я хочу, чтобы ты знала… — Марусе явно было трудно говорить. — Я ведь тоже…
— Я знаю… то есть я догадываюсь. Ты благородно тогда поступила, что пришла за мной…
— Прости, но я сделала тогда это ради него… Ты счастливее! Он любил тебя!
— Счастливее?! — Нина повернула голову к стене.
— Прости, Нина, прошу тебя, я не хотела причинить тебе боль…
— Приходи к нам чаще, будем друзьями, — попросила Нина.
Маруся ответила не сразу.
— Сейчас я не могу. Потом. Хорошо?
Поднялась — прямая, подтянутая.
Только после ее ухода Нина поняла, что все время ждала встречи с Марусей и боялась этой встречи. Боялась воспоминаний.
Изредка с шумом врывалась Мара. Она изменилась. Полные в икрах ноги затянуты в шелковые чулки. Узконосые туфли. Самые модные. Губы накрашены сердечком. Мара показалась Нине восхитительно яркой и взрослой. Она, как обычно, говорила громко, с апломбом. Словом, всем своим видом утверждала законченную самостоятельность. И все же — все же! — в ее светлых блестящих глазах хоронилось обиженное недоумение и растерянность.
А Мара все сыпала словами, будто старалась что-то в себе заглушить. Нина, конечно, читала в газете про Королькова. Под рубрикой «В вузах» сообщалось, что студент первого курса физико-математического факультета Корольков скрыл свое социальное происхождение. Выяснилось — он сын жандарма. За обман и антиобщественное поведение Королькова из вуза исключили.
— Так ему, гадюке, и надо, — бушевала Мара, — вечно свой нос везде совал! Доносчик несчастный!
Нина с удовлетворением подумала: конечно, так и надо. Это Корольков решил тогда, быть ей в вузе или не быть. Но все это прошлое и теперь не трогает.
Ходить она еще не могла и часами просиживала в кресле с книгой, развернутой на одной и той же странице.
Как-то Натка, глядя с жалостью на сестру, сказала:
— Мне кажется, что ты спишь с открытыми глазами.
В темную комнату через щель в ставне врывался луч. Если долго, пристально смотреть на щель, можно увидеть крохотные блестящие точечки и запятые. Судя по тому, что луч добрался до вьюшки печки, уже поздно. Но сегодня можно валяться хоть до вечера, все равно спешить некуда, сегодня у Нины выходной день.
Как только Нина поднялась, Нонна Ивановна устроила ее статистиком в управление железной дороги. Весь день Нина отсчитывала тонны грузоперевозок, перебрасывала вправо-влево костяшки счетов. Наискучнейшее в мире занятие.
В огромной комнате сидели, вернее восседали, степенные пожилые женщины и два старичка — розовый кругленький и желтый сухопарый. Все они к Нине относились доброжелательно, называли ее «деткой». «Не откажите в любезности, детка, отнести эту бумаженцию в кабинет начальнику». Почему-то они не любили ходить в кабинет к начальнику, молчаливому чопорному служащему, которого Нина про себя окрестила Беликовым.
Казалось, трудно придумать более скучных людей. Они подолгу могли говорить о болезнях, ценах, домашних заботах. Но более всего их интересовала чистка соваппарата. Газеты пестрели заголовками: «Чистка Марьянинского аппарата прошла вхолостую». «Чистка оздоровила советские органы» или: «Мы требуем вторичной чистки…»
В деревне порой забирала отчаянная тоска, иногда по пятам гнался страх, но там она была Нина Николаевна, а не «детка», там к ней приходили ученики — маленькие и большие, там ее ждали, ей надо было торопиться и думать, думать… А здесь — щелк, щелк…
Управление перешло на непрерывку — значит, по выходным дням можно не встречаться с Африканом.
Итак, выходной! Нина откинула одеяло и села в кровати. Тотчас появилась Данайка. Ткнулась холодным носом Нине в руку. Чем же занять выходной? Можно попытаться встретить Петренко. Последняя встреча с Анфисой была неприятной.
…Анфиса в кухне гладила белье. Нина сидела у окна, она всегда чувствовала себя неловко, когда кто-то работает, а она ничем не занята.
— Давайте я вам помогу.
— Сиди уж. С бельем мне сроду никто не угодит. В прислугах нажилась, так хоть какая-никакая польза: белье барыням выучилась стирать-гладить.
— Когда Иван Михайлович вернется из командировки?
— Я и сама позабыла, когда он дома ночевал. Все по командировкам ездит. Сама понимаешь, какая сейчас обстановка в деревне.
— А какая?
Знала бы, что последует за этим вопросом, держала бы язык за зубами.
— Ты брошюру товарища Сталина «Головокружение от успехов» читала? Неужели не читала? А «Ответ товарищам колхозникам»? Нет?! Надо же! — возмутилась Анфиса и тут же пересказала содержание брошюры. — Было бы тебе известно, — продолжала Анфиса, гоняя раскаленный утюг по белому полю простыни, — в нашем таежном округе наступил перелом: изменилось отношение к середняку, восстановлены незаконно лишенные в правах крестьяне, освобожден от налога весь рабочий и продуктивный скот. Колхозники получили семена и машины.
«Она говорит как на собрании, — подумала Нина, — а ведь о лишенцах Иван Михайлович давно с ней спорил». И не удержалась:
— Значит, Иван Михайлович был прав, когда спорил с вами. Значит, нельзя всех валить в кучу: и кулаков и середняков.
— Ты, про что недопонимаешь, не говори! — Анфиса, видимо, почувствовала себя уязвленной. — Мы тогда об другом спорили. Ежели ты партийный, то должон подчиняться вышестоящему органу. Ну да где тебе знать! — Анфиса с ожесточением помахала утюгом, чтобы разгорелись угли. — Ты, выходит, газеты не читаешь? А как же тогда ты в деревне работаешь? Как же проводишь политмассовую работу?
— Я уже не работаю в деревне, — и, не дожидаясь расспросов, пояснила: — Я в управлении желдора служу. Статистиком.
— Вот те нате! — Анфиса свистнула и с откровенной насмешкой спросила: — Испугалась классовой борьбы?
— Не знаю. Может быть, и испугалась. До свиданья.
«А я-то считала, что все мне теперь безразлично», — подумала Нина, спускаясь с крыльца.
Анфиса высунулась из окна и крикнула ей вдогонку:
— Ты наведывайся. Может, скоро приедет.
…И сейчас, вспомнив этот разговор, решила: «Не пойду к ним. Куда бы пойти? Куда бы пойти, чтобы все забыть? Но разве забудешь? Разве я имею право забывать?!»
Кто-то постучал в ставню. Данайка умиленно помахала хвостом — пришел свой.
— Рад, что застал, — сказал Коля.
Одет он по-походному: в сапогах, тужурке, за плечами вещевой мешок.
— У меня сегодня выходной. Что, опять в экспедицию?
— Да, приезжал за продуктами. Принес матери долг. — Он вынул из кармана тужурки деньги.
Они прошли на кухню. Нина подбросила в самовар углей. Коля закурил.
— Счастливый ты, уезжаешь, — сказала Нина, взглянув на Колю. Его смуглое лицо стало еще темнее от загара. — Возьми меня с собой.
И по тому, как он участливо улыбнулся, поняла — не возьмет.
— Не могу. Это не женское дело.
Ее сразу охватило безразличие. Налила стакан чаю и поставила перед Колей. Почему ей кажется, что вот такое раз уже было? Или что-то похожее.
— Я не начальник экспедиции. Поняла? Наш начальник не терпит женщин в экспедиции. Тут уж я ничего не могу поделать.
«Да, да, это уже было. Кто-то уезжал, а Коля отговаривал. Да! Лида!»
— Коля, а где Лида? Почему она никогда не пишет?
— Мне писала. Изредка. Лида самолюбивый человек. Жаловаться не станет. С ней всякие пертурбации случались. Кажется, она работает в каком-то издательстве художником и учится в студии.
Нина слушала и мысленно себя упрекала: как это она могла забыть о своей молоденькой тетке? Неужели обо всем можно забыть? Самая сильная боль — это та, что где-то внутри точит и точит.
— Послушай, ты давно не задавала мне мировых вопросов, — сказал Коля.
Нина поняла: он хочет отвлечь ее. С благодарностью взглянула на него. Спросила о первом, что пришло в голову:
— Скоро, по-твоему, мы социализм построим?
— Ну, брат, — засмеялся Коля, — ничего заковыристее ты не могла придумать. Знаю, что техника перевернет все вверх тормашками. Вот тут у нас курс верный. Ты читала, в Новосибирске строится новый завод Сибкомбайн — будет выпускать комбайны? — Коля сел на своего любимого конька — о технике он мог говорить сколько угодно.
Нина смутно представляла эту странную машину: сама косит хлеб, обмолачивает. Не сочиняет ли Коля? Он любил им, маленьким, подвирать.
— В Сибири в этом году будет выстроено девять новых заводов. Это вполне реально. Мы, геологи, знаем, какие ископаемые прячет в себе наша земля. Когда-нибудь матушка Сибирь заставит весь мир ахнуть. Что такое десять лет? А у нас уже есть Турксиб. Происходят чудеса. И все техника. Все газеты прокричали: «Заговорил Великий немой» — говорящее кино. Разве это не чудо? Я уже не говорю о радио. В этом мы обскакали Англию и Германию. — Коля взглянул на Нину и замолчал. Немного погодя сказал: — Ты, дева, меня не слушаешь. В каких облаках витаешь?
— Ни в каких.
— А о чем думаешь?
— Ни о чем, — она в самом деле не могла сказать, о чем думает.
— Ты зайди к бабушке. Сегодня же. Дай слово.
— Даю, — почему-то не терпелось, чтобы Коля поскорее ушел. Все-таки одной легче, не надо ничего скрывать.
Но слово есть слово — пришлось идти.
Спицы мелькали в бабушкиных руках с поразительной быстротой. Она сидела в кресле и время от времени поднимала голову и прислушивалась, не проснулся ли Колька.
— Ты готовишься в вуз?
— Нет, не готовлюсь. В прошлом году ты мне тоже советовала попытать счастья, — напомнила Нина. Невольно вырвалось: — Счастье вообще не для меня.
— Еще ничего неизвестно, тебе только восемнадцать.
«Мне-то известно. Тогда Виктор сидел рядом со мной. Вот здесь. Он всегда будет рядом со мной. Закрою глаза и увижу его таким, как тогда». Закрыла глаза и увидела худенького мальчика с тонкой шеей. Вздохнула, открыла глаза и поймала пристальный бабушкин взгляд.
— В том году не получилось, — сказала она, — можно в этом попытаться. Стучащему открывают. Надо только готовиться. Службой довольна?
— Нет, — призналась Нина, — скучная.
— В деревне ты, кажется, еще больше скучала?
— Я там о доме скучала, а работать было интересно. Там люди интересные.
— Чем же это они интересные?
Нина постаралась по лицу бабушки определить, не иронизирует ли она. Нет, ни тени насмешки.
— Конечно, они разные. Есть и плохие. Но хороших больше. У меня были интересные хозяйки. Старшая, Никитична, очень добрая, а молодая, Мотря, так она настоящая артистка. И сторожиха Леонтиха очень добрая. И молодежь. Они мне помогали… — Чуть не вырвалось — спасали, но спохватилась вовремя. Пришлось бы рассказать о Савелии, его сыне, оружии, о том, как пряталась на полатях… — Там я чувствовала, что делаю нужное. Наверное, можно было делать все лучше. Но я как умела…
— Вероятно, дело в том, что в Лаврушине ты уважала себя.
— Себя?
— Тебя это смущает? Человек может, вернее, должен себя уважать. Он не должен себе позволять таких поступков, из-за которых он потерял бы к себе уважение. — Бабушка помолчала, словно для того, чтобы дать Нине время поразмышлять над ее словами, а потом спросила: — Если тебе нравилось учительствовать, так почему же ты так легко отступилась от своей должности? Ведь ты всю зиму детей бесплатно учила. Ты в окрнаробраз, или как там это учреждение называется, не обращалась?
Нина поразилась: второй раз сегодня у нее появилось чувство, что все уже было. Давеча с Колей и вот сейчас — с бабушкой. Нет, было не с бабушкой, а с Виктором: вот так же он ее упрекнул когда-то, что не сумела себя защитить, получая характеристику на последнем школьном собрании.
— Так обращалась ты куда-нибудь?
— Нет.
— Почему?
Можно увильнуть, соврать, что бесполезно хлопотать, но с ожесточением ответила:
— Потому, что у той женщины, которую вместо меня назначили, дети, а она безработная.
— Ее могли послать в другую школу. Ну ладно, что сделано, то сделано. Но в твои годы превращаться в канцелярскую крысу… Я лучшего о тебе была мнения.
Нину обожгла обида. Хотелось убежать. Убежать, ничего не объясняя. Выручил рев Кольки, бабушка вышла к внуку.
Вернулась, ведя Кольку за руку. Нина удивилась: ну и вырос. Совсем оформившийся маленький человечек. Худенький, а лицо кругленькое; Колька улыбнулся, показав ровные белые зубки, и отчетливо проговорил:
— Те-тя.
— Это Нина, — сказала ласково бабушка.
— Ни-ня, — произнес Колька и, тупо переставляя ножки, подошел к ней.
Бабушка попросила присмотреть за Колюшкой. Надо ему сварить кашу. Нет, нет, этого уже она никому не доверяет. В кухню его, боже упаси, пускать нельзя. Там ледяной пол. Можно насмерть простудить ребенка.
«Ну и воспитание, — подумала Нина, — готовы его в вату завернуть. Нечего его баловать. Это только портит ребенка».
Колька не пожелал играть в кубики, он швырял их куда попало, ревел и рвался за бабушкой. Оглохнув от крика, Нина схватила Кольку на руки и, прижимая его к себе, принялась ходить.
Колька всхлипнул разок-другой и стих. Положил голову ей на плечо. Как славно пахнут у него волосенки! Мягкие-мягкие. Колька сладко засопел. Неужели заснул? Наверно, не выспался. Она ходила, ходила из угла в угол, стараясь как можно мягче ступать. «Спи… спи… спи… усни… сладкий сон к себе мани… В няньки я тебе взяла… ветер, солнце и орла…» — вполголоса напевала Нина. Откуда взялась эта песня? Кажется, мама ее пела, когда сестры были еще маленькими… Теплое тельце Кольки отяжелело. Он спал, ей было тяжело, неловко, а она все ходила, ходила… У нее от нежности к спящему ребенку даже слезы навернулись. Витя тогда сказал: «У тебя бы остался сын». Услышала шаги бабушки и поспешно рукой вытерла слезы.
Кольку уложили в постель.
— Я пойду. Мне пора обед готовить.
Бабушка неожиданно мягко сказала:
— Когда умер твой дедушка, я знала: надо жить так, чтобы быть достойной его памяти. Это не утешение, это долг.
Нина вздрогнула: значит, бабушке все известно, значит, она считает его хорошим…
Идя через площадь, она оглянулась. Бабушка, маленькая, сухонькая (у Нины даже сердце защемило — такой тщедушной ей показалась бабушка), стояла у окна и смотрела на Нину.
Что значит быть достойной? Бабушка не зря ввернула «канцелярскую крысу». Но бабушка права. Знал бы Виктор, как она живет… Поступить в вуз? Но это же для себя. Уйти с работы? Африкан станет попрекать — «дармоедка». Значит, всегда подчиняться Африкану? Стоит ли вообще для этого жить?
Недавно на город нагрянул проливной дождь. Пробарабанил по крышам, пророкотал по водосточным трубам. В светло-зеленой тополиной листве сверкали капли, заборы словно в сажу окунули, булыжная мостовая — сизая, похоже, что слетелись на нее со всего города голуби. Пахло крапивой, мокрой землей. Легко дышится после дождя, вроде и на душе полегче.
Дома лежала записка: «Тебе письмо. Ужасно интересно. Спрятала тебе под подушку. Натка».
Письмо — всего несколько строк — было от Петренко. Он сообщал, что уезжает в Москву учиться. Садится он на втором вокзале и просил (так ей ближе) прийти на главный. Он звонил к ней на службу, узнал, что у нее сегодня выходной, стало быть, она может прийти на вокзал попрощаться.
Раздумывать было некогда. Нина заторопилась. Пошла через поле. Так ближе. Сейчас показалось самым главным увидеть Петренко, признаться, что плохо жила. Сказать, что теперь все будет по-другому. Если дать ему слово, то она уже ни за что не отступит.
Удивительно, как широко распахнулось небо в поле. За полем — бор, речка. Когда-то Нина с Катей приходили сюда уже на убранные поля искать картошку. Как все это давно было! Теперь всюду буйный кустарник. А березы на пригорке здорово вытянулись. Где-то в траве укрылись фиалки. Хорошо бы нарвать для Петренко, но времени в обрез. Уже загрохотал поезд по железнодорожному мосту через речку.
Ничего, она еще успеет, поезд стоит минут двадцать.
Паровоз фыркал, напористо гудел. Какой-то красноармеец помахал Нине рукой. Окна в вагонах открыты.
И вдруг она увидела Петренко. Он стоял у окна, облокотясь о спущенную раму. Лицо хмурое. Твердые губы зажали потухшую папиросу. Нина закричала, хотя он, конечно, из-за грохота поезда не мог ее слышать, и побежала вниз по косогору. Она видела, что он поднял голову и оглянулся, и тотчас же вагон скрылся за поворотом. Нина не знала, успел ли Петренко увидеть ее.
Она сбежала с косогора и зашагала по шпалам, так быстрее. В одном месте железнодорожное полотно образовало петлю. Решила идти напрямик, через овражек. Вниз — бегом, запнулась, упала, почувствовала острую боль в колене.
Она сидела и растирала колено, пытаясь унять боль.
За рекой кукушка отсчитывала кому-то года.
Но почему не слышно поезда? Значит, поезд уже на станции. Опоздала! Заставила себя встать и, прихрамывая, преодолевая боль, поплелась.
На станции ударил колокол. Раз… другой… третий…
Укоризненно прогудел паровоз.
Лес откликнулся на зов паровоза.
Поезд уходил. Эхо пыталось его догнать.
Нина опустилась на траву, чтобы не видеть убегающих от нее блестяще-синих рельсов.
Под ногами дрогнула палуба. Отплывал не пароход, а берег. Все дальше и дальше… В толпе провожающих потерялись мамина синяя шляпка, Наткина лихая кепка и Марин (она прибежала в последнюю минуту) модный белый берет.
Странно: мама даже не попыталась отговорить ее от работы в глуши, или, как Коля выразился: «У черта в турках». Мама всего и сказала: «Ну что же, ты выбрала свой путь и иди по нему. Мешать не буду».
Низким басом загудел пароход. Нина вздрогнула от неожиданности. Можно пройти в свою каюту. Мама не захотела, чтобы Нина ехала в третьем классе, и купила ей билет в четырехместную каюту второго класса. В каюте с ней пожилые супруги с внучкой. Сразу же они принялись за еду. Не стоит им мешать, лучше побродить.
«Илья Муромец» совсем не походил на богатыря. Старый двухэтажный пароход, изрядно наломавший себе бока по неспокойному фарватеру сибирской непокладистой реки. Пароход скрипел всеми дряхлыми суставами, шел неторопливо, кряхтя и отдуваясь паром. И гудок-то у него старческий, хриплый и натруженный.
Речной влажный и лихой ветер шастал с верхней палубы на нижнюю. Он разорвал тучи и погнал их к городу. Вот уже не видно золотых церковных куполов и красных кирпичных строений городской бойни. Ничего не видно. Одни темно-синие и густо-серые вперемежку полосы. В городе дождь. Как бы мама не промокла, не простудилась.
Нина ходила по верхней палубе. Хорошо. Никого. Пассажиры, намаявшись при посадке, теперь устраивались в каютах. Первый раз Нина едет на пароходе.
— Новая жизнь, новые берега, — вслух произнесла она где-то вычитанную фразу.
Какие они, эти новые берега? Левый пологий, сплошь заливные луга. Травы уже скошены, по рыжему жнивью бродит стадо. Ну раз стадо, значит, скоро деревня. На пригорке церквушка, золотистой луковкой сияет купол. «Живут побогаче, чем в Лаврушине». Избы пятистенные, ворота тесовые, колодезные журавли задрали к небу длиннющие шеи. Ага, а вот у самой реки избушки на курьих ножках. Над ними пляшут кудрявые дымы. Сети на колах выветриваются. Лежат, отдыхают на мокром песке кверху смоляными днищами лодки. Значит, тут жилье рыбаков. Всяко, наверное, живут. Лаврушино совсем крохотная деревенька и то по-всякому жили. На отлете от села мельница машет черными крыльями.
«Посмотрим, что на правом берегу». Нина перешла на другую сторону палубы и ахнула. Вот прелесть-то! Высокий обрывистый яр. Сплошняком стоит на яру зеленый до черноты бор.
Сквозь тучи пробилось солнце. По вымытой до блеска палубе врассыпную побежали солнечные блики; вода за бортом из тугой, свинцовой стала зеленой, искристой и легкой. Солнечный луч перебирал стволы сосен, обволакивал их в красное. Не знаешь, чем и любоваться: высоким лесистым берегом или его отражением в воде.
Ужасно, что ничего этого Виктор не увидит. Сегодня еще дома она впервые вспомнила его прежним, здоровым.
…Мама с Наткой после торжественного обеда в честь Нининого отъезда пошли провожать бабушку. Оставшись одна, Нина без помех могла проститься с прошлым. Забралась, поджав под себя ноги, в кресло. Господи, какая она тогда была счастливая!.. Они о чем-то еще спорили. Да, о Есенине. Пробили часы. И им расхотелось спорить и вообще говорить. Он сел рядом, на подлокотник кресла. Он поцеловал ее в голову, потом одной рукой обнял за шею, другой приподнял ее лицо и сказал: «Нина». Вскочил. Взъерошил волосы. Подошел, опустился на колени, взял ее руки в свои, пристально глядя ей в лицо, с каким-то удивлением сказал; «Не знаю, как это я мог без тебя жить»…
— А я вот живу.
Еще не до конца понимая, она чувствовала: что-то в ней изменилось, наступил какой-то перелом. Возможно, это ощущение родилось из сознания того, что она теперь посвятит себя, пусть не такому важному делу, как его, но все-таки его делу.
А помог ей расстаться с канцелярией Петренко. Его письмо. «Пропиши, Ниночко, как живешь?» Нет, он ни в чем ее не упрекал, только интересовался, не уехала ли она в свою деревню. (Значит, верил он в нее!) Обещал помочь, если самой ей не удалось, устроиться на работу. Даже письмо к какому-то другу своему прислал. Вот тогда-то она и решила оставить это письмо про запас, а попробовать самой.
…В окрнаробразе потребовали справку с работы. Стриженая, с желтым, болезненным лицом женщина цедила слова, не вынимая папиросы изо рта.
— Это о тебе мне говорил товарищ Степанчиков, что ты не проявила политического чутья?
«Успел нажаловаться».
— Он врет!
— Так кому же мне верить? Человеку, которого давно знаю, или тебе? — равнодушно произнесла женщина.
Почему Нина пошла в редакцию? Потому, что Виктор когда-то сказал: надо бороться. Пошла, да и все. И умно сделала. Кажется, первый раз в жизни умно. Главное, сама додумалась.
Строгий молодой человек, повстречавшийся ей в коридоре редакции, спросил:
— Вам кого, товарищ? — и, не дослушав ее путаного объяснения, сказал: — Тогда в эту дверь, — и ткнул пальцем в обитую клеенкой дверь.
— Входите!
«Это, наверное, и есть самый главный редактор», — подумала Нина. Самый главный оказался худеньким, похожим на мальчишку очкариком. И одет несолидно: в черной сатиновой косоворотке, верхние пуговицы расстегнуты.
— Входи, входи, не робей, — подбодрил он Нину неожиданно густым и приятным баском. — Садись и выкладывай, что у тебя.
До сих пор совестно вспомнить, о чем только она ни «выкладывала». И все ужасно непоследовательно. О ликбезе. О заметке «Стыдитесь, Козлоногов». (Назвала число и месяц, когда заметка была напечатана. Пусть проверит). О походе с Петренко в детский дом, как все для него записала. Зачем-то приплела про свой рассказ. «Он же мог подумать, что я хвастаюсь».
— В деревню ты поедешь, — сказал главный редактор, — я, с кем надо, договорюсь. Но ты будешь нашим селькором. — Тут он принялся дубасить кулаком в дощатую перегородку.
Раздался ответный стук.
— Петя, зайди на минутку! — крикнул редактор, сняв очки и, щурясь, он пытливо глянул на Нину. — Ну, а в глушь поедешь? Ну и прекрасно!
Петя, тот самый строгий молодой человек, что направил ее к редактору, вошел, держа в руках гранки. Он с любопытством взглянул на Нину, но, встретившись с ней глазами, тотчас напустил на себя важность.
— Петя, — пробасил редактор, — введи в курс товарища, ознакомь подробнее с обязанностями селькора, и пусть ей заготовят удостоверение. Потом зайдешь ко мне… Как тебя зовут?.. Ну вот, Камышина, а я пока созвонюсь относительно работы. Нам грамотные селькоры в деревне до зарезу нужны.
«Какой замечательный, абсолютно не бюрократ», — подумала Нина и сказала:
— Большое спасибо.
Нина сидела за письменным столом против Пети и под его диктовку записывала задание. Радость омрачала мысль, что она скрыла про злосчастный разговор в окрнаробразе. «Только с хорошей стороны себя выставляла. Нечестно!»
Позднее, в кабинете редактора, она бестолково пыталась объяснять, что ее «в общем-то вытурили с работы в Лаврушине» и «не доверяют в окрнаробразе».
…И все-таки она едет в деревню с диковатым названием Варнаки. Говорят, что осенью и весной связь с внешним миром обрывается — ни писем, ни газет. Лето там короткое и дождливое, а первый снег выпадает в сентябре.
Бабушка очень расстроилась, что Нина собралась в такую глухомань. Об истории в окрнаробразе бабушке, наверное, рассказала мама. С присущей ей деликатностью, бабушка ничего не стала выспрашивать.
— Не понимаю, — сердито проговорила она, — как ты будешь их обучать грамоте. В тех местах живут остяки. Многие не знают русского языка.
— Буду учить. Молодежь знает. Открою ликбез. Снова буду добиваться, чтобы открыли школу. Газета поможет. Мне обещали, — сказала Нина бабушке, а про себя подумала, если не поможет, так она напишет другу Петренко.
Перед отъездом она просмотрела газеты, пытаясь хоть что-то узнать о тех далеких глухоманных местах, куда, как сказала бабушка, — «Макар и телят не гонял». Неутешительные вести: «Самогонщик стрелял в члена сельсовета»; «Изба-читальня второй год на замке»; «Кулак восстанавливает батрака против середняка»; «Кулаки морят скот голодом, чтобы получить страховку». Да, что ни говори — эти газетные заголовки могут хоть кого испугать. И ей страшно…
Но ЕМУ еще страшнее было.
Хорошо, что пошла проститься с Марусей. Вместе отправились на кладбище.
Нина положила к изножью пирамидки с красной звездой букет астр, своих любимых цветов; поправила скособочившийся, жестко громыхнувший металлический венок: «От комсомольцев и рабочих депо», как гласила надпись на траурной ленте. С куста шиповника вспорхнула какая-то пичужка и, перечеркнув зеленую живую изгородь вокруг могилки, скрылась за деревьями.
Старая, тучная женщина с лейкой в руках остановилась у могилы Виктора, и медленно громким шепотом, запинаясь, как это свойственно малограмотным людям, принялась читать надпись на пирамидке.
— О господи! — вздохнула она. — Изверги проклятущие! И не пожил!
Женщина перекрестилась, поклонилась в землю и побрела дальше.
Нина не выдержала, плакала не вытирая слез. Ей было все равно, что подумает Маруся. Она стояла, опустив голову и сжав кулаки.
Маруся проводила Нину до дому. Дорогой она молчала, и это ее молчание тяготило. Хотелось поскорее расстаться.
Зайти она отказалась.
— Ну, прощай! — Маруся энергично тряхнула Нинину руку. — Учти: в деревне сейчас сложная обстановка.
— Я теперь понимаю, — сказала Нина, вспомнив прошлогоднее напутствие Петренко.
— Нет, ты еще не понимаешь, — Маруся не упрекнула, а как бы посочувствовала и, с несвойственной для нее горячностью, потребовала: — Дай слово, что, если тебе будет плохо, трудно, — ты мне сообщишь. Немедленно. Дай слово!
— Даю слово, — Нина потянулась к Марусе.
Они обнялись. Маруся, словно стыдясь, как она, вероятно, считала, недостойных комсомольца нежностей, — торопливо зашагала, постукивая каблуками ботинок о деревянные плахи тротуара.
Глядя вслед ее высокой, худощавой фигуре в защитной юнгштурмовке, Нина невольно подумала, что Маруся единственный на земле человек, который знает об их с Виктором любви, и единственный человек, с кем она может, не обмолвившись ни единым словом, вместе вспоминать его.
Снова хрипло и натужно прогудел пароход. Медленно развернулся. Высокий берег стал приближаться, замелькали цветистые платки женщин, юркие фигурки мальчишек.
Нина перешла на другую сторону палубы. Ей хотелось побыть одной.
За кормой вспенивалась бурливая вода. Низко кружились крупные чайки. Кто-то снизу сказал:
— Видать, рыбы много.
Солнце как бы влезло в тучу и в ней застряло: посредине красного шара — синий поясок! Занятно.
Вот и отчалили.
Оказывается, множество речек, баламутя воду, впадают в эту сильную реку. Никогда Нина не видела таких крутых и лесистых берегов, таких широченных плесов.
Когда-то она мечтала о путешествиях. Поездить, поплавать, посмотреть новые места. Это ли не счастье!
Еще день-два назад ей казалось, что уж теперь-то она не будет тосковать о доме, как тогда — по дороге в Лаврушино.
И вот тоскует. Почему-то жаль маму. При расставании у нее было виновато-печальное лицо. Жаль Мару — не такая уж она счастливая. Пусть наивная Натка верит в восторженные рассказы о красавце-женихе. Однажды Мара проговорилась: «У меня характер, а у него в сто раз хуже». А недавно Мара по секрету сообщила, что у отца на стороне есть вторая жена. «А ведь мама так болеет». Мара, презиравшая плакс, не могла сдержать слез. У каждого — свое.
У Натки есть тайна. Пока что о ней знают только мама и Нина. Натка с Юлей собираются поехать в Читу и поступить в фабрично-заводское училище. Решили получить специальность слесаря. Будут врастать в рабочий класс. Поразительно, что мама разрешила ехать в эту никому неизвестную Читу. Нина возмутилась, а Натка отпарировала: «Я хоть в город, а ты к черту на рога». Нина сказала: «Но я взрослая». Натка заявила — это ничего не значит. Во-первых, она комсомолка, а комсомольцы не боятся трудностей. А, во-вторых, Нина — это другое поколение. Последнее утверждение и рассмешило и обозлило Нину. Подумаешь — другое поколение!
Попробовала Нина поговорить с мамой.
— Если я не отпущу Натку — она убежит, — сказала мама.
Нина согласилась: «Да, убежит». А про себя добавила: «Убежит от Африкана».
Призналась себе, что, конечно, она, Нина, никогда бы не осмелилась в свои пятнадцать лет удрать из дома. Неужели правда — другое поколение?!
Только уж очень Натка легкомысленная. Как-то пожаловалась: «Ты, Нина, можешь меня презирать, но я каждый день в кого-нибудь влюбляюсь. Утром, правда, проходит, а вечером опять…»
…Нина поймала себя на том, что невольно улыбается. Раздумывая о Натке, принялась снова ходить по качающейся палубе. Удивительно приятно ощущать ногами, всем телом — движение. «Натке напишу, как приеду. Пора стать серьезней».
Постепенно мысли оторвались от дома и домашних и, как это обычно бывает в дороге, перенеслись на такое неясное будущее. Теперь она уже знала: будет чужое крыльцо, чужие двери, чужие окна и стены, к которым она постепенно привыкнет и обживет их, и станет называть их своим домом, пусть временным, но все же домом. Будут чужие люди, к которым она тоже привыкнет, а позже — поймет их и, возможно, по-своему привяжется душой, как привязалась когда-то к Мотре и Леонтихе; иных, может быть, и возненавидит, как возненавидела Мирониху, или будет бояться, как боялась Евстигнея. Будет отстаивать правду, бороться с подлостью — в этом, наверное, и заключается жизнь.
Виктор, конечно бы, с ней согласился. Ведь на деревянной пирамидке с красной звездой написано — «Он служил делу революции».
Нина подумала, что здесь, на пароходе, она все время мысленно возвращается и возвращается к Виктору. Эта мысль как бы приподняла ее. Неожиданное чувство охватило Нину. Ей казалось, что все сомнения навсегда отпали; уже теперь-то она сумеет разобраться в том, что хорошо и что дурно, за кого необходимо будет вступаться и против кого бороться.
Что-то радостное и в то же время тревожное пробудилось в ней. Было ли это ощущение того, что наконец-то она, как ей представлялось, поняла смысл жизни — ничего этого Нина не смогла бы для себя определить ясными и точными словами. Но на душе у нее было легко, щемящая грусть об утраченном — не омрачала ее.
Нина все ходила и ходила по палубе. Солнце завалилось за бор, распустив над ним дымчато-розовый павлиний хвост. Надвигался вечер. Павлиний хвост над лесом слинял. Странно: чем темнее становились берега, тем больше высветлялась река. Вот уже и левого берега совсем не видно, точно вода его поглотила, а правый берег будто надвинулся. Но что это за зеленый огонек качается прямо на воде? Да это бакен! Он указывает путь пароходу. Шумит, влажно дышит вода за бортом. Все это надо записать. Главный редактор сказал: «Все записывай впрок. Потом пригодится». Но первое, что она напишет, как приедет, письмо Петренко. Ей все-таки здорово повезло…
Кряхтит пароход. Вздрагивает под ногами палуба.
Огни на яру плывут мимо.
И зеленый огонек уже далеко-далеко позади.