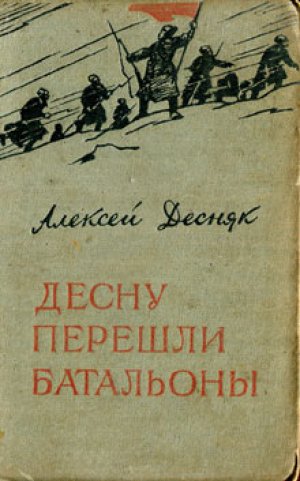
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава первая
Фронтовики в серых шинелях, ватниках, гимнастерках облепили вагоны. Обросшие, давно не бритые, худые и изможденные, солдаты исподлобья, тяжелым взглядом обводят сосняк, курят махорку и отчаянно чешутся. Кое-кто с завистью разговаривает со своим братом-солдатом, стоящим уже на тормозной подножке. Солдат размышляет вслух: спрыгнуть в лесу или ехать до станции? От леса до села рукой подать. Взяв свой брезентовый засаленный мешок, солдат повис на поручнях. Коснулся ногой земли, побежал рядом с поездом, остановился и, прощаясь с товарищами, долго, пока последний вагон не скрылся за поворотом, махал фуражкой. Потом облегченно вздохнул и быстро спустился с насыпи. Ступал он широко, вдыхал полной грудью сосновый воздух.
— Дома… — сказал он вслух и огляделся вокруг.
Солдата с обеих сторон дороги обступили стройные, кудрявые сосны, зелеными кронами кивали ему. В глубине леса стучал дятел, пищали синицы. Желтый лоскуток коры тоненько звенел на ветру.
— Три года не видал родного села… Мишка, верно, вырос, может быть, пастушок уже? Узнает ли отца?.. И Ульяна все тосковала, присылала письма, залитые слезами.
«Хлеб этим летом не уродил, как зимовать будем — и не знаем», — неожиданно вспомнились слова из отцовского письма, написанного чужой рукой.
Солдат в нерешительности остановился: домой полетел бы на крыльях, но и на отцовскую полоску земли посмотреть захотелось. Да и недалеко она — в полуверсте от лесной дороги.
— Пойду! — и решительно повернул направо через лес. От быстрой ходьбы гимнастерка прилипла к плечам. Он снял шинель и взял ее на руку.
На опушке начинались пески, а на песках — рожь Жалкая, мелкий колос и стебель чахлый. Здесь навоз нужен, да где его возьмешь, этот навоз? Фронтовик останавливался у посевов, мял в пальцах колоски; пробовал плоское зерно на зуб. Скоро жатва, а что жать придется? Засеял ли отец свою полоску?
Пекло солнце. Солдат шел с трудом, по самые щиколотки загрузал в глубоком песке.
Маленькая кудрявая груша над дорогой на их полоске. Он зашагал быстрее, уже не сводя глаз с желтой полоски, четко выделявшейся на фоне зеленой картофельной ботвы, потом вдруг пошел медленнее, в отчаянии схватился за голову. Рожь была реденькая, поднялась чуть-чуть выше колен. Колоски сиротливо клонились ему навстречу. Посмотрел вниз, на помещичье поле. Ветер волны гонит, рожь шумит, как море… И послышалось солдату, будто колоски на отцовском поле шепчут тоскливо: «Мало нас, мелкие мы… Мало нас, мелкие мы…»
— Эх!.. — с губ солдата сорвался приглушенный стон. — Будьте вы прокляты, звери! — он побрел прямо через картофель к убогим соломенным крышам родных Боровичей.
…На околице его догнала пара вороных. В бричке, — редко увидишь брички в окрестных придеснянских селах, — сидело двое. Один — пожилой, лет сорока пяти, худой, с острыми скулами. На нем была черная вышитая косоворотка, стянутая черным плетеным пояском, на голове — новая черная шляпа. У другого — еще совсем юноши — был тонкий, как клинок, подбородок и острые, прищуренные глаза. Из-под черной плисовой фуражки лихо выбивались кудри. Он был в вышитой белой рубахе, черных брюках и хромовых сапогах.
Поровнявшись с солдатом, пожилой придержал лошадей. Хриплым, привычным к окрикам голосом спросил:
— Как будто из нашего села фронтовик, Иван?
Молодой посмотрел на заросшее жестким волосом лицо солдата и ответил нарочито громко:
— Дмитро Надводнюк…
Солдат не остановился — шагал и смотрел на сытых лошадей и на их хозяев. Вспомнился девятьсот пятый, казаки, которых Писарчук приводил к нему, к Бояру, к Ананию Тяжкому. Тогда у Писарчука еще не было ни таких резвых лошадей, ни такой брички. «Кому — война, а ему — житуха», — подумал Дмитро. Закипела кровь, сжались кулаки… Отвернулся.
— Садись, служивый, подвезу! — окликнул Писарчук.
— Я привык пешком.
— Садись!
— Я доеду на отцовских!
Писарчук злобным взглядом смерил солдата.
— Р-россию немцам продали!.. Бунтуете!
Дмитру показалось, будто его кнутом огрели. Внутри все кипело, он едва сдерживался.
— Россию осрамили перед всем светом. Царя…
— К черту вашего царя!.. Натерпелись!.. Довольно!
Писарчук подскочил на бричке. На висках надулись синие жилы. Мелко-мелко задрожали насупленные брови.
— Ты с фронта удрал, Григорий Бояр удрал. Отечество кто защищать будет?
Дмитро в сердцах сплюнул.
— Почему же ваш Никифор не пошел защищать отечество? — и сделал ударение на «отечество». Писарчук быстро свесил длинные, худые ноги в сапогах «бутылками».
— С Никифором себя сравниваешь? Он в гимназии был! Ученый! При воинском начальнике нужен…
Фронтовик захохотал. О-о, так можно защищать отечество… Он не раз встречал таких защитников. И опять исподлобья посмотрел на вороных сытых лошадей. Глаза его встретились с глазами Ивана. Тот не скрывал ни своей ненависти, ни удивления: фронтовик слишком уж смело отвечал его отцу. Дмитру вспомнилась полоска родного поля. «Мало нас, мелкие мы», — прозвенело в ушах, и он, не скрывая злобы, внезапно спросил:
— Ржица подходящая уродилась, Федор Трофимович?
Писарчук еще сильнее насупил густые, косматые брови.
— Слава богу, подходящая… Может, в жнецы пойдешь?..
Дмитро остановился. Будто кто-то снова огрел его кнутом, так обожгли слова Писарчука.
— Н-нет!
— Ов-ва! А что жевать будешь?
— Хлеб!
— А возьмешь где?
В глазах Писарчука насмешка. Дмитро не ответил и оглянулся. На солнце буйно колосилась рожь на помещичьих и кулацких полях. Писарчук перехватил этот взгляд.
— Не для тебя… Ты про наш хлеб забудь. Голову живо свернем.
— А если мы?..
Взбешенный Писарчук дернул вожжи.
Резвые лошади рванули, обсыпая фронтовика пылью.
У берега на двух старых, сработанных колесах уложены мостки. Молодица стирает белье. Река Лошь оделась в монисто лопухов — тихая, спокойная. Над Лошью растут вербы и тополя. К вербам привязаны лодки. В реке купаются шумливые дети. Молодица на мостках одна. Время от времени она выпрямляется, выкручивает выстиранную свою или свекрови сорочку, затем несет ее на лужайку, кладет на горку серого от влаги белья и, приложив козырьком ладонь ко лбу, не сводит глаз с русой головки, мелькающей в гурьбе детишек. В ее глубоких задумчивых глазах грусть одиночества. Из-под белой косынки спадают на плечи черные и густые, как смола, косы. Загоревшее лицо истомлено ожиданием и печалью. Только подушка знает, сколько слез выплакала молодица. Уже третий год проходит, как забрили мужа. Забрили и сразу погнали в действующую армию воевать с немцем. Редко приходят письма, да и с теми бежишь к соседям, чтобы прочли, — ведь ни она, ни свекор не знают грамоты. Стыдно делиться с чужими своей тоской по милому мужу. Может быть, не то написала б она в письме к любимому, нашла бы более ласковые слова, да вот! — неграмотна, а люди не поймут, что хочет выразить ее сердце.
Вечером уложит она Мишку спать, сама облокотится на подушку, склонит на руку голову — так целую ночь и не сомкнет глаз. Встанет, снимет со стены присланный с фронта портрет, подойдет к окну, смотрит на него при лунном свете. Стоит ее Дмитро с товарищем. Сабли в руках, на затылок лихо сбиты серые фуражки с кокардами. Смотрит Дмитро серыми глазами прямо на нее. Ничего не говорит, ничего не скажет… А она все думает, думает: жив ли он, здоров ли? Молит бога, чтобы пули пролетали мимо, чтоб ангел господень хранил его в боях. Ненавидела она войну, боялась ее и не понимала. Называла войну разлучницей, проклинала. Целовала портрет долгим, страстным поцелуем, прижимала к груди, а потом снова возвращалась в постель и плакала тихо, чтобы свекор со свекровью не услыхали, накричать могут…
Отгонит от себя мысли молодица, нагнется над мостками, полощет белье, а мысли снова осаждают. Сегодня встретила на огороде Наталку Бояр. «Еще нет Дмитра?» — спрашивает, а сама рада-радехонька: дождалась своего Григория. «Не горюй, молодица, приедет! Готовь встречу!» И снова смеется. Да неужели она плохо встретит Дмитра? В сундуке уже давным-давно припрятана бутылка наливки, а яйца найдутся. Приехал бы только поскорее и был здоров…
Свекор горюет. Жатва скоро, а жать нечего. И как они зимовать будут? Свекровь совсем расхворалась. Хоть бы Дмитро не забыл сапожного ремесла, заработал бы деньжат, а то и хлеба…
Не слышит молодица, как на горке затопали босые ноги. На улочке мелькнула лысина свекра. «Случилось что-нибудь?» — испуганно подумала Ульяна, но Тихон счастливо улыбается, машет руками.
— Ульяна, ты слышишь?.. Ульяна! Дмитро приехал!..
Она рванулась с мостков, чуть в воду не упала. Обмерла, сердце зачастило в груди, перехватило дыхание.
— П-правда?
— Приехал! Бородатый!.. Худой!..
Тихон торопливо бросал себе на плечи выстиранное белье. Оно сползало на траву. Старик волновался. Ульяна бросилась к детям.
— Мишка, Мишка!.. Отец приехал!..
Русый мальчик стремглав вылетел из воды, на ходу натянул штанишки, рубашку и помчался к матери. Втроем они торопливо поднялись на горку. Ульяна обогнала Тихона. Мишка обогнал мать и первым прибежал в хату. Приоткрыв дверь, он нерешительно остановился на пороге. У стола стоял бородатый фронтовик, на скамье всхлипывала бабка. Мальчик колебался: «а может, это не отец?» — и поднял глаза на портрет. Там отец молодой, без бороды.
— Мишка, не узнаешь? — Дмитро протянул руки. Мальчик неуверенно подошел к нему и с опаской положил свою маленькую ручку в большую ладонь. Счастливый отец прижал своего ребенка к груди. По небритой щеке скатилась слеза и упала на грудь. Мишка обнял отца.
— Борода у вас какая… — и не добавил: «татусь». Еще раз посмотрел на портрет на стене. Дмитро улыбнулся, оставил мальчика и пошел навстречу Ульяне. Молодица вскрикнула, свалила белье на скамью и припала к груди мужа. Он целовал ее глаза, полные счастливых слез, широкой ладонью нежно гладил по голове. Тихон разглядывал шинель, щупал солдатский мешок, не отходил от сына и все повторял:
— Так неожиданно…
Ульяна с трудом оторвалась от Дмитра. Из сундука вынула ему чистое белье — Дмитру захотелось искупаться в реке. Пока Ульяна со свекровью готовили еду, а Дмитро купался, Мишка успел уже всем соседям сообщить счастливую семейную новость.
Только Надводнюки сели к столу, как в хату вошли соседи, товарищи Тихона, такие же, как и он, хлебнувшие горя старики — Кирей Бояр, Гнат Гориченко и Мирон Горовой. Прибежала солдатка — Вивдя Шелудько. Все они здоровались с Дмитром за руку, поздравляли его с благополучным возвращением домой.
— Может, про моего Данилу слыхал? — спросила Вивдя и часто-часто замигала рыжими ресницами. Печаль лежала на ее широком, безбровом, усеянном густыми веснушками лице. Синева под глазами говорила о бессонных ночах.
— Не привелось встретиться… Данила был на австрийском фронте, в Карпатах, а я на немецком, под Ригой.
— Да разве я знаю, где они, эти Карпаты? — Вивдя подняла передник к глазам. — Писали нам, что многих в плен забрали… Будто и мой Данила там. Когда ж его из плена ждать?
— Не горюй, Вивдя. Вернется твой Данила, войне скоро конец! — снимая со сковороды подрумяненную яичницу, говорил Дмитро. Все наблюдали за его движениями, и кое-кто отметил, что Дмитро похудел и постарел. Вивдя с завистью смотрела на весело хлопотавшую Ульяну. Кирея интересовало, скоро ли наступит то время, когда людей на фронтах не будут калечить.
— Паны хотят войны, а наш брат, фронтовик, если только может, домой уходит. — Дмитро вытер полотенцем руки, вышел из-за стола. — Обмануло нас правительство Керенского. Красиво говорили о свободе, о народной власти, а как уселись на Николкином месте — затянули старую песню. Снова погнали миллионы людей гнить в окопах и вшей кормить. Разве панов интересуют те, кто своими трупами Галицию покрыл, Пинские болота запрудил?.. А какая нам, крестьянской бедноте, рабочему люду, польза от этой войны? Мы там страдали, а вы — здесь! Нам говорили, что землю дадут бедноте. Дали?
— Да где там! — замахали руками Гнат и Мирон. — Как жил пан Соболевский на своей земле, так и живет.
— Люди говорят: силой ее надо брать, — прошептал Кирей, оглядывая присутствующих.
— Может, ваш Григорий говорил? Он дома?
— Пошел куда-то на хлеба посмотреть. Да разве это хлеба, черт его побери!
Дмитро улыбнулся, услыхав с детства знакомое выражение Кирея: «Черт его побери!», которое тот повторял, когда был чем-нибудь недоволен.
— Хорошо, что Григорий дома. Поговорить нужно, посоветоваться. Так, как теперь, дальше жить невозможно, надо прислушиваться к тому, что большевики говорят. И в нашем полку большевики были.
— Люди такие?
— Партия! Она за рабочий люд и за нас, бедноту крестьянскую. Программу такую составил Ленин!
— Ленин?.. Ты видел его? Какой он из себя?
— Не привелось видеть, — с сожалением вздохнул Дмитро. — Большевики так говорили о своей программе: чтобы войне конец, чтобы фабрики и заводы отдать рабочим, а помещичью землю и всякие угодья — крестьянам.
Старики придвинулись поближе к фронтовику. Гнат недоверчиво развел руками.
— Луга Соболевского поделить, поля поделить, лес наш, Лошь наша… Эх, не будет дела! В девятьсот пятом…
— Знаю! — перебил Дмитро. — Сам сидел в тюрьме. Только теперь не то время. Весь народ ненавидит войну, измучился. И есть кому людей сплотить.
— Ну, а кто же людей сплотит?
— Большевики взялись за это дело. Фронтовики.
— А ты не записался в их партию? — спросил Кирей.
— Сперва надо себя на деле показать.
— Тебе, Дмитро, о семье подумать надо. Хлеба на отцовской полоске много не нажнешь. Придется шило и дратву в руки взять, может, сапоги кому пошьешь? А тем временем перемелется. Ведь не один ты на свете, — советовали отец и мать.
Дмитро посмотрел на них, отмахнулся, печально опустил голову на руки. И снова ему послышался шелест колосьев: «Мало нас, мелкие мы…» Вспомнился разговор с Писарчуком.
Сидели допоздна. Дмитро брился перед разбитым зеркальцем и рассказывал о походах и боях, о переходе через Западную Двину, Курляндию, о смерти солдат, об их отваге. Соседи скорбно качали головами, удивлялись людской храбрости, с горечью думали каждый о своем завтрашнем дне.
Уже давно по хозяйству управилась Ульяна, давно заснул на ее руках Мишка. Молодица бросала укоризненные взгляды на соседей: когда же, наконец, они уйдут домой?
Первым поднялся Кирей.
— Кобылку надо отвести в ночное.
Прощаясь, Вивдя подошла к Ульяне и на ухо с завистью прошептала:
— Счастливая ты… А я обниму подушку, заплачу, может на душе легче станет..
Ульяна постелила в клети и протянула руки к Дмитру:
— Любимый… милый… дождалась!
Кирей лежит у оврага, смотрит в звездное небо и прислушивается к тому, как жуют стреноженные лошади. Старику хочется отдохнуть, но не дают покоя мысли, навеянные Надводнюком.
Тяжело стало жить. Совсем не уродило на бедняцких полосках. Да и откуда этому хлебу быть? Разве на этой полоске песка за лесом что-нибудь соберешь? Удобрять было нечем, и хорошо обработать сил не было — вот и мерещится опять голодная зима. А пан Соболевский и кулак Писарчук вон какой урожай соберут, подавай только рабочие руки…
Болит душа у Кирея, сердце ноет. Он ворочается, поправляет под головой чекмень и на росистой траве вытягивает обутые в лапти ноги. Трава!.. Панская она! Соболевского! После большого паводка поднялась выше пояса, мягкая и сочная. Заливные луга, их еще рано косить… А общественного выгона — клочок. Даже собака перепрыгнет! И речка Гнилица принадлежит пану, а за нею — его сад. И какой сад!..
Кирей поднимает голову и смотрит на черные силуэты столетних лип. Там — аллея от дома до самой реки. Кирей никогда не ходил по этой аллее. Внизу яблони, сливы разные, черешни, груши. Днем видно, как много ильинок на деревьях. И в саду этом Кирей никогда не был. А кто из крестьян был? Разве что Писарчук? Кирей только садил этот сад. Давно это было, не теперь… Кирею обидно, он повернулся спиной к помещичьему саду. С луга доносится птичья перекличка.
Верно, под березкой панской закричал перепел…
В эту ночь не уснуть Кирею. В голову лезут воспоминания и все невеселые. Да разве видел дед за свою долгую жизнь что-нибудь веселое? Горе одно! Кости ноют, руки в мозолях. Мозоли никогда не сходили.
Кирей всматривается в темноту. Старческие глаза нащупывают в овраге серую стреноженную кобылку.
Где он только не побывал в поисках заработка!.. Все мечтал прикупить земли с десятинку. Был в Пруссах — жал за сноп у господ. Молотить ежегодно ходил к кулакам на Полтавщину. Ломоть хлеба насущного был в диковинку. Так где уж там о покупке десятины мечтать? Так и остался на отцовской полоске песка на Боровщине…
Родился Григорий. Был умным мальчиком. Сам как-то попал в церковно-приходское. Учиться хотел. Говорил ему Кирей — не ходи! Не послушался. Взял однажды Кирей длинный сковородник, вошел в школу, схватил Григория за ухо и вытащил во двор. Мальчик вырывался, хотел поскорее добраться домой. Кирей погнал его по всему селу, а дома сунул палку в руки и повел в Пруссы. Разве бедняки могли учиться? Конечно, рада бы душа в рай, да грехи не пускают…
В девятьсот пятом зашумело было, земелька показалась краешком, но мелькнула перед глазами и исчезла. И Григорий чуть не пострадал. Просидел с Надводнюком недели три в тюрьме в Соснице, но их все же выпустили. Да и теперь, черт его знает, что творится. И Дмитро Надводнюк, и Павло Клесун, и сам Григорий, — все фронтовики, — говорят, что царя уже скинули. А порядки прежние. Если нет царя, так власть должна быть народная, а паны ее под себя подмяли. Что Соболевскому? Царя нет, а он как был паном, так и остался. У него сенокосы до самой Десны, леса вокруг всего села. За околицу выйдешь — опять его поле… А говорили: землю нам, крестьянам… Дождешься…. И Надводнюк ведь говорил: силой ее взять надо… А как ее возьмешь?.. Молодые, верно, знают. Дмитро зря говорить не будет, не такой он. А земельку брать надо, она непокорная, сама в руки не дается…
Уже перед самым рассветом, устав от тяжелых дум, Кирей задремал. Во сне перед ним встал солнечный сенокос над Гнилицей. Натыканные в траву вешки-прутики указывают межу. Дует легкий ветерок, гонит волны шелковой травы к ногам Кирея. А он только что начал косить. На нем белая, выстиранная невесткой, старомодная рубаха с вышивками на рукавах, соломенный бриль. Коса, как бритва, ровно-ровно кладет траву. Ш-ш-шу! Ш-ш-шу!.. И ложится трава ровным покосом. И тут же Григорий. Он в солдатских штанах, босой и без фуражки. Рубаха на груди расстегнута. Вот Григорий остановился и точит косу… Дзинь-дзинь! Ш-ш-шух… Кирей вытирает потный лоб. Ну, и греет же солнышко! Постояла б такая погодка. Солнце — золото!.. Полосы через две — еще косари. Кирей всматривается и узнает своего товарища, высокого и нескладного Тихона Надводнюка с Дмитром. А еще дальше — Малышенко Гордей. Он один. Кругом на лугу звенят косы. Так радостно-радостно у Кирея на сердце. Он понимает свою радость: ведь не у пана Соболевского они косят. Они всем обществом поделили помещичий сенокос. Вот их десятина, а вот Надводнюков, а дальше Малышенко. А кто там под березкой косит? Клесуны, кажется?…
— Деда, дед, да проснитесь же, наконец!..
Кирей вскакивает и протирает глаза. Перед ним на коленях стоит девушка. Кирей узнает прислугу пана Соболевского — Марьянку и испуганно оглядывается. Кобылка одиноко стоит на выгоне. Из ночного все, верно, давно ушли, потому что солнышко уже вон как высоко поднялось над березкой.
— Ваша лошадь, дед, в траве была. Хорошо, что пан не видел. Прибежала я, лошадь выгнала и вас разбудила. Вам что-то, верно, снилось? — торопливо говорила Марьянка, оглядываясь на помещичий сад.
— Черт его побери, что приснилось!.. Будто мы панский сенокос поделили и косим. Григория своего и Надводнюков во сне видел. Сам я был в вышитой рубашке… Это к добру, дочка!.. А ты все служишь?
— Некуда мне, дед, деваться. Ведь мать на поденной у Писарчука.
— Правда, правда, дочка. Вдовья доля известно какая! — покачал Кирей седой головой.
Он распутал лошадь, положил ей на спину чекмень, взял повод в руки и пошел к плотине. Марьяика забежала вперед.
— Дед, когда будете делить панскую землю, и нам с матерью хоть полоску дадите?
Кирей остановился. На него с мольбой смотрели черные глаза уже изнуренной работой семнадцатилетней Марьянки. Худенькая, стройная, в старой полотняной юбчонке, она напряженно ждала, что ответит дед. Ее руни, — Кирей видел, — работали б на этой земле так, как еще никогда ничьи не работали. Кирей вздохнул.
— Заберем землю, дочка, и вам с матерью первым дадим! — и дернул за повод. Марьянка опять забежала вперед.
— Дед, а когда?
— Когда? — Кирей задумчиво покачал головой. — Когда бы мне самому кто сказал… Прислушивайся к тому, что фронтовики говорят, Дмитро Надводнюк. Он знает.
— Не забудьте ж, дед! — сказала Марьянка и побежала через плотину к помещичьему саду.
Кирей смотрел ей вслед и вздыхал. Он заметил: возле калитки Соболевский остановил Марьянку, что-то спросил у нее и направился навстречу Кирею. Старик поправил чекмень на спине лошади, насторожился. Встреча с паном ничего приятного не сулила. Больной ревматизмом, Соболевский, опираясь на палку, с трудом передвигал ноги. Он был в желтом жилете, белых брюках, и на ногах — замшевые ботинки. Холеная, расчесанная надвое, уже седая борода спадала на плоскую, как доска, грудь. На голове у него была серая летняя шляпа.
На мостике Кирей посторонился.
Соболевский замахнулся палкой.
— Ты как коня пасешь?
— Это кобыла, пан.
— Кобыла?.. А кобыле можно пастись на моей траве?
— Черт его побери, она на выгоне паслась.
— Врешь!.. Веди ее ко мне в усадьбу и принеси пятерку! — Соболевский протянул руку, чтоб схватить повод. Кирей отступил, пряча повод за спину.
— Не дам… Сжальтесь над моей старостью, Платон Антонович! Весь век на вас работал!..
— Бунтуешь?.. Девятьсот пятый снится? В Сибирь загоню, в тюрьму! Веди!
— Теперь и мы умнее будем! — поднял голову Кирей. — Наедитесь и вы сырой земли когда-нибудь. — Он дернул за повод и хотел пройти мимо Соболевского.
Побагровев, Соболевский поднял над Киреем палку. Перед дедом промелькнула вся его жизнь. Он сразу вспомнил вчерашние разговоры в хате у Надводнюков. Его охватила злоба, к лицу прилила кровь. За что? До каких пор будет Соболевский измываться над народом?.. Кирей выпустил повод и, перехватив удар, вырвал из рук Соболевского палку, переломил ее надвое, бросил в Гнилицу.
— Семьдесят лет поедом ели меня с отцом… Черт его побери…
Не оглядываясь, Кирей повел кобылку на гору.
Глава вторая
Гневный и злой возвращался Григорий Бояр домой. Работы на станции не нашлось. Карьеры в лесу тоже закрывались. Дома его поджидала еще одна неприятность — пока он ходил на станцию, пришли сотские и арестовали Кирея. На завалинке голосила одинокая Наталка.
— Писарчук? — сквозь зубы процедил Григорий.
— А кто ж другой?.. В Сосницу угнали.
Бритое лицо Григория почернело. Он сразу выпрямился, сжал кулаки и опрометью кинулся со двора. Остановился он лишь возле хаты Маргелы, в которой заседал недавно избранный комитет. Григорий влетел в хату и осмотрелся. Здесь он никогда еще не был. В углу, под потемневшими иконами, сидел Писарчук, без шапки, в легкой, добротной, из синей шерсти чемерке и в начищенных сапогах «бутылками». У стола в военной гимнастерке сидел писарь — однолеток Григория — Прохор Варивода. Он делал вид, что не замечает Бояра. Такая встреча покоробила Григория. Он посмотрел на третьего. Опершись спиной об угол печки, стоял Маргела. Он курил трубку. Высокий, черный, с длинным, жирно намазанным чубом и небольшими масляными глазками, Маргела был похож на старую лису.
— Защитникам отечества наше почтение! — Маргела низко поклонился Григорию и повел бровью в сторону Писарчука. Тот поднял голову от стопки воззваний Временного правительства.
— Чего хочешь? — не спросил он, а выкрикнул.
— Правды! — рубанул Григорий, обдергивая гимнастерку, и без того аккуратно облегавшую его крепкие и широкие плечи.
— Правды?.. Хе-хе-хе!.. Ты ее когда-нибудь пробовал? Хе-хе-хе!.. — масляные глаза Маргелы быстро забегали в орбитах. Григорий побагровел. На висках вздулись жилы.
— Л плакать не придется?
— Но-но! — Писарчук ударил кулаком по столу. — Говори, чего явился?
— Не стучите! Фельдфебелей видели… Отца зачем потащили в Сосницу?
— По закону!.. Платона Антоновича побил. Палку его поломал. Бунтовал против власти.
— Это не отец хотел бить пана, а пан — моего отца.
— Ты знаешь, или мы знаем?
— Я!
— Ну и знай! — нагло выкрикнул Писарчук.
— Знаю… Это вам не Николкин режим, не забывайте!
Писарчук выпрямился под иконами, провел рукой по недавно подстриженному ежику и еще наглее крикнул:
— Наш режим!
— Чей это «наш»?
— Народный.
— На-родный?.. Платона Соболевского и ваш?
— Против власти агитируешь? За отцом в Сосницу хочешь?
— Поскользнетесь! — Григорий изо всех сил хлопнул дверью и вышел на улицу.
«Зачем я пришел сюда? — неожиданно спросил себя Григорий. — Правды искать? Разве я заранее не знал, кто сидит в этих комитетах? И фронтовик Варивода с ними заодно… Верховодят в селе… Подождите, подождите! — он сжал кулаки и посмотрел на них. — Не тут ли, не в них ли правды искать, в своих кулаках?».
Ему захотелось рассказать близкому товарищу о своей обиде и своих мыслях. Дмитро — фронтовик, он поймет его и посоветует. Третий день Григорий дома, а все еще не виделись. Друзьями ведь были они до войны. Григорий поспешно направился к Надводнюкам.
У калитки дымил самосадом старый Тихон.
— Дмитро дома?
— Да, дома, — недовольно буркнул старик, идя вслед за Григорием. Бояр, не бывший здесь года три, заметил, что хатка Надводнюков еще больше покосилась, прямо по окна осела в землю. Не успел Григорий повернуть щеколду, как дверь потащила его за собой и он очутился в сенях. Тихон и Бояр вошли в хату. Григорий понял, почему старик недоволен. Дмитро сидел на колоде возле скамьи и чинил сапоги, а сегодня ведь было воскресенье.
— Здорово, друг!
Дмитро поднялся, высокий, как отец, и протянул Григорию большую, перепачканную варом руку.
— Здорово, Григорий!.. Рад встретиться на этом свете.
Он снова уселся и потянул в обе стороны концы дратвы. Григорий заметил перемены в Дмитре. В его когда-то буйные, непослушные волосы начала закрадываться седина. Большой, с горбинкой нос заострился. В серых глазах уже не было прежнего юношеского задора, который так любили товарищи. Вместо него, где-то в глубине поблескивали огоньки неудовлетворенности. В углах губ залегла новая морщина, свидетельствовавшая об упорстве и внутренней силе.
— Изменился ты, Дмитро, — сказал Григорий, довольный своими наблюдениями, и подумал: «Этот себе в тарелку не даст наплевать!»
— Да-а… Изменился. Жизнь, брат, наша такая. Да и ты постарел, — сказал Надводнюк, посмотрев в открытое лицо Григория с маленькими клинушками лысины, которые с годами ползли на темя. — На западном был? Я тоже был там… Вот сапоги чиню соседу. Хлеба нет, денег нет! Зарабатываю. Не забыл за три года своего ремесла… Ты сам ушел?
— Дали на три дня отпуск, вот я и смылся.
— А у нас взвод отвели с позиций в тыл на отдых, мы и разбежались. Взводный пример подал!.. — засмеялся Дмитро, показав два ряда крепких, пожелтевших от табака зубов. — Георгия не привез? — снова Дмитро засмеялся. Григорий тоже усмехнулся.
— Георгия у меня нет, но лычку одну имею.
— A-а… За что?
— Пулемет немецкий притащил во время боя. А ты?
— Я тоже имел лычку. Аэроплан сбили. Потом сняли ее, еще и на «губе» сидел.
Дмитро отбросил сапог, взял из деревянной коробки клочок бумаги и скрутил козьюыо ножку.
— Повели нас в церковь в одном селе. Ну, стоим. Длинноволосый курит фимиам за благословенное воинство… — Тихон при слове «длинноволосый» сплюнул и вышел из хаты. — Был у нас такой чудак — Цветков. Я стоял первым, правофланговым, а он позади меня. Накупил этот Цветков копеечных свечек и решил поставить перед каждым угодником. Выйти из строя нельзя, так он положит мне свечу на левое плечо и похлопает: «Божьей матери»… «Тройце единосущной»… «Георгию победоносцу»… Я передавал свечи и его наказ дальше, передним. Нам уже надоело, а он все передает и передает… Вот снова по плечу хлопает. Я поворачиваю к нему голову и говорю:
— Слушай, Цветков, квартиры святых не только в правом углу!
Солдаты покатились со смеху. Полковник тоже услышал, побелел весь. Дернул себя за крашеный ус и давай греть ротного… Девять дней просидел я на «губе»!
Фронтовики несколько минут хохотали.
— Знаешь, Дмитро, моего старика Писарчук с Соболевским в Сосницу угнали.
— Что ты?
Григорий рассказал о стычке Кирея с Соболевским на плотине.
— Я был в их комитете.
— Ну и что? — лукаво поднял брови Дмитро.
— Писарчук угрожал мне. Вслед за отцом в Сосницу не прочь был отправить.
— Что же ты теперь будешь делать? — Надводнюк долго не сводил с Григория испытующего взгляда.
— Как подумаю, сколько пришлось выстрадать в окопах…
— А они здесь и горя не знали, — добавил в тон ему Дмитро.
— …то хочется пойти к Соболевскому и Писарчуку, шею им свернуть!
Довольный этим ответом, Надводнюк отбросил сапог и хлопнул Григория ладонью по плечу.
— Идем искупаемся в Лоши!
За огородами, над Лошью, был котлован, откуда водонапорная башня брала воду и гнала ее по трубам на станцию. Берег здесь песчаный, чистый и крутой. Это было излюбленным местом купания семьи Соболевских. Сюда вот и пришли фронтовики. На песке лежали двое: мужчина и женщина. Ода подняла крик:
— Не для вас, не для вас!
— Куда лезут? — возмущался мужчина.
Дмитро отошел за вербу и стал раздеваться. Берег зарос крапивой. Дмитро разбежался и прыгнул в воду. Вынырнул он сажени за четыре от берега на открытом месте, расправил плечи и крепко ударил сильными руками по воде.
Бояр быстро его догнал. Они вышли на противоположный, покрытый травой берег. Здесь начинался луг. Роскошный и яркий полесский луг, весь в ромашке, шалфее, синих колокольчиках и диком клевере. Фронтовики легли в траву. Им видна была их одежда, развешанная на кустах, котлован, женщина и мужчина, греющиеся на песке.
— Зять Соболевского, говорят, кадровый кавалерийский офицер, — кивнул Дмитро в сторону котлована и добавил: — Из тех, кто считал зубы нашему брату. — Дмитро перекусил травинку, пожевал и сплюнул. — Позвал я тебя сюда, по душам поговорить. Может быть, об одном думаем. Ты был в их комитете, видел, кто там засел. Да и я уже поинтересовался. Писарчук — первый богач в селе, с Соболевским соперничать начинает, Орищенко — на Писарчука равняется, поп Маркиан, Маргела да Варивода. Варивода в эсеры записался. Меня вчера приглашал в свою партию. Да разве я не знаю, кто они? Это — пособники Писарчука. Вот кто этот комитет, Григорий. От таких Керенскому подмога и Центральной раде. А все они вместе против нашего брата.
— Центральная рада в своих универсалах что-то о земле писала?
— Слушай, Григорий! Вот сюда, — и Дмитро показал на свою шею, — пока мы воевали в окопах, нам эту раду помещики с Писарчуком и фабрикантами посадили. Мы ее не выбирали, значит, она и не наша власть! Народ повсюду недоволен, голоден, войной измучен. Вот рада и вертится, как вьюн в проруби. Универсалы написала, а ничего не дала. Как же пойдет она против своих хозяев, сидящих в комитетах и вон там греющих бедра на песке? Разве Кирея забрали бы в Сосницу, если бы эта власть была за нас, а не за панов? Так, дружище?
Григорий и сам много думал об этом. Теперь Дмитро те же мысли высказал. Не сказал только, как быть в дальнейшем. Невтерпеж больше.
Словно читая его мысли, Надводнюк продолжал:
— Они крепко сплотились в своем комитете. В селе верховодят. Народ еще не знает, где правда. А мы, фронтовики, хорошо знаем. Вот давай и начнем работу. Я, ты, Малышенко Гордей, Клесун Павло, Тяжкий Ананий, Кутный Яков да и другие фронтовики найдутся. Бедноту вокруг себя сплотить нужно, глаза людям раскрыть. Вот такое будет начало. — Надводнюк посмотрел вокруг и зашептал тише. — Нам дорогу потом укажут.
— Кто?
— О большевиках слышал в полку?
Григорий кивнул.
— Так вот был в одном взводе со мной мой друг. Уже много лет в партии. Рабочий… Теперь он в Сосницкой организации. Я с ним связь поддерживаю, на днях его увижу…
Григорий взволнованно пожал руку Дмитру. В этом пожатии была благодарность за то, что Дмитро ему открылся, за то, что знал, с чего начинать, и теперь привлекает Григория к общему делу. Григорий почувствовал, что их дружба после трехлетней разлуки стала еще крепче. Он внимательно слушал Дмитра и был готов идти за ним.
Глава третья
Марьянка устала. Вчера весь день прибирала в комнатах. Натирала воском паркеты, чистила посуду, крутила мороженицу: мороженое так любит барышня Муся, которая сегодня должна приехать из Сосницы, где она учится в гимназии. А еще пришлось Марьянке, по распоряжению барыни Нины Дмитриевны, выбирать клубнику в саду. Потом пекли пироги с ягодами, с сыром, с яйцами, готовили всевозможные блюда. Разве справится у печи с этим одна кухарка! Потом на станцию за газетами и письмами для господ пришлось бежать Марьянке. К вечеру она с трудом волочила ноги, так устала, а ночь — моргнуть не успеешь, как уже время вставать.
Еще вчера господа послали лошадей в Сосницу. Муся должна быть сегодня к раннему обеду. Платон Антонович оделся по-праздничному — тонкая батистовая сорочка, серый жилет. Аккуратно в обе стороны расчесал бороду, взял черную с широкими полями шляпу. Он гоголем подходил к Нине Дмитриевне, высокой и очень худой, которую заглаза все называли «щукой», вертелся на больных ногах и спрашивал, хорошо ли одет? Нина Дмитриевна находила туалет мужа безукоризненным. Платон Антонович не удовлетворялся похвалами жены. Он пошел на обвитую диким виноградом веранду, где в кресле-качалке сидел зять, красивый полный брюнет.
— Владимир Викторович, как вы меня находите?.. О-о-о, я и не заметил! Завидую вашему вкусу! — сказал Соболевский, увидев серый костюм зятя.
— У вас, папа, тоже неплохой вкус. Сразу виден опытный кавалер.
— Шутите?
— Нет, я серьезно! — зять вынул из бокового кармана золотые часы. — Папа, уже двенадцатый час. Муся должна скоро приехать.
— Нина, Глафира, Таня, Ксана! Собирайтесь!
Через несколько минут на веранде собрались женщины. Внимание к себе привлекала Ксана: высокая и стройная, с гордо поднятой головой и правильными чертами лица. Выражение уверенности в том, что она неотразима, не сходило с лица Ксаны. Белое шелковое платье плотно облегало ее талию, большое декольте обнажало белую шею и полные плечи. Умение держаться Ксана приобрела в институте, где учились дочери аристократов. Она, как и ее сестра Муся, которую ожидали сегодня, была дочерью скромного сельского учителя, теперь, в военное время пехотного офицера Бровченко, и потому для нее были закрыты двери аристократического института. Но на помощь подоспели бездетные тетя Глафира и ее муж — Владимир Викторович. Они имели большие связи в Москве, и им удалось устроить Кеану в институт. В институте она сразу поняла, что от нее требуется, прекрасно переняла и усвоила манеры и повадки окружавших ее генеральских дочек, своих подруг. Теперь она держала себя, как аристократка, иногда даже с презрением относилась к своим родственникам-провинциалам.
Выйдя на веранду, Ксана грациозно, но с чувством собственного достоинства поклонилась. Владимир Викторович быстро поднялся и поцеловал ее оголенную полную руку. Платон Антонович удовлетворенно кашлянул.
— Наша Ксана — просто чудо! — любуясь ею, говорила мягким и манерно-нежным голосом старшая дочь Соболевского — Глафира Платоновна. Глафира Платоновна — среднего роста, круглолицая, с медлительными движениями — взяла свою племянницу об руку. Глафира Платоновна была в роскошном шелковом костюме сестры милосердия, на голове — белая косынка, спадавшая на плечи, а на высокой груди красовался большой красный крест. В начале войны она действительно была сестрой милосердия в Риге, где стояла воинская часть Владимира Викторовича — ее мужа. Пока раненых было немного, Глафира Платоновна ездила в госпитали, раздавала подарки «солдатикам» и иногда даже делала перевязки. Когда же госпитали заполнились искалеченными на фронте солдатами и вид раненых и их нечеловеческие страдания стали действовать на ее нервы, когда стало ясно, что война требует большого самопожертвования, Глафира Платоновна сразу забыла о своем патриотизме и перестала посещать «солдатиков». В дни приближения немцев к Риге она благополучно эвакуировалась в Москву, а летом приехала к отцу в Боровичи и мужа вызвала сюда в отпуск. Она любила всем рассказывать, как заботилась о «солдатиках», и сама верила в то, что рассказывала, и, расчувствовавшись, плакала. В деревне она продолжала игру в милосердную сестрицу, носила форму (которая была ей так к лицу) и время от времени собирала среди крестьян пожертвования для окопных героев.
— Пойдем, чтобы не запоздать, — тихо попросила Татьяна Платоновна, мать Ксаны и Муси.
Татьяна Платоновна — полная противоположность сестре. Тихая, скромная и трудолюбивая женщина, без капризов и чрезмерных требований. Еще в гимназии она перечитала множество книг, которые оказали на нее большее влияние, чем родители. Окончив гимназию, Татьяна Платоновна пошла работать в школу народной учительницей. Там она встретила молодого способного учителя из крестьян Петра Варфоломеевича Бровченко. Ей понравился высокий, стройный и серьезный Бровченко. Он сделал предложение. Татьяна Платоновна ему не отказала, хоть и предвидела, что отец не даст согласия на этот брак. Обвенчались они тайком. Соболевский принужден был примириться со свершившимся фактом, но отказался что бы то ни было дать в приданое дочери и Петра сыном не называл. Непримиримая вражда навсегда осталась между тестем и зятем. Когда началась мировая война, Бровченко мобилизовали на фронт, и Соболевский забрал дочь и внучек к себе.
…Соболевские вышли на улицу. Впереди, опираясь на палку, волочил ноги Платон Антонович, за ним шел Владимир Викторович, взяв под руку Глафиру и Ксану, за ними — Татьяна Платоновна и Нина Дмитриевна, приподнявшая, чтобы не запылить, край своего платья. Они свернули вправо, к плотине и, спускаясь с горы, всматривались в дорогу, пролегавшую через луг.
— Господа, в лесу, в холодке подождем! — предложил Владимир Викторович. Все согласились. Офицер стал рассказывать о неутешительном положении на фронте, о массовом бегстве солдат из окопов. Глафира Платоновна умело поддерживала разговор мужчин и в то же время восхищалась пейзажем. Восхищаться, действительно, было чем: справа от дороги, в низине, на лугах, принадлежавших отцу, росла густая высокая трава, слева — отцветали цветы на пригорках. Впереди, маня прохладой, зеленела дубовая рощица, белели нарядные березки. Глафира Платоновна оглянулась. Над Гнилицей поднималась гора. На ней — село. Слева от плотины начинался их сад — там роскошная аллея, еще в молодости названная ею «Аллеей вздохов». Глафира Платоновна видит даже увитую диким виноградом беседку. Сколько там передумано в молодые годы!
— Люблю наши Боровичи! В них столько поэзии. Луга, леса, поля, река Лошь! Куда ни пойдешь — душа радуется. Всю зиму — в Москве, и весело, кажется, жить в таком большом городе, а как придет весна — не могу! Тянет меня в Боровичи! — восхищенно тараторила Глафира Платоновна.
— Действительно, флора Полесья чрезвычайно богата. Прекрасный колорит! — поддерживал жену Владимир Викторович.
— Общества здесь нет подходящего, — с грустью проронила Ксана.
— О-о, я тебя, Ксана, понимаю, — многозначительно улыбнулся Владимир Викторович. — Офицерские погоны, шпоры, музыка, песни, развлечения!.. — и вздохнул.
Они вышли на опушку. Дорога, вырвавшись из леса, снова запетляла по лугу к соседней деревне.
Ксана взобралась на пенек.
— Наши лошади!
Все поспешили навстречу. Офицер стал торопливо собирать букет луговых цветов. На дорогу вырвалась пара серых, в яблоках, лошадей. Хоть дочери еще не было видно, Татьяна Платоновна первая замахала платочком. Платон Антонович азартно махал шляпой. Блеснули белые бретели гимназического передника, над бричкой покачивалась соломенная шляпка. Муся сияла счастливой улыбкой. Кучер круто остановил лошадей. Татьяна Платоновна кинулась к бричке. Муся повисла на шее у матери. Глафира Платоновна привлекла гимназистку к себе, не преминув выдавить из своих холодных глаз пару слезинок. Когда мать и тетка выпустили Мусю, она очутилась в объятиях Нины Дмитриевны, затем к ней неторопливо подошла Ксана и, склонившись, поцеловала в щеку. Платон Антонович подставил голову. Муся чмокнула его и протянула руку Владимиру Викторовичу. Он прикоснулся губами к ее пальчикам и, протянув букет ромашек и синих колокольчиков, просил не быть слишком требовательной и принять скромные цветы родного края.
— Ах, как я по вас соскучилась! Вы понимаете: я в Боровичах!.. Я в Боровичах!.. Лес, поле, луга — для меня!.. Нет противной математики! Нет немки!.. — Свобода!.. — Муся подпрыгивала, болтала без умолку, забегала вперед, пританцовывала, скакала на одной ноге.
Ей было лет шестнадцать. Полненькая, живая и веселая, с серыми быстрыми глазками, с ямочками на щеках и двумя каштановыми косами — она производила приятное впечатление, хоть и не была так красива, как старшая сестра.
— Господа, пойдем пешком? Доставьте мне удовольствие.
Лошадей пустили вперед. В центре шла Муся, рядом — мать, бабушка, тетя, за ними Ксана и мужчины.
— Что у вас нового слышно в гимназии? — спросил Владимир Викторович, когда женщины немного угомонились.
— Все говорят о свободе! — выпалила гимназистка. Соболевский сердито кашлянул. — У нас тоже свои ораторы. Катя Гребницкая вылезет на стол, когда воспитательницы нет, и давай, и давай ораторствовать. И о равенстве, и о братстве! Ах, как она говорит! Где только она слова берет? Настоящий оратор.
— Черт знает, что она говорит!.. Розгой некому вас…
— Розгой?.. Шутите!.. А однажды мы штукенцию подстроили нашей монархистке… Воспитательница у нас, Лидия Аполлоновна, монархистка.
— Ты в этом что-нибудь понимаешь, Муся? — спросил офицер, насупив густые брови.
— Все говорят в гимназии… Послушайте. Сделали мы красивый красный бант, понимаете, красный, и положили в ее журнал. Приходит Лидия Аполлоновна, манерно поджала губы, обвела лорнетом весь класс. Мы притаились, молчим. Раскрыла она и: «Ах-ах! бунт в гимназии!.. Ах… ах!..» и упала на стул. Крик на всю гимназию подняла. Начальница прибежала, топает, страшная стала… Допрашивала, допрашивала, а мы, — словно воды в рот набрали… Так мы и победили! — удовлетворенно засмеялась гимназистка.
— И ты, Муся, не понимаешь, как непристойно то, что вы сделали? — не пряча иронической улыбки, спросил Владимир Викторович.
— Что тут непристойного?.. — удивилась девушка. — Теперь не монархический произвол! — повторила она, очевидно, кем-то в гимназии или на улице сказанные слова.
— Господи, боже мой!.. Муся! — женщины всплеснули руками.
— Ну и времена!.. Розги нужны, шомпола нужны! Боже, дай твердую руку и чистый разум для спасения России!.. — прошел вперед Владимир Викторович. — Вакханалия!..
Татьяна Платоновна украдкой дергала Мусю за платье. Глафира Платоновна стала быстро говорить о купальне. Ксана прищуренными глазами удивленно, словно на какого-то зверька, смотрела на сестру… Разговор оборвался. Радость встречи неожиданно испортила та, которую так торжественно встречали.
На следующий день Муся обежала весь сад, побывала у реки, на лугу. Радости ее не было предела. Занятые своими делами, домашние не обращали на Мусю внимания, у девушки было много свободного времени. Правда, Глафира Платоновна, вспоминая встречу в лесу, заводила длинные и скучные разговоры о выдержанности и поведении молодой девушки, но Муся легкомысленно отмахивалась и спешила в лес или на луг. Если у Марьянки выдавалась свободная минута, то Муся, чтобы не было страшно одной в лесу, брала ее с собой. Вскоре Муся привыкла к этой простой и ласковой девушке, певшей прекрасные украинские песни.
Больше всего любила Муся плескаться в воде, но купалась не там, где вся семья, а выбрала себе местечко на Глубокой луке, поодаль от деревни, на лугу, где можно и в Лоши искупаться, и по траве побегать, и на солнце полежать — никто не помешает. Муся не умела плавать. Марьянка ее научила, сделав из сухого ситника поплавки. Муся весело проводила свободное время.
Но иногда и Мусе бывало грустно. Иногда по ее подвижному лицу пробегала тень. Ляжет тогда Муся на траву и думает, напрягает память, хочет восстановить в своем представлении дорогой образ отца. Вот стоит отец перед ней, готовый к походу: высокий, по-военному стройный, целует ее на прощанье. Слезы бегут по гладко выбритым щекам. Силится Муся представить себе выраженье отцовских глаз, но не может. Дорогое лицо расплывается в пятно, остаются только длинные усы.
— Отчего вы такая грустная, Муся? — спрашивает Марьянка, сплетая венок из ромашки.
— Три года отца не видела.
— Соскучилась?
— Очень! Он один меня любил и любовь свою не скрывал, как скрывает мама. А тебя, Марьянка, любил твой отец?
Встрепенулась девушка, низко-низко склонила голову над венком. Любил ли ее отец? Не знает Марьянка, не помнит этой любви. Пять лет ей было. Отец ходил на заработки в экономию Мусина-Пушкина. Всегда возвращался без сил и на кого-то сердитый. Что произошло в этой экономии — не знает Марьянка. Мать рассказывала, что прискакали казаки, забрали отца и долго били его нагайками. В Сосницу его угнали. Там, говорят, тоже били… Да кого казаки не избивали в те страшные годы? Вернулся отец домой, надрывно кашлял, слег и вскоре умер. Внутренности ему отбили… Уже больной, он, бывало, приподнимется, сядет на скамейке, возьмет ее, Марьянку, на колени, гладит потрескавшейся ладонью, а у самого слезы из глаз катятся. Обросший весь, волосы спутанные, а сам желтый, желтый, как воск. «Хотел, чтобы хоть тебе лучше жилось, моя девочка…» Таким помнит своего отца Марьянка. И грустно ответила Мусе:
— Наверно, любил меня отец… — и на длинных ресницах засверкали росинки. Муся посмотрела на нее, что-то подкатилось к горлу, стало нечем дышать. Упала она лицом в траву и заплакала. У каждой и горе свое, и слезы — свой. Поплакали девушки, умылись в Лоши и молча пошли домой…
Ходили они и в сосновый лес за грибами. Сосняк густой, еще не расчищенный. Выберет Муся место где-нибудь в глубине сосняка, возле молоденьких березок, ляжег в траву и глядит в небо. Где-то высоко-высоко плывут облака. Тихо гудят сосны, свистят синицы. Смотрит Муся в небо и просит Марьянку что-нибудь спеть. Марьянка начинает старинную, еще от матери слышанную песню:
Тихо льется песня, и никому не слышно ее из лесу. Поет Марьянка о злой свекрови и несчастных молодоженах, не имеющих своей хаты.
Когда она умолкла, Муся неожиданно поднялась на локте и спросила:
— Марьянка, сколько этой сосне лет?
— Семнадцать.
— Откуда ты знаешь?
— Ее посадили в тот год, когда я родилась. Рассказывала мать, как трудно было ей на работу ходить и за мной присматривать…
Муся растерялась, потому что такого ответа не ожидала. Помолчав, протянула руку и погладила колено Марьянки.
— А я по сучкам высчитала, что сосне семнадцать лет. Так в книжках написано.
— Книги не для меня писаны, — в голосе Марьянки звенит печаль и зависть к гимназистке. — Вы, Муся, учитесь, знать все будете, и мне хотелось быть грамотной, да не для меня, несчастной, были школы. Вот и живу в прислугах у господ, темная, забитая. Почему это так на земле: одному все счастье, а другому ни крошки?
Муся опустила голову, не выдержав взгляда черных глаз. Никогда она об этом не думала. Не глядя на Марьянку, она спешила оправдаться. Она не виновата, что Марьянка неграмотна. Судьба ее, верно, такая.
— Научите меня, Муся, читать книги, а я вам буду всякие-всякие песни петь и вас научу! — черные глаза молили.
— Что тебя интересует в книгах?
— Может быть, они мне скажут, почему одним все счастье, а другие его не видят?
— Таких книг нет, Марьянка.
— Есть! Они должны быть! Я их найду, только научите меня!
Муся пообещала. Марьянка выпросила у Татьяны Платоновны букварь. Когда девушки снова пошли к реке, Муся познакомила Марьянку с азбукой. Девушка набросилась на занятия, как голодный на кусок хлеба.
Однажды Муся попросила Нину Дмитриевну:
— Бабушка, родненькая, отпусти Марьянку со мной на станцию, может быть, письмо от папы есть.
— Подумаешь, подружку нашла!
— Бабушка, дорогая, я боюсь одна! — Муся сумела состроить такое грустное лицо, что вызвала у бабушки жалость.
— Ну, идите уже, идите… Ох, испортишь ты мне прислугу, придется другую брать.
Но Муся уже не слушала, довольная своей победой, и побежала одеваться.
От усадьбы Соболевских до станции километра три. Полдороги идти через село, а затем — по полю. Минут через сорок девушки были на станции.
Пришли чуть ли не за час до прихода поезда из Гомеля. У знакомого телеграфиста забрали газеты для Соболевских: писем не было.
«А вдруг с этим поездом будут! — думала, нервничая, Муся. Долгое отсутствие писем от отца волновало девушку. — Может быть, с отцом случилось что-нибудь, теперь такое делается на свете. Может быть, он раненый лежит где-то, помощи просит… А может быть… Нет-нет, об этом думать не надо. Вот с этим поездом придет письмо, отец сообщит, что он жив, здоров… Поскорее бы поезд!» — Нервными шагами Муся мерила перрон, Марьянка едва поспевала за ней.
Наконец, из лесу вырвался клубок белого дыма и растаял в небе. Из-за сосен показался паровоз, а за ним на повороте выгнулась цепочка вагонов. Пассажирский быстро несся к станции… Вот паровоз уже у перрона. Муся бросилась к почтовому вагону, откуда человек в синем переднике передавал письма дежурному по станции.
— А нам есть? — Мусин голос дрожал. Дежурный пересмотрел пачку газет и покачал головой. Муся повисла на руке у Марьянки.
— Идем…
Марьянка подвела ее к скамье. Девушка в изнеможении оперлась о спинку. Марьянка смотрела на поезд.
Из последнего вагона кондуктор вытащил чемодан и поставил его на землю. После третьего звонка на ступеньке появился военный. Забинтованная рука висела на белой перевязи.
Поезд тронулся.
— Верно, раненый солдат, — прошептала Марьянка, беря Мусю за руку. Девушки медленно приближались к военному, который был в форме пехотного офицера, но без погонов. Он все еще стоял возле чемодана, разглядывая станцию и людей на перроне. Не сводя глаз с профиля офицера, Муся внезапно остановилась. «Высокий, такие же усы…» Сердце у нее застучало, стало душно. Муся потянула вслед за собой Марьянку. Военный обернулся. Муся вскрикнула и зашаталась. Сильная рука офицера подхватила ее.
— Папа, любимый! Приехал!..
Он прижимал ее к себе здоровой рукой и целовал ее полосы, лоб, лицо. Марьянка смотрела на чужую радость, смахнула непрошенные слезы: отец ее так не обнимет, не скажет ей ласковых слов…
Чемодан оставили на станции и пошли в деревню.
На возглас Муси: «Папа приехал!» все выбежали на крыльцо. Глафира Платоновна заплакала.
— Петр Варфоломеевич, вы — герой! Раненый герой. Страдалец за нашу несчастную родину!
— Почему вы не писали нам о ранении? Зачем эта скрытность? — спрашивал Владимир Викторович.
— Что там слыхать? Почему и до сих пор не наведут порядка в Петербурге?
— Успеете о политике! Чайку с дороги. Варенье есть свеженькое, сегодня варила, — суетилась Нина Дмитриевна.
Петр Варфоломеевич обещал позже все рассказать, а сейчас хотел искупаться и сбросить этот осточертевший ему военный костюм. Вышла Татьяна Платоновна с корзинкой, в которой лежало белье.
Они пошли к реке.
Спустившись с горы, Татьяна Платоновна сказала, заглядывая мужу в глаза:
— Петя, может быть, на лугу будем купаться?
Пошли через луг к Глубокой луке. По дороге Татьяна Платоновна рассказывала о жизни семьи, о приезде Муси. Офицер был невесел.
— Чего ты такой, Петя, будто не рад нам.
— Война убила мою веселость.
— Худой ты, Петя.
— На казенных харчах жить приходилось… Рана болит. Будьте вы прокляты!
— Кто?
— Те, кто миллионы людей уничтожил.
— Немцы?
— Которые на царском престоле сидели и министерские портфели носят!
Татьяна Платоновна испуганно раскрыла глаза.
— Ты что-то страшное говоришь, Петя…
Бровченко усмехнулся и стал раздеваться.
…Часа через два все собрались на веранде. Платон Антонович достал из погреба пару бутылок вина. Нина Дмитриевна позаботилась о завтраке. Когда все сели за стол, Платон Антонович поднял бокал:
— За защитников земли русской! — и внимательно посмотрел на зятей-офицеров, сидевших на разных концах стола. Платон Антонович задержал взгляд на грустном Бровченко, который был теперь в белом штатском костюме.
Раненая рука висела на чистой перевязи. В висках вилась первая седина. Длинный нос заострился. Чисто выбритые щеки запали. В его умных серых глазах тесть уловил скрытое возмущение. Соболевский насторожился, не спускал с зятя глаз.
Выпили… Ели молча — такой порядок любил Платон Антонович. Когда подали чай, Соболевский повторил свой вопрос:
— Почему до сих пор не наведут порядка в Петербурге? Почему не чувствуется твердой власти?
Ответ всех интересовал. Бровченко, будто нарочно, не спешил с ответом и долго размешивал ложечкой сахар в стакане. Все наблюдали за ним.
— Некому наводить порядок, — сказал он, наконец.
— Как так некому?.. — подхватил Соболевский. — А Временное правительство?
— Никто не хочет его слушать!.. Рабочий люд и солдаты слушают большевиков в Советах. В Петрограде теперь два правительства, и…
— А вы, господа офицеры, куда смотрите? Время взяться за ум! Пулеметами порядок наводите! В штыки большевиков! — захлебываясь, сжимал кулаки Владимир Викторович.
Бровченко чуть-чуть усмехнулся.
— А солдаты говорят: Временное правительство взять в штыки, чтобы порядок установить. Вы, может быть, знаете, третьего июля была демонстрация в Петрограде. Рабочие и солдаты требовали прекращения войны, требовали, чтобы Советы взяли всю власть! И что ж вы думаете?.. Временное правительство прибегло к методам царя: расстреляло демонстрацию.
— И правильно поступило! — ударил кулаком по столу кавалерийский офицер.
— Поддерживаю! — выкрикнул Платон Антонович. — А вы? — резко повернулся он к пехотному офицеру. Петр Варфоломеевич поднял голову и, отчеканивая каждую букву, громко ответил:
— Не поддерживаю!
Соболевский, Владимир Викторович и Глафира Платоновна вскочили.
— То есть как?
— Слушайте… — У Бровченко нервно задергались брови. — Нужно три года просидеть в окопах, чтобы знать и понимать ненависть солдата к тем, кто погнал его на убой. Пришло время, и солдат понял, ради чего он гнил в окопах, ради чего миллионы солдат похоронены в чужой земле. Кто же теперь пойдет воевать? Я? — неожиданно спросил он и закрыл глаза. — Довольно с меня! За что меня ранили в бою?
Соболевский упал в кресло и закрыл лицо руками. Женщины потупились. И только Муся с восторгом смотрела на отца. Ей нравилось, что он рассердил деда и Владимира Викторовича.
— Вы забываетесь, Петр Варфоломеевич! Вы — офицер! Ваш священный долг помочь Временному правительству навести порядок в России и победоносно закончить войну с немцами! — Владимир Викторович поднялся из-за стола, ушел с веранды. Через минуту он вернулся, держа в руках скомканную газету. Он рывком отодвинул чашку и положил перед собой на стол газету. — Слушайте, господин офицер! Это — к вам! Слушайте!
— Вы напрасно волнуетесь. Успокойтесь! Я это воззвание Керенского к солдатам и офицерам читал. Скажу откровенно: глупо он агитирует! Какая перспектива скрывается за этой агитацией? Опять война? Пусть дамы извинят, опять — вши, смерть и сумасшествие в окопах! Скажу прямо: дураком будет тот, кто послушается Керенского!
Побледнев, как полотно, кавалерийский офицер рванул газету и подскочил к Бровченко:
— Так говорят только… из-мен-ники! А еще — офи-и-цер!..
Бровченко с поразительным спокойствием ответил:
— Да-а, меня сделали офицером на войне. Но поймите, что мне надоело в окопах гнить, как последней твари! Я возненавидел титулованную сволочь, которая продала народ. Вот там ищите изменников!..
— Вы изменили принципам!
— Перестаньте! Я ведь не дурак. Принципы Терещенко — его сахарные заводы, Родзянко — его поместья в Белоруссии, а у меня таких, — он нарочно подчеркнул «таких», — принципов нет!
— Удивляюсь! Удивляюсь, господа, почему он не ходит по улицам Петрограда вместе с восставшей солдатней и не н-носит к-красного флага!..
— Это мое дело, а не дело кадрового офицера Владимира Рыхлова! — отрезал Бровченко.
— Боже, что вы? — всплеснула руками Глафира Платоновна. Ее глаза от испуга сделались большими и круглыми.
— Он психически болен! — заорал Рыхлов. — Вас надо в лечебницу отправить.
Глафира Платоновна заплакала. Татьяна Платоновна сжалась в комочек. Ксана уткнулась в книгу. Нина Дмитриевна выбежала на кухню. Муся смело подошла к отцу и обняла его за шею.
— Папа ранен на фронте, а вы, Владимир Викторович, во время войны к тете в отпуск приехали. Вот!..
— Правильно, Муся! Я человек вполне нормальный, только душа моя исстрадалась и пуля покалечила руку.
С кресла тяжело поднялся бледный Платон Антонович. Нижняя губа обвисла, руки дрожали.
— Чтобы я вас в этом доме не видел! — и он снова упал в кресло, закрыл руками лицо.
…Семья Бровченко переехала в маленький домик, который стоял на противоположной стороне улицы и был отписан в наследство Татьяне Платоновне.
Глава четвертая
В конце июля в Боровичах началась уборка хлеба. Дни были тревожными для всех. У кого была засеяна полоска земли, тот тяжело вздыхал над ней и думал о голодной зиме, исподлобья поглядывая на низину, где буйно дозревали хлеба на полях Соболевского и Писарчука. А те видели и хорошо понимали эти взгляды, помня ночи первой революции, тревожные, охваченные заревом пожара… Писарчук и сам не спал по ночам, и сыновьям не давал. Караулили поле, боялись. Теперь надеяться было не на кого.
Почти половина боровичан вот уже с десяток лет работала на карьерах в лесу, грузила балласт — сыпучий песок для железной дороги, строящейся где-то в болотистой Белоруссии, и с этих заработков жила. Заработки были мизерные, работа тяжелая. День целый бросаешь балласт лопатой в вагон, а к вечеру и спины не разогнешь. А летний день — как год. Люди приносили домой копейки, на эти копейки и перебивались. Теперь карьеры были закрыты — прекратились и эти нищенские заработки. Говорят: нынче не до железных дорог. Куда же людям податься, где хлеба кусок найти? Нужен людям заработок, ведь от зимы не убежишь. Да тут разве заработаешь? Дает Писарчук по рублю на жнеца да еще договаривается, чтобы каждый не меньше чем полторы копны поставил за день. Люди кинулись к Соболевскому — и этот по рублю дает, а полторы копны поставь. Ведь это не шутка — полторы копны! Не каждому по силам такая норма. Да и не о деньгах люди думали, хотели жать за сноп — хлебца нужно. Не соглашаются хозяева за сноп.
Через несколько дней пошел по селу слух: Писарчук согласился — предлагает за девятый сноп. Боже, за девятый сноп! День целый, не разгибая спины, жни, да еще на своих харчах. Да и какие это харчи! Но что поделаешь? Хоть бы за пятый согласился. Ну и жила! Видано ли, слыхано ли, чтобы так над своими односельчанами издеваться? Уж лучше с голоду пухнуть, чем идти к Писарчуку! Пусть пропадает хлеб, ни ему, ни нам! — решали, собираясь по вечерам, соседи. Росла, как ком, черная и страшная человеческая злоба на богачей. До крови сжимались кулаки, хотелось размахнуться и ударить, и так ударить, чтобы пыль столбом поднялась до самого неба.
А тут новый слух: Писарчук берет жнецов из Макошина. Забурлили Боровичи. Все знали, что в Макошине люди только с заработков живут. На лесопилке, на пристани, на путях работали, на водочном заводе. Теперь все закрылось, так куда людям деваться? Погонит их голод к Соболевскому и Писарчуку. Что ж тут делать? Собирались кучками, соседи с соседями, и совещались-советовались… Голова болела от бессонницы, тяжелых мыслей. Надвигающаяся зима тяжелым грузом висела за спиной каждого. Когда б хоть ты один был, а то еще и дети кушать хотят…
Раскололись Боровичи на разные лагери. Одни с болью в душе пошли на поля Писарчука и Соболевского, другие, знавшие какое-нибудь ремесло, искали работу в соседних селах, а некоторые остались дома, надеясь на лучшие времена. Но все затаили в душе ненависть и злобу на хозяев, затаили до поры до времени.
Еще и светать не начинало, а жнецы Федора Трофимовича уже идут в поле. По одному, по двое, по трое идут, перебросив серп через плечо. Идут молча, горькую думу думают. Тут и Свирид Сорока с женой, вечный пастух чужого стада, и Харитина Межова — мать Марьянки, сгорбленная, маленькая, изнуренная работой. И Мирон Горовой с невесткой вышли на заработки. Пришлось и фронтовику Якову Кутному пойти с женой на чужое поле. Его изрытое оспинами лицо, обычно веселое, сегодня было мрачным. Яков никогда не падал духом, но больно было сегодня ему, исстрадавшемуся в окопах, идти работать за девятый сноп.
Писарчук тоже не сидел дома: надо присмотреть за жнецами. А то смотри, чего доброго какая-нибудь баба намнет себе колосков в подол… Сам Писарчук приезжал на лошадях, а сыновья — Никифор и Иван — на волах. Писарчуки жали, вязали и сразу домой свозили, — боялись, чтобы ночью кто-нибудь не украл копен.
Мало в Боровичах хорошей земли. То болота — «Большое», «Дедовское», «Крачковое», то пески сыпучие, то заросшие вереском выгоны. Где поле похуже — это бедняцкое, где получше — это Соболевского, Писарчука, Орищенко. Самая лучшая земля — в урочище Степках между железной дорогой и речкой. Хорошая там земля — жирная и плодородная. Прежде она вся принадлежала Соболевскому, но после тысяча девятьсот пятого, когда он стал понемногу распродавать землю, так и этой половину продал Писарчуку. Вот сюда, в урочище, и набирал жнецов Федор Трофимович. Десятин с тридцать здесь было под пшеницей и рожью. Не любит пшеница песка, ей плодородную почву давай, а земля такая только у помещика и кулаков. Пшеница в этом году у Писарчука прекрасная, как стена стоит. И стебель крепкий, и колос крупный. А подует ветер — побегут по ней волны, как по морю. И рожь — рядом, в рост человека. Колос тяжелый до земли кланяется. Не то, что на полосках у бедняков возле леса — колос в небо смотрит. Не у одного боровичанина, проходившего мимо полей Федора Трофимовича, сердце обливалось кровью. Будет у Писарчука хлеб и к хлебу, закрома трещать будут. Богач!.. А все чужим горбом сделано, руками батраков и бедняков!
Но хоть как ни богаты были кулаки в Боровичах, а машин не знали. Пахали простым плугом, бороновали деревянной бороной, а убирали серпом и косой. Где лучше уродило — там серпом жали, где плохо — там брали косу… Вывел Федор Трофимович своих жнецов, расставил их, сказал: «С богом!», и замелькали серпы в натруженных руках. Постоял хозяин, посмотрел, как работают, наказал не мять хлеба и колоски старательно подбирать. Сыновей рядом поставил, чтобы наблюдали. Никифор — тот, как медведь, работает. Писарчук специально вызвал его от воинского начальника из Сосницы. Иван — в тени под копною. Глаз у него зоркий, это отец знает. Склоняются спины жнецов до самой земли. Умело ловит рука стебли, собирает в пучок, и весь день одна мысль — побольше, побольше бы заработать. Болит спина, ноют руки, исколотые жнивьем, щемит сердце от несправедливости, от обиды. На ряды полукопен у Писарчука посмотрит жнец и зубы от боли стиснет.
Молча жнецы возвращаются домой. Идут гурьбой, идут по одному, несут свое горе в убогие жилища. Одну только песню слышат жнецы. Берет эта песня за сердце, тоскливо от нее на душе.
Поет фронтовик Яков Кутный, возвращаясь с чужого поля.
Привез эту песню Яков с фронта. Пел ее тайком в окопах. Вспомнил о ней в Боровичах и теперь, идя через конопляники, печально выводит:
Катилась песня по полю, через Гнилицу, эхом отдавалась на лугах. Пел Яков с большим чувством, голос его шел из глубины души. К последним словам его песни прислушивалась не одна молодица и не у одной из них от горя сжималось сердце.
Замолкал Яков, и еще грустнее становилось в поле. Тихо-тихо в селе. Притаилось оно и молчит, мрачное, как небо в грозовых тучах перед бурей.
Послушался Григорий Дмитра и не пошел к Писарчуку наниматься в жнецы. Запретил и Наталке. Запрягли они кобылку, выехали в поле, убрали хлеб на своей полоске — поставили две копны и полукопну. Перевез Григорий снопы на гумно, взял косу и отправился за Лошь — там был у него клочок сенокоса. Переехал Григорий реку на лодке, посмотрел на помещичий луг, а там косарей-косарей. Любил Григорий косить вместе со всеми — померяться силами. А кто у них атаманом? Наверно, Ананий Тяжкий. Любит Григорий быть атаманом. Подошел к косарям, засмотрелся. Ананий остановился, взял горсть травы и отер косу. Провел бруском. Дзинь-дзинь!.. Дзинь-дзинь!.. Покатилось эхо над Лошью, перезвонами откликнулось ближнее пастбище. Тоскливо стало Григорию. Кому косят?.. Косари пошли заходить новый ряд. Ананий шел впереди, большой, сутулый, потный, бородатый, и грудь покрыта черным мхом.
— Чего стоишь, Григорий? Приставай к нам, — подошел Ананий.
— Хорошо бы с вами косить, да не пойду я к пану.
— Что ж поделаешь, Григорий! Давно сказано: сила солому ломит. Ведь жевать-то что-нибудь надо?
— Правду сказали, Ананий Петрович. Сила солому ломит, но сила у нас, а не у пана. У нас, видишь, какие сильные руки!
В глазах Анания блеснули огоньки. Ясно было, что о том же и он думал-передумывал, когда шел атаманом на панском сенокосе.
— Я здесь, а баба рожь жнет ему же, пану. Авось что-нибудь заработаем… — сказал он, подумал и совсем тихо добавил: — Мало в Боровичах землицы, а если бы панскую поделить, то хватило бы на всех. Так дальше жить нельзя. Правильно я думаю, Григорий? — глянув в глаза Бояра, осторожно высказал Ананий свою затаенную мысль. Григорий не успел ответить — подошло еще несколько косарей, поздоровались, приглашали в свою компанию.
— Мы, Ананий Петрович, поговорим в другой раз. Приходите ко мне, или лучше к Надводнюку, — сказал Григорий и взял свой котелок с бруском. Переходя по мостку через ров, Григорий услышал, как косари допытывались у Анания: что Бояр обещал рассказать? Может быть, есть какие-нибудь новости о земле?.. Ананий отвечал уклончиво.
Придя на свой сенокос, Григорий наломал ольховых веточек и отметил межу, чтобы не врезаться в участок соседа. Наострил косу, сбросил гимнастерку, поплевал на руки и начал первый ряд…
…Управившись с покосом, Григорий полез на чердак, нашел под стропилами кельму, брезентовый передник, уровень, осмотрел все это и сказал Наталке:
— Пойду в Бутовку. Может, где печку сложу. Люди панский лес тайком возят, хаты строят… Отнесешь Надводнюку хлеба. Он идет в Сосницу — старику передаст.
Уже в воротах Григорий крикнул:
— Если Дмитро опросит, где я, скажешь.
Шел Григорий на заработки и думал: «Что скажет Надводнюку тот человек из большевистской партии?»
По ночам неспокойно стало в Боровичах. В сад к Соболевским, где прежде никто из крестьян не бывал, приходили хлопцы, обрывали яблоки, груши-скороспелки. Нина Дмитриевна хотела однажды подстеречь этих хлопцев, но ее забросали палками, и она еле живая убежала. Выходил Сидор дежурить с ружьем, но хлопцы поймали его в саду, поломали ружье и велели молча лежать в будке.
Соболевские слышали, как по ночам скрипели колеса по песчаной дороге. Вдоль улицы ехали груженые возы. Нина Дмитриевна припадала к щелям в заборе, пыталась узнать, кто из крестьян едет. И если узнавала, то приходила в комнату и записывала их имена. Никто в Боровичах не думал о том, берут или не берут его на заметку, и старался ночью забрать с полей Соболевского все то, что пан не успел за день перевезти к себе в усадьбу. Крестьяне ездили на поле целыми семьями. Жали, вязали, накладывали на возы и свозили домой. Кто первым начал — никто не знал. Возили все, друг с друга пример брали. У кого не было тягла, тот приходил с мешками, переносил снопы на плечах, просил лошадей у соседа.
С поля перешли на луга, свозили и прятали копны по овинам, раскидывали стога, забирали сено домой. Всю ночь, спускаясь с горки, тарахтели пустые возы. Всю ночь скрипели колеса тяжело нагруженных возов.
— Началось… — шепотом говорили в усадьбе Соболевского.
Сразу стало тревожно. Всех охватило чувство страха перед наступающим днем. Затихли песни в липовых аллеях, не слышно было музыки. По ночам дом оставался темным. Усадьба казалась мертвой, только господский Трезор испуганно нарушал тишину, становился передними лапами на заборчик, поднимал голову и выл:
— Гу-у-в-в… Гу-у-в-в… Гу-у-в-в…
Прислушивались женщины к тревожному вою и шептали одна другой:
— Это не к добру собака воет… Все погибнет на этом дворе!..
Платон Антонович закрывал ладонями уши, натягивал на голову одеяло, только бы не слыхать собаки. За последние дни Платон Антонович исхудал, стал трястись, ноги его не слушались. Владимир Викторович ночи напролет просиживал на кровати у Глафиры. Она, перепуганная, плакала и молила его куда-нибудь уехать. Он слушал ее, ласкал, успокаивал, обещал, что через день-два власть возьмется за ум и везде наведет порядок. Но дни проходили, власть за ум не бралась, тревога нарастала.
Глава пятая
Надводнюку не пришлось расспрашивать людей, он легко нашел паровую мельницу на окраине Сосницы. Дмитро вошел через ворота в широкий, заставленный подводами двор и, увидев табличку: «Вход посторонним воспрещен», открыл двери в машинное отделение. Здесь было двое. Один, помоложе, возился у топки, а пожилой смазывал машину.
— Михайла Воробьева можно видеть? — спросил Надводнюк. Оба подняли головы. В пожилом Надводнюк узнал того, кого искал. Воробьев был среднего роста, широкоплечий, с короткими ногами. Его лицо было в машинном масле. Небольшая бородка лоснилась. Пытливые глаза смотрели на Дмитра, улыбались ласково и приветливо.
— Нашел? Вот и хорошо! — Воробьев подошел к Надводнюку, прошептал: — Есть новости. Интересные новости. Ночуешь ты у меня. Я живу в крайнем домике на этой улице слева, возле площади… Найдешь?.. Поговорим.
Выйдя от Воробьева, Дмитро пошел в город. За годы войны город изменился, облупилась штукатурка некогда желтых и серых домов, деревянные тротуары развалились, на немощеных улицах стояли лужи. Только церкви и тюрьма на площади не подверглись влиянию военных лет, сияли на солнце, словно их только что выстроили.
Надводнюк ощупал под рукой узелок, переданный Бояром для Кирея. Надо было найти деда. Дмитро направился к каменному двухэтажному зданию бывшей земской управы, где теперь заседал уездный комитет Временного правительства. Присев в тени под тополем, он вытащил из кармана кусок хлеба. Изредка через площадь пробегали озабоченные люди. У колодца собралось несколько женщин. Их беспокоило резкое повышение цен на хлеб. Они советовали друг другу запасаться продуктами на зиму. Надводнюк тихо выругался. «Их, кроме собственной шкуры, ничто не интересует»…
Вдруг Дмитро увидел Кирея. Старик шел с двумя ведрами к этому же колодцу. Полотняные брюки были закатаны, ноги — грязные.
— Дед!
Кирей остановился и, заметив Надводнюка, подошел к нему.
— Возьмите, дед, ваши передали хлеб. Кому воду носите?
— Поблагодаришь их… Черт его побери… Ночью сижу в погребе, под замком, а днем полы мою в присутствии, начальству воду ношу, поить лошадей заставляют.
— И долго вам придется полы мыть?
— Говорят, долго… Управится ли Григорий один?.. Привелось, сынок, на старости лет, привелось при народной власти. Народная!.. Тьфу!.. Черт его побери. И до каких пор будут они над людьми издеваться? Куда вы, молодые, смотрите? На фронте были, а умней не стали.
Надводнюк рассказал деду, что Григорий уже управился с уборкой хлеба и с сенокосом. Теперь пошел на заработки. Настроение Кирея понравилось Дмитру. Эх, побольше бы таких людей в Боровичах.
— Если б вы были молодым, дед, что бы вы сделали? — тихо выспрашивал Дмитро.
— Черт его побери, что. Силы надо собирать. Соболевскому можно петуха пустить, — шепотом сказал Кирей. — В Гнилицу их всех сразу… Настрадался народ. Землю всю, — и панскую, и кулацкую — разделить бы подушно! Живут ведь они на нашей шее. Вот за что я, к примеру, страдаю? Григорий тоже, как и ты, на фронте страдал.
Дмитро рассказал деду, как Писарчук нанимал жнецов за девятый сноп, как по ночам люди возят помещичий хлеб и сено. Кирей жалел, что его не было в Боровичах, отплевывался и чертыхался.
— Вы, дед, присмотритесь, как оно тут, да и уходите домой. Теперь властям не до вас. Дома будем панскую землю делить.
— А будем?.. — загорелись глаза у деда.
— Будем! — многозначительно подмигнул Надводнюк.
— Ты скажешь Григорию, что я уж как-нибудь да уйду… — Кирей попрощался и пошел к колодцу. Надводнюку больно было смотреть на старика, терпевшего такую обиду на восьмом десятке своей жизни.
Дмитро сходил на речку Убедь, искупался. Дожидаясь вечера, прилег на крутом берегу реки, думал о Михаиле Воробьеве. Ему хотелось заранее угадать те новости, которые обещал рассказать Воробьев; а они, верно, интересные — Михайло попусту говорить не станет. Он не такой. Дмитро вот уже два года знает его как серьезного человека и хорошего товарища. Познакомились они после памятного боя у реки Курляндки, где три батальона 117 пехотного полка, в котором служил Дмитро, полегли в атаке. Прибыло пополнение. С этим пополнением пришел в полк и Михайло Воробьев. Мало знал Дмитро о жизни Воробьева. Сошлись и сдружились они, как земляки. Однажды Михайло рассказал, что до войны он работал механиком на конотопском паровозо-вагонном заводе, а потом переехал в Сосницу. Зачем он переехал в Сосницу, где не было механических мастерских, он так и не сказал. Дмитро понял из его рассказов только то, что переехать Михайлу нужно было для какой-то другой работы. Очевидно, кто-то руководил его жизнью… На фронте они держались вместе. Когда их взвод после боев отводили на отдых, Михайло исчезал, а потом украдкой рассказывал Дмитру о новостях в центре России — в Петрограде, в Москве, приносил вести о Черниговщине. Откуда-то Воробьев знал о забастовках рабочих на Путиловском заводе в Петрограде и о выступлениях ткачей в Иваново-Вознесенске. Рассказывал и о дороговизне в уездах Полесья.
Михайло Воробьев осторожно, но зло высмеивал верховное командование, генералов называл «бездарными тупицами», а солдат — серыми героями, бесцельно гибнущими на фронте. Михайло совсем не так, как он, Надводнюк, смотрел на войну. А когда Воробьев поближе сошелся с Дмитром, то рассказал, хоть и осторожно, почему возникла и кому выгодна война. Михайло приводил факты, как наживались на войне фабрикант Морозов, изготовлявший сукно для солдатских шинелей, и Потапов, заводы которого выпускали орудия смерти. И Дмитро впервые понял, что их, солдат, обманывают… Воробьев приносил с собой газеты и листовки и читал их солдатам. Не все в этих газетах было понятно Дмитру. Но Воробьев умно и терпеливо разъяснял, и Надводнюк начал понимать, что жизнь может быть совсем иной, без царя и без Морозовых.
— Слушай, Надводнюк, большевиков, только они правду говорят! — объяснял шепотом Воробьев. От него Дмитро впервые услышал это новое слово — большевики — и понял его значение.
После одного случая Воробьев стал еще больше доверять Надводнюку. Как-то Воробьева целый день не было в части. Вернулся он молчаливый и настороженный. Лег спать молча. Дмитру в ту ночь не спалось, он получил письмо из дому, в котором отец писал о голоде. Лежал Дмитро и смотрел в потолок, вспоминал родные Боровичи. Что-то зашелестело. Он повернул голову и увидел Воробьева, который вытаскивал из кармана листовки и клал их солдатам под шинели. Глаза Надводнюка и Воробьева встретились. Воробьев на мгновение опустил руки, посмотрел на Дмитра пытливо, настороженно.
— Чего не спишь? — и с тревогой наклонился над ним.
— О деревне думаю, — ответил Дмитро и посоветовал: — Ты будь поосторожней, не то попадешься.
На следующий день — в роте тревога. Ротный коршуном налетает на фельдфебеля. Выстроил взвод во дворе.
— Такие бумажки, — фельдфебель показал смятую листовку, — разбрасывают немецкие шпионы, предатели и изменники. Истинно русский солдат должен выйти вперед и сказать, кто это делает…
Напрасно говорил фельдфебель. «Истинных» не нашлось. Тогда фельдфебель стал с правого фланга.
— Цветков, шаг вперед, марш!
Солдат сделал шаг вперед и замер.
— Ты — честный солдат, Цветков, верой и правдой служишь царю-батюшке. Скажи, кто разбросал эти бумажки.
— Не знаю.
— На место, марш! Идио-от!
Так фельдфебель опросил всех.
Дошла очередь до Надводнюка.
— Надводнюк, шаг вперед, марш!
Дмитро вышел и ест глазами начальство, а сам чувствует на своем затылке острый, пронизывающий взгляд Михайла.
— Я вижу по твоим глазам, Надводнюк, что ты знаешь, кто разбросал бумажки, — воскликнул фельдфебель.
«Неужели и впрямь видит! — испуганно подумал Дмитро. — Сказать правду?» — И Дмитро сразу представил себе полевой суд и приговоренного к смертной казни Воробьева. Такие случаи уже были у них в полку. Воробьев, верный друг, идет на смерть и проклинает его, как братоубийцу. Дмитро побледнел и отрицательно покачал головой. Отчеканил нервно и слишком громко:
— Не видел!
— На место, марш! Мерзавец!
Так фельдфебель ничего и не добился.
После этого Воробьев, пожимая руку Дмитра, сказал:
— Молодец, Надводнюк, не подвел товарища.
Воспользовавшись случаем, Дмитро спросил Воробьева, где он достает эти листовки и газеты. Михайло ответил уклончиво и неопределенно. Дмитро даже обиделся было за такое недоверие, но Воробьев дружески похлопал его по плечу и сказал:
— Поживешь — увидишь. Будет такое время — все скажу…
Почти с полгода пришлось Дмитру ждать «такого времени». Когда царя прогнали и в частях начался разброд, Воробьев неожиданно сообщил, что он — член РСДРП большевиков и действовал по указаниям партийного комитета. О Февральской революции Воробьев говорил, что это совсем не то, что нужно рабочему люду, беднейшему крестьянству и солдатам, потому что Родзянко, как имел прежде в соседней с Черниговщиной Белоруссии свыше 60 тысяч десятин земли, так они у него и остались. Были у Гучкова заводы, и теперь они у него. Были у Терещенко сахарные заводы, и теперь он капитал наживает.
— Надо, Надводнюк, дальше действовать, чтобы капиталистов к чертовой матери!.. Когда ты, Надводнюк, своим умом до этого дойдешь и разберешься, что к чему, приходи в мою партию, будем вместе бороться с ними, — говорил Воробьев.
Оставляя фронт, Дмитро спросил у Воробьева, почему же они дальше не действуют.
Воробьев ответил, что действуют.
— А почему же мы не при деле? — допытывался Дмитро.
— Подожди! Придет время! — успокаивал его Воробьев.
«Может быть, уже пришло это время?» — думал теперь Надводнюк, нетерпеливо ожидая встречи с Михаилом.
Лишь только солнце скрылось за городом, Дмитро отправился разыскивать квартиру Воробьева. Он ее быстро нашел и в ранних сумерках постучал в двери деревянного домика. Навстречу вышел сам Михайло, в синей косоворотке, уже умытый и причесанный. Он ввел Дмитра в маленькую комнатку.
— Раиса, поставь нам самовар, — попросил он жену, худенькую, подвижную и приветливую женщину. Сели за стол, закурили. Несколько минут молча смотрели друг на друга.
— Рассказывай, Дмитро, о деревне, о настроениях. Сперва я тебя послушаю, а уж потом ты меня будешь слушать.
Надводнюк стал рассказывать об уборке хлеба в Боровичах, о тех, кто разрабатывал карьер, о фронтовиках. Воробьев, подперев подбородок ладонью, внимательно слушал, часто переспрашивал, старался не пропустить ни малейшей подробности из жизни в Боровичах. Особенно его интересовало мнение крестьян о земле кулаков и помещиков. Дмитро рассказал о том, как крестьяне увозят помещичий хлеб, о Кирее. Когда Дмитро закончил, Михайло довольно долго молчал, что-то обдумывая, а потом подсел к Дмитру поближе. Глаза его искрились, он был доволен рассказом.
— Так оно и должно быть. И в деревне созревает новая революция. Это революция жестокая и неумолимая: она везде предъявит свои права. Это будут законные права беднейшего крестьянства на землю, а рабочих — на фабрики и заводы. Мы, большевики, поднимем весь трудящийся народ, сметем помещичьи гнезда, прогоним заводчиков, фабрикантов и прочую сволочь. Это будет наша революция, Дмитро! — Воробьев опустил свою тяжелую руку на стол.
Слушая горячие, полные уверенности слова Михайла, Надводнюк опять, как на фронте, почувствовал в Воробьеве удивительную силу. Вот он, Надводнюк, подкову руками разгибает, а Воробьев сильнее его. У Михайла есть какая-то такая сила, что ее в руки не возьмешь, на земле не распластаешь. В чем она, — присматривался Дмитро к Воробьеву, — где она?
— Вот уже пришло то время, когда надо и нам действовать, — сказал Воробьев. Пододвинув чай, хлеб и масло Дмитру, он продолжал: — Теперь, Дмитро, мы переживаем такой момент: Временным правительством заправляет буржуазия во главе с Керенским, а в Советах рабочих и солдатских депутатов засели меньшевики и эсеры. Слушай меня внимательно и разберись в том, что я тебе скажу. Правительство Керенского говорит: воевать с немцами до победного конца. Меньшевистская и эсеровская сволочь в Советах хвостом вертит, поддерживает Керенского. А наша большевистская партия говорит: довольно воевать, конец войне, потому что трудящимся она, кроме горя, ничего не дала!.. Правительство Керенского обещало крестьянам дать землю, но не дало, не дает и не даст, потому что это правительство и по плоти, и по крови своей буржуазное, значит, защищает интересы буржуазии и помещиков. Меньшевики и эсеры в Советах поддерживают Керенского. А Ленин, и с ним все большевики такое требование выдвинули: помещичью, монастырскую и всю прочую землю немедленно отдать крестьянам, а фабрики и заводы — рабочим. Вот, Надводнюк, какой мы переживаем момент. С кем ты пойдешь?
Воробьев испытующе посмотрел на Дмитра. Надводнюк, забыв о чае, слушал. Хотя он и сам кое-что понимал в создавшейся политической обстановке, но слушал Воробьева внимательно, хотел сказанное им навсегда запомнить. Михайло спрашивает, с кем он пойдет? Ясно, с кем.
— Ты бы, Воробьев, мог меня и не спрашивать! Разве ты и до сих пор не знаешь? Я с вами, с большевиками, иду.
Михайло схватил руку Дмитра, крепко пожал ее, придвинулся ближе.
— Я о тебе так и думал, но проверить лишний раз — никогда не помешает.
Надводнюк интересовался, что нужно сейчас на местах, в деревне делать. Воробьев, угадывая его мысли, продолжал:
— За большевистской партией идут рабочие, фронтовики, крестьяне, потому что большевистская программа — это их программа, и недалек тот час, когда Керенский со своими министрами полетит к чертовой матери! А из Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов мы выгоним меньшевиков и эсеров. Авторитет большевиков среди трудящихся растет с каждой минутой, потому что у большевиков слово не расходится с делом и трудящиеся воочию в этом убеждаются.
Воробьев рассказал, что Керенский, видя в большевиках, а особенно в Ленине, свою гибель, начал их преследовать. Рассказал о решении большевистской конференции немедленно отобрать землю у помещиков и о выступлении Ленина на Первом съезде Советов. Всего этого Дмитро еще не знал и потому слушал эти известия, как прекрасное художественное произведение. Напрасно Михайло, прерывая рассказ, просил Надводнюка пить чай. Дмитро тут же забывал о чае.
— Вот не знаю, все ли ты понял, Дмитро, — продолжал Михайло, — а только нам теперь нужно так действовать: в селах надо создавать крестьянские комитеты и немедленно отбирать помещичью землю. Это начинается наша революция. Не время сидеть сложа руки, надо действовать. Сделаем, Дмитро, нашу революцию, и тогда начнется в нашей стране настоящая жизнь. Помещиков и буржуев прогоним, чтоб и духу их не было. Помещичью, монастырскую и церковную землю конфискуем и отдадим крестьянам! Конфискуем у капиталистов фабрики и заводы и отдадим рабочим! Все будут иметь и хлеб, и к хлебу. Народные школы построим, чтобы все стали грамотные. Учиться наши дети будут бесплатно. Нам, брат, дороги не было при дворянах и буржуях, зато наши дети свет увидят. Из среды рабочих и крестьян выйдут инженеры, агрономы, учителя, ученые, профессора, художники… Всюду дорога будет открыта. По-другому будем жить! Все, что нам нужно, — все у нас будет, потому что вся сила будет в наших мозолистых руках.
При одной даже мысли об этой новой жизни у Дмитра дыхание перехватило, быстрее застучало сердце. «Это будущее уже недалеко. Как же тогда будет в Боровичах?» — подумал Дмитро, и перед ним возникло поле от села до железной дороги и даже до хуторов Мариенталя. Поле не Соболевского и Писарчука, а их, бедняков. Счастливый народ на работу спешит. Песни, песни… Лошь — не помещичья, а всего села. Лови рыбу, купайся, сколько хочешь. Сосновые леса, дубовые рощи — общественные. И сенокосы… Вот когда люди будут счастливыми! За такое счастье можно и жизнь отдать…
— Откуда у тебя сведения о Ленине? Петроград далеко, — тряхнув головой, спросил Дмитро.
Воробьев ласково улыбнулся, прощая Дмитру его неосведомленность в партийных делах.
— Человек такой был прислан к нам из центра для связи, понимаешь?
«Как не понять? Так вот откуда у Михайла эта удивительная сила, — подумал Надводнюк. — Михайло не один, он вместе с партией, с Лениным». — И у Дмитра впервые появилось сознательное желание быть таким, как Воробьев, все знать, понимать, обладать такой силой, как Михайло, быть ближе к Ленину.
— Мне с тобой, Михайло, по одной дороге идти к новой жизни… Я о моей партийности говорю. Ты как считаешь? — отвечая скорее на свои мысли, чем задавая вопрос, спросил Надводнюк. Воробьев посмотрел ему в глаза, улыбнулся тепло и приветливо.
— Хорошо, Надводнюк. Ты начинай работу, чтобы мы тебя в деле видели, а я поговорю в организации.
— Так научи, как и с чего начать.
Они вышли из-за стола и поудобнее уселись на кушетке.
Глава шестая
Дня через три после того, как Надводнюк виделся с Воробьевым, из Сосницы в Боровичи прибыл в фаэтоне эсеровский эмиссар, заехал прямо к Писарчуку, пробыл у него часа два и уехал по направлению к Макошину. Это не удивило бы Дмитра, но сразу после отъезда эмиссара он, как и все его друзья и другие крестьяне, сидевшие возле лавки (было воскресенье), увидели Писарчука, который лихорадочно и озабоченно метался по селу. Вскоре возле Писарчука оказались Маргела, Варивода, собственники хуторов, жившие по ту сторону железнодорожного полотна, — братья Сергей, Евдоким и Иван Орищенко, владелец лавки Верещака и другие. Они постояли у церкви, посовещались и быстро разошлись в разные стороны.
— Что-то затевают, нюхом чую, — подтолкнул Надводнюка Ананий Тяжкий.
— Забегали… — сплюнул общественный пастух, Свирид Сорока, низенький, обтрепанный, в дырявом соломенном бриле.
Хоть наступил уже вечер, но домой никто не шел. Всем хотелось узнать, отчего суетится кулачье?..
Вскоре по направлению к усадьбе старого Луки Орищенко, находившейся у самой церкви, прошел поп Маркиан, потом проковылял сам Лука, пробежали Писарчук и Маргела. По одному сходились кулаки. Шли они степенно, возле лавки убавляли шаг и здоровались с толпой, но, здороваясь, смотрели куда-то в сторону, мимо людей. Всем было ясно, что собираются только званые.
— Чего это они? — удивлялись у лавки.
— Может, люди хотят рюмку выпить в честь праздника?
Надводнюк оглянул толпу и сказал:
— Нет, друзья, у них собрание будет. Какое-то секретное. Вот видите: пошли только свои. Для чего-то приезжал ведь эсеровский эмиссар?
— Секретное? — воскликнул Ананий. — А вот я пойду и тоже послушаю. Рюмки ихней мне не нужно, а послушать я хочу.
— И я с тобой пойду! — оперся на палку Сорока.
— Идем, хлопцы, все! — позвал Надводнюк.
Поднялось немало народу и пошли к высокой, окрашенной калитке под навесиком.
На резном крылечке сидела старая, толстая, похожая на стог сена, жена Орищенко. Увидев толпу, она ушла в хату. На крыльцо вышли Писарчук и Лука.
— В чем дело? — громко спросил Федор Трофимович.
— Послушать хотим, — выступил вперед Надводнюк.
— Не о вас разговор будет.
— Здесь только собственники, — тоненьким дискантом выкрикнул старый Орищенко из-за спины Писарчука. Этот дискант всем был хорошо знаком: Орищенко по праздникам пел на клиросе.
Писарчук дернул его за рукав, но было уже поздно. К крыльцу, тяжело ступая, подошел Ананий.
— Я тоже собственник.
По двору прокатился хохот.
— Что же у тебя есть, Ананий? — перегнулся через перила Писарчук.
— Хата.
— В которой и от дождя не спрячешься! — закричал кто-то в толпе.
— Что еще у тебя есть?
— Земли три упряжки. Жена есть, дети!
— Принимаете?
— Шутить любишь, — хотел засмеяться Писарчук, но лицо его искривила колючая гримаса.
— Какие там шутки? Вы дело говорите!
Все притихли в ожидании ответа.
— Придешь ко мне, поговорим.
— Сейчас говорите!
— Неподходящая кандидатура, правда? — отозвался Бояр. Писарчук побагровел.
— Вон со двора!
Надводнюк вскочил на стоявшую возле крыльца скамью. Толпа сразу же окружила его.
— Слыхали? Как скотину, гонит! — громко сказал Надводнюк. — Видели, кто здесь собрался? У одного сорок десятин, у другого пятьдесят, у третьего еще больше. Анания не принимают — не ко двору. «Собственники» будут совещаться. Мы знаем, о чем богатеи совещаются! Не поможет вам ваш совет…
— Ты знаешь, куда девают таких? — схватил Надводнюка за плечо Писарчук.
Рядом с Дмитром стали Бояр, Ананий, Малышенко и Кутный. Затрещали колья в плетне. Писарчук вбежал в сени и загремел засовом.
Возмущенная толпа стала выходить со двора.
Надводнюк шепнул Бояру:
— Скажи Ананию, Малышенко и Клесуну, другим я скажу, как только стемнеет, — ко мне.
Поздно вечером у Надводнюка собрались Бояр, Малышенко Гордей, Клесун Павло, Яков Кутный, Ананий Тяжкий и Свирид Сорока. Окна в хате были завешаны. Тихониха и Ульяна дежурили на скамье у ворот. Тихон был в хате.
— Поговорим, как дальше жить будем, — начал Дмитро, когда все уселись вокруг стола. — Кулаки в союз записываются, а мы, фронтовики, беднота, до каких пор будем молчать?
— Нет у нас объединения, вот если б объединиться! — сказал, попыхивая самокруткой, Малышенко. Среди других он выделялся своей худобой и лихорадочным блеском глаз. Курил он быстро, рывками, с какой-то чрезмерной жадностью.
— В других селах уже начали объединяться, — продолжал Дмитро. — Сам Ленин говорит, чтобы беднота объединялась в комитеты. Чтобы власть в селе взяли мы. Кто же без нас начнет? Мы, фронтовики, всему селу голова. Разве я неправильно говорю?
— Правду говоришь, — воскликнул Ананий. — Где объединение — там сила!
— Вы думаете, зря собрались сегодня у Луки Орищенко? Они чувствуют, что нынешняя власть их не спасет. Вот и обдумывают, как людей прибрать к рукам. А мы подумаем, как их комитет разогнать… Вот зачем я позвал вас сюда.
Все долго молчали. Трудную задачу поставил перед ними Надводнюк. Обдумать надо, чтобы не споткнуться. Да и немного их в селе — этих «собственников»; если бы всем селом выступить против них — в порошок растереть можно. Но опять же власть за них. Если бы по всей стране все вместе выступили… А к этому идет — народу дохнуть нельзя из-за панского и кулацкого отродья. Уже вспыхивают по ночам зарева над лесами. Не бедняцкое горит, а помещичье. Народ поднимается на ноги, топоры острит.
— С людьми поговорить надо, чтобы знали, за кого выступать на сходе, — посоветовал самый молодой из фронтовиков Павло Клесун.
— Правильно говоришь, Павло! Каждый на своем конце села пусть расскажет о нынешней власти и объединяет бедноту. А тогда на сходе выступим и новый комитет изберем. Давайте здесь и наметим, кого в комитет избирать.
— Ясно, кого избирать, — Надводнюка, он председателем будет, другого такого на селе нет! Бояра, Анания, Клесуна. Люди их знают, они за людей постоят. Смелых надо избрать, чтобы не оглядывались, чтобы свой путь знали, других бы вели за собой — тогда и победа будет… Об этом совещании пока молчать надо, но людей готовить. Затем сразу, неожиданно для Писарчука, пойти в атаку и выбить его с занятых им позиций.
Ночь выдалась темная, облачная. На улицах тишина, будто в яме. Идти Федору Трофимовичу довольно далеко. Его усадьба на самом углу, где сворачивать из Боровичей на Макошин. Хоть и хорошо после собрания угощал Орищенко, но не опьянел Федор Трофимович. Идет он по улице и боится. Век целый ходил и ничего не боялся, да и теперь как будто ничто не угрожает ему, а все-таки страшно. Из памяти не выходит треск кольев в усадьбе Орищенко, когда на собрание приходила беднота. А вот кто тащил колья, Федор Трофимович не заметил. Это еще больше пугало.
Миновав перекресток, Федор Трофимович вынул из кармана револьвер, подарок сына Никифора, взвел курок и, выставив вперед руку с револьвером, быстро пошел вдоль темных дворов. «Хоть бы ночные сторожа ходили…» — подумал он про себя. Завтра он узнает, кто дежурил сегодня. Бунтует народ, слушаться не хочет… А тут эмиссар из Сосницы плохие вести привез. В Сядрине беднота забрала помещичий хлеб и теперь к кулацкому руки протягивает… Ночью со всех сторон небо пылает. К добру ли это?.. В других селах, рассказывал, бедняки готовятся сеять на помещичьих землях. Разве спроста этот Надводнюк народ подбивает? Не боится. Научились на фронте. И куда смотрело начальство? Им земля наша поперек горла стоит. Снится, верно! Нет, руки коротки! А за такие штучки в Сибирь можно… Это же не впервые… И Бояр с ними..: Этот за отца своего, за Кирея… А Ананий… Если б я не дал ему у себя заработать — он бы с голоду пропал. В «собственники» хочет записаться, — Федор Трофимович усмехнулся. — «Собственник!» Хе-хе!.. Присматривать нужно, быть начеку, не дай бог что…
Он подошел к высокой калитке под соломенным навесиком, прикоснулся к щеколде. Зарычала собака, покатилось кольцо по проволоке.
Веселее стало на душе у Федора Трофимовича. Открыл калитку, собака рванулась навстречу.
— Бровко, глупенький… Это я… я..: — собака приветливо завизжала. Федор Трофимович запер калитку, подошел к собаке, снял с нее ошейник. — Сколько раз я им говорил, чтобы на ночь тебя спускали. И чем они слушают?.. Стереги, теперь не то время. Слышишь?..
Бровко, огромный, лохматый, запрыгал вокруг хозяина. Федор Трофимович рассчитывал на его силу. Такой пес мог в одно мгновение сбить человека с ног.
Писарчук постучал в дверь. Ему отворила батрачка.
— Хлопцы дома?
— Спят, — и зевнула.
— Спя-ат? — Писарчук постучал сапогами по крыльцу. — Никифор, Никифор, идем запоры проверим!
В боковой комнате кто-то застонал спросонья.
— Я проверял. Заперта клуня, — послышался хрипловатый голос в глубине комнаты.
— Я тебе что говорю? Проверял…
Зашлепали босые ноги. На крыльцо вышел Никифор, как и отец, высокий, угловатый, в одном белье, босой.
— Ружье возьми…
Никифор вынес ружье. Они пошли в обход через сад вокруг большого дома. В саду лежал пиленый лес. Федор Трофимович собирался в этом году строить новый дом под железной крышей, а этот оставить Никифору, которого уже следовало женить. Бровко повертелся возле сложенных досок и побежал по саду. Писарчуки пошли вслед за собакой. На границе между садом и огородом стояла огромная клуня. В ней все богатство Федора Трофимовича — пшеница. У ворот отец и сын разошлись, пошли по обеим сторонам клуни. Старик потрогал руками замки и вздохнул.
— За свое добро, сынок, душа болит.
— Я ведь сказал — заперта.
— Сказал… Себе самому не веришь в такое время. Караулить будем по очереди. Не надеюсь на Бровка.
Собака услышала свое имя и преданно растянулась у ног хозяина. Федор Трофимович толкнул ее носком сапога.
— Стереги! Даром кормить буду, думаешь?
Внезапно Никифор схватил отца за руку.
— Гляньте, отец, гляньте…
За деревьями, над Лошыо, разорвалась темнота ночи, пожелтела. Задрожали далекие отблески. Они быстро поднялись вверх. Стали видны волнистые очертания облаков. Над тополями повисло зарево. Бровко посмотрел на небо, залаял, кинулся в огород.
Боровичи спали. Не слышно было ни звука. Но от этой загадочной тишины не по себе стало отцу и сыну. Не полетит ли в небо и их клуня?
— Стога горят, сынок, за Десной… В Слободке или в Бабе.
— М-может быть клуни, с-село? — прошептал сквозь зубы Никифор.
— Огонь столбом поднимается, видишь? — уверенно ответил старик.
Зарево быстро ширилось. Далекое полымя золотило листья на тополях над Лошью. Отец и сын, онемев, стояли возле своей клуни. Они перестали верить в свое будущее.
— Для наших людей оружие нужно. Понял? — прошептал немного позже отец.
— Достанем, — еще тише ответил сын.
Напряжение в селах прорвалось, как только полили сентябрьские дожди. Со всех концов уезда полетели крылатые, волнующие вести. В Нехаевце, на водочном, теперь не работавшем заводе, разгромили погреб. На место происшествия сбежались не только нехаевцы — были и из других деревень. Из Сосницы прибыли войска. От* ряд перепился и помог крестьянам окончательно опустошить погреб.
На станциях рассказывали, что в Прачах развезли по домам помещичий хлеб, уже молотят его, мелют и едят.
А теперь и совсем близко началось — в Макошине. Батраки в экономии Мусина-Пушкина разобрали намолоченное зерно. Управляющий и не пикнул, едва свою шкуру унес. Уже на следующий день об этом событии услыхали в Боровичах, собирались кучками, совещались, выжидательно бродили вокруг усадьбы Соболевского, по никто еще сигнала не подавал. Платон Антонович видел боровичан возле своего дома и не выходил на прогулку, боялся. Молча слонялся по комнатам Владимир Викторович, Глафира Платоновна в своем костюме сестры милосердия больше не собирала пожертвований для солдат. По вечерам Соболевские сидели в темноте: боялись зажечь свет. Усадьба притаилась, молчала, люди жили в ней, словно в гробу.
Марьянке было страшно в усадьбе, и она убегала в домик к Бровченко, просиживала целые дни с Мусей, которая уже собиралась возвращаться в гимназию. Петр Варфоломеевич писал красками — он любил это занятие — или читал. К тестю он не ходил. Татьяна Платоновна готовилась к занятиям в школе. По вечерам все они выходили на улицу и смотрели, как где-то далеко полыхает пожар. Иногда ветер доносил удары колокола. Стояли молча. Муся вздрагивала. Марьянка поняла, что и они боятся, но скрывают от нее свой страх. Вскоре Марьянке запретили ходить к Бровченко. Владимир Викторович своего страха не скрывал.
— Ты спишь в кухне, — сказал он Марьянке, — тебе слышнее… Что-нибудь услышишь в усадьбе — буди немедленно.
Соболевские запирали все двери и с тревогой ждали утра.
В воскресенье Писарчук разослал по всему селу десятских, чтобы созывали на сход. Погода была дождливая, в хате у Маргелы все не могли поместиться, поэтому сход созывали в школе. Десятские кричали под окнами:
— Есть бумага из уезда, надо всем идти. Такой приказ!
После обеда в школу пришли Соболевский, Рыхлов — в офицерской форме — и Глафира Платоновна. С ними был отец Маркиан, крепкий белобрысый мужчина.
Парты из класса вынесли. В одном углу стоял стол и возле него уже сидели Писарчук с Прохором Вариводой. Полукругом стояли кулаки, а дальше, в большой толпе — Надводнюк, Бояр, Малышенко, Клесун, Тяжкий.
Бровченко, в военной форме, но без погон, поздоровался с Надводнюком и его товарищами, подошел к окну. Рядом с Бровченко — Муся и Марьянка. Соболевский со своими остановился возле кулаков.
Молча входили крестьяне, занимали свободные места, исподлобья поглядывали на стол. Сбивая принесенную на лаптях грязь, они смотрели на крепкие сапоги кулаков, громко кашляли и сплевывали прямо на пол. Через несколько минут все потонуло в клубах махорочного дыма.
Федор Трофимович снял черную смушковую шапку, откашлялся, обвел глазами передних и объявил:
— Начнем!
Фронтовики разошлись в разные стороны: Надводнюк — в центре, Бояр — справа, где группировались люди из Супруновки, Клесун — среди ивашковцев, Малышенко — среди лозовчан, а Ананий — с кулишевчанами. Писарчук заметил это движение, весь передернулся, скомкал шапку в руках, снова бросил ее на стол, внимательно посмотрел на кулаков и высоким фальцетом выкрикнул:
— Начнем, граждане!.. Приказываю, чтобы было тихо и чтобы не ходили!.. Здесь нам из уездного комитета прислали бумагу. Варивода нам ее прочтет, а я скажу сейчас о ней. Есть люди, которые забывают власть и бога. Беспорядки заводят, чужое имущество грабят. В некоторых селах — пожар за пожаром. У нас, слава богу, народ не такой, этого нет. Нужно так сделать, чтоб и не было беспорядков.
Крестьяне стояли молча, опустив головы. Изредка кто-нибудь кашлял, надрывно и глубоко. Федор Трофимович, обдергивая чемерку, продолжал уже вкрадчивым, тихим голосом:
— Я так скажу. Есть у нас богом и народом поставленная власть, значит надо ее слушать! Теперь все равны и одинаковы, нет теперь царизма, а есть свобода. Закон для всех один… Вот будет Учредительное собрание, делегатов своих туда выберем, так они разберутся, как в дальнейшем жить будем, и о земле решат. Я по-дружески советую поддерживать порядок и подчиняться власти… В бумаге сказано круто, но нам не надо допускать до этого. И еще я скажу, что в нашем селе есть такие люди, которые подбивают народ. А вы, граждане, их не слушайте — помните, что за беспорядки власть будет строго наказывать! — Федор Трофимович повысил голос: — Приедут, заберут, как в других селах, по тюрьмам таскать будут. Тогда на себя пеняйте, сами будете виноваты, если моего доброго совета не послушаетесь. Власть наша говорит, чтобы мы жили в согласии и тихо. Тогда все будет хорошо и всем будет хорошо. — Острым, подозрительным взглядом Федор Трофимович обвел собравшихся, но никто на него не смотрел. В комнате царили молчание и тишина, словно никого здесь не было. Федор Трофимович вытащил из кармана платок и вытер вспотевшие острые скулы. — Теперь пусть писарь прочтет бумагу из уездного комитета. Читай, Варивода!
Варивода уж слишком поспешно схватил со стола бумагу, откашлялся и начал читать. Надводнюк презрительно усмехнулся и, прищурившись, посмотрел на Бояра. Тот тоже посмотрел на Вариводу и сплюнул.
«В уезде стало известно, — читал Варивода, — что в некоторых селах нашего уезда начались бесчинства. А творят эти бесчинства разные темные люди и хулиганы. Нечестные и воровские разные люди грабят и не подчиняются властям. Так поступают враги народной свободы и враги власти…»
— Слышали? — прервал чтение Писарчук.
Никто ничего не ответил. Дмитро незаметно протиснулся к столу, стал за спиной Федора Трофимовича, смотрел в «уездную бумагу». Варивода продолжал читать:
«Так поступают враги народной свободы и народной власти. Сосницкий уездный комитет и уездный комиссар оповещают всех граждан, что если подобные дела будут и дальше, то с такими людьми расправа будет по закону. У нас есть достаточно вооруженной силы, чтобы прекратить такие бесчинства, а виновных будем арестовывать и сажать в тюрьмы…»
В зале было тихо. Казалось, Варивода читает для себя одного. Никто ни одним звуком не реагировал на «уездную бумагу». И вдруг в напряженную тишину ворвался властный голос Надводнюка:
— Это ложь, граждане! — Он высоко поднял руку. — Ложь!
Зал сразу ожил. Все, как один, подняли головы, придвинулись ближе к столу. Кулаки тесным кольцом окружили Федора Тимофеевича и поглядывали на Надводнюка, удивляясь, когда он успел пробраться к столу. У окна, скрестив на груди руки, посмеивался Петр Варфоломеевич. Рыхлов что-то скороговоркой шептал на ухо Соболевскому, тот покашливал. Глафира Платоновна испуганно озиралась.
— Эту бумагу они сами написали. Из уезда такой бумаги не было! — крикнул Надводнюк. Вокруг него сразу же, еще даже не разобравшись в чем дело, собрались фронтовики.
— Ты чего языком треплешь? — гневно скосив глаза, заорал Писарчук.
— Давай сюда бумагу! Мы посмотрим!..
— Читай, кто грамотный!..
— Вот какие «собственники». Запугивают!
— Читай, читай! — требовал зал.
Крестьяне напирали на стол. Лица у них были мрачные и взволнованные. Варивода растерялся, поднял руку с листком. Писарчук выхватил его из рук писаря и вскочил на табурет.
— Граждане! Граждане! Вот бумага, смотрите! — он быстро вертел ее во все стороны. — Уездная!
— Ложь! — закричал еще громче Надводнюк. — Бумага не по форме, нет штампа и печати. Я хорошо видел. Писарь Варивода ее писал. Сами надиктовали…
— Дай сюда! — требовал Ананий.
— Мы все видим.
— К черту такую власть!..
— Довольно нашу кровь пить!
— Бумагу давай сюда!
— Тихо!
— Чего тихо?.. Бумагу проверим!..
Кричали зло, требовали бумагу. Кулаки под напором толпы отступили в угол. Писарчук запрятал бумагу за пазуху.
— Прячешь?
— Значит, врешь!
— Боишься показать — значит, сами написали!
— Запугать хотел?
— У самого закрома трещат…
— Шкуру свою спасаешь?
— Боже мой, боже! Папа, Владимир, что ж это такое? — заплакала Глафира Платоновна.
На табуретку вскочил Надводнюк.
— Граждане, видите, чем вас запугивают? Бумаги пишут сами. Разве такие людишки постоят за все общество? Вот в соседних селах такую власть переизбрали. Кулаки против народа. Такая власть нам не нужна!
— Переизбрать комитет! — выкрикнул Бояр.
— Правильно! Переизбрать!..
— Переизбрать!
— А о тюрьме забыли? — орал, побелев, Писарчук.
— Не пугай, не то…
— Сам когда-нибудь сядешь!
— Помнишь девятый сноп!
— Переизбрать!..
Сквозь толпу протиснулся Владимир Викторович.
— Прошу слова!
— Говорите!
— Нечего! Не надо-о… Офицер…
— Зять пана… Не надо!
— Одна рука…
— Сам пан!..
Рыхлов покраснел. Топнул.
— Слова прошу!
— Пусть говорит. Пусть говорит…
— Не надо-о!..
Владимир Викторович поднял руку и закричал:
— Граждане! Чья теперь у нас власть?.. Народная! Кто ее избирал?.. Мы избирали! Ее и надо слушать. А вы слушаете этих дезертиров, которые удрали с фронта, кинули на произвол родину, немцам Россию продали…
— Именно продали! — обрадованно подтвердили оттертые в угол кулаки.
— Опозорили Россию, жизнь разрушают. Голод приходит. Кто виноват? Они — эти дезертиры, которых ждет полевой суд.
— Владимир Викторович, зачем вы людей запугиваете?
Рыхлов осекся. Все обернулись к окну. Красный, взволнованный Бровченко выпрямился, рука на перевязи дрожала.
— Вы же сами удрали с фронта!
— А-а-а!.. — зашумел зал.
— Рыхлов пугает нас!
— Долой!
— Долой!.. Не давать слова!
— Не да-ва-ать!
Кровью налились глаза Рыхлова.
— Вы не офицер, а-а… дурак!
— Это вы — дурак! — крикнула Муся.
— Слезай с табурета!
Рыхлов было рванулся к окну, но ему преградили дорогу. Он повернулся и побежал к дверям.
— Хамы! — бросил он в дверях.
— A-а… Хамы?
— Тащи его сюда!
В дверях образовалась пробка. Владимир Викторович успел удрать. Склонившись на плечо отца, плакала Глафира Платоновна. Воспользовавшись суматохой, Писарчук что-то быстро зашептал Вариводе. Тот закивал.
— Прошу слова, — обратился к толпе Прохор.
— Говори!
— Не надо!
— Он фронтовик, пусть…
— Говори!
Варивода стоял на табурете.
— Граждане, я был на фронте. Всем надоело воевать, это правда. Вот и я пришел домой… Я о беспорядках скажу. О земле все думают, я это знаю. О вас тоже люди думают. Не надо делать беспорядков, всякую анархию! Нужно о порядке помнить…
— Чего ты хочешь, Прохор? — оборвал его Надводнюк.
— Я говорю, не надо беспорядков… Все знают, что будет Учредительное собрание. Пошлем туда своих делегатов. Они и решат, как быть с помещичьей землей. Учредительное собрание никого не обидит… Всем будет хорошо. А теперь жить надо тихо, в согласии и в мире, как бог велит… Придет время, и всем будет хорошо… Я кончил.
— А комитет переизбрать! — раздался из толпы голос Клесуна.
— Варивода с Писарчуком — два сапога пара…
— Надводнюка в комитет!
— Надводнюка-а!
— Бояра!..
— Малышенко!..
— Логвина Пескового!..
— Писарчука! Писарчука!..
— Маргелу!..
— Клесуна Павла!
— Тяжкого!..
— Вариводу!..
— Орищенко!..
— Якова Кутного!..
Надводнюк стал вести собрание. К нему протискивались и называли своих кандидатов. Бояр записывал. Когда в списке оказалось десятка три фамилий, запись была прекращена.
— Голосуем. Бояр, проголосуй за меня.
Григорий вскочил на табурет.
— Кто за Надводнюка, Дмитра Тихоновича, поднимите руки… Выше там в углу!.. — Он довольно долго считал. — Сто пятьдесят четыре.
Записали. На табурете опять стоял Надводнюк.
— Продолжаем голосование. Кто за Бояра, Григория Кирилловича? — и стал подсчитывать голоса. — Сто двадцать один!.. Кто за Малышенко, Гордия Петровича? Девяносто шесть! — и записал. — Кто за Пескового, Логвина Сидоровича?
Логвин, уже пожилой крестьянин, в короткой свитке и в лаптях, стоял в кругу лозовчан. Он пожимал плечами и вслух говорил: «Я что ж?.. Я что ж?.. Как люди…»
За него подали около ста голосов. За Писарчука и Маргелу голосовали одни кулаки.
Надводнюк подсчитал и объявил результаты выборов. В новый комитет были избраны — Надводнюк, Бояр, Малышенко, Клесун и Песковой. Сход избрал председателем комитета Надводнюка и писарем — Григория Бояра. Кулаки сразу же ушли, а крестьяне еще долго не расходились. К столу подошел Бровченко.
— Фронтовики победили! — улыбнулся он.
Надводнюк настороженно посмотрел на него, вспомнил неожиданную стычку между Бровченко и Рыхловым и тоже улыбнулся.
— Да, победили… — сказал Надводнюк и подумал: «Куда ты гнешь, офицер?»
Бровченко и Муся направились к выходу. Муся была увлечена борьбой на сходе.
— Ну и интересно было! Не так, как у нас в гимназии.
— Не так?..
— А Владимир Викторович бежал! Испугался!
— Ты еще дитя, Муся, — серьезно произнес Петр Варфоломеевич и задумался.
Рыхлов, бледный и растерянный, метался по комнатам и ломал руки.
— Боже, боже!.. Что делается с Россией? Они сходят с ума… Мужики, хамы своими лаптями втаптывают в грязь честь и имя лучших людей страны! И этот мужицкий офицер стал их приспешником… Россия, куда ты идешь? Где тот, кто выведет тебя на прежнюю дорогу?.. Отзовись, и я первый пойду под твое благословение. Где ты? — выкрикивал Владимир Викторович, кидая в чемодан свои вещи. Его руки дрожали, дергались. Он мял костюмы, белье и беспорядочно втискивал все это в чемоданы и сундуки. — Поскорее отсюда, поскорее в город, где есть войска, какая-то защита!
Соболевский, вернувшись со схода, застал Рыхлова уже собравшимся в дорогу.
Куда вы? — как осиновый лист задрожал Платон Антонович.
— Владимир! — испуганно вскрикнула Глафира Платоновна.
— Немедленно собирайтесь! Немедленно! Уедем от этих бандитов! Разве вы не видите, что здесь делается? P-революция… убьют…
Этого панического утверждения было достаточно. Все бросились к комодам и гардеробам, начали набивать чемоданы, связывать узлы. На пол летели книги в кожаных переплетах с золотым тиснением, летели подушки, падали на пол флаконы духов, вазы, сервизы, в суете опрокидывали мебель, рассыпали бумаги. Соболевских подгонял страх за собственную жизнь, страх перед теми, кто еще вчера покорно гнул спину.
Глафира Платоновна всхлипывала и складывала в чемоданы всякую чепуху: альбомы, фотографии, фарфоровых зайчиков, цветочные вазочки. Владимир Викторович сердито орал:
— Не делай глупостей, Глафира! — и решительно выбрасывал все эти вещи из чемодана. Глафира Платоновна еще громче плакала и, подобрав выброшенное Рыхловым, снова набивала чемоданы, а Рыхлов опять все это выбрасывал на пол и орал еще сильнее.
— Марьянка, помоги барыне укладывать вещи! — крикнул он наконец.
Прибежала Марьянка и все, что ни попадалось под руку, совала в чемоданы.
Вдруг Нина Дмитриевна опустилась на стул и заявила:
— Я никуда не поеду.
Оторопевший Рыхлов посмотрел на тещу.
— Мама, не болтайте глупостей. Быстрее!
— Не поеду! Я нажила это добро — и теперь бросить его на разграбление? Не поеду!
— Жизнь дороже, мама!
— Не поеду! Они не посмеют! — решительно заявила Нина Дмитриевна. — Мы будем с Марьянкой стеречь. Будем, Марьянка?
Марьянка, не ответив, вышла из комнаты.
Вечерело. Накрапывал дождь. Глухо завывал ветер в саду. Огня не зажигали. В комнатах было грязно, набросано, словно после погрома. Сидор подал к крыльцу две пары лучших лошадей. Сидор и Марьянка выносили вещи и укладывали их в брички. Соболевские перед отъездом присели. Женщины обнялись и зарыдали. Платон Антонович всхлипывал. Ноги у него подкашивались. Рыхлов, сцепив зубы, проверял револьвер.
— Готово! — доложил Сидор.
— Ну, поехали. Остаетесь, мама?
— Остаюсь.
— Да хранит вас бог! — Владимир Викторович нагнулся, поцеловал ее в голову и вышел быстро из комнаты.
— Может быть, поедешь, Нина? — простонал Соболевский.
— Нет, Платон, я остаюсь стеречь.
Они поцеловались, перекрестили друг друга, и Платон Антонович, втянув голову в плечи, поплелся к дверям.
— Мама! Береги мои вещи! — кричала из темноты Глафира Платоновна.
Сидор дернул вожжи, глухо зацокали колеса. Бричка выкатилась со двора.
— Из собственного гнезда бегу, — горестно покачал головой Соболевский и подумал: «Скоро ли я вернусь?»
В ответ ему стонал осенний ветер.
Глава седьмая
Через несколько дней после собрания в усадьбу Соболевских прибежала Харитина Межова, отвела дочку в сторону и, задыхаясь, прошептала:
— Марьянка, люди дрова панские возят!.. Надо бы и нам. Щепки ведь нет на зиму!
Марьянка быстро одела свитку, накинула платок на голову и потащила мать со двора. Они побежали в комитет. Временно комитет помещался в здании школы, в сенях. Бояр разбирал бумаги, а рядом разговаривали Надводнюк и Клесун.
— Дмитро Тихонович, люди дрова возят… — подошла к столу Марьянка.
Харитина стояла на пороге и просительно смотрела на присутствующих.
— Чего вы там остановились, тетка Харитина? Подойдите ближе!
Харитина боязливо приблизилась к столу. К Федору Трофимовичу, бывало, придешь, — стой по ту сторону порога.
— Дровишек бы на зиму… — сказала она тихо.
— Дрова надо брать. Идите и возите.
— У нас и лошади нет… Муж мой старался, старался, но уж когда нагайками засекли его казаки, то где там мне… — безнадежно махнула рукой Харитина. По ее морщинистому лицу побежали слезы.
Павло что-то шепотом спросил у Бояра. Тот кивнул.
— Вы идите домой, а мы с Марьянкой поедем в лес. Лошадь даст Бояр, — сказал Павло.
— Спасибо вам, век не забуду! Вот когда и меня, бедную вдову, пожалели люди! — и пошла к дверям.
Через полчаса Павло с Марьянкой ехали в лес. Павло сидел, свесив с телеги ноги. Он украдкой поглядывал на Марьянку. Выросла она за эти два года. Когда его мобилизовали на фронт, она пасла стадо у кулаков. А теперь — взрослая девушка. Какие глаза у нее черные, как черешни, блестят. И сама, как цветок, расцветает… Марьянка в свою очередь поглядывала на Павла. Давно ли он, возвращаясь с работы, дразнил у панских ворот Трезора?.. На войне побыл. Фронтовик. В комитет его люди избрали. И красивый он, возмужал.
— Как паны поживают, Марьянка? — спросил Павло.
Марьянка удивленно подняла на него глаза.
— Ты что, с неба свалился? Старый пан, Глафира и Рыхлов удрали ночью после собрания, а старуха осталась. Говорит: «Умру возле своего добра!» Вас, комитетчиков, клянет. Большевиками называет. День и ночь, змея, шипит в углу.
— Куда же они удрали?
— Не сказали мне.
Павло помолчал. «Испугались! Не хотелось, верно, насиженные гнезда бросать?» — усмехнулся.
— Так ты говоришь, проклинает? Большевики, — говорит? А ты, Марьянка, знаешь, кто такие большевики? — неожиданно став серьезным, спросил Павло.
Марьянка покачала головой.
— Не знаю. Что-нибудь, верно, обидное.
— Вот чудачка!.. Обидное?.. Ха-ха-ха…
— Чего ты смеешься? Откуда мне знать? — нахмурилась Марьянка.
— Так слушай, я тебе расскажу… У твоей матери нет земли, а большевики хотят, чтобы на конопляниках Соболевского ей нарезали несколько десятинок. Лошади у нее нет, а большевики хотят, чтобы лошадь была. Дров нет, а большевики говорят: бери в панском лесу, чтобы в хате зимой тепло было. Большевики хотят, чтоб ты не работала у панов, а жила в своей хате и имела свою землю и свой хлеб!
Марьянка широко раскрыла глаза. Да ведь они с матерью только об этом и мечтают. Не ходить бы ни к пану, ни к Писарчуку жать за девятый сноп. Не обливаться бы потом у панов. Не быть бы наймичкой. Живет она в прислугах, кто на ней женится, бедной и оборванной? В праздник не в чем выйти на улицу… Марьянка задумчиво произнесла:
— Выходит, большевики — люди хорошие, добра нам, беднякам, желают… А где ж они, большевики?..
— Они везде есть, Марьянка. Это такая партия. Она борется с панами, чтоб всем нам хорошо жилось.
Павло рассказал Марьянке, что слыхал и знал о войне, царе, буржуазии и помещиках. Марьянка впервые узнала, как люди борются за лучшую жизнь. Теперь и она поняла, почему ночью барыня так старательно запирается, почему она злится, почему паны так ругают большевиков. Не за эту ли жизнь, о которой только что рассказывал Павло, пострадал ее отец?.. И опять на девушку нахлынули воспоминания о последних днях отца…
Въехали в лес. Под колесами скрипел песок. Шумели сосны. Пахло смолой. Все чаще и чаще встречались груженные дровами подводы. Встречные односельчане здоровались с Павлом и Марьянкой. Кое у кого в глазах Павло заметил испуг: «Хоть бы ничего не было за эти дрова!»
— Некоторые еще боятся, — сказал он Марьянке. — Не верят, что панской власти конец… Нет, не будет Соболевский наживать капитал на этом лесе. Дудки!
На большой поляне, по ту сторону железной дороги, лежали аккуратно сложенные штабеля дров. Соболевский приготовил их для продажи, но продать не успел — началась Февральская революция, разворачивались события, промышленникам было не до дров. Большие леса росли вокруг Боровичей, но боровичане дров не имели. Нога крестьянская не ступала по помещичьему лесу, грибов нельзя было собирать, а о дровах, конечно, и думать не приходилось. Новоизбранный комитет на второй же день своего существования постановил раздать крестьянам заготовленный Соболевским лес. Теперь возле штабелей стояли возы. Люди выбирали, где поленья получше, молча и торопливо грузили, чтобы успеть несколько раз обернуться. Мирон Горовой старательно грузил свой воз, рядом с Мироном от напряжения пыхтел старик Гориченко. Здесь были и Вивдя Шелудько с мальчиком, и Сорока Свирид. Ананий Тяжкий уже нагрузил для себя — у кого-то лошадь выпросил — и теперь помогает соседу. Легко, без труда Ананий поднимает самые тяжелые колоды. В лес пришли и седые деды, и мальчики-подростки, и девушки, и молодицы. Все возбужденно и торопливо брали дрова, а несколько месяцев тому назад об этом никто и мечтать не смел.
— Гляди, хлопцы, Павло везет Марьянку, словно невесту на свадьбу! — воскликнул Ананий.
— А чем не пара? — крикнула Вивдя с противоположной стороны поляны.
Марьянка вспыхнула и стыдливо отодвинулась от Павла. Павло подумал: «А может и пара?» Он остановил лошадь возле штабелей березы и стал нагружать воз. Несколько колод принесла Марьянка. Павло увидел, с каким напряжением она работает, и ласково сказал:
— Ты, Марьянка, не грузи — я сам.
Сказал и удивился. Откуда у него такая нежность к девушке? И припомнились слова Вивди: «а чем не пара?» Он снова посмотрел на Марьянку и в ее глазах увидел горячую благодарность. Павло смутился и быстрее прежнего стал работать. Марьянка кормила лошадь, взяв охапку сена с соседнего воза.
К ним подошел Ананий.
— Возят, аж пыль столбом стоит… Это ты для Марьянки с матерью? Надо, надо, кто же вдове поможет? — Постоял, свернул цыгарку, попыхтел самосадом. — Только ты, Марьянка, у панов больше служить не будешь — прогонят они тебя за эти дрова.
— Я и сама уйду. Дышать там нечем, хоть удрали уже паны, только старуха осталась.
— Ты правду говоришь, Марьянка? — удивленно замигал Ананий. — Эх, черт, удрали!.. — взмахнул он огромным кулаком. Подошел вплотную к Павлу. — А богатеи по ночам возят.
Павло настороженно посмотрел на Анания.
— Откуда вы знаете?
— Видел. Писарчук вчера ночью на волах и лошадях саженя три сразу перевез. Я и крикнул через плетень: и вы возите, Федор Трофимович?
— Ну-ну… — заинтересовался Павло.
— А он перепугался и ко мне: «Придешь, — говорит, — наберу мешочек, а потом сосчитаемся». Это, чтобы я молчал. Мол, в случае чего — их здесь не было. Норовят, чтоб шито-крыто. Знаю я, для чего это. Проклятые души!..
Ананий сплюнул и стал помогать Павлу.
Груженые возы выехали на дорогу. Марьянка шла рядом с Павлом, старалась идти с ним в ногу. Когда их взгляды нечаянно встречались, Марьянка опускала глаза. Павлу хотелось что-нибудь хорошее сказать девушке, сделать для нее еще что-нибудь приятное. Она шла с ним рядом, такая же несчастная наймичка, как и он — пастух. Он призадумался над этим сравнением и вспомнил свое детство — суровое и безрадостное. Едва встал на ноги, чужое стадо пришлось пасти. Но хуже всего было в жнива и осенью. Оводы не дают покоя стаду. Скотина мечется из стороны в сторону, а вокруг — поля кулаков, посевы. Набегаешься по полю, бывало, ног под собой не чувствуешь. А осенью — проливные дожди. Босой, голый, напялишь на себя грубый мешок и так — целый день в поле. И мерз ужасно, а пожалеть его некому было. Отец на заработках — домой приходил злой и голодный… Учиться очень хотелось. Зимой он ходил в школу. Любил читать. Все книжки, какие были в церковно-приходской школе, перечитал. И у учительницы просил. Но и церковно-приходской Павло не закончил — пошел работать в карьер, балласт возил. До тех пор грузил песком вагоны, пока его в шестнадцатом на войну не забрали. Мобилизованы были юноши лет девятнадцати-двадцати. Не знал, как винтовку в руках держать, но в атаку все же погнали. После первого боя в полку осталось с полсотни человек… Откомандировали в другую часть. И опять он ходил в атаки, а когда солдаты начали покидать фронт, так и Павло подался в Боровичи. Привез с фронта шинель, брюки солдатские, гимнастерку и тяжелые ботинки с обмотками. В этих ботинках и обмотках он и теперь шел рядом с возом… О девушках Павло никогда и не думал — раньше за работой и света не видел, а на войне не до них было. Отец говорит: жениться пора. Жениться? Пойти и посвататься к кому-нибудь всегда можно, но будет ли эта девушка ему по сердцу, полюбит ли он ее? Вот так и жил, и на гулянья не ходил — теперь не до этого… Еще раз Павло глянул на Марьянку. Хорошей девушкой стала. Такая и работы, и трудовой жизни не испугается. Вот такую бы спутницу в жизни!.. Павло вспомнил разговор с ней, когда в лес ехали, и усмехнулся. Чудачка! Ну и налгали же ей господа!
— Что же ты будешь делать, Марьянка, когда от панов уйдешь? — спросил он.
Девушка тряхнула головой.
— Об этом я и думаю. Буду с матерью жить… — Долго молча шла она по сыпучему песку, оставляя на песке ямки, вдавленные рваными обносками.
— Сказал мне как-то дед Кирей, что землю помещичью делить будут. Скорее бы уже!
Она говорила, не сводя глаз с Павла. В ее глазах таилось страстное желание иметь то, о чем он, Павло, говорил, когда они ехали в лес.
— Уже делим, Марьянка.
— Уже?!
— Видишь, дрова уже раздали. Комитет постановил раздать зерно из панских амбаров. Будет у людей, чем засевать и что есть… И о земле решено: отобрать и засеять.
— Лошадей бы где-нибудь выпросить, чтобы вспахать, — мечтательно сказала Марьянка.
— Выпросим и вспашем! Всем хватит земли.
У Марьянки сразу будто крылья выросли. Веселой стала, разговорчивой. Вслух мечтала, как будет работать не внаймах, а на своей земле. На своей… И они с матерью будут жить, как люди…
В тот день Павло с Марьянкой несколько раз съездили в лес. Теперь у Харитины в сарайчике лежали сухие дрова, и ей больше не были страшны зимние холода.
Марьянка проводила Павла.
— Спасибо тебе, Павлусь, — и подала ему руку. Он крепко ее пожал и смутился. И девушка почему-то покраснела. — Приходи, панокими яблоками угощу, — смутившись, сказала Марьянка.
Шла она обратно и чувствовала — Павло смотрит ей вслед. Обернулась и приветливо кивнула. Павло сдернул с головы серую воинскую фуражку и помахал Марьянке.
Марьянка была уверена, что барыня ее изругает. Но как же она удивилась, когда на кухню прибежала Нина Дмитриевна, ласковая и сладенькая.
— У матери была, Марьянка? Знаю, знаю… Наш лес возили… Ну так что, ну так что… Все возят, и вы себе привезите. Ты ж у нас…
Марьянка настороженно слушала ее. Никогда барыня не была с ней так хороша. Чего она хочет? Может быть, боится, чтобы Марьянка не ушла от них?
— Если бы мы знали, так не валили бы леса.
— И людям тоже дрова нужны, — сказала Марьянка.
— Нужны, нужны. Уже разобрали штабеля?
— Вот только кончили…
«Чего она хочет?» — думала девушка.
— Надводнюк себе возил?
— Не видела.
— И Бояр возил? — уверенно спрашивала Соболевская.
— Не видела.
— Что же ты никого не видела! И Тяжкого, и Клесуна Павла не видела? — уже суровей спросила помещица.
Только теперь Марьянка заметила в руках у Соболевской лист бумаги и карандаш. Девушка все поняла.
— И их не видела.
— Кого же ты, Марьянка, видела?
— Всех.
— Как это всех?
— Всех!..
Нина Дмитриевна позеленела, разорвала в клочки бумагу, топнула, завизжала во все горло:
— Негодница ты! С большевиками наш лес развозишь! Подождите, подождите, и вас развезут… На виселицу. В тюрьму… Ее хлебом кормишь, а она дрова ворует. Убирайся со двора, чтоб и духу твоего тут не было. Вон!
Она еще и еще кричала, выбирая самые оскорбительные слова. Но Марьянка ее даже не слушала, вытащила из-под кровати узелок, собрала свое убогое имущество и сказала:
— Слышу, не кричите. Отдайте деньги за прошлый месяц.
— Деньги!.. Она деньги требует! А дрова даром взяла? Подожди — заплатишь… Вон! Смотреть на тебя не могу.
— Я в комитет пожалуюсь.
Марьянка медленно уходила из кухни. В груди кипела обида. Жаль было труда своего, который отдала им.
— Сидор, Сидор, гони ее в шею!.. В шею! — кричала Соболевская, забыв, что Сидора нет в усадьбе.
Марьянка подходила к калитке. Соболевская выскочила на крыльцо.
— Трезор, куси ее, куси!
Из сада выскочил огромный, откормленный волкодав. Его все боялись. Он часто сбивал с ног проходивших мимо усадьбы детей, пастушков, подростков и молодиц. Детей потом приходилось лечить от перенесенного испуга, они теряли речь, заикались. Обезумев от злобы, Соболевская побежала к воротам:
— Куси большевичку, куси!
Трезор подскочил к Марьянке, обнюхал ее и завертел хвостом. Пес не слушался своей госпожи. Марьянка была ему ближе, чем хозяйка: из рук девушки он ежедневно получал еду. В ярости Соболевская так толкнула Марьянку в грудь, что девушка упала. По земле покатился ее жалкий узелок.
Из школы напротив выскочили крестьяне. После избрания нового комитета они, напряженно ожидая новостей, целые дни проводили в здании школы.
— Не трогай девушку, не трогай! — крикнул Ананий.
— Марьянка, сюда! — побежал ей навстречу Павло.
— Бей помещицу! До каких пор ей глумиться над людьми!
— Бей!
В этом крике было все: девятый сноп, слезы на помещичьей земле, голодные годы во время войны и призрак надвигающейся голодной зимы. Случая с Марьянкой было достаточно, чтобы прорвалась затаенная ненависть к Соболевским.
Еще несколько человек выбежало из здания школы. Затрещал плетень. В ворота помещицы полетели колья. Трезор зарычал и кинулся на Анания. Одно мгновение — и на Анании были совершенно изодраны полотняные брюки.
— А-а…
Высоко взлетел огромный кол в руках Сидора Сороки, хрустнуло, и Трезор растянулся посреди улицы.
— Это тебе, чтобы детей наших не калечил…
Нина Дмитриевна стукнула засовом.
— Не спрячешься!
— Держи ее!
— Бей панов!
Люди бросились к воротам. Ананий налег плечом на высокую калитку — не поддается.
— Подсади меня! — маленький и юркий Степан Шуршавый — хороший танцор, опершись о плечо Анания, взобрался на забор и соскочил к Соболевским в усадьбу. Ворота распахнулись. Толпа, как поток через прорванную плотину, ворвалась на широкий господский двор.
Помещица спряталась в доме. Окна были закрыты ставнями.
— Зерно в этих амбарах! — показала Марьянка.
— Хлеб!
— Хлеб!
— Хлеб!
Все бросились в левый угол двора, где стояли ряды длинных, крытых железом амбаров. На дверях — большие замки. Кто-то ударил по замку палкой, но она разлетелась на мелкие щепки. Ананий и Свирид опрокинули возы и выдернули шкворни. Размахнулся Ананий, изо всех сил ударил по замку — всю жизнь Ананий ждал, что вот так ударит. Замок разлетелся на куски, отскочил и бесформенной кучкой железа упал на порог. Ананий толкнул ногой дверь.
— Берите!.. Комитет еще вчера постановил.
Ананий подошел к следующей двери и снова ударил шкворнем.
— Берите!
Люди кинулись к закромам, хватали руками золотистое тяжелое зерно. Брать, но во что брать?.. Они выбегали из амбара, спешили со двора. Те, что жили поближе, тотчас возвращались с мешками, мешочками, с мерками, набирали из закромов зерно, бегом уносили его домой, дома высыпали в клуни или прямо на пол в комнате и снова спешили на помещичий двор. Бежали туда и женщины, и дети. По улицам тарахтели колеса, двор заполнялся возами. В амбарах люди толпились, давили друг друга, набирали зерно в мешки, рассыпали его по полу, втаптывали в землю.
Об этом дне люди мечтали, ждали его, как воду во время жары. Пришло время, и народ, обманутый и обворованный Соболевским, удовлетворял свою жажду. Закрома опустели. Тогда стали отбивать замки у овинов и складывали на возы еще не обмолоченные снопы. Торопились, чтобы взять побольше, топтали снопы ногами, разбрасывали.
Из сараев люди вытаскивали плуги, бороны, культиваторы и складывали их на возы, несли на руках, волокли по земле. Затем разобрали молотилку, сняли привод, уносили части — пригодится в хозяйстве. Из-под стропил вытягивали доски, пиленые брусья, развозили по своим дворам. Все, что попадало под руку, — брали, зная, что в каждой вещи есть и их труд. Это — их работа с утра и до позднего вечера на полях Соболевского. Это — их слезы и слезы их детей…
— Огня!
В вечерних сумерках вспыхнул огонь, лизнул солому.
Огненные зайчики вприпрыжку побежали вверх, с жадностью охватили крышу, завертелись под стропилами и поползли на Гнилицу. Поднялись клубы черного дыма. Затрещала солома, обваливались и падали стропила, перекладины. В черное небо летели языки, искры рассыпались огненным веером над садом, в Гнилице желтела вода. Дрожали листья на деревьях и корчились от жары.
Гудел колокол, оповещая соседние села, что боровичане на огне сжигают помещичью кривду. Колокол призывал к мести. И словно в ответ на его призыв, где-то далеко темноту ночи прорезывали огненные языки, на горизонте вспыхивало зарево и так же тревожно бил колокол. Еще больше уверенности и силы придавало боровичанам зарево над соседним селом. Не бедняцкое горит — помещичье! Значит, и там пошли против панов! Из-за огромных костров, пылавших на земле, в те ночи не было видно на небе звезд. Полещуки в те ночи держались все вместе, расходились по хатам, когда на горизонте уже серел рассвет.
Через луга, подальше от накатанной дороги, по направлению к лесу бежал старик. В грязной полотняной рубахе и полотняных брюках, босой, со всклокоченными седыми волосами, он имел вид человека, давно не жившего в человеческих условиях.
Он, верно, сильно устал. Виски его заливал пот. Человек оглядывался на купола сосницких церквей, спотыкался, бежал дальше, присаживался на пригорках, чтобы отдохнуть, смотрел на тусклое солнце, которое вот-вот спрячется за лесом, вскакивал и бежал быстрее прежнего, прикидывая на глаз расстояние до огромных дубов, росших над Десной. Бежать туда еще порядком — версты три. А солнце склонялось все ниже и ниже. Тени на лугу становились длиннее. Выпала холодная роса. Каркали вороны, с шумом пролетали стаи птиц — осень их гнала на юг…
Солнце уже скрылось за лесом, когда человек добежал до Десны. Остановился на откосах, оглянулся. Кто же его перевезет? Когда-то здесь был шалаш бакенщика, зажигавшего бакены на Десне, а теперь и шалаша нет, очевидно, и пароходы не ходят. Десна равнодушно катила белые, мутные воды. Видно, где-то в верховьях на меловых скалах возле Новгород-Северска выпали дожди. По ту сторону реки раскинулся песчаный плес. Берега поросли красноталом. Леса теряли пожелтевший убор. Человек обошел все кусты, но челна не нашел и, растерянный, присел на круче, свесив ноги.
Солнце совсем спряталось. Над рекой покатился туман, похолодало. Скоро совсем стемнеет. Где же переночевать? Разве под стогом?
Вдруг человек услышал какой-то странный звук.
— Хро-хро… Хро-хро-хро…
Человек вскочил, торопливо пошел на этот звук. Неужели его подводит старость? Так рыбаки приманивают сомов… Да-да, это из-за излучины… Человек заспешил к краю высокого выступа над Десной. Он не ошибся. Старость его не подвела. На маленькой утлой душегубке плыл рыбак. В одной руке он держал весло, другой слегка бил по воде деревянным копытцем.
— Хро-хро-хро… Хро-хро…
Рыбак манил сома. Наверно, безземельный, рыбачит, чтобы заработать…
— Добрый человек, перебросьте меня на тот берег! — крикнул старик.
Рыбак перестал бить копытцем и поднял голову.
— А куда вам на ночь глядя?
— Домой, домой, милый человек! В Боровичи!.. Лодки нигде нет. Исчезли! Черт его побери!.. Поймали сома?
Рыбак молча вытащил снасти и подъехал к берегу.
— Садитесь, перевезу.
Кирей уселся в лодчонку.
— Какой вы худой, дед. Где это вы были? — поинтересовался рыбак.
— Где? Черт его побери… Под замком сидел в Соснице.
— A-а… За что?
Кирей рассказал.
— Теперь выпустили?
— Выпустили?.. Бежал!.. Меня посылали днем лошадей комиссарских поить и подметать в присутствии. Черт его побери… Наслышался я на базаре разговоров, и болит у меня сердце. Там хлеб панский забрали, там лес рубят! Землю делят! И в Боровичах, думаю, за дело принялись. Говорил же Надводнюк. Это у нас есть человек такой, фронтовик. Опоздаю, думаю, а я ведь всю жизнь свою ждал этого дня. Черт его побери… И не выдержал! Сегодня пошел еще перед вечером по воду к колодцу, ведра оставил и убежал. Начальству теперь не до меня. Дрожат как в лихорадке. Тьфу!..
— Хорошо, дед, сделали, что ушли. — Лодка пристала к косе. Рыбак постучал веслом о песчаное дно, сказал задумчиво и с надеждой: — Поплыву и я домой. Теперь не до рыбы. И мне десятинку, верно, нарежут от панского поля…
— Да, надо плыть. Надо помочь своим людям. Спасибо… Прощайте. Уже темнеет…
— Доброго пути!
Кирей нашел тропинку и быстро пошел сквозь лозняк в лес. Темнело. Он спотыкался о пеньки, падал, сбивал ногй, но шага не убавлял. В лесу было совсем темно. Кирей многое видел за свой долгий век и темноты не боялся. Скорее бы домой, скорее…
Вдруг над его головой вспыхнуло небо. Где-то недалеко ударил колокол. Стало светлей, зашелестели листья на дубах. Быстрее застучало сердце в груди у деда. Неужели в Боровичах?.. Кирей побежал, вспотел. Рубаха прилипла к спине. Перехватывало дыхание, но он продолжал бежать. Вот, наконец, и опушка. Редеет лес. Сквозь кусты орешника видно пламя.
Кирей выбежал из лесу и остановился. Луг ровный, как ладонь, и в конце его, на горе, освещенные огнем Боровичи. Летят на луг огненные языки. Слышно, как воют собаки, бухает колокол… Упали стропила. В небо взлетел вихрь искр, закружился и рассыпался над Гнилицей.
— Опоздал, опоздал, — вздохнул Кирей. — Так их, люди добрые, так!.. Всех до одного в Гнилицу, в Гнилицу!.. — во весь голос вдруг закричал он и через луг еще быстрее побежал к селу.
Глава восьмая
27-го октября телеграф принес известие — для одних радостное и давно желанное, для других тревожное и страшное. Телеграф сообщал: в Петрограде произошел переворот. Власть захватили большевики, министры Временного правительства арестованы, власть перешла к Совету Народных Комиссаров во главе с Лениным.
Весть вырвалась из комнатки железнодорожного телеграфиста и, как ветер, закружила по перрону, перелетела в окрестные села, заглянула ласточкой — предвестницей весны — в дымные жилища полещуков, вылетела на площади, с площадей — на хутора, в самую глубину полесских лесов. Известие это встречали, как самого дорогого гостя. Не сиделось полещукам в хатах. В комитет, в комитет! Там все новости. Сосед забегал к соседу, собирались кучками, бежали в школу.
— Слышали? Переворот…
— Министров арестовали…
— Слышали? У власти народные комиссары!..
— Народные комиссары!..
— Ленин!..
— Ленин!..
— Ленин!..
Стар и млад произносили это имя, как самое дорогое, близкое имя. Ленин — это свобода, Ленин — это земля, Ленин — это хлеб, счастье, радость. Это имя произносили с уважением те, кто всю жизнь ходил в лаптях, жал за девятый сноп, разрабатывал карьеры в лесу, проливал кровавый пот на земле Соболевского и Писарчука. Этого имени боялись в усадьбах, где над калитками, на дубовых столбах лежали навесики, где на цепи бегал Бровко, где люди притаились, как волки в чащах. Здесь это имя произносили со страхом, с проклятиями.
Надводнюк в десятый раз читал вслух телеграмму из Петрограда. К телеграмме протягивали руки Клесун, Тяжкий, Бояр, Малышенко, Сорока, Песковой, Шуршавый, тянулись сотни крестьянских, натруженных рук. Каждому хотелось подержать в руках бумажку и своими глазами увидеть буквы. Комнатка станционного телеграфа всех не вмещала. Стоявшие позади напирали на счастливцев, оказавшихся поближе, и требовали еще и еще раз прочитать телеграмму.
— На перрон!.. На перрон!..
— Чтоб все слышали!
— На перрон!..
Толпа выкатилась из здания станции, заполнила небольшой перрон, окружила Надводнюка, взобравшегося на тележку, в которой подвозят багаж к поезду. Посмотрел Дмитро на сотни голов и увидел не только боровичан. Здесь были люди из Прачей, из Ядут, из Мариенталя, из Стрижакова и других хуторов. И у каждого в глазах горел огонь, глаза искрились от возбуждения. Надводнюк видел: родные его полещуки поднимали головы, отныне стали чувствовать себя людьми. Надводнюк вспомнил слова Михайла Воробьева: «И близко, очень близко то время, когда Керенский со своими министрами полетит к чертовой матери». Какую святую правду сказал Воробьев! Как далеко видят большевики! Вот она — наша революция! Надводнюку хотелось рассказать боровичанам все, что он знал от Воробьева, все, что думал. Радость его была огромной. Он хотел поделиться ею со всеми присутствующими. Никогда еще Надводнюк не говорил перед такой большой толпой, но теперь он будет говорить. Так его учил большевик Михайло Воробьев.
— Товарищи! — крикнул Надводнюк и увидел, как задвигались, как подались вперед люди: они восприняли это слово, как ласку, тепло и нежно. — Товарищи! В Петрограде уже нет Временного правительства, нет Керенского и господ министров. Их арестовали… Вот телеграмма из Петрограда! — Надводнюк помахал над головою телеграфным бланком. Сотни глаз ловили этот клочок бумаги. — В Петрограде теперь советская власть. Совет Народных Комиссаров во главе с Лениным!.. Большевики захватили власть. Рабочие и солдаты в штыки взяли Временное правительство, всех буржуев разогнали! Товарищи крестьяне, чего хотят большевики, Ленин? Чтобы крестьяне забрали всю помещичью землю и поделили между собой.
— Правильная власть!..
— Пр-равильная! — Поднялись сотни рук. Все махали, кричали, выкрикивали: — Правильная!
— Большевики хотят, чтоб крестьяне забрали у панов все леса и угодья, и всякое имущество, хлеб и все на свете! — Опять по толпе пробежала волна радости, сильная, как морской прибой в бурю. — Большевики говорят, чтоб отдать рабочим все фабрики и заводы… Чтобы дети рабочих и крестьян бесплатно учились в школах… Чтоб все были равны перед законом, чтоб рабочие и крестьяне сами писали для себя законы! — Надводнюк воодушевился. Он стал рисовать будущее такими же яркими красками, как и Михайло Воробьев. Слова Надводнюка слушали с восторгом, как дивную песню талантливого певца. Никто еще не говорил здесь так, как вот теперь говорит Надводнюк. Он подробно рассказал все, что знал и слышал о буржуазии, об эксплуатации, о войне и голоде.
— Чтобы на земле для всех была свобода, чтобы не было панов и буржуев — вот за что борются большевики и Ленин. Они за бедный люд, за нас, потому что и сами большевики из трудящихся, рабочие и крестьяне, труженики. Там панов нет. Это — наша партия! Она за нас! И мы пойдем с партией большевиков за советскую власть! Да здравствуют Ленин и Совет Народных Комиссаров! — закончил Надводнюк.
— Да здравствует Ленин! — стоголосо прокатилось по маленькой полесской станции. Речь Надводнюка покрыли аплодисменты. Впервые в жизни полещуки аплодировали.
Сквозь толпу протиснулся Прохор Варивода.
— Я хочу говорить!
— Говори, говори!
— Слово Вариводе!
Варивода поднялся на тележку, обдернул на себе шинель и начал тихим, вкрадчивым голосом:
— Граждане! То, что произошло в Петрограде, — их дело. Нам прислушиваться к этому не надо. Живем мы на Украине, у нас есть своя власть, Центральная рада в Киеве. Она о нас заботится, об украинцах. — Толпа насторожилась, придвинулась к тележке. — Надводнюк говорил нам о большевиках и о Ленине ихнем. А почему Надводнюк не сказал, что большевики — это только русские? Украинцев наших там нет. Я знаю. Мне на фронте говорили о партии большевиков. А если они русские, так разве станут заботиться о нашем брате, украинце? Делают они бунты в России, в Петрограде, и пусть. Нам до этого дела нет. У нас свои законы, своя власть. Пусть нами управляет наша украинская Центральная рада, а не какие-то большевики из России. Мы все равны — украинцы, нам не нужно ничьей власти, кроме своей. Украина веками боролась за свою свободу и вот ее добилась. А большевики хотят нас снова поработить. Мы этого не допустим. На Украине есть войско из украинцев. Этим войском руководит Петлюра, истинный сын Украины, и он не пустит к нам большевиков. Раз мы — украинцы, то и будем защищать свою родную Украину от чужаков.
Варивода слез с тележки.
На перроне сразу стало тихо. Некоторые просто не поняли Вариводу, другие выжидательно смотрели на Надводнюка, что тот скажет? Надводнюк спокойно стоял возле тележки. В душе он жалел, что позволил этой контре говорить. Разве он не знал, какой вздор будет плести Прохор — правая рука Писарчука? Теперь нужно было ответить ему, да так ответить, чтобы весь народ увидел волчью душу Прохора.
— Про Украину ты сумел сказать, а как же будет с землей? Вот этого Прохор не сказал нам. Как она, эта самая Центральная рада?
— А вот мы его спросим! — громко крикнул Надводнюк и снова вскочил на тележку. — Товарищи! — обратился он к толпе, ожидая, когда стихнет вокруг. — Все слышали, что говорил Прохор Варивода?
— Слышали, слышали! Вот насчет земельки как там?
— А мы спросим его сейчас! Прохор, скажи нам, что думает твоя Центральная рада о земле помещичьей и кулацкой? Стань вот тут, рядом со мной, и скажи громко, чтобы все общество слышало.
Надводнюк посторонился. Варивода стоял в толпе и с минуту исподлобья смотрел на Дмитра. В его глазах, зеленоватых и хитрых, мелькали злые огоньки.
— Говори, чего молчишь? — закричали крестьяне.
— Какая программа у твоей Рады?
Варивода неохотно вылез на тележку.
— Перед нашей властью, украинской, все украинцы равны. Власть никого не обидит, всем будет хорошо житься в родном краю.
— Слышали об этом! — сердито оборвали его. — Ты о земле скажи!
— Я и говорю! Власть никого не обидит. В универсале сказано, что вскоре будет созвано Учредительное собрание. Оно и решит, как быть с землей. Это анархисты говорят: бери, грабь… Порядок нужен.
— И выходит: обещать — обещает, а из рук не пускает! — крикнул Бояр.
— Именно: не выпускает!
— Нам сейчас подавай!
— Обещал пан кожух дать…
— Индюков кормили обещаниями, а индюки возьми и подохни…
— Товарищи, тише, тише! — Надводнюк поднял руку. — Я скажу… Хитрую песенку пел Варивода, да плохо ее закончил. Керенский обещал нам, крестьянам, землю дать. А дал? До тех пор обещал, пока его не прогнали. Центральная рада столько же времени обещает, как и Временное правительство, а земли крестьянам и до сих пор не дала. Ну, и ее прогоним! Землю нужно силой брать, и большевики правильно говорят: бери помещичью землю, чтобы вспахать и засеять.
— Правильно говорят!..
— По-нашему говорят!..
— Варивода сказал, что перед Центральной радой все украинцы равны… Где же, к черту, это равенство? Я украинец, и Писарчук украинец. Правильно? — спросил Дмитро.
— Правильно! — единодушно загудела толпа.
— А кого Центральная рада защищает: меня или Писарчука?
— Известно — Писарчука! — отвечали крестьяне.
— А защищает его потому, что моя хатенка вот-вот упадет, а у Писарчука хоромы, и он еще второй дом собирается строить… У меня пол-упряжки земли, мы с отцом всю жизнь на заработках, потому что в хате и крошки не было, а у Писарчука десятин шестьдесят земли, за девятый сноп велит жать, кровопийца! И это — равенство? А большевики призывают трудовой люд всех наций — и русских, и украинцев, и евреев, и поляков, и всех, всех — выступить всем вместе против буржуев и помещиков, которые вместе с царем на нашу Украину ярмо надели, в колонию ее превратили. Центральная рада кричала, как здесь вот Варивода, о свободной Украине и в то же время пятки лизала Временному правительству, а оно, как всем известно, ни о какой свободе и слышать не хотело, только думало об «единой и неделимой…» Наша Украина будет свободной только тогда, когда ею руководить будут большевистские Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов! Большевики дают нам землю, дают нам свободу! Берите же! Будем строить нашу жизнь без помещиков и буржуев, украинцы со всеми остальными народами в единой семье! Вот большевистская программа… Лгал воем вам Варивода о большевистской партии. В ней есть и украинцы. Вот и я — член большевистской партии.
Крестьяне все теснее обступали Надводнюка.
— Правду говоришь, Дмитро!
— Пра-а-вильно!
— Вот сказал, так сказал!
— Вариводу под самый корень подрубил!
— Мы с большевиками пойдем!
— С беднотой, свой брат — не предаст!
Варивода втянул голову в плечи и, как побитая собака, выбрался из толпы. Его провожали гневными возгласами.
Не спеша расходились. Говорили и говорили без конца. Вести из России окрыляли, ободряли, укрепляли веру в свои силы. На лицах полещуков впервые в их жизни расцвела радость.
С вокзала Павло и Марьянка возвращались вместе. За эти дни Павло стал для нее отцом, товарищем, которому она искренне верила. Теперь и у Марьянки было кому рассказать о том, что у нее на душе накипело; знала она — Павло поймет, поддержит. А Муси уже не было — она уехала в гимназию. Да разве Муся могла быть Марьянке товарищем? Муся — дочь офицера, у нее свои радости и свои печали. А у Марьянки своя жизнь. Время они проводили вместе — у Муси других подруг не было.
Марьянка ежеминутно вспоминала тот день, когда они вдвоем с Павлом возили помещичий лес. Делает что-нибудь Марьянка, и вдруг — перед ней Павло: «А ты знаешь, кто такие большевики?» — вспоминает его слова, вспоминает все, что он говорил ей, представляет себе его улыбку, сама улыбается. И тогда хочет она, чтобы Павло всегда был возле нее, чтобы рассказывал ей о войне, о жизни солдат в окопах. Марьянка слушала бы, затаив дыхание. Павло умеет рассказывать. И когда это он научился так рассказывать? Вот и сейчас она хочет, чтобы Павло говорил, а он идет молча, думает о чем-то. Марьянка знает, о чем спросить у него. Ее давно интересует, как будут люди жить, когда панов на земле не будет. Как тогда сложится жизнь?
Павло задумчиво смотрит на Марьянку, на голые, лежащие у дороги конопляники, на опушку соснового леса, задерживается долгим взглядом на приземистых хатках, стоящих у самой окраины. Он видит иную картину; как видит, так и рисует ее перед Марьянкой. На эти земли будут приходить счастливые и веселые люди. Они будут на работу идти с песнями и, возвращаясь с работы, будут нести веселую песню в село. Эти земли не будут принадлежать Соболевскому, а будут нашими. Зашумит пшеница на наших нивах, сердца будут до краев полны радостью. Тогда, Марьянка, слез не будет! Во время жатвы над нашими полями будет петь жаворонок, и зазвенит песня счастливых людей… А на луга выйдешь: от Лоши и до Десны — все наше. От Гнилицы и до Бутовки — все наше. В косовицу услышим перезвон кос и песню — без песни косарь не может. Теперь он поет грустную, а тогда будет петь веселую, и не один. Придет осень — в закромах будет хлеб золотой, в клунях — корм скоту. На лугах стога сена вырастут. И сбросят люди лапти, в сапоги смогут обуться. Молодежь будет ходить в кожаных ботинках, а о лаптях и не вспомнят. Полещук помолодеет, человеком станет. Хаты поставим новые, ведь лесов у нас вон сколько. И в хатах — окна большие, чтобы побольше было солнца. Вырастут здоровые дети, они будут счастливее нас. Мы для них построим школы, учителей выучим, а они будут наших детей учить. Все станут грамотными, так как обучение будет бесплатным. Помещичий сад мы превратим в общественный, чтоб каждый после работы мог в тени отдохнуть. Работа будет не мукой, а нашей радостью. Счастливым будет наш край и счастливыми будут люди.
Слушала Марьянка, и все сильнее стучало сердце. Ее охватывало еще никогда не испытанное волнение. Вот когда люди смогут жить, как в сказке, совершенно счастливыми. Увидать бы эту жизнь, людскую радость! Пожить бы вместе с ними! О-о, а разве они с Павлом не доживут? Они молоды, руки у них сильные, вся жизнь впереди. Вот о такой, верно, жизни мечтал ее отец, работавший в экономии… Он хотел, чтобы ей, Марьянке, лучше жилось. Да помешали ему злые люди, а Марьянка, может быть, и дождется.
— Нам, Марьянка, поперек дороги становятся те, кто не хочет, чтобы мы так жили. Помещик, буржуй и кулак-мироед зубами будут отстаивать прежнее, добиваться, чтобы только так было, как до сих пор. Они будут драться за старую жизнь, потому что им хорошо жилось, а мы — за новую, потому что нам тогда будет хорошо житься. И мы победим — нас много! У нас, у трудящихся — сила! Борьба начинается! Ты слышала, что говорил Прохор Варивода? Не все ты поняла, что он говорил, но помни, что од идет против тружеников, за Писарчука. Варивода не хочет, чтобы земля была нашей, он хочет, чтобы земля принадлежала помещикам и кулакам.
Марьянка задумалась. А если Павло всем расскажет, как вот ей рассказал о новой жизни, разве и тогда Варивода будет против новой власти? Может быть, тогда и Писарчук станет добрее, человеком станет?.. Павло от души смеялся над наивностью Марьянки.
— Странная ты! Чтобы жилось так всему народу, надо, чтобы Писарчук и Варивода землю свою отдали людям. А разве они отдадут? Жди!.. Да он с вилами будет стоять на меже, попробуй только подойти к ней! А мы подойдем всем обществом, отберем у него вилы и землю поделим! Писарчук с Вариводой это знают, вот почему они против трудящихся. И всегда будут против, хоть ты им сто дней подряд рассказывай о будущей жизни! Кто же тогда на них работать будет, кто к ним в батраки пойдет? Ты пойдешь, Марьянка, если у тебя своя земля будет?
— Нет, нет, — Марьянка испуганно покачала головой. Хватит с нее ада у панов, она этот хлеб ела.
— Так вот! Оттого-то они против большевиков и советской власти. Они знают, что тогда нам жизнь будет, а им — гибель. Поняла?
Поняла Марьянка, как не понять? Теперь и она раскусила Писарчука и Вариводу. Это они хотят снова превратить ее в батрачку. Это они не хотят, чтобы на своей земле жила Марьянка. Вот такие укоротили жизнь ее отцу, который, верно, говорил так, как Павло. Она поняла. И сжала кулаки…
Павло и Марьянка подошли к хате Межовых — убогая, и сени из лозы. К улице склонилась верба — ее еще посадил отец Марьянки… Хоть и трудно было без дров, но вербу не срубили, пусть растет — в память об отце… Павло и Марьянка постояли у перелаза.
— Приходи, Павлусь, к нам. И мама будет рада. Придешь?
В черных глазах Павло прочел, что Марьянка радуется встрече с ним. Девушка опустила голову и чуть-чуть покраснела. Павло взял ее за руку и нежно пожал.
— Приду!
Надводнюка в комитете поджидал незнакомый человек. Как только в комнату вошли Дмитро, Григорий и Ананий, человек порывисто поднялся навстречу, спросил:
— Кто из вас Надводнюк?
— Я.
Они внимательно посмотрели друг на друга. Дмитро чуть дольше задержал взгляд на суровом лице и мозолистых руках прибывшего. Тот направился к дверям в соседнюю комнату, Дмитро — за ним.
— Я от Воробьева, — тихо сказал прибывший. — Вот записка от него, срочно… — и вытащил из солдатской шапки небольшой конверт. Надводнюк надорвал конверт, вынул из него листок бумаги, быстро пробежал его глазами и спросил:
— Больше ничего Воробьев не передавал?
— Одно добавил: сделать немедленно, сегодня же! — человек протянул руку. — Прощайте! Я — на Макошин…
Он быстро вышел из комнаты.
Через несколько минут Надводнюк созвал членов комитета.
— Есть дело. Сегодня надо у Писарчуков, Вариводы, Орищенко и Маргелы отобрать оружие. Это оружие останется у нас.
— Понадобится? — заинтересовался Бояр.
— Очень!
— И скоро?
— Возможно… Об этом не пишут. — Он еще раз взглянул на записку и разорвал ее на мельчайшие кусочки. — Очевидно, пахнет столкновением.
— А с кем будет столкновение? — пододвинулся Ананий.
— С кем?.. С петлюровцами. Не станем же мы ждать, пока Писарчук с Вариводой нанесут нам удар в спину.
Как-то сразу все замолчали, задумавшись над словами Дмитра. От Писарчука и Вариводы можно ожидать удара, в углу где-нибудь точат нож, ждут удобной минуты. Первым решительно поднялся Гордей Малышенко.
— Пойдем! Распредели, Дмитро, кому куда.
Надводнюк тоже поднялся.
— Я и Клесун — к Писарчуку, Бояр и Песковой — к Вариводе, Малышенко с Ананием — к Орищенко. Идем!
Члены комитета вышли из здания школы. На перекрестке они разошлись в разные стороны.
Решительно, без малейшего колебания открыл Дмитро высокую под навесиком калитку. Заворчал Бровко, потащив кольцо на цепи по натянутой от клуни до ворот проволоке. Надводнюк и Клесун ждали, пока кто-нибудь из хозяев не покажется во дворе. К перелазу из сада вышел Иван. Дмитро посмотрел на загнутую пирожком и лихо сдвинутую на одно ухо смушковую шапку, подмигнул Павлу и усмехнулся. Иван прищурился — насупил густые брови.
— Ну? — словно через силу выдавил он из себя.
Бровко свирепо рванулся на цепи.
— Пса убери, мешает!
Иван медленно отвел собаку в дальний угол двора, привязал ее и скосил зеленоватые глаза в сторону Надводнюка.
— Ну!
Надводнюк подошел ближе.
— Ну и ну! — их взгляды встретились. Иван не выдержал и отвернулся. — Других слов не знаешь — нукаешь? Отец где?
— Я за него.
— Что ж, можно и с тобой… Где винтовка?
Молодой Писарчук сразу же встрепенулся, быстрые глаза метнулись в сторону, бледность поползла по лицу. Он бросился на крыльцо.
— Запри дверь!
Но он не успел добежать — его опередил Павло. Ворвавшись в комнату, Клесун заглянул во все углы и, ничего не найдя, направился в соседнюю комнату. Следом за ним вошел Надводнюк. Старый Писарчук лежал на скамье. Он, удивленный и перепуганный, растерянно смотрел на членов комитета и лишь тогда опомнился, когда Павло нашел винтовку, запрятанную между печью и сундуком.
— Поставь! — хрипло крикнул Писарчук, вскочив со скамьи.
— Найдите револьвер и патроны, да побыстрее!
Писарчук сразу обмяк и опустился на скамью. Он понял, что бессилен, что окрик его — всегда властный и грозный — теперь не поможет. Писарчук рванул жилетку, пуговицы покатились по полу.
Вдруг в дверях вырос Иван. В его руках поблескивал высоко поднятый над головой топор.
— Вон из хаты!
Павло ловко отскочил в сторону, щелкнул затвором.
— Брось!
Иван зашатался, как пьяный, руки бессильно повисли, топор со звоном ударился о порог.
— Открой ящики и сундуки!
Иван открыл и отошел к отцу.
— Это все — Никифорово… берите, только пожалеете…
Надводнюк едва не вскрикнул от удивления — в тряпье лежали две ручные гранаты и револьвер.
Через несколько минут Надводнюк и Клесун ушли. Писарчук смотрел им вслед налитыми кровью глазами.
На цепи бесился Бровко.
Глава девятая
Воробьев почувствовал серьезную, нараставшую на железной дороге опасность и стал пристально наблюдать за всем, что происходит там. А после состоявшегося 6 декабря совещания уж не спускал глаз с дороги. Это совещание на одной из ближайших станций созвал комитет 19 Советского стрелкового полка. Полк получил задание пройти на Дон, чтобы помочь шахтерам Донбасса, боровшимся с генералом Калединым. Полк шел по маршруту Гомель — Бахмач — Харьков — Ростов. На одной из станций его остановил петлюровский «курень смерти». Войска Центральной рады не хотели пропустить Советский полк через Украину.
Воробьев, узнав об этом, поспешил на станцию и попал на совещание полкового комитета. Целый день бились над задачей: захватить ли с боем Бахмач и пройти на Дон или повернуть назад и пойти обходным путем. Михайло ознакомился с создавшимся положением и не удивился тому, что узнал. Раз «курени смерти» не пропускают Советский полк, значит, Центральная рада в союзе с генералом Калединым. Отказаться от намеченного маршрута и пойти в обход на Брянск? Тогда полк потеряет три недели драгоценного времени, и это намного облегчит положение Каледина. С этим он, Воробьев, примириться не мог. Он решительно поддержал предложение командира полка Рубцова — занять Бахмач силой и прорваться на Дон.
Полк погрузился и двинулся в путь, но петлюровцы свою угрозу осуществили. Возле Макошина они разобрали путь. Советский полк вынужден был повернуть обратно и идти по другому маршруту.
С тех пор столкновения между советскими войсками, которые начали сосредоточиваться в Гомеле, и «куренями» участились, но столкновения эти дальше железной дороги не распространялись. Воробьев внимательно следил за движением петлюровцев, чтобы в решительную минуту быть там, где возникнет опасность. Михайло уловил эту минуту. В последних числах декабря советские воинские части продвинулись по железной дороге до самого Макошина. Петлюровцы, откатившись до Боровичей, угрожали взорвать мост через Десну. Воробьев поспешил в Боровичи.
Сквозь сон Дмитру послышалось, будто кто-то стукнул калиткой. Он прислушался. Под печью тихо скребла мышь. Где-то под скамьей пел сверчок. За окнами в темноте завывал ветер, засыпая стекла снегом. Дмитро решил, что это, верно, Мишка со она ударил рукой о печь, или кто-нибудь из спавших на печи — о трубу. Дмитро задремал опять. Тихо зазвенело стекло в окне. Дмитро сразу вскочил, босиком подошел к окну. Прислушался. Кто-то осторожно постучал пальцем.
— Кто? — Дмитро приник к стеклу. В темноте едва заметно вырисовывался серый силуэт. — Кто?..
Человек за окном тоже прильнул к стеклу. Так они несколько секунд смотрели друг на друга. Потом Дмитро выбежал в сени и открыл двери.
— Заходи, Михайло. Неспроста, верно?
Воробьев сбросил шинель и устало присел на скамью.
С постели поднялась Ульяна, Мишка громко и испуганно спросил: «Кто вошел?» Дмитро его успокоил.
— Кушать хочешь, Михайло?
— Не мешало бы. Только не беспокой жену. — Но Ульяна, набросив кофту, принесла кувшин молока, стакан и краюху хлеба.
— Думал — не найду, но попал на посиделки, и там хлопцы рассказали мне, где ты живешь. — Михайло медленно жевал хлеб. Дмитро сидел возле, нетерпеливо ожидая рассказа. Наконец, Михайло отодвинул стакан и взял Дмитра за руку.
— Садись поближе… Петлюровцы в селе есть?
— Нет. На станции стоит бронепоезд полковника Мензы. Зачем он здесь — не знаю.
— За этим я и пришел к тебе. Твои товарищи надежные?
— В деле еще не были, но я им доверяю.
Воробьев немного подумал.
— Нет ли у вас тут такой женщины, которая могла бы завтра же все разузнать на станции?
Надводнюк толком еще не разобрался, что хочет сделать Михайло, но догадка уже мелькнула.
— Я пошлю жену.
— Нет! Это вызовет подозрение. Писарчуки могут там быть. Рисковать не надо.
Дмитро подумал о Марьянке.
— Есть девушка — толковая и наша…
— Хорошо! — Еще с минуту Воробьев помолчал, потом сжал локоть Дмитра, сказал на ухо: — В Мене и Макошине — советские воинские части, им надо помочь. Вот зачем я здесь…
— Я готов, хоть сейчас. И хлопцы тоже…
Воробьев начал разуваться.
— Постели мне рядом с собой. Ляжем и вдвоем разработаем план.
Дмитро поспешил к постели.
Холодно на дворе. Мороз крепчает. Подул северный ветер, заметает снегом рельсы. Марьянка постукивает ногой о ногу, толчется на месте, чтобы согреться, дует на руки. Холодно, но Марьянка не уходит со станции. Она торгует. У нее в корзине кусок масла и белый хлеб. Не один железнодорожный служащий подбегал к ней, чтобы купить ее товар, но никто не купил. Подходил и красноносый с припухшими глазами есаул с бронепоезда. Но и он не купил. Девушка такую цену заломила, что и подступить боязно. Пять карбованцев за такой кусочек масла!
Марьянка, смеясь, отвечает есаулу:
— А что я за ваши пять карбованцев куплю? Вот у меня кофты нет.
Есаул задирает голову, кладет волосатую с грязными ногтями руку на темляк сабли и молодецки подкручивает усы.
— Ты и без кофты, моя милая, хороша… — и петушком подходит к Марьянке.
Она смеется звонко и весело. Есаул тоже доволен.
— Эх, война, а не то бы в деревню пришел! Эх!.. — подмигивает он.
Марьянка еще громче смеется.
— Кому вы нужны, пан есаул?
— А тебе?.. Чем не казак? Сечевик.
— Казак-то казак, да потрепанный! — смеется Марьянка.
Но есаул не обижается.
— Ты, моя милая, еще не разбираешься. Ну, что в этом молодом? Молодой толком и не знает, как подойти к девушке, как с ней обращаться.
«Ах ты, пугало гороховое!» — думает девушка.
В здание станции заходят «сечевики» с бронепоезда. У каждого на шапке — кисть. «Сечевики» греются у печки, курят, сплевывают на пол, поглядывают на Марьянку и явно завидуют есаулу. Из комнаты телеграфиста торопливо вышел толстый полковник — командир бронепоезда. Все вскочили. Есаул тотчас же подошел к полковнику:
— Пан Менза, какие будут распоряжения?
Положив руку в теплой перчатке на плечо есаула, полковник подвел его к окну. Марьянка опускает глаза, смотрит в свою корзинку.
— Приказ пана головного атамана Петлюры таков, — слышит Марьянка шепот полковника. — Большевики… через Десну… взорвать мост… — жадно ловит Марьянка обрывки фраз. — Ночью без прожекторов…
Марьянка громко выкрикивает:
— Кто же заберет масло и хлеб? Сидеть холодно.
Есаул хохочет:
— Ого-го, разве у нас некому тебя согреть? Вот сколько хлопцев. Все орлы, как один.
Полковник прищурился и оглядел Марьянку с головы до ног.
«Поскорей бы домой! — думала девушка. — Не забыть бы, не забыть бы… Большевики через Десну… взорвать мост… ночью без прожекторов…» — мысленно повторяла она. Полковник закурил папиросу и опять скрылся в комнате телеграфиста. Есаул подсел к Марьянке. Их окружили «сечевики».
— Ну, так сколько ты хочешь за свое масло? — спросил он.
— Да уж давайте, сколько дадите. Ноги замерзли…
— Вот видишь! Я знал, что девушка перед настоящим казаком не устоит! — подмигнул он «сечевикам» и вытащил три карбованца.
— На, девушка, и знай мою доброту…
«Сечевики» купили белый хлеб. Марьянка заспешила к выходу.
— Черноглазая, скажи, как тебя зовут? Когда побьем большевиков, я в гости к тебе приеду, — кричал ей вслед есаул.
— Приезжайте, приезжайте… А зовут меня Ганка Орищенко. Самый красивый дом напротив церкви — моего отца… Приезжайте…
Через станционный двор Марьянка вышла в поле, а когда миновала пригорок, побежала, не оглядываясь, «Наторговала сегодня. Надводнюк будет рад…» — думала она и повторяла слова, услышанные от полковника.
Навстречу ей дул холодный ветер.
Пошел снег.
Ночь темная, беззвездная. Густой сосновый лес сливается с темнотой. Но люди свободно ориентируются: издавна знают, что слева от дороги — старый лес, справа — молодой сосняк. Людей немного — небольшой вооруженный отряд. Они цепочкой, один за другим, идут, пригнувшись между рядами молодых сосенок. Тишина. Свежий снег едва слышно хрустит под ногами. В лесу тепло и безветренно. Где-то позади спит село. Едва доносится пыхтение паровоза на станции. Это петлюровский бронепоезд стоит под парами.
Сосняк кончился.
— Тут, — прошептал Надводнюк, и отряд окружил его. Воробьев долго всматривался в лица друзей.
— Не боитесь? — спросил он. — Кто боится, пусть идет домой.
— Нет таких, — ответил за всех Павло Клесун.
Михайло наклонился к товарищам.
— Утром советские войска начнут наступление от Макошина. Петлюровцы хотят взорвать мост через Десну. Этой ночью их бронепоезд без прожекторов подойдет к мосту. Поняли вы мой план, фронтовики?
— Поняли, поняли…
— Так вот: Бояр, Клесун и Кутный будут отгребать лопатками снег из-под рельсов, чтоб были видны костыли; Дмитро, Ананий и я ломами вытащим костыли, а Малышенко и Шуршавый пройдут шагов на двести вперед и будут караулить; Сорока и Песковой — караульте здесь. Работать тихо и осторожно. Оружие держать наготове! Давай…
Отряд рассыпался. Через несколько минут послышалось осторожное царапанье лопаток о снег и глухой звук прикосновения железа к железу. Когда Ананий или Надводнюк надавливали ломом и костыль выскакивал из шпалы, в воздухе слышалось короткое: «лусь».
Сверху сыпал снежок, мягкий и нежный.
Прошло несколько десятков минут, и отряд тихо спустился с насыпи. Было уже за полночь. Гуще посыпал снег, мороз уменьшился. В лесу было тихо-тихо. Пахло смолой.
Воробьев слышал, как стучит его сердце. Глухо и отрывисто: тук!.. тук-тук!.. тук!.. Прошло еще несколько минут. Напряжение росло. Сердцу стало совсем тесно в груди. А вдруг советские войска начнут наступление раньше, чем подойдет сюда петлюровский бронепоезд? Тогда мы своих подведем… Михайло покрылся холодным потом… Связаться! Немедленно предупредить!..
Он посоветовался с Надводнюком.
— Павло! — шепотом позвал Дмитро.
— Есть!
Воробьев рассказал о своих опасениях.
— Пойдешь?
— Пойду!
Клесун торопливо пожал руку товарищам и исчез в темноте.
В напряженном ожидании проходило время. Каждая минута казалась такой длинной, как вечность. Где-то далеко в селе пропел петух. Ему ответил второй, третий… Перекликнулись, и опять стало тихо. Где-то слабо и одиноко залаяла собака. Безмолвно стоял лес. Кружились снежинки. Каждого волновала мысль: успеет ли Павло добежать до Макошина? Отсюда до моста пять верст. И никто не знает, сколько уже прошло времени после ухода Павла. Может быть — полчаса, может быть — больше…
Начали коченеть ноги. Холод пронизывал тело. Партизаны притаптывали, чтобы согреться. Они завидовали Павлу. Он бежит, и ему не холодно.
Пропели вторые петухи. Чувствовалась близость рассвета… Вот тогда на станции громче запыхтел паровоз. Партизаны насторожились. Надводнюк покрепче сжал ручку бомбы, отобранной у Никифора Писарчука… Паровоз на станции запыхтел еще громче — по лесу прокатилось эхо. Бронепоезд тронулся… Прошло еще несколько минут. Паровоз тяжело вздыхал, он поднимался в гору. Совсем глухо гудели рельсы. Ближе, ближе. Партизаны впиваются глазами в темноту и нащупывают черное пятно, быстро мчащееся по направлению к ним. Надводнюк уже видит жерла двух пушек. Жерла грозно смотрят на север… Бронепоезд вот-вот поровняется с ними. Партизаны вытягивают шеи, подаются корпусами вперед. Вдруг в воздухе загремело, затрещало, застонала земля. Колеса врезались в шпалы — бронепоезд сошел с рельс.
— Рота-а, пли! — приглушенным голосом крикнул Воробьев и бросил бомбу. Бомба тяжело ахнула. Затрещали винтовки. Темноту прорезали отблески огней и взрывов. С бронепоезда застрочил пулемет — нервно и дробно. Пули жужжали где-то высоко над головами партизан. Вдруг на рельсы лег луч прожектора.
— Тю-у-у-у… — просвистел снаряд и, перелетев над петлюровским бронепоездом, разорвался в лесу.
— Г-гах!..
Второй упал ближе, третий еще ближе. Петлюровский пулемет смолк. Петлюровцы, соскакивая с бронепоезда, удирали назад на станцию. Их догоняли лучи прожекторов и пулеметные пули. Отряд Воробьева и Надводнюка лежал под сосенками. — Ура-а… — покатилось по лесу и откликнулось где-то в чаще: «а-а-а»… Бой сразу утих. На место боя тихо подъехал бронепоезд «Советская Россия». С бронепоезда соскочили красноармейцы, вместе с ними соскочил и Павло. Сошел на снег командир — крепкий, широкоплечий человек, в кожанке, с биноклем на груди и маузером на боку.
Воробьев и Надводнюк с товарищами подбежали к командиру бронепоезда.
— Вам и вашему отряду выношу благодарность от имени советской власти… — командир пожал руку всем партизанам. — Передайте советское спасибо вашей девушке за революционную услугу!
При упоминании о Марьянке у Павла сильнее застучало сердце.
Светало. На сером фоне четко вырисовывались верхушки сосен. Возле взятого в плен петлюровского бронепоезда хлопотала инженерная часть красных.
Когда Надводнюк со своими товарищами вернулся в село, его там уже ждали пехотная часть и кавалерийский эскадрон. Красногвардейцев надо было разместить по квартирам. Но Надводнюк не успел дать никаких распоряжений. Школу, где разместился штаб, окружили крестьяне. Они наперебой приглашали красных бойцов к себе.
— Товарищ или как вас? — Мирон Горовой дергал за шинель высокого парня с лицом, густо усеянным веснушками. — У меня старуха напекла пирожков с сухими яблоками, и сметана есть. Идем!..
И Гориченко Гнат приглашал к себе красногвардейцев.
— Мы вас день и ночь выглядывали. Черт его побери!.. Ждали, как сыновей… Идем!.. — приговаривал Кирей.
— Хозяйка блины печет, ей-богу, правда. Кто ко мне?
— Насчет рюмки — извините, теперь нет, а еду горячую найдем.
— Э-э, хлопец, в фуражке холодно, уши посинели. Идем ко мне — папаху дам, от сына осталась… С немецкого фронта не возвратился… — говорил седенький старичок еще совсем юному бойцу.
Через несколько минут красногвардейцы завтракали. Их гостеприимно угощали хозяйки.
Надводнюк написал разнарядку на фураж и отправил Малышенко с верховыми к Писарчуку, Орищенко и Маргеле.
После завтрака красногвардейцы и крестьяне пошли в школу. В передней комнате гармонист лихо играл «яблочко», несколько танцоров звонко выбивали каблуками. Гармонист заиграл польку. Бойцы подхватили девушек. Закружились пары. Марьянка и Павло раскраснелись. Ей приятно чувствовать на своем тонком стане крепкую руку Павла. Старики сидели рядом с Киреем, веселым и разговорчивым, попыхивали трубками, пожилые мужчины курили самосад в газетной бумаге. Хлопцы сгрудились возле бойцов, угощавших папиросами и фабричной махоркой. Всюду — веселый гомон и смех, звон сабель и шпор.
Воробьев поднялся на парту, посмотрел в зал, полный народа, радостно, широко улыбнулся и сказал:
— Товарищи боровичане! — гармонь тотчас же затихла, в зале наступила тишина. — Вот и у вас теперь советская власть, красное знамя с пятиконечной звездой развевается над селом… Теперь все, — он сделал широкое движение рукой, — ваше! Земля, луга, угодья… — Крестьяне, подталкивая друг друга, придвинулись к Воробьеву, сбрасывали шапки, чтоб лучше его слышать; забывали о своих цыгарках. Михайло, рассекая рукой воздух, рассказывал, как советские войска борются против кровопийц и изменников-петлюровцев. Он горячо призывал боровичан вступать в ряды красногвардейцев, чтобы всем вместе разгромить врага, — во всех городах Украины восстали рабочие, во всех селах поднялись крестьяне, весь трудовой народ. В красные полки вливаются все новые и новые отряды красных повстанцев, борющихся за свободу украинского трудового народа. Не сегодня — завтра красные отряды захватят Бахмач, а там и до Киева недалеко. Красные войска выгонят засевшую в Киеве контрреволюционную петлюровскую свору предателей! Тогда вечно будет жить советская социалистическая республика!
— Да здравствует вождь пролетариата Владимир Ильич Ленин! Ура!
— У-р-ра-а! — дружно подхватил зал.
— Да здравствует Ленин! — громче всех кричал Кирей.
Воробьев взмахнул рукой, подзывая красногвардейцев. Бойцы подошли ближе. Боровичане впервые услышали пролетарский гимн борьбы за свободу всех народов.
К вечеру красногвардейцы выступили из Боровичей. Был получен приказ занять станцию Дочь под Бахмачом.
Павло, вооруженный винтовкой и тремя бомбами, забежал к Марьянке попрощаться. Девушка не сдержалась, на глаза навернулись слезы. Харитина поднесла передник к глазам и вышла из хаты. Павло протянул к Марьянке руки. Она припала к его груди.
— Марьянка, может, и не встретимся больше… Скажи, ты любишь меня?
В черных глазах — печаль, на длинных ресницах заблестели слезы. Девушка дрожащими руками порывисто обняла Павла за шею.
— Люблю, — прошептала она, и ее первый поцелуй был как благословение.
— Прощай, Марьянка!.. Я вернусь, когда на нашей земле не будет ни одного петлюровского «куреня»!
Павло выбежал из комнаты. В сенях его поджидала Харитина, взяла за руку и поцеловала, как сына, в лоб.
Павло догнал отряд красных добровольцев уже на околице. Марьянка стояла у перелаза. На ее щеках застыли слезы. Ее губы нежно шептали:
— Любимый… Любимый…
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава первая
Где-то далеко от Боровичей гремели бои. Кончалась зима 1918 года.
Ветер с юга дышал весной. Чирикала птичка: «Кидай сани, бери воз».
Боровичане ходили по полю — меряли поля Соболевского и Писарчука, готовили плуги, посытнее кормили лошадей.
Федор Трофимович созвал гостей на заговены перед великим постом. В центре, под иконами, за большим дубовым столом сидел Лука Орищенко. На нем — добротная шерстяная жилетка, надетая поверх старомодной вышитой рубахи. При свете лампы лоснятся густо смазанные жиром и тщательно на пробор расчесанные волосы. Рядом с Лукой, заняв полскамьи, сидела его жена, а по обе стороны — сыновья: Иван, Евдоким и Сергей, черноволосые, с подстриженными бородками. И тут же, возле своих мужей сидели по-праздничному разодетые невестки. Напротив Луки в шелковом подряснике, пахнущем ладаном, с блестящим серебряным крестом на груди — поп Маркиан, а Маргела и Варивода — на углах стола. Федор Трофимович расставлял бутылки с водкой, а Мария — еду, которую из кухни приносила батрачка. В сторонке на скамье молча сидели сыновья Писарчука — Иван и Никифор.
Расставив все на столе, Федор Трофимович налил рюмки и произнес торжественно, не скрывая радости:
— Бог даст — не последняя! — он подмигнул и опрокинул рюмку в рот. Гости быстренько выпили по одной, по другой, закусывали с жадностью, словно три дня не видели еды. Одни жадно облизывали пальцы, другие торопливо вытирали их о волосы. Жир блестел на грязных, никогда не чищенных ногтях, на подбородках.
После третьей рюмки в комнате стало веселее, а после четвертой — шумно.
— А вы чего же, сынки мои, смотрите? Пейте и гуляйте, у вас еще будет работа! — подошел Федор Трофимович к сыновьям. Его потные скулы заострились, волосы торчали во все стороны, лицо было в красных пятнах. Сыновья заметили сегодня в глазах отца внезапную перемену: глаза весело бегали в орбитах, хитровато подмигивали. Должно быть, отец привез сегодня из Мены какую-то новость и молчит о ней, а известие, видимо, интересное и для него приятное.
— Пейте, сынки мои, родной отец угощает! Теперь — выше голову, дети! Эх!.. — Федор Трофимович налил два стакана и поднес их сыновьям. Никифор выпил половину, закашлялся и потянулся за хлебом. Иван одним духом, молодецки опорожнил весь стакан.
— Даже не поморщился! — воскликнул отец. — Иван — надежда моя, дорогие гости! А Никифор… — Федор Трофимович помахал в воздухе рукой. — Иван идет по отцовской дорожке!.. — Гости поддакивали хозяину и продолжали есть. Иван пододвинулся к столу, закусил соленым огурцом и, поблескивая быстрыми глазами, спросил отца:
— Какая новость у вас, отец?
Федор Трофимович резко повернулся на стуле.
— А? Ты откуда знаешь?
— По глазам вашим вижу, — усмехнулся сын.
Писарчук вскочил на ноги, рванул к себе бутылку, налил гостям и сыну.
— Слышали?.. — воскликнул Федор Трофимович. — «По глазам вашим вижу…» И видит! Ей-богу, видит! У меня, дорогие гости, от такого сына сердце вот как радуется! Иван, подойди сюда! — Сын, пошатываясь, подошел к отцу. — Выпьем, сынок, за то, что ты угадал! — и Писарчук многозначительно поднял сухой, крепкий палец.
Они выпили по стакану, отец обнял и поцеловал сына.
— Молодец, ты не пропадешь, Иван!
— Хе-хе-хе, этот не пропадет… — тоненько смеялся Маргела.
Поп Маркиан провел ладонями по своей пышной белой гриве и протянул басом:
— Родители гордятся чадом своим… Сын должен любить родителей своих… — Маркиан помахал толстым пальцем перед глазами Ивана и обернулся к хозяину, — Не мучьте душу христианскую, Федор Трофимович, расскажите угаданную вашим чадом новость.
Писарчук присел к столу.
— У меня сердце пляшет в груди от этой новости. А я было пал духом, только думаю — нет, не будет так, как большевики хотят… Чтоб чужие государства да допустили такую беду на нашей земле!..
— Да говорите уже, Федор Трофимович, что вы жилы из нас тянете, — поднялся, облизываясь, Орищенко.
— Хе-хе-хе, дипломат, Федор Трофимович, дипломат! — дымил трубкой-носогрейкой Маргела.
— Скажу, скажу!… А скажу я, что большевистской власти конец! — и Писарчук ударил кулаком по столу. Перевернулись рюмки на скатерти, и водка струйками побежала на пол.
— Ой, правда?! — вскрикнула жена Орищенко.
— Слава господу богу и Николаю чудотворцу! — перекрестился поп Маркиан.
— Не перебивайте, дайте человеку досказать! — просил старый Орищенко и тяжело перегнулся через стол.
— Правду говорю! — снова ударил Писарчук по столу. — Немцы идут к нам освобождать Украину от большевиков! Уже границу перешли!..
Неожиданному известию не сразу поверили. Федору Трофимовичу пришлось подробно рассказать, как он на станции Мена подслушал разговор железнодорожников:
— Один кондуктор и говорит другому: «Вот еду я с поездом в Бахмач, а когда вернусь в Гомель, то там уже, верно, немцы будут, прут они, как саранча». Только услышал я это, так бочком, бочком к нему и говорю: «Зачем людей православных немцами пугаешь?» А у самого, ей-богу, сердце чуть не выскочит от радости… Ну, а он повесил голову и махнул рукой: «Какое там пугаю, если уже половину Белоруссии заняли». Я — в местечко, потолкаться среди людей, и там об этом говорят… Большевики думали — будут править! Земелькой моей пользоваться думали, делить собирались ведной!.. — Глаза Писарчука налились кровью. — Вот мы вас поделим!.. Скорее приходите, освободители наши! Добро пожаловать! — он снова схватил бутылку, налил всем водки и, словно приказывая, крикнул: — Выпьем за здоровье немецкого императора… Как его?
— Вильгельм, — быстренько подсказал Варивода.
— …Вильгельма, который освободит нас от большевиков.
Все выпили.
— Как же они, немцы эти, идут на нашу землю? Они нас завоюют в свою державу? — спросила, делая ударения на «де», жена Сергея Орищенко, откормленная молодица с глуповатыми бесцветными глазами.
— Хе-хе-хе… — залился Маргела.
— Когда большевики захватили Киев, так Центральной раде куда деваться? Пришлось ей удирать. Ну, не отдавать же Украину каким-то большевикам.
— Хорошо «каким-то»! А землю кто у нас отобрал? — перебил Писарчук.
— Вот, вот, — угодливо прошептал Варивода. — Вот и пригласила Центральная рада Вильгельма; приходите, мол, ваше светлое величество, и наведите свой порядок на Украине, а то нас в одних подштанниках, извините, большевики уже вытолкали, а за услуги мы не поскупимся, отблагодарим… Есть ведь хлеб и сало на Украине, и еще кое-что найдется…
— Но-но! — окрысился Писарчук, — Что ты говоришь?
— Я думаю, здесь люди свои, здесь можно, — боязливо заглядывая в глаза хозяина, прошептал Варивода. — Я так понимаю. Вот идут теперь немецкие полки к нам.
— Немцы по головке не погладят, — вставил и свое слово молчаливый Никифор.
— Это я вам сейчас объясню, — услужливо сказал Прохор Варивода, торопливо проглатывая кусок жареного мяса.
— Да, да, объясни им, Прохор! Это уже твое дело!
Варивода зашептал.
— А мы им еще поможем общипать кого следует! — добавил Писарчук. — Слава богу, наши освободители идут. А голодранцы плуги и бороны чинят, возы ладят, в супряги соединяются. Весны ждали, землю делить собирались. Вот вам и весна пришла, большевички!.. Не знаете вы Федора Трофимовича! Я вам не прогнивший Соболевский! Я вам еще покажу свои руки, они к делу привыкшие!..
Его перебил Лука.
— А как я добивался земли? По судам, по начальству сколько ходил. Там магарыч поставишь, там в руку что-нибудь сунешь, в другом месте низко поклонишься, вот и стал хозяином. Я ведь, когда отвоевывал землю у Ми-киты Нечипоренко, вышел с людьми на межу, набрал в руку вот столько чернозема и говорю: видит бог — это земля моя! Я съем этой земли, и мне ничего не будет, потому что она моя! И съел, и водой из Гнилицы запил, и все. Вот так мы землю добывали! — хвалился Лука перед сыновьями. На радостях пьяный отец сболтнул лишнее.
— Так вот и съели? — удивлялась жена Писарчука.
— Съел, матушка, съел!
— Характер у вас крепкий, Лука Пиментович, характерец!.. Хе-хе-хе!.. — попыхивая трубкой, сказал Маргела.
— Советы нечестивые позаводили, — тянул баском поп Маркиан. — В священном писании сказано: «блажен муж иже не идет на совет нечестивых..» Богохульники они, бога не признают. Господи боже, подними над ними меч свой и срази врага своего и супостата!
— Аминь! — положил руки на стол Писарчук. — Аминь! Я о деле скажу вам. Увидите что-нибудь такое — на заметочку их, кто, когда, что делал! Чтоб, когда придут освободители, мы им сразу готовенькое и поднесли! Все поняли?
— Хе-хе-хе… Готовенькое, готовенькое! Голова у тебя, Федор Трофимович, министерская! — Маргела обнял старика и поцеловал его в бороду.
— А теперь гуляй, гости!
Иван принес из другой комнаты балалайку и ударил гопака.
— Хе-хе-хе! Громче, громче! — опьяневший Маргела вылез из-за стола и часто застучал каблуками по полу. Подхватив жену Сергея, Маргела закружил ее вокруг себя. Сергей глуповато улыбался и хлопал в ладоши. Рядом притоптывали братья. Отец Маркиан подобрал полы подрясника и, странно выбрасывая ноги, пошел вприсядку. На толстой шее беспомощно болтался серебряный крест.
— Хе-хе-хе!.. Еще, еще, отец Маркиан!
— Батюшка, батюшка, оторвите!
— Зело веселятся рабы божие, когда им весело! — выкрикивал Маркиан, еще выше подбирая полы подрясника.
В танец вступила вторая невестка Орищенко, затем третья. Смелее затопали мужчины. С них бежали струйки грязного пота, растрепались волосы, громче гудел под ногами пол. Маргела отбивал такт и руками, и ногами.
Женщины громко, не в такт, выкрикивали:
Маргела подмигнул маленькими мышиными глазками жене Сергея:
Маргела упал перед ней на колени и так на коленях продолжал танцевать:
Женщина тоже хитро, по-заговорщицки, подмигивала Маргеле:
Теперь танцевали все. Иван бил по струнам, растопырив длинные, тонкие пальцы. Гости в пьяном экстазе выкрикивали:
Воробьев просмотрел оперативные данные о продвижении немецких войск. Теперь он должен был информировать уездный комитет, который решит, что надо делать в это тревожное время. На заседание придут и сельские коммунисты.
Михайло прислушался к тишине в коридорах двухэтажного здания (когда-то здесь была земская управа), потом встал и открыл окно. В комнату ворвались клубы морозного воздуха. Они обволакивали Воробьева и освежали его уставшую от работы голову. Он перегнулся за подоконник. Со второго этажа видны потонувшие в вечернем сумраке приземистые домишки, опустевшие улицы, тюрьма — теперь темная и пустая. Местечко притаилось, молчит, выжидает. И до него дошли вести о немцах.
В тишине отчетливо слышны были дальние раскаты орудий. От глухих взрывов слегка звенели оконные стекла. Михайло еще некоторое время прислушивался и узнал давно знакомый размеренный грохот.
— Гаубицы…
По верхушкам елок в общественном саду прыгали вороны, каркали, предвещая непогоду.
«Метель будет», — подумал Михайло и посмотрел на небо. Оно, хмурое и неприветливое, тяжело висело над местечком. Михайло вспоминал минувшие бои, когда солдаты молили, чтобы ветры и непогоды дули им в спину и немцы не могли пускать газы. И теперь он мечтал, чтобы снежная буря била только врагам в лицо…
Так вот он стоял у окна, пока не почувствовал, что холод пронизывает все тело, — поежился и закрыл окно. Скрутил папиросу, затянулся — затошнило. Он вспомнил, что сегодня не успел пообедать, бросил окурок под стол, придавил сапогом.
По коридору катилось эхо торопливых, легких и знакомых шагов. Тепло и ласково улыбнувшись, Михайло пошел навстречу и распахнул двери:
— Спасибо, Раиса! — он взял принесенный женой ломоть хлеба, привлек ее к себе и поцеловал в лоб. — Весь день были люди из сел, не смог вырваться… Знаешь, тяжелое время, военное…
— Так хоть теперь поешь! — попросила Раиса, присаживаясь к столу. Наклонилась, сняла волосинку с плеча мужа, нежно провела по покрытым первой сединой вискам. Михайло разломил ломоть и вопросительно посмотрел на масло. — Это я у соседки фунт купила… за платок… На базар не вывозят… — Она прибрала на столе, принесла веник из коридора и подмела пол. Михайло наблюдал за ее движениями и был благодарен своей подруге — преданной и ласковой помощнице.
— Далеко? — спросила Раиса, снова садясь рядом с мужем.
Михайло без лишних слов понял ее.
— Под Гомелем идут бои.
— Придется эвакуироваться?
Михайло поднял глаза, положил руку на ее плечо.
— Нет!
Больше ни о чем она не спрашивала. Это «нет» означало, что за каждую пядь земли будут вестись жесточайшие бои, а в случае неблагоприятного исхода Михайло останется при немцах в подполье. К опасностям она привыкла, потому что всегда приходилось так жить. Все пятнадцать лет, с тех пор как она узнала Михайла.
По коридору прозвучали многочисленные тяжелые шаги. Раиса поднялась, поцеловала Михайла и тихо вышла. Он проводил ее до дверей, встретил членов уездного комитета. Крепко пожал руку Надводнюку. Молча сели, ожидая начала заседания. Воробьев долго и испытующе смотрел каждому коммунисту в глаза, затем прошелся по комнате.
— Враг близко, очень близко, в ста километрах… Наступает развернутым фронтом. Основные силы врага идут по линии железной дороги Гомель — Бахмач. — Стоя перед членами уездного комитета, Михайло перебирал лежавшие на столе бумаги и отчеканивал каждое слово.
— Центральная рада продала украинский народ немецкому империализму. Он идет, чтобы наступить на грудь украинскому народу! Хищникам еще мало крови, им мало жертв, разрушений!.. Враг недалеко. Мы должны знать, что будет делать наш уездный комитет в этот опасный момент. Прошу высказаться!
В комнате наступила тишина — тревожная и настороженная.
Затем попросил слова знакомый Надводнюку товарищ, приносивший в Боровичи записку Воробьева о разоружении кулаков.
— Говори, Микола! Прошу внимательно слушать.
Микола говорил о тревоге в городке, в селах, на железнодорожных станциях уезда и закончил предложением:
— Нужно всем идти на фронт и там либо победить, либо погибнуть!
Взял слово пожилой товарищ в ватнике и накидке, с виду — бывалый фронтовик. До сих пор он сидел в темном уголке, теперь поднялся — высокий, широкоплечий, и на стену упала нескладная тень.
— Слушаем тебя, товарищ Василь!
Василь говорил кратко, обрывисто:
— Идем на фронт!.. Свободу народную будем защищать на фронте!. Там виднее! Придется отступать — будем отступать вместе с армией!..
— А рабочих в городах и крестьян в селах оставим врагу на расправу? — спросил Воробьев.
— А что же ты советуешь? — спросили остальные члены уездного комитета.
Надводнюк придвинулся поближе. Михайло потер виски ладонями и вышел на середину комнаты.
— Если Красной Армии даже придется отступать под напором врага, вооруженного до зубов, мы, коммунисты, — подчеркнул Михайло, — мы обязаны остаться в подполье при немцах. Для чего?.. Враг будет грабить народ, издеваться над ним — для того и идут они на Украину. Кто должен, как не мы, коммунисты, поднять восстание против немцев, а значит, помочь Красной Армии? Кто должен, как не мы, коммунисты, показать немецким солдатам сущность пролетарской революции в России? Мы с тыла должны развалить кайзеровскую армию, чтобы она под красными знаменами вернулась в Германию и выгнала кайзера и буржуазию! Вот какая перед нами задача! Этого требует вся наша партия! И в подполье уездный комитет должен быть боевым штабом, который объединит силы против армии кайзера! В этом залог нашей победы… — Михайло выжидательно посмотрел на товарищей. — Вот каким должно быть наше решение!
В комнате опять стало тихо. Члены уездного комитета обдумывали предложение Воробьева. Для них воля партии была нерушимым законом; партия скажет идти в окопы — и они пойдут; партия скажет идти в подполье — они пойдут. Пойдут туда, где от их работы будет больше пользы для партии. Теперь партия ставила задачу — развалить изнутри армию кайзера. Они возьмутся за это дело и доведут его до конца, выполнят, как выполняли любое задание, данное партийной организацией. Они знали: постановить — значит выполнить.
— Одобряем твое предложение! — члены комитета подняли руки.
«Вот где сила партии!» — радостно думал Надводнюк, восторженно наблюдая за старыми большевиками.
— Отчего ты, Дмитро, не голосуешь? — тихо спросил Воробьев.
Все члены уездного комитета повернулись к Надводнюку. Он от неожиданности заморгал, покраснел.
— Я ведь не член комитета…
— Ты — коммунист! Решение о тебе принимаем.
— Я — за! — он стремительно поднял руку.
В ревком все реже заходили боровичане, да и те, которые заходили, больше молчали, беспрерывно курили, в глубине глаз таилась душевная боль. Перестала по вечерам у школы собираться молодежь. В хатах не зажигали огня. Но в каждой хате тайком собирались, шептали друг другу:
— Сила у него большая, у немца.
Вновь всплывали воспоминания о недавней войне. Тот, кто побывал на фронте, рассказывал о немецких «чемоданах», газе, аэропланах и пугал женщин. Страшные слухи переползали из хаты в хату, и на следующий день женщины рассказывали у колодца о том, что у немцев стальные рога, а когда дышат — из ноздрей валит огонь. Этими сказками в селе пугали неугомонных детей.
— Ш-ш! Вот германец придет, он тебе даст!..
Многих просто интересовали немцы. Боровичане окружали бывших фронтовиков, расспрашивали. Надводнюк, Бояр, Песковой, Ананий рассказывали, успокаивали, и крестьяне расходились по хатам. Но на следующий день рождались новые, еще более фантастические и пугающие слухи. Богомольные старухи рассказывали свои сны о комете с хвостом и о конце света.
Были и такие, которые говорили:
— Чем мы провинились перед немцами? Наше дело — сторона.
Но к весне готовились вяло, — руки совсем не поднимались. Страх охватил село, сковал тишиной и мучительным ожиданием наступающего дня.
По давней, вошедшей в традицию привычке возле хаты Гната Гориченко на спиленном дубе усаживались соседи.
— Вот тебе и попользовались панской землей! Черт его побери, откуда он взялся, этот германец! — взволнованно говорил Кирей.
— Бедному жениться — ночь коротка, так и нам с землей пана, — сплевывал Мирон Горовой.
— Говорят люди: тесно германцу на своей земле, вот он нашей земли ищет, — выдавливал из себя обычно молчаливый Тихон Надводнюк.
В беседах они возвращались к старым воспоминаниям, а заканчивали одним: «Вот поделили панские поля и жили бы себе…»
Днем по улицам бежали ручейки воды, смешанные с навозом. Снег чернел, оседал комьями. Перелетая с дерева на дерево, птичка еще напористее выкрикивала:
— Кидай сани, бери воз!… Кидай сани, бери воз!..
Птичка не радовала боровичан.
Где-то далеко под Гомелем грохотали орудия. По железной дороге двигались эшелоны с имуществом и ранеными. Изредка через Боровичи проходили обозы. Раненые стонали и печально смотрели на крестьян. Женщины выносили им хлеб, молоко, слушали их рассказы, тяжело и безнадежно вздыхали. Кое-кто спрашивал:
— Далеко ли он, немец этот?
Раненые махали руками, указывали в пространство.
— Гомель уже их. На Сновск идут…
— Если так, то немцы не сегодня — завтра будут в Макошине.
— Бой будет у моста. Мост через Десну большевики без боя не сдадут! — говорил Бровченко, который уже вылечил руку и часто выходил на улицу в толпу. — В окопах люди гнили, воюя с немцами, и вот еще сюда, на нашу землю черт их принес, — вздыхал он.
Бровченко не сторонились и охотно слушали. Петр Варфоломеевич обращался сразу ко всем:
— Не думайте, что это конец! Я знаю идею большевиков, их идея не может умереть, значит, будут еще бои. А немцы русской революцией заразятся.
Крестьяне его не понимали, но прислушивались к нему, чтобы заглушить в себе чувство страха перед врагом.
В ревкоме торопливо наводили порядок в бумагах, лишнее уничтожали… Ревкомовцы старательно собрали списки добровольцев, ушедших в Красную Армию, перевязали эти списки вместе с другими важными документами и приготовились их спрятать.
— Действительно, скажу, как на фронте… Что ж мы будем делать? — спросил Логвин Песковой, с отчаянием поглядывая на Дмитра.
— Я, хлопцы, остаюсь в селе. Так мне велел партийный комитет! — ответил Надводнюк.
— А если немцы узнают, что ты коммунист, — тебя же расстреляют.
— Ожидать можно всего, но мы делаем революцию, а не в жмурки играем!
Все замолчали. Молчание длилось довольно долго. От далеких разрывов дрожали стены, гудела земля.
— Вот садит, словно под Пинском! — прервал молчание Бояр. Он стал рассказывать об одном из боев под Ригой. Никто его не слушал.
— Техникой военной давит, — прислушиваясь к выстрелам, прошептал Песковой. И ему никто не ответил.
Вскоре, как бы что-то вспомнив, Надводнюк попросил Бояра:
— Гриша, бумаги спрячь так, чтоб их не нашли н чтобы они сухими и целыми остались. Спрячь, где мышей нет, потому что мышь такая гадость!.. — он махнул рукой, лицо болезненно передернулось, почернело. Опершись о косяк, он постоял, потер ладонями виски. — В случае чего — не знаете и не видели никаких списков на землю, на дрова, на добровольцев. Слышали, хлопцы? — тихо, но сурово спросил Дмитро. — Это революция! Винтовки и патроны спрячьте, они скоро понадобятся нам.
— Знаем, — в один голос сказали члены ревкома.
Дома Бояр нашел деревянный ящик, набил его бумагами и, когда стемнело, понес в садик. У берега росла большая, в два обхвата, дуплистая груша. В этом дупле когда-то свили себе гнездо пчелы. Кирей мед вынул, и теперь дупло было пустым. Григорий долго осматривался по сторонам, затем стал на сук и бросил ящик в дупло.
— Там не найдут, — прошептал он, относя винтовку в соседний хлев, который своей стрехой выходил в садик Бояров. Григорий раздвинул солому и глубоко запрятал винтовку. Рядом он уложил пулеметную ленту с патронами, а возвратясь в хату, отозвал Наталку и тихо сказал:
— Оружие в соседской стрехе, напротив груши. Чтоб ты знала.
Перед Макошином на опушке соснового бора залегла колонна красных. Павло Клесун прижался к земле под маленькой кривой березой, винтовку положил на кучку прошлогоднего мха. В ботинках у Павла была жидкая грязь. Он двигал пальцами, и ему казалось, что они уже совсем вылезли через дырку. Павлу видны бойцы на горке, сверкающие штыки и отблески солнца на этих штыках. Опершись о кудрявую сосну, стоит с биноклем в руках командир полка Полетаев. Он — в кожанке и грубых сапогах. Полетаев подносит к глазам бинокль и осматривает пригорки и железнодорожную колею, тянущуюся по направлению к станции Мена. Рядом с Полетаевым — ординарец, молодой парень в широчайших галифе и домотканном суконном пиджаке. В лесу пыхтит паровоз бронепоезда.
Павло всматривается в голое, только кое-где покрытое почерневшим снегом поле и вспоминает приказ — без команды не стрелять, а мысли невольно летят на Макошин, в Боровичи. Уже третий месяц он из села. Разве мог он думать тогда, когда шел на петлюровцев, что придется ему отступать через свое село от немцев? Марьянке говорил, что вернется, когда ни одного петлюровца не будет на нашей земле, а теперь — новый враг, который сильнее Петлюры… Тогда они выступили из Боровичей против петлюровцев и сразу же захватили станцию Дочь. Бахмач петлюровцы оставили без боя. На станцию Круты Петлюра бросил свои «курени смерти», сам руководил боем, да куда ему против натиска красных! Едва спасся со своим поездом… После того памятного боя не удержалась Центральная рада и в Киеве — бежала и немцам продалась. Теперь против кайзеровской армии воевать нужно. У него армия вооруженная, одетая. Эх, когда бы нам снаряды и орудия!.. Голыми руками приходится за свободу драться…
«А Марьянка и не знает, что я от нее в десяти верстах, — беспорядочно проносились мысли Павла. — Соскучилась, верно, ждет. Жива ли, здорова? А разве мы так предполагали встретиться? Думал прийти победителем, обнять ее, взять за руку и в новую жизнь вместе идти, а тут, вишь, немцы, фронт… Придется отступать через Боровичи. Разве что на одну минутку загляну, нет, подбегу к окошку и крикну: «Здравствуй, Марьянка, и прощай…» А может быть, я напрасно думаю об отступлении? Может быть, и сдержим немцев, пока помощь подойдет?»
Вдруг вдали, за черным пригорком, мелькнула серая точка, другая, третья, четвертая. Точки поднимались, падали, быстро продвигались к опушке. Это вражеские солдаты начали перебежку. За пригорками, возле железнодорожной будки ахнуло орудие. Снаряд тонко засвистел, разрезая воздух, и упал в лесу позади Павла.
— Г-г-ех!
— Вот и первый «чемодан» сегодня! — выкрикнул кто-то нервно и деланно засмеялся.
— Не стрелять, ждать команды! — снова услышал Павло приказ командира. Снова грохнул орудийный выстрел, теперь уже двойной.
Снаряды долго тянули:
— Тю-ю-у-у-у…
— Гах!..
— Ах!..
Один снаряд упал на склоне, под сосенкой. Содрогнулась земля, в небо полетели щепки, комья, ветки, дым. Бойцы попятились от огромной воронки. Павло посмотрел на молодых: ему не впервой, он такие вещи видел… Орудийные выстрелы участились. Снаряды ложились в лесу, перелетали, падали среди поля. Откликнулся бронепоезд «Красный воин». Один снаряд упал возле железнодорожной будки, второй — ближе, третий — перелетел.
— Эх, в лоб бы ему попасть — сплюнул Павло, ругая неудачливого товарища-артиллериста. Тот словно почувствовал этот немой укор, с минуту обождал и выстрелил. Высоко над головой, словно стайка уток, зашумел снаряд и разорвался там, где был вражеский бронепоезд.
— Полотно развернул, молодцы артиллеристы, — вслух сказал Полетаев.
Но сразу, словно собаки сорвались с цепи, зарычали орудия где-то слева, зачастили пулеметы. Пули чирикали, пели, жужжали — тонко и сухо. На землю падали сбитые веточки. Немецкие отряды спустились с пригорков. Пригнувшись, немцы бежали к опушке. Ближе, ближе… Перед Павлом огромная неуклюжая фигура в больших сапогах, с двойным патронташем через плечо и лопаткой на боку. Немец перехватил винтовку руками. На плоском штыке играют солнечные лучи.
— Рота-а…
Павло сразу же прижал приклад к плечу. Немец взят прямо на мушку.
— …по вра-а-гу… пли!.
Павло нажал пальцем. Немец взмахнул руками и упал поперек винтовки. Присматриваться Павлу некогда. Он бросил пустой патрон, загнал в дуло следующий… Прицелился. Через пригорки перекатился еще один вражеский отряд. Первый лежал на поле. Громче, ближе воют пулеметы, снаряды падают на склоны, в лесу, в селе. Слышны проклятия, стоны, обрывки команды. Разрывы заглушают слова. Ветер принес из села запах гари… Вражеский отряд снова начал перебежку. Теперь на Павла бежал маленький косолапый человек.
— Эх ты — карапузик! — усмехнулся Павло, сам не понимая этого слова. Но оно ему понравилось. Он уловил момент, когда «карапузик» поднялся, чтобы побежать, взял его на мушку и выстрелил. Немец зарылся носом в землю…
И тут наступило нечто неожиданное для Павла. Все бойцы сразу сорвались с мест и кинулись к лесу. Размахивая маузером, вместе с бойцами бежал Полетаев. От топота множества ног и выстрелов застонала земля, в лесу раздавались крики и звенело эхо. Павло прислушался. Вражеские пулеметы строчили не только сзади, но и сбоку. Павло все понял. Немцы обошли полк с правого фланга и ударили от села Бабы. Единственное спасение — отступить. Павло бежал, запыхавшись, спотыкался, падал, поднимался и снова бежал. Рядом с ним тяжело дышали его товарищи. Медленно пятился, прикрывая отступление, бронепоезд. Навстречу быстро приближались станционные здания, село, поднималась в небо труба водочного завода в экономии Мусина-Пушкина. Бойцов нагоняли пули. Тяжело рвались снаряды, разрушая здания. В трех местах горело, но никто не тушил пожара, только кричали перепуганные женщины и дети…
Село оборвалось над деснянскими кручами. Через Десну шагнул железнодорожный мост. На его спину взлез «Красный воин». Вместе со взводом бойцов на мост выбежал Полетаев. Павло соскользнул с кручи на лед. Бойцы ломаной линией прыгали с откоса. За несколько минут колонна длинной лентой растянулась по обеим сторонам моста. Пули свистели высоко, снаряды падали в Десну и выбрасывали столбы воды и льда. Колонна пересекла Десну и вышла на противоположный берег.
Полетаев передал приказ: закрепиться на круче и ждать врага. Бойцы залегли на дамбе. За серым камнем примостился Павло. Отсюда ему видна команда подрывников возле моста, Полетаев с биноклем у будки караульного, Десна, посиневшая, вспухшая, и хаты Макошина на круче по ту сторону. Врага не видно. Павло посмотрел назад — на горе чернели Боровичи. Там комитет, Надводнюк, Марьянка… Давно ли он бежал к этому мосту, выполняя приказ Воробьева и Надводнюка? Стало больно. Сплюнул от обиды и окликнул бойца:
— Может, махорочка есть, товарищ?
К Павлу подполз пожилой боец, в валенках, рваной шинели, с сумкой патронов через плечо. Лицо заросло кустиками седого волоса. На лбу — шрам, красный, с синими краями.
«Свежий шрам», — подумал Павло, беря у бойца из рук кисет с махоркой. Павло скрутил цыгарку, с наслаждением затянулся.
— Мое село вон там на горе… Боровичи! — поделился он с бойцом.
— А-а? — посмотрел боец вдаль, покурил. — А мой дом уже у немцев. Я — гомельский, рабочий из депо… Слесарь — моя специальность, — погодя добавил боец и помолчал, подымил цыгаркой. — Не дают нам немцы нашу жизнь наладить… Зверье!.. Своего бы кайзера — по боку, нет, на Украину идут. Ну и пусть идут, мы их научим, как революцию делать! Это я тебе, брат, с уверенностью говорю…
Он хотел еще что-то сказать, но на кручу высыпал вражеский отряд. Немцы залегли над Десной. С кручи застучали пулеметы. Пули цокали о дамбу, свистели над головами. Немцы, очевидно, боялись по открытому месту через Десну идти в наступление. Они обильно поливали противоположный берег свинцом. Вражеские орудия не стреляли. Павло догадался: боятся повредить мост и этим перерезать себе дорогу к наступлению. Беспорядочная стрельба немцев не утихала. Красногвардейцы стреляли редко, только по живым мишеням.
Где-то далеко, должно быть, под Черниговом, глухо гудели орудия. Павло подумал: «и там идет бой за Десну»… Потом снова вспомнил Марьянку, ее поцелуй — нежный и горячий. Всплыл перед глазами тот день, когда они возвращались с митинга на станции. Какие тогда были прекрасные мечты! Но без борьбы счастья не бывает, его завоевать нужно. Завоевать! — и прижал приклад к плечу. С противоположного берега двинулись немцы, побежали пригнувшись через Десну. На мосту послышалась скороговорка пулеметов. Вражеский отряд повернул обратно, оставив на льду несколько убитых.
— Цурюк! — засмеялся рабочий из депо и добавил — Это по-ихнему — назад. Черт бы вас побрал!..
Выстрелы с противоположного берега стали реже. Солнце повисло над мостом. Вечерело. Тишина на том берегу была подозрительной. «Пойдут в обход», — подумал Павло, достал из кармана горбушку хлеба, разломал ее пополам.
— Закусим, товарищ.
Рабочий вынул из мешочка несколько кусков сахару, подал Павлу. Ели молча. Очень быстро темнело. На западе небо было красным. На этом фоне резко выделялся одинокий силуэт трубы лесопильного завода макошинского промышленника Марголина. У пристани круча обрывалась, дальше начиналась длинная коса, поросшая красноталом. Там Десна давала колено и поворачивала круто на запад. На это колено, в лозняк и смотрел в бинокль Полетаев… Неожиданно враг стал активнее стрелять. Пулеметы строчили наперекрест прямо с кручи и от завода. Павлу видно, как на плес из лозы выбежали немцы. Фигурки маленькие — перекатываются, словно горошины. «Красный воин» стал обсыпать немцев пулеметным огнем. Враг перебежал Десну и спрятался на этой стороне в кустах. Прошло еще минут пять, канонада усилилась. От завода налево, где летом лежит дорога через паром на Бутовку и Боровичи, высыпал еще один отряд немцев и бегом направился к Десне. Теперь пули ложились двойным крестом. Павло закричал соседу:
— Отрезать хотят! — и посмотрел на мост. «Красный воин», непрерывно поливая врага свинцовым огнем, начал сползать с уклона. Полетаев спускался с откоса. В эту минуту вздрогнула дамба, звонко треснуло, в небе взвились клубы дыма и огня. Деревянное предмостное сооружение провалилось. Павло долго смотрел в большую дыру между мостом и насыпью.
По откосам побежали немцы. Павло взял на мушку переднего. Он упал. В небе что-то тюкнуло, на дамбу упал снаряд, содрогнулась земля, раздался крик, и Павло не нашел рядом с собою рабочего из гомельского депо. Рабочий лежал ниже дамбы, с оторванной ногой, с вывороченными внутренностями. Полк снялся, отступая лицом к врагу. «Красный воин» посылал снаряды в Десну. На месте взрывов взлетала вода и лед…
Полк вышел из вражеского кольца и отступал вдоль железной дороги. На луг падали «чемоданы», пули свистели над головами, бойцы изредка отстреливались, темнело, и врага не было видно. Павло месил ногами густую, как тесто, землю. В ботинках хлюпала вода, пальцы окоченели от холода. Впереди выплывала из темноты дубовая рощица Топильня. Вот и Забужин хутор. Мостик и село. Завтра немцы войдут в Боровичи, а может быть, еще сегодня ночью. А что завтра будет в селе?..
«Не ждет меня Марьянка. А может быть, не забегать? Отступить — и ей, и мне легче будет. Нет, на одну минутку, — может и не встретимся больше. Война…»
Внезапно совсем низко над головой зашумело, хорошо знакомое завывание прорезало воздух. Земля под Павлом завертелась мельницей, глаза резнула молния, что-то горячее ударило в плечо и придавило к земле. В глазах закружились огоньки..
— М…арь…я…нка.: — бессильный звук растаял над лугом.
Глава вторая
Село словно вымерло, ни одного звука. Не слышно скрипения журавлей и колодцев, не шумят дети возле школы, даже собаки молчат. Но это только так кажется. Село живет, лишь дышит тихо, затаенно. Спрятавшись где-нибудь в уголке, люди внимательно смотрят на улицу. Вот и Кирей забрался в сарай и в щелку смотрит… Старая мохнатая шапка сползает ему на глаза, он сдвигает ее на затылок, пожимает плечами.
— Где же этот германец?
Старик припал к щели. Ему видны ворота Гориченко. плетень на огороде Мирона и покосившаяся хата Надводнюка. На улице никого нет. К,ирей завалил трухой и сосновыми ветками колотые березовые поленья: «Чтоб хоть сразу не увидели», — и по привычке чертыхнулся… На улице застучали копыта. Кирей тотчас же прилип к щели. По улице в ряд ехало несколько верховых. Впереди на резвом вороном коне приподнимался на стременах толстый, усатый, в горбатой каске. На его плечах поблескивали погоны, на груди висел бинокль, на боку болталась кожаная сумка. Над остальными всадниками торчали пики, на поясах висели сабли. Верховые остановились на перекрестке, неподалеку от Кирея. Усатый что-то сказал. Кирей ничего не понял. Потом усатый повернул к воротам и заглянул во двор.
— Пан, пан!.. — позвал он. Кирей замер в своем уголке. «Пана нашел, черт его побери», — подумал старик и не сдвинулся.
— Пан, пан! — закричали верховые, стуча пиками в ворота.
— Зовут? Что же делать! Черт его побери! — чертыхался дед.
— Пан! — уже более грозно позвал усатый.
Кирей трижды перекрестился и осторожно вышел из сарая. Всадники насторожились. Старик подходил, согнувшись, мелкими шажками… Усатый расплылся в улыбке.
— A-а, пан! — радостно помахал он рукой в лайковой перчатке.
Кирей в нерешительности остановился посреди двора.
— Я не пан, я мужик.
— Вас[1], вас? му́зик, му́зик, — делая ударение на «му», воскликнул усатый.
— Мужик, мужик. Черт его побери.
— Вас?
— Пусть будет — вас, или нас, или черт вас знает!..
— Цорт?
— Ну, черт бывает болотный… И чего им нужно? — старик пожал плечами.
— Пан, пан, польшевик туда, польшевик туда? — замахал рукой усатый.
— A-а, вот чего вы хотите… Туда, туда… — Кирей показал рукой вдоль улицы.
— Пан, данке[2], — усатый приложил руку к каске, что-то скомандовал, и отряд галопом помчался к школе.
— А лошадки у них хорошие! — решил Кирей, возвращаясь в хату. — Говорили — немцы, немцы!.. Ни черта не понимают, болтают, как дети! Черт его побери, где он взялся, этот народ? Уже как просто мы ни говорим, так и то ничего не понимают…
…Передовые немецкие отряды быстро прошли через Боровичи. По сельской дороге день и ночь шли воинские части, тарахтели возы, кухни, лошади цугом тащили тяжелые орудия. На развилке дороги, возле оврага, каждый день кучками собирались крестьяне и наблюдали за передвижением вражеского войска. Мимо проходили полки — взвод за взводом. Играла музыка. Солдаты, вооруженные до зубов, четко отбивали шаг. Лица у них были чисто выбритые, сосредоточенные, никто не видел ни одной улыбки. По обеим сторонам дороги на рослых резвых конях гарцевали офицеры — безукоризненно чистые и сосредоточенные. На развилке они выхватывали из планшеток карты, водили по ним пальцами и спрашивали у крестьян:
— Пан, пан, Борзна туда?
— Туда, туда, — показывали им.
Офицеры вежливо прикладывали к фуражкам руки в лайковых перчатках.
— Культура у них, — бросал кто-нибудь из толпы.
— Подожди, подожди, они тебе покажут культуру! — отвечал Яков Кутный.
Частенько к оврагу выходил Писарчук. Становился в сторонке, подкручивал усы.
— Идут!..
Люди бочком обходили кулака.
Помолчав, Писарчук добавлял:
— А все такие, как Надводнюк, виноваты… С ума спятил народ, вот немцы и идут порядки наводить!..
В овраге застряло полевое орудие. Ни лошади, ни орудийная прислуга не могли вытащить его из грязи. На гору взбежало несколько немцев, винтовки наперевес, ощетинились штыки.
— Коммен зи![3]
Люди спускались с горы. Писарчук подкручивал усы.
— Их сила, люди добрые, надо вытащить им пушку.
Ананий покосился на него и подумал:
«Душа твоя радуется, думаешь, не знаю, мироед!»
Орудие вытаскивали очень долго, офицер кричал, люди не понимали. Когда орудие вытащили на гору, крестьяне разбежались и уже больше не подходили к оврагу.
Потом немцев через село шло все меньше и меньше. Один отряд остановился в Боровичах. Штаб разместился в школе. Во дворе — кухня, обоз. Под вечер из штаба выбежали трое немцев, постояли у ворот Дороша Яковенко, вошли во двор, постучали в окно:
— Пан, пан!
На крыльцо вышел перепуганный хозяин:
— Чего вам?
— Вас?
— Чего вы хотите?
— Вас?
Дорош махнул рукой и присел на крыльце. Немцы пошли к хлеву. Хозяин понял их намерение, когда они открыли саж.
— Швайн, швайн[4]! — радостно закричали немцы.
Яковенко, шатаясь, подошел к рослому, с синим подбородком, немцу.
— Одна у меня, одна! — и показал палец.
— Айн, айн[5]! — соглашался немец.
— У меня ведь семья, дети.
— Вас?
— Дети, говорю.
— Дет, дет… — осклабился немец.
Из сажа немцы выгнали откормленную свинью.
— Гутес швайн! — закричали они во весь голос.
Один из них вытащил из лежавшей во дворе кучи веток хворостину и ударил свинью. Свинья завизжала и кинулась в саж. Немец рассердился, полез за ней и опять выгнал свинью во двор. Из хаты выбежало трое детей и женщина.
— Деточки, гоните ее в хлев, гоните! — женщина забежала вперед: — Чу-чу, в хлев, чу-чу, чу-чу!
— Цурюк![6] — заорал немец и приставил штык к груди женщины.
Двое других погнали свинью к воротам, но она повернула в сторону и подалась обратно в хлев. Рослый немец щелкнул затвором, прицелился и выстрелил. Свинья завизжала, завертелась, царапая землю короткими ножками. Женщина вскрикнула и упала рядом с ней.
— Убили, убили…
Оба мальчика и девочка испуганно жались к отцу.
— Цурюк! — немец грубо схватил женщину за руку и оттащил. Двое других взяли свинью за ноги и поволокли со двора. Следом за ними по земле легла полоска крови.
— Пан, гельд, гельд! — немец протянул Дорошу несколько серебряных монет. Дорош зажал их в руке, упал на бревна и заплакал.
— Гутес швайн!.. — кричали немцы возле штаба.
Капрал в серой фуражке с высокой тульей, во френче и легком плаще поверх френча, лихо подкручивал первые, еще не тронутые бритвой маленькие усики и наклонялся с седла к бричке, в которой сидели Рыхлов и Глафира Платоновна.
— Я рад, что имею честь сопровождать вас, — говорил он по-немецки, показывая рукой на Боровичи.
Владимир Викторович вежливо кланялся, прижимая руку к сердцу, а Глафира Платоновна подносила к глазам платочек. В передней бричке поднимался на больные ноги и смотрел на гору Платон Антонович. Он недовольно покашливал: вместо клуни на горе стояли обугленные столбы.
— Б-рр… Они мне ее отстроят, они мне отстроят!.. — и погрозил палкой.
Капрал подъехал к нему. Приложил руку к козырьку.
— О-о, положитесь на войско великого кайзера!
Владимир Викторович заискивающе смотрел на капрала, гарцевавшего на лошади перед его тестем, и, многозначительно улыбаясь в усы, шепотом говорил жене:
— Какая уверенность в своих силах. Посмотри, Глафира, на этих сынов Германии! — он кивнул на десяток верховых, ехавших в нескольких шагах позади брички. — Они о революции и не думают. Идут, куда их пошлет кайзер. Господин Бломберг!
Капрал остановил лошадь.
— Я — в восторге, вообще я сегодня очень взволнован! Мы вам очень, очень благодарны за помощь и, наконец, за то, что вы нас сопровождаете…
— Я рад в точности выполнить приказ моего командования.
Бричка поднялась на гору. Немецкий патруль, стоявший на углу улицы, успел сообщить в штаб о прибытии гостей. Из школы на улицу высыпали немцы. На крыльцо вышел стройный офицер, во френче, небольших галифе и желтых крагах. Он стоял, отставив ногу, зажав толстую сигару зубами, хлопал стеком по ботинку. Маленькие глазки дольше, чем следовало, задержались на фигуре Глафиры Платоновны.
Он едва-едва поклонился капралу, выслушивая его рапорт.
Рыхлов соскочил с брички и подошел к офицеру:
— Разрешите мне, господин офицер, выразить вам мою благодарность и чувство уважения! — сказал он на чистом немецком языке. — Я приветствую в вашем лице великое государство, освободившее нас от большевизма! — он поклонился.
Левой рукой офицер выхватил из зубов сигару, а правую протянул Рыхлову.
— Тронут вашей благодарностью. С кем имею честь познакомиться?
— Кадровый офицер, дворянин Рыхлов. Прошу — моя жена! — Офицер подбежал к бричке, скользнул быстрым взглядом по полному лицу Глафиры Платоновны, поднес ее руку к своим тонким губам.
— Генрих Шульц.
— У вас такое поэтическое имя, — произнесла она первый попавшийся комплимент. — Надеюсь, что вы, господин офицер, почтите нас сегодня своим присутствием на маленьком банкете в честь вас — наших избавителей.
— О-о, я очень над, очень рад! — еще раз поклонился Шульц и, выпрямившись, пошел знакомиться с Соболевским.
— Какая вежливость, культурность! — с восхищением говорил Владимир Викторович, когда они въезжали в усадьбу. Глафира Платоновна не слушала. На нее тяжелое впечатление произвел вид пожарища.
Вечером в гостиной Соболевского собрались: надушенный Шульц, с неизменной сигарой в зубах, Платон Антонович — выбритый и умытый с дороги, Владимир Викторович в форменном офицерском френче, Глафира Платоновна, Ксана, Муся, Татьяна Платоновна и Петр Варфоломеевич — в военном костюме, но без погонов. Он держался несколько в стороне. Ему очень хотелось узнать планы оккупантов, оттого он и согласился присутствовать на банкете. Петр Варфоломеевич, насупившись, разглядывал заставленный яствами и напитками стол и прислушивался к самоуверенным словам Шульца. Офицер, забросив ногу на ногу, развалился в кресле-качалке, курил, пуская колечками дым, и с насмешливыми нотками в голосе говорил Ксане и Владимиру Викторовичу:
— Россия — великая страна, но Россия — глупая страна! В России десятина земли дает тридцать пудов хлеба. Тридцать пудов!.. Смешно!.. Вы не умеете хозяйничать. Пустите в украинские степи нас, немцев, мы вам покажем, как надо брать с вашей земли хлеб. О-о, мы засыпали бы Европу хлебом!.. Переведите Платону Антоновичу! — обратился он к Ксане.
— У вас наука, прогресс, господин Шульц, — подобострастно склонял голову Рыхлов.
Бровченко думал: «Немец прав — мой тесть умел промотать деньги, а в хозяйстве разбирался, как я в китайской грамоте».
Шульц продолжал:
— Донбасс! Что такое ваш Донбасс? Это — миллионы золотых марок! Это — основа европейской индустрии! А вы и тут плохо хозяйничаете, не умеете! Техника у вас допотопная! — Шульц обнажил два ряда безупречно белых зубов. — Пусть придут сюда немцы, и вы увидите чудеса! Пусть сядет здесь наш герр Крупп, и вы не узнаете вашего Донбасса… Какие у вас леса!.. О-о, ваши полесские леса! У вас нет даже дорог! Как можно так жить? — он пожал плечами. Ярко блеснули осыпанные золотом погоны. Бровченко подумал: «Этот немец изучил всю географию Украины… Вы, верно, глаза свои проглядели, господа немцы, поглядывая на Украину. Лакомый кусочек».
— Господин Шульц, — сказал Бровченко, — немецкие войска теперь как хозяева на Украине. Немцы, может быть, не откажутся научить нас хозяйничать?
Это было сказано слишком смело. Шульц должен был понять подлинный — смысл этих слов. Владимир Викторович испуганно поднял брови, женщины украдкой поглядывали на офицера. Шульц выпустил колечко дыма, посмотрел, как оно расплылось причудливыми кругами, и ответил, играя бровями:
— Я политики не делаю… Мое дело — воевать… Я знаю только войну… Я выполняю приказы высшего командования…
И разговор оборвался. Тема была очень неприятной. Соболевский заметил, как передернулось лицо Бровченко, и поспешил внести свое предложение:
— Господа, прошу к столу!..
Сели: Шульц между Глафирой Платоновной и Ксаной, Владимир Викторович — поближе к тестю, Бровченко — с Мусей и женой. Нина Дмитриевна озабоченно бегала из комнаты в кухню, хозяйничала. Рыхлов налил красного вина в бокалы:
— Пью за здоровье господина Шульца, представителя великой державы, протянувшей нам дружескую руку помощи в борьбе против большевизма. Ура!..
Бровченко опустил голову, катал по скатерти хлебный шарик. Собравшиеся выпили. Шульц, пригубив из бокала, поморщился, попросил извинения и быстренько поднялся из-за стола.
— Ординарец! — позвал он, подойдя к двери.
В столовую вбежал невысокий, курносый немец. Щелкнул каблуками, приложил руку к козырьку, замер. Шульц наклонился к нему и что-то прошептал. Ординарец сделал «кру-гом», щелкнул каблуками и побежал из комнаты.
— Я преклоняюсь перед вашей дисциплиной, господин Шульц, — сказал, поднявшись, Владимир Викторович.
— О-о-о, у нас дисциплина! У нас солдат не знает своего «я»! Солдат — как механизм в часах! — довольный своим сравнением, Шульц повернулся — стройный и самоуверенный — и сел на свое место. — У нас революции не будет! — подчеркнул он уверенно. — Немецкий солдат знает одно: побеждать в бою, революции он не знает, она ему не нужна!
Владимир Викторович поддакивал. Петру Варфоломеевичу захотелось вдруг сбить самоуверенность офицера, и он вставил тихо, но резко:
— От революции не считайте себя гарантированными!
Шульц хвастливо и презрительно прищурил глаза и выше прежнего поднял голову.
— Революции в Германии не будет! Революция бывает в России, но я уже говорил: это глупая страна. Немцев — трое, и у них одна мысль: с честью выполнить волю нашего прославленного императора, русских — трое, и у них четыре мысли: за императора, против императора, за революцию, против революции… Ха-ха-ха! — он открыто издевался.
Он чувствовал себя тут полным хозяином, завоевателем.
Бровченко сидел, как на иголках. Ему были противны самонадеянные слова этого немецкого хвастуна и рабское поведение Рыхлова и тестя. Он упрекал себя, что пришел на этот банкет обиды и позора, и теперь искал повода, чтобы уйти.
В коридоре послышались тяжелые шаги. На пороге, вытянувшись, остановился ординарец. В руках у него были завернутые в бумагу бутылки.
— На стол! — скомандовал офицер. Ординарец в одно мгновение расставил бутылки и застыл.
— Можно идти!
Ординарец повернулся, стукнул левой ногой о пол так, что даже посуда на столе зазвенела, и вышел из комнаты.
— О-о, немецкий солдат! — воскликнул Шульц, наливая вино из своих бутылок. — Ваше вино — плохое вино! За здоровье кайзера!
Бровченко, пошатываясь, вышел из-за стола.
— Разболелась голова, выйду на свежий воздух…
И ушел. Он слышал, как презрительно сказал Шульц:
— Если у офицера от вина болит голова — он плохой офицер.
Бровченко сел на скамью под забором. Вниз, с горы, сбегал сад, пахли почки, вот-вот зацветут яблони. Высоко поднялась луна. Гнилица залила луг. На тихой воде лежит длинная золотая дорожка.
Вдали чернеет в воде дубовая роща. Кудрявые вербы стоят над водой… Петр Варфоломеевич прислушивался.
Опьяневший Шульц выкрикивал:
— На вашу землю нужен наш, немецкий, капитал…
Бровченко подумал: «Рыхлов, слушая его, верно, кивает. Раб!.. Готов ноги целовать Шульцу». Бровченко поднялся и шагнул к дому, чтобы увести своих, но услышал, как Ксана заиграла на пианино, махнул рукой и медленно направился к калитке. В воротах он встретил двух мужчин. Было темно, но он узнал Писарчука и Вариводу. Они посторонились и пропустили Петра Варфоломеевича на улицу. «Чего они пришли?» — задал себе вопрос Бровченко. В памяти всплыло бурное собрание, когда фронтовики одержали победу над комитетом Писарчука. Воспоминание об этом собрании заставило Петра Варфоломеевича насторожиться. Он постоял с минуту и вернулся к дому тестя. Писарчук и Варивода поднялись на крыльцо. Ординарец Шульц остановил их. Бровченко присел на скамью под ореховым деревом.
— Нам пана офицера нужно, — долетел приглушенный шепот Писарчука. Ординарец вошел в дом. Через минуту на крыльцо вышли Шульц и Владимир Викторович. Писарчук и Варивода низенько поклонились.
— Мы к пану офицеру! Скажите ему, что мы… — Писарчук осмотрелся и стал что-то шептать Владимиру Викторовичу, а тот быстро заговорил, обращаясь к Шульцу по-немецки:
— Господин Шульц, крестьяне принесли список местных большевиков, которые выступали против вашей армии и теперь прячут у себя оружие.
— О-о! — воскликнул Шульц. — Дайте, дайте этот список!
Владимир Викторович повторил по-украински слова Шульца.
Писарчук достал из-за пазухи лист бумаги. В руках Рыхлова вспыхнула спичка. Писарчук и Варивода боязливо оглянулись. Рыхлов, просматривая список, сказал по-немецки:
— Я их всех знаю. Это — руководители местных большевиков.
— Благодарю вас! — и Шульц пожал руки Писарчуку и Вариводе.
Кулаки поклонились и сошли с крыльца. Вскоре Писарчук вернулся.
— Пан Рыхлов, мы пришли еще вечером, а теперь ночь, мы просим у пана немецкого офицера ихнего солдата, чтоб нас патруль не задержал.
Рыхлов перевел просьбу Писарчука. Шульц отрядил своего ординарца. Писарчук, Варивода и ординарец торопливо ушли.
Этот случай поразил Петра Варфоломеевича в самое сердце. Оцепенев, он долго не мог подняться. «Какая подлость, какая подлость! Немцам продают своих же односельчан! Что будет завтра? Что будет завтра?..»
Подвыпивший Шульц пел какой-то старомодный романс. Кто-то аккомпанировал ему на пианино.
Петр Варфоломеевич вскочил со скамьи. «Предупредить их! Сейчас, завтра будет поздно!» 0«вышел из-под дерева и заспешил к воротам.
Напротив школы по залитой лунным светом улице проходил немецкий патруль. Бровченко приблизился.
— Кто идет? — и щелкнули затворами.
— Домой иду! — ответил Петр Варфоломеевич по-немецки.
— Пароль?
— Я местный, не военный.
— Цурюк! — блеснуло широкое лезвие штыка.
Петр Варфоломеевич втянул голову в плечи и, удрученный, подавленный, медленно поплелся к своему домику.
Шульц продолжал петь и смотреть Ксане в глаза. Смотрел упорно, настойчиво. Ксана не отрывала рук от клавишей и все время краснела: на нее никогда еще так не смотрели мужчины… Ей было и приятно, и боязно. Когда Шульц переводил взгляд на ее оголенные плечи, Кеану охватывала дрожь, пальцы нервно нажимали на клавиши, она путала аккорды. Шульц, надушенный и опьяневший, наклонялся все ближе:
— А в саду весна…
Ксане захотелось подышать свежим воздухом.
Шульц подал ей руку. Она повисла на его локте. «Разве я пьяна?» — подумала Ксана. Офицер закурил сигару, затем любезно подал Ксане коробку шоколадных конфет, завернутых в серебряные бумажки. Она ела их с удовольствием и думала о галантности немецкого офицера. Шульц говорил о фронте, о походах, о весне и скуке. У Ксаны шумело в голове от дыма его сигары и выпитого за ужином вина. Ей представлялись странные вещи: месяц таинственно подмигивает ей, а она уже не идет, а офицер взял ее на руки… Нет, это господин офицер только обнял ее за талию. Что же тут такого? Он предупредительный, боится, чтобы она не упала… Ей показалось, будто рука офицера дрожит. Куда-то исчезла луна… Ксана догадалась — они вошли в липовую аллею «Аллея вздохов»… Как трудно стоять на ногах. Она склонилась на плечо офицера. Может быть, это нескромно?.. Они вошли в беседку. Тут было совсем темно. Ксана хотела присесть, но Шульц обнял ее обеими руками. От его горячего поцелуя у Ксаны еще сильнее зашумело в голове… У Шульца какие-то странные слова:
— В душе моей — буря!..
Своими поцелуями он не дает ей дышать… Ксана упала к нему на колени…
…Чувство боли и обиды дошло до ее сознания лишь тогда, когда офицер старательно оправил ее платье, вытер носовым платком руки и закурил сигару… Ксана прижалась горячим лбом к холодным перекладинам беседки и заплакала. Такого чувства она никогда не испытывала — ее словно вываляли в навозной жиже. Ксана с отвращением сбросила со своих плеч холодные руки офицера.
— Уходите от меня!
Шульц не понял ее.
— Вы… вы… мерзавец! — вскрикнула Ксана и почувствовала, что ее слова не производят и не произведут на него никакого впечатления. Он спокойно продолжал курить, равнодушно-холодно советовал ей успокоиться, говорил, что если узнают родные, она может иметь неприятности. Он даже отвернулся от Ксаны, когда она в отчаянии заломила руки над головой и, рыдая, упала на скамейку. Он откусил кончик сигары, посмотрел на часы:
— Мне пора в штаб. Я должен проверить патрули.
Ксана не ответила. Шульц приложил руку к козырьку, щелкнул каблуками и вышел из беседки. Ксана вышла вслед за ним.
Земля пахла по-весеннему — прелой травой и навозом. Марьянка перекапывала грядку возле хаты. Девушка похудела, заострился подбородок, только глаза еще ярче блестели на смуглом лице. Под глазами появилась синева, но от того Марьянка казалась еще красивее. Горькие мысли не оставляли Марьянку. Чего она только не передумала за эти три месяца! Павло не подавал о себе весточки, и Марьянке казалось, что его в бою убили петлюровцы. Может быть, где-нибудь в степи зарастают травой его косточки?.. А может быть, Павло лежит раненый, просит помощи?.. Его никто не слышит, даже воды подать некому… Если б она знала, где он лежит, пешком пошла бы хоть и за сотню верст, ухаживала бы за ним, из своих рук поила бы…
И все-таки она верила, что он жив. Только где он? Немцы все идут и идут. Орудия гремят где-то далеко в степях. Куда отходят красные? Может быть, Павло и прислал бы весточку, да враги кругом, не дойдет она… Марьянка вспоминает, как они с Павлом мечтали о земле, вспоминает слова Павла о будущем, и горько становится на душе. Опять земля у них из рук уплыла и вернется ли когда-нибудь?.. Вспоминаются слова Павла: «Паны, буржуи и кулаки-мироеды зубами рвать будут, лишь бы все оставалось так, как было». Правду говорил Павло! Писарчук ходит именинником. Его власть вернулась. Орищенко открыто грозит. Вчера рассказывали, как жена Сергея говорила у колодца: «Подождите, подождите, будете вы знать, как к нашей земле тянуться!» Жена Сергея не забыла ни Надводнюка, ни ревкомовцев. Люди молчат, боятся — ведь теперь ее сила… Паны вернулись. Как теперь жить? — Марьянка посмотрела на вскопанную грядку. — Корзинку картошки они тут высадят, а что ж потом есть будут? Опять придется идти внаймы, кланяться Писарчуку или, может быть, Орищенко? Чтоб ты пропал! А какие мечты были! Счастье собственными глазами, казалось, видела. Но исчезло оно, не для бедных, верно…
Сорвала Марьянка крупную пушистую почку с отцовской вербы и тихонько грустно запела:
К перелазу подошла пожилая женщина в порванной свитке. На голове — серый платок, в руках — палка. Женщина слушала песню Марьянки, но девушка, заметив пришедшую, перестала петь и с удивлением подумала: «.Чего это тетка Забужиха появилась у нас?» Женщина подошла ближе. Теперь Марьянка заметила, что у нее на ногах рваные солдатские ботинки. Марьянке показалось, что она эти ботинки на ком-то видела. Но от этой мысли ей самой стало смешно: разве теперь мало кто носит солдатскую обувь?
— Здравствуйте, доброго вам здоровья! — низко поклонилась Забужиха.
— Спасибо, — вежливо ответила Марьянка, с любопытством глядя на женщину, жившую на хуторе возле Топольни и никогда у них не бывавшую. — Что нам скажете, тетенька?
— Скажу, скажу. Такое скажу, что радоваться будешь. Идем в хату, дочка.
Марьянка вонзила лопату в землю и повела Забужиху в хату. Забужиха поздоровалась с Харитиной, поздравила ее с наступившим днем и села у стола.
— Устала я… Близко ли до вас! Версты три, верно, будет. Идти, да как идти, если у меня и обуться не во что. А он и говорит: «Возьмите, тетка, мои ботинки!..»
— Кто — он? — дрожащим голосом спросила Марьянка. Что-то подсказывало ей, что эта женщина появилась у них неспроста.
— Кто — он?! А мне и в голову не пришло, что вы ничего не знаете. Мне надо было сразу сказать. Павло Клесун у меня лежит.
— Павло? — вскрикнули, бросившись к ней, мать и дочь.
— Ну да, Павло! Не верите?.. Вот его ботинки на мне, — она вытянула вперед ногу, показывая рваный ботинок.
— Тетенька, как Павло к вам попал? — Марьянка взволнованно схватила ее за руку.
Забужиха попросила напиться, а потом неторопливо стала рассказывать:
— Ну вот, значит, был бой, когда немцы шли из Макошина… Я со своими детьми тогда в погребе просидела целую ночь. Так было страшно, что и не приведи господи! А утром, как утихло, дай, думаю, пойду в хату и хоть картошки детям наварю. Вылезла я из погреба — сереет уж на дворе. Слышу, стонет будто кто-то возле плетня. Я прислушалась: и впрямь стонет! Страх меня взял! Боязно! А он стонет и стонет! Может, человек какой, думаю, помирает. Жалко мне стало! Перегнулась я через плетень, смотрю — лежит солдат в луже и стонет. Кровью изошел…
— Кровью? Ой, боже! — испуганно переспросили женщины.
— Разве это шутка, когда ему снаряд в плечо ударил!
— Снаряд?
— Да вы не волнуйтесь, теперь он уже поправляется. Что ж тут, думаю, делать? Позвала я детей, перетащили мы его в хату. Воды я нагрела, раздела солдата, помыла, рубашку свою порвала, старенькая была, и рану перевязала. Плечо ему разворотило… От бабы Улиты, покойницы, царство ей небесное, я про травы всякие знаю. Стала я их варить да ему прикладывать… А он очнулся, спрашивает: «Знаете вы меня, тетка?» А я и говорю: «Нет, голубь, не знаю, кто ты, но раз ты с немцами бился, значит, из наших людей». А он и говорит: «Я из Боровичей, Марка Клесуна сын, Павло». Я, говорю, знаю твоего отца, знаю!.. Ну, он и просит: пойдите и пойдите, тетенька, к Харитине Межовой и скажите ее дочке, Марьянке, то есть тебе, где я, пусть придет. И просит, чтобы я людям о нем не говорила, а только вам. Я обождала, пока немного подсохнет, да вот и пришла. А ты уж и бежать собралась? — закончила она, глянув на Марьянку, которая быстро оделась и укладывала в узелок белье отца и хлеб…
Марьянка никак не могла идти рядом с Забужихой — та слишком медленно передвигала ноги. Девушка представляла себе раненого Павла и шла все быстрее и быстрее.
— Так ты, Марьянка, беги, а я уже как-нибудь и сама дойду, — посоветовала Забужиха. Марьянка охотно согласилась и направилась через овраг к хуторку. Дрожали руки у Марьянки, она вся похолодела, пока открывала дверь в хату Забужихи. Марьянка подбежала к постели. Обросший, бледный, обескровленный Павло дремал, лежа на левом боку. Два мальчика сидели на скамье и наблюдали за Марьянкой. Она наклонилась над Павлом и, прислушиваясь к его медленному дыханию, тихо поцеловала. Слеза упала на шею Павла. Он открыл глаза, с минуту смотрел на девушку и вскрикнул:
— Марьянка!..
Она присела возле него, гладила его голову, щеки, шею. Не скрывая своей радости, он ловил глазами каждое движение Марьянки.
— Тебе уже легче, Павлусь?
— Спасибо ей, — он обвел глазами комнату и, не найдя Забужихи, спросил: — А где она?
— Я ее опередила! На крыльях бы прилетела!
Павло взял руки Марьянки и прижал их к груди. Марьянка почувствовала биение его сердца, наклонилась и поцеловала Павла в губы.
— Хорошая… любимая… черноглазая… — шептал Павло, и оба улыбались. Мальчики тоже подошли к постели. Старший из них похвалился:
— А я дядино ружье поднял на лугу и спрятал на чердаке…
— Молодец, молодец, Алеша, оно еще пригодится! — Павло погладил русую кудрявую головку. — Что нового в селе?
Марьянка вздохнула. Не вспоминать бы об этих новостях!
— Немцы отбирают коров, свиней, птицу, яйца. Говорят, в воскресенье будут старосту избирать. Помещики возвратились!..
— Изберут, конечно, Писарчука. А ревкомовцев еще не трогают? Все дома?
— Все. Немцы ведь только три дня, как осели у нас, а то все шли дальше.
Павло шевельнулся, застонал.
— Хорошего не жди… Скажешь Надводнюку, где я. Вот я выздоровею, будем что-нибудь делать… Эх, Марьянка, не говорил ли я тебе — станут нам поперек дороги! Но это еще не конец! Пусть Писарчук не думает, что мы сдались! Моя винтовка еще в стрехе запрятана! — Павло опять застонал.
Пришла Забужиха. Женщины стали совещаться, как переодеть раненого в чистое белье. Марьянка грела воду, не спускала глаз с постели. Павло наблюдал за ней, довольный и повеселевший.
Вскоре Марьянка постучала в окно к Надводнюкам. Из хаты вышел Дмитро, хмурый, небритый.
— Марьянка, у тебя есть новости? — встрепенулся он, заметив, что девушка повеселела.
— Я от Павла.
— Павла?.. Ты шутишь, девушка? — не поверил Надводнюк.
Марьянка рассказала. Дмитро выслушал и посоветовал:
— Пусть остается на хуторе. В село ему не надо возвращаться. Узнают о нем немцы — расстреляют. Через несколько дней видно будет. Держи связь со мной и с Павлом.
Марьянка пошла домой.
Глава третья
Было воскресенье. На поваленном дубе курили Гнат Гориченко, Мирон Горовой и Тихон Надводнюк. Кирей стоял, заложив руки за спину. Невдалеке ходил немецкий патруль. Кирей шепотом сказал старикам:
— Вчера забрали откормленную свинью у Дороша Яковенко. Слышали? Черт его побери!.. Так и ждешь, что не сегодня-завтра придут и последнюю скотинку уведут со двора.
Мирон кивнул.
— Придут и заберут… Их сила.
Тихон Надводнюк глянул в сторону школы и заметил движение среди немцев.
— Видите?.. Строятся… К — кому-то пойдут. Пронеси, господи!
Немцы строились быстро. Вынесли пулемет. Старикам видно, как офицер достает из кармана френча лист бумаги и что-то говорит солдатам. Потом он отдал команду. Взвод четко ударил левой и, ритмично покачиваясь, пошел.
— К Лоши пулемет несут чистить! — старался угадать Гориченко.
— Ох, боюсь я… — и Тихон поднялся с колоды.
Немцы шли стройно. Плоские штыки и медные каски блестели на солнце. Сбоку легко ступал Шульц, в крагах, в галифе, со стеком в левой руке и сигарой в зубах. Он изредка бросал:
— Но-гу!..
И взвод еще сильнее ударял левой. Земля гудела под их шагами. Взвод приблизился к старикам. Шульц скомандовал:
— Стой!..
Взвод замер. Офицер поманил пальцем. Из строя вышел худощавый немец с густыми веснушками на носу. Из-под каски обильно сбегали грязные струйки пота. Он держал руки «по швам», глазами впился в грудь офицера. Шульц обращался к солдату на родном языке, солдат к крестьянам — на украинском:
— Пан офицер просит показать, где живет Григорий Кириллович Бояр.
Старики понурились. Молчание было слишком долгим. Шульц нервно ударил стеком о краги. Его терпение лопнуло, и он сердито закричал на переводчика. Тот в тон офицеру заорал на крестьян:
— Пан офицер прикажет шомполами бить!.. Скажите пану офицеру!
Старики медленно подняли головы и посмотрели на Кирея.
— Ведите, дед… — прошептал Мирон. — Их сила…
Руки Кирея дрожали. Он сделал один шаг вперед, с трудом произнес:
— Я… я… отец… Черт его побери!
Солдат-переводчик доложил офицеру, что старик — отец Григория. Шульц отдал команду. Взвод двинулся. Кирей шел впереди. Все, кроме Тихона Надводнюка, пошли следом за взводом ко двору Бояров. Один из немцев раскрыл ворота, и взвод вошел во двор. Команда. Пулеметчики быстро установили пулемет прямо против дверей хаты, взвод рассыпался цепью, винтовки ощетинились штыками.
Из хаты вышел Григорий, немного бледный, но спокойный. За ним вся в слезах вышла Наталка.
Шульц спросил через переводчика:
— Григорий Кириллович Бояр?
— Да.
— Крестьянин?
— Да.
— На войне был?
— Да.
— Чин?
— Рядовой.
Шульц достал из кармана лист бумаги. Переводчик повторял слова Шульца.
— Штаб немецкого командования имеет сведения, что Бояр Григорий Кириллович — большевик, прячет у себя большевистское оружие и большевиков. Правда это?
Бояр посмотрел в глаза Шульцу и усмехнулся.
— Нет у меня никаких большевиков и никакого оружия.
— Мы сделаем обыск! — пригрозил переводчик.
— Делайте!
Бояр сел на колоду. Немцы с винтовками наперевес пошли в хлев. Бояр засмеялся. Подумал: «Ищите!.. А Бровченко не солгал», — и вспомнил посещение Надводнюка, которому еще утром Бровченко сообщил о доносе. Немцы раскапывали штыками навоз, из клуни летела пыль и пучки соломы. Бояр подумал: «Еще свое оружие подбросят» и побежал в клуню. Пять немцев лазили по соломе, штыки втыкали вглубь. Шульц стоял на пороге. Начали перебрасывать солому из одной загородки в другую. Поднялась пыль. Шульц закашлялся и вышел из клуни. В ту же секунду солдаты перестали искать и закивали Бояру.
— Польшевик?
Григорию стало смешно от этого — «польшевик».
— Нет.
Один из солдат стал на пороге, другие окружили Бояра, похлопывали его по плечу, прикасались к рукам, заглядывали в глаза, причмокивали и быстро-быстро говорили слова, из которых только одно и понимал Григорий: «польшевик».
В клуне опять появился Шульц. Солдаты сейчас же начали рыться в соломе. Бояр ушел в хлев. И там солдаты стояли и перешептывались, а когда Шульц заглянул в хлев, принялись за работу.
Прошло с полчаса. Ничего не найдя, немцы высыпали во двор, поискали в хате и тоже ничего не нашли.
Шульц, взбешенный неудачей, повел солдат на огород. Они рыскали в кустах, втыкали штыки в мягкую землю, но следов от свежевыкопанных ям не было. Григорий ходил за ними следом. Он старался не смотреть на грушу с дуплом, но дерево маячило у него перед глазами. Шульц подошел к дереву, постучал по стволу стеком. У Григория по спине пробежали мурашки. «Конец!» Шульц засунул стек в дупло, почему-то свистнул и отошел.
Григорию показалось, будто у него с плеч свалилась неимоверная тяжесть. Он облегченно вздохнул.
«Теперь уберутся к чертовой матери!» — и смелее подошел к переводчику: — У меня ничего не нашли. Я прошу сказать, кто возвел на меня этот поклеп?
Шульц выслушал переводчика, прищурился, выдавил из себя несколько слов. Сейчас же рядом с Бояром выросло двое солдат. Команда. И взвод вышел со двора. Наталка бросилась к Григорию, но два штыка преградили ей дорогу. Она остановилась, закрыла лицо передником и заголосила.
— За что? Черт его побери! — ударил руками о полы Кирей. Немцы на него не обратили внимания.
Взвод вышел на улицу и повернул к Надводнюкам.
Немцев у калитки встречали Дмитро, отец, мать, Ульяна и Мишка. Дмитро стоял, крепко сжав губы. Увидев Бояра, Дмитро едва заметно побледнел. Глазами спросил: «Нашли что-нибудь?» Когда Бояр отрицательно покачал головой, Дмитро перевел дыхание и присел на завалинку. Шульц не отходил от своих солдат, заставляя их обыскивать даже мышиные норы… Но и у Надводнюков ничего не нашли. Шульц нервно кусал губы, жевал кончик сигары. И рядом с Надводнюком выросло двое солдат. Взвод под рыдания Ульяны, Мишки и матери вышел со двора. За взводом шли Наталка, Ульяна, Кирей, Тихон, Тихониха, Гнат, Мирон, выбегали женщины из соседних дворов, выходили мужчины, и все присоединялись к толпе, заполняли улицу. Шульц шел рядом со взводом, оглядывался на толпу и жевал кончик сигары. Потом выхватил из кобуры револьвер, выстрелил в воздух и крикнул:
— Цурюк!
Толпа подалась назад, но не разошлась. Дав солдатам отойти шагов на сто, крестьяне опять пошли следом.
— Куда их ведут, ро-о-ди-мые? — голосили женщины.
— Может на расстрел ведут? Черт его побери! Заступитесь, люди добрые! — умолял Кирей.
Мужчины шли, не спуская глаз с немцев, и успокаивали женщин.
Взвод остановился у ворот Гордея Малышенко. И тут обыск не дал никаких результатов. Гордея поставили рядом с Бояром и Надводнюком. К толпе присоединилась старенькая мать Гордея — Параска. Потом немцы забрали Пескового и пошли к Клесуну. Шульц никак не мог понять, что Павла Клесуна действительно нет дома. Шульц рассвирепел, потерял самообладание, кричал, снова и снова производил обыск, но Павла, конечно, не нашли.
Тогда подтолкнули к Шульцу старого Марка, низенького, с маленьким плоским лицом, в стеганых штанах и длинной, грязной полотняной рубахе.
Переводчик спросил:
— Где сын?
— Я ничего не знаю, — прошамкал Марко. Шульц взмахнул стеком. Марка бросили на землю, ударили шомполом по спине. Старик дернулся, вытянул ноги и затих. Солдат бил его по животу, по голове. Марко едва слышно стонал. Потом Шульц еще раз взмахнул стеком. Взвод выстроился, окружил арестованных и вышел со двора. Следом за взводом, запрудив всю улицу, двигалась толпа. В передних рядах шла Марьянка, поддерживая мать Малышенко. Шульц опасливо оглядывался и, наконец, приказал солдатам дать залп в воздух. Люди остановились, сбившись в кучу, но потом опять пошли вслед за взводом.
Арестованных немцы отвели в погреб под школой. У дверей поставили часового. Толпа не расходилась.
Шульц подозвал переводчика:
— Скажи — стрелять буду…
В полдень немцы согнали крестьян к церкви на сход. На паперти стояли Писарчук, Варивода, Маргела, Лука Орищенко и поп Маркиан. Шульц, размахивая стеком, шагал взад и вперед. У паперти стоял навытяжку ординарец. Вдоль ограды выстроились вооруженные немцы. Люди входили на погост и сразу попадали в кольцо. Озираясь по сторонам, они боязливо жались друг к другу. Вместе со своими соседями стоял рослый Ананий Тяжкий, озабоченный и невеселый. Яков Кутный прислонился к вербе, заложил руки за спину, изрытое оспою лицо было темным и гневным. Свирид Сорока как-то особенно долго сворачивал цыгарку, исподлобья наблюдая за равномерно шагавшим по паперти Шульцем. Шуршавый прошептал Дорошу Яковенко:
— Слышали, в Макошине новости… Наследники графа Мусина-Пушкина требуют, чтобы крестьяне заплатили деньги за имущество. Вы думаете — мало денег! Ого!.. Сорок две тысячи да семьсот восемьдесят один рубль. Еще и один! Что будет народ делать?..
Новость сразу облетела сход. Это известие потрясло всех. Кто-то шепотом рассказал еще одну новость. Сядринский помещик тоже требует денег за сожженный дом. Люди не подчинились немцам, и немцы сожгли село… Боровичане растерялись. С испугом посматривали на вооруженных немцев: не для того ли и боровичан созвали сюда?
В ворота прошли Бровченко и Муся. Осмотрелись, стали неподалеку от Анания. Пришла Марьянка, остановилась возле Муси.
— Не слыхали, для чего народ сгоняют? — Марьянка дотронулась до руки Бровченко.
— Контрибуцией, верно, пахнет.
Марьянка пожала плечами. Она этого слова не знала. Решила молча ждать.
К паперти, с трудом сгибая ноги, проковылял Соболевский в сопровождении Глафиры Платоновны и Владимира Викторовича. Шульц ответил на их приветствие едва заметным кивком.
Писарчук поздоровался с Владимиром Викторовичем и попросил передать Шульцу, что крестьяне уже собрались. Шульц выслушал Рыхлова, закурил сигару и опять зашагал взад и вперед.
— Начнем, граждане, — сняв шапку, выкрикнул Писарчук. Никто не ответил. — С вами будет говорить пан немецкий офицер!
Шульц остановился посреди паперти. Прищурив глаза, посмотрел на собравшихся. На него из-под насупленных бровей уставились сотни глаз. Шульц сделал такое движение головой, словно ему тесен был воротник, и перевел взгляд на солдат. Немцы, замкнув кольцо, стояли навытяжку. Вдруг Шульц что-то крикнул по-немецки и замахал стеком. Крестьяне все так же молча смотрели на него.
— Шапки! — выкрикнул Рыхлов.
Поднялись руки — одни торопливо, другие медленно, и немецкий офицер увидел чубатые, непричесанные, лысые, седые головы. Шульц усмехнулся краешком тонких губ и стал, размахивая стеком, что-то выкрикивать. Крестьяне, кроме единственного слова «большевик», ничего не поняли из криков Шульца и смотрели на Рыхлова, ожидая объяснений. Наконец, Шульц закончил свою речь. Рыхлов ее перевел:
— Мы, немцы, пришли к вам, как ваши друзья! — так сказал господин офицер. — После беспорядка и ужасов войны мы, немцы, хотим дать вам возможность мирно работать на ваших полях. — Рыхлов помолчал, наблюдая за тем, какое впечатление произвели эти слова. Крестьяне стояли молча, не поднимая головы. Рыхлов кашлянул и, повысив голос, продолжал: — Господин немецкий офицер предупреждает, что за поддержку большевиков будет расстреливать! — Рыхлов опять помолчал. — У кого есть какое-нибудь оружие, чтобы сейчас же после схода принес в штаб! Будут обыскивать и, если найдут оружие, тоже будут расстреливать… В селе нет власти, господину офицеру не с кем вести свои дела, поэтому он предлагает вам избрать старосту.
Тихо-тихо стояли люди. Изредка кто-нибудь приглушенно кашлял в кулак. Вдруг из толпы раздался хриплый голос:
— Почему это немцы последнюю скотинку со двора уводят?
Все сразу обернулись. Дорош Яковенко, опустив голову, неприязненно смотрел на Рыхлова. Ветер трепал густые волосы Дороша, и они падали на глаза. Шульц немедленно спросил у Рыхлова, что сказал Дорош. Владимир Викторович перевел. Шульц неторопливо спустился с паперти и, размахивая стеком, направился к Дорошу. Шел Шульц мелкими шажками, попыхивал сигарой и не сводил серых глаз с головы Дороша. Толпа расступалась перед Шульцем и провожала его фигуру налитыми кровью глазами.
— Черт его побери… — громко прошептал Кирей.
Шульц подошел к Дорошу, смерил его взглядом с ног до головы, пустил сигарный дым в лицо. Дорош отвернулся и помахал рукой, прогоняя густой клубок дыма. Шульц поднял руку в лайковой перчатке и ударил Дороша по лицу. Толпа охнула. Дорош схватился за рот. По пальцам на бороду стекала кровь.
— За что?
Шульц ударил еще раз. Дорош упал. Шульц что-то крикнул своим солдатам и вернулся на паперть.
К упавшему подбежало трое немцев, они схватили его под руки и потащили с погоста в штаб.
Долго смотрели крестьяне вслед Дорошу.
— О-о, этот наведет порядок! — громко сказал Рыхлов, обращаясь к тестю.
Бровченко услыхал эти слова и, задыхаясь, прошептал Мусе:
— Инквизиторы!
Марьянка опять не поняла этого слова.
Рыхлов пошептался с Шульцем, потом крикнул толпе:
— Господин офицер советует избрать старостой Писарчука. Поднимайте руки!
Поднялось и сразу же опустилось несколько рук. Одним взглядом Шульц обвел сход и что-то крикнул. Солдаты шагнули вперед. Рук поднялось больше. Шульц удовлетворенно усмехнулся.
— Теперь слово имеет Платон Антонович! — объявил Писарчук.
Соболевский с трудом взобрался на паперть. Несколько раз кашлянул и сказал:
— Клуню мою сожгли — это тысяча рублей! Готовые дрова из лесу развезли по домам — это пять тысяч рублей! Трезора убили — это пятьсот рублей… До следующего воскресенья верните мне деньги: девять тысяч пятьсот рублей. Слышали?
— Слушались большевиков, люди добрые, так платите! Разве я не говорил, не водитесь с Надводнюком! Вот и радуйтесь теперь! Мы с Вариводой разбросим, сколько кому на двор, и объявим вам. А теперь идите и живите мирно, помните, что офицер — человек сурьезный, — пригрозил Писарчук.
Крестьяне нахлобучили шапки и, будто зачумленное место, быстро оставляли погост. Тяжело ступал среди соседей Ананий.
— Ничего платить не будем!
— А они придут и заберут все до нитки!
— Если мы все не будем платить, так не заберут… Эх, надо было Платона тогда придушить… — жалел Ананий.
В другой группе чертыхался Кирей:
— Вот до чего дожили, родимые!.. Черт его побери, где он взялся на нашу голову? Заберут, заберут все… Пустят с сумой по миру…
— Трудно с панами бороться. Управься с паном, когда за ним такая сила! — безнадежно качал головой Мирон…
Со схода Бровченко возвращался подавленный и возмущенный. Ему казалось, что дикий поступок Шульца на сходе еще не имел себе равных. Бровченко шел и повторял слова Яковенко: за что? Вопрос клином входил в сознание Петра Варфоломеевича. Ему было и больно, и гадко. Бровченко чувствовал, что одинаково ненавидит и Шульца, и Рыхлова.
Рыхлов, поп Маркиан, тесть и Писарчук благословили Шульца на расправу с крестьянами. Бровченко прекрасно понимал, что Шульц и сам мог бы поступить так, как поступил, но поддержка Рыхлова придавала ему еще больше уверенности. Сегодня на погосте Петр Варфоломеевич как никогда почувствовал свое одиночество и бессилие. Рыхлов — в союзе с Шульцем и Писарчуком, фронтовики сгруппировались вокруг Надводнюка, а вот он — в стороне… С войны он принес ненависть к войне, а здесь изо дня в день росла еще одна ненависть — к Шульцу и своим родственникам. Но горше всего было сознавать свою беспомощность.
У ворот его ожидали Муся и Марьянка, которые раньше других ушли со схода. Петр Варфоломеевич заметил во взгляде Марьянки укор. Но разве он виноват? Сила у них… Но в ту же минуту ему показалось, что девушка права. Почему? Он на это не мог ответить.
Марьянка вздохнула.
— Я хочу вас просить, Петр Варфоломеевич… — и помолчала. Бровченко опустил глаза. Марьянка еще раз вздохнула, Бровченко показалось — безнадежно, и продолжала:
— Я хочу вас просить… Может быть, вы узнаете, что они хотят сделать с ревкомовцами? Только узнать…
От неуверенности, с какой был задан вопрос, и этого повторяющегося «только узнать» Петру Варфоломеевичу стало больно. Значит — ему не верят… Недаром Марьянка так безнадежно вздохнула. Но он не обиделся. Подошел к девушке:
— Я узнаю, если это будет возможно.
Марьянка встрепенулась, ее черные глаза блеснули. Она схватила Петра Варфоломеевича за руку:
— На вас одного надежда! Я буду каждый день наведываться.
Она попрощалась и ушла, а через полчаса с узелком в руках уже бежала через луг на Забужин хутор, чтоб принести Павлу известие об аресте ревкомовцев.
— Это — конец революции… — сказал шепотом Логвин Песковой Надводнюку, когда немцы бросили в погреб Дороша Яковенко. В словах Логвина была глубокая тоска и отчаяние. Надводнюк сел рядом с Дорошем, стер с его лица сгустки крови, укрыл товарища своим пиджаком и стал расспрашивать, за что Дороша били немцы. Рассказывая, Яковенко вглядывался в темноту. На охапке соломы, в углу сидел Бояр, рядом с ним, опершись спиной о сырую стену, — Малышенко. Песковой, заложив под голову руки, лежал на соломе. В каменном мешке было очень темно, сквозь окошечко под потолком еле-еле пробивался свет.
Дмитро наклонился к Песковому:
— Кто вам сказал, что революции конец?
Песковой закашлялся. У него от сырости в погребе болела грудь.
— Народ поднимать надо, а поднимать теперь некому…
— Как некому? — удивился Надводнюк. — А партия большевиков?
— Ты, Дмитро, коммунист, и тебя немцы вместе с нами посадили в погреб… Возможно и расстреляют. Так по всей Украине.
Надводнюк присел рядом с Песковым.
— Не всех коммунистов засадили в погреба. У партии хватит сил поднять восстание против немцев!
— Да, но ведь сила у них. Вооружены до зубов… — простонал Яковенко.
— Мы их будем бить их же оружием.
— О-о, дай только выбраться из этого погреба! — погрозил Бояр.
— Ну, и что ты сделаешь?
— Вокруг села — лес… Э-э, знали б, что делать!
Поздно вечером часовой приоткрыл двери и бросил в погреб мешочек. Надводнюк развязал его. Там был нарезанный ломтями хлеб и кусок сала. Кто принес — неизвестно… Сели ужинать. Бояр узнал хлеб — такой печет его Наталка. Малышенко узнал сало. Ужинали молча. Потом, прижавшись друг к другу, легли спать…
Утром в погреб пришел Шульц. Понюхал воздух, поморщился и вышел, оставив двери открытыми. Потом он снова спустился в погреб. Ординарец внес стул. Офицер уселся, а ординарец и переводчик застыли тут же, за его спиной. Шульц, как всегда — причесанный, надушенный, со стеком в руке и сигарой в зубах.
Переводчик сказал:
— Пан офицер просит передать, кто отдаст свое оружие, того он прикажет сейчас же освободить.
Надводнюк ответил за всех:
— У нас нет никакого оружия! Вы же делали обыск и ничего не нашли!
Шульц поморщился. Переводчик сказал:
— Пан офицер просит передать, кто скажет, где документы о добровольцах Красной гвардии, того…
Надводнюк перебил его:
— У нас делали обыск и ничего не нашли!…
Шульц долго раскуривал сигару: кольца дыма плавно поднимались к потолку и расплывались по погребу. Арестованные наблюдали за офицером. Внезапно он выхватил из кармана пять сигар, протянул арестованным.
— Спасибо, у нас есть свой табак, — ответил Бояр. Офицер прищурился и спрятал сигары.
Переводчик снова сказал:
— Пан Шульц просит передать: кто укажет коммуниста, того… он немедленно освободит.
Надводнюк усмехнулся.
— Скажите пану офицеру, что нас посадили сюда зря. Коммунистов тут нет! Мы — бедные крестьяне! Землю обрабатываем.
Шульц вскочил. Махнул стеком, что-то крикнул и вышел из погреба. Ординарец забрал стул. Переводчик сказал с порога:
— Пан офицер сказал: не сознаетесь — прикажет расстрелять.
Загремел засов.
В погребе долго молчали. Потом Песковой закашлялся и яростно выругался.
— И расстреляет, что ему…
— Если будем держаться одного: «ничего не знаем!» — не расстреляет. Придраться не к чему, — высказал свою мысль Бояр. Все так думали: Григорий говорил правильно.
Шульц больше не заходил. Сидеть в погребе было очень тяжело, а особенно теперь, когда на поле начиналась работа. Хоть на свободе и не веселее, но все же там немцы ни свежего воздуха, ни солнца отнять не могут. Три раза в день арестованные сквозь окошечко слышали рев скота — немцы тут же во дворе резали коров и свиней.
Вечером патрульный снова бросил в погреб буханку хлеба и поставил горшочек пшенной каши. Кашу арестованные ели по очереди — на всех была одна ложка. Каша не насытила. Тогда начали жевать мягкий, верно, только что испеченный хлеб. Вдруг Малышенко вскрикнул от удивления:
— Хлопцы, бумажка в хлебе!..
Все бросились к нему. Надводнюк осторожно разгладил небольшой листок бумаги… Было темно, разобрать ничего нельзя было.
— Прочитаем завтра…
Спали тревожно. Часто просыпались, смотрели в окошечко, но на дворе еще была ночь. Каждый думал о крошечном листке бумаги и рассвета дожидался у окошечка. Как только начало сереть, Надводнюк попробовал разобрать написанные карандашом слова. Некоторые буквы расплылись, и посинела бумага.
«Хлопцы, — прочитал, волнуясь, Дмитро, — моя рана уже заживает. Вчера М. принесла мне от Б. губернскую земскую газету, в которой пишется, что 28 апреля немцы арестовали министров Центральной рады и что 29 апреля в Киеве в цирке был съезд хлеборобов-землевладельцев, и там немцы показали новоиспеченного гетмана, царского генерала, какого-то Скоропадского. Гетман заявил, что он за хлеборобов, кулаков и помещиков. Гетман уже приказал возвратить землю помещикам и кулакам. Таковы новости. Вот что немцы натворили. Вы, хлопцы, держитесь крепко и положитесь на меня. П.»
Надводнюк еще раз перечитал написанное, выразительно посмотрел всем в глаза, порвал бумажку на мельчайшие кусочки и засыпал их песком.
— Я что-то не пойму толком… Переворот немцы сделали? — спросил Яковенко.
Все сели на соломе. Дмитро посередине.
— Я, хлопцы, это так понимаю. Гетмана посадили немцы, гетман — царский генерал. Вот и выходит, что Украину вторично продали немецкому кайзеру и русским помещикам. Теперь немцы начнут грабить Украину еще сильнее. Немцы скажут: «Мы тебя посадили, так ты нас и слушай…» Духом, хлопцы, не падать, у Павла есть какой-то план, зря писать не станет.
— Когда бы знать, что Павел думает, на душе было бы легче.
— Поживем — увидим, — успокаивал Надводнюк.
И все же после записки Павла на душе стало немного легче. Есть еще свои люди на свободе! Может как-нибудь да освободят из этого погреба… И Павло не один. Ананий, Яков Шуршавый, Сорока… Еще найдутся.
Вверху за окошечком мерно шагал часовой. Взошло солнце, золотистый луч заскользил по окошечку. Во дворе топали, долетали обрывки команды. Немцы вышли на занятия. Арестованные молча прислушивались к жизни по ту сторону каменной стены.
Вскоре двери в погреб опять отворились. На пороге остановились переводчик и высоченный заспанный немец с двойным патронташем на животе.
— Надводнюк!
— Куда? — насторожился Надводнюк.
— К пану офицеру на допрос!
Вышли во двор. Солнечные лучи и напоенный тополиным запахом воздух ударили в лицо, и Дмитро чуть не упал. Немец поддержал его, а потом толкнул прикладом в спину. Дмитро выпрямился и твердым шагом пошел к крыльцу. Вошли в комнату, бывшую учительскую. У стола, заваленного картами и книгами, сидел Шульц. В зубах догорала сигара. Не дойдя до стола, Надводнюк остановился. Конвоиры стояли навытяжку возле дверей.
Офицер пососал сигару, потер виски и, не поворачивая головы, что-то сказал переводчику, а тот обратился к Надводнюку:
— Пан офицер в последний раз предлагает сказать, где оружие и кто в селе коммунисты?
Надводнюк рассмеялся Шульцу в глаза.
— Вы же у нас делали обыск и ничего не нашли!
Переводчик еще не успел перевести ответ Дмитра, как Шульц вскочил, коршуном налетел на Надводнюка и изо всех сил ударил его кулаком по лицу.
— Швайн!
Надводнюк от неожиданного удара зашатался. Но тут же овладел собой, крепко стиснул зубы, закрыл глаза, весь почернел, мускулы напряглись. Шульц испуганно отскочил. Надводнюк вздохнул и уже смотрел в окно. Из рассеченной губы текла кровь.
Шульц закурил новую сигару и гаркнул на переводчика. Тот выбежал и через минуту вернулся в сопровождении двух огромных мордастых солдат. Шульц опять что-то крикнул. Они схватили Дмитра под руки и потащили во двор. Шульц шел следом за ними. У походной кухни немцы сорвали с Дмитра пиджак и брюки и бросили его на землю. На спину и на ноги Дмитру уселись солдаты-великаны. Шульц ударил Дмитра ногой по голове.
— Ты был главным в ревкоме! — твердил переводчик. — Где оружие, документы? И кто еще коммунист?
Надводнюк плюнул на краги офицера. Шульц вскрикнул. Тело Дмитра рассек шомпол. Кровь брызнула на ноги немцев, покраснел песок под Дмитром.
Тонкие губы офицера ритмично двигались — он считал удары. Надводнюк стонал глухо, сквозь зубы. На пятнадцатом ударе Шульц махнул рукой. Переводчик наклонился к Дмитру.
— Скажешь?
Надводнюк молчал.
Офицер опять махнул рукой. Шомпол со свистом опустился на спину Дмитра.
— Господин Шульц!
Офицер круто обернулся. В десяти шагах от «его в воротах стояла Муся, по-весеннему одетая в белое платье. Шульц поморщился — ему мешали, — но, галантно кланяясь, подошел к девушке.
— Господин Шульц, такая чудная погода, пойдемте походим в саду! — кокетливо наклонила голову Муся.
— О-о, я с удовольствием! — расшаркался офицер, поднося ее руку к своим губам. Приказав отвести Надводнюка в погреб, он взял Мусю об руку и повел со двора.
— Я никогда не думала, что вы такой жестокий, господин Шульц!
— Не будьте наивной! Война! Потом — это большевик, а большевиков надо бить.
— Бить — это некультурно, господин Шульц! — возмущалась Муся.
— Некультурно? Большевиков бить — культурно! — резко выкрикнул офицер. — Их надо расстреливать!
— Вы — жестокий, господин Шульц.
— Таков закон войны! Большевики — это зараза! Влияют на солдат.
— Вы их, действительно, расстреляете? — Муся старалась, чтобы голос не дрожал. Шульц засмеялся.
— Я — офицер армии кайзера! Я выполняю приказ высшего командования! Сначала допрошу, а потом расстреляю!
Муся приложила руки к груди:
— Господин Шульц, не расстреливайте большевиков здесь, я боюсь…
Шульц игриво прижал ее локоть.
— О-о, не беспокойтесь! Мы расстреливаем культурно. На кладбище. Большевики сами себе выкопают могилу. Кладбище у вас за селом. Вы и не услышите.
— Как я вам благодарна, господин Шульц! — вполне искренне поблагодарила Муся. — Почему вы к нам не заходите? Нам скучно без вас.
Офицер улыбался и обещал прийти.
Сквозь листву ореховых деревьев, из открытого окна гостиной Соболевских долетали бодрые звуки походного марша.
Шульц повел Мусю к Соболевским.
Марьянка с нетерпением ждала возвращения Муси. И как только та вошла к себе в садик, Марьянка бросилась к ней.
— Узнали?
Муся опустила голову.
— Их расстреляют.
Марьянка зашаталась. Чтоб не упасть, ухватилась за ствол яблони.
— Когда?
— Офицер говорил, что расстреляют, а когда — не сказал. Еще будут допрашивать.
— Если б узнать, где будут расстреливать?
Муся пожала плечами. Марьянка начинает чудить. Разве не все равно?
— Он сказал: на кладбище.
— Муся, правда? — Марьянка схватила ее за руку. В глазах Марьянки вспыхнули огоньки. Муся опять пожала плечами. Марьянка так обрадовалась, будто немцы не расстреляют их, а выпустят на свободу… Потом Муся откровенно призналась:
— Я не пойду больше к Шульцу. Я его боюсь.
— И не ходите, — посоветовала Марьянка.
Она помогла Мусе разбить цветник перед окнами, попрощалась и ушла со двора.
— Теперь — на хутор, — прошептала она самой себе и побежала, босая, стройная, легкая — в ситцевой кофточке и черной юбке. Возле церкви она встретила несколько верховых, пеших и Федора Трофимовича с дубовой палкой в руке. Они гнали впереди себя большое стадо: коров, овец и свиней. Стадо поднимало тучу пыли. Верховые закрывали носы, чихали и отплевывались. Следом за ними, плача, шли женщины, дети. Жена Степана Шуршавого, маленькая, с худыми ногами, прикрыв лицо грязным полотняным передником, в отчаянии громко всхлипывала:
— Ко-о-ров-ка ты м-м-оя е-д-динствен-ная…
За женщиной шли Наталка и Кирей. Наталка плакала, а Кирей, сгорбившись и повесив седую голову, чертыхался. Вдоль плетня шла уже пожилая женщина в крашеной синей полотняной одежде и, останавливаясь, молила:
— Федор Трофимович, сыночек мой сизокрылый!.. С сумой по миру пускаете!.. Верните телку!
— Немцы берут! За помещичье имущество добро берут! — кричал Писарчук. — Я тут не при чем.
— Не отдадите? — остановилась перед ним женщина.
— Просите немцев, что вы меня просите?
Женщина схватилась за голову.
— Веди, веди, чтоб уже тебя повело! Чтобы ты счастья не знал никогда, как и я не знаю! Будь ты проклят!
Писарчук поднял палку и ударил женщину.
Она истошно закричала:
— Спа-а-си-те!.. спа-а-сите!..
Верховой осадил лошадь, подлетел к женщине и полоснул ее нагайкой по голове. Нагайка запуталась в волосах. Немец рванул ее к себе, женщина, раскинув руки, упала под копыта. Немец и Писарчук догоняли стадо.
Марьянка со всех ног кинулась к женщине. Подняла ее, но понести не смогла.
— Помогите же!
Подбежали Шуршавиха и Наталка. Подхватили женщину под руки и потащили в соседний двор, к колодцу. Марьянка вытащила ведро воды и стала обмывать рану на голове избитой. На земле расплывалась кровавая лужа. Женщина глухо стонала. Во двор сбегались люди.
— Конец света пришел, люди добрые, пропадем ни за что, — причитала Шуршавиха.
— А они все берут да бе-е-ру-ут…
— Черт его побери! Что его делать на белом свете? — ударял руками о полы Кирей.
— На станцию со всех сел сгоняют скот. В вагоны грузят и везут куда-то! — указала рукой на запад Шуршавиха.
— К себе наше добро вывозят.
— Лошадей везут, коров везут… А хлеб — целыми поездами!
Избитая женщина открыла глаза, посмотрела на всех.
— Где моя коровка? — спросила она тихо.
— Угнали немцы… и мою угнали, тетенька… И корову деда Кирея.
— До каких пор это будет, люди добрые? До каких пор? — воскликнула женщина. — Веди! Веди, мироед окаянный! Я тебе этого ввек не забуду!.. — женщина подняла кулак и погрозила вслед Писарчуку.
Ко двору подъехал верховой и что-то сердито крикнул. Люди бросились бежать. Верховой стоял у калитки и хлестал каждого нагайкой.
Марьянка побежала по улице. Через огороды вышла за село, вытащила из кустов лодчонку, весло и поплыла к Забужному хутору. Хутор поднимался за лесом, на острове. Лошь разлилась, залила луг и дорогу на хутор, и теперь лодка была единственным средством сообщения. Марьянка старалась ехать между деревьями, чтоб из села не так видно было. Ветра не было, лодка плавно шла к острову. На причале возле двух старых баб ее ожидал Павло. Он радостно махал ей руками, потом втащил лодочку на берег. Марьянка спрыгнула на землю и бросилась в его объятия.
— Соскучился?
— Еще как!
— А плечо?
— Заживает. Еще болит, но уже не так сильно. Что нового привезла? Рассказывай…
Сели, обнявшись, под вербой. Марьянка слишком долго молчала, и Павло встревожился.
— Невеселые новости?
— Павлусь, их расстреляют. Так офицер сказал Мусе…
Хоть Павло и ожидал этой вести, но, услыхав ее, содрогнулся. Теперь уже все зависит от него. Либо он спасет их, либо сам погибнет вместе с ними. Он ожидал такого приговора над ревкомовцами и все обдумал.
Марьянка передала рассказ Муси.
— В селе такое делается, что и сказать страшно. Немцы людей грабят, бьют. Крики и плач — и днем, и ночью.
Марьянка рассказала о женщине, избитой Писарчуком и немцами. Павло, слушая ее, думал о кладбище.
— Сегодня я перееду с хутора.
— Куда?
— Переберусь в сосняк у железной дороги. Теперь уже тепло.
— Где же я тебя там найду, сосняка десятин сто, да и лес вокруг.
— Сейчас условимся. — Павло думал, а Марьянка, ожидая, смотрела на его бледное лицо, в задумчивые голубые глаза. Наклонилась и поцеловала в щеку. — Знаешь, — сказал Павло, — три одинокие сосны на Лысой горе, а кругом густые, густые, еще не расчищенные заросли?
— Знаю. Как идти на Ядуты?
— Вот-вот! Там меня и найдешь! Ты, когда будешь идти ко мне, пой свою любимую «Дивчиноньку», я и узнаю. Там и хлопцам собираться. Не забудешь?
— Ну, что ты, Павло?!
— У ревкомовцев есть запрятанные винтовки и патроны. Их надо перенести ко мне.
— Они ведь большие, как я их принесу, чтоб немцы не увидели?
— Да, ты об этом не подумала… У Бояров есть свой клочок на песках у леса. Они там картошку садят. Туда Кирею нужно навоз возить… Поняла?..
Девушка кивнула головой.
— А теперь дай я тебя поцелую и поезжай обратно в село. Освободим хлопцев, будем врагов бить!
Они обнялись.
Павло позвал старшего мальчика Забужихи, и тот повез Марьянку в село.
Марьянка поднялась на гору. По огородам вышла к оврагу, а оттуда пробралась во двор к Якову Кутному. Яков сидел на завалинке, положив руки на колени. Весь черный, рябой и похудевший, он показался Марьянке страшным. На ее приветствие даже не поднял головы. Глухо бросил:
— Здравствуй…
— Горюете, Яков Алексеевич?
Яков вздохнул:
— Как же не будешь горевать? Хлеба нет ни крошки, картошку доедаем. А лето? А зима? Провалилась бы такая жизнь!.. Немец вот тут сидит, — показал он на грудь. — Стал, проклятый, нам поперек дороги.
Марьянка села рядом с ним на завалинке.
— Хлопцев освобождать нужно, — сказала она тихо.
— Разве я против? Осточертело вот тут изнывать под немцем. Вместе будем, что-нибудь придумаем. Говори, с чем пришла?
— У вас винтовка есть?
Яков опасливо посмотрел вокруг, встал, выглянул на улицу, потом дернул Марьянку за рукав и повел в сени.
— Есть… Патронов мало, штук тридцать.
— На первое время хватит. Сегодня вас будет ждать в лесу Павло.
— Павло?! — не поверил Яков. — Он ведь где-то на фронте.
— Павло ждет вас сегодня ночью. Он все знает, что надо делать. — И Марьянка рассказала, где найти Павла.
— Ты мне скажи, откуда взялся Павло? — настаивал Яков.
— Мне еще к Кирею бежать нужно. Сам Павло вам расскажет… Вы прямо со своего огорода пойдете в лес. Вы должны передать Ананию, Шуршавому и Свириду Сороке. Собирайтесь по одному, чтобы не попасться. Прощайте, я к Боярам! — Марьянка пожала Якову руку и выбежала на улицу. Потом спустилась к Лоши, взяла хворостину и, словно разыскивая что-то, быстро пошла вдоль огородов. Перелезла через плетень и вошла в хату. Кирей лежал на скамье, подложив руки под голову. Кирей не спал. Остановившимися глазами он смотрел куда-то в одну точку и тихо стонал.
Наталка, заплаканная, с растрепанными косами, поднялась со скамьи навстречу Марьянке.
— Здравствуй, девушка!
Марьянка вплотную подошла к молодице и тихо спросила:
— Тетка, вы знаете, куда Григорий Кириллович спрятал свою винтовку?
Наталка недоверчиво посмотрела на девушку и покачала головой.
— Ни о какой винтовке не знаю. Не видела, какая она.
Марьянка улыбнулась, усадила молодицу рядом с собой на скамье и рассказала, для чего нужно оружие.
— А ты не подведешь меня, девушка?
— А когда в хлеб бумажку от Павла клали, так не подвела? Освободить их нужно!
— В стрехе Григорий ее запрятал. Он говорил мне. Что ты с ней делать будешь, Марьянка?
— Вот сейчас услышите! — Марьянка подошла к Кирею, подергала его за лапоть. — Дед, вставайте!
— А?.. Черт его побери, даже испугался.
— А я не страшная будто. Запрягайте, дед, лошадь и везите навоз на Боровщину.
— Я и без тебя знаю, что мне делать! Черт его побери, какая разумная.
Марьянка пропустила мимо ушей замечание деда.
— В навоз положите винтовку сына, патроны и отвезете на поле.
— Для чего?
— Будут люди, которые возьмут эту винтовку и спасут Григория.
— Григория?.. Винтовка у сына одна только была, а ты говоришь люди…
Марьянка засмеялась…
— Возле Надводнюков остановитесь, как будто у вас там с колесом что-то случилось, а оттуда тоже вынесут винтовку. Поняли, дед, какой навоз повезете?
— Ч-черт его побери! А если немцы…
— А если немцы расстреляют Григория?
— Не дай бог!.. Я сейчас… Беги, беги, Марьянка, к Тихону! Я сейчас… А что же это за люди будут?
Марьянка была уже в дверях:
— Смелые!
— Кто же?
> — Люди… наши! — и выбежала из хаты.
Через час серая кобылка вывезла со двора большой воз навоза. Кирей тревожно оглядывался по сторонам, дергал за вожжи и чертыхался. Возле Надводнюков он остановил лошадь и стал возиться у чеки. В калитке показалась лысая голова Тихона.
— Нести?
— Черт его побери!.. Неси! Сердце вот-вот выскочит.
Тихон посмотрел вдоль улицы и вынес карабин и брезентовый патронташ. Быстро засунул их в навоз, загладил сверху.
— Погоняй!
Лошадь потащила воз. На развилке дороги навстречу Кирею попался немецкий конный разъезд. У деда по спине побежали мурашки. Старческие руки задрожали, сильнее задергались вожжи.
Немцы не обратили на Кирея внимания.
— У-ух, даже вспотел!.. Черт его побери! — и Кирей бодрее пошел за возом.
Глава четвертая
В погребе раздаются стоны — глухие и прерывистые. На охапке соломы — исполосованный Надводнюк. Вокруг него — Бояр, Малышенко и Дорош. Песковой забился в дальний угол, проклиная себя, немцев. Но никто не обращает на него внимания — четверо делают вид, что Логвина Пескового нет в погребе.
За окошечком затих вечерний шум. Немцы улеглись спать. Только шаги часового отдаются в погребе. Часовой тихонько мурлычет себе под нос какую-то песенку. О чем поет немец-часовой, арестованные не знают. Может быть, он вспомнил свою любимую девушку в далекой Пруссии?.. Может быть, это песенка о родной матери, которая где-то там в каменистую землю сажает картофель? Одно только чувствуют арестованные, что песенка часового невесела, тосклива.
— Хло-о-опцы, прости-и-те меня! — вдруг загудело под сводами сырого погреба.
Надводнюк, быть может, и не слышал кощунственной просьбы Логвина.
Бояр вздрогнул и прижался плотнее к Малышенко. Дорош сплюнул куда-то в угол. Снова в памяти каждого промелькнул вчерашний день. Немцы втаскивают в погреб избитого Логвина. Следом за ним с видом победителя входит Шульц. Офицер осклабился. Переводчик выкрикивает::
— Песковой все сказал! Ты, — ткнул пальцем в Надводнюка, — ты — коммунист! Ты, — и показал на Бояра, — его первый помощник. Ты, — и обернулся к Малышенко, — второй помощник! Вы делали революцию! Вы — большевики!
Офицер весело захохотал и вышел из погреба. Он праздновал победу.
Логвин упал на колени. Молил, плакал, но его никто не слушал. Никто с ним не говорил. Для них, четверых — он, пятый, умер.
Надводнюк, едва шевеля избитыми плечами, прохрипел товарищам:
— Шульц нас расстреляет… И вас, Логвин… Вы себя не спасли.
Песковой стонал, плакал. Но остальные четверо были глухи к его страданиям.
Вечером им не передали хлеба. Арестованные слышали, как молили Наталка и Ульяна, но немцы женщин не впустили и передачи не приняли.
Надводнюк еще раз прохрипел, обращаясь к друзьям:
— Это наша последняя ночь…
Жутью веяло от этих слов, тихо отдававшихся под сводами погреба. Песковой забился еще глубже в угол, остальные трое придвинулись поближе к Надводнюку. Так они просидели весь вечер. Говорить было о чем, но никто не хотел говорить. Думали о деле и не могли примириться с тем, что его немцы окончательно затопчут своими сапогами. Думали о Павле, который было подал о себе весточку и умолк. Зачем было писать эту записку? Чтобы ободрить, поднять дух?..
Над Боровичами нависла глухая ночь. В окошечко видно, как мерцают звезды. Высоко, высоко. В погреб просачивается струйка свежего воздуха. Он пахнет тополиными почками. Во дворе жуют лошади…
Услышать бы, как пахнет земля! Поднятый пласт блестящий, блестящий. Дымится на солнце. Над пашней летают грачи. Они падают в свежую борозду и идут один за другим вслед за пахарем… Жаворонок звенит высоковысоко! Как пахнет земля! — и арестованным почудилось, будто к ним в погреб ворвался запах свежевспаханной земли.
Грозно закричал часовой, и марево исчезло. Часовому ответил спокойный и уверенный голос Шульца. Мимо окошечка тяжело протопали ноги. Шаги стихли. Двери погреба распахнулись. Через порог переступили переводчик с фонарем в руке, Шульц и капрал, приземистый, с огромными рыжими усами. Его короткие, как обрубки, руки вытянулись вдоль толстого туловища. Капрал напоминал жука.
— Встать! — приказал переводчик.
Все повернули головы, но никто не встал. Офицер развернул лист бумаги, стал громко читать.
— Приговор, — процедил сквозь зубы Надводнюк.
Шульц читал долго, но арестованные поняли только одно слово «большевик», которое часто повторялось в приговоре.
— Просим пояснить! — сказал Малышенко.
Переводчик, проглатывая слова, объяснил, что большевики Надводнюк, Бояр, Малышенко, Песковой и Яковенко делали в Боровичах революцию, разоряли усадьбу помещика, подбивали мирное население против власти, о чем рассказал на допросе Логвин Песковой, и поэтому командование N-ской роты N-ского полка приговорило их к расстрелу…
Логвин упал Надводнюку в ноги:
— Прости, перед смертью…
Ему не — ответили.
Шульц отдал команду. В погреб вбежало несколько солдат с веревками. Ревкомовцам связали руки и всех — выволокли во двор. На дворе — их связали попарно. Надводнюка с Бояром, Малышенко с Яковенко, Логвину скрутили руки за спину. Приговоренных окружили немцы. Надводнюк сосчитал: десять. Шульц отдал какое-то приказание капралу. Капрал щелкнул каблуками, подбежал к отряду и тоненьким, пискливым голоском скомандовал. Отряд двинулся со двора.
На развилке тишину ночи охранял патрульный. Он стал перед капралом навытяжку. На плоском штыке горел отблеск луны. Глаз патрульного не было видно — их прикрывала горбатая каска. Отряд быстро прошел мимо его окаменевшей фигуры… На улицу смотрели слепые окна хатенок. Вязы и тополя отбрасывали тень. Все здесь было знакомым еще с детства. На глазах у Надводнюка и его товарищей выросли эти тополя и вязы, состарились и покосились хаты… На поваленном дубе вечером под воскресенье и в воскресенье собирались соседи, чтобы о своем потолковать… Здесь вот они, ревкомовцы, рассказывали о войне. Теперь — они уже никогда, никогда больше не будут рассказывать. О них только останется печальное воспоминание у многих крестьян. И останутся сироты. И, может быть, у этого дуба прольются сиротские слезы. У своих ворот Григорий — внезапно остановился, обвел грустным взглядом убогое жилище. Губы тихо произнесли: «Прощайте!», ноги налились свинцом, и он не мог их сдвинуть с места. Немец больно толкнул прикладом в спину. Григорий еще больше, еще сильнее сгорбился и пошел вперед. Потом он еще раз оглянулся: из-за вербы виднелась соломенная крыша хаты: «Прощайте!..»
Дмитро шел выпрямившись, с высоко поднятой головой. Он смотрел вперед на покосившуюся хатенку с окошечками, вросшими в землю.
Поровнявшись с окошечками, он крикнул:
— Прощайте!
У берега откликнулось эхо:
— …айте!
Немец ударил прикладом. Дмитро упал. Его подняли, поставили на ноги и снова толкнули. Хатенка скрылась за деревьями.
Возле церкви, посреди улицы застыл еще один патрульный. Он стоял спиной к церкви, лицом к луне. Холодные глаза спокойно смотрели на арестованных. Отряд свернул в узенькую улочку. Навстречу простер огромные руки-крылья ветряк, принадлежавший Орищенко. За ветряком чернели вербы и кусты акаций на кладбище. Вокруг кладбища шла высокая насыпь. Чернели кресты. Двое немцев распахнули дощатые ворота, и отряд пошел среди могил. В стороне, за железными решетками, стояли мраморные памятники и чугунные кресты — это были могилы предков Платона Соболевского. В глубине кладбища торчали огромные дубовые кресты. Под ними лежали Писарчуки и Орищенко, а затем шли кресты помельче. За могилами чернела ветвистая сосна. Отряд обошел ее и остановился на открытом месте. От могил и до насыпи — шагов пятьдесят. Насыпь заросла красноталом и вишнями. Капрал отдал команду. Отряд построился полукругом — спинами к насыпи. Арестованным развязали руки. Переводчик выставил лопаты.
— Копайте!
Никто не решался первым копать могилу своим товарищам.
— Ну! — капрал ударил Григория рукояткой револьвера.
Надводнюк поднял тяжелую немецкую лопату, посмотрел на нее, затем на насыпь, вздохнул и вонзил лопату в песчаную почву. Бояр стал рядом с Дмитром, Гордей и Дорош — спинами к ним. Логвин был посередине. Он плакал.
По бокам вырастали желтые холмики. За ними полукругом, с поблескивающими штыками, стояли солдаты. Капрал курил сигару. Желтые холмики пахли весной. С поля подул ветерок и принес запах навоза и прелой полыни. Ревкомовцы вдыхали его полной грудью. Это был тот запах земли, который донесся к ним в погреб. Луна спряталась за облака. На кладбище стало темно. В селе пропел петух. За ним второй, третий… И опять стало тихо. Ревкомовцы уже по пояс стояли в яме.
Надводнюк позвал переводчика.
— Дайте перед смертью покурить!
Переводчик обернулся к капралу. Тот колобком подкатился к могиле и всем подал сигары. Затем он чиркнул спичкой и поднес ее Надводнюку. Руки капрала дрожали. Все, даже Бояр, который никогда не курил, задымили сигарами. Надводнюк уселся на дно ямы. Рядом с ним устроились остальные.
«Где же Павло?» — подумал Надводнюк и словил себя на том, что еще перед приходом на кладбище думал о Клесуне. Надводнюку казалось, что из-за угла выскочат хлопцы и спасут их. А разве нельзя устроить засаду на кладбище, на этой насыпи?.. Эх, Павло, зачем было писать записку?..
— Копай! — закричал переводчик.
— Вы еще успеете нас расстрелять! — Дмитро выпустил струю дыма прямо в лицо переводчику. Капрал отдал приказ. Плоские штыки нависли над ямой.
— Копай!
Громом ударили выстрелы.
В яму на Дмитра соскользнул капрал, вниз головой упал переводчик. На желтом холмике корчился еще один немец и сталкивал землю ревкомовцам на головы.
— Пли!
Еще двое упало. Отряд в мгновение рассыпался, ноги в тяжелых кованых сапогах затопали между могил.
— Бери винтовки, бей! — Дмитро выхватил из рук мертвого переводчика винтовку и выстрелил врагам вдогонку. Немцы с перепугу и не думали отстреливаться.
— Забирай оружие, вылазь! — кричал Павло.
Это произошло так внезапно, что Дорош и Логвин не успели даже прийти в себя. Их силой вытащили из ямы.
Освобожденные попали в горячие дружеские объятия Павла, Анания, Якова Шуршавого, Сороки. Надводнюку было стыдно перед Павлом. Целуя его, Дмитро нежно погладил плечо Павла.
— Айда в лес, там посоветуемся, а то немцы сейчас всей ротой прибегут сюда!
— В лес, хлопцы!
Они быстро собрали винтовки, сумки с патронами, перепрыгнули ров и один за другим направились через поле в лес. У одной разбросанной кучи навоза Павло остановился и сказал Бояру:
— Дед Кирей вывез сюда винтовки и патроны. Благодарите старика!
— И Марьянку?
— И ее, — тихо ответил Павло.
Из облаков выплыла луна, весело улыбнулась и спряталась снова.
Вдали чернел лес.
В маленькой уютной комнате раскрыто окно. Под окном цветут акации. В лунном свете серебром поблескивают листочки осокорей. Они тихо шумят. Из сада Соболевского долетает песня соловья. Соловей поет о любви и весне.
Шульц снял френч, погасил свечу и сел в мягкое кресло у окна. Он машинально достал из ящичка ароматную сигару, откусил кончик, закурил, пуская кольца дыма в окно. Кольца расплывались и таяли в лунном сиянии. Шульц закрыл глаза…
Он еще немного обождет. Вскоре тишину этой дивной украинской ночи вспугнет дружный залп. Затем пробежит еще несколько минут, напоенных ароматами весны и песней соловья, и в двери постучат. На пороге появится капрал. Он отрапортует, что приказ господина офицера Шульца выполнен. Завтра он, Шульц, напишет рапорт в штаб, и, возможно, ему, Шульцу, дадут награду… Разве не пора ему носить погоны полковника?.. Шульц мечтательно улыбнулся. Он даже привстал и выпятил грудь. Он будет бравым полковником. Тогда можно будет написать милой Эльзе, что он с этой дивной Украины привезет хлеб, сало и чин полковника. О-о, в Берлине перед ним раскроются двери лучших домов!.. Погоны полковника сделают свое. Разве тогда нельзя будет мечтать и о генеральских эполетах?
Шульц откинул голову на спинку кресла, вслушивался в шум осокорей за окном. Луна спряталась в облаках. Стало темнее. Соловей еще сильнее защелкал. По саду катились его трели.
— Он замечательно поет! — офицер лежал в кресле еще несколько минут, затем поднялся и стал шагать по комнате. Он усердно сосал сигару и вслушивался в шорохи, в шелест ночи.
— Почему так долго не слышно выстрелов?
Где-то пропел петух, за ним второй — в другом конце села. Над Гнилицей прокатилось эхо. Шульц посмотрел на часы. Стрелка показывала два. Уже два часа капрал на кладбище. Шульц не удовлетворится рапортом капрала, он прикажет…
За селом раздались отдельные выстрелы. Еще… еще… Эхо разрозненных, беспорядочных выстрелов гулко катилось по селу. Шульц не отрывался от окна. Кто дал право капралу нарушить приказ командира стрелять одним залпом?!
Офицер быстро надел френч, закурил новую сигару и выбежал на крыльцо. Он сдерживал раздражение, собираясь в разговоре с капралом быть строгим, но выдержанным, как всегда. На перекрестке стоял патрульный. Плоский штык поблескивал сурово в грозно. Шульц спустился с крыльца и прошел вдоль высокого забора. Луна снова выплыла из-за облаков. Патрульный увидел офицера, вытянулся, тверже затопал, меряя шагами перекресток. Шульц удовлетворенно кивнул.
Из темноты донесся топот. Затем на развилку выбежало несколько вооруженных.
— Стой! Пароль? — патрульный щелкнул затвором.
— Кайзер! — запыхавшись крикнул один.
— Разбудите господина офицера! — добавил другой. Шульц подскочил к ним и исступленно закричал:
— Смирно! Где капрал?
Солдат вытянулся и, посмотрев в помертвевшее лицо офицера, испуганно выпалил:
— Расстреляли большевики!
Шульц со всего размаху ударил солдата в лицо.
— Что ты болтаешь? — и, вспомнив одиночные, беспорядочные выстрелы, заломил руки. — Ну?..
Солдат, приложив руку к каске, дрожащим голосом рассказал все, что произошло на кладбище. Шульц все глубже втягивал голову в плечи, стал маленьким, в зубах погасла сигара. Кто посмел стрелять в отряд армии кайзера?! Большевики на свободе, а вместо них расстреляны солдаты кайзера!.. Разве может быть больший позор для офицера Шульца?
Он постоял, опустив голову. Спало село, и соловей уже затих в саду. Солдаты стояли навытяжку. Шульц быстро обернулся:
— Тревогу!
Солдат щелкнул каблуками и побежал к зданию школы. Через минуту во дворе тревожно завыл горн. Из школы выбегали вооруженные немецкие солдаты, торопливо строились. Вынесли два пулемета. Офицер стоял с правого фланга. Шеренга замерла в ожидании приказа. Шульц подошел ближе:
— Солдаты кайзера! — голос Шульца хрипел. — Большевики убили ваших товарищей! Ваши товарищи зовут отомстить за них! Приказываю: немедленно задержать большевиков! Командовать экспедицией буду я!.. Направо, шагом марш!
Два взвода, ритмически покачиваясь, пошли вдоль улицы.
— Бе-го-ом! — Шульц, поблескивая желтыми крагами, побежал сбоку. От топота двух взводов дрожала, тряслась земля.
У кладбища Шульц приказал рассыпаться цепью. Немцы быстро миновали кладбище, перебежали по песку и остановились перед густым лесом. Солдаты в нерешительности замедлили бег. Страшно было идти в лес — из-за каждого дерева их поджидала смерть. Шульц оставил возле себя пятерых. Остальным приказал углубиться в чащу и искать беглецов. Немцы неохотно пошли между деревьями.
Лес стоял молчаливой стеной. То тут, то там спросонок вскрикивала одинокая сорока. В селе пели петухи. На востоке гасли звезды, приближался рассвет. Шульц стоял на опушке, жевал кончик сигары и прислушивался к малейшему шороху. Но, кроме стрекотанья сороки, из лесу не долетало никаких звуков… Шульц не двинулся, пока на востоке не сверкнул первый луч солнца. Лес сразу ожил. Каркали вороны, свистели синицы, дружно стрекотали сороки.
— Горнист, сбор! — со злобой крикнул Шульц своему горнисту.
Над сосняком поплыли звуки трубы. Через несколько минут из лесу стали выходить немцы. Они тяжело дышали и подозрительно посматривали на офицера. Шульц отвернулся. Немцы оглядывались друг на друга, становились в строй. Офицер, конечно, не знал, что его солдаты дальше чем на двадцать шагов от опушки не отходили.
У ворот Надводнюков Шульц остановил первый взвод, второй направился в штаб. Офицер ударил ногой в калитку и забарабанил в окошечко. Из хаты вышел Тихон. Шульц сразу же кинулся к старику и, размахнувшись, ударил его по лицу. Тихон упал возле порога. Из носа брызнула кровь.
Тихониха выбежала из хаты.
— За что вы его так? За что?
Шульц выхватил шомпол из рук солдата и ударил старуху по сгорбленной спине. Тихониха упала рядом с мужем. Офицер заорал на высокого, тонкого, как жердь, солдата. Тот как бы переломился надвое и крикнул Тихону:
— Господин офицер спрашивает, где сын?
Старик медленно поднялся на ноги и сел, по бороде катились капли крови и падали на грудь.
— Я не знаю, куда вы дели моего сына, — выплевывая кровь, прохрипел он.
Шульц снова гаркнул на длинного, и тот спросил:
— Господин офицер хочет знать, кто помогал твоему сыну бежать?
Старуха быстро поднялась и перекрестилась:
— Бежал? Слава тебе, господи!
Солдат перевел ее слова Шульцу. Крупные красные пятна выступили на щеках офицера. Он откусил кончик сигары, отвернувшись, бросил:
— Шомполов!
Солдаты выдернули из своих винтовок шомполы, повалили стариков на землю и стали бить. Тихон раздирал ногтями землю, хрипло вскрикивал:
— А-а-а… а-ах…
Старуха совала в рот кончик платка. От каждого нового удара ее сухое, сгорбленное тело подскакивало, как мяч.
Шульц считал удары. Десять… Пятнадцать… Махнул рукой. Длинный снова спросил:
— Скажете?
Старики молчали. С минуту Шульц раздумывал, затем выплюнул сигару, выхватил шомпол из рук солдата, откинул концом шомпола край окровавленной юбки старухе на голову и начал сечь.
— Пан офицер будет бить, пока ты не скажешь! — выкрикнул солдат.
Старуха сжималась в комок, вытягивалась, хватала руками воздух, землю, жевала беззубым ртом платок и со стоном твердила:
— Не знаю… не знаю…
Вдруг она затихла. Ее окровавленное худое тельце утонуло в луже крови. Вспотевший Шульц, закрыв глаза и высунув кончик языка, уже машинально опускал шомпол на комок мяса. Тихон попытался подняться, но, обессиленный, упал, сгребая в ладонь горсть мокрой от крови земли. Офицер сплюнул, отбросил шомпол и, рванув с гвоздя тряпку, стал вытирать красные пятна с краг. Солдаты принесли из сеней ведро воды, облили старуху. Она, посиневшая, лежала, скрючив под собой руки. Солдат тронул ее за плечо и тихо прошептал:
— Мертвая…
Шульц гадливо поморщился, кивнул на Тихона и ушел со двора. Тихона схватили подмышки и поволокли на улицу…
Взвод остановился возле Бояров. Отдав приказание, Шульц быстрым шагом пошел к зданию школы. Солдаты вытащили из хаты Кирея в полотняной рубахе, крашеных синих брюках, босого. Увидев Тихона, Кирей всплеснул руками:
— Ч-черт побери, так вот избить человека!..
Переводчик ударил Кирея прикладом в спину. Кирей упал, сплюнул кровью. Его подхватили и вслед за Тихоном поволокли по улице.
В маленькой комнате перед офицером стоял Писарчук. Шульц, медленно отхлебывая, глотками пил кофе. У дверей замер переводчик.
— Что прикажет пан офицер? — изогнулся Федор Трофимович.
Шульц бросил несколько фраз переводчику. Тот в тон офицеру сказал:
— Пан офицер приказывает созвать всех крестьян. Срок: тридцать минут.
— Не успею за тридцать.
Шульц рывком поднялся на ноги. Писарчук выбежал из комнаты.
Ровно двадцать пять минут офицер ходил по комнате, затем в сопровождении ординарца и переводчика направился к церкви. На погосте еще никого не было. Он обошел вокруг церкви, постоял возле мраморных надгробий, посмотрел на позолоченные надписи и снова поднялся на паперть. По одному на погост приходили крестьяне. Поклонившись, к паперти подошел Рыхлов.
— Выражаю вам свое сочувствие, господин Шульц. Уверен, что вы, как следует, накажете негодяев.
Офицер молча пожал холодную руку Владимира Викторовича и посмотрел на часы.
— Почти час я вынужден ожидать! Р-россия! Некультурный дикий народ, скоты!
Рыхлов угодливо улыбнулся.
Офицер сделал еще несколько шагов по паперти.
— За разграбленное они уплатили господину Соболевскому?
— Попрошу вас, господин офицер, повлиять на них вашими методами.
Шульц кивнул.
Крестьяне сбились в кучку. Пришла Марьянка. В толпе быстро распространилась новость: ревкомовцы бежали из-под расстрела, да еще нескольких немцев застрелили. Немцы убили старуху Надводнюк, избили Тихона и Кирея, арестовали Марка Клесуна и мать Гордея Малышенко.
К паперти торопливо прошли Писарчук, Маргела и Варивода.
— Можно начинать, — шепнул Писарчук Рыхлову.
Тот передал слова Писарчука Шульцу. Офицер что-то быстро сказал Рыхлову. Рыхлов шагнул вперед:
— Господин офицер велел мне передать вам, что если вы до завтрашнего утра не приведете к нему всех большевиков, он наложит на вас контрибуцию: пять тысяч пудов хлеба, пятьдесят коров, столько же свиней и расстреляет тех, кого арестовал сегодня. Слышали?
Крестьяне молчали.
— И еще господин офицер велел передать вам, что если вы в течение двух дней не вернете награбленного в нашей усадьбе и не уплатите денег, у вас деньги отберут силой, а у кого найдут наше имущество — того расстреляют! Слышали?
И теперь крестьяне молчали. Рыхлов сошел с паперти, ткнул пальцем на Гната Гориченко:
— Ты сейчас пойдешь на кладбище рыть могилу для убитых немецких солдат. И ты! — обернулся Рыхлов к рыжему с бородавкой на большом носу крестьянину. — И ты… И ты… И ты — тоже… — указывал он на стоявших поближе крестьян. — Разойдись!
Крестьяне бросились к воротам, теснились, стремясь поскорее вырваться на улицу.
— Доигрались с большевиками! Доигрались! — злорадно кричал им вслед Писарчук.
Глава пятая
Тихон хрипло стонал:
— Во-о-ды…
Его стон глухо звучал под сводами погреба.
Кирей поднимался, бил кулаками в дверь и кричал:
— Дайте воды человеку! Умирает…
Кирею никто не отвечал. Тогда он, задрав голову к окошечку, бил кулаками по сырой каменной стене:
— Слышите? Дайте человеку напиться!
За окошечком мерно шагал часовой. Кирей ударял руками о полы:
— Черт его побери, отродясь таких гадких людей не видел!
Он нащупывал руками место рядом с Тихоном. В углу, на соломе, тяжело дышал Марко Клесун. Глухо всхлипывала Параска Малышенко.
— Не вы-ы-жи-ву-у я! Избили… жестоко… — шевелился на соломе Тихон.
— Не видать нам уже света белого… — Марко придвинулся ближе, схватил Кирея за руку. — А за что? Я тебя спрашиваю, Кирей, за что?
— Черт его побери! В Пруссы всю жизнь ходил жать за сноп, на пана Соболевского всю жизнь работал, а теперь пропадать должен? Расстреляют, подлецы!.. Вбежит этот в погонах: гир-мир-гир!.. Разбери, что он там болтает?.. Ты ему скажешь: дурак, а он: вас? — Кирей умолк на минуту, вздохнул, потом мечтательно и скорбно продолжал: — Хоть бы хлопцы хорошо спрятались! Им еще жить нужно… А землю у панов все-таки заберут! На свете, видишь, что делается. Заберут, поделят и будут жить. Без панов будут жить! А Соболевских утопят в Гнилице. Э-эх! увидать бы хоть одним глазом…
— Во-о-ды-ы…
— Не дают, Тихон. Их офицер не человек, а зверь. Лежи уже как-нибудь там…
— Страшно, Кирей, умирать от видимой смерти.
— Что правда, Параска, то правда… Думалось: пригорки отвести под выгон, низину разделить меж людьми, чтобы сенокос у каждого был, тогда б и скотинку завели. И поле каждому под пшеницу нарезать, чтобы в праздники человек белый пирожок имел… Вдоль дороги — всем для жита… И откуда они взялись на нашу бедную голову? — неожиданно воскликнул Кирей. Он пододвинулся к стене, ударил руками по камню. — Чего вы пришли? Какой черт звал вас сюда?
Возле окошка присел часовой. В темноте было видно, как он просунул голову в разбитую раму.
— Вас?
— Что ты васкаешь? Домой иди! Разве у вас панов нет?
— Вас? Вас?
— Черт его побери, не понимает! Я тебя спрашиваю: чего ты пришел нашим панам помогать? Чего? Разве у вас своих панов нет? Иди, бей их, бери землю, обрабатывай и хлеб ешь! Ты ведь мужик?
— Я-я-а!..
— Ну вот! А земля у тебя есть?
Немец пожимал плечами и скалил зубы.
— Нету? У панов твоя земля? Что же тебя черт принес сюда? Панов на сук вздернуть надо! Иди домой ливоруцию делать!
— Революция! — воскликнул немец, испуганно огляделся по сторонам, вскочил и снова начал ходить.
— Не понимает! — Кирей огорченно махнул рукой и сел в углу. Из груди Тихона со свистом вырывался воздух. Марко и Параска молчали. Гремели кованые сапоги часового. Кирей опустил голову на колени и застыл.
В окошечко пробивались солнечные лучи. Рождался день.
Утром Ульяна послала Мишку к Наталке, чтоб вместе с ней отнести свекрам еду. На скамье лежала убранная в праздничную рубаху, желтая, страшная свекровь. В комнате стоял тяжелый трупный запах. Ночь напролет проплакала Ульяна, под глазами у нее легли темные круги. От слез болела голова; подкашивались ноги. Все эти дни она жила в сильном напряжении. Ей казалось, что вот-вот снова придут немцы мстить за Дмитра. Она прислушивалась к малейшему шороху за воротами. И теперь, когда стукнула калитка, настороженно бросилась к окну. В сени вошли Наталка и Марьянка с узелками в руках.
Ульяна, завязывая свой узелок, благодарила Марьянку:
— Спасибо тебе, что хоть ты нас не забываешь! — В карих глазах Ульяны показались слезы.
— Не плачьте, тетя! Итак лица на вас уже нет. Возьмите пару лишних ложек. Дяде Марку и бабушке Параске еду передать некому, так я вот кое-что собрала, а ложек у нас нет.
— Возьму, возьму, Марьянка! Ты как о родных заботишься, доброе у тебя сердце, девушка! Желаю тебе счастья в жизни!
Женщины вышли из хаты. Только успели они выйти за ворота, как встретили Марию Писарчук.
— Завтрак косарям несете, молодицы? — Мария засмеялась. Под ситцевой яркой кофточкой вздрагивали большие груди. — Несите, несите, солнышко уж вон как высоко поднялось! — она медленно подняла руку над головой.
Ульяна остановилась, посмотрела в глаза Марии Писарчук горящими ненавистью глазами.
— Дай вам бог, тетка Мария, всю жизнь вот так носить! — и бросилась догонять своих.
Невестка Писарчука от неожиданности растерялась. Опомнилась она лишь тогда, когда женщины были уже довольно далеко от нее.
— Чертовы большевички! Оборванки!
Женщины подошли к часовому у погреба. Солдат, вскинув винтовку на плечо, делал два шага вперед, потом два назад.
— Нам нужно еду передать арестованным, — показала Ульяна рукой на погреб. Часовой взял винтовку в руки, плоский штык направил на женщин.
— Цурюк! — часовой будто гвоздь забил в дерево.
— Они ведь со вчерашнего утра еще не ели, — умоляла Наталка.
— Цурюк!
— Пойдем к офицеру, может быть, он позволит, — предложила Марьянка.
Они попросили дневального вызвать Шульца. Через минуту офицер стоял на крыльце. Женщины повторили свою просьбу. Нахмурив брови, Шульц выслушал переводчика, потом встрепенулся, крикнул несколько непонятных слов и ушел.
— Господин офицер говорит: когда их сыновья-большевики будут сидеть в погребе, тогда он выпустит стариков на свободу, а сейчас запрещает передавать им еду.
Переводчик повернулся и тоже ушел.
Марьянка еще не потеряла надежды передать еду.
— Я попрошу Бровченко…
Ульяна с Наталкой остались на скамье под воротами, а Марьянка вошла во двор. Петр Варфоломеевич сидел в саду на маленьком стульчике. На мольберте стояла незаконченная картина. Он писал с натуры ветвистую липу. Марьянка рассказала, зачем пришла. Петр Варфоломеевич выслушал ее внимательно, потом положил палитру и кисти, вымыл руки и молча вышел вслед за Марьянкой со двора.
Снова вызвали офицера. Шульц, увидев рядом с женщинами Бровченко, сухо поклонился, но руки не подал.
— Чем могу служить?
— Господин Шульц, вы арестовали немощных стариков. Они уже сутки сидят голодные. С пленными, как мне известно, так не обращаются.
У Шульца нервно задергались брови.
— Я тут хозяин! — резко подчеркнул он. — Арестованные — родители большевиков, которые бежали из-под ареста и убили нескольких солдат армии великого кайзера. Если до двенадцати часов дня крестьяне не приведут ко мне этих большевиков, мой приказ будет приведен в исполнение. Я расстреляю арестованных.
— Господин Шульц, но вы ведь сами уверены, что крестьяне вам этих большевиков не приведут. Где их найти? Лес огромный и густой. Я не могу поверить, чтоб немецкий офицер расстрелял безоружных седых стариков!
— Я их расстреляю, господин Бровченко! Передавать еду — запрещаю. Прошу принять мое почтение! — Шульц приложил к козырьку два пальца, едва-едва наклонил голову.
Петр Варфоломеевич медленно опустился с крыльца.
— Позволил? — бросилась к нему Марьянка.
Бровченко глянул куда-то поверх Марьянки и тихо произнес:
— Нет… Их расстреляют… — Он сгорбился, втянул голову в плечи и пошел вдоль улицы.
Женщины заголосили.
Стрелка на часах Шульца прошла двенадцать. Никто не приходил. Не было известия, что большевики пойманы. Офицер уже понимал, что этого известия никогда и не будет. Между тем официально объявленный им вчера срок миновал, и теперь Шульц расстреляет стариков. Расстреляет, чтобы его боялись другие и знали, что он, офицер армии кайзера, не шутит и своего слова не меняет.
Он надел фуражку и закурил сигару. Вытащив из кобуры револьвер, проверил его, вложил обратно и вышел в коридор. Дневальный вскочил, выпрямился.
— Первый взвод в боевой готовности на улицу! — бросил Шульц дневальному и шагнул на крыльцо. Солдаты строились возле забора, офицер думал, что им сказать. Он засмотрелся на острия плоских штыков, слившихся в одну прямую линию.
— Солдаты великой и славной армии кайзера! Вы пришли сюда навести порядок, дать народу мир и возможность работать. Большевики не хотят мира, не хотят порядка, не хотят работать! Большевики убили ваших товарищей и друзей, сынов великого кайзера. Что вы скажете их матерям и их отцам, когда вернетесь на родину? Их кровь зовет к мести! К мести! Смерть большевикам! — Шульц поднял руку. Взвод стоял будто каменный. Офицер осторожно скользнул взглядом по лицам солдат. Солдаты «ели» глазами свое начальство. Шульц сделал шаг назад.
— Взять арестованных!
Через две минуты солдаты окружили стариков. Кирей шел, заложив руки за спину, опустив седую голову. Марко мял в руках засаленную фуражку, спотыкался, испуганно водил глазами. Ветер сорвал с головы Параски платок и трепал его. Параска придерживала платок за концы. Из ее глаз бежали слезы. Тихона волокли двое солдат. Его лысая голова свисала до самой земли…
Шульц шел в стороне от взвода, шагавшего по середине улицы. На солнце блестели штыки и каски. Земля гудела от топота кованых сапог.
Возле двора Бояров, припав к плетню, рыдала Наталка. У дуба стояли Мирон и Гнат. Вивдя Шелудько часто мигала рыжими ресницами, потом всхлипнула И прижалась к Наталке.
Поровнявшись с ними, Кирей медленно снял шапку, низко поклонился:
— Прощай, Наталка! Прощайте, соседи!.. Больше не увидимся! Похороните, как полагается, в земле, за которую весь век мы страдали. Скажешь Григорию, Наталка, пусть не забывает, как я умер! — Солдат ударил Кирея в спину. Старик глухо охнул, упал, с трудом поднялся, опустил голову и пошел дальше. Наталка заголосила. Мирон и Гнат сняли шапки.
— Прощай, Кирилл!..
Соседи пошли вслед за солдатами. Взвод, ритмично покачиваясь, поровнялся с хатенкой Надводнюков…
— Ой, таточку, та-а-точку, что с вами сде-ела-ли! — всплеснула руками Ульяна, выбегая на улицу. Тихон попытался поднять голову, но солдаты дернули его, и голова опять опустилась к земле. Ульяна вместе с Мишкой и соседями пошла вслед. Из хат выбегали люди. На их лицах были страх и ненависть. Они присоединялись к Ульяне и Наталке, шли за взводом. Толпа быстро росла — крестьян было уже больше, чем немцев. Шульц оглядывался и время от времени высоким фальцетом кричал:
— Цурюк!
Толпа на мгновение останавливалась, но тотчас же опять двигалась вслед за взводом.
— За что вы их?
— За что? — кричали из толпы…
Возле церкви стояли поп Маркиан, Писарчук, Маргела, Варивода и братья Орищенко. Маркиан левой рукой разглаживал пышную бороду, в правой он держал медный крест и евангелие. Взвод поровнялся с кулаками. Кирей поднял голову, оглядел Писарчука.
— Смотришь, как нас ведут на смерть? Черт его побери!.. Продал!.. Буть ты проклят! Люди, проклят будет тот, кто Писарчуку этот день… — он не закончил. Солдат ударил Кирея с такой силой прикладом, что старик упал и уже подняться не смог. Его взяли под руки и потащили.
Возле улочки, которая вела в поле, к толпе присоединились Марьянка и Шуршавиха. Потом их догнал Бровченко. За мельницей, у кладбища, немцы остановились. Взвод разделился на две части. Одни стали лицом к старикам, другие — лицом к толпе. Крестьяне обнажили головы. Ветер играл волосами, трепал платки. Он приносил с поля крепкий запах земли, за которую люди кровь проливали. Кирей полной грудью вдыхал этот запах, не слушая попа Маркиана, совавшего ему крест и евангелие.
— Покайся, раб божий Кирилл, очисти душу свою грешную, чистым предстанешь перед всевышним! — прогнусавил Маркиан, поднимая медный крест.
Толпа стояла тихо-тихо.
— Нет у меня грехов, батюшка! — повернул седую голову Кирей к попу. — Разве это грех, что я люблю землю и хотел жить? Я думаю, это не грех!
— Сына не удержал, а он душу свою большевикам продал, поднял руку свою на ближнего своего! — гнусавил поп заученные фразы.
— У сына своя голова есть, батюшка!.. Он всюду побывал и больше меня знает.
Маркиан ткнул медный крест Кирею в лицо, ткнул — Тихону, потом — Марку. Параска упала перед попом на колени.
— Отец Маркиан, за что? Попросите их!.. За что?.. Молю вас!.. Видимая смерть страшна!.. Попросите… отец Маркиан…
— Раба божья Парасковья, не вразумила сына своего Гордея! — поп сунул к ее губам крест и отошел. Параска упала на землю.
Шульц решил, что религиозная церемония уже закончена. Перешел на правый фланг, вытянул руки «по швам».
— Взво-од!..
Щелкнули затворы. Солдаты навели винтовки на стариков. Кирей еще ниже опустил голову. Марко закрыл лицо руками. Тихон шатался — вот-вот упадет. Параска заломила руки над головой.
— Взво-о-од!..
Из толпы выбежал Петр Варфоломеевич и схватил офицера за рукав:
— Господин Шульц… безоружных!.. беззащитных!.. Я не поверю! Господин Шульц! Это недостойно немецкого офицера! — прохрипел он, бледный, перепуганный.
Следом за Бровченко к Шульцу подбежала Марьянка, за нею Ульяна и Наталка, а за ними — ближайшие соседи. Потом придвинулась к Шульцу вся толпа. Солдаты отступили, штыки зашатались в их руках. Солдаты оглядывались на своего офицера.
— За что вы их? — кричал Мирон.
— Отпустите стариков! Отпустите! — кричали женщины. Солдаты продолжали пятиться. Шульц выхватил из кобуры револьвер, рывком поднял его вверх и выстрелил. Солдаты остановились, направили штыки в толпу. Шульц отдал команду. Взвод выстрелил в воздух. Толпа откатилась назад.
— Ваши поступки, господин Бровченко, вызывают подозрение! Уберите его! — сверкнул глазами взбешенный офицер.
Двое солдат схватили Петра Варфоломеевича за руки и оттащили.
— Взво-од!..
— Прощай-те-е…
— Пли!
Кирей долго приседал к земле. Разбросил руки, словно хотел обнять землю. Упал на грудь. Скрюченные пальцы впились в песчаную землю и застыли. Тихон и Марко упали рядом с Киреем. Параска внезапно вскочила и метнулась на кладбище.
— Спа-а-сите!…
Толпа снова прихлынула. Снова поднялись штыки. Раздался залп. Толпа отпрянула и покатилась по улочке.
— Пли!
Пуля догнала Параску возле рва. Она скорчилась, втянула в себя воздух и затихла.
…Взвод построился и зашагал в село. Ульяна, Наталка и Марьянка, обливаясь слезами, бросились к расстрелянным. Толпа тесным кольцом окружила их.
На пригорке, прижавшись к стене ветряка, стоял с перекошенным лицом Петр Варфоломеевич, посеревший, одинокий.
Вечерело. Сосны отбрасывали на землю длинные-длинные тени. Марьянка пробиралась по узенькой извилистой тропинке. В руках у нее был большой сверток. С пригорка девушка оглянулась на село. В отблесках вечернего солнца горели два креста на куполах церкви, стоял, растопырив мертвые руки-крылья, ветряк возле кладбища. Девушка с облегчением вздохнула и скрылась в тени сосен. Она вышла на песчаную Лысую гору, еще раз оглянулась и возле трех сосен-сестер запела:
Пела она тихо и печально. Песня плыла в густой сосняк и затихала в чаще.
«Какие глупые слова песни! — подумала Марьянка. — Девушка идет к тому, кого любит! Почему ж она должна его забыть?.. Эта песня не о ней, не о Марьянке сложена. Больше она ее петь не будет! Но теперь надо допеть до конца… И Марьянка снова запела. Из-за веток выглянул человек, посмотрел вокруг и спрятался. Марьянка настороженно остановилась. Сильнее застучало сердце. Он или не он? Ветки раздвинулись, и на белую полоску песка вышел Павло.
— Марьянка!
Она бросилась к нему в объятия. Павло взял сверток из ее рук, обнял левой рукой тонкий девичий стан и повел Марьянку в сосняк. Ветки цеплялись за винтовку и засыпали молодых людей колючими иглами. Павло свистнул. Раздался тихий треск, и из чащи вышли Надводнюк и Малышенко. За ними показались Бояр и Ананий. Затем с противоположной стороны подошли Дорош, Логвин, Шуршавый и Яков Кутный. Все они крепко пожимали Марьянке руку.
— А мы тебя еще вчера ждали, — тихо сказал Дмитро, усаживаясь под сосенками. — Шуршавый, пойди покарауль, чтоб нас не выследили…
Шуршавый еще крепче сжал немецкую винтовку с плоским штыком и исчез между сосенок.
— Что это за стрельба была в селе? — Надводнюк настороженно поднял глаза на девушку.
Марьянка закрыла лицо руками и без сил опустилась рядом с Надводнюком.
— Р-рас-стреляли…
Партизаны бросились к ней, хватали за руки, трясли за плечи:
— Марьянка, кого?
Девушка подняла заплаканные глаза, обхватила плечо Надводнюка.
— Родителей ваших… Деда Кирея… Тихона… Марка и… бабку Параску.
Партизаны отшатнулись и оцепенели. Марьянка дала волю слезам. Она вся вздрагивала и билась головой о сапоги Дмитра. Надводнюк машинально гладил широкой ладонью ее плечи. Бояр, прижавшись к сосенке, смотрел в землю. Малышенко отвернулся и утирал рукавом глаза. Павло стал на колени, взял Марьянку за плечи и прижал к себе. Оба они тихо плакали…
Сосны шумели тоскливо и однообразно. Где-то в глубине леса стрекотала сорока. Может быть, опасность почуяла?..
— Расскажи, Марьянка, как это было!
Слушали молча, не переспрашивали. Каждый представлял себе страшную картину на кладбище. Сжимались кулаки, пальцы еще крепче впились в приклады винтовок.
— Дед Кирей сказал: проклят будет тот, кто забудет этот день… Мы будем их завтра хоронить…
Шумели сосны. В верхушках играл ветер. На землю падали шишки.
— Мы придем, Марьянка, на похороны! — Дмитро стукнул прикладом о землю. — Мы попрощаемся с родителями на кладбище!
— А немцы?..
— Ты ведь не побоялась придти сюда. Теперь мы обсудим, как это нам поосторожнее придти.
В полдень из церкви вынесли четыре гроба. Первый, самый тяжелый, несло восемь человек. В гробу лежали Тихон и его жена. Во втором несли деда Кирея, в третьем — Марка, а в четвертом — Параску. Женщины и девушки несли крышки от гробов. Все село вышло проводить стариков в их последнюю дорогу. Поближе к гробам, в первом ряду, с трудом передвигая старые слабые ноги, шли товарищи убитых — Мирон и Гнат, а за ними — другие старики. Лица были скорбными, из глаз текли слезы. Старики не утирали слез — не стыдились их. Потом шли женщины в полотняных юбках и крашеных кофточках. Молодицы несли младенцев на руках. Малыши держались за юбки матерей. Дети постарше держались стайкой, забегали вперед, к самым гробам. Тоскливо гудели колокола. В унисон им поп Маркиан и дьячок тянули за упокой.
Пройдя несколько десятков шагов, поп Маркиан останавливался. Гробы опускали на землю. Все склоняли головы и стояли молча.
— По-о-оследний путь. По-о-след-ний путь… — гнусавил Маркиан.
Процессия свернула в проулок. Стало тесно. Процессия вытянулась длинной лентой. Конец ее терялся на главной улице.
Марьянка, поддерживая одной рукой крышку гроба, часто оглядывалась назад, испытующе останавливала свой взгляд на лицах провожающих. Никого из кулаков она не видела: убитых в последний путь провожали небогатые и беднота. На минуту Марьянка задержалась взглядом на высокой фигуре Бровченко, который вел под руку бледную Мусю, и быстро повязала голову красным платочком… Платок цвел на солнце, как красный мак. Это было для партизан условным знаком: им нечего бояться.
Процессия медленно вступила на кладбище. Под кудрявой сосной желтело четыре свежих холмика. Возле ям поставили гробы, люди склонили головы, плакали. Из гробов смотрели желтые лица с черными кругами вокруг запавших глаз.
Поп Маркиан быстренько читал молитвы. Крестьяне прощались с покойниками. Один за другим подходили люди к гробам, низко кланялись и в лоб целовали убитых. Уже Мирон и Гнат протянули под гробами веревки, уже мужчины взяли в руки молотки и гвозди, чтобы забить гробы навеки…
— Стой, остановись! Дайте нам с родителями попрощаться! — Через ров с винтовками в руках перепрыгнули Дмитро и Григорий. Торопливо подошли и опустились на колени рядом со своими женами, каждый перед гробом своего отца. Из лозняка вышли партизаны и стали цепью позади собравшихся. Поп Маркиан побледнел, начал обдергивать рясу, опасливо поглядывал на партизан. Надводнюк поцеловал отца, мать, несколько минут смотрел на них, стараясь на всю жизнь запомнить их лица, затем поднялся и взошел на холмик. Григорий присоединился к партизанам. К гробам приблизились Гордей и Павло. Все молча смотрели на прощание сыновей с родителями. Женщины приглушенно рыдали. Поп Маркиан прижался к сосне. Его руки дрожали.
— Мы пришли попрощаться с вами, наши дорогие родители, — сказал Дмитро тихо, но слова его слышали все — люди тесным кольцом окружили гробы и Дмитра, стоявшего на желтом холмике. Земля под ногами осыпалась и падала в ямы. — За что вас немцы расстреляли? За то, что мы, ваши сыновья, бьемся за правду, за свободу, за то, что мы выступили против помещика Соболевского и против Писарчука. Мы не покоримся! Так и передайте! — повернулся он к попу Маркиану. Тот от испуга присел под сосной. — Мы не покоримся! Мы будем бороться! Немцы пришли помогать Соболевскому и Писарчуку, они хотят задушить революцию. Мы хотим свободы, и мы добьемся ее! Революции немцам не задушить! Мы не дадим! Они издеваются над нами, вывозят в свою Германию наш хлеб, наш скот, наше добро. Крестьян пускают с сумой по миру. Мы немцев не звали, их звали паны! Кто не трус — иди к нам, будем бить немцев и панов! Пусть убираются туда, откуда пришли. Прощайте, родители! Вашего слова мы не забудем! Проклятие тому, кто забудет этот день…
— Смирно!..
Партизаны построились.
— К салюту готовсь!
Щелкнули затворы. Винтовки поднялись вверх.
— Пли!
Дружный залп. Второй. Третий.
— Прощайте! Кому немцы уж очень допекли — пусть придет в лес, вместе будем бить врага! Прощайте!
— Счастливой дороги, орлы!
— Прощайте… — зазвучало вокруг.
Не скрывая своей симпатии, люди смотрели вслед кучке отважных, вступивших в бой с многочисленным врагом.
Петр Варфоломеевич провожал партизан взглядом до тех пор, пока они не скрылись за первыми соснами.
— Отец Маркиан удрал… — сказала Муся.
Петр Варфоломеевич оглянулся. Крестьяне забивали гробы и опускали их в землю. Маркиана не было. Никто не заметил, как он скрылся. Люди группками уходили с кладбища. В проулке Бровченко и Муся встретили взвод немцев. Солдаты, запыхавшись, тащили два пулемета. В стороне, сжимая в руке револьвер, бежал Шульц. Он вспотел, задыхался, команду подавал хрипло и отрывисто.
Бровченко и Муся посторонились. Петр Варфоломеевич оглянулся на далекий сосняк, надежно укрывавший партизан, и усмехнулся.
— Это вам не беззащитные старики, господин Шульц! Они на вас нагонят страху, подождите… — прошептал он, чувствуя какое-то внутреннее удовлетворение от растерянности немецкого офицера.
Глава шестая
Уже в течение нескольких дней Муся замечала, что с Ксаной творится что-то неладное. Сестра изо дня в день все больше теряла свой самоуверенный вид, голова часто бессильно опускалась на грудь. У Ксаны уже не было прежней ее горделивой осанки. Под глазами легла синева, и по тусклому блеску Ксаниных глаз Муся догадывалась, что сестра часто плачет. Муся несколько раз пыталась поговорить с ней. Но Ксана всегда избегала этого.
Однажды во время обеда Ксана, едва притронувшись к еде, оказала:
— Яблоко я бы съела… Кислое-кислое…
Муся и Петр Варфоломеевич искренне посмеялись над ней: в июне яблоко! Но Татьяна Платоновна подняла глаза и по-матерински обеспокоенно взглянула на дочь. Ксана покраснела, спряталась за книгу, потом вскочила и выбежала из столовой. Родители переглянулись. Петр Варфоломеевич засопел, Татьяна Платоновна побледнела. Муся посмотрела на родителей и заметила в их глазах беспокойство. Несомненно, из-за Ксаниного поведения!.. Муся наскоро пообедала и, поблагодарив, побежала к сестре. Двери в комнату были заперты. Она стала на колени, приложила ухо к замочной скважине и прислушалась. Из комнаты долетали какие-то отрывистые грудные звуки. Муся догадалась, что Ксана плачет. Постучала. Сестра не ответила, но и всхлипываний больше не было слышно.
Мусе стало жалко сестру. Она решила, что у Ксаны какое-то большое-болыное горе. Уйдя в сад, девушка долго припоминала происшествия последних дней, но никак не находила ничего, что могло бы причинить Ксане такое горе. Муся знала, что Ксана не любит слез, а теперь сама плачет… И Муся решила во что бы то ни стало разузнать, какая беда приключилась с сестрой.
По вечерам, когда сестры уже лежали в своих постелях, в спальню стала заходить Татьяна Платоновна. Она садилась на Ксанину кровать, ласкала, целовала Кеану и между поцелуями спрашивала:
— Ксана, что с тобой? Отчего ты плачешь?
Ксана отворачивалась лицом к стене и натягивала на голову одеяло.
— Ксана, зачем ты меня мучишь? Ведь я тебе мать!
Ксана вскакивала и гневно восклицала:
— Мама, не мучь меня!.. Уходи!..
Потом хваталась обеими руками за голову и падала на постель. Полные плечи вздрагивали, в подушке тонули приглушенные рыдания. Татьяна Платоновна со вздохом уходила.
Потом Ксана начала прятаться от всех домашних. Забиралась куда-нибудь вглубь сада Соболевских или шла на луг, к Лоши. И Муся понапрасну искала сестру. Ксана возвращалась поздно, нервная, с заплаканными глазами. На все вопросы отвечала невпопад, сердито. Ее плечи начали нервно передергиваться. Иногда она, сидя на стуле, устремляла свой взгляд куда-то вдаль и так просиживала часами. Напрасно старалась Муся развлечь сестру — Ксана прогоняла ее от себя, еще больше замыкалась.
Однажды, вернувшись с купания, Муся никого в столовой не нашла, хотя все уже должны были собраться к завтраку; из спальни долетали обрывки шов и восклицания. Она на цыпочках подошла к дверям.
— Но, Ксана, ты ведешь себя странно… — говорила мама.
— Ах, отстаньте от меня, я жить из-за вас не могу! — всхлипывала сестра.
Молчание.
— Ксана, ты нас пугаешь… — это опять мама.
— Прошу вас, дайте мне дышать, дайте дышать, не мучьте меня!
В комнате простучали сапоги.
— У мамы есть подозрение, что ты беременна, Ксана… — голос отца дрожал и срывался. Ксана исступленно вскрикнула и, наверно, упала на постель. Хрустнули чьи-то пальцы.
— О боже, за что такая кара!
— Ксана, это правда? — спросил отец.
Сестра ничего не ответила.
Она глухо, вероятно, в подушку, стонала. По комнате, тяжело стуча сапогами, быстро ходил отец. В другом углу рыдала мама.
— Как это случилось?.. Кто он, Ксана?..
Долгое молчание.
— Ш-шу-льц…
— Шульц?.. Когда? — в голосе отца отчаяние и бешенство.
— Папочка… мамочка… я не виновата!.. Не виновата!.. После банкета… Он был такой вежливый… культурный офицер. Папочка!.. Па-поч-ка!.. — Ксана охрипла.
— A-а… Культурный!.. Вежливый… Зверь!
Дверь рывком распахнулась, и из комнаты вылетел белый, как мел, Петр Варфоломеевич. Заметив Мусю, он ухватился руками за угол шкафа.
— Ты чего здесь?.. Вон!..
Муся испуганно забилась в угол.
— Подслушивала?
Муся заплакала.
— Какие страдания! Какие страдания! Зверь! — и Петр Варфоломеевич бросился вон из комнаты. Стукнув высокой калиткой, выбежал на улицу и поспешил в школу. Оттолкнул часового и быстро поднялся на крыльцо. Дневальный преградил ему дорогу.
— Господин Шульц дома? — спросил Бровченко.
— Вас?
Бровченко, задыхаясь, повторил вопрос по-немецки. Дневальный показал рукой на усадьбу Соболевских.
— Господин Шульц завтракает…
Петр Варфоломеевич сбежал с крыльца и направился в усадьбу тестя. Рванул к себе одни двери, вторые, третьи и влетел на веранду. За круглым столом сидели Шульц, Платон Антонович, Рыхлов и Глафира Платоновна. На столе стояли бутылки коньяка, в тарелках дымилась еда. Увидев перекошенное лицо Петра Варфоломеевича, хозяева и гость вскочили. Бровченко подбежал к Шульцу и со всего размаху дал ему звонкую пощечину.
— Мерзавец!
На веранде охнули.
Шульц подавился котлетой. Выпучив глаза, он забился в кресло, стал маленьким и жалким. Рыхлов отшвырнул стул. Со стола упал бокал и разбился. Глафира Платоновна испуганно вскрикнула. Соболевский покашливал… Тем временем Петр Варфоломеевич дал Шульцу подряд еще несколько пощечин.
— Вы знаете, за что, господин офицер?
Шульц не отвечал.
— Он сумасшедший! Вяжите это хамское отродье! — Рыхлов бросился на Петра Варфоломеевича.
— Прочь, торгаш! Вы продали этому немцу крестьян и честь «моей Ксаны! — Петр Варфоломеевич схватился за косяк двери. Шульц опомнился и торопливо протянул руку к кобуре. Петр Варфоломеевич, заметив это движение, схватил стул и поднял его над головой.
— Руки вверх!
Шульц побледнел.
Бровченко выдернул из его кобуры револьвер и сунул себе в карман.
— Вы посягнули на честь немецкого офицера, вас расстреляют! — сквозь зубы выдавил Шульц.
— Вы посягнули на честь моей дочери! Вы расстреливаете немощных стариков! Вы — дикие звери!.. Вас надо уничтожать… — Бровченко отшвырнул стул, хлопнул дверью и выбежал.
На улице он остановился. Колотилось сердце, на седоватых висках выступили капли пота.
— Куда? — возник вопрос.
И только теперь он полностью осознал, что произошло. Он оскорбил немецкого офицера, подданного кайзера. За такое оскорбление — расстрел. Расстреляют, как тех седых стариков… Три года он ходил в атаки, смотрел смерти в глаза, и она его не тронула. Для чего? Чтобы теперь над ним поиздевался этот немецкий офицер?.. Погибнуть от руки врага не в славном бою, а со связанными руками, с оплеванным, оскорбленным чувством, на своей земле?
«Кому немцы уж очень допекли — пусть придет к нам в лес, вместе будем бить врага!» — сразу вспомнился призыв партизан. У них Шульц хотел отобрать свободу, они не покорились, ушли в лес, объявили немцам войну. Они будут уничтожать шульцев… Они и его примут.
Минута — и Петр Варфоломеевич был в своей комнате. Торопливо сорвал с гвоздя шинель, вытащил из ящика револьвер, порывисто обнял жену, дочерей.
— Куда, Петя? — Татьяне Платоновне стало дурно.
— Па-па!
— К ним! В лес! Немцев бить!
Он выбежал в сад. Муся кинулась за ним, но отца не догнала. Ксана смачивала виски Татьяне Платоновне.
Через несколько минут во двор к Бровченко вошел взвод немцев под командой капрала.
После двух бессонных ночей Татьяна Платоновна собралась к родителям посоветоваться, что делать с Ксаной. Соболевские встретили Татьяну Платоновну враждебно. Рыхлов демонстративно отвернулся и ушел в другую комнату. Отец подошел, опираясь на палку.
— Где муж?
— Не знаю, папа.
— Свою офицерскую науку понес к большевикам! Вас, папа, потомственного дворянина, придет отправлять на тот свет! — ехидно бросил Рыхлов из соседней комнаты.
Татьяна Платоновна упала на стул и зарыдала. Никто не утешал ее.
— Я пришла… спросить о Ксане… Что ей делать?
— А-а-а!.. У своего большевика спроси! — издевался отец. — Мужицкая кровь весь род опозорила. Смотреть: не могу! Зачем я тогда, после твоей свадьбы, впустил вас в свой дом?..
Вошел Рыхлов и, брызгая слюной, набросился на убитую горем женщину.
— Ксана знала, как отдаваться офицеру, пусть знает, как концы прятать.
— Это — грубо, Владимир! — выглянула из спальни Глафира Платоновна.
— Грубо? Ксана поступила не грубо?! — и ушел в сад.
Глафира Платоновна, завернувшись в персидский халат, подсела к сестре.
— Чего ты от нас хочешь, Таня?
— Посоветоваться… Одна я… — она опять зарыдала.
— Аборт надо делать, — равнодушно оказала Глафира Платоновна. — Куда ей рожать?
Татьяна Платоновна билась головой о стол, ломала руки. Отец раздраженно покашливал. Сестра, скрестив руки на груди, рассказывала какую-то интимную историю из жизни своей гимназической подруги.
— Понимаешь, Таня, ей удалось концы спрятать в воду. Что поделаешь — молодость…
Татьяна Платоновна не слушала — чересчур уж фальшивыми были слова сестры. Да и к чему этот пример? Но надо было что-то предпринять. Она попросила:
— Папа, отвезите Ксану в Сосницу. У вас много знакомых врачей.
Платон Антонович гневно замахал руками:
— Ты с ума сошла? Большевики в лесу… Нет-нет…
У Татьяны Платоновны что-то оборвалось в груди. Расползлось, как гнилые нитки, все то, что в течение многих лет, казалось, связывало ее с родными. Она шла сюда, лелея хоть слабую надежду получить совет у родителей и сестры. Но отец и сегодня такой же, каким был всегда, — капризный и заносчивый. Он даже не попытался подумать о ее несчастии. Чужой, равнодушный, он отталкивал ее от себя так, как отталкивал десятки крестьян с их просьбами. Отец оставался спесивым, безрассудным, жестоким.
Куда делась Глафирина жалость к несчастным, с которой она так носилась? Выходит, сестра — только ловкая актриса в жизни… Вот когда Татьяна Платоновна убедилась, что у сестры все было напускным, фальшивым.
Глафира была чужой и далекой.
Татьяна Платоновна поднялась и, шатаясь, молча вышла из комнаты. Через двор почти побежала. Теперь она хорошо поняла, что для нее этот дом больше не существует.
На следующий день Татьяна Платоновна и Ксана с узелками в руках пошли в Сосницу. Муся позвала к себе Марьянку.
Глава седьмая
Мирон попятился к дверям — «в хату вошел Писарчук в сопровождении Вариводы, двух немцев и двух одетых в синие жупаны гайдамаков. Писарчук прошел мимо хозяина, положил на стол длинный лист бумаги, ткнул в него грязным покрытым волосами пальцем и сказал:
— Пришли, Мирон Пилипович, забирать контрибуцию. Ведь сами вы не хотите отдавать то, что с вас полагается. Думаете, немцы простят? Хлопали Надводнюку — вот и имеете! С вас десять пудов хлеба и телка, — Писарчук поднес бумагу к глазам Мирона. Тот отвернулся, тяжело дыша, присел на краешек широкой скамьи.
— Я грамоты не знаю, Федор Трофимович.
— Вот они подтвердят! — кивнул Писарчук на Вариводу и гайдамаков.
Мирон низко опустил голову. В дверях, вытянувшись, застыли немцы. Лихо закинув кисти своих шапок на спину и опираясь на сабли, стояли гайдамаки. Несколько минут длилось молчание.
— Нам нужно еще все село обойти, а вы задерживаете, Мирон Пилипович. Идите, насыпайте хлеб в мешки!
Писарчук поднялся. Мирон, пошатываясь, подошел к нему:
— Где же у меня хлеб, Федор Трофимович? Бог видит, пуда три-четыре будет, а до нового еще далеко… Сами посмотрите, я и кладовку открою, — Мирон распахнул дверь в сени, стукнул крючком кладовки. — Смотрите, смотрите…
Писарчук, пригнувшись в дверях, прошел в кладовку. Мирон развел руками в пустом закроме.
— Где у меня хлеб? Кто в поле работал?.. Сын где-то в плену или погиб. Я — уже стар.
Писарчук чиркнул спичкой. В закроме лежала горка пропахшего мышами зерна.
— Вы, может, припрятали свой хлеб?
— Федор Трофимович, побойтесь бога! У меня же земли полоска — взрослый человек перешагнуть может, а вы… У вас поле, а заработать мне не под силу…
— Ну-ну! — сверкнул глазами Писарчук. — Видал, какие орлы приехали в синих жупанах? Сын мой, Никифор, командиром у них!.. Насыпайте в мешки зерно! — и подбросил сапогом сшитый из дерюжки мешок.
Мирон съежился в углу возле закрома. Руки и ноги у старика дрожали.
— Федор Трофимович, с сумой по миру пустите… Нищим на старость делаете. Пусть бы немцы, а вы же свои!.. Помилосердствуйте!.. Не губите на старости, богом прошу! — Мирон упал на колени.
— Эх, разболтался старик! Хлопцы!
В кладовку вбежали гайдамаки.
— Поговорите с ним на своем языке. Не хочет платить контрибуцию, а большевикам помогал.
— А-га! — выкрикнул гайдамак. — За-а-хочет!..
Под потолок взвилась нагайка. Мирон упал. Гайдамак наступил на него. Нагайка вытягивалась вдоль тела, обвивалась вокруг головы и ног. Мирон извивался, стонал, хватал воздух руками и плевал кровью.
Немцы и второй гайдамак влезли в закром, сгребли все зерно в мешок и отнесли его к воротам, где стоял воз. Гайдамак открыл хлев, но телки не было.
— Не ищите, хлопцы, скот на лугу.
Писарчук направился к Гнату Гориченко.
С высокой сосны Степану Шуршавому видны опушка, луг и зеленый ковер хлебов вдоль железной дороги. На лугу пасется стадо. Маленькими, черными крапинками виднеются мальчики-пастушки. На солнце блестят рельсы. Солнечная дымка дрожит далеко на горизонте, где рельсы сливаются с полем.
Шуршавый меняет положение и сидит теперь лицом к селу. На солнце блестит купол церкви, чернеют соломенные крыши, хатенки застыли у дороги, будто древние старухи оперлись на костыли. Шуршавый вытащил из кармана клочок бумаги и табак, но сразу же запрятал их обратно. Из села выкатился желтый клубок пыли. Ветер погнал его к Гнилице, и лишь тогда Степан разглядел пятерых всадников. Их синие жупаны выделялись на желто-зеленом фоне. Затем на солнце засверкали медные каски… Шуршавый вложил пальцы в рот и тонко свистнул.
Внизу затрещали ветки. Под сосной стоял Надводнюк.
— Что там?
— По направлению к железной дороге идут немцы и гайдамаки.
— Сколько их?
— Семеро конных и пятеро пеших.
— Как думаешь, куда идут?
— К железной дороге… Позже видно будет.
— Наблюдай!..
Шуршавый не сводил глаз с дороги. Гайдамаки и немцы быстрым шагом шли вдоль леса. Вот они спустились с холма и затерялись в хлебах. Через несколько минут всадники вынырнули возле железнодорожного переезда… Остановились, наверно, советуются. Передний, на гнедой лошади, указал нагайкой на луг, и все быстро повернули направо.
— Дмитро, я уже вижу…
— Что же ты видишь?
— Они сейчас будут скот угонять.
— Ну-у?
— Правда. Пастухи убегают в хлеба.
— Слезай!
Шуршавый, ловко хватаясь за суки, спустился с дерева и побежал за Надводнюком. Через несколько минут рядом с Надводнюком оказались все партизаны.
— За мной! — пригнувшись, Дмитро побежал между деревьями. За ним — партизаны. Бежали тихо, без слов, без команды. Под ногами потрескивал хворост, ветви били в лицо, перехватывало дыхание, но никто не останавливался, пока весь отряд не добрался до железнодорожного полотна.
— Ложись! — кратко прозвучала команда.
Партизаны легли и лежа поползли через насыпь. По ту сторону насыпи поднялись снова, прячась, побежали к опушке.
Надводнюк умерил шаг, остановился в молодом сосняке, руками раздвинул ветви. Видно поле и луг. Гайдамак на гнедой лошади скакал среди стада и отделял коров. Немцы окружили скот и гнали его на дорогу.
— За мной! — Надводнюк упал в жито и пополз напрямик к дороге. Один за другим ползли партизаны. Они обливались потом, рубахи прилипали к телу, винтовки и патроны были тяжелы. Но Надводнюк продолжал ползти. Перед глазами мелькали подошвы его сапог, опина и кованый приклад. Вокруг шелестело зеленое жито, пекло солнце. Откуда-то доносилась песня жаворонка… Вдруг все остановились. Лежа на земле, Надводнюк показал рукой, чтобы все легли рядом с ним, лицом к дороге. Когда цепь выровнялась, Дмитро повернулся к лежащему рядом Григорию и прошептал:
— Стрелять по команде…
Бояр наклонился к Бровченко и передал приказ. Бровченко — Ананию, а тот — дальше. Где-то над лугом звучало короткое: «гей! гей!» Должно быть, гайдамаки выгоняли стадо на дорогу… Набегал легкий ветерок, играл колосьями, поднимал волны и катил их куда-то по полю. Надводнюк долго смотрел — на синие васильки, затем, сорвав один, машинально взял стебелек в рот. Пожевал и выплюнул — горько. Глянул вдоль цепи. Яковенко оторвал колос, растер его на ладони. Увидав молочко, — зерно еще не завязалось, — вытер ладонь и вздохнул. Бровченко уставился в землю. Его вытянутая рука с револьвером лежала на примятых колосьях.
— Гей, рябая, гей! — доносилось слышнее и слышнее.
Все сразу прижали винтовки к плечам. Надводнюк слегка приподнялся.
По дороге, поднимая пыль, брели коровы. За ними кучкой ехали верховые. Немцы насвистывали какую-то походную песенку.
Коровы медленно проходили мимо партизан.
Вдруг Дмитро настороженно и резко поднял голову, прицелился, потом снова оторвал глаза от мушки и стал всматриваться. Партизаны смотрели туда же, куда и Дмитро. На гнедой лошади ехал Никифор Писарчук.
— Взво-од… пли!
Писарчук повалился на шею лошади. Лошадь рванулась в жито, всадник упал с седла. Коровы испуганно заревели и понеслись через жито к лугу. Между ними, с развевающимися гривами, скакали лошади без седоков.
Резко раскачивались колосья — немцы, которых миновали первые партизанские пули, напрямик через жито удирали в село.
Партизаны выбежали на дорогу. Поперек накатанной колеи, зажав в руках нагайку, лежал мертвый Никифор. Пыль, смоченная его кровью, густела. Двое немецких солдат загребали воздух сведенными пальцами.
Партизаны торопливо собрали валявшееся на дороге оружие и исчезли в жите.
От неожиданности Шульц зашатался и чуть не упал. Но в таком состоянии он был всего лишь одно мгновение. Его бледное лицо вытянулось, серые глаза стали, как щелки. Шульц рванул солдата за пояс.
— Смирно!.. Солдат армии кайзера, Карл Нейман, почему ты не спасал своих товарищей?
Молодой, безусый, весь в грязи, в разорванных брюках, без каски и винтовки, Карл Нейман стоял навытяжку перед офицером.
— Большевики напали внезапно, господин офицер!.. В хлебах их не было видно!
— Молчи!.. Свинья… — рука в лайковой перчатке описала полукруг и опустилась на лицо солдата. Нейман пошатнулся и едва удержался на ногах. — Смирно!.. Дневальный!.. Винтовку, патроны и полную боевую выкладку рядовому Нейману!
Дневальный щелкнул каблуками.
Через минуту рядовой Карл Нейман держал в руке винтовку, на поясе висели кожаные патронташи, лопатка, котелок, через плечо — свернутая в скатку шинель, за спиной — тяжелая походная сумка.
Шульц закурил сигару.
— Кру-у-гом!.. Ша-гом марш!..
Рядовой Карл Нейман стукнул левой и тяжелым военным шагом двинулся из школы на улицу. Шульц пошел за ним.
— Бе-е-гом!..
Солдат побежал. Сперва он высоко выбрасывал ноги, потом все ниже и ниже, пока совсем не обессилел и уже только волочил их по песку.
— Бе-егом!.. — летела раздраженная, неумолимая команда. Солдат срывался с места, но через несколько шагов терял силы. Лицо его покрылось обильным потом. Солдат тяжело, не закрывая рта, дышал.
— Бе-егом!..
Нейман пробежал несколько шагов и упал.
— Смирно! — солдат поднялся и стал навытяжку. — Ша-агом марш!.. Бе-е-егом!.. Ложись! — солдат падал посреди улицы в песок. — К бою готовсь! — солдат омертвевшими руками отстегнул лопатку и стал окапываться. — Смирно!.. Бе-егом!.. — Нейман снова бежал, широко раскрыв глаза. У него на висках вздулись жилы, на щеках выступили красные пятна. Он дышал со свистом. Изо рта высунулся кончик побелевшего языка. Тяжелая походная сумка тянула его вниз, дребезжал у пояса котелок, сбоку болталась лопатка и мешала бежать. И он бежал, подавшись всем корпусом вперед, чтоб удержать мешок на спине. Напрасно офицер требовал, чтобы он выпрямился и бежал ровно, — у солдата не хватало на это сил.
— Ложись!
Обессиленный Нейман упал, раскинув руки. На лице было нечеловеческое страдание, в глазах пряталась дикая ненависть. Шульц подбежал:
— Копай!
Солдат попробовал поднять руки, но он и двинуть ими не смог.
— Смирно!
Солдат поджал ноги, силясь подняться. Мешок потянул его к земле. Он захрипел. Шульц ударил Неймана стеком. Стек поломался. Офицер в бешенстве, с пеной на губах, ударил Неймана носком ботинка.
— Стрелять в большевиков будешь? Удирать не будешь! На два часа под винтовку с полной выкладкой! — Шульц быстро зашагал к школе. Возле крыльца выстроились солдаты — мрачные, потупившиеся. Шульц внимательно посмотрел на каждого, взбежал на крыльцо, еще раз оглянулся и скрылся в своей комнате. Потом запер двери, достал из шкафа бутылку коньяка, выпил целый стакан и, сжав голову руками, склонился над столом.
— Позор! — он яростно застучал кулаками по столу. — Позор! Каких-то жалких полдесятка партизан!.. Всю роту в лес! Выловить и перевешать на соснах! За ноги повесить! — схватил бутылку и опрокинул ее в рот, пустую отшвырнул в угол. Бутылка ударилась о косяк двери. На пол посыпались осколки.
— Дневальный!
Никто не входил.
— Дне-евальный! — затопал офицер.
Но в комнату никто не входил.
Шульц в бешенстве ударил ногой в дверь. Она не поддалась.
Только теперь Шульц вспомнил, что он ее запер; повернул ключ; на пороге щелкнул каблуками дневальный.
— Сутки ареста! Прибрать!
По одному в хату к Писарчуку входили Орищенко, Маргела и Варивода. Лука еще на пороге снял шапку и набожно перекрестился. Он сделал шаг к столу, на котором лежал одетый в новую вышитую рубаху и синие штаны Никифор. Лука снова перекрестился.
— Какое несчастье, Федор Трофимович! И оказать бы, безоружные, так нет — оружие ведь было, и все — на лошадях… Говорят, и немцев до одного постреляли.
Писарчук сидел на скамье, опершись руками о край стола, и не сводил глаз с мертвеца. Лицо Никифора было желтым, глаза открыты, верхний ряд зубов прикусил нижнюю губу. На лице застыла гримаса боли и ненависти.
— Может, пятаки медные ему на глаза положить? — боязливо прошептал Маргела.
Писарчук пошевелился, долгим безразличным взглядом окинул присутствующих.
— Клали! Не помогает!.. Смотрит!..
Молчание.
Со двора доносился стук топоров — плотники сколачивали гроб. В открытое окно влетела большая синяя муха. Покружившись по комнате, она села Никифору на лоб. Писарчук махнул рукой. Муха полетела где-то под потолком и села Никифору на губу.
— Чтоб ты пропала! — Писарчук зло замахал руками. Будто дразня, муха стала кружиться над Писарчуком. — Чего вы молчите? Говорите!
— Что тут скажешь? Хоронить нужно сына.
Лука втянул голову в плечи.
— Знаю… За кого он пострадал? За вас! Чего же вы молчите?
Маргела заюлил перед Писарчуком.
— Конечно, конечно. За нас.
— Ну?
— И нужно ж было ему за скотом ехать. Пусть бы немцы сами… И так боязно, и так боязно…
— Хитришь?
— Не обманешь — не проживешь!
— Что ты советуешь?
— Как-нибудь да будет…
— А? — Писарчук внезапно потемнел, стиснул зубы, схватил Маргелу за плечи, встряхнул его и толкнул к столу. — Посмотри! За твою шкуру пострадал.
Маргела отступил к дверям. Орищенко оглянулся на окно и забился в угол.
— А тебе что твоя партия эсеровская диктует, Прохор? А?
Варивода закрыл окно.
— Немцев направить в лес, на Надводнюка.
— Та-ак! Моя программа! Поведешь?
Варивода почесал затылок, посмотрел на остальных, а те опустили глаза.
— Да ведь все увидят…
— A-а!.. Чтоб тайком? Боитесь? Чтобы кто-нибудь за вас сделал?.. Кто поведет немцев в лес ловить Надводнюка? Не отвечаете?
— Я поведу!.. я все уголки в лесу знаю! — в комнату вошел Иван.
Писарчук схватил сына за руку, поставил рядом с собой.
— Вот моя кровь, видите? Горжусь я тобой, сын! Мы оба поведем немцев! Мы будем день и ночь искать Надводнюка! Он хочет земли нашей. Мы дадим ему землю!
— С вами и я поведу!.. — Варивода стал рядом с Писарчуком. — Кто же договорится с Шульцем?
— Я! Рыхлов нам поможет, у нас с ним одна дорога.
Писарчук стал одеваться.
На землю надвигались густые вечерние сумерки. В воздухе пахло липовым цветом, и Мусе казалось, что воздух сладок. Такой воздух очень полезен для Ксаны, она ведь только что вернулась из больницы.
Сестры сидели на скамье у ворот. Обе были в белых платьях. Муся загорелая, Ксана — бледная, с синевой под глазами. Ксана рассказывала о Соснице.
Перед ними был забор сада Соболевских. За забором цвели пышные липы, гудели жуки, летали ночные бабочки, разбегались аллеи. Муся вспомнила, как весело было в этих аллеях год-два тому назад. Теперь тоскливо. Разве изредка пройдет, покашливая, дед, или тетя Глафира заглянет в свою «Аллею вздохов». Тоскливо стало и в старом доме. Не играет музыка, не слышно песен. Не приезжает молодежь из соседних усадеб. Теперь не до музыки. Люди проявляют свой характер. У Владимира Викторовича свой характер. У отца — свой. Вот и не помирились. И отец ушел теперь в лес. Может быть, и он вчера стрелял в немцев в поле. Какой ужас — война. Так им и надо, немцам! Если бы их не было, не страдала бы Ксана, отец не избил бы Шульца и не нужно было бы теперь прятаться в лесу.
— Как было бы хорошо, если бы войны не было! Правда, Ксана?
— Правда, прошептала Ксана.
— Чего немцы пришли к нам?
— Ах, отстань, Муся! Откуда я знаю? Надо было папу спросить!
— Немцы папу ранили на фронте и сюда пришли над ним издеваться… Их только Владимир Викторович любит. А я ненавижу Шульца!
Ксана вздрогнула и прижалась к плечу Муси.
— Чтоб я не слышала больше о нем. Больно мне.
Муся помолчала.
— Вот бы искупаться в Лоши. Вода теперь тихая-тихая! Пойдем, Ксана?
— А часовой?
— Он нас не тронет. Я возьму полотенце.
Через несколько минут сестры спускались с горы в котловину. Уже совсем стемнело. Река застыла — черно-зеленая. Из камышей плыли клубы тумана. На лугу кричал перепел.
— Кто быстрее? — Муся скинула платье и бултыхнулась в воду. На Кеану полетели брызги.
— Ты все шалишь!.. Дитя!
Но Муся не дослушала слов Ксаны, быстро поплыла на середину реки. Ладони звонко били по воде: хоп-хоп!. хоп-хоп!..
— Ксана, плыви, догоняй! — звала Муся. Ксана медленно вошла по пояс в воду, легла и поплыла к сестре…
— Купаетесь, сироты вы несчастные!
Сестры повернули к берегу. В котлован, раздеваясь на ходу, спускались Глафира Платоновна и Нина Дмитриевна. Глафира Платоновна вошла в воду.
— Вам и горя мало! Купаетесь?
— А разве нам уже и купаться нельзя? — Муся присела в сторонку на песке.
— Не чувствуете, какая беда вас ждет! Что это будет, что это будет?.. — тетка покачала головой. Подумаю — сердце разрывается. Натворил чудес Петр Варфоломеевич! Отец у вас — не дай господи! Характерец! И сам погиб, и вам жизни не будет. Куда же вы без него? — и Глафира Платоновна заплакала. Слезы текли по ее одутловатым щекам и падали на голую грудь.
— Наш отец для нас хорош, — сказала Муся.
— Погиб он, погиб!
— Вы пугаете, тетя?
Ксана начала одеваться.
— Не пугаю, а правду говорю. Завтра немцы идут в лес всех бандитов выловить. Перестреляют. И Петра Варфоломеевича не простят, потому что Шульц и на него… — прошептала она.
— Лес густой, не найдут! — дрожащим голосом уверяла Муся.
— Найдут, Мусечка, найдут. Им люди покажут.
— Владимир Викторович?
— Что ты, Муся? Бог с тобой! Как тебе не стыдно?.. Они убили сына Писарчука, который был в гайдамаках. Отец и поведет. Так Владимир Викторович мне говорил. Только боже вас сохрани, никому!
Вдруг она перестала плакать и полезла в воду. Нина Дмитриевна молчала и мылилась. Муся торопливо оделась и, ломая руки, побежала в гору. Ксана шла молча, словно окаменела. У калитки Муся бросила ей на руки полотенце.
— Я к Марьянке! Может быть, она знает, что делать! В лесу Павло. Она любит его, я знаю. Я скоро!.. — и побежала по улице.
Еще не успело солнце подняться над липами в саду Соболевского, а на школьном крыльце уже зазвучала труба. На улицу выбегали солдаты, строились повзводно, тащили пулеметы. На крыльцо вышел причесанный, но заспанный Шульц. Он тщательно одернул френч и прошелся вдоль строя. Солдаты застыли. Солнечный луч играл на штыках и касках. Шульц выпрямился и, рассекая воздух правой рукой, произнес агитационную речь. Солдаты были хмурые, смотрели в пространство мимо офицеров. Немного в стороне, опершись о забор, стояли Писарчуки, отец и сын, и Варивода. Они держали в руках немецкие винтовки, через плечи висели брезентовые, туго набитые патронташи.
Шульц отдал команду. Первый взвод отделился и, ритмично покачиваясь, двинулся вдоль улицы. Передние несли на плечах пулемет. За первым взводом двинулся второй, затем третий и четвертый. Офицер кивнул Писарчуку и ускорил шаг. Он и Писарчук пошли впереди первого взвода, повели за собой роту.
…Как только немцы скрылись за углом из густого вишенника, в усадьбе Бровченко появилась Марьянка. Девушка еще немного постояла у калитки, потом медленно пошла по улице мимо школы. На перекрестке, как всегда, дремал патрульный. По крыльцу школы со штыком у пояса шагал дневальный. На школьном дворе девушка замела троих немцев. Они хлопотали возле походной кухни. В здании было тихо.
Пройдя мимо патрульного, Марьянка спустилась к Гнилице. Девушку не привлекали яркие краски луга, она не слышала восторженных восклицаний детей на плотине у моста; Марьянка не сводила глаз с густых кустов аира у помещичьего сада. Сойдя на мостик, она еще раз посмотрела вокруг и, не заметив никого, кроме детей, сняла с головы платок и махнула им, словно вытряхивала. Из куста аира вылез Надводнюк, чуть дальше показался Павло, потом — Бояр, а за ним остальные партизаны. Пригнувшись, они добрались до соседнего сада, граничившего с помещичьим, и перелезли через плетень. Марьянка подбежала к Надводнюку.
— Все в порядке, Дмитро Тихонович! — зашептала она горячо и взволнованно.
— Хорошо! Не боишься? Не забыла, как уговаривались ночью?
— Нет!
— Начинай!
Партизаны поднимались через сад на гору. Марьянка отдышалась, осмотрела на себе кофточку, ощупала поясок и пошла по горе на улицу. На перекрестке стоял патрульный. Марьянка замедлила шаг. Руки у нее дрожали, и она не знала, куда их девать. Ей казалось, что она широко и твердо ступает босыми ногами, а к патрульному приближается медленно, едва заметно… Ей стало душно… Она сдвинула платок с головы на шею. С горки подул ветер, и ей в лицо повеяло прохладой. Не дойдя до угла, Марьянка прижалась к плетню шагах в десяти от патрульного. Из школы ее не было видно. Патрульный повернулся к ней лицом, вопросительно посмотрел, пожал плечами и поправил ремень винтовки. Марьянка поманила патрульного.
— Вас? — он медленно направился к девушке и остановился в трех шагах от нее. Теперь и патрульного не было видно из школы. Только они двое были в проулке. Немец стоял, расставив ноги, крепкий и рослый. Марьянка посмотрела на его тщательно выбритый подбородок, холодные серые глаза и выхватила из-под кофты револьвер.
— Руки вверх!
Крикнула, сразу же выпрямилась и, закусив губу, навела дуло револьвера на грудь солдата. Растерявшись от неожиданности, патрульный старался руками что-то нащупать у себя на груди. Но руки не находили ремня винтовки, а глаза не могли оторваться от маленькой дырочки дула револьвера. Солдат еще раз ощупал свою грудь и медленно поднял руки. Лицо его было испуганным и удивленным.
Через забор перепрыгивали партизаны. Заметив их, патрульный сразу упал на колени и взмолился на своем языке. Солдата обезоружили и показали рукой вниз. Немец вскочил и со всех ног бросился с горы к Гнилице. Надводнюк прижался к забору и выглянул за угол. Дневальный сидел на крыльце. До школы было не больше пятидесяти шагов. Надводнюк взмахнул рукой. Щелкнули затворы.
— Бегом!
Группа партизан устремилась к зданию школы. Надводнюк, размахивая гранатой, первым подбежал к крыльцу. Не успел дневальный вскочить, как на него уже смотрели винтовки Бояра, Анания и Пескового. В воротах, направив винтовки на немцев, хлопотавших у походной кухни, остановились Клесун, Яковенко и Шуршавый.
— Руки вверх! — крикнул по-немецки Бровченко.
Дневальный забился в угол и пропустил Надводнюка, Бояра и Анания в дом.
— Захватить оружие, уничтожить бумаги! — приказал Надводнюк.
Бояр заметил у дверей пулемет с заложенной лентой.
Он вытащил его на улицу и поставил против входных дверей. Надводнюк бросился в комнату Шульца. Она была заперта.
— Ананий, рвани!
Ананий ухватил за ручку и рванул. Створки дверей раскрылись. На столе лежали аккуратно сложенные бумаги. Надводнюк взял один из листков. В глаза бросилось «Список». Присмотрелся — длинный ряд фамилий плательщиков контрибуции. Посмотрел на подпись «Староста Писарчук». Надводнюк разорвал список на мелкие кусочки.
— Ананий, разбивай телефонные аппараты!
Надводнюк уничтожал бумаги. Ананий срывал со стены аппараты, разбивал их об оконные косяки. На пол летели клочки документов, карт, донесений, писем, обломки аппаратов, патроны. Пыль стояла столбом.
Тем временем Клесун с товарищами загнал бывших во дворе немцев в хлев, перевернул кухню с обедом, запряг в тяжелый немецкий воз пару лошадей и подкатил к крыльцу.
— Есть подвода! — доложил Клесун Надводнюку.
— Грузи пулемет, винтовки! Забрать все патроны!
Партизаны выносили из здания школы оружие, шинели, сапоги. Марьянка помогала мужчинам. За каких-нибудь десять минут все было погружено.
— Поехали!
Песковой взял вожжи. Лошади тронули. За возом шли партизаны.
— Садись на воз, Марьянка! Будешь нам сестрой партизанской, а то здесь пристрелят! — Надводнюк легко подсадил девушку на высокий воз. На улицу выбегали удивленные люди и сразу прятались в свои дворы. Когда воз уже спускался на мост, партизан догнал Мирон Горовой.
— Дмитро Тихонович, хлопцы, возьмите и меня с собой! Хоть возницей буду! Ведь тут мне могила. Возьмите! — и снял шапку.
— Идемте, дядя Мирон, принимаем. Будем воевать с немцами. Оружия у нас теперь достаточно.
Лошади свернули влево на луг. Вдали над Десной зеленел густой непроходимый лес.
Неудовольствие Шульца возрастало. Уже несколько часов он шел за Писарчуками и Вариводой. Сосновые иглы кололи ему лицо и руки, насыпались за воротник, вызывали нервный зуд на спине. Он устал, едва двигался. У него пересохло в горле и губы покрылись коркой. Смотрел на своих солдат и видел, что они утомлены и растеряны. Солдаты обливались потом, тяжело дышали и не спешили выполнять его приказы.
Рота прошла через весь лес до железнодорожного полотна, но нигде не встретила партизан. По ту сторону путей опять начинался густой, нерасчищенный сосняк. Лес стоял молчаливый и неприветливый. Пахло сосной, пекло солнце, и где-то в чаще стрекотали сороки. Шульц посмотрел на свои исколотые хвоей, перепачканные в смоле руки и присел на рельсы. Он понимал свою беспомощность и бессилие, и оттого все его существо охватила невыразимая ярость. Солдаты стояли потные и мрачные, у них подкашивались ноги от усталости, но офицер не подал команды сесть. Иван Писарчук тронул Шульца за локоть и показал на солнце.
— Уже за полдень, пан офицер! Надо идти в лес, не то скоро стемнеет…
Шульц понял его без переводчика. Недовольная гримаса искривила его лицо. Он неприязненно покосился на худощавую фигуру с колючими глазками — на молодого Писарчука. Затем посмотрел, как неумело, негнущимися, неловкими пальцами держит винтовку старый Писарчук; посмотрел на густой сосняк, подумал о напрасно пройденном тяжелом пути, и лицо его опять передернулось. Но тут же вспомнил о происшедшем в житах. Событие это было тесно связано с мечтами о погонах полковника. Шульц сразу забыл про усталость, вскочил на ноги.
— Рассыпаться цепью!
И Шульц снова пошел в лес вслед за Писарчуками. Опять по лицу били ветки, колола хвоя. Шульц спотыкался, проклинал лес и партизан. На каждом шагу дорогу преграждали деревья, муравьиные кучи, вырытые снарядами ямы. Насмешливо стрекотали сороки; казалось, чаще не будет конца… И чем дальше углублялись в лес, тем тверже Шульц убеждался, что партизан они тут ни за что не найдут. От этого его раздражение непрерывно росло, могло вот-вот прорваться. Достаточно было малейшего повода. Но этого повода не было. Солдаты молча шли за ним. Они обходили ямы, перепрыгивали муравьиные кучи, не теряли друг друга из виду. Они привыкли к большим переходам. Солдаты были уверены, что искать в этом лесу партизан все равно, что искать иголку в копне сена. Но они шли — этого требовал офицер.
Уже и солнце садилось. В лесу сгустились тени. Стало прохладнее. Надвигался вечер. Немцы вышли на опушку. Шульц не скрывал своего презрения к Писарчукам. Отошел от них, выстроил взводы и повел обратно в Боровичи. Писарчуки и Варивода шли сзади, стараясь не попадаться офицеру на глаза.
Чем ближе было село, тем быстрее шли взводы. Каждый думал о реке, в которой можно искупаться, о сытном обеде и отдыхе. Шаг стал тверже, задние подтягивались, входили в ритм движения, и в село рота вступила, как всегда вступала, стройно и твердо. Вот и школа. Офицер подал команду, и рота рассыпалась. Готовясь принять рапорт дневального, Шульц устало поднимается на крыльцо, открывает двери и, как вкопанный, останавливается на пороге. Шульц протер глаза, потрогал виски, голову и, убедившись, что не сошел с ума, бросился к распахнутым дверям своей комнаты. Клочки бумаг, разбитые телефонные аппараты, опрокинутый стул, отсутствие пулемета у дверей, — все, что сразу охватил взглядом, бросило его в пот. Он зашатался и, чтобы не упасть, прислонился к стене. Это было еще невиданным в жизни поражением! И еще острее это почувствовал Шульц, когда в комнату вбежали солдаты. Они растерянно суетились, косо и испуганно поглядывая на своего бледного и растерянного офицера, прижавшегося к стене.
— Дневальный! — хотел грозно крикнуть Шульц, но с его губ сорвался только шепот. Кто стоял совсем близко, поняли, чего он хочет. Кто-то бросился разыскивать дневального. Его нигде не было. Вместо дневального привели тех троих, которые были заперты в сарае. Они стали навытяжку перед офицером. Не отходя от стены, Шульц слушал их рассказ о налете партизан.
Лишь теперь прорвалось его раздражение. Он, как дикий зверь, скрежетал зубами.
— Стройсь!
Рота послушно построилась возле школы.
— Бегом!
Рота следовала за офицером. Шульц добежал до двора Бояров, сам раскрыл ворота, впустил роту, выдернул из стрехи пучок соломы, зажег его и сунул обратно.
— Жги!
Солдаты рассыпались по двору, разбрасывая горящие пучки соломы. Шульц выскочил со двора, на ходу ткнул горящий пучок в сарай Мирона, добежал до хаты Надводнюков и спичкой поджег стреху. От Надводнюков он направился к Малышенко и другим партизанам. Позади него полыхал огонь. Огненные столбы поднимались все выше и выше. В Лошь летели пучки огня. Вечернее сумеречное небо бороздили сотни тысяч искр. Вокруг огненного моря метались женщины, рвали на себе волосы, кричали, проклинали, звали на помощь. Печально гудел колокол, выли собаки, ревел скот, стучали ведра; стреляли немцы, разгоняя людей. Обезумевшие люди бросались то в один конец села, то в другой, их охватывало кольцо огня, дыма, они возвращались обратно в свои жилища и вытаскивали из горящих хат свой скарб…
Шульц мстил.
Глава восьмая
Десна спокойно и тихо несла свои волны в Днепр. За лето берега облысели. В лучах солнца были далеко видны широкие плеса. Песчаные перекаты перегораживали русло, мешая движению пароходов. Плеса поросли красноталом. Левый крутой берег был покрыт лесом и кустарником.
Теперь на Десне тревожная тишина. В прошлые годы в эту пору за день проплывет несколько десятков плотов, пробегут пароходы, на берегу остановятся рыбаки, чтобы сварить уху и поспать в тени. Этим летом не слышно на Десне пароходных гудков, не гремит сердитый окрик сплавщика, не раскладывают рыбаки костров на круче. Мертвы берега, дремлет под солнцем сонная Десна. Только серпокрылые стрижи изрыли желтые откосы. Птички всегда с веселым щебетом вылетают навстречу солнцу.
И вот в кустарнике неожиданно поселилась кучка людей. Они покинули свои убогие жилища и принесли в лес горячую ненависть к врагу, пришедшему отобрать у них свободу. Своими действиями немцы заставили этих людей взять в руки винтовку. Густой непроходимый кустарник прятал их от врага. Отсюда они выходили редко. Их выход причинял много неприятностей оккупантам. Немцы приходили, искали этих людей, но никогда не осмеливались забираться в чащу: за каждым кустом их караулила смерть.
Здесь, в кустах, люди учились стрелять из винтовок и пулеметов, учились бросать гранаты, стирали белье, варили пищу и ежедневно разрабатывали планы нападения на врага. Немцы их боялись и каждую минуту ждали неожиданных налетов. Партизаны знали об этом и, не переставая, готовились к вылазкам — старались, чтобы каждая новая вылазка была для немцев еще страшнее предыдущей…
По утрам из кустарника на высокую кучу взбиралось двое самых молодых партизан. Мужчина усаживался в кустах, под густым кленом, так, чтобы ему была видна Десна, до самой излучины. На дальние плеса он смотрел в бинокль, который всегда носил с собой. Девушка садилась рядом со своим товарищем. В ее руках была винтовка, а на боку висела кожаная сумка с патронами. На Десне, как обычно, было спокойно и тихо. Девушка клала голову на колени товарища, смотрела сквозь листву клена в голубой простор, на проплывающие белые и легкие, как пух, облачка… И так было изо дня в день. Павло любил помечтать с Марьянкой о будущем, которое принесет им обоим счастье. Наблюдая за деснянским плесом, они успевали вволю наговориться. Павлу давно хотелось сказать своей подруге то, что еще не было им сказано, чего он сказать не мог, так как редко встречался с ней. Да и не до того тогда было.
Он знал, что рано или поздно, но это произойдет. Ожидая этой минуты, он волновался, снова думал о фронте, о немцах и о своих и Марьянкиных обязанностях перед революцией и товарищами. «А разве мы тогда выйдем из строя? — всплывала новая мысль. — Нет, тогда мы еще упорнее будем бить врага!» — решал Павло и еще сильнее любил Марьянку. Она видела и чувствовала его любовь.
Однажды, сидя в кустах на крутом берегу Десны, Марьянка прижалась к груди Павла:
— Хорошо мне с тобой!.. Когда мы вдвоем, я ничего не боюсь. И лес, и немцы мне не страшны. Одной мне было боязно… Я о тебе думала… Душа у меня болела.
Павло наклонился к ней. Его глаза сияли радостью.
— И мне с тобой, Марьянка, хорошо. Ты возле меня — и я спокойнее.
Она протянула к нему руки.
Павло выпустил бинокль, прижался к Марьянке и ощутил, как билось ее сердце. У нее пылали щеки и дрожали губы.
— Любишь, Марьянка?
— Не видишь разве? — и руки обвились вокруг его шеи.
…Марьянка, возбужденная и взволнованная, сидела рядом с Павлом, обняв его. Она мечтательно смотрела на реку. Внизу ветерок гнал против течения рябь. На глубоких местах водоворот крутил палочки, щепки, тянул их на дно, но они сразу же всплывали и быстро неслись дальше.
Марьянка шептала:
— Прогоним немцев, Павлик, и я тебе рожу сына. Он будет крепкий-крепкий!.. Он будет красивый! У него будет твое лицо, твой нос и мои черные глаза. Наш сын будет проворный-проворный!.. Правда, Павлик?
Павло нежно ласкал свою подругу.
— Правда, любимая! Наш сын будет крепким, широким в плечах. На его руках будут играть мускулы… Подрастет, будет ходить в школу. Окончит нашу, сельскую, в Сосницу поедет учиться, а там и дальше! Инженером будет или агрономом, как захочет… А мы ему дорогу, любимая, к такой жизни прокладываем. Вырастет — человеком станет, не будет пенять на нас, родителей, зачем на свет родили…
Они, прижавшись друг к другу, мечтательно смотрели вдаль, и перед их глазами вставали не длинные песчаные косы, не заросли краснотала на плесах, а рожденные в мечтах образы будущего. Вот она, Марьянка, присев на полу чисто убранной комнаты, протягивает руки навстречу мальчику с розовыми щечками и черными, как две черешни, глазами. Он впервые стал на ножки. «Дыб, дыб, дыб», — шепчут ее губы… Павло видит перед собой веселого жизнерадостного школьника, в новеньких сапожках, в суконном пиджачке. Вот он прибежал из школы, раскладывает на столе книжки, пальчиком показывает на портрет в букваре: Ленин — прочел он, и все трое счастливо улыбнулись.
— Ленин, — вслух прошептал Павло.
— Как его имя? — тихо спросила Марьянка.
— Владимир.
— Владимир, — повторила она. — Во-ло-дя.
Павло прижал Марьянку к себе.
— Чем это Надводнюк так озабочен? — неожиданно спросила Марьянка. — Все о чем-то думает, ничего не говорит. О чем его мысли?
— Он молчит. Это недаром! Верно, какой-то план… — и замолчал, подкручивая регулятор бинокля. — Мне кажется, по ту сторону косы поднимается черный дымок. Откуда бы ему взяться? А ну, посмотри, любимая, в бинокль!
Марьянка поднесла бинокль к глазам. Перед стеклами заколыхалась длинная полоса беловатого песка, за косой висел синий горизонт и на нем едва заметное кружево дымков. Марьянка всматривалась пристальнее. Снова подкрутила регулятор. Песчаная коса пододвинулась ближе. За косой сверкнула полоска воды. На этой полоске, между косой и горизонтом, зачернело длинное пятнышко. Из него поднимался дымок.
— Пароход, — прошептала Марьянка взволнованно.
Теперь в бинокль смотрел Павло. Сомнения у него исчезли — к косе подплывало какое-то судно. Напрасно Павло протирал стеклышки, напрасно напрягал зрение — распознать судно было трудно. Прошло больше десяти минут, пока судно вышло из-за косы. Теперь и без бинокля виден был небольшой речной катер и длинная низкая баржа, глубоко сидевшая в воде.
— Марьянка, скажи Надводнюку!
Она исчезла в кустах, и тотчас же Надводнюк и Бояр выкатили пулемет на гору. Партизаны залегли в кустах, готовясь к встрече нежданных суден. Надводнюк взял у Павла бинокль, посмотрел вниз по Десне и невольно свистнул.
— Будет работа, хлопцы! Катер тянет баржу, а в ней полно немцев. Целый отряд, верно. На корме стоит орудие… Пулеметы… Может, по наши души плывут?.. Плывите, плывите, проклятые! Мы вас встретим!.. Приготовьте, хлопцы, бомбы, пустим баржу на дно Десны. Григорий, проверь пулемет…
Катер держался левого берега, где было поглубже. Следом за ним, на длинной цепи, тяжело против течения двигалась баржа. Партизаны заметили жерло пушки, на борту — несколько пулеметов, немцев с винтовками в руках. На носу баржи стоял часовой. Возле орудия на корме сидел офицер. Он курил и настороженно осматривал высокий берег…
Катер прошел мимо партизан. Медленно подплывала баржа. Надводнюк осмотрел бомбу и повернулся боком к партизанам. До баржи было уже совсем близко. Партизаны смотрели на нее с кручи. Взгляд каждого притягивала к себе фигура офицера в фуражке и с блестящими погонами подполковника. Марьянка навела на него винтовку и прицелилась. Офицер, словно почувствовал дыхание смерти, поднялся и, опершись рукой на колесо орудия, впился глазами в кустарник. Надводнюк смерил взглядом расстояние и махнул рукой… Взрывы бомб слились в один — громкий и раскатистый. Он заглушил выстрел Марьянки. Над баржей высоко подпрыгнули клубы черного дыма и огня. Они подбросили труп офицера и обломки орудийного колеса. Немцы прыгали в Десну, захлебывались и тонули. В развороченный борт баржи с шумом хлынула вода, заливая боеприпасы, людей. Над водой вздулся брезент, которым были прикрыты продукты. Баржа медленно оседала. Вода переливалась через ее борта. Сорвала брезент и понесла его вниз по течению. Судно еще немного покачалось на воде и затонуло. Катер дернулся назад и беспомощно закружился, привязанный цепью к барже. Людей на нем уже не было, они выпрыгнули в Десну и выбирались на песок противоположного берега.
— И тебя туда! — бомба, брошенная Ананием, развернула борт вражеского катера. В пробоину хлынула вода. Катер перевернулся на бок и, покачиваясь, затонул.
Вечером на маленькой полянке Марьянка варила ужин для партизан. В котле, висевшем на палке, положенной на две вилочки, кипела уха. Пахло жареным салом. Партизаны лежали вокруг костра, наблюдая за движениями Марьянки и за Надводнюком, который, опустив голову на руки, сидел на трухлявом пне. Дмитро уселся на этот пень, когда они вернулись с Десны. Вот уже солнце повернуло к западу, а Дмитро не поднимался… Время от времени он сворачивал цыгарку, скуривал до шипенья на губах, сплевывал окурки прямо себе под ноги. Бояр пытался было рассказать о жизни в лесах во время немецкой войны, но его никто не поддержал, а Надводнюк даже головы не поднял. Все молча ждали ужина.
Надводнюк заговорил как-то неожиданно, заговорил взволнованно и решительно.
— Совета прошу, хлопцы! Что будем дальше делать? Месяц сидим в лесу, много крови немцам перепортили. Но этого недостаточно, что-то большее надо делать! Говорите, что кто думает?
Надводнюк поднял голову и посмотрел на товарищей. Мирон Горовой подал ему кисет с табаком. С земли поднялся Яков Кутный, загорелый, с черными оспинками на лице, замахал руками, заговорил кратко, отрывисто.
— Каждый про себя думает и молчит! Говорить, так говорить! Немцы измываются над крестьянами! Наши жилища сожгли! Жен наших пустили по миру, а мы сидим, как кроты в норах!..
— Не терзай сердца, Яков, знаем!.. Что ты советуешь? — поднялся на колени Ананий.
— Собраться ночью, снять патруль и забросать бомбами школу, чтобы так, как баржу…
Ананий сел. Вскочил Дорош.
— Жена, дети страдают!.. Голодные!.. Поддерживаю Якова! Забросать бомбами, чтобы всех немцев к чертовой матери! Так говорим, Дмитро?
Надводнюк покачал головой.
— Нет, не так.
— Боишься? — Яков, Дорош и Бровченко резко повернулись к нему. Бояр засмеялся. На губах у Надводнюка появилась едва заметная улыбка.
— Выслушаем остальных. Что скажете вы: Бояр, Петр Варфоломеевич, Павло? Чего молчат Шуршавый, дядя Логвин, дед Мирон? Все говорите! Я слушаю тебя, Григорий!
Бояр поднялся из-за своего пулемета, снял фуражку. В вечерних сумерках отчетливо виднелся его высокий лоб с клинушками лысин.
— Я думаю так. Нам надо изматывать силы врага. Немцы отсылают хлеб эшелонами. Нам надо разбирать железнодорожные пути, пускать эти эшелоны под откос. Идут немцы небольшим отрядом на хутор, — а мы их уничтожать будем! Не давать им покоя ни днем, ни ночью! Правильно?
— Григорий дело говорит! — воскликнул Песковой и Шуршавый. — Не давать им покоя!
— Так мы и делали, — заметил Надводнюк, — но вот беда! Оккупанты — в селе, и останутся в селе и будут издеваться над народом… Мы и сегодня потопили их отряд, но завтра их командование пришлет другой. Командование — генералы — человеческого мяса не жалеет. Вот почему совет Якова не годится. Уничтожим Шульца, завтра будет какой-нибудь другой черт! Что посоветуете вы, Петр Варфоломеевич?
— Если бы мне дали роту и сказали: возьми сегодня Боровичи, я б их взял… Я знаю, как это сделать. А с нашим отрядом можно действовать только по методу Григория Кирилловича. — Бровченко пожал плечами и поправил поясок с гранатами. — Послушаем вас, Дмитро Тихонович.
Партизаны пододвинулись к Надводнюку, — до сих пор его действий никто не обсуждал, они были правильными. Он видел далеко и не ошибался. И теперь они возлагали все надежды на него. Каждый наперед был уверен, что Надводнюк выведет их из этого осточертевшего леса, даст, наконец, работу рукам и поведет на врага, который заливает землю кровью родных, соседей и тысяч таких, как они.
Надводнюк все еще молчал. Он вспоминал решения уездного комитета и взвешивал детали своего плана. На лбу залегла глубокая морщина, губы были плотно сжаты. Наконец, он заговорил. Его слова падали отрывисто и уверенно. Было так тихо, что слышен был даже шелест листьев на ясене.
— На открытую войну с немцами и гайдамаками нас из Боровичей пошло девять человек. А сколько таких, как мы, пошли из Бутовки, из Устья, из Прачей, из других сел? Мы сидим в лесу, щиплем немцев, и они сидят в лесах и щиплют немцев. Но мы в одиночку не страшны для вооруженной с ног до головы немецкой армии. Вот, если бы всех партизан в один отряд объединить! Полки будут, целая армия… Пусть такая партизанская армия пойдет в наступление на немцев, она сметет врага прочь с нашей земли! К нам присоединится беднота изо всех сел и городов. Надо думать об освобождении не только одного своего села! А так, как теперь, — ничего не выйдет. Я уже говорил, почему: один вражеский отряд уничтожим, придет другой. Об освобождении всей Украины от немцев и гайдамаков надо думать! Единым фронтом пойти на врага и освободить народ от страданий. А для этого нужно всем партизанам объединиться! С этого и нужно начинать! — Дмитро, выжидая, посмотрел на своих товарищей.
Партизаны задумались, взвешивая каждое его слово, и все приходили к выводу: правильно говорит Дмитро — где объединение и дисциплина, там сила!
— Ты показал нам дорогу, спасибо, брат! — Ананий от души пожал Дмитру руку. — А я думал, чего ты такой озабоченный в последние дни? Ты прямо в самую точку попал! Объединимся, друзья, и ударим по врагу! Эх, и ударим! Пыль из него пойдет! — Партизаны радостно засмеялись. Они подходили к Надводнюку, протягивали ему кисеты, бумагу, пожимали руку. Бровченко уверял всех, что лучше никто не придумает.
— Садитесь, будем ужинать, — пригласила Марьянка.
Партизаны уселись вокруг котелка. Каждый вынул из-за голенища ложку. Ужинали не спеша. Густели сумерки. В верхушках деревьев шелестел ветер.
— Как же мы будем объединяться с другими партизанами? Где их искать? — неожиданно спросил Ананий.
Все перестали есть и посмотрели на Надводнюка. Об этом они не подумали: действительно, как найти партизан в лесах?
— Я после ужина пойду в Сосницу. Разыщу товарищей из партийного комитета. Они знают.
— Но в Соснице полно немцев, гайдамаков. Ты погибнешь! — воскликнули партизаны.
— Нужно идти! Переоденусь. Я уж давно небрит — сойду за старика. Старшим у вас будет Бояр.
В молчании кончили ужинать. Каждый думал об опасностях, грозящих Надводнюку во вражьем логове. Пройти нужно так, чтобы не попасться врагу в руки — не то расстреляют. Но, чтоб все оставалось по-старому, тоже невозможно. И каждый верил, что Дмитро свяжется с комитетом.
Надводнюк прицепил к поясу поверх рубашки две бомбы, в карман положил револьвер, надел свитку Пескового, шапку Дороша, взял палку, пожал всем руки и скрылся в чаще. Его провожали теплые, полные надежды взгляды друзей.
Моросил дождь. Туча шла из-за Сосницы навстречу Надводнюку. Местечко потонуло в ночной темноте. Только на холме, возле здания бывшей земской управы, мерцал одинокий фонарик. В темноте Дмитро набрел на выоницкий ветряк, черным привидением торчавший теперь на выгоне, и, сориентировавшись, свернул направо в узенькую улочку. Вросшие в землю, низенькие, крытые соломой домики местечка казались мрачными, нигде не было ни одного освещенного окна, не видно было ни живой души, даже собаки где-то попрятались.
«Словно в могиле», — подумал Надводнюк, выйдя на улицу. Теперь он шел осторожнее — в любую минуту мог ожидать нежелательной встречи. И здесь окна были закрыты ставнями. Люди жили в темноте, либо притворялись, что спят, хотя было еще не поздно. С крыш текли ручейки, стучал дождь по листьям тополей, росших почти у каждых ворот.
Вдруг из-под навеса от высокой стены отделилась фигура. Не успел Дмитро отскочить в темноту, как она перерезала ему дорогу.
— С-спра-ши-ваю, ку-да ты и-дешь и к-то б-будешь? — заикаясь, спросил подошедший. От него несло водочным перегаром. Надводнюк рассмотрел заломленную пирожком смушковую шапку, длинную чемерку и поверх нее поясок от сабли. Гайдамак волочил за собой винтовку и едва держался на ногах.
«Не было печали»… — сплюнул Дмитро и, изображая старика, прошамкал — Шел я к пану уездному старосте, да вот запоздал, ночь застигла… Я от общества поклониться и похлопотать…
— Э-это н-не м-мое дело!.. Ч-чего ночью х-ходишь? М-может ты п-партизан, на р-разведку п-пришел?.. А т-таких прик-каза-но в ш-штаб п-приводить! Д-док-кументы или б-бумажку от общества им-меешь? — гайдамак дернул винтовку и наклонился к лицу Дмитра. Почувствовав на себе взгляд пьяных мутных глаз и ощутив крепкий запах водки, Дмитро отвернулся. — T-ты не кр-рутись! Из т-таких т-только п-партизаны и б-бывают. Идем! — гайдамак потянул винтовку, стараясь стукнуть прикладом о землю. Винтовка его не слушалась. — Н-не п-пойдешь — с-стрелять буду!..
Надводнюк сделал несколько шагов вперед. Гайдамак двинулся вслед, волоча за собой винтовку. Он был из разговорчивых.
— Я г-говорю, м-может, ты п-партизан? T-ты к нашей, — он сделал ударение на слове «нашей» — земле п-протягивал р-руки? М-может, ты из т-тех, что в-в отряды с-собираются за С-семеновкой… Идут с-слухи: б-б-большевики т-там… Чего же ты м-молчишь? В ш-штабе з-заговоришь, когда ш-шомполы п-покажут.
«О большевиках говорит этот пьяный дурак! Семеновка недалеко…» — у Надводнюка от радости запрыгало сердце. Он всмотрелся в темноту и заметил под забором поломанную скамейку.
— Пан часовой, отдохнем немножко и покурим. Табачок у нас сеют неплохой.
Не ожидая согласия часового, Надводнюк первым присел. Гайдамак что-то пробормотал себе под нос и свалился на скамью рядом с Дмитром. Надводнюк долго искал махорку. Рука все время, как назло, натыкалась на рукоятку револьвера. Дмитро даже вытащил было его из кармана, но снова сунул обратно и подал гайдамаку кисет.
— Большевистского духа нигде и не слышно, а вы, пан, все о них вспоминаете. Такое множество войска повсюду, а вы о большевиках…
— Этт-о не т-твое д-дело! T-ты не с-слышал, а я с-слышал. Они и под С-сосницей н-недавно были. Н-намяли им н-немцы б-бока!
Дмитро от радости чуть не подскочил. «Свои вот тут, где-то близко! Связаться бы с ними, и тогда вы, пан, увидите, как мы намнем вам бока!» — и сжал кулаки.
— И много их было?
— К-кто т-ты т-такой, ч-что испрашиваешь? — удивился гайдамак, заклеивая слюной самокрутку. — Я т-тебя имею п-право с-спрашивать! П-подавай д-документ!
— Вот мой документ! — Надводнюк приставил к его виску револьвер.
Гайдамак выпустил из рук цыгарку и с перепугу смешно, по-жабьи, вытаращил глаза. Дмитро быстро отбросил ногой винтовку.
— Говорите, пан, тихо, чтобы нас не слышали. Какое количество людей было в большевистском отряде и куда он направился?
— М-м… н-н-не знаю…
— Жить хочешь?
— Х-хочу! Сто п-пятьдесят ч-человек… П-подались они на Семеновку!
— Почему его не преследовали?
— С-сгврятался в л-лесу, н-на границе с Р-россией.
— Сколько немцев в Соснице?
— П-п-полная р-рота.
— Гайдамаков?
— П-походная сотня…
— Где ближайший часовой?
— В-возле з-земской уп-правы.
— Ну с меня довольно! Теперь — руки назад, я их свяжу, и ты будешь лежать здесь до утра.
Гайдамак послушно заложил руки за спину. Надводнюк сорвал у него с плеч ремешок, на котором висела сабля, туго скрутил ему локти, заткнул рот кисетом, затем открыл калитку, втолкнул гайдамака во двор, винтовку бросил в колодец и вышел на улицу.
Дождь не утихал. Под ногами хлюпало. Далеко впереди мигал одинокий фонарик. До домика Михайла Воробьева было уже недалеко — минут пять ходьбы. Дмитро крался вдоль заборов, оглядываясь, ловя малейшие шорохи. Каждый домик, мимо которого он проходил, казался ему подозрительным и настороженным. Дмитро думал, что на перекрестке встретится с разъездом гайдамаков, но все обошлось благополучно. Дождь и густая темень были надежными помощниками. Возле квартиры Воробьева Дмитро еще раз посмотрел вокруг, перелез через забор, обошел сарай, прислушался и хотел уже было постучать в окно, но вдруг пришла в голову мысль: что будет, если тут на постое немцы или гайдамаки. Это возможно, ведь домик близко от центра. Тогда дело провалится. Рисковать тут нельзя было. Надводнюк вошел в сарай, нащупал над собой потолок чердака и полез наверх. На чердаке лежала прошлогодняя солома. Дмитро выгреб в соломе яму, залез в нее и прикрыл себя соломой. Здесь он быстро согрелся. Веки устало сомкнулись, задремал. Во сне видел Ульяну. Она стояла у него в ногах в подвенечном платье. На голове сиял венок из белых и розовых цветов. Она, счастливо улыбаясь, срывала лепестки и разбрасывала их над ним. Лепестки, словно снежинки, долго кружились в воздухе и падали ему на грудь, на лицо. Чувствуя их прикосновение, он шептал Ульяне: «Иди, ну, иди же!» Ее глаза звали. Дмитро поднялся и протянул к ней руки. Ульяна отошла и погрозила ему пальцем. Дмитро рванулся к ней. Искал руками вокруг себя, шуршал соломой, беззвучно звал Ульяну. Жены не было. Только тогда он понял, что это сон. Дмитро снова лег в солому, но заснуть уже не мог. Перед глазами всплыли дорогие лица родителей, замученных немцами, лицо Мишки, Ульяны, всегда приветливой и любящей. Думал о ней. Вспомнились ее всегда горячие ласки. Где она теперь?.. Пустили ли ее соседи в свою хату? Сразу в памяти возник Шульц — прилизанный, с сигарой и окровавленным шомполом. Дмитро, сцепив зубы, застонал. «Подожди! Мы, все покалеченные тобой, скоро объединимся и так ударим, что тебе места на земле не будет! Только бы узнать у Воробьева, где наши собираются»…
Приглушенные осторожные шаги в саду прервали мысли Дмитра. Он прислушался. Кто-то, крадучись, прошел во двор и там затих. Потом Дмитро услышал тихий стук в окно; три с долгими интервалами удара в окно. Заскрипела дверь, и (во дворе все стихло. У Дмитра от радости крепче застучало сердце. Кому б это быть, как не Воробьеву?.. Дмитро спустился с чердака и хотел было пройти в дом, но сразу же передумал и решил обождать в сарае. Воробьев не мог долго оставаться в доме, кругом враги. Может, и он давно не видел жены. Надводнюк выглянул во двор. Все так же шел дождь. Ночь выдалась темная. Было уже, наверно, далеко за полночь. Дмитро сел в угол. Ему захотелось курить. Он засунул руку в карман и вспомнил, что его кисет остался во рту гайдамака. Вспомнил встречу с часовым, и ему стало весело.
Вскоре скрипнули двери. Дмитро припал к щели. Из сеней вышли двое, обнявшись. Когда они подошли ближе, Надводнюк узнал Воробьева и его жену. Он высунул голову в двери сарая:
— Михайло, это я, Надводнюк! — Воробьев вздрогнул. В вытянутой вперед руке чернел револьвер. Воробьев подошел к сараю.
— Кто? — спросил он шепотом.
— Надводнюк. Я к тебе…
Воробьев положил револьвер в карман и подошел еще ближе.
— Хоть я и не из пугливых, но ты меня напугал. Здравствуй!.. Ты нам нужен дозарезу. Раиска, иди домой, мы тут поговорим, — он поцеловал жену. — Иди! — Раиса медленно направилась к двери. Мужчины вошли в сарай.
— Где твои партизаны?
— Недалеко, в лесу. А ты откуда знаешь о нас? — удивился Дмитро.
— Я все знаю, что делается в уезде. Знаю, что натворили немцы в Боровичах. Ты вовремя пришел! Рассказывай.
Надводнюк рассказал о совещании со своими партизанами.
— Решил ты правильно, хоть это надо было сделать раньше. Партизаны собираются в Семеновке и Унече О Щорсе слыхал?
— Щорс? Нет. Кто такой?
— Коммунист. Еще молодой, но настойчивый. Ему Ленин поручил сформировать украинский советский полк. И он формирует его в Унече. Ему нужны такие люди, как твои хлопцы. Скоро мы начнем наступление на немцев. Большой отряд партизан под командой Черняка расположился в Новгород-Северском.
— Это для борьбы с ним, верно, немцы перебрасывали по Десне отряд, вооруженный пулеметами и пушкой?
— Где этот отряд? — насторожился Воробьев.
— Не волнуйся, его уже нет!
— А где ж он?
— Мы его потопили.
Надводнюк рассказал о последнем бое на Десне.
— За это тебе спасибо! — Михайло разыскал в темноте руку Дмитра и пожал ее. — Слетаются хлопцы-соколы к Щорсу в Унечу! Он их обучает, как надо воевать в регулярной воинской части. Вставай, Дмитро, пойдем к твоим партизанам, а потом я отведу вас к Щорсу.
Они осторожно вышли из сарая и по огородам, в темноте, под дождем выбрались из местечка.
Глава девятая
Три ночи отряд провел в пути и теперь усталым шагом вступал в Унечу. Впереди, подтянувшись по-военному, шли Воробьев и Надводнюк. Позади отряда скрипел воз, на котором рядом с пулеметом сидели Мирон и Марьянка. Из домиков выбегала детвора, выходили почтенные старики, молодые женщины. На их лицах — ласковые улыбки:
— Давай, давай, хлопцы, наших больше будет! — кричали они и приветливо махали руками.
Отряд завернул за угол и пошел быстрее. До них долетала отрывистая команда. Партизаны поправили на плечах винтовки и патронташи. На плацу маршировали взводы. Сбоку, на невысоком холмике, стоял человек в кожанке, черной фуражке, с шоферскими очками над козырьком и биноклем на груди. Он наблюдал за военными занятиями. Воробьев направился к нему, в трех шагах от него остановился, стал «смирно» и доложил:
— Товарищ Щорс, я привел отряд партизан, с пулеметом! Вот начальник отряда, коммунист Надводнюк!
— Откуда, хлопцы? — Щорс поздоровался с Воробьевым и протянул руку Надводнюку.
— Из села Боровичи!
Воробьев вкратце рассказал о борьбе отряда с немцами, а Щорс в это время внимательно рассматривал прибывших. Партизаны смотрели на командира. Он был среднего роста, худощавый, но очень ладно скроенный. На вид он казался очень молодым, хотя бледное лицо уже обрамляла черная бородка. Тонкими длинными пальцами он перебирал ремешок, на котором висел бинокль. Никто из прибывших не мог выдержать испытующего взгляда Щорса. Прямо в душу заглядывали его глубокие, с каким-то стальным отблеском черные глаза.
— Вы офицер? — внезапно спросил Щорс у Бровченко.
Петр Варфоломеевич сделал шаг вперед и стал навытяжку. Лицо его залила краска. Взволнованно ответил:
— Да! Военного времени.
— Кто ваши родители?
— Крестьяне.
— К нам идете добровольно?
— Да, добровольно.
Морщинки на лице Щорса разгладились.
— За пулемет, товарищи, спасибо. Мало пулеметов у нас… Куда же тебя, девушка? — неожиданно поднял он глаза на Марьянку. Она испуганно посмотрела на Павла… «Может быть, не примут?» — подумала.
— Будешь помощницей сестры милосердия!… Теперь, товарищи, знаете, куда мы идем? Будем гнать немцев и гайдамаков с нашей земли! Кто боится — иди обратно туда, откуда пришел. Нам нужны смелые, отважные хлопцы! Теперь второе. У нас железная дисциплина! Мародеров и рвачей — выгоним! Бойцы красных полков — это прежде всего честные и преданные революции люди… Третье: всем нужно пройти военное обучение. Врагов нужно уметь бить. Вот наши условия. Кто их не принимает — пусть отойдет в сторону!
Никто не двинулся с места. Щорс привлекал к себе какой-то особенной внутренней силой. От него нельзя было оторвать глаз. Хотелось еще и еще слушать его густой, приятный, искренний голос. Всем очень понравились суровые слова командира о честности и преданности бойцов его полка делу революции. Такие люди обеспечивают успех! И все, кто слушал Щорса, были уверены в победе над врагом. Щорс приказал адъютанту вызвать командира второй роты. Подошел командир — приземистый, крепкий, в кавалерийской шинели.
— Примите пополнение! Порох они уже нюхали. Хлопцы надежные.
Партизаны двинулись за своим новым командиром.
— Послушайте, дед, — позвал Щорс Мирона. — Сколько вам лет?
— Мне? — заморгал Мирон, приподнимаясь на возу. — Шестьдесят да еще пять.
— Вас мы прикомандируем к хозяйственной части.
— Я бы хотел со своими хлопцами! Мы ведь из одного села.
— Вы уже слишком стары, дед, для строевой службы. Мы вам другое дело найдем.
— Да разве я что? Лишь бы дело…
Адъютант повел Марьянку и Мирона в их подразделение.
Щорс подозвал Воробьева.
— Надводнюка я назначаю командиром взвода! Как по-твоему?
— С обязанностями справится, я думаю. Подучим.
— Про офицера что думаешь?
— Подождем. Видно будет.
— И я за это! Иди, отдохни. Вечером ко мне на совещание придешь.
Щорс пошел по плацу. Перед ним проходили в шинелях, в кожушках, в свитках и матросских бушлатах ряды богунцев.
После военных занятий, в хате, отведенной новоприбывшим, обедали боровичане и еще два молодых парня. Новые знакомые рассказывали, как попали в полк к Щорсу. Они были из сожженного немцами и гайдамаками села Сядрина Корюковского уезда и пришли к богунцам, чтоб с ними вместе прогнать ненавистного немца. В хату вошел еще один незнакомый человек. Он был огромного роста, широколицый, с пышной черной бородой и быстрыми, хитрыми глазами. Поставил в угол винтовку, бросил на скамью пулеметную ленту, снял шапку и поздоровался.
— Здорово, землячки! Обедаете?
— Присаживайся к столу. Откуда будешь? — подвинулся Ананий.
— Как видишь: русский! — и сел на скамью.
— Из каких же краев, интересно? — повторил вопрос Павло.
— С Дона… Казак Митрофан Филонов, — и разгладил бороду. Он держался подчеркнуто уверенно и независимо. — Воевать пришли? — неожиданно спросил он.
— Да уж не гулять! — отрезал Ананий.
Все замолчали. Казак исподлобья посмотрел на богун-цев. Его глаза быстро перебегали с одного лица на другое, на губах играла самоуверенная усмешка. Неожиданно он вытащил из кармана бутылку и помахал ею перед лицом Анания.
— К вашей закуске — да моя выпивка!
Все переглянулись. На фронте пить водку не разрешалось. Щорс сурово преследовал тех, кто пьянствовал и других к этому подстрекал.
— Смелый ты! — покачал головой Песковой, не отрывая глаз от бутылки.
— На то и казак, а не баба! Хозяйка, давай чашки.
Старушка-хозяйка поставила перед ними посуду. Привычным движением Филонов выбил пробку и разлил водку по чашкам. Павло, Бояр и Бровченко вышли из-за стола.
— Не пьете? Нам больше будет! — с издевкой усмехнулся казак.
— Хлопцы, советуем и вам не пить, — предостерег Клесун.
— Павло, я только одну каплю, чтоб изо рта не пахло. Забыл, уже какая она на вкус. Знаешь, война! — Ананий поспешно поднес чашку к губам, хлебнул, причмокнул и сразу всю выпил. Начало было положено. Никто ни капли не оставил в своей чашке. Логвин жадными глазами смотрел на пустую бутылку. Филонов перехватил этот взгляд, вытащил из-под полы вторую бутылку и, перегнувшись через стол, снова разлил по чашкам.
— Пей, хлопцы! Филонов с одной не ходит!
Выпили. Давно не пивший Песковой сразу захмелел, полез к Филонову с объятиями. Ананий виновато улыбался и просил Павла не рассказывать Надводнюку.
— Разру-гает… А может, и не разнесет?.. Есть у него сердце! А Щорса — боюсь… Понимаешь, глаза такие, что в душу залазят! Смотрит на тебя и все видит!.. О Петре Варфоломеевиче сразу сказал: «Вы офицер!» Все видит. Люблю таких!
— Кто офицер? — наклонился к Ананию Филонов.
Ананий указал на Бровченко. Казак поднял глаза на Петра Варфоломеевича, медленно встал и подошел к нему.
— Куда вас назначили?
— Во вторую роту.
— Ротным?
— Рядовым.
— Ха-ха-ха! — захохотал казак. — Рядовым? Я так и знал!
Бровченко вспыхнул. Чересчур уже грубо и оскорбительно хохотал этот великан.
— Вы пьяны! — крикнул Бровченко. — Нужно доложить командиру!
— Ну-ну, не кричите! Я ваших Щорсов не боюсь! Сотни таких видел!.. Я с Дона! — пригрозил казак. Потом сразу тихим, вкрадчивым голосом зашептал: — Над вами издеваются. Разве вы не видите? Офицера сделали рядовым! — и многозначительно поднял палец. Вам не верят! Слышите: не верят вам!.. Вы пришли кровь свою проливать, а они вам не верят!.. Какой-то мужик, неуч, будет вас, офицера, гонять, как мальчишку. Я их знаю, давно здесь!.. — Филонов быстрым взглядом окинул хату и, как бы забыв о Бровченко, подбежал к Логвину. — Ты босой, из лаптей пальцы вылазят! Думаешь, тебе сапоги дадут? Фигу с маком! Говорят: нету, а сами в кожаных пальто ходят. Вот какие комиссары!
Песковой, а за ним и остальные стали осматривать свои рваные лапти.
— А уж осень подходит, — громко вздохнул один из сядринцев.
— Вот-вот! — поддержал Филонов. — Нужно теперь запасаться! Насобирал Щорс тысячи две босых и голых и думает воевать. Босым черта с два повоюешь! Хлопцам обувь дай, а тогда и воюй.
— А может, ее и нет. Мы — народная армия. Для нас складов не строили! — вмешался Павло.
— Ни черта ты не знаешь! Видел я. Есть сапоги, да нам их не дают!
— Как это так?
— Хотите обуться?.. Идем со мной! Везде есть сапоги, только возьми да надень. Идем! — он схватил винтовку, патроны и направился к дверям. Сядринцы двинулись вслед. За ними Дорош и Логвин. Ананий еще раз посмотрел на свои стоптанные ботинки и тоже пошел.
— Стой! Куда ведешь? Грабить? Слышал, что говорил Щорс о таких? — Павло преградил богунцам дорогу.
— Хочешь босым воевать, так воюй, сколько влезет, а у нас ноги мерзнут! Идем, землячки!.. Я бы на вашем месте сказал: дайте роту или идите к чертовой матери! Ей-богу! — подмигнул казак Петру Варфоломеевичу и исчез за дверью. За ним побежали остальные. Григорий и Павло уговаривали хлопцев вернуться, но те их не слушали. Ананий оттолкнул обоих и тяжелой поступью пошел догонять Филонова.
Занятия командиров в штабе прервал резкий женский крик, раздавшийся возле порога. Какая-то женщина хотела пройти в штабное помещение, но часовой ее не пропускал.
— Пусти, по-хорошему прошу тебя! Я к самому Щорсу иду!.. Грабить, богунцы, начинаете? Какие из вас, к черту, защитники бедных? — кричала она под окнами.
Щорс, стоя у карты Черниговской губернии, объяснял командирам расположение неприятельских сил. Услыхав крик, поднял густые брови, сразу покраснел, рванулся из комнаты. Командиры вскочили с мест и бросились к выходу. Надводнюк протолкался к Щорсу, стоявшему на крыльце. Перед Щорсом размахивала кулаками уже пожилая, простоволосая, заплаканная женщина.
— Это грабеж, насилие! Подумаешь, богачку нашли! Сапоги им давай!.. А свои рты чем кормить буду, а?
Щорс сошел на нижнюю ступеньку.
— Объясните, тетка, толком, какой грабеж? Кто вас обидел?
— А вы и не знаете? Богунцы ваши!
Щорс вздрогнул, на виске резко задрожали жилы.
— Богунцы никого не грабят, — сказал он тихо. — Вы выдумываете!
— Вот и пожаловалась!.. — всплеснула руками женщина. — Нашла защиту. Да ведь теперь немцы не придут же сюда грабить! Никого здесь нет, кроме богунцев!
— Кто же был у вас?
— Вот так они мне и сказали свои фамилии! Два здоровенных мужика! Один в чемерке, с черной бородой, другой в обыкновенном пальтишке и в лаптях. И еще трое! Ото всех водкой несет за три версты! Вот и ищите теперь, а сапог три пары забрали!
Надводнюк сбежал с крыльца.
— Тетка, может быть, слышали, как звать того, в лаптях?
— Отчего не слышала? Слышала. Ананием его звали!
Надводнюк отшатнулся, посмотрел на Щорса, покраснел и опустил голову.
— Твой? — спросил Щорс.
— Мой…
— Идем! — Щорс быстро зашагал по улице. Едва поспевая за ним, шли командиры и пострадавшая. Надводнюку стыдно было смотреть Щорсу в глаза. Ананий, на которого можно было положиться, осрамил себя, его, Надводнюка, весь свой взвод и всех богунцев. Надводнюка мучил вопрос: где они добыли водку? Кто этот бородатый в чемерке? В его взводе таких нет. Предчувствуя беду, Надводнюк догнал Щорса и повел его в ту хату, где был расквартирован взвод.
Щорс первым в хату вошел, за ним — все командиры. На скамье у стола, склонившись на руки, сидели Ананий, Логвин и сядринцы. На постели сидели Павло и Бояр. Посреди комнаты валялись три пары новых сапог. Их никто не одевал, и, очевидно, здесь шел бурный разговор.
Взволнованные бойцы забыли даже встать при появлении командира.
— Встать!
Все вскочили, но стояли потупившись.
— Вот мои сапоги! — бросилась вперед женщина. — Он был у меня! — и показала на Анания. Ананий согнулся, будто от удара, втянул голову в плечи.
— Кто вас повел? — грозно спросил Щорс.
— Сами виноваты, товарищ командир, не маленькие… — прошептал Ананий.
— Знаю! Кто вас повел?
— Казак Филонов, он с Дона.
— А-а… — протянул Щорс. — Водку он принес?
— Он, две бутылки! — ответили сядринцы.
— Командир Горбач, привести Филонова и весь ваш взвод!.. Командир Надводнюк, выстроить весь ваш взвод на улице! — Щорс повернулся и вышел из хаты.
Через несколько минут на улице выстроились два взвода богунцев. Со всех концов Унечи сюда сходились бойцы, крестьяне, ремесленники. Они тесным кольцом окружили выстроенные на улице взводы.
Щорс вышел вперед и во всеуслышание скомандовал:
— Те, кто ходил за сапогами, пять шагов вперед, марш!
Виновные остановились перед Щорсом. Ананий, Логвин, Дорош, а с ними и сядринские, не поднимали головы. Филонов держался отдельно, нагло выпятив грудь и злобно уставился на командира богунцев. Сотни глаз смотрели на вышедших вперед, одни с презрением, кое-кто с жалостью, другие с любопытством, ожидая дальнейшего. Щорс вытянул руку:
— Кто вы? Чье имя носите? — спросил он властным тоном. Шорох пробежал по толпе и затих где-то за забором. Богунцы не шевелились. — Вы только называетесь сынами рабочего класса и крестьянской бедноты, если ведете себя, как немцы и гайдамаки! Разве вы пришли сюда не за тем, чтобы освободить от немцев и гайдамаков нашу залитую кровью землю? Мы звали вас бороться за пролетарскую революцию, за счастье рабочих и крестьян! На вас смотрят тысячи и тысячи стонущих под немцами и гайдамаками братьев, сестер и родителей ваших. Они жаждут свободы, которую вы должны принести им. Вас встречают с объятиями и слезами радости. Кто же пойдет к вам, если вы будете поступать так, как поступили сегодня? Грабят гайдамаки, на то они и гайдамаки. На их совести грабежи, убийства, слезы бедняков. Красный воин должен быть честным, храбрым, дисциплинированным — он идет за дело бедняков, за революцию! Богунцы! Нас ожидают миллионы трудящихся Украины, чтобы общими силами изгнать врага! На нас, богунцы, революция возложила святую обязанность очистить Украину от оккупантов. Мы свою обязанность выполним! Отдадим свою кровь за революцию! Уничтожим врага и тогда, товарищи богунцы, будем жить без эксплуататоров-кровопийц, без тех, кто торгует людьми и людской честью… Фабрики и заводы — рабочим, землю — крестьянам! Государство будет нашим — рабочих и крестьян. Работать для него — значит работать для себя. Вы сами будете издавать для себя законы. Царизм заглушил все живое, народ жил в невежестве, забитый и загнанный. На отобранную у помещиков землю мы пустим машины. Машинами будем пахать, машинами будем сеять и собирать богатый урожай. На нашей земле стеною в человеческий рост будут стоять хлеба! На наших лугах будут пастись неисчислимые стада!.. И забудет народ о нищете, заживет в достатке, культурно, счастливо!.. Русский и украинец, белорус и грузин, татарин и еврей — одна трудовая семья будет! Вот так будем жить, богунцы!
Затаив дыхание, ловя каждое слово Щорса, стояли шеренги бойцов. Сотни глаз, не мигая, впились в черную кожанку, в шоферские очки над козырьком, в стройную тонкую фигуру Щорса. Энергичными движениями рук он подчеркивал каждое свое слово. На бледных щеках играл румянец. Глаза светились от глубокого внутреннего возбуждения. И еще раз каждый боец почувствовал магическую силу его глаз. Они приковывали к себе, звали только вперед. И на площади не нашлось бы ни одного, кто остался бы где-то позади. Командир богунцев говорил о вражеской провокации, цель которой — дискредитировать авторитет советского полка, и подробно остановился на проступке новоприбывших, сагитированных казаком Филоновым.
— В наши ряды пытаются пролезть агенты врага. Какова их цель? Ослабить нашу силу, внести беспорядок, анархию, погубить наше дело. Но это им не удастся! Агентов врага мы будем жестоко карать! Ряды богунцев, преданных делу революции, будут расти и расти. Мы освободим украинский народ из-под ярма немцев и гайдамаков.
Ряды богунцев всколыхнулись.
— Освободим, товарищ Щорс!
— Веди, командир, в бой, мы покажем нашу силу!
— Смерть гайдамакам и немецкому капиталу!
Богунцы угрожающе размахивали оружием, указывая на юг, где хозяйничали отряды немцев и гайдамаков.
— Обещайте мне, что таких позорных случаев в богунском полку больше не будет!
— Обещаем!
— Не будет!..
— Расстрелять таких!
— Вам, — обратился Щорс к Ананию и другим, — в первый и последний раз прощаю. Казака Филонова арестовать!
Шатаясь, подошел к Щорсу бледный Ананий.
— Товарищ командир! Только в бою я смою с себя позорное пятно! Пошлите меня на серьезное дело!
— Верю! Смотреть надо, чтобы не попасться на удочку врага! Стать в шеренгу!
Ананий, Логвин, Дорош и сядринцы сделали «кругом» и стали на свои места. Под конвоем провели Филонова. Он смотрел на Щорса глазами, полными ненависти. Щорс взглянул на него в упор. Филонов не выдержал колючего взгляда и отвернулся.
Петр Варфоломеевич не мог забыть насмешливых слов казака Филонова. На военных занятиях, когда взводные командиры обучали бойцов обращаться с винтовкой или проходить по площади походным маршем, Петр Варфоломеевич чувствовал какую-то горечь в сердце. Иногда это была зависть к молодым командирам. В такие минуты он был почти уверен, что Филонов имел основание говорить ему обидные слова. Разве он, фронтовой, опытный офицер, не мог командовать ротой богунцев? Вопрос этот напрашивался все чаще и чаще, преследовал его. Бровченко угнетала мысль, что ему не доверяют. Вспомнились последние столкновения с Рыхловым, с тестем, с Шульцем, уход к красным партизанам. И вот теперь это, как ему казалось, незаслуженное недоверие.
Петр Варфоломеевич молча, аккуратно выполнял возложенные на него обязанности, но своими мыслями ни с кем не делился. В таком состоянии его несколько раз, будто ненароком, заставал Надводнюк. На вопрос Надводнюка, отчего он такой мрачный, Петр Варфоломеевич всегда твердил одно и то же:
— Беспокоюсь о семье, Шульц ведь остался там…
Надводнюк внимательнее присматривался к Бровченко, качал головой и уходил озабоченный. Он пытался вызвать Петра Варфоломеевича на откровенность, но тот избегал разговора.
С этими мыслями пошел Бровченко на пост у хаты, где находились арестованные. Приняв пост, Бровченко стал мерными шагами ходить под окном хаты. В хате было тихо. Петр Варфоломеевич прислонился спиной к крыльцу. Возвращаясь с поля, в накинутых на плечи мешках, — было уже по-осеннему холодно, — мальчишки-пастушки гнали по улице стадо. Изредка проезжали крестьяне. У колодцев собрались женщины. Над Унечей, направляясь на юг, пролетел ключ журавлей. Бровченко долго смотрел им вслед. За журавлями, на юг, в Боровичи понеслись его мысли.
Вдруг Петр Варфоломеевич почувствовал, что на него кто-то смотрит. Он обернулся. В разбитое окно на него смотрел Филонов. Казак поманил его к себе.
— Чего вам?
— В каком полку вы служили офицером? — тихо спросил Филонов.
— В 542 Киевском.
— А я в 156 конном Донском. Никак не пойму, какой из вас офицер! Службу рядового несете! Неужели вы и до сих пор не поняли, что над вами издеваются?
Бровченко резко повернулся спиной к окну и отошел в сторону. Филонов постучал в оконную раму.
— Часовому запрещено разговаривать с арестованными, — твердо ответил Петр Варфоломеевич.
— Запрещено? — Филонов расхохотался. — Было когда-то! Забудьте! — Он влез на подоконник, закрыв дыру в окне своим широким лицом, и вдруг торопливо, задыхаясь, зашептал. И чем дольше слушал Бровченко его горячий шепот, тем ближе подходил к окну.
— Выслушайте меня, прошу вас! Вы думаете, что я простой казак Филонов? Ошибаетесь, господин офицер. Посмотрите на меня. Я — тоже офицер!.. Командовал эскадроном на немецкой войне! Сюда попал из армии генерала Каледина… Вы поняли… Вам, как своему брату-офицеру, говорю и вас спрашиваю: куда вы попали? Разве ваше место здесь? Большевики затеяли резню, подняли своих на своих! Мало вам крови и позора на немецкой войне? Бегите отсюда! Не хотите туда, куда зовет вас ваш офицерский мундир, так сидите дома и не мешайте другим! Довольно братской крови!
Бровченко протянул вперед руку, словно отталкивал арестованного, но Филонов схватил ее своими горячими пальцами и зашептал еще быстрее:
— Я поведу вас туда, где вас с радостью примут в свои ряды! Вам дадут роту, батальон, что вы захотите!.. Когда стемнеет, отбейте замок и айда! Я, офицер, прошу вас, как офицера, я требую во имя офицерской чести — сделайте это! Не сделаете — заплатите кровью, как предатель!.. Слышали? Я уверен, что вы еще не затоптали своей чести офицера и меня освободите! Я жду, чтобы стемнело! — он отошел от окна и скрылся в глубине комнаты.
Петр Варфоломеевич опустился на ступеньки крыльца. Признания Филонова были неожиданными. Они оглушили Петра Варфоломеевича.
«Немедленно оповестить Щорса!» — это было первое, что промелькнуло в голове. Он даже бросился вперед. Но разве он имеет право самовольно оставлять пост?.. В военное время за это расстреливают. Бровченко присел на ступеньку, прислушался к звукам за окном, но Филонов о себе не напоминал. Ведь он ждал темноты, а теперь только смеркалось.
«Подняли своих на своих!» — внезапно вспомнил Петр Варфоломеевич шепот казачьего офицера. «Своих на своих!» Рыхлов на него, на Бровченко, Бровченко на Рыхлова!.. Вспомнив о Владимире Викторовиче, Бровченко подумал, что Рыхлов и Филонов друг на друга похожи. Вот кому идти нога в ногу! Только Филонов хитрее Рыхлова.
В душе Петра Варфоломеевича росло возмущение. Разве не Рыхлов, а с ним и этот Филонов, виноваты в том, что на Украину пришел немец? Разве не они виноваты, что его Ксану обесчестили? Петр Варфоломеевич не мог усидеть на месте. Он метался от крыльца к окну, к калитке, к углу дома и одного хотел, — чтобы поскорее кончилось дежурство! Он доложит командиру Надводнюку, и Филонов даст ревтрибуналу ответ, с какой целью пролез в Богунский полк!
Постепенно становилось темнее. Скрылись очертания станционных зданий, осокорей, а затем и ближайших хат. Затихла улица. Стал моросить осенний дождь. В деревьях зашумел ветер.
«Скоро придет смена», — подумал Бровченко.
По окну забарабанили пальцем.
— Я готов!
Бровченко вздрогнул и ничего не ответил.
— Пан офицер, слышите?… Я готов!
Бровченко крепче сжал винтовку.
— Скоро придет смена, поторопитесь, господин офицер!
— Вы напрасно были так уверены, Филонов!
— Не понимаю! — задохнулся казак.
— Я все сказал!
Какое-то мгновенье казачий офицер молчал. Было слышно, как он тяжело дышит, словно поднимается на высокую гору.
— Где твоя честь, офицер? Продал?.. Иди, заяви ревтрибуналу, что я, казачий офицер, собираюсь убежать и убегу! Целуй ноги Щорсу, он тебя наградит!.. Может быть, будешь картошку чистить для его обеда!.. Тьфу!..
Петр Варфоломеевич отошел подальше от окна. Не хватало воздуха. Он задыхался, ноги его не держали, подкашивались… И когда к крыльцу подошли разводящий и сядринец, он, как бабочка на огонь, бросился им навстречу.
— Что-нибудь случилось? — настороженно спросил разводящий.
Петр Варфоломеевич перевел дыхание. Сквозь разбитое окно с ненавистью смотрели глаза Филонова.
— Что-то заболел я, — прошептал Бровченко.
— Пойдите на врачебный пункт!
Бровченко торопливо выбежал со двора. Наскоро поужинав, он лег на скамью и прислушался к беседе богунцев. Павло Клесун сообщал новость: из Новгород-Северска прибыла новая группа повстанцев, и Щорс на этих днях начинает наступление на Злынку, а оттуда — на Клинцы и Гомель.
— Для этого, наверно, и нашего командира Надводнюка он тоже срочно вызвал к себе, — высказал свои предположения Павло.
— А Марьянка твоя как живет, был ты у нее? — немного погодя спросил Ананий.
— Был. У них полно работы. Бинты получили, лекарства. Готовятся!.. Должно быть, действительно скоро начнется поход!
Снова начали говорить о наступлении на немцев. Дорош с Ананием даже строили свои планы — откуда и как будет легче бить немцев.
В сенях послышались шаги, и в комнату вбежал дежурный по штабу.
— Бровченко есть?
Петр Варфоломеевич вскочил.
— Я!
— В штаб, к Щорсу!
Петр Варфоломеевич взволнованно посмотрел на бойцов. Они молча, одними глазами спрашивали: «Во время караула ничего не произошло?» Бровченко не ответил и вышел вместе со штабом. В штабе, пока дежурный докладывал Щорсу, Петр Варфоломеевич раз десять прошелся по небольшой передней. Зачем его вызвал Щорс?.. Может быть, Филонов сказал сядринцу, что открыл свою тайну Петру Варфоломеевичу?.. Но Петр Варфоломеевич решительно отбросил это предположение. Филонов не из таких, может быть, кто-нибудь из бойцов слышал, как он разговаривал с арестованным. Если это так, то Щорс возьмет его в работу. Бровченко заранее — по старой привычке — приготовился по выражению лица командира догадаться, для чего его вызвали, — нужно было знать, как держаться. Переступив через порог, Петр Варфоломеевич стал «смирно».
Щорс стоял посреди комнаты. Он сразу же обернулся, внимательно посмотрел Бровченко в глаза и улыбнулся. Петр Варфоломеевич облегченно вздохнул и лишь теперь заметил Воробьева и Надводнюка, стоявших возле стола.
— Садитесь, товарищ Бровченко!.. Мне тут говорили о вас, да я и сам наблюдал, — Щорс еще раз посмотрел на Петра Варфоломеевича и быстро направился к висевшей на стене карте. — Подойдите!
Бровченко, а за ним и Надводнюк с Воробьевым подошли. Щорс указал на карту.
— Товарищ Бровченко, вот в этом населенном пункте находится батальон немцев. С севера к селу подступает лес, с востока пруд. В вашем распоряжении рота храбрых богунцев. Как вы поведете наступление, чтобы разбить врага, обезоружить и взять его в плен?
К горлу Петра Варфоломеевича подкатился горячий ком. Он заморгал и схватился за грудь — ему казалось, что вот-вот выпрыгнет сердце. Что это — экзамен? Проверка способностей? Ну что ж, Бровченко покажет командиру богунцев, как он поведет наступление. Ведь у него за плечами огромный опыт войны с немцами.
— У меня сегодня столько впечатлений, товарищ командир! — взволнованно ответил Бровченко.
— Об этом я охотно послушаю потом, а теперь — о боевой операции.
В Бровченко заговорил военный. Вот у него рота богунцев. Он идет в наступление! Он пойдет вот так…
Щорс слушал, как Бровченко разворачивал боевую позицию, и изредка бросал: «Так, дальше». Бровченко разделил свою роту на отряды, незаметно провел через лес к селу, два взвода бросил в лобовую атаку; а остальных расположил так, чтоб не дать врагу отступить из села. Наступление оказалось для врага неожиданным. Враг в панике бросается к пруду, отступать некуда, и враг сдается…
Щорс остался доволен.
— Так вот что, товарищ Бровченко. К нам пришло еще несколько сот повстанцев. Назначаю вас командиром вновь организованной роты! Политкомиссаром будет у вас Воробьев! Завтра примите роту!
Неожиданное назначение ошеломило Петра Варфоломеевича. Он даже забыл ответить Щорсу, что согласен, и стоял у карты взволнованный, подавленный переменой в своем положении. Ему доверили роту!
— Теперь я готов выслушать ваши впечатления, товарищ командир! — обратился к нему Щорс.
«Командир!» Как приятно услышать это слово из уст Щорса… С молниеносной быстротой в памяти Петра Варфоломеевича возникла фигура Филонова, его насмешливые, хитрые глаза, вспомнил наглое признание казачьего офицера. Бровченко облегченно вздохнул, чувствуя, как падает с плеч гнет прошедших дней.
— Я об арестованном Филонове, донском казаке… — Бровченко помолчал, перевел дух.
Глаза Щорса блеснули, он подошел ближе.
— Ну?
— Он — не казак… Он… офицер… калединец… Он мне признался…
Воробьев и Надводнюк придвинулись. В глазах Щорса зажглись огоньки.
— Дальше!
Бровченко рассказал о своем дежурстве.
Глава десятая
Моросил дождь — мелкий и частый. Глухо свистел ветер в голых кустах и деревьях. Ночь выдалась темная и холодная. Батальоны, воспользовавшись темнотой, незаметно переходили «демаркационную линию». Богунцы шли тихо, без команды, и помнили приказ Щорса — не курить.
На опушке богунцы замедлили шаг. К Щорсу еще раз подбежали командиры, он проверил, все ли хорошо помнят свое место в бою, затем махнул рукой и свернул налево от дороги. Один батальон отделился и исчез во тьме вслед за Щорсом. Полк охватывал село Робчик с трех сторон.
— Подтянись! — шепотом передали приказ. Надводнюк нашел в темноте высокую фигуру Анания и возле него Клесуна, Малышенко, обоих сядринцев, Дороша. Замыкающим шел Шуршавый. После беззвучной команды бойцы подтянулись, стали шагать шире. Под ногами расплескивались лужи. Взвод ровным шагом направлялся на указанное Щорсом место. От того, что полк уже выступил в поход, что взвод шел бодро и горел желанием поскорее ударить по врагу, Дмитро чувствовал радость, хотелось во весь голос запеть походную песню. Он шел во главе взвода, заранее уверенный в победе; ее ощущали все бойцы. Он знал, что и бойцы рвутся в бой. Дмитро выпрямился, ступал еще более твердо. Настроение командира передалось бойцам. И если, бы не приказ Щорса, они бы затянули дружную песню.
Передняя колонна пошла медленнее. За одну-две минуты перестроились и двинулись в долину. Вдали полукругом тускло поблескивали редкие огоньки. Впереди были немцы. Огоньки напоминали старым фронтовикам недавние бои под Пинском, Ригой, в Карпатах. Надводнюк мысленно сравнил свое положение теперь и тогда и улыбнулся. Тогда его и тысячи ему подобных офицерьё гнало в атаку, гнало, как стадо серой бессловесной скотины. Теперь он сам, по доброй воле, идет в атаку. Идет сознательно. В груди — ненависть к врагу, а в представлении — отчетливый образ врага. Это — шульцы, рыхловы, писарчуки, а за ними гетман Скоропадский, немецкий кайзер Вильгельм. Они кованым сапогом наступили народу на грудь, хищными когтями впились ему в горло, пьют народную кровь! О! Теперь Надводнюк знает, кто враг! Рука не дрогнет, он не будет стрелять в небо, как стрелял когда-то в Пинских болотах.
Богунцы перешли через долину и снова поднялись на холмы. К сапогам прилипали комья земли, бойцы с трудом передвигали ноги. Но, увидев впереди себя вражеский лагерь, они забыли об усталости. Пальцы сильнее сжимали винтовку. Кое-кто из бойцов уже собирался начать перебежку, но командование сдержало горячих. Приказ: остановиться и ждать сигнала!
Огоньки в лагере немцев освещали черную насыпь блиндажей. Кое-где на передовой линии виднелись фигуры часовых и группы солдат у костров. Изредка где-то в темноте ржали лошади, долетали обрывки немецкой ругани. Было ясно, что немцы не ждали нападения.
Богунцы всматривались в темноту, взглядом измеряли расстояние до врага. Всех — и бойцов, и командиров — томило нетерпение. Надводнюку уже пришлось кое-кому приказать вести себя потише, чтобы не обнаружить себя перед врагом. И вдруг недалеко впереди вспыхнула ракета. Ее длинный ярко-желтый хвост на мгновение повис над землей и погас.
— Ур-ра-а-а! — всколыхнуло тишину позади немецкого лагеря — это Щорс повел свой батальон в атаку.
Богунцы рванулись к немецким блиндажам. Надводнюк, не оглядываясь, повел свой взвод на свет костров. Он ясно слышал рядом с собой тяжелое дыхание Анания, пригнувшись, в цепи бежали Малышенко, Клесун, Дорош, остальные бойцы сливались с темнотой. Растерявшись, немецкие патрули беспорядочно стреляли в воздух. Из блиндажей выскакивали солдаты, метались, кричали, разбегались в разные стороны. Слышна была суровая команда офицеров. Где-то на левом фланге застрочил пулемет. Над головами богунцев загудели шмели. Ударило немецкое орудие. Снаряд пролетел под синим небом и разорвался далеко в лесу. Богунцы припали к земле. Ударили дружные винтовочные залпы. Мелко-мелко зачастили «льюисы». С противоположной стороны наседал Щорс со своим батальоном. Немцы метались в кольце, бросились на правый фланг к перелеску. Надводнюк подполз к Бояру.
— Гриша, пулеметом отрезать отступление!
Бояр и Клесун втащили пулемет на холм. Через минуту Григорий густо поливал склоны свинцовым дождем. Немцы бросились обратно в кольцо.
— Ур-ра! — снова долетело с той стороны, где был Щорс.
Богунцы поднялись и, стреляя перед собой, ринулись на блиндажи. Немцы отстреливались из-за построек и деревьев, но это не могло остановить наступления богунцев. Немцы кинулись в сторону Щорса и вновь попали под пулеметный огонь. Они сбились в кучу, стреляли в своих. В темноте слышались испуганные возгласы. Немцы бросали оружие, падали на землю и просили пощады. Кольцо сжималось. Пленных быстро разоружали…
Через полчаса Щорсу доложили: взято много боевых трофеев — три полевых орудия, шесть пулеметов, несколько сот винтовок, снаряды, патроны, весь обоз…
На рассвете богунцы заняли первое село — Робчик.
Днем, лежа в заставе за Робчиком, Малышенко заметил на дороге двух всадников. Он быстро навел бинокль. В стеклышках отчетливо видны были фигуры двух немецких офицеров на вороных конях. Гордей повел биноклем направо — спокойно, налево — спокойно. Он снова смотрел на всадников. Один из них достал из кармана белый платок и привязал к стеку. Офицеры ехали с белым флагом.
— Ананий, возьми бинокль и наблюдай. Я отведу их к Щорсу! — сказал Гордей, передавая бинокль товарищу, и вышел из кустов на дорогу. Всадники неслись галопом. Белый флаг описывал полукруги. Офицеры, искоса поглядывая на кусты, поехали медленнее.
— Проводите нас к своему командиру, — сказал по-русски пожилой, толстый, с небольшими рыжими усиками на пухлой губе. Другой — маленький и худощавый — красиво сидел в седле, хмуро посматривая вдоль дороги.
Гордей молча пошел в село. Офицеры ехали рядом. Один из них чересчур высоко поднимал белый флаг. Потом они начали разговаривать по-немецки. Гордей ничего не понимал, но слышал, что у них дрожат голоса. Офицеры боялись. Гордею стало весело. Он с усмешкой обернулся к немцам. Офицеры переглянулись и больше уже не разговаривали.
Из хат выбежали богунцы и крестьяне. Какая-то уже пожилая женщина плюнула офицерам вслед. Богунцы шли за ними до самого штаба. Офицеры долго не сводили глаз с красного флага над входом в штаб.
— Интересных гостей ведешь, Гордей! — воскликнул из толпы Клесун. Богунцы стояли стеной, стена вздрогнула от смеха. Немцы оглянулись, спрыгнули с лошадей и пошли к крыльцу. Толстяк быстренько водил маленькими глазами по добротным шинелям богунцев. Он не мог скрыть своего удивления. Офицер, верно, не представлял себе, что встретится с регулярной частью Красной Армии.
Немцы вошли в штаб. За ними ринулись богунцы. Гордей доложил дежурному. Через минуту дежурный вернулся: можно войти. Малышенко переступил порог и стал навытяжку. Офицеры щелкнули каблуками перед столом, за которым сидел Щорс. Командир богунцев не поднялся им навстречу. Он, чуть откинувшись на спинку стула, своими острыми, со стальным отблеском, глазами смерил фигуры немцев и совсем тихо произнес:
— Я вас слушаю.
Толстый начал говорить. Голос у него дрожал и срывался. Офицер с трудом овладел собой. Он говорил, что высшее командование поручило ему передать командиру богунцев: если богунцы не прекратят военных действий против немецкой армии, то высшее командование будет принуждено выслать свои полки против богунцев и жестоко покарает за неисполнение этого предупреждения. Толстяк поднял голову — его полномочия на этом закончились.
Офицер был уверен в успехе своей миссии, но ошибся. Щорс стремительно поднялся. Лицо его залила краска, глаза загорелись гневом.
— Кто звал вас на Украину? — грозно спросил он. Офицеры попятились. — Убирайтесь с нашей территории! Против ваших полков мы двинем свои, их будет больше и они будут сильнее ваших! Передайте вашему командованию, — Щорс отчеканивал каждое слово, — пусть оно немедленно выводит свои войска в Германию! Наш гнев страшен, сила наша еще страшнее! Не послушаетесь — наши штыки укажут вам дорогу домой!
Щорс повернулся спиной к офицерам. Немцы торопливо щелкнули каблуками и выбежали из комнаты. Через минуту они уже галопом гнали своих лошадей.
— Вот вам и ответ!.. О, наш командир скажет, как гвоздем прибьет! — хохотали богунцы вслед немецким офицерам.
Решительность и стремительность были характерными чертами действий Щорса. После разговора с представителями немецкого командования он отдал приказ: немедленно занять Клинцы! За этим рабочим поселком «а очереди — Новозыбков и Гомель. Необходимо было захватить железнодорожную магистраль Гомель — Бахмач.
Полк выступил ночью. Батальон за батальоном подходили к поселку, захватывая в тугое кольцо лесистые окраины. Щорс летал на коне с одного фланга на другой, отдавал последние распоряжения, советовался с командирами и бойцами. Когда он наклонялся с седла к командирам или бойцам, те видели стальной блеск его глаз. Лицо Щорса пылало…
Морозное утро застало богунцев готовыми к бою с врагом. Части нетерпеливо ждали команды начать наступление. На холмике, под старыми соснами, стоял Щорс с группой командиров. Ниже, в стороне от дороги, залег взвод Надводнюка. Дмитро стоял рядом со Щорсом. Перед ними в сизой мгле виднелись очертания зданий, фабричных и заводских труб, церкви. На площади, возле походных кухонь, суетились немцы, по улицам маршировали взводы. На углах улиц, которые вели к окраинам, маячили фигуры патрульных. Вскоре показалось несколько верховых. Они галопом понеслись из местечка.
— Разведка… Встретить! — тихо приказал Щорс. Бровченко приложил руку к фуражке и быстро сбежал вниз. Части напряженно ждали.
Достигнув кустов, разведка пошла медленнее. Всадники спокойно покачивались в седлах. Немцы и не предполагали, что могут столкнуться здесь с богунцами. Но чем больше углублялись они в лес, тем беспокойнее становились лошади, поводили ушами, шли медленнее. Офицер обернулся к своему отряду и, должно быть, что-то спросил. В кустах возле дороги раздался залп. Офицер сполз с лошади и повис на стременах. Лошади рванулись, сбрасывая всадников. Вслед бегущим прозвучали выстрелы…
Щорс поднял бинокль к глазам. Так он стоял несколько минут, затем подошел к своей лошади и обратился к богунцам:
— Немцы пошли в наступление. Готовсь!
Отряды богунцев залегли подковой, упиравшейся рожками в дорогу. Взвод Надводнюка находился в центре. Привычным взглядом командира Дмитро осмотрел свой ощетинившийся винтовками взвод: Бояр лежал у пулемета, Ананий впился глазами в даль, Малышенко, Шуршавый и Кутный устраивались поудобнее под пригорком. Павло Клесун и сядринцы прикрывали себя сосновыми ветками. Песковой и Дорош жевали хлеб.
— Идут, — прошептал кто-то тихо, но слово это все услыхали, повернули глаза в сторону неприятеля. Немцы перебежками приближались к леску. Чем ближе они подходили, тем напряженнее дышали богунцы. Надводнюк не спускал глаз со своего взвода и, может быть, в десятый раз повторял:
— Ждать команды, стрелять в лоб…
Уже виден был блеск касок, богунцы уже различали на поясах у врагов окопные лопатки, а команды стрелять все не было. Немцы взбегали на пригорок.
— Ой, сколько их! — вырвалось испуганно у Пескового. Сядринцы беспокойно задвигались на земле. Надводнюк гневно посмотрел на Логвина и погрозил ему пальцем.
— Ро-ота-а… пли! — напряженное молчание прервалось: один залп, второй, третий. Нервно застрочили пулеметы. По лугу звонко прокатилось эхо. Немцы сразу припали к земле. Над ними поднялась ломаная линия дымков. Над головами богунцев тонко и жалобно засвистели пули. На окраине поселка ударило орудие. Снаряд долго гудел в воздухе, словно искал, где упасть, и упал где-то в лесу. Второй упал впереди. На богунцев полетели комья мерзлой земли. Немцы не поднимались, стреляли лежа. Пулеметы захлебывались, заглушая команду.
И вдруг неприятель прекратил стрельбу. Немцы сориентировались. Долетели отрывистые звуки команды, и вражеские части начали перебежки. Под прикрытием не. м-цы бежали пригнувшись, на открытых местах ползли на животах. Богунцы целились в каски. Немцы — медленно продвигались вперед.
— Удирай, братцы, посекут, как капусту! — закричал Песковой; не поднимаясь, повернулся на животе и пополз от линии огня. С линии огня отступали и сядринцы. Надводнюк побледнел и, не обращая внимания на вражеские выстрелы, вскочил на ноги, преграждая дорогу бегущим.
— Назад!
— Атака… Дмитро, спасай душу…
— Назад! — Надводнюк поднял руку с гранатой. — За мной! — Он, не оглядываясь, побежал навстречу неприятелю. Взвод поднялся за своим командиром, за взводом поднялась вся рота и со штыками наперевес кинулась с холма вниз. Застрочили немецкие пулеметы. Свинцовый дождь хлестал навстречу богунцам. Дмитро видел перед собой только ломаную линию касок и кучку сосенок, откуда бил пулемет. Именно тогда он почувствовал в своей руке гранату, размахнулся, со всей силы бросил ее в сосенки. Из сосенок вырвался столб дыма, в уши ударил сухой звук. Пулемет замолк. Немцы поднимались на ноги, бежали, отстреливаясь наугад. Их преследовал Бояр огнем своего пулемета. По фронту прокатилось тысячеголосое «ура».
На окраине поселка враг остановился, выбрал удобную позицию и залег. Орудия засыпали богунцев шрапнелью.
— Ло-жись!.. — прозвучала команда. Богунцы устраивались поудобнее между трупами убитых немцев. Завязалась перестрелка, длинная и упорная. Обе стороны засыпали свинцом передовую линию. Орудия богунцев начали стрелять активнее. Снаряды ложились в гуще врагов, разворачивали мерзлую землю, вносили панику в ряды неприятеля. Дула винтовок обжигали руки, в кожухах пулеметов закипала вода. Бой не утихал.
Осенний день короток. Солнце как-то быстро повернуло за полдень и склонилось к западу. Крепчал мороз, звенела земля… Враг не оставлял позиций. К вечеру по частям богунцев был передан приказ Щорса: подготовиться к наступлению.
Бойцы нетерпеливо ждали начала наступления, проверяли патроны, высматривали дорогу к врагу. Неожиданно впереди фронта с ручным пулеметом появился Щорс. На сером фоне поля резко выделялась черная кожанка. В бледных отсветах осеннего солнца поблескивали над козырьком стекла больших шоферских очков. Стройный, худощавый, собранный, он порывисто, решительно двинулся на врага… Застрочили немецкие пулеметы. Щорс побежал вперед, Вокруг него ложились пули, скрещивались, со всех сторон несли смерть. Щорс не пригнулся под немецкими пулями, побежал еще быстрее. Это было бесстрашие во имя революции.
— Вперед!
Богунцы поднялись за своим командиром. Загремело «ура», покатилось по рядам, стоголосыми отзвуками отдалось в лесу. Пулеметы ожесточенно сыпали смерть. Богунцы шли. И чем ближе они подходили к врагу, тем быстрее наступали…
Надводнюк увидел рядом с собой Анания. Ананий тяжело дышал, его лицо пылало, руки сжимали винтовку, на острие штыка отсвечивал бледный луч солнца. Еще несколько десятков шагов — и они на спине врага войдут в поселок.
Вдруг Ананий споткнулся и упал.
— Вставай! — подал ему руку Дмитро. Ананий не взял руки. Скрученными пальцами сгреб под себя прошлогоднюю стерню. Надводнюк нагнулся и попытался поднять товарища за плечо. Голова Анания поникла, по затылку на шею сползала густая, красно-черная струйка крови.
— Ананий!..
Дмитро упал на колени и обнял голову товарища. На него смотрели стеклянные глаза Анания. В них застыла решительность, с которой он шел на врага…
— Прощай, друг! — Дмитро поцеловал Анания в холодеющие губы, быстро поднялся. Из лесу выехали и стали спускаться с пригорка санитарные повозки. Рядом с одной из них шла Марьянка. Дмитро помахал ей шапкой, указывая на Анания.
«Для чего! Они мертвых не берут!» — подумал он и бросился догонять свой взвод.
Немцы скрылись в улицах поселка. По их пятам в поселок входили богунцы. Стреляли на улицах, во дворах, но бой уже утихал.
Через несколько минут над Клинцами развевался красный флаг.
Пленных обезоруживали. Трофеи были огромны: орудия, пулеметы, винтовки, снаряды, патроны, обоз. У немецкого штаба Щорс допрашивал пленных и одновременно принимал в полк клинцовских рабочих.
У штаба Дмитро столкнулся с Клесуном. Павло прижимал руку к груди.
— Ранен?
— Царапнула пуля… Пустяки!
— А кость?
— Не затронута.
— Пойди, пусть перевяжут.
— Заживет и так.
— Я говорю: иди!.. — Надводнюк помолчал. — А ты знаешь, что у нас уже нет Анания?.. Навылет, в голову… — Он сгорбился и быстро отошел от Павла.
Пораженный неожиданным известием, Павло прислонился к забору. «Навылет в голову»… И не мог представить себе Анания с простреленной головой. Вот он — горячий и сильный — отбивает шкворнем замки на амбарах Соболевского: «Берите! Комитет еще вчера постановил!»… А теперь его нет. Нет товарища, брата… Павло оторвался от забора и медленно направился к школе, где расположился госпиталь.
К крыльцу подъезжали подводы, санитары снимали раненых. Павло зашел в первую комнату. Марьянка в белом халате обмывала раненую ногу молодого богунца. Богунец то улыбался, то морщился от боли. Рану осмотрела сестра, потом Марьянка положила пластырь и перевязала бинтом. Павло заметил, как умело делала она перевязку, и удивился: когда она научилась? Богунец поблагодарил и, слегка прихрамывая, вышел из комнаты.
— Что с тобой, Павлик? — Марьянка побледнела, заглядывая в глаза мужа.
— Поцарапало… Пустяк… Анания уже нет. Навылет в голову…
Из Марьянкиных глаз на белый халат скатилась слеза.
Утром, когда Щорс вместе с командирами обсуждал план взятия Новозыбкова и Гомеля, командиру богунцев подали телеграмму. По мере того как он читал ее, на его суровом лице все шире расплывалась счастливая и радостная улыбка. Командиры вопросительно смотрели на Щорса. Вдруг он взволнованно поднял руки:
— Товарищи богунцы, в Германии революция! Нет кайзера!
Известие было неожиданным и радостным. Командиры шумно вскочили с мест. Жали руки Щорсу, друг другу. Здание штаба дрожало от возгласов «ура» и поздравлений немецкому трудовому народу. Весть вырвалась из штаба и полетела по Клинцам. К штабу сбегались бойцы, рабочие, крестьяне. Раздавались возгласы, высоко вверх взлетали шапки, кто-то из богунцев, самый горячий, салютовал немецкой революции.
…Вечером богунцы выступили в поход на Гомель.
Глава одиннадцатая
Они оба испуганно отшатнулись от Шульца. Владимир Викторович вытер платочком сразу вспотевшие виски, а Глафира Платоновна в полуобмороке упала на стул.
— О-о!.. О-о!.. Какой ужас!.. Какой ужас!..
Шульц не отходил от дверей. У него дрожали руки и ноги, как у паралитика, глаза вот-вот, казалось, выскочат из орбит. Его всегда элегантная прическа растрепалась, в уголках мясистых толстых губ сбилась пена.
— Слышите, вы? В Германии произошла революция!.. О-о, революция!.. — несколько раз повторил он. — Мой рядовой Карл Нейман при всех солдатах сказал мне, что я уже не буду гонять его в полной выкладке по улице! Я уже не имею права!.. Солдат не слушается офицера!.. На что способна такая армия?.. Позор для Германии!.. — он кричал во весь голос, в исступлении топал ногами. Он проклинал большевиков и предсказывал гибель человечества. — Вы слышите — в Германии революция!..
Вбежала Нина Дмитриевна и подала Шульцу стакан воды. Его лицо исказилось, он подержал стакан в руках и швырнул его на пол. Стакан разлетелся на мелкие осколки. Из спальни, опираясь на палку, вышел Платон Антонович.
— Господин Шульц сегодня рано разгулялся…
— Папа, в Германии началась вакханалия! Вильгельма, как Николая Романова, скинули с престола. Солдаты не подчиняются офицерам. Господин Шульц переживает кризис…
Платону Антоновичу не успели подставить кресло. Он взмахнул руками, слабые ноги не выдержали тяжести тела, и он, как мешок, свалился на пол. Рыхлов бросился к тестю.
— Воды!..
Нина Дмитриевна упала на колени возле своего мужа. Рыхлов схватил со стола графин, брызгал воду в лицо тестю. Шульц отобрал у Рыхлова графин и смочил виски Глафире Платоновне, бившейся в истерике.
— Помогите мне! — грубо крикнул Рыхлов.
Шульц растерянно бросился на помощь Владимиру Викторовичу. Они отнесли старого Соболевского на постель. Он едва дышал. Рыхлов пощупал пульс. Сердце еле-еле билось. Лицо старика покрыла мертвенная бледность.
— Ваше известие, господин Шульц, убило его. Он не выживет! — оба, опустив головы, вышли из комнаты. Глафира Платоновна лежала в глубоком кресле. Шульц достал из кармана сигару. Рыхлов тоже закурил.
— Господин Шульц, это конец?..
Офицер молчал. Что он мог ответить Рыхлову? Разве не перед ним он всего несколько месяцев тому назад хвастался железной дисциплиной своих солдат?.. Разве не он, офицер немецкой императорской армии Шульц, говорил, что у немецких солдат есть только одна мысль: выполнить приказ Вильгельма?.. Разве не он ручался, что в Германии никогда не будет революции?.. О, у него хватит ненависти и злобы к тем, кто поднял красный флаг!.. Но чего он, Шульц, стоит без армии?
— Вы покоритесь, господин Шульц? — спросил снова Рыхлов.
Этот русский дворянин просто дурак. К чему эти вопросы? Таких, как он, много в Германии. Их будут тысячи. Их будет больше! Они организуют батальоны и полки мастеров военного дела. Они будут бороться против революции. Победит тот, кто сильнее.
Словно угадывая его мысли, Рыхлов простонал:
— Они идут миллионами. Их бесконечное множество, нельзя пересчитать. Они, как наводнение! Какая стена сможет устоять против них?
Шульц процедил сквозь зубы:
— Ненависть, оружие и холодный разум.
Рыхлов пожал ему руку.
Каждый из них углубился в свои мысли. За окнами поднималась метель, пронзительно свистел ветер, скрипели липы в саду. В соседней комнате тихо стонал Платон Антонович. Рыхлов осмотрел дом, и ему показалось, что в этом гнезде становится холодно: сюда неслышными шагами уже входила катастрофа, страшная и неумолимая. Владимир Викторович почувствовал, как пробежали по спине холодные мурашки. Он схватил офицера за руку.
— Господин Шульц, вы теперь покинете нас? Вы поедете в Германию? А я?.. Господин Шульц, я не могу здесь сидеть и ждать смерти!.. Пусть он, — Рыхлов кивнул по направлению к соседней комнате, — умирает. Я жить хочу!..
Шульц поднял глаза. В них зажглись злые огоньки.
— Вы и действовать можете, или только говорить?
Рыхлов понял этот укор. Он стремительно наклонился к Шульцу.
— Я — кадровый офицер. Я смогу взять в руки винтовку. Я смогу рас-стре-ливать! — он перевел дыхание, кивнул головой на кресло. — Она будет перевязывать наши раны! Я так понял, господин Шульц?
Офицер кивнул: Рыхлов его правильно понял, да, Шульц думал об этом. Он закурил снова.
— Господин Рыхлов, в России начинается гражданская война. Идите в лагерь своих единомышленников! Все!
Шульц поднялся. Поклонился дамам, пожал руку Рыхлова, как руку союзника, и быстро вышел из комнаты.
В школе митинговали солдаты. Когда Шульц появился на пороге, они на минуту затихли. Вперед вышел Карл Нейман. Держался он свободно, насмешливо посматривая на своего офицера.
— Господин Шульц, мы постановили немедленно возвращаться домой.
Шульц отвел глаза. На виске предательски дрожала жилка. Солдаты постановили, не спросив офицера! Они себе слишком много позволяют!.. Шульцу захотелось размахнуться и ударить рядового Неймана, но за спиной Неймана стояли две сотни таких же, как он… Жилка на виске еще сильнее задрожала.
— Приготовиться… Завтра утром мы выступаем на Макошин… Капрал, зайдите ко мне!
Шульц почти побежал в свою комнату. Кто-то из солдат засмеялся. Этот смех холодом пронизал все существо офицера. Он никак не мог попасть ключом в замочную скважину. Капрал взял у него из рук ключ, отпер комнату. Шульц плотно прикрыл двери.
— Капрал, командование ротой я передаю вам! Я уеду на станцию. Свяжусь с штабом полка… Идите!
Капрал щелкнул каблуками, повернулся, ушел. Шульц сгреб со стола бумаги, книги, карты и бросил в печь. Дрожащими руками поднес спички. Огонь весело побежал по десятиверсткам, которые вели Шульца из далекой Германии в Боровичи. Шульц раскрыл чемодан. В огонь полетели цветные открытки, фотографии, белье. Он смотрел, как огонь жадно поедал то, что ему, офицеру, теперь было уже ненужным. Шульц выхватил из шкафа бутылку коньяку и прямо из горлышка стал пить. Приятная теплота разлилась по всему телу. Он зашатался и присел в кресло. Как он, Генрих Шульц, мог так ошибиться?.. Он обещал своей Эльзе вернуться в погонах полковника. Полковник! Х-ха!.. И это известие о революции…
— Если бы кто-нибудь сказал мне, что я, офицер армии кайзера, Шульц, буду удирать от своих же солдат, я б его расстрелял! — он сжал кулак и погрозил куда-то в пространство. И вдруг он вспомнил слова: «Не считайте себя гарантированными от революции». Кто их сказал? Когда?.. A-а, это тогда на банкете! Шульц почувствовал, что его щеки горят. Ему показалось даже, что он слышит в комнате звон пощечины. О-о! С каким наслаждением он расстрелял бы этого Бровченко!
Шульц заскрипел зубами. Но… Он вскочил, спрятал в карман деньги, личные документы, проверил револьвер, запер комнату и выбежал на крыльцо.
— Лошадь!..
Солдат подвел оседланную лошадь. Шульц вскочил в седло и помчался по направлению к станции. Судьба роты больше не интересовала офицера. Он, как мог, спасал себя.
Рано утром немцы выступали из Боровичей. Торопливо и тревожно протрубила труба. Рота быстро строилась на улице, солдаты уложили свои вещи на повозки, капрал отдал команду, и рота двинулась в путь. Без песен, без громкого окрика офицера: «в ногу!» — солдаты вышли к оврагу, спустились на шоссе, ведущее к Макошину. Впереди, где-то возле Гомеля, гремели орудия, далекие орудийные выстрелы богунцев подгоняли немецкую роту. Солдаты шли быстрее. В глазах у многих была тревога: «богунцы могут отрезать отступление…» Солдаты шли быстрее и не оглядывались на Боровичи, где они, по приказу господина Шульца, обагрили свои руки кровью невинных крестьян. Карл Нейман уносил в своем сердце горечь. Его потрясло бегство офицера. Теперь Карл раскусил Шульца. Офицер был не только исключительно жестоким, он был трусом. Он привел роту в село, преследовал партизан, расстрелял невинных стариков, избивал солдат, а когда солдаты заявили, что и они — живые люди и имеют свои желания, он испугался, не посмел посмотреть им в глаза и удрал, обманув всю роту. Карл сжимал кулаки, пальцы невольно впивались в приклад винтовки. И где-то в глубине сознания родилось предчувствие, что он еще встретится с господином Шульцем. Какая это будет встреча, Карл не знал, но чувство подсказывало, что они окажутся в разных лагерях. За десять месяцев пребывания на Украине Карл Нейман понял, чего хотят эти люди, которые борются с немцами. Недаром их так жестоко преследовал господин Шульц. Ведь это они хотят, чтоб он, Карл Нейман, стал человеком, чтобы Крупп не смел его выбрасывать за ворота завода и гнать на фронт! Карл Нейман знал, что у коммунистов смелая мечта — отобрать у Круппа заводы и отдать их рабочим. Теперь это уже не мечта! В России рабочий — хозяин завода. Пламя революции горит и в Германии. О-о, Карл Нейман знает теперь, где его место! В предстоящих боях мишенью для его выстрелов будет господин Шульц…
И он шел еще быстрее. Карл Нейман спешил стать в ряды тех, которые уже вышли на баррикады…
В Боровичах — настороженная тишина. За селом плясали зимние ветры и метались отряды гайдамаков. Из-за Десны доносились далекие еще орудийные выстрелы. В сердца боровичан они вселяли надежду, а в сердце Рыхлова — страх. Он торопливо собрал самые необходимые вещи, заставил Глафиру Платоновну надеть свой костюм сестры милосердия (вот когда он пригодился!) и постучал в спальню к тестю. Платон Антонович, желтый, с запавшими глазами, похожий на смерть, как ее рисуют, лежал навзничь на пуховых перинах, сложив свои желтые костлявые руки на впалой груди. Рыхлову ударил в лицо тяжелый, пропитанный домашними лекарствами воздух. Рыхлов открыл форточку. В комнату ворвался раскатистый гул орудий из-за Десны.
— Стреляют?.. — испуганно прошептал Платон Антонович. Рыхлов, скрывая собственный страх, деланно-спокойно ответил:
— Немцы б-большевиков г-громят.
Соболевский долго смотрел на него. На лице появились красные пятна. Вздулись жилы, задрожали…
— Вы… вы… лжете!..
Рыхлов не ответил. Он не слышал этих слов. Ему в эту минуту показалось, что он видит тестя в последний раз, и чем дольше вглядывался в желтое лицо Платона Антоновича, в его серые, безжизненные глаза, тем больше убеждался, что тестю осталось жить считанные дни. Жалости к тестю не было. Это был уже труп. Глафира Платоновна опустилась на колени. Из ее померкших глаз катились слезы. Она всхлипывала. Рыхлов испугался, что у нее начнется истерика, грубо схватил жену за руку. Стеклянные глаза Соболевского смотрели в потолок.
— Ма-ма! — вскрикнула Глафира Платоновна, обнимая Нину Дмитриевну. Рыхлов взял чемодан и направился к дверям.
— Прощайте!
Дом дрожал от орудийных выстрелов. Рыхлов потащил Глафиру Платоновну на улицу. Возле домика Бровченко Глафира Платоновна нерешительно остановилась. Рыхлов сделал несколько шагов мимо ворот, вернулся, вбежал во двор и широко распахнул двери в кухню, где находились Татьяна Платоновна, Ксана и Муся.
— Ненавижу!.. Проклинаю!.. Встречу вашего мужицкого офицера — сам расстреляю!..
Глафира Платоновна проскользнула вперед, с минуту стояла между мужем и сестрой. Перед глазами всплыло желтое лицо отца.
— Проклинаю!
— Вон! — ответила бледная от гнева Муся.
Глафира Платоновна вскрикнула и первой выбежала из комнаты. Рыхлов догнал ее в воротах. Они заспешили по пустым улицам.
…На станции поезда «а Бахмач не было. Поезда шли на Гомель. Вагоны были забиты немецкими солдатами. Остатки кайзеровской армии удирали с Украины. Вскоре прибыл эшелон гайдамаков. Из пассажирского вагона выскочил офицер, прочел надпись на дверях станции и обратился к Рыхлову:
— Мост через Десну далеко?
— Восемь километров. Скажите, господин офицер, как проехать в Киев?
Офицер насмешливо оглядел Рыхлова, потом посмотрел на Глафиру Платоновну.
— Кто вы такие?
Доставая документы, Глафира Платоновна расстегнула пальто, и на ее груди засиял красный крест. Офицер смотрел одним глазом в документы, другим на высокую грудь женщины.
— Предлагаю вам место в моем эшелоне! С богом — против богунцев!
Рыхловы пошли вслед за офицерами.
Выстрелы за Десной судорогой отдавались в сердце Федора Трофимовича. Он не отходил от высокого забора, прислушиваясь к раскатистому грому орудий.
— Городню, должно быть, уже взяли!.. — мелькала у него невольная догадка. — Завтра-послезавтра здесь будут…
Из-за печки он вытащил винтовку, разобрал ее, стал смазывать части. Глядя на отца, и Иван стал чистить оружие. Они делали это молча. Договариваться незачем было, отец и сын без слов понимали друг друга.
Вечером, когда через Боровичи проходил конный отряд гайдамаков, Иван оседлал коня, надел синюю праздничную чемерку, смушковую шапку, стянул грудь патронными лентами и подошел к отцу.
— Там виднее, тато. Благословите!
Писарчук взял коня за повод, снял шапку и с обнаженной головой вывел всадника за ворота.
— Счастливой дороги!.. Не забудь, Иван, чья кровь течет в твоих жилах…
Всадник дал шпоры. Конь затанцевал, рванул с места и споткнулся. Иван едва усидел в седле. Отец заломил руки. С губ его сорвалось проклятие. Сын этого не слышал — конь уже вынес его на самый конец улицы… Писарчук долго стоял у ворот. С севера дул декабрьский ветер со снегом. Ветер приносил эхо выстрелов, и Писарчуку иногда казалось, что он слышит возгласы победителей. Затем он вернулся в дом, набросил на плечо ремень винтовки и ушел со двора. Улицы были безлюдными. Наступала ночь — снежная и морозная. Молчаливо стояли хаты — темные, неосвещенные. Трещал лед на Лоши — эхо долго катилось по реке… Писарчук постучал в окно к Маргеле и слышал: в хате кашлянули, но к дверям никто не подходил.
— Открой! — уже со злостью постучал Писарчук. Скрипнул засов наружных дверей, и Федор Трофимович переступил порог. Маргела стоял в одном белье, загораживая двери в комнату.
— Оденься!.. Позовешь всех наших!
Маргела засуетился, застучал сапогами, чиркнул спичкой.
— Не нужно света!
Маргела молча выбежал из хаты. Писарчук, не раздеваясь, сел у стола. Под печкой пел сверчок. Скребла мышь. За дверью в комнате кашлял во сне ребенок. За окнами завывала метель. Земля вздрагивала от далеких орудийных выстрелов. «Это конец», — подумал Писарчук. Вскочил, забегал по комнате, расстегнул ворот кожуха — ему не хватало воздуха. Комната стала тес* ной, словно гроб. Потолок падал на плечи, давил к земле. Писарчук толкнул ногой дверь в сени, ворвалась струя морозного воздуха. В хате похолодало.
— Ребенка простудите… — крикнула женщина из второй комнаты. — Закройте…
Писарчук прикрыл двери и в изнеможении снова присел, нащупал табак на печи — вдруг захотелось курить. Из какой-то книги он вырвал кусочек бумаги, растер на ладони лист махорки-рубанки, задубелыми пальцами свернул цыгарку и вспомнил, что Маргела забросил спички на печь… Писарчук долго шарил пальцами в темноте, пока, наконец, не нашел их. Он затягивался дымом, кашлял, чувствовал горечь во рту и долго сплевывал на пол. Немного успокоившись, Федор Трофимович присел к окну. Теперь он снова мог думать и принимать решения. Он должен знать, что говорить своим людям. Вот сейчас они придут…
…Они вошли все вместе, принесли с собой холод и тревогу. Расселись на скамьях подальше друг от друга. В хате запахло дублеными кожухами. Никто из вошедших не начинал разговора.
— Спите? Пушки большевистские вас не тревожат? — сквозь зубы процедил Писарчук.
Кожухи задвигались в темноте. Кто-то кашлянул, прикрывая ладонью рот. Под печью затихли сверчок и мышь. Громче завыл ветер за окнами. Один за другим донеслись глухие удары орудий.
— Конец… — тихо прошептал один из сыновей Луки Орищенко.
Писарчук услышал.
— Конец? Кто сказал?.. Я этого не хочу! Сына проводил сегодня! Оружие почистил, патроны просушил! А вы готовы?
— Куда?.. — не поняв его, спросил Орищенко-отец.
— A-а, куда? Берите оружие и выходите. Не пустим их!..
В хате снова стало тихо. Затем, в углу поднялся Лука и подошел к столу.
— Какие из нас воины, Трофимович? Мы с нашими односельчанами умеем воевать, а винтовки я и в руках никогда не держал… Закопайте хлеб, добро, с властью как-нибудь перемелется… Я о себе и своих сыновьях скажу… Разве люди видели, чтоб мы что-нибудь затевали против их власти, пусть она вовек не возвращается!.. Мы немцев и гайдамаков не водили к Надводнюку, и в старосты нас не избирали. Может, нас беда как-нибудь обойдет… Вот вам, Трофимович, другое дело! Вы уж как-нибудь подумайте… Так что с этими словами мы и домой пойдем, и не задерживайте нас, Трофимович, время позднее… — он надел шапку и направился к дверям. За ним встали его сыновья. Писарчук этого не ожидал. Слова старого Орищенко оглушили его. Он даже не смог подняться, чтобы задержать Орищенко, хотя это и было единственным его желанием. Под ногами зашатался пол. Потолок снова давил на плечи. Писарчук глубоко дышал, но воздуха не хватало.
— Шкуру спасаете!.. — прохрипел он и застыл над столом.
Маргела и Варивода придвинулись ближе. Молчали. Им не о чем было говорить. Как три волка, которых охотники отбили от стаи и выгнали на опушку, они искали дорогу и не знали, куда бы можно было податься. И они выбрали свою дорогу — быть готовыми к бегству.
В тот вечер на гору вышли две женщины. Злой ветер бросал им снег в глаза. Женщины, прижавшись друг к другу, стояли под дикой грушей — лицом к северному ветру. Холод не пугал их. Ветер был не страшен. Они не вздрагивали от далеких орудийных выстрелов, считали взрывы снарядов, напрягали зрение и слух, но густой снег закрывал отблески выстрелов. За спиной женщин поднимались очертания пожарища. Стояли черные столбы — немые свидетели ненависти Шульца. На кучи обгорелых обломков ветер наметал сугробы снега. По сугробам со свистом плясала метель. Позади пожарища видно было все село — готовое взбежать на эту гору, встретить тех, кто подает о себе весть орудийным гулом.
— Это уже, верно, через Сновск прошли, — прошептала Ульяна на ухо Наталке. Наталка обняла подругу, прижалась к ней. На щеку Ульяны скатилась слеза Наталки.
— Летите, соколы, летите быстрее!.. Пусть вам ветры дуют в спину, пусть ваши лошади не знают усталости!.. Пусть ваши винтовки метко стреляют и пули не пропустят врага!..
И словно в ответ женщинам все чаще и чаще за Десной стреляли орудия, ветер доносил протяжные взрывы снарядов. Метель завывала все сильнее, словно справляла поминки по погибшим.
Женщины стояли до тех пор, пока не смолкли выстрелы. Ветер мчался издалека через Лошь, вихрем взбегал на гору, засыпал снегом глаза, но уже не слышно было орудийных раскатов. Кто-то победил в этом бою. Но ветер не назвал имени победителя.
Женщины ушли из-под дикой груши и направились в хату Гната Гориченко, который после пожара принял их к себе. Если завтра с утра орудия загрохочут еще ближе — победили Дмитро с Григорием…
Женщины постелили на скамье и легли рядом, как сестры. Мишка прижался к матери.
— Красные уже недалеко… Скоро к нам придут! — оказал мальчик и замолк. Затем он еще тише прошептал: — Я насобирал сотни три патронов и спрятал их под сараем у деда. Отцу отдам для пулемета… Им теперь трудно с патронами… — деловито заключил Мишка.
Руки матери нежно погладили мягкие волосы сына.
В трубе глухо завывала метель.
Через два дня снаряды уже перелетали через Десну, падали под Забужиным хутором, поднимали столбы льда и воды в Лоши, перекапывали огороды в Боровичах. От разрывов вздрагивали стены хат, вылетали стекла из окон. Люди сидели в погребах и оврагах.
Писарчук и Варивода, притаившись в саду, с горы наблюдали за разворачивающимся над Десной боем. Синими густыми пятнами на заснеженном лугу перед Макошином рассыпались гайдамацкие части. От Забужина хутора, прячась в перелесках, к Десне направлялся конный отряд гайдамаков, среди которых был и сын Писарчука, Иван.
Из лесу выполз бронепоезд, сухо кашлянул, и на Макошин, рассекая воздух, полетели снаряды. Падали они где-то в селе, поднимая столбы густого дыма. Высокая Макошинская круча начала дымиться.
— Тю-у-у-у… — резко загудело над лугом, и снаряд разбросал мерзлую землю недалеко от железнодорожного полотна. Бронепоезд отвечал все охотнее, снаряды нащупывали цель.
— Стреляют, чтоб им руки отсохли! Мост нужно взорвать! — шептал Писарчук, недовольный артиллеристами гайдамацкого бронепоезда.
— Ну и что? — тоном знатока сказал Варивода. — Десна замерзла, по льду перейдут.
На Макошинской горе застрочили пулеметы. Пули падали вокруг гайдамаков, рикошетом поднимались вверх и гудели, как шмели, над Боровичами.
Кавалерийский отряд спрятался за деревьями. Огнем пулеметов и винтовок отвечала Макошину пехота. Бронепоезд зачастил из орудий. В Макошине вспыхнул пожар. Ветер разбрасывал огненные факелы, клубы дыма вились над мостом, обвивая Десну. В огонь падали снаряды и снова поднимали в небо обломки зданий, землю, горящие крыши… Синие жупаны «сечевиков» замелькали на подступах к Десне и исчезли из глаз Писарчука. Ветер разнес по лугу и забросил в Боровичи:
— Ненька-а!..
За перелеском блеснули сабли. Кавалерийский отряд развернутым фронтом понесся к Макошину.
— Бьют большевиков… Ура-а-а! Бей!.. — Писарчук выхватил из-под плетня винтовку и устремился вниз с горы. Не оглядывался, не звал своего союзника, оставшегося наверху, а бежал по лугу против ветра. Перед глазами Писарчука на снежном фоне поднимались в пламени дома Макошина, мелькали пятна жупанов, блестели сабли кавалеристов. Он бежал изо всех сил и скоро устал: ему мешал тяжелый дубленый кожух. Писарчук бросил его под куст боярышника и побежал быстрее. Проверил патроны в винтовке и молил бога, чтобы тот оставил ему хоть одного богунда для расправы. От быстрого бега Писарчук задыхался, падал, хватал ладонями снег, глотал его и боялся опоздать. Глаза ел дым пожара… Быстро приближались горбатые, поросшие лозой откосы Десны. Писарчук собрал последние силы и прыгнул вниз.
— Ура-а-а!
— Да здравствует революция-я!
Победный клич богунцев заставил его вскочить. Писарчук выстрелил наугад. Кто-то крикнул:
— Беги, богунцы бьют наших!
Он оторопел и растерянно оглянулся. Гайдамаки взбирались вверх по откосу. Кавалерийский отряд сбился на единственном пологом спуске. Пулемет богунцев поливал их свинцом. По Десне катилось победное «ура!..» Дикий страх охватил Писарчука. Он пополз на откос. Пальцы не слушались, из них текла кровь. Обессилел, бросил винтовку, ухватился за ветку лозы, выбрался наверх, поднялся, чтобы побежать, и вдруг упал лицом прямо в лозу. Спину рассек огонь.
«Это смерть», — шевельнулась догадка в глубине сознания. Писарчук еще раз поднял голову. В глазах стояла муть. В этой мути колесом мелькали синие жупаны и одинокие всадники на лугу. «Конец». Он закинул голову, сжал кулаки, зашатался и упал, подгребая под себя снег.
…Десну перешли батальоны богунцев.
Кто-то с силой открыл двери погреба. Люди припали друг к другу. Ульяна прижимала к себе Мишку. Наталка загораживала их своим телом. Старый Гнат, затаив дыхание, прятал женщин в глубине погреба. Все впились глазами в темноту, туда, где должна была быть ляда, — ее кто-то пытался сорвать с крючка. Снова пришли жупанники? Им еще мало крови, слез, огня? Когда уже все это кончится?
— Не открывайте, не открывайте, — шептала Наталка. Но тот, кто стоял снаружи, был очень настойчив: он дергал за край ляды, стучал кулаками и, наконец, закричал:
— Отзовись, кто жив!
Как гром, прозвучал этот голос в погребе. Мишка плакал, обхватил шею матери, весь дрожал. Мать, чтобы заглушить плач, прикрыла ладонью его рот. Наталка тихим шепотам умоляла мальчика не плакать.
— Да откройте же, дядя Гнат! Это я — Григорий!..
— Григорий!.. Наши!..
Все бросились к лесенке. Хватались руками за перекладины, за ноги того, кто первым добрался к ляде, все вместе открывали ляду и тянулись к Григорию. Он вытаскивал их из погреба, целовал, ставил на ноги.
— А мой Дмитро? — вскрикнула Ульяна.
— Жив, здоров! Сейчас караулы расставляет. Он командиром у нас. Натерпелись, родные?.. — и снова обнимал всех по очереди, незаметно смахивая непрошенные слезы.
— Все глаза проглядели, ожидая вас! Ведь как народ страдал!..
Мишка потрогал пальцами пулеметные ленты на груди у Бояра, опустил голову.
— А я думал — придете, патронов для вас припрятал, а у вас своих вон сколько!..
— Спасибо, Миша, давай их сюда, богунцам они очень нужны!
Мальчик вытащил из-под сарая мешочек с патронами.
— Мы с хлопцами у немцев стянули! — сказал он степенно, как взрослый. Все засмеялись.
— Идемте же в хату! Молодицы, угощайте гостя, — засуетился Гнат.
— После, после! Сейчас все в школу!
Григорий, тяжело вздыхая, смотрел на пожарище и пожимал руку Гнату, приютившему его жену.
По улице ехали подводы с боеприпасами, орудия, санитарные повозки, быстро пролетали всадники, твердым шагом проходили дозоры. Над крыльцом школы уже развевался красный флаг. Люди спешили к школе. На пороге стояли два богунца в походной форме и козыряли каждому боровичанину. В школе и возле нее собирались кучки боровичан, везде были слышны дружеские беседы.
Тут Гордей собрал кружок, там — Шуршавый, а вон там — Дорош рассказывает. В комнате уже успели накурить. Ульяна с Мишкой и Наталка проталкивались к Клесуну.
— Павлуша, а Марьянка?
— Сейчас мать приведет! — он тепло поздоровался с женщинами.
— А мы уже здесь! — послышался голос у дверей. Женщины бросились друг другу в объятия.
— Ишь какая ты богунка! — с легкой завистью сказала Ульяна, оглядывая Марьянку, которая была в шинели и военных сапогах. Ничего в ней не осталось от забитой батрачки. И узнать трудно! Женщины обнялись и отошли в угол, зашептались о своем, интимном. Молодицы допытывались, пустят ли их мужей хоть на часок домой.
— Ты всегда со своим Павлом! После боя как-нибудь да урвете минутку, чтоб повидаться. А мы уже с каких пор своих не видали, — жаловались они Марьянке.
Ульяна внимательно приглядывалась к молодой богунке.
— А на лице у тебя уже есть значки! — хитровато повела черной бровью Ульяна. — Сына родишь, Марьянка!
— Богунец будет!
Женщины счастливо рассмеялись.
Харитина Межова обнимала Павла.
— Здоров, сынок! Как душа моя исстрадалась, детки… Ведь вы завтра дальше махнете?
— Нужно, мама! — Павло впервые назвал Харитину мамой. — Всю Украину освободим от петлюровцев и тогда вернемся домой.
— Конечно, конечно!.. — кивала Харитина, утирая слезы. Мирон в длинной шинели и солдатской шапке ходил среди боровичан.
— Не видали ли вы моего товарища, соседа Гната Гориченко?
— Да где тебя, к черту, узнать! — воскликнул Гнат. Они скинули шапки, долго всматривались друг в друга, потом крепко обнялись.
— Ну, теперь уже пусть пан распрощается с землей! — шептали они. — А Кирей не дождался!… — старики опустили головы.
Дверь широко распахнулась. Богунцы и боровичане почтительно пропустили командиров.
Надводнюк окинул взглядом густую толпу.
— Дмитро! — Ульяна и Мишка бросились ему на грудь.
Толпа снова сомкнулась.
— Кто это рядом с Бровченко, будто знакомый? — спросил Гнат у Мирона.
— Забыл?.. Комиссар Воробьев!.. Золотой человек!..
Воробьев поднялся на парту — крепкий, в шинели, туго стянутой поясом, с биноклем на груди. Поднял руку. В зале стало тихо.
— Дождались? — спросил и умолк. На лице разгладились морщины. Он улыбнулся тепло и ласково, как родной брат.
— Дождались!.. — вырвалось из сотни грудей.
— Дождались!.. — боровичане и богунцы руками, шапками, платками приветствовали победителей.
— Думаете, легко бить врага? Не легко! Но Щорс врагов умеет бить! Он и нас научил, как громить гайдамаков!
— Щорс!..
— Жить ему до ста лет!
— Пусть гремит слава о нем по всей земле!
— Гомель наш! Городня наша! Щорс уже под Черниговом. Наша часть займет Бахмач! Петлюра с гайдамаками удирает на Киев. Туда бежит всякая погань и контра! И из нашего села туда подались Рыхлов, сын Писарчука, Варивода! Знаем! Помещик Соболевский не дождался нас, с перепугу дал дуба!
— Его счастье! — выкрикнул кто-то.
— Да, да! — рассмеялся комиссар Воробьев. — И те не удерут! Догоним! Теперь начало января, а в первых числах февраля мы будем в Киеве! Наша красная дивизия растет! Разве мало вас тут, таких, что завтра пойдут с нами добивать контру?
— Пойдем, товарищ комиссар!
— Хоть сейчас ведите!
— И так в каждом селе! Гайдамаки даже духа щорсовцев боятся… Да и кто сильнее нас? Кто устоит против нас, рабочих и крестьян, когда мы вместе выйдем против врага?
— Правильно, товарищ комиссар! Мы — сила!
— Сейчас нам нужно избрать ревком, чтоб он охранял село, ведь не все кулаки удрали к гайдамакам. Есть такие, что и притаились. Смотреть за ними надо. Сегодня отдохнем, а завтра двинем дальше в поход!
…Поздно вечером боровичане расходились из школы. Хаты были весело освещены. Угощали богунцев всем, что было лучшего в хате. Хотелось вдоволь наговориться, — ведь при немцах и гайдамаках не с кем было отвести душу.
Хозяйки готовили мужьям и сыновьям еду на дорогу и втихомолку плакали. Не одна из них, как Харитина Межова над Павлом и Марьянкой, просидела ночь у изголовья и, может быть, в последний раз, перебирала мозолистыми руками волосы своих детей.
Рано утром колонны богунцев двинулись в путь.
Февраль 1936 г. — ноябрь 1936 г.
г. Чернигов.
Алексей Десняк
Славное имя талантливого украинского писателя Алексея Десняка, погибшего смертью храбрых на 34-м году жизни в грозный час Великой Отечественной войны, надолго сохранится в памяти советских людей. Его творчество — яркий образец того, как нужно художественным словом беззаветно служить своему народу и родной Коммунистической партии. «Партия и комсомол взрастили и воспитали меня. Им, народу советскому, служит мое творчество», — писал А. Десняк в 1938 году.
Алексей Игнатьевич Десняк (Руденко) родился 17 марта 1909 года в семье крестьянина-бедняка на Черниговщине. С малых лет он познал ужасы помещичье-кулацкого произвола над бедными крестьянами, а затем был свидетелем хозяйничанья на Украине немецких оккупантов и их петлюро-гайдамацких сообщников. Впечатления детства, пробудившие в нем классовую ненависть к врагам-эксплуататорам, оставили глубокий след на всю жизнь и послужили впоследствии поводом к написанию многих замечательных произведений, среди которых особо выделяется известный роман «Десну перешли батальоны».
Благодаря Великой Октябрьской социалистической революции, свергнувшей строй помещиков и капиталистов и установившей Советскую власть, Алексей Десняк получил возможность учиться и развить свой писательский талант. В 1926 году после окончания средней школы он поступает в Борзненский сельскохозяйственный техникум, а затем в 1931 году оканчивает Черниговский институт народного просвещения.
Годы учебы А. Десняка в техникуме и институте были наполнены юношеским горением и творческими дерзаниями. К этим годам относится его проба пера. В газетах он печатает свои первые рассказы, принимает активное участие в работе Черниговского литературного объединения.
В 1932 году комсомол рекомендует А. Десняка в областную газету «Більшовик» на журналистскую работу. В газете А. Десняк по-настоящему сформировался как художник слова. Семилетний опыт работы в партийной печати выработал у него чувство нового, научил познавать жизнь, разбираться в сложных идеологических вопросах. А. Десняк никогда не любил сидеть в аппарате редакции, он постоянно ездил в командировки, изучал жизнь, держал связь с народом, зорко подмечал ростки нового, социалистического отношения людей к колхозному труду. Появлявшиеся часто в печати его рассказы служили как бы зарисовками или эскизами к будущим художественным полотнам.
Две темы особенно волновали его в это время: тема коллективизации села и тема гражданской войны. Они проскальзывали в многочисленных газетных очерках и рассказах: «Колхозница-энтузиастка», «Везут хлеб», «Благодарность», «Любовь деда Андрея», «Решил», «Микола Чечет», «Лакированные ботинки» и другие.
В 1937 году выходит из печати большой роман писателя «Десну перешли батальоны», сразу поставивший автора в число лучших писателей советской Украины. Успех романа был необыкновенным. Через год появляются одновременно еще две книги — роман «Удай-река» и повесть «Полк Тимофея Черняка», затем в 1939 году в журнале «Молодий більшовик» печатается роман «Высокое» — первая часть трилогии «Революция продолжается», в 1940 году — роман «Тургайский сокол» и много рассказов. Писатель разрабатывает различные темы, подсказанные жизнью. Главные из них — гражданская война, труд новых людей колхозного села, дружба народов. Его охватывают все новые и новые творческие планы. 5 марта 1939 года Указом Президиума Верховного Совета СССР А. Десняк был награжден орденом «Знак Почета».
С 1940 года А. Десняк работает председателем Львовской организации Союза писателей Украины. Нужно было тщательно разобраться в творчестве западноукраинских писателей разных направлений, помочь им стать «а позиции Советской власти, овладеть методом социалистического реализма. С этой задачей А. Десняк справился блестяще. Верными помощниками ему были С. Тудор, Я. Галан, П. Козланюк, А. Гаврилюк, Я. Кондра и другие. Во Львове под редакцией А. Десняка выходил журнал «Література і мистецтво», вокруг которого группировались передовые силы местных литераторов.
А. Десняк всегда умел совмещать творческую работу с большой общественной деятельностью. Он был избран депутатом Черниговского областного Совета депутатов трудящихся.
С первых дней Великой Отечественной войны А. Десняк словом и штыком принимает активное участие в борьбе против фашистских захватчиков. До последнего дня обороны Киева он вместе с Миколой Шпаком, Юрием Корецким и Миколой Шереметом работает корреспондентом фронтовой газеты «Боевая красноармейская».
Очерки и рассказы А. Десняка фронтового периода зажигали у советских людей чувство ненависти к фашистским захватчикам, воспитывали беззаветную любовь и преданность родной Отчизне, непоколебимую веру в окончательную победу, прославляли героизм и мужество наших воинов. Ярким образцом фронтовой публицистики А. Десняка может служить очерк «Ненависть», который перекликается с известной «Наукой ненависти», написанной в то же время М. Шолоховым. В очерке «Побег» автор показывает неодолимость советского народа в тяжелой борьбе с фашизмом. Герой очерка, советский патриот, верный сын народа, бросает в лицо фашистам: «Вам никогда советскую землю не покорить. Никогда! Запомните!»
Солнечная вера в победу Советской Армии над гитлеровскими бандами пронизывает все фронтовое творчество А. Десняка. И хотя он не дождался славной победы (писатель-боец геройски погиб 25 мая 1942 года), его чудесные произведения служили грозным оружием в борьбе против фашизма, они вселяли в сердца советских воинов мужество, стремление преодолеть все трудности на пути к победе.
Роман «Десну перешли батальоны» освещает героические события, происходившие на Украине в годы Октябрьской революции и гражданской войны. В нем правдиво изображена борьба трудящихся за Советскую власть, борьба против немецких оккупантов, кулаков, петлюровцев и других врагов революции.
Главный образ романа — Дмитро Надводнюк воплощает в себе черты нового человека, рожденного революцией, мужественного борца за коммунистическое будущее.
Под влиянием идей Коммунистической партии Дмитро Надводнюк из простого крестьянина-бедняка вырастает в передового коммуниста-борца, настоящего вожака трудящихся масс. Возвратившись с империалистической войны в родное село Боровичи, Дмитро Надводнюк сколачивает вокруг себя крестьянскую бедноту, бывших фронтовиков на борьбу с кулачеством, за новую жизнь. Но положение усложняется тем, что на помощь помещичье-буржуазному строю приходят немецкие войска. «Конец революции», — думают некоторые неустойчивые элементы. На этом фоне раскрывается мужественный образ Дмитра Надводнюка, его светлый ум и твердая большевистская воля. Временно попав в руки врага, Надводнюк не склоняет головы, ведет себя геройски. «У партии хватит сил поднять восстание против немцев», — уверенно заявляет он.
Наряду с главным героем писатель также мастерски раскрывает образы других представителей народа — Павла Клесуна, Марьянки Межовой, деда Кирея. Они верные помощники коммуниста Надводнюка в борьбе за Советскую власть.
Воплощением братской дружбы украинского и русского народов; выступает в романе образ русского рабочего-коммуниста Михайла Воробьева. Он передает свой опыт подпольной работы молодому поколению революционеров, помогает им подняться до уровня сознательных бойцов пролетарской революции. Опытный коммунист Михаил Воробьев раскрывает Дмитру Надводнюку программу действий: «В селах нужно создавать крестьянские комитеты и немедленно отбирать помещичьи земли». В условиях немецкой оккупации коммунист Воробьев ведет активную подпольную работу по разложению кайзеровской армии, держит тесную связь с партизанскими отрядами. Он советует Дмитру Надводнюку присоединиться со своим отрядом к полкам Николая Щорса.
В последних главах романа очень тепло нарисован образ легендарного героя гражданской войны Николая Щорса, который по заданию Коммунистической партии и В. И. Ленина формировал первые регулярные части Красной Армии для борьбы с германскими захватчиками. Щорс всегда был для бойцов чутким товарищем и в то же время воспитывал их в духе железной, сознательной дисциплины.
Роман «Десну перешли батальоны» с честью выдержал испытание временем. Эта книга до сих пор сохранила свою большую идейно-эстетическую и воспитательную ценность. Она учит наших людей, особенно молодое советское поколение, как нужно любить свою социалистическую Родину и как нужно защищать ее от посягательств врагов.
Мусий Богуцкий.
АЛЕКСЕЙ ДЕСНЯК
ДЕСНУ ПЕРЕШЛИ БАТАЛЬОНЫ
РОМАН
КРЫМИЗДАТ
СИМФЕРОПОЛЬ
1957
Перевод с украинского Р. Скоморовского
Алексей Игнатьевич Десняк.
ДЕСНУ ПЕРЕШЛИ БАТАЛЬОНЫ
Оформление художника Б. Аржекаева.
Редактор Г. Таран.
Художественный редактор Р. Голяхооский.
Технический редактор А. Фисенко.
Корректор С. Касьян.
Объем 13,12 печ. л., 14,11 уч. — изд. л. Формат бумаги 84х1081/32. Тираж 30 000 экз. Сдано в производство 11/I-1957 г. Подписано к печати 9/V-1957 г. Крымоблтиполитография, г. Симферополь, ул Кирова, 23. Заказ № 209. Цена в переплете 5 руб. 75 коп.