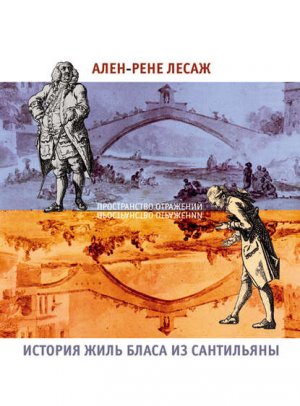
Предуведомление от автора
Поскольку существуют такие люди, которые не могут прочитать книгу, не отождествляя кого-либо с изображенными там порочными или смехотворными характерами, то я заявляю сим хитроумным читателям, что они тщетно станут искать этого сходства в персонажах, встречающихся в настоящем произведении. Признаюсь всенародно: моей единственной целью было показать человеческую жизнь такою, какая она есть, и, видит бог, я не имел намерения изобразить кого-либо особливо. Пусть же никто из читателей не относит на свой счет того, что применимо к другим в такой же мере, как и к нему самому; иначе он, говоря словами Федра [1] , разоблачит себя некстати: «Stulte nudabit animi conscientiam» [2] .
В Кастилии, как и во Франции, встречаются медики, у которых вошло в систему пускать больным несколько больше крови, чем следует. Везде мы видим те же пороки и тех же чудаков. Каюсь, я не всегда точно следовал испанским нравам, и те, кому ведомо, какую беспорядочную жизнь ведут мадридские актерки, пожалуй, упрекнут меня за то, что я недостаточно резко изобразил их распутство; но я счел долгом смягчить картину, дабы приспособить ее к нашим обыкновениям.
Жиль Блас – читателю
Прежде нежели познакомиться с повестью моей жизни, выслушай, друг-читатель, притчу, которую я тебе поведаю [3] .
Два школяра направились вместе из Пеньяфьеля в Саламанку. Ощутив усталость и жажду, остановились они у источника, повстречавшегося им на пути. Когда же они усладили себя водой и предались отдыху, то невзначай заметили подле себя камень на уровне земли, а на нем надпись из нескольких слов, уже слегка стертую временем и копытами скота, которого водили на водопой к этому источнику. Они плеснули на камень воды, чтоб его вымыть, и прочли следующую кастильскую надпись: «Aqui esta encerrada el alma del licenciado Pedra Garsias». (Здесь заключена душа лиценциата Педро Гарсиаса.)
Не успел младший из школяров, юноша живой и легкомысленный, прочитать надпись, как, хохоча во все горло, воскликнул:
– Что за диковинка? Здесь заключена душа… Заключенная душа! Хотел бы я знать, что за чудак изобрел столь смехотворную эпитафию.
С этими словами он встал, чтобы пуститься в путь. Но спутник его, более рассудительный, подумал про себя:
«Здесь кроется какая-то тайна; останусь тут и попытаюсь ее разгадать».
А потому он отпустил товарища одного, а сам, не теряя времени, принялся копать ножом вокруг камня. Он так усердствовал, что ему удалось этот камень приподнять. Под ним нашел школяр кожаный кошель, который раскрыл. Там оказались сто дукатов и записка со следующими словами, написанными по-латыни:
«У тебя хватило ума, чтоб разгадать смысл надписи, а потому будь моим наследником и сделай из моих денег лучшее употребление, чем я».
Обрадованный находкой, школяр положил камень на прежнее место и направился по дороге в Саламанку, унося с собой «душу лиценциата».
Кто бы ты ни был, друг-читатель, ты будешь похож либо на одного, либо на другого из двух этих школяров. Если станешь читать мои похождения, не отдавая должного заключенным в них урокам морали, то не извлечешь никакой пользы из этого труда; но если прочтешь их со вниманием, то найдешь там, как говорит Гораций [4] , полезное, смешанное с приятным.
Книга первая
Глава I О рождении Жиль Бласа и его воспитании
Блас из Сантильяны, родитель мой, прослужив изрядное время в войсках королевства Испанского, вернулся в тот город, из коего был родом. Там он женился на девушке скромного звания, уже не первой молодости, а спустя десять месяцев после их свадьбы появился на свет ваш покорный слуга. Затем они поселились в Овьедо, где принуждены были поступить в услужение: мать нанялась в камеристки, а отец в стремянные [5] . Поскольку у них не было других достатков, кроме жалованья, мне предстояло получить довольно плохое воспитание, не будь у меня в городе дяди-каноника.
Его звали Хиль Перес. Он приходился моей матери старшим братом, а мне был крестным отцом. Представьте себе низенького человечка, ростом в три с половиною фута, чрезмерно толстого, с головой, ушедшей в плечи, – таков был мой дядя. Вообще же он принадлежал к числу духовных особ, помышлявших только о приятностях жизни, сиречь об ублажении утробы, и его пребенда [6] , отнюдь не маленькая, доставляла ему нужные для этого средства.
Он приютил меня с самого младенчества и взял на себя заботу о моем образовании. Я показался ему столь смышленым, что он решил развить мои умственные способности. Он купил букварь и принялся сам обучать меня грамоте; это было ему не менее полезно, чем его ученику, так как, показывая мне буквы, он снова принялся за чтение книг, каковое всегда было у него в большом пренебрежении; благодаря этим усилиям он научился бегло читать требник, чего раньше никогда не умел. Он охотно сам обучил бы меня и латыни, что избавило бы его от расхода, но, увы, бедный Хиль Перес… он не ведал даже и азов этой науки. Не стану утверждать наверняка, но весьма вероятно, что он был самым невежественным каноником во всем капитуле. По крайней мере я слыхал, что он получил свой приход не за ученость, а обязан был этим исключительно признательности неких добрых монахинь, которым негласно оказывал разные услуги и которые благодаря своим знакомствам сумели доставить ему священство без экзамена.
В силу этого дядя был вынужден отдать меня в обучение: он послал меня к доктору Годинесу, слывшему самым искусным педагогом в Овьедо. Я так хорошо воспользовался его наставлениями, что по прошествии пяти-шести лет мог уже несколько разбирать греческих авторов и недурно справляться с латинскими поэтами. Кроме того, я прилежно изучал логику, которая весьма приохотила меня к рассуждениям. Мне так полюбились диспуты, что я останавливал прохожих, равно знакомых и незнакомых, чтоб затевать дискуссии. Иногда попадались мне любители словопрений ирландского пошиба [7] , которые только того и ждали. Стоило тогда взглянуть на наше препирательство. Что за жесты! что за гримасы! что за ужимки! Глаза сверкали яростью, на губах выступала пена, – нас можно было скорее принять за одержимых, нежели за философов.
Тем не менее благодаря этому я приобрел в городе репутацию ученого, чему дядя был очень рад, так как рассудил, что я скоро перестану быть ему в тягость.
– Ну, Жиль Блас, – сказал он мне как-то, – время твоего детства прошло. Тебе уже минуло семнадцать и ты стал смышленым малым; пора подумать о том, чтобы вывести тебя в люди. Я намерен послать тебя в Саламанкский университет. С той сметливостью, которую я в тебе замечаю, ты не преминешь получить хорошую должность. Я дам тебе несколько дукатов на дорогу, а также своего лошака, который стоит не менее десяти пистолей; ты продашь его в Саламанке и истратишь эти деньги на свое содержание, пока не устроишься на место.
Трудно было сделать мне более приятное предложение, ибо я горел желанием постранствовать. Однако у меня хватило выдержки скрыть свою радость: когда дело дошло до отъезда, я притворился, будто огорчен исключительно разлукою с дядей, коему был столь многим обязан, и растрогал этим добряка, который отсыпал мне гораздо больше денег, чем я получил бы, если б он мог читать в глубине моей души. Перед тем как собраться в путь, я отправился обнять отца и мать, которые не поскупились на наставления. Они увещевали меня молить бога за дядю, жить, как должно честному человеку, не впутываться в дурные дела и, особливо, не посягать на чужое добро. После весьма долгих поучений они наградили меня своим благословением, что было единственным благом, какого я от них ожидал. Затем я тотчас же сел на лошака и выехал из города.
Глава II О страхе, испытанном Жиль Бласом по дороге в Пеньяфлор, о том, что он предпринял по прибытии в этот город, и о человеке, с которым там ужинал
Итак, покинув Овьедо, очутился я на пеньяфлорской дороге, в открытом поле, полным хозяином собственных поступков, неважного лошака и сорока добрых дукатов, не считая нескольких реалов, похищенных мною у достопочтенного дяди. Прежде всего я дал волю своему лошаку и позволил ему идти согласно его желанию, т. е. шагом. Бросив поводья, я вынул из кармана дукаты и принялся считать и пересчитывать их в шляпе. Мне никогда еще не приходилось видеть такой кучи денег. Я не уставал рассматривать их и перебирать. Когда я пересчитывал их, вероятно, в двадцатый раз, лошак мой, вздернув голову и уши, внезапно остановился посреди проезжей дороги. Я решил, что он испугался, и принялся разглядывать, какая могла быть тому причина; тут я увидел на земле опрокинутую шляпу, а в ней четки с крупными бусинами, и в ту же минуту услыхал жалобный голос, который произнес следующие слова:
– Сеньор-проезжий, сжальтесь, Христа ради, над бедным изувеченным солдатом; сделайте милость, бросьте сколько-нибудь серебра в эту шляпу, и вам сторицей воздастся на том свете.
Я тотчас же посмотрел в ту сторону, откуда исходил голос, и в двадцати – тридцати шагах увидел под кустом человека, походившего на солдата и целившегося в меня из пищали, дуло которой, показавшееся мне длиннее пики, опиралось на сошку. Я обомлел при виде этого зрелища, заставившего меня трепетать за церковное добро. Быстро спрятав дукаты, вытащил я несколько реалов и, подъехав к шляпе, предназначенной для принятия милостыни от напуганных благодетелей, стал бросать в нее одну монету за другой, чтоб выказать солдату свою щедрость. Он остался доволен моим великодушием и надавал мне столько же благословений, сколько я пинков своему лошаку, дабы как можно скорее уехать от солдата; однако проклятое животное, не считаясь с моим нетерпением, и не думало торопиться: от долгой привычки плестись шагом под моим дядей оно разучилось скакать галопом.
Это приключение показалось мне не очень-то благоприятным предзнаменованием для моего путешествия. Я думал о том, что далеко еще не добрался до Саламанки и что могу, пожалуй, нарваться и на худшую встречу. То, что дядя не поручил меня погонщику мулов [8] , вменял я ему в великую неосторожность. Действительно, ему надлежало позаботиться об этом; но он рассчитал, что мое путешествие обойдется ему дешевле, если он подарит мне своего лошака, и гораздо больше помышлял о сокращении расходов, нежели об опасностях, которые могли угрожать мне в пути. Желая исправить его оплошность, я решил, в случае благополучного прибытия в Пеньяфлор, продать там своего лошака и ехать с погонщиком до Асторги, а оттуда тем же способом до Саламанки. Хотя я никогда не покидал Овьедо, однако знал имена всех городов, лежавших на моем пути, ибо осведомился о том перед отъездом.
Я благополучно прибыл в Пеньяфлор и остановился у ворот постоялого двора, довольно пристойного на вид. Не успел я слезть с лошака, как мне навстречу вышел хозяин, приветствовавший меня с большой учтивостью. Он сам отвязал мой чемодан, взвалил его на плечи и отвел мне комнату, в то время как один из слуг ставил моего лошака на конюшню. Хозяин этот был величайшим болтуном во всей Астурии и столь же большим охотником выкладывать без всякой надобности свои собственные дела, сколь и узнавать чужие; он поведал мне, что его зовут Андрес Коркуэло, что он долго прослужил в королевской армии и что пятнадцать месяцев тому назад уволился со службы, чтоб жениться на девушке из Кастрополя, которая хотя и была несколько черновата лицом, однако же не срамила вывески. Он наговорил мне еще кучу всякой всячины, без которой я мог бы отлично обойтись. После таких откровенностей он счел себя вправе требовать от меня того же и спросил, откуда я еду, куда направляюсь и кто я такой. На это мне пришлось отвечать по пунктам, потому что он каждый из задаваемых им вопросов сопровождал глубоким поклоном и при этом столь почтительно просил извинить его любопытство, что у меня не хватало духу ему отказать. Это вовлекло нас в длинную беседу и подало мне повод сообщить о намерении и причинах отделаться от лошака, чтобы ехать дальше с погонщиком. Он весьма одобрил это решение, но не ограничился несколькими словами, а принялся разглагольствовать о всяких неприятных происшествиях, могущих постигнуть меня в дороге, и даже присовокупил несколько мрачных историй о путешественниках. Я думал, что он никогда не кончит. Тем не менее он умолк, сказав, что если я хочу продать лошака, то он знает честного барышника, который его купит. Я отвечал, что он меня очень обяжет, если пошлет за барышником; но Коркуэло услужливо отправился к нему сам.
Вскоре он вернулся с названным человеком, которого и представил мне, рассыпаясь в похвалах его честности. Мы втроем пошли на двор, куда вывели и моего лошака. Его несколько раз поводили взад и вперед перед барышником, который принялся рассматривать животное с ног до головы. При этом он не преминул сказать о нем много дурного. Признаюсь, что много хорошего и нельзя было сказать, но, будь это даже лошак самого папы, барышник все равно бы его охаял. Так, он уверял, что лошак наделен всеми существующими пороками, и, чтоб вернее меня убедить, ссылался на хозяина, у которого, вероятно, были свои причины с ним соглашаться.
– За сколько же вы рассчитываете продать эту негодную скотину? – равнодушно спросил меня барышник.
После похвал, которыми он его осыпал, а также аттестации сеньора Коркуэло, которого я считал искренним человеком и хорошим знатоком, я был готов отдать лошака хоть даром; поэтому я сказал торговцу, что полагаюсь на его честность: пусть оценит животное по совести, а я удовлетворюсь его оценкой. Тогда, строя из себя честного человека, он возразил мне, что, упомянув о совести, я затронул его слабое место. Действительно, оно было у него не из сильных, так как вместо того, чтоб определить стоимость лошака в десять или двадцать пистолей, как сделал дядя, он не постыдился предложить мне три дуката, которые я принял с неменьшей радостью, чем если б нажил на этой сделке.
После того как я столь выгодно отделался от лошака, хозяин повел меня к погонщику, который на следующий день намеревался ехать в Асторгу. Этот погонщик сказал мне, что тронется в путь до рассвета и что сам придет меня разбудить. Мы договорились о цене как за наем лошака, так и за харчи. Когда все было обусловлено, я вернулся на постоялый двор вместе с Коркуэло, который по дороге принялся рассказывать мне историю погонщика и сообщил все, что об этом говорили в городе. Он собирался оглушать меня и дальше своей невыносимой болтовней, но тут, к счастью, его прервал человек, обратившийся к нему с большой учтивостью.
Я покинул их и продолжал путь, не подозревая, что этот разговор может иметь ко мне какое-нибудь отношение.
Придя на постоялый двор, я потребовал ужин. День был постный, и мне стали готовить яичницу. Пока ее стряпали, я разговорился с хозяйкой, которую до того не видал. Она показалась мне довольно приглядной; в обхождении же она была столь бойка, что, не предупреди меня о том муж, я б и сам понял, почему эта харчевня привлекала так много посетителей. Когда подали заказанную мною яичницу, я уселся один за стол. Не успел я проглотить и первого куска, как вошел хозяин в сопровождении того человека, который остановил его на улице. Кавалер этот носил длинную рапиру, и на глаз ему можно было дать лет тридцать. Он подошел ко мне с восторженным видом [9] .
– Сеньор студент, – сказал он, – я сейчас только узнал, что вы не кто иной, как сеньор Жиль Блас из Сантильяны, украшение Овьедо и светоч философии. Возможно ли, что вы – тот наиученейший человек, тот светлый ум, слава коего столь велика в здешних краях? Вы даже не ведаете, – продолжал он, обращаясь к хозяину и к хозяйке, – вы даже не ведаете того, кого у себя принимаете. В вашем доме – сокровище: вы зрите в сем благородном сеньоре восьмое чудо света.
Затем повернувшись ко мне, он обнял меня за шею и продолжал:
– Простите мою восторженность, я не в силах совладеть с радостью, которую вызывает во мне ваше присутствие.
Я не смог ответить ему тотчас же, ибо он так сжал меня, что мне невозможно было дышать; но, высвободив, наконец, голову из его объятий, я сказал ему:
– Сеньор кавальеро, я не подозревал, что имя мое столь известно в Пеньяфлоре.
– Как? Известно? – продолжал он о том же тоне. – Мы отмечаем всех великих людей на двадцать миль в окружности. Вас почитают здесь за чудо, и, безусловно, настанет день, когда Испания будет так же гордиться тем, что произвела вас на свет, как Греция – рождением своих семи мудрецов.
За этой тирадой последовали новые объятия, которые мне пришлось выдержать, рискуя подвергнуться участи Антея [10] . Обладай я хоть малейшим жизненным опытом, я не поверил бы его восторгам и гиперболам; я раскусил бы по его чрезмерной льстивости, что имею дело с одним из тех паразитов, встречающихся во всех городах, которые, увидев приезжего, заводят с ним знакомство, чтоб набить брюхо за его счет; но молодость моя и тщеславие побудили меня судить иначе. Мой поклонник показался мне чрезвычайно вежливым человеком, и я пригласил его отужинать со мной.
– О! С величайшим удовольствием! – воскликнул он. – Я слишком признателен судьбе за встречу с прославленным Жиль Бласом из Сантильяны, чтоб не использовать такую удачу возможно дольше. Хоть я и не чувствую особенного аппетита, – продолжал он, – все же сяду за стол компании ради и съем несколько кусочков из вежливости.
С этими словами мой панегирист уселся напротив меня. Ему подали прибор. Он набросился на яичницу с такой жадностью, точно не ел три дня. По усердию, с которым он за нее принялся, я увидел, что он справится с нею очень скоро. Поэтому я заказал вторую, которую приготовили так быстро, что нам подали ее, когда мы (или, вернее сказать, он) кончали первую. Тем не менее он продолжал усердствовать с той же скоростью и, уплетая за обе щеки, успевал отсыпать мне одну похвалу за другой, что не мало льстило самодовольству моей скромной особы. При этом он часто прикладывался к стакану то за мое здоровье, то за здоровье моих родителей, счастье коих обладать таким сыном, как я, он не уставал превозносить. В то же время он подливал вина и в мой стакан и уговаривал не отставать. Я недурно отвечал на все здравицы, которые он провозглашал в мою честь; это, а также его льстивые речи привели меня незаметно в столь хорошее настроение, что, видя вторую яичницу наполовину съеденной, я спросил хозяина, не найдется ли у него рыбы. Сеньор Коркуэло, который, по-видимому, был заодно с паразитом, ответил мне на это:
– У меня есть отменная форель, но она обойдется дорого тому, кто вздумает ею полакомиться. Жирен для вас этот кусочек.
– Жирен? – воскликнул мой прихвостень, повышая голос. – Да вы не в своем уме, любезный; знайте, что нет у вас ничего такого, что было бы слишком хорошо для сеньора Жиль Бласа из Сантильяны, который заслуживает, чтоб с ним обращались, как с царственной особой.
Я остался весьма доволен его отповедью трактирщику, ибо он этим только опередил мое намерение. Чувствуя себя оскорбленным, я немедленно сказал Коркуэло:
– Тащите сюда вашу форель и не беспокойтесь об остальном.
Хозяин, который только того и ждал, принялся приправлять рыбу и вскоре поставил ее перед нами. При виде этого нового блюда глаза моего прихлебателя так и заискрились радостью, и он снова выполнил акт вежливости, то есть налег на рыбу так же, как перед тем на яичницу. Однако же и ему пришлось сдаться из опасения последствий, так как он наелся до отвала. Наконец, напившись и насытившись всласть, он решил прикончить эту комедию.
– Сеньор Жиль Блас, – сказал он, вставая из-за стола, – я слишком доволен вашим превосходным угощением, чтоб покинуть вас, не давши полезного совета, в котором вы, по-видимому, нуждаетесь. Итак, впредь остерегайтесь похвал. Не доверяйте незнакомцам. Вам могут встретиться такие, которые, как я, захотят позабавиться над вашим легковерием, а может быть, зайдут и еще дальше; не будьте у них в дураках и не верьте всякому на слово, что вы восьмое чудо света.
Сказав это, он расхохотался мне в лицо и удалился.
Эта насмешка была для меня не менее чувствительна, чем величайшие несчастья, приключавшиеся со мной впоследствии. Я не мог утешиться, что дал так грубо себя провести, или, вернее, не мог примириться с чувством уязвленной гордости.
«Как? – воскликнул я, – этот негодяй просто насмехался надо мной? Он остановил моего хозяина лишь для того, чтоб выпытать про меня всю подноготную, а скорее всего, оба они были заодно. Ах, бедный Жиль Блас! Умри со стыда: ведь ты дал им отличный повод тебя одурачить. Они состряпают из этого презабавную историю, которая, быть может, дойдет до Овьедо и доставит тебе там великую честь. Родители твои раскаются, что так усердно напутствовали болвана: зачем было предостерегать меня, чтоб я никого не обманывал, они лучше посоветовали бы мне самому не попадаться впросак».
Терзаемый досадой и волнуемый этими обидными мыслями, я заперся у себя в горнице и лег на постель, но заснуть мне не удалось, и не успел я еще сомкнуть глаз, как явился погонщик, который только меня и дожидался, чтоб отправиться в путь. Я тотчас же встал, и, пока я одевался, пришел Коркуэло со счетом, в котором форель, разумеется, не была забыта; мне не только пришлось заплатить все, что он за нее запросил, но, отдавая ему деньги, еще выслушать, к своему огорчению, как этот живодер вспоминал про вчерашнюю историю. Заплатив втридорога за ужин, оказавшийся для меня столь неудобоваримым, я захватил чемодан и отправился к погонщику, посылая ко всем чертям объедалу, хозяина и его постоялый двор.
Глава III О соблазне, в который впал погонщик по дороге; о том, что из сего воспоследовало, и как Жиль Блас, убегая от Сциллы, попал в Харибду
Погонщик сопровождал не одного меня; с нами ехали еще два пеньяфлорских барчука, молодой псаломщик из Мондонедо, пустившийся в странствия, и юный мещанин из Асторги, возвращавшийся домой в обществе молодой особы, с которой он перед тем обвенчался в Верко. Мы не замедлили перезнакомиться, и каждый сообщил, откуда и куда едет. Новобрачная, несмотря на молодость, была так черномаза и непривлекательна, что мне не доставляло никакого удовольствия смотреть на нее; тем не менее юность и полнота этой особы прельстили погонщика, который вознамерился добиться ее благосклонности. В продолжение всего дня обдумывал он этот славный подвиг и отложил его выполнение до последнего ночлега. Это произошло в Какавелосе. Погонщик предложил нам остановиться на первом постоялом дворе при въезде в местечко. Эта харчевня была расположена скорее в предместье, нежели в самом селении, а хозяин ее был известен погонщику как человек неболтливый и сговорчивый. Наш вожатый позаботился о том, чтобы нас отвели в одну из задних горниц, где предоставил нам спокойно утолить голод. Но к концу ужина он ворвался разъяренный.
– Тысяча смертей! – крикнул он. – Меня обокрали! В моей кожаной сумке было сто пистолей. Не допущу, чтоб они пропали. Сейчас же иду к здешнему судье, а он в таких делах шуток не любит: всех вас будут пытать, пока не повинитесь и не вернете денег.
Сказав это совершенно естественным тоном, он вышел, а мы остались в полном недоумении.
Нам и в голову не приходило заподозрить его в этой уловке, так как мы были слишком мало знакомы, чтобы доверять друг другу. Более того, я питал подозрение к молодому псаломщику, а он, быть может, думал то же самое обо мне. К тому же все мы были порядочными простаками. Мы не имели никакого представления о формальностях, соблюдаемых в таких случаях, и чистосердечно поверили, что нас с места в карьер подвергнут пытке. Поэтому, поддавшись страху, все мы сгоряча выбежали из горницы. Одни бросились на улицу, другие в сад, – каждый искал спасения в бегстве. Юный новобрачный, столь же напуганный мыслью о пытке, сколь и все остальные, пустился наутек, как некий новый Эней [11] , нимало не заботясь о супруге. Тогда погонщик, еще более невоздержанный, чем его мулы, в восторге от того, что его стратегия увенчалась желаемым успехом, направился, – как я узнал впоследствии, – к новобрачной, чтобы похвастаться своей гениальной выдумкой, а также воспользоваться случаем; но сия астурийская Лукреция [12] , которой скверная рожа погонщика придала силы, оказала энергичное сопротивление и принялась кричать во все горло. Патруль, случайно проходивший мимо постоялого двора, который и без того был ему известен как место, достойное внимания полиции, вошел туда и осведомился о причине крика. Хозяин, распевавший на кухне и притворявшийся, что ничего не слышит, был вынужден проводить начальника дозора и стражников в горницу, откуда раздавались крики. Они пришли как раз вовремя: астурийка окончательно выбилась из сил.
Узнав, в чем дело, начальник, человек грубый и крутой, закатил влюбленному погонщику пять или шесть ударов древком своей алебарды и начал поносить его в выражениях, не менее оскорбительных для целомудрия, чем поступок, который их вызвал. Этим, однако, не кончилось: он взял виновного под стражу и отвел к судье вместе с обвинительницей, которая, несмотря на беспорядок своего туалета, пожелала пойти лично и потребовать возмездия за покушение. Судья выслушал новобрачную и, поглядев на нее внимательно, решил, что обвиняемый не заслуживает никакого снисхождения. Он приказал тут же раздеть его и выпороть в своем присутствии; затем он распорядился отправить истицу в Асторгу под эскортом двух стражников за счет и на иждивении делинквента, если муж ее не сыщется до следующего дня.
Что касается меня, то, испуганный, быть может, более прочих, я кинулся в окрестности, пересек не знаю сколько полей и зарослей и, перепрыгивая через все попадавшиеся мне овраги, очутился на опушке леса. Только что собрался я броситься туда и скрыться в самой гуще кустов, как передо мною выросло двое всадников.
– Кто идет? – крикнули они, и так как я от изумления не мог им сразу ответить, то они подъехали ближе.
Приставив мне к груди по пистолету, они потребовали, чтобы я сказал им, кто я такой, откуда иду, что намеревался делать в этом лесу и, в особенности, чтобы я ничего от них не утаивал. Этот способ допроса показался мне не лучше пытки, которую предвещал нам погонщик. Я отвечал, что жил до той поры в Овьедо, а теперь направляюсь в Саламанку, и, сообщив им даже про тревогу в харчевне, сознался, что страх перед пыткой заставил меня обратиться в бегство. Услыхав этот рассказ, свидетельствовавший о моем простодушии, всадники расхохотались и один из них сказал мне:
– Успокойся, друг мой; отправляйся с нами и не бойся ничего: мы доставим тебя в безопасное место.
После этого он приказал мне сесть позади него на лошадь, и мы углубились в лес.
Я не знал, что мне думать об этой встрече, которая, однако, казалось мне, не предвещала ничего зловещего. Если б эти люди, говорил я себе, были грабителями, они обобрали бы меня, а, быть может, даже и убили. Наверное, это какие-нибудь добрые дворяне, живущие в этой местности; заметив мой испуг, они, видимо, сжалились надо мной и из милосердия везут к себе. Но я недолго оставался в неизвестности. Свернув несколько раз, в глубоком молчании, с тропинки на тропинку, мы очутились у подножья пригорка, где и сошли с лошадей.
– Здесь мы живем, – сказал мне один из всадников.
Однако, сколько я ни оглядывался по сторонам, кругом не было видно ни дома, ни хижины, ни вообще какого бы то ни было признака жилья. Между тем, те два человека приподняли большой, заваленный землей и ветвями деревянный трап, который прикрывал начало длинного хода, спускавшегося в подземелье; лошади сами устремились туда, как животные, видимо, к тому привычные. Всадники приказали мне войти вместе с ними; затем они опустили трап с помощью привязанных к нему для этого веревок, – и вот достойный племянник моего дяди Переса оказался пойманным, как крыса в крысоловке.
Глава IV Описание подземелья и того, что Жиль Блас там увидел
Тут мне стало ясно, к какого сорта людям я попал, и не трудно понять, что это открытие рассеяло мои первоначальные опасения. Меня обуял ужас, гораздо более сильный и обоснованный; я решил, что мне предстоит расстаться не только с дукатами, но и с жизнью. Почитая себя, таким образом, жертвой, ведомой на заклание, я шел ни жив ни мертв между двумя своими провожатыми, которые, чувствуя, как я дрожу, увещевали меня отбросить всякий страх. Мы прошли приблизительно шагов двести, все заворачивая и спускаясь, и очутились в конюшне, освещенной двумя большими железными светильниками, подвешенными к своду. Там хранился изрядный запас соломы и стояло несколько бочек с ячменем. Конюшня свободно вмещала до двадцати лошадей; но в это время там были только те две, на которых мы приехали. Старый негр, еще довольно, впрочем, бодрый на вид, привязывал их к стойлу.
Мы вышли из конюшни и при тусклом свете нескольких других светильников (которые, казалось, освещали эти места только для того, чтобы показать весь их ужас) достигли кухни, где старуха поджаривала на жаровне мясо и готовила ужин. Кухню украшали необходимые кухонные принадлежности, и тут же виднелась кладовая, снабженная всевозможными припасами. Стряпуха (наружность ее необходимо описать) была особой лет шестидесяти с лишком. В молодости она, по-видимому, была очень яркой блондинкой, так как время, которое сделало ее волосы седыми, все же оказалось вынужденным пощадить отдельные пряди и оставить им их прежнюю окраску. Помимо оливкового цвета лица, она отличалась заостренным и приподнятым подбородком, а также сильно вытянутыми губами; крупный орлиный нос заглядывал ей в рот, а зрачки глаз были приятнейшего пурпурного цвета.
– Любезная Леонарда, – сказал один из всадников, представляя меня этому прекрасному ангелу тьмы, – вот мы привели к вам молодого человека.
Затем, обернувшись ко мне и заметив, как я бледен и расстроен, он добавил:
– Откинь страх, друг мой: никто не собирается тебя обижать. Нам нужен слуга в помощь нашей стряпухе; ты повстречался нам, и это для тебя великое счастье. Ты заменишь юношу, умершего недели две тому назад. Это был очень хрупкий молодой человек. Ты кажешься мне поздоровее, и не умрешь так скоро. Правда, ты никогда больше не увидишь солнечного света, но зато будешь жить в тепле и кормиться всласть. Дни свои будешь проводить с Леонардой, которая от природы весьма человеколюбива; вообще можешь себе ни в чем не отказывать. А теперь, – добавил он, – я покажу тебе, что ты имеешь дело не с голодранцами.
С этими словами он взял факел и приказал мне следовать за ним.
Мы направились в погреб, где я узрел бесчисленное множество хорошо закупоренных глиняных бутылок и кувшинов, в которых, по его словам, хранилось превосходное вино. Затем он провел меня через ряд помещений. В одних лежали куски полотна, в других шерстяные и шелковые ткани. Я увидел также в одной из горниц груды золота и серебра, не считая множества посуды с разными гербами. После этого я проследовал за ним в большой зал, освещенный тремя медными люстрами, откуда можно было пройти в остальные помещения. Здесь он снова задал мне ряд вопросов. Так, он спросил, как меня зовут и почему я покинул Овьедо. Я удовлетворил его любопытство.
– Послушай, Жиль Блас, – сказал он, – ты покинул родину, чтобы найти хорошее место; так, видно, ты родился и сорочке, раз попал к нам в руки. Я уже говорил тебе, что ты будешь жить у нас среди всяческого изобилия и купаться в золоте и серебре. Кроме того, ты здесь в полной безопасности: это подземелье расположено так, что стражники Священного братства [13] могут сколько угодно рыскать по лесу и все же его не найти. Вход в него известен только мне и моим товарищам. Ты спросишь, пожалуй, как удалось нам вырыть его незаметно для окрестных жителей. Узнай же, друг мой, что это не наших рук дело, а что существует оно с очень давних времен. После того как мавры стали властителями Гренады, Арагонии и почти всей Испании, христиане, не желая подпасть под иго неверных, обратились в бегство [14] и укрылись в здешних местах, в Бискайе и в Астурии, куда удалился также храбрый дон Пелако. Эти беглецы, разбившись на мелкие кучки, жили в горах и лесах. Одни поселились в пещерах, другие вырыли подземелья, к числу которых принадлежит и это. Когда им выпало, наконец, счастье прогнать врагов из Испании, они вернулись в города. С тех пор эти убежища служат приютом для людей нашего ремесла. Правда, Священное братство обнаружило и уничтожило некоторые из них; все же многие еще уцелели, и, благодарение небу, я живу здесь безнаказанно уже около пятнадцати лет. Меня зовут атаман Роландо. Я – главарь шайки, а человек, которого ты видел, один из моих всадников.
Глава V О прибытии в подземелье еще нескольких разбойников и о приятной беседе, которую они вели между собой
Не успел сеньор Роландо довести до конца свою речь, как в зале появилось шесть новых физиономий. То были податаманье и пять разбойников, которые вернулись нагруженные добычей. Они внесли две плетенки, битком набитые сахаром, корицею, перцем, винными ягодами, миндалем и изюмом. Податаманье обратился к Роландо и рассказал, что они отобрали эти корзины у одного бенавентского бакалейщика, прихватив также и его мула. После того как он доложил начальству о своей экспедиции, разбойники отнесли в кладовую добычу, отнятую у бакалейщика. Затем никто уже не помышлял ни о чем, кроме веселья. В зале накрыли большой стол, а меня послали на кухню, где сеньора Леонарда посвятила меня в мои обязанности. Подчинившись злой судьбе, уступил я необходимости и, скрывая скорбь, приготовился обслужить сию честную компанию.
Я начал с того, что украсил поставец серебряными чарками и несколькими глиняными сулеями с тем добрым вином, которое восхвалял мне сеньор Роландо; затем я принес два рагу, и как только я их подал, все всадники уселись за стол. Они принялись кушать с большим аппетитом, а я, стоя позади, следил за тем, чтоб подливать им вино. Хотя мне до той поры никогда не приходилось отправлять должность кравчего, однако же я исполнил все с таким проворством, что удостоился похвал. Капитан вкратце передал им мою историю, которая очень их позабавила. Затем он отозвался обо мне в весьма лестных выражениях; но я уже знал цену похвалам и мог выслушивать их безнаказанно. После этого все принялись меня расхваливать; они говорили, что я, по-видимому, рожден для того, чтоб быть у них виночерпием, и что я во сто раз лучше своего предшественника. А поскольку после его смерти сеньоре Леонарде выпала честь подносить нектар этим богам преисподней, то они лишили ее сего достославного звания, возложив таковое на меня. Итак, я, как новый Ганимед заступил место сей престарелой Гебы.
Огромное блюдо с жарким, поданное вскоре после рагу, окончательно насытило разбойников, и так как они за едой не забывали питья, то спустя некоторое время пришли в хорошее настроение и подняли превеликий шум. Все стали говорить разом. Один принимается рассказывать какую-то историю, другой передает острое словцо, третий кричит, четвертый поет; никто никого не слушает. Наконец Роландо, тщетно пытавшийся вставить свое слово, устал от неразберихи, в которой сам принимал деятельное участие, и заговорил так повелительно, что заставил умолкнуть все сборище.
– Господа, – сказал он им властным тоном, – выслушайте мое предложение. Вместо того, чтоб кричать наперебой и оглушать друг друга, не лучше ли разговаривать, как рассудительные люди. Вот что пришло мне в голову. С тех пор как мы стали товарищами, никто не полюбопытствовал спросить другого, из какой он семьи и какое сцепление обстоятельств заставило его взяться за наше ремесло. Мне кажется, однако, что с этим стоит познакомиться. Давайте, забавы ради, поведаем об этом друг другу.
После шумных изъявлений радости, которыми податаманье и остальные разбойники одобрили предложение своего атамана (точно они могли рассказать о себе что-нибудь хорошее), Роландо первый начал свое повествование следующим образом:
– Узнайте же, господа, что я – единственный сын богатого мадридского горожанина. Семья моя отпраздновала день моего рождения нескончаемыми увеселениями. Отец, будучи тогда уже в преклонных летах, не помнил себя от радости при мысли, что у него есть наследник, а мать решила сама кормить меня грудью. Дед мой с материнской стороны тогда еще был жив. Это был добрый старик, который ни во что больше не вмешивался и только перебирал четки за молитвой или рассказывал о своих военных подвигах, так как он изрядное время служил в войсках и хвалился тем, что не раз понюхал пороху. Само собой так вышло, что я сделался кумиром этих трех людей, которые непрестанно со мною нянчились. Родители боялись, как бы учение не утомило меня в раннем детстве, и потому я провел его в самых ребяческих забавах. «Дети, – говаривал мой родитель, – не должны утруждать себя серьезными занятиями, пока ум их окончательно не созрел». В ожидании этой зрелости я не учился ни читать, ни писать; тем не менее я не терял времени зря. Родитель мой познакомил меня со многими и разными играми. Я постиг в совершенстве картежное искусство, умел метать кости, а дед обучил меня романсам о военных походах, в коих принимал участие. Он ежедневно напевал мне одни и те же песенки, и если после трех месяцев повторений я мог пересказать без ошибки десять – двенадцать стихов, родители приходили в восторг от моей памяти. Не в меньшей степени восхищались они также моим умом, когда я, пользуясь предоставленной мне свободой говорить что угодно, прерывал их беседу и начинал нести всякий вздор. «Ах, как он мил!» – восклицал отец, глядя на меня с восхищением. Мать осыпала меня ласками, а дед плакал от радости. Я совершал также в их присутствии безнаказанно самые непристойные шалости; мне прощалось все – они меня обожали. Между тем, мне шел уже двенадцатый год, а у меня еще не было учителя. Тогда ко мне приставили педагога, но и ему строго-настрого было приказано учить меня без рукоприкладства; ему разрешалось только изредка грозить, чтоб внушить мне немного страху. Но это разрешение не имело благотворных последствий: я либо смеялся над своим наставником, либо со слезами на глазах бежал жаловаться матери или деду, и мне удавалось уверить их, что со мной обошлись очень жестоко. Бедняга тщетно силился отрицать эти поклепы; все было ни к чему: его почитали за изверга и мне верили больше, чем ему. Наконец случилось даже, что я сам себя расцарапал и принялся кричать, точно с меня живьем кожу сдирали; прибежала мать и тут же выгнала учителя из дому, хотя он всячески заверял ее и призывал небо в свидетели, что даже не дотронулся до меня.
Подобным же образом я отделался от всех моих наставников, пока не попался такой, который пришелся мне по вкусу. То был бакалавр из Алкалы. Бесподобный учитель для молодого барича! Он любил женщин, игру и кабаки: я не мог попасть в лучшие руки. Вначале он прибег к ласковому обращению, чтоб заручиться моим расположением; это ему удалось, и он тем самым снискал любовь моих родителей, которые всецело доверили меня его руководству. Им не пришлось в этом раскаяться: благодаря ему я с ранних лет постиг науку жизни. Таская меня по всем местам, к которым сам питал пристрастие, он так приохотил меня к ним, что, если не считать латыни, я стал молодым человеком универсальной учености. Убедившись, что я больше не нуждаюсь в его наставлениях, он отправился предлагать их другим питомцам.
Если в детстве я широко пользовался предоставленной мне дома свободой, то, став господином своих поступков, не знал уже никакого удержа. Первой жертвой моей наглости сделались домашние. Я беспрестанно издевался над отцом и матерью. Но они только посмеивались над моими выходками, и чем больше я себе позволял, тем больше им это нравилось. Вместе с тем я учинял всякие бесчинства в сообществе с молодыми людьми моего склада, и так как наши родители не давали нам достаточно денег, чтоб продолжать такой приятный образ жизни, то каждый тащил из дому все, что плохо лежало; но и этого нам было недостаточно, а потому мы стали воровать по ночам, что служило нам немалым подспорьем. К несчастью, проведал про нас коррехидор [15] . Он хотел взять всю компанию под стражу, но нас предупредили о его злостном намерении. Мы пустились наутек и принялись промышлять по большим дорогам. С тех пор, господа, я, благодарение Богу, состарился в своем ремесле, несмотря на связанные с ним опасности.
На этом атаман закончил, а за ним, как полагалось, начал держать речь податаманье.
– Господа, – сказал он, – воспитание мое, хотя и совершенно обратное тому, какое получил сеньор Роландо, привело к тем же результатам. Родитель мой был мясником; он слыл, вполне справедливо, за самого свирепого человека в своем цехе. А мать по характеру была не ласковее его. Они секли меня в детстве как бы взапуски и закатывали мне ежедневно до тысячи ударов. Малейшая провинность с моей стороны влекла за собой суровейшее наказание. Тщетно молил я со слезами на глазах о пощаде и каялся в совершенном мною поступке – мне ничего не прощали. Вообще же колотили меня по большей части без всякой причины. Когда отец меня бил, то мать, вместо того чтобы заступиться, устремлялась ему на подмогу, точно сам он не мог справиться с этим делом надлежащим образом. Это скверное обхождение внушало мне такую ненависть к отчему дому, что я покинул его, когда мне не было еще и четырнадцати лет. Я направился в Арагонию и, прося милостыню, добрался до Сарагоссы. Там я примкнул к нищим, которые вели довольно счастливую жизнь. Они научили меня притворяться слепым, прикидываться калекой, приклеивать к ногам фальшивые язвы и т. п. Утром мы готовились к своим ролям, как актеры, собиравшиеся играть комедию. Затем каждый спешил на определенный пост, а вечером мы опять сходились и по ночам бражничали за счет тех, кто днем оказывал нам милосердие. Однако мне наскучило жить среди этого жалкого отребья и захотелось попасть в общество более порядочных людей, а потому я примкнул к шулерам. Они обучили меня всяким ловким приемам. Но нам вскоре пришлось покинуть Сарагоссу, так как мы повздорили с одним судейским, который нам покровительствовал. Каждый пошел своей дорогой. Чувствуя призвание к отважным предприятиям, я присоединился к шайке смельчаков, собиравших дань с путешественников, и так полюбился мне их образ жизни, что я с тех пор и не помышлял искать лучшего. А потому, господа, я весьма благодарен своим родителям за то, что они столь дурно со мной обращались; воспитай они меня с несколько меньшей жестокостью, я, без сомненья, был бы теперь жалким мясником и не имел бы чести состоять вашим податаманьем.
– Господа, – сказал тогда молодой разбойник, сидевший между атаманом и податаманьем, – я не стану хвастаться, но моя история гораздо забавнее и запутаннее тех, которые мы только что прослушали. Убежден, что вы с этим согласитесь. Я обязан жизнью крестьянке из окрестностей Севильи. Спустя три недели после моего появления на свет, ей, как женщине молодой, чистоплотной и пригодной в мамки, предложили кормить другого младенца. То был единственный сын одной знатной семьи, только что родившийся в Севилье. Мать охотно приняла это предложение и отправилась за ребенком в город. Ей доверили малютку. Не успела она принести его в деревню, как, найдя некоторое сходство между ним и мной, задумала подменить высокородного младенца собственным сыном, в надежде, что я когда-нибудь отблагодарю ее за эту услугу. Отец мой, будучи не совестливее всякого другого крестьянина, одобрил этот обман, они обменяли наши пеленки, и таким образом сын дона Родриго де Эррера был отправлен вместо меня к другой кормилице, а я был вскормлен собственной матерью под чужим именем.
Что бы ни говорили про инстинкт и силу крови, но родители маленького дворянина легко дались на обман. У них не возникло ни малейшего подозрения относительно того, что с ними проделали, и до семилетнего возраста они постоянно нянчились со мной. Имея в виду сделать из меня безупречного кавалера, они приставили ко мне всевозможных учителей; но даже самым опытным из них иной раз попадаются ученики, от которых нельзя добиться проку; я принадлежал к числу последних: у меня не было никакой склонности к светскому обхождению, и еще меньше пристрастия к наукам, которые мне пытались преподать. Я предпочитал играть со слугами, к которым беспрестанно бегал на кухню и в конюшни. Впрочем, игра не долго оставалась моей главной страстью; мне не было еще и семнадцати лет, как я начал ежедневно напиваться. При этом я приставал ко всем служанкам в доме. В особенности привязался я к одной кухонной девке, которую счел достойной своих первых ухаживаний. Это была толстощекая бабенка, веселый нрав и дородность которой пришлись мне очень по сердцу. Я любезничал с ней столь неосторожно, что даже дон Родриго это заметил. Он сделал мне строгий выговор, попрекнув в низких наклонностях, и, опасаясь, как бы его укоры не пропали втуне, если предмет моей страсти будет находиться у меня на глазах, прогнал мою принцессу со двора.
Такое обращение мне не понравилось, и я решил за него отомстить. Я похитил у супруги дона Родриго ее драгоценности, что составляло уже довольно крупную кражу. Затем я разыскал свою прекрасную Елену, которая перебралась к одной приятельнице-прачке, и увез красавицу среди бела дня, так, чтоб это было ведомо всем и всякому. Мало того: мы вместе поехали на ее родину, и там я торжественно обвенчался с нею как для вящего огорчения семейства Эррера, так и для того, чтоб подать благой пример дворянским сынкам. Спустя три месяца после сего блестящего брака я узнал, что дон Родриго преставился. Я не остался равнодушен к этому известию и тотчас же отправился в Севилью требовать свое добро: но там все переменилось. Моя родная мать скончалась и, умирая, имела нескромность сознаться во всем в присутствии священника своей деревни и других достоверных свидетелей. Сын дона Родриго занял мое или, вернее, свое место, и его признали тем охотнее, чем меньше были довольны мной. Не питая больше никаких надежд с этой стороны и пресытившись своей дородной супругой, я присоединился к рыцарям Фортуны, с которыми и пустился в скитанья.
На этом молодой разбойник кончил свой рассказ, после чего другой сообщил, что он сын купца из Бургоса, что, увлекаемый в молодости рьяным благочестием, он постригся и стал членом весьма строгого ордена, но что спустя несколько лет скинул рясу.
Таким-то образом все восемь разбойников поочередно рассказали свою жизнь, и, послушав их, я не удивился, что вижу этих людей вместе. Затем речь у них зашла о другом. Они принялись строить различные проекты по поводу ближайшего набега и, приняв окончательное решение, встали из-за стола, чтоб пойти спать. Засветив свечи, они разошлись по своим помещениям. Я последовал за атаманом Роландо в его покой, и, в то время как я помогал ему раздеться, он сказал веселым тоном:
– Ну, вот, Жиль Блас, теперь ты видишь, какой образ жизни мы ведем. Мы не перестаем веселиться; ненависть и зависть к нам не закрадываются; никакой свары между нами не бывает, и живем мы согласнее любых монахов. Тебе предстоит здесь очень приятная жизнь, дитя мое, – продолжал он, – ибо не станешь же ты казниться тем, что находишься среди разбойников; по крайней мере, я не считаю тебя таким дураком. А разве другие люди живут иначе? Нет, друг мой, каждый стремится присвоить себе чужое добро; это желание присуще всем, разница – только в приемах. Например, завоеватели отнимают у своих соседей целые государства. Знатные лица берут в долг без отдачи. Банкиры, маклеры, приказчики и все торговцы, как крупные, так и мелкие, не слишком совестливы. Не стану говорить о судейских: всем известно, на что они способны. Надо, однако, признаться, что они человеколюбивее нас, ибо мы нередко лишаем жизни невинных, они же иногда дарят жизнь даже тем, кто достоин казни.
Глава VI О попытке Жиль Бласа убежать и об успехе, которым она увенчалась
После этой апологии своей профессии атаман разбойников улегся в постель, а я вернулся в залу, убрал со стола и привел все в порядок. Затем я пошел на кухню, где Доминго – так звали старого негра – и сеньора Леонарда ужинали, поджидая меня. Хотя я не чувствовал никакого аппетита, однако не преминул к ним подсесть. Есть я не мог, и так как у меня были веские основания выглядеть печальным, то обе сии достойные друг друга фигуры принялись меня утешать, однако же такими речами, которые скорее были способны ввергнуть меня в отчаяние, нежели утолить мою скорбь.
– Чего вы печалитесь, сын мой? – говорила старуха. – Вам скорее надлежало бы радоваться, что вы находитесь здесь. Вы молоды и, как видно, легковерны, – живя в свете, вы скоро сбились бы с пути. Там, без сомнения, нашлось бы немало распутников, которые соблазнили бы вас на всякого рода непристойные дела, тогда как здесь ваша добродетель находится в защищенной гавани.
– Сеньора Леонарда права, – заметил старый негр серьезным тоном. – К сему можно еще добавить, что в мире нет ничего, кроме напастей. Возблагодарите всевышнего, друг мой, за то, что вы сразу избавились от всех житейских опасностей, затруднений и печалей.
Пришлось спокойно выслушать эти речи, ибо я не выиграл бы ничего, если бы стал за них сердиться. Не сомневаюсь даже, что, обнаружь я свой гнев, это только подало бы им повод посмеяться надо мной. Наконец, основательно выпив и закусив, Доминго удалился к себе на конюшню. Леонарда тотчас же взяла светильник и провела меня в погреб, служивший кладбищем для разбойников, умиравших своею смертью, где я узрел жалкое ложе, которое более походило на гроб, нежели на постель.
– Вот ваша спальня, – сказала она, ласково взяв меня за подбородок. – Юноша, место которого вам выпало счастье заступить, спал тут, пока жил среди нас, и продолжает покоиться здесь и после своей кончины. Он дал смерти похитить себя во цвете лет; не будьте таким простаком и не следуйте его примеру.
С этими словами она вручила мне светильник и вернулась на кухню. Поставив его наземь, я бросился на свое печальное ложе не столько с намерением вкусить ночной отдых, сколько для того, чтоб всецело отдаться своим размышлениям.
«О небо! – воскликнул я. – Есть ли участь горше моей? Они хотят лишить меня солнечного света, и, точно недостаточно того, чтобы быть заживо погребенным в восемнадцать лет, я вынужден еще прислуживать ворам, проводить дни среди грабителей, а ночи с мертвецами».
Мысли об этом, казавшиеся мне весьма тягостными и действительно бывшие таковыми, заставили меня проливать горючие слезы. Стократ проклинал я намерение своего дяди отправить меня в Саламанкский университет; я раскаивался в своем страхе перед какавелосским правосудием и был готов подвергнуться пытке. Но, рассудив, что извожу себя напрасными сетованиями, я стал обдумывать средство убежать и сказал сам себе:
«Неужели отсюда невозможно выбраться? Разбойники спят; стряпуха и негр вскоре последуют их примеру; не удастся ли мне, пока они почивают, разыскать с помощью светильника ход, по которому я спустился в этот ад. Пожалуй, у меня не хватит сил, чтоб поднять трап над входом. Однако попытаемся: пусть у меня впоследствии не будет причин попрекать себя. Отчаянье придаст мне сил, и, быть может, попытка окажется удачной».
Таков был грандиозный план, задуманный мною. Как только мне показалось, что Леонарда и Доминго заснули, я поднялся со своего ложа. Я взял светильник и, препоручив себя всем блаженным угодникам, вышел из погреба. Не без труда разобрался я в извилинах этого нового Лабиринта. Все же я добрался до ворот конюшни и наконец увидел желанный коридор. Иду, продвигаясь вперед по направлению к трапу, испытывая радость, смешанную со страхом… но – увы! – посреди коридора натыкаюсь на проклятую железную решетку с прочным запором и со столь частыми прутьями, что я с трудом могу просунуть сквозь них руку. Я оказался в весьма глупом положении, столкнувшись с этим новым препятствием, которого входя не заметил, так как решетка тогда была открыта. Я все же ощупал прутья. Затем я обследовал замок и даже попытался его взломать, как вдруг пять или шесть здоровенных ударов бычачьей жилой обожгли мне спину. Я испустил такой пронзительный крик, что подземелье загудело, и, тотчас же обернувшись, увидел старого негра в рубашке, который держал в одной руке потайной фонарь, а в другой карательное орудие.
– Ах, шельменок! Ты собрался дать тягу? О, не думай, что можешь меня перехитрить: я отлично все слышал. Ты ожидал, что решетка будет открыта, не правда ли? Знай же, друг мой, что она впредь всегда будет на запоре. Если мы уж захотим удержать здесь кого-либо насильно, то он должен быть похитрей тебя, чтоб выбраться отсюда.
Тем временем мой крик всполошил двух-трех разбойников. Вообразив спросонок, что на них нагрянули стражники Священного братства, они вскочили и стали громко сзывать своих товарищей. В мгновение все – на ногах. Они хватают шпаги и карабины и, полуголые, бросаются к тому месту, где мы стояли с Доминго. Не успели они, однако, узнать о причине всполошившего их крика, как тревога сменилась взрывами смеха.
– Как, Жиль Блас, – сказал разбойник-расстрига, – ты не пробыл с нами шести часов, а уже хочешь уходить? Видимо, ты не любишь жить вдали от мира. Что бы ты делал, если б был картезианцем? Ступай спать. На сей раз ты отделаешься ударами, которыми угостил тебя Доминго, но если ты снова попытаешься бежать, то, клянусь святым Варфоломеем, мы живьем сдерем с тебя кожу.
С этими словами он удалился. Остальные разошлись по своим покоям, хохоча от всей души над моей попыткой улизнуть от них. Старый негр, весьма довольный своим подвигом, вернулся к себе на конюшню; я же снова отправился в склеп, где провел остаток ночи в слезах и вздохах.
Глава VII О том, как поступил Жиль Блас за невозможностью поступать иначе
В первые дни я думал, что умру от терзавшей меня печали. Я влачил полуживое существование, но, наконец, мой добрый гений надоумил меня притвориться. Я прикинулся менее грустным, начал смеяться и петь, хотя не питал к тому ни малейшей охоты; словом, я взял себя так в руки, что Леонарда и Доминго попались на эту удочку. Они решили, что птичка начинает привыкать к клетке. Разбойники вообразили то же самое. Наливая им вино, я делал веселое лицо и вмешивался в их разговор, когда находил случай вставить какую-нибудь шутку. Они не только не сердились за такие вольности, но даже находили их забавными.
– Жиль Блас, – сказал мне атаман, когда я как-то вечером смешил их, – ты хорошо сделал, друг мой, что прогнал тоску; я в восторге от твоего веселого нрава и тонкого ума. Человека с первого взгляда не раскусишь; никогда бы не подумал, что ты такой остряк и весельчак.
Остальные тоже осыпали меня кучей похвал и убеждали не менять благожелательных чувств, которые я к ним питал. Словом, разбойники, казалось, были столь довольны мною, что, воспользовавшись благоприятным случаем, я сказал:
– Сеньоры, позвольте мне раскрыть перед вами свою душу. С тех пор, как живу здесь, я чувствую себя совсем другим человеком. Вы освободили меня от предрассудков моего воспитания; сам того не замечая, я проникся вашим духом. Мне полюбилось разбойничье ремесло, и нет у меня более горячего желания, чем удостоиться чести стать вашим собратом и делить с вами опасности походов.
Вся честная компания радостно приветствовала эту речь. Благое мое намерение было одобрено, но разбойники единогласно постановили оставить меня еще некоторое время в прежней должности и испытать мои способности; затем я должен был выйти на промысел, после чего они готовы были удостоить меня звания, которого я добивался, ибо, как говорили они, нельзя отказать молодому человеку, выказывающему столь похвальные наклонности.
Пришлось пересилить себя и по-прежнему отправлять обязанности кравчего. Я был этим весьма раздосадован, так как собирался сделаться разбойником лишь для того, чтобы свободно выезжать вместе с прочими, и надеялся, участвуя в набегах, улучить момент, когда смогу ускользнуть. Одна только эта надежда и поддерживала мою жизнь. Тем не менее ожидание казалось мне слишком долгим, и я неоднократно пытался обмануть бдительность Доминго. Но это было невозможно, он постоянно был начеку; бьюсь об заклад, что и сотня Орфеев не могла бы очаровать этого Цербера [16] . Правда, боясь навлечь на себя подозрение, я не использовал всех способов, которыми мог бы его провести. Он наблюдал за мной, и я принужден был действовать с осторожностью, чтобы не выдать себя. Пришлось, таким образом, положиться на время, установленное разбойниками для моего принятия в шайку, и я ждал его с большим нетерпением, чем если б мне предстояло вступить в компанию откупщиков.
Слава богу, спустя полгода срок этот наступил. Однажды вечером атаман Роландо сказал своим всадникам:
– Господа, надо сдержать слово, данное Жиль Бласу. Я неплохого мнения об этом юноше; он как будто создан для того, чтобы пойти по нашим стопам, и я надеюсь, что мы сделаем из него нечто путное. Пусть едет завтра с нами и попробует стяжать лавры на большой дороге: воспитаем его сами для славных подвигов.
Все разбойники согласились с мнением атамана, и, желая показать, что уже считают меня своим товарищем, они освободили меня от обязанности им прислуживать. Сеньора Леонарда была восстановлена в должности, которой лишилась из-за меня. По настоянию разбойников я снял с себя одежду, состоявшую из простой, весьма потертой сутаны, и облачился в костюм одного недавно ограбленного дворянина, после чего приготовился принять боевое крещение.
Глава VIII Жиль Блас сопровождает разбойников. Подвиг, совершенный им на большой дороге
На исходе одной сентябрьской ночи я наконец вышел из подземелья вместе с разбойниками. Я был вооружен так же, как и они: карабином, парою пистолетов, шпагой и багинетом [17] , и ехал верхом на довольно хорошей лошади, отнятой у того же дворянина, в одежде которого я щеголял. Я так долго прожил в потемках, что забрезживший рассвет ослепил меня; но мало-помалу глаза мои к нему привыкли.
Мы миновали Понферраду и залегли в лесочке, окаймлявшем леонскую дорогу, выбрав такое место, где, будучи сами скрыты от всех, могли беспрепятственно наблюдать за проезжими. Там мы стали поджидать, не пошлет ли нам фортуна хорошее дельце, когда увидели доминиканского монаха, восседавшего, против обыкновения сих смиренных отцов, на плохоньком муле.
– Слава создателю! – воскликнул смеясь атаман. – Вот великолепное дело для Жиль Бласа! Пусть почистит монаха, а мы посмотрим, как он за это возьмется.
Все разбойники согласились с тем, что это поручение действительно является для меня подходящим, и посоветовали мне выполнить его как следует.
– Господа, – сказал я, – вы будете мною довольны. Я раздену монаха до нитки и приведу вам сюда его мула.
– Нет, нет, – возразил Роландо, – мула не надо: он того не стоит. Притащи нам только мошну его преподобия; большего мы от тебя не требуем.
– Хорошо, – сказал я, – да свершится сей первый опыт на глазах у моих учителей, и я надеюсь удостоиться их одобрения.
С этими словами выехал я из лесу и направился к монаху, заклиная небо простить мне поступок, который намеревался совершить, ибо я все же недостаточно долго прожил среди разбойников, чтобы взяться за такое дело без отвращения. Я охотно удрал бы тут же, но у большинства разбойников лошади были лучше моей; заметив, что я пустился наутек, они бросились бы за мной вдогонку и, несомненно, настигли бы меня или дали бы по мне залп из карабинов, от которого мне бы не поздоровилось. Поэтому я не отважился на столь рискованный шаг, а нагнал монаха и, направив на него дуло пистолета, потребовал кошелек. Он тотчас же остановился, пристально взглянул на меня и, по-видимому нисколько не испугавшись, сказал:
– Вы очень молоды, дитя мое, и слишком рано взялись за это греховное ремесло.
– Каким бы греховным оно ни было, отец мой, – отвечал я, – мне все же жаль, что я не принялся за него раньше.
– Что вы говорите, сын мой! – воскликнул сей добрый монах, которому был невдомек истинный смысл моих слов. – Какое ослепление! Позвольте мне представить вам злополучное состояние…
Но тут я поспешно прервал его:
– Довольно морали, ваше преподобие! Я выезжаю на большую дорогу не для того, чтобы слушать проповеди, и не в них здесь дело: мне нужны ваши деньги. Давайте их сюда!
– Деньги? – с изумлением переспросил он. – Вы плохого мнения об испанском милосердии, если думаете, что лица моего звания нуждаются в деньгах, чтоб путешествовать по Испании. Перестаньте заблуждаться. Нас везде гостеприимно принимают, дают нам пристанище, потчуют и ничего, кроме молитв, за это не требуют. Поэтому мы не берем с собой денег в дорогу, а во всем уповаем на провидение.
– Ну нет! – возразил я. – Вы не ограничиваетесь одним упованием: у вас всегда есть с собой добрые пистоли, чтобы спокойнее полагаться на провидение. Но довольно, отец мой, – добавил я, – мои товарищи, засевшие в той роще, теряют терпенье; бросьте сейчас же ваш кошелек наземь, а не то я вас убью.
При этих словах, произнесенных мною с угрозой, монах как будто действительно струхнул за свою жизнь.
– Погодите, – сказал он, – я исполню ваше требование, раз уж это необходимо. Вижу, что с вашим братом одними риторическими фигурами не отделаешься.
Сказав это, он вытащил из-под сутаны большой замшевый кошель и бросил его наземь. Тогда я объявил ему, что он может продолжать путь, чего он не заставил повторить себе дважды. Он взял мула в шенкеля, и тот, против моего чаянья, пошел довольно хорошим ходом, хотя на вид был не лучше дядюшкиного лошака. Пока монах удалялся, я спешился и поднял кошель, показавшийся мне тяжелым. Затем я снова сел на коня и быстро вернулся в лесок, где разбойники нетерпеливо меня поджидали, чтобы принести мне свои поздравления, точно одержанная мною победа дорого мне обошлась. Не успел я сойти с лошади, как они бросились меня обнимать.
– Мужайся, Жиль Блас, – сказал мне атаман Роландо, – ты прямо чудеса творишь. Я не спускал с тебя глаз во время всей атаки и наблюдал за твоими ухватками. Предсказываю, что из тебя выйдет отличный рыцарь большой дороги, или я ни черта не смыслю в этих делах.
Податаманье и прочие разбойники радостно приветствовали это предсказание и заверили меня, что оно непременно сбудется. Я поблагодарил их за хорошее мнение о моей особе и обещал приложить все усилия к тому, чтоб оправдать его и впредь.
Расхвалив меня тем усерднее, чем меньше я того заслуживал, они вздумали взглянуть на добычу, которую я привез.
– Посмотрим-ка, – сказали они, – что там в монашеском кошельке.
– Наверно, он туго набит, – заметил один из разбойников, – честные отцы не любят путешествовать, как пилигримы.
Атаман развязал кошелек, раскрыл его и вынул оттуда две-три пригоршни маленьких медных образков вперемешку с агнусдеи [18] и ладанками. При виде такой оригинальной добычи разбойники разразились неудержимым смехом.
– Видит бог, – воскликнул податаманье, – мы премного обязаны Жиль Бласу. Он в первый раз раздобыл вещи, весьма полезные для нашего братства.
За шуткой податаманья последовали многие другие. Негодяи, а в особенности расстрига, принялись потешаться на эту тему. Они отпускали тысячи острот, которые я не смею передать и которые сугубо обличали распущенность их нравов. Один только я не смеялся. Правда, зубоскалы отняли у меня к тому охоту, так как потешались на мой счет. Каждый из них прошелся по моему адресу, а атаман Роландо сказал мне:
– Знаешь, Жиль Блас, советую тебе, дружище, не связываться с монахами; это такие пройдохи и хитрецы, что не тебе с ними тягаться.
Глава IX О серьезном событии, последовавшем за этим приключением
Мы пробыли в лесу большую часть дня, не заметив ни одного путешественника, который мог бы расплатиться за монаха. Наконец мы выехали из чащи с намерением вернуться восвояси, ограничив свои подвиги означенным комическим происшествием, все еще служившим темой разговора, как вдруг увидали издали карету, запряженную четверкой мулов. Она неслась на нас во весь опор, и сопровождали ее трое верховых, отлично, как мне показалось, вооруженных и готовых оказать нам сопротивление, если б мы осмелились их затронуть. Роландо приказал отряду остановиться, чтоб держать по этому поводу совет, в результате какового решено было атаковать путешественников.
Тотчас же выстроил он нас так, как ему хотелось, и мы двинулись развернутым фронтом навстречу карете. Невзирая на похвалы, полученные мною в лесу, я почувствовал, что меня пробирает сильная дрожь, и вскоре тело мое покрылось студеным потом, не предвещавшим ничего хорошего. К этим приятным ощущениям присоединилось еще и то обстоятельство, что я ехал в передней шеренге между атаманом и податаманьем, которые поместили меня так, чтоб сразу же приучить к огню. Роландо, заметив, насколько немощным становится мое естество, взглянул на меня искоса и сказал резким тоном:
– Послушай, Жиль Блас, не забывай своего долга. Предупреждаю тебя, что, если ты отступишь, я прострелю тебе голову из пистолета.
Я был слишком уверен, что он исполнит свое обещание, чтоб пренебречь этим предупреждением, и поскольку с обеих сторон мне грозила одинаковая опасность, то помышлял только о том, как бы препоручить богу свою душу.
Тем временем карета и верховые приближались. Они поняли, что мы за люди, и, догадавшись по боевому строю о наших намерениях, остановились на расстоянии мушкетного выстрела. Вооружение их состояло, так же как и наше, из карабинов и пистолетов. Пока всадники готовились дать отпор, из кареты вышел статный и богато одетый человек. Он сел на запасную лошадь, которую один из верховых держал под уздцы, и стал во главе своих людей.
Хотя было их четверо против девятерых, – ибо кучер остался на козлах, – однако же они устремились на нас с такой решимостью, что страху у меня прибавилось вдвое. Я дрожал всем телом, но все же готовился выстрелить; однако, выпуская заряд из карабина, я, по правде говоря, зажмурил глаза и отвернул голову, а потому полагаю, что, стреляя таким манером, не отягчил своей совести.
Не стану обстоятельно описывать эту схватку: хотя я там и присутствовал, однако же ничего не видал; страх, помутив мне ум, скрыл от меня ужас того самого зрелища, которое меня пугало. Могу только сказать, что после бешеной мушкетной перестрелки я услыхал, как товарищи мои кричат во все горло: «Победа! Победа!» При этих возгласах страх, сковывавший мои чувства, рассеялся, и я увидел безжизненные тела четырех всадников, лежавших на поле битвы. С нашей стороны пал всего лишь один человек. То был расстрига, который в данном случае получил только то, что заслужил нарушением обета и кощунственными шутками над ладанками. Одному из наших пуля попала в правую коленную чашечку. Податаманье также был ранен, но очень легко, так как заряд только ссадил ему кожу.
Сеньор Роландо прежде всего бросился к дверцам кареты. Там сидела дама лет двадцати четырех – двадцати пяти, показавшаяся ему очень красивой, несмотря на печальное состояние, в котором он ее застал. Она лишилась чувств во время схватки, и обморок ее все еще продолжался. Пока он любовался ею, мы, прочие, занялись добычей. Начали мы с лошадей из-под убитых верховых, так как животные эти, испугавшись перестрелки и потеряв седоков, отбежали несколько в сторону. Что же касается мулов, то они не тронулись с места, хотя кучер слез с козел и спасся бегством еще во время побоища. Спешившись, мы принялись распрягать мулов и навьючивать на них сундуки, которые были привязаны впереди и позади кареты. Покончив с этим, мы по приказу атамана вынесли из экипажа даму, еще не пришедшую в себя, и посадили ее на седло к одному из самых сильных разбойников, ехавшему на отличной лошади; затем, оставив на дороге карету и ограбленных мертвецов, мы забрали с собой даму, мулов и лошадей [19] .
Глава X О том, как разбойники обошлись с пленной сеньорой. О смелом замысле Жиль Бласа и о том, что из этого проистекло
Уже с час как стемнело, когда мы подъехали к подземелью. Мы прежде всего отвели лошадей и мулов в конюшню, где нам пришлось самим привязать их к стойлам и позаботиться о них, так как старый негр уже трое суток не вставал с постели. Помимо сильного приступа подагры, его мучил ревматизм, не позволявший ему пошевельнуть ни одним членом. Только язык у него не отнялся, и он пользовался им, чтоб выражать нетерпение посредством самых кощунственных ругательств. Предоставив этому нечестивцу проклинать и богохульствовать, мы отправились на кухню, где посвятили все свои заботы сеньоре, над которой, казалось, витала тень смерти. Мы сделали все, что могли, дабы привести ее в чувство, и старания наши, к счастью, увенчались успехом. Но, придя в сознание и увидев, что ее поддерживают какие-то неизвестные ей мужчины, она поняла разразившееся над ней несчастье; ее обуял ужас. Все, что горе и отчаяние, вместе взятые, заключают в себе страшного, отразилось в ее глазах, которые она воздела к небу, точно жалуясь на грозившее ей бедствие. Затем, будучи не в силах вынести эти ужасные видения, она снова впала в обморок, веки ее смежились, и разбойникам уже казалось, что смерть хочет похитить у них добычу. Но тут атаман, рассудив, что лучше предоставить ее самой себе, чем мучить новыми спасательными средствами, приказал отнести сеньору на постель Леонарды, где ее оставили одну, разрешив судьбе действовать по своему усмотрению.
Мы перешли в зал, где один из разбойников, бывший перед тем лекарем, осмотрел податаманье и его товарища и натер им раны бальзамом. По окончании этой операции всем захотелось узнать, что находится в сундуках. Одни были наполнены кружевами и бельем, другие платьем; в последнем сундуке, вскрытом нами, оказалось несколько мешков, набитых пистолями, что весьма обрадовало наших корыстолюбцев. После этого осмотра стряпуха уставила поставец винами, накрыла на стол и подала кушанье. Сначала мы разговорились о великой победе, нами одержанной. Тут сеньор Роландо обратился и ко мне.
– Признайся, Жиль Блас, – сказал он, – признайся, дитя мое, что ты здорово струхнул.
Я откровенно ответил, что оно действительно так и было, но что я буду биться, как паладин, если только побываю в двух-трех сражениях. После этого все общество стало на мою сторону, утверждая, что я заслуживаю извинения, что схватка была жаркой и что для молодого человека, никогда не нюхавшего пороха, я все-таки держался молодцом.
Затем разговор перешел на мулов и лошадей, приведенных нами в подземелье. Решено было назавтра, чуть свет, отправиться всем в Мансилью, чтоб продать их там, так как слух о нашем набеге, вероятно, еще не дошел до этого места. Приняв такое решение, мы закончили ужин, после чего снова вернулись на кухню, чтобы взглянуть на сеньору, которую застали в том же состоянии: мы были уверены, что она и ночи не проживет. Хотя нам показалось, что жизнь в ней еле теплится, однако некоторые разбойники не переставали бросать на нее любострастные взоры и обнаруживать грубое вожделение, которому они непременно дали бы волю, если бы Роландо не уговорил их подождать, по крайней мере, до тех пор, пока дама придет в себя от подавляющей грусти, сковывавшей ее чувства. Уважение к атаману обуздало их страсти; иначе ничто не спасло бы этой сеньоры: даже смерть была бы не в силах уберечь ее честь.
Мы оставили на время эту несчастную женщину в том состоянии, в котором она находилась. Роландо ограничился тем, что передал ее на попечение Леонарде, и все разбрелись по своим помещениям. Что касается меня, то, улегшись на свое ложе, я, вместо того чтоб заснуть, не переставал размышлять о несчастье этой сеньоры. Я не сомневался в том, что она знатная дама, отчего судьба ее представлялась мне еще более горестной. Не мог я также без дрожи подумать об ожидавших ее ужасах, и я чувствовал такое огорчение, точно меня связывали с ней узы крови или дружбы. Наконец, поскорбев об ее участи, я стал раздумывать над тем, как сохранить ее честь от угрожающей опасности и в то же время самому выбраться из подземелья. Я вспомнил, что старый негр был не в состоянии пошевельнуться и что со времени его недомогания ключ от решетки находился у стряпухи. Эта мысль воспламенила мое воображение и навела меня на замысел, который я тщательно обсудил, после чего, не медля, приступил к его выполнению следующим образом.
Я притворился, будто у меня колики, и начал сначала вздыхать и стонать, а затем, возвысив голос, принялся вопить благим матом. Разбойники проснулись и вскоре собрались около меня. Они спросили, отчего я кричу таким истошным голосом. Я отвечал им, что у меня ужасные рези, и для большей убедительности стал скрежетать зубами, строить невероятные гримасы, симулировать корчи и метаться самым неистовым образом. После этого я вдруг успокоился, как будто мне несколько полегчало. Но минуту спустя я снова извивался на своем жалком ложе и ломал руки. Словом, я так хорошо разыграл свою роль, что разбойники, несмотря на присущую им хитрость, дались на обман и поверили, что я действительно испытываю страшные рези. Однако эта удачная симуляция повлекла за собой своеобразную пытку, так как мои сердобольные собратья по ремеслу, вообразив, что я вправду страдаю, принялись наперебой облегчать мои муки. Один приносит бутыль с водкой и принуждает меня отхлебнуть половину; другой насильно ставит мне клизму из миндального масла; третий, распарив полотенце, кладет мне его, еще совсем горячее, на живот. Я тщетно кричал, умоляя о пощаде; но они приписывали мои крики коликам и продолжали причинять мне настоящие страдания, желая избавить от вымышленных. Наконец, не будучи в состоянии терпеть долее, я принужден был сказать им, что больше не чувствую боли, и попросил их отпустить мою душу на покаяние. Они перестали досаждать мне своими лечебными средствами, а я остерегся от дальнейших жалоб, опасаясь, как бы они вновь не принялись оказывать мне помощь.
Это представление длилось около трех часов, после чего разбойники, рассудив, что рассвет должен скоро наступить, приготовились ехать в Мансилью. Тут я выкинул новую штуку: я попытался встать, для того чтоб они подумали, будто мне очень хочется их сопровождать. Но они воспротивились этому.
– Нет, нет, Жиль Блас, – сказал мне сеньор Роландо, – оставайся здесь, сын мой, а то у тебя снова могут начаться схватки. Ты поедешь с нами в другой раз, сегодня ты не в силах следовать за нами. Отдохни денек; ты действительно нуждаешься в покое.
Я не счел нужным настаивать из боязни, как бы они не уступили моим настояниям; я только притворился, будто очень огорчен невозможностью их сопровождать, и сделал это так естественно, что они покинули подземелье, не питая насчет моего замысла ни малейшего подозрения. После их отъезда, который я пытался ускорить своими молитвами, обратился я к самому себе со следующей речью: «Ну, Жиль Блас, настал момент проявить решимость. Мужайся и доведи до конца то, что начал с таким успехом. Дело это, по-видимому, не трудное: Доминго сейчас не в состоянии помешать твоему замыслу, а Леонарда слишком слаба для этого. Воспользуйся случаем и удирай: тебе, быть может, никогда не представится лучшей возможности».
Эти рассуждения придали мне самоуверенности. Я встал, взял шпагу и пистолеты и сперва направился в кухню. Но прежде чем войти, я остановился, так как услыхал голос Леонарды. Она говорила с незнакомой дамой, которая, придя в себя и поняв постигшее ее несчастье, плакала и сокрушалась.
– Плачьте, дочь, моя, – говорила ей старуха, – проливайте слезы, не щадите вздохов: это вас утешит. Ваш обморок был опасен, но теперь, коль скоро вы плачете, можно сказать, что самое страшное миновало. Ваша скорбь постепенно утихнет и вы привыкнете жить здесь с нашими сеньорами, людьми вполне порядочными. С вами будут обходиться лучше, чем с принцессою; эти господа постараются всячески угождать вам и ежедневно проявлять свое расположение. Найдется немало женщин, которые пожелали бы быть на вашем месте.
Я не дал Леонарде времени продолжать эту речь и вошел в кухню. Приставив ей пистолет к груди, я грозно потребовал у нее ключ от решетки. Мой поступок смутил ее, и хотя была она уже в преклонном возрасте, однако же все еще настолько дорожила жизнью, что не посмела противиться моему требованию. Заполучив ключ в свои руки, я обратился к печальной даме.
– Сеньора, – сказал я, – небо посылает вам избавителя. Встаньте и следуйте за мной; я доставлю вас туда, куда вы пожелаете.
Дама не оставалась глуха к моему голосу, и речь моя произвела на нее такое впечатление, что, собрав последние силы, она привстала и бросилась к моим ногам, заклиная пощадить ее честь. Я поднял ее и заверил, что она может вполне на меня положиться. Затем я подобрал веревки, найденные мною в кухне, и с помощью сеньоры привязал Леонарду к ножкам тяжелого стола, пригрозив старухе, что убью ее, если она только вздумает крикнуть. Милейшая Леонарда, убежденная, что я, безусловно, выполню свою угрозу, если она посмеет ослушаться, сочла за лучшее предоставить мне полную свободу действий. Я зажег свечу и отправился вместе с незнакомой сеньорой в помещение, где хранились золотые и серебряные монеты. Там я рассовал по карманам столько простых и двойных пистолей, сколько в них умещалось, и, чтоб уговорить незнакомку поступить так же, постарался доказать ей, что она только берет назад свое собственное добро, после чего эта дама без всяких угрызений совести последовала моему примеру. Набрав основательный запас, мы направились к конюшне, куда я вошел один, держа пистолеты наготове. Я рассчитывал, что старый арап, несмотря на подагру и ревматизм, не позволит мне беспрепятственно оседлать и взнуздать мою лошадь, и решил раз и навсегда излечить его от всех болезней, если он вздумает мне пакостить. Но, по счастью, он к тому времени так изнемог от болей, как прежде перенесенных, так и тех, которые продолжал испытывать, что, казалось, даже не заметил, как я вывел лошадь из конюшни. Дама ждала меня у дверей. Мы со всей поспешностью устремились по коридору, который вел к выходу из подземелья. Подходим к решетке, отпираем замок, и вот мы у трапа. Нам стоило больших усилий его поднять или, точнее говоря, мы смогли осуществить это только благодаря притоку новых сил, которые придала нам жажда свободы.
Стало уже рассветать, когда мы выбрались из этой бездны. Необходимо было тотчас же удалиться оттуда. Я вскочил в седло, дама села позади меня, и, пустившись галопом по первой попавшейся тропинке, мы вскоре выехали из лесу. Перед нами оказалась равнина, пересеченная несколькими дорогами; мы выбрали одну наугад. Я смертельно боялся, чтоб она не привела нас в Мансилью и чтоб мы не повстречали Роландо и его товарищей, что легко могло случиться. К счастью, мои опасения не оправдались. Мы прибыли в город Асторгу около двух часов пополудни. Я заметил людей, разглядывавших нас с большим любопытством, точно женщина, сидящая на лошади позади мужчины, была для них невиданным зрелищем. Мы остановились у первой гостиницы, и я прежде всего приказал насадить на вертел куропатку и молодого кролика. Пока выполняли мои приказания и готовили нам обед, я проводил даму в горницу, где мы, наконец, вступили в беседу: дорогой этого нельзя было сделать, так как мы ехали слишком быстро. Тут моя дама выразила мне свою признательность за оказанное ей одолжение и сказала, что после столь великодушного поступка она не может поверить, чтоб я был товарищем тех разбойников, из рук которых ее вырвал. Тогда я рассказал ей свою историю, чтоб укрепить ее в добром мнении, которое она обо мне составила. Этим я внушил ей доверие и побудил поведать свои злоключения, которые она передала мне так, как это будет изложено в следующей главе.
Глава XI История доньи Менсии де Москера
Я родилась в Вальядолиде, и имя мое – донья Менсия де Москера. Отец мой, дон Мартин, истратив на военной службе почти все, что досталось ему по наследству, был убит в Португалии во главе полка, которым командовал. Он оставил мне столь скромное состояние, что меня считали довольно незавидной невестой, хотя я была единственной дочерью. Невзирая, однако, на мои ограниченные средства, у меня не было недостатка в поклонниках. Несколько кавалеров, из самых знатных в Испании, искали моей руки. Но среди них один только дон Альвар де Мельо обратил на себя мое внимание. Он действительно был красивее своих соперников, но еще более серьезные достоинства склонили мое сердце в его пользу. Он обладал умом, скромностью, храбростью и честностью. Кроме того, его можно было назвать галантнейшим светским человеком. Нужно ли было устроить празднество – он делал это как нельзя лучше; участвовал ли он в турнирах – все приходили в восхищение от его силы и ловкости. Словом, я предпочла его всем остальным и вышла за него замуж.
Спустя несколько дней после нашей свадьбы он встретил в какой-то отдаленной части города дона Андреса де Баеса, одного из своих прежних соперников. Они обменялись колкостями и обнажили шпаги. Это стоило жизни дону Андресу. Но так как он доводился племянником вальядолидскому коррехидору, человеку бешеному и к тому же смертельному врагу дома Мельо, то дон Альвар счел необходимым как можно скорее покинуть город. Он поспешно вернулся домой и, пока ему седлали лошадь, передал мне то, что произошло.
– Любезная Менсия, – сказал он мне затем, – мы должны расстаться: это необходимо. Вы знаете коррехидора; не к чему обольщаться: он будет меня свирепо преследовать. Вам известно, каким весом он пользуется; мне небезопасно оставаться в королевстве.
Он был так подавлен собственной скорбью, а еще больше той, которую видел во мне, что не мог продолжать. Я заставила его взять с собой золото и несколько драгоценностей; затем он обнял меня, и в течение четверти часа мы только и делали, что сливали вместе вздохи и слезы. Наконец ему доложили, что лошадь подана. Он вырывается из моих объятий, он уезжает и покидает меня в таком состоянии, которого я не могу выразить словами. Ах, какое б было счастье, если б чрезмерность моей скорби тогда же свела меня в могилу! От скольких горестей и невзгод избавила бы меня смерть!
Спустя несколько часов после отъезда дона Альвара коррехидор проведал об его побеге. Он послал за ним в погоню всех вальядолидских альгвасилов [20] и не упустил ни одного средства, чтоб заполучить его в свои руки. Тем не менее супруг мой ускользнул от его мщения и сумел укрыться в безопасном месте. Тогда судья увидел, что принужден ограничить свою месть удовольствием отнять имущество у человека, крови которого жаждал. Это ему вполне удалось: все, что принадлежало дону Альвару, было конфисковано.
Я очутилась в весьма печальном положении: мне почти не на что было существовать. Пришлось вести замкнутый образ жизни и держать в качестве прислуги только одну женщину. Я проводила все дни в слезах, но оплакивала я не бедность, которую терпеливо переносила, а отсутствие любимого супруга, не подававшего никаких вестей. Между тем при нашем грустном расставании он обещал уведомлять меня о своей судьбе, в какой бы угол мира ни занесла его злополучная звезда. Однако прошло семь лет, а я ничего о нем не слыхала. Неведение, в котором я находилась относительно его участи, погружало меня в великую печаль. Наконец дошло до меня, что, сражаясь в Феце [21] за короля португальского, он потерял свою жизнь в бою. Известие это принес мне человек, недавно вернувшийся из Африки; он заверил меня, что хорошо знал дона Альвара де Мельо, что служил с ним вместе в португальской армии и сам видел, как супруг мой погиб в сражении. Он присовокупил к этому еще некоторые обстоятельства, окончательно убедившие меня, что Дона Альвара нет более в живых. Эта весть только усилила мою печаль и побудила принять решение никогда больше не вступать в брак.
Тем временем прибыл в Вальядолид дон Амбросио Месио Карильо маркиз де ла Гуардиа. Он принадлежал к числу тех старых вельмож, которые обходительным и изысканным обращением заставляют забыть про свои лета и все еще умеют нравиться дамам. Однажды ему случайно рассказали историю дона Альвара и описали меня так, что ему захотелось со мной познакомиться. Чтоб удовлетворить свое любопытство, подговорил он одну мою родственницу, и та, условившись с ним, зазвала меня к себе. Маркиз тоже явился. Он увидел меня, и я ему понравилась вопреки скорби, которая запечатлелась на моем лице. Но зачем говорю я «вопреки»? Быть может, он был тронут именно грустным и томным видом, свидетельствовавшим в пользу моей верности; быть может, моя тоска воспламенила в нем любовь. Поэтому он не раз повторил мне, что считает меня чудом постоянства и что завидует моему мужу, сколь бы горестна ни была его судьба. Словом, он был поражен моими достоинствами и ему не понадобилось второго свидания для того, чтоб в нем созрело решение жениться на мне.
Чтоб склонить меня к принятию своего предложения, он прибег к посредничеству моей родственницы. Та наведалась ко мне и стала уговаривать, что неразумно долее зарывать свою красоту, поскольку супруг мой, как гласило известие, окончил жизнь в Феце, что я достаточно оплакивала человека, с которым меня связывали столь кратковременные узы, и что я должна воспользоваться представившимся мне случаем, который сделает меня счастливейшей из женщин. Затем она принялась превозносить древний род старого маркиза, его великие богатства и прекрасный характер. Но, несмотря на красноречие, которое она расточала по поводу всех его преимуществ, ей не удалось меня уговорить. Не сомнения в смерти дона Альвара и не боязнь увидеть его вдруг, в самый неожиданный момент, останавливали меня. Отсутствие склонности или, вернее, отвращение, испытываемое мною к вторичному браку после всех несчастий первого, было тем препятствием, которое моей родственнице надлежало преодолеть. Но она не отступила: напротив, она удвоила старания в пользу дона Амбросио и привлекла всю семью на сторону вельможи. Родственники мои стали настаивать на том, чтоб я не отказывалась от столь блестящей партии; они мне непрестанно докучали, досаждали, не давали покоя. Правда, бедность моя, возраставшая с каждым днем, немало способствовала тому, чтоб преодолеть мое сопротивление. Если бы не ужасная нужда, я бы никогда не решилась на это.
Итак, я была не в силах противиться; я уступила упорным настояниям родни и вышла замуж за маркиза де ла Гуардиа, который на следующий же день после свадьбы увез меня в свой прекрасный замок возле Бургоса, между Грахалем и Родильяс. Он воспылал ко мне страстной любовью; во всех его поступках чувствовалось желание мне угодить; он всячески старался предупредить мои малейшие желания. Ни один муж не питал такого уважения к жене и ни один любовник не оказывал столько внимания своей возлюбленной. Я восхищалась человеком, обладавшим таким привлекательным характером, и до известной степени мирилась с утратой дона Альвара благодаря тому, что составила счастье такого супруга, как маркиз. Невзирая на разницу в летах, я полюбила бы его страстно, будь я в состоянии любить кого-либо после дона Альвара. Но постоянные сердца умеют любить только раз. Воспоминание о первом супруге делало тщетным все старания второго понравиться мне. И потому на его нежные чувства я могла отвечать только искренней благодарностью.
Таково было мое душевное состояние, когда однажды, подойдя к окну своей горницы, чтоб подышать свежим воздухом, я увидела человека, похожего на крестьянина, который пристально уставился на меня. Я приняла незнакомца за подручного нашего садовника и не обратила на него никакого внимания. Но на следующий день, снова выглянув в окно, я застала его на том же месте, и мне снова показалось, что он очень внимательно ко мне присматривается. Это меня поразило. Я посмотрела на него в свою очередь. Но когда я пригляделась к нему, мне вдруг почудилось, будто я узнаю черты несчастного дона Альвара. Это сходство вызвало в моих чувствах непостижимый переполох: я громко вскрикнула. К счастью, я в то время была наедине с Инесой, той из моих камеристок, которой я больше всего доверяла. Я поведала ей подозрение, взволновавшее мою душу. Но она только расхохоталась, вообразив, что какое-нибудь легкое сходство ввело меня в заблуждение.
– Успокойтесь, сеньора, – сказала она, – и не думайте, что вы видели первого вашего супруга. Как мог он очутиться здесь под видом крестьянина? Да и вероятно ли, чтоб он вообще был жив? Но, чтоб вас успокоить, – добавила она, – сойду в сад и поговорю с этим поселянином; узнаю, кто он таков, и сию минуту вернусь доложить вам об этом.
Инеса отправилась в сад и спустя короткое время вернулась в мои покои сильно взволнованная.
– Увы, сеньора, – сказала она, – ваше подозрение вполне оправдалось. Вы в самом деле видели дона Альвара; он мне открылся и просит, чтоб вы позволили ему тайно поговорить с вами.
Я могла тут же принять дона Альвара, так как маркиз находился в Бургосе, а потому поручила своей камеристке проводить его ко мне в кабинет [22] по потайной лестнице. Можете себе представить, какое волнение я испытывала. У меня не хватало духу взглянуть на человека, который с полным правом мог осыпать меня упреками: не успел он предстать предо мной, как я упала в обморок, точно мне явилась его тень. Инеса и он тотчас же пришли мне на помощь. Как только они привели меня в чувство, дон Альвар сказал:
– Ради бога, сеньора, успокойтесь. Я не хочу, чтоб мое присутствие стало для вас пыткой, и вовсе не намерен причинить вам огорчение. Я явился не как взбешенный супруг попрекать вас за нарушение данного слова и поставить вам в грех заключение новых уз. Мне известно, что вина падает на вашу семью: я знаю также обо всех преследованиях, коим вы подвергались. Сверх того, в Вальядолиде распространились слухи о моей смерти и у вас было тем больше оснований им поверить, что вы не получили от меня ни одного письма, которое бы их опровергло. Наконец, слыхал я и про тот образ жизни, который вы вели после нашей жестокой разлуки, и что скорее нужда, нежели любовь, толкнула вас в объятия маркиза.
– Ах, сеньор, – прервала я его, обливаясь слезами, – к чему пытаетесь вы оправдать свою супругу? Вы живы, а потому она виновна. Увы, почему не осталась я в том бедственном положении, в котором была до свадьбы с доном Амбросио? О, роковой брак! Не будь его, у меня при всей моей бедности осталось бы то утешение, что я, не краснея, могу вновь встретиться с вами.
– Любезная Менсия, – возразил дон Альвар, весь вид коего обличал, сколь сильно потрясли его мои слезы, – я не сетую на вас и не только не намерен укорять тем блестящим положением, в коем вас застал, но клянусь, что благодарю за это небо. С того злополучного дня, когда я покинул Вальядолид, фортуна неизменно относилась ко мне немилостиво: жизнь моя была сплошной цепью злоключений; в довершение же всех невзгод я не мог подать вам о себе вести. Слишком уверенный в ваших чувствах ко мне, я не переставал думать о том, до какого состояния довела вас моя пагубная любовь; я рисовал себе донью Менсию всю в слезах; вы были моей величайшей мукой. Признаюсь, бывали минуты, когда я почитал себя преступником за то, что имел счастье вам понравиться. Я даже желал, чтоб вы предпочли кого-либо из моих соперников, так как выбор, которого я удостоился, обошелся вам слишком дорого. Между тем, после семи мучительных лет, еще более влюбленный, чем когда-либо, захотел я повидать вас. Я был не в силах устоять против этого желания, и освобождение от долголетнего рабства позволило мне его осуществить; таким образом, с риском быть узнанным, я, переодетый в это платье, прибыл в Вальядолид. Тут я узнал все. Затем я отправился в здешний замок и нашел случай познакомиться с садовником, который дал мне работу в ваших садах. Вот каким путем добился я того, чтоб тайно поговорить с вами. Однако не думайте, что своим пребыванием здесь я намерен смутить благополучие, коим вы наслаждаетесь. Я люблю вас больше, чем самого себя, я дорожу вашим покоем и после нашего свидания отправлюсь доживать вдали от вас печальные дни, посвященные вам одной.
– Нет, нет, дон Альвар, – воскликнула я при этих словах. – Небо недаром привело вас сюда, и я не допущу, чтоб вы меня вторично покинули; я поеду с вами: одна только смерть может отныне разлучить нас.
– Поверьте мне, – возразил он, – вам лучше оставаться у дона Амбросио. Не делайтесь участницей моих невзгод; позвольте мне одному нести их бремя.
Он привел мне еще много таких же доводов, но чем больше он старался пожертвовать собой ради моего счастья, тем меньше склонности испытывала я согласиться на это. Убедившись наконец, что я не отступлю от своего решения, он вдруг переменил тон и, несколько повеселев, сказал мне:
– Неужели, сеньора, вы действительно питаете те чувства, о которых сейчас мне поведали? Ах, если вы еще любите меня настолько, что предпочитаете бедность со мной тому благоденствию, которое вас окружает, то поедемте жить в Бетанкос, в самую глубь Галисийского королевства. Там у меня есть надежное убежище. Хотя злой рок лишил меня всех богатств, однако он оказался не в силах отнять у меня друзей; некоторые из них остались мне верны и благодаря их поддержке я смогу вас похитить. С их помощью заказал я карету в Саморе, а также купил мулов и лошадей. Меня сопровождают трое весьма храбрых галисийцев; они вооружены карабинами и пистолетами и ждут моих приказаний в деревне Родилиас. Воспользуемся же, – добавил он, – отсутствием дона Амбросио. Я велю подать карету прямо к воротам замка и мы немедленно уедем.
Я согласилась. Дон Альвар стрелой полетел в Родилиас и, вернувшись спустя короткое время с тремя верховыми, увез меня, в то время как мои служанки, не зная, что и думать об этом похищении, разбежались в великом испуге. Только Инеса была посвящена в это дело, но она отказалась связать свою судьбу с моей, так как была влюблена в одного из камердинеров дона Амбросио, а это доказывает, что привязанность даже самых ревностных слуг наших не может устоять против любви.
Таким образом, села я в карету с доном Альваром, захватив с собой только платья да несколько драгоценностей, которые принадлежали мне до второго замужества; я не хотела брать с собой ни одной вещи, подаренной мне маркизом после свадьбы. Мы направились по дороге, которая вела в Галисию, не зная, однако, удастся ли нам туда доехать. У нас имелись основания опасаться, что дон Амбросио по своем возвращении пустится за нами вдогонку с многочисленным отрядом и настигнет нас. Между тем мы проехали двое суток, не заметив ни одного всадника, который бы нас преследовал. Мы надеялись, что и третий день пройдет так же благополучно, и уже вполне спокойно беседовали друг с другом. Это было вчера. Дон Альвар рассказывал мне о печальном происшествии, вследствие которого распространились слухи об его смерти, и о том, как он обрел свободу после пятилетнего невольничества, но тут мы встретились на леонской дороге с разбойниками, среди которых вы находились. Дон Альвар и был тот кавалер, которого они убили вместе со всеми его людьми, и из-за него льются слезы, которые вы теперь видите на моих щеках.
Глава XII Каким неприятным образом был прерван разговор между Жиль Бласом и его дамой
Окончив свое повествование, донья Менсия залилась слезами. Я не сделал ни малейшей попытки утешить ее речами в духе Сенеки [23] , а, напротив, дал ей повздыхать вволю; я даже и сам заплакал: столь естественно сочувствовать несчастным, в особенности опечаленной красавице. Я было хотел спросить ее, что она намеревается предпринять при создавшемся положении, а она, быть может, собиралась, посоветоваться со мной по этому же поводу, когда нашу беседу неожиданно прервали: на постоялом дворе послышался ужасный шум, который невольно привлек наше внимание. Шум этот был вызван прибытием коррехидора с двумя альгвасилами и несколькими стражниками. Они вошли в комнату, в которой мы находились. Сопровождавший их молодой кавалер первый подошел ко мне и принялся пристально всматриваться в мою одежду. Ему недолго пришлось меня разглядывать.
– Клянусь св. Яковом, – воскликнул он, – это мой камзол! Он самый и есть! Его так же легко узнать, как и мою лошадь. Можете засадить этого щеголя на мою ответственность; я не боюсь, что мне придется дать ему сатисфакцию: без всякого сомнения, это один из тех грабителей, у которых есть тайное убежище в нашей местности.
Эта речь, из которой я усмотрел, что молодой человек был тем ограбленным дворянином, чьи платье и лошадь, к сожалению, достались мне, повергла меня в изумление, смущение и замешательство. Коррехидор, который по должности своей обязан был истолковать мою растерянность скорее в худую, нежели в хорошую сторону, решил, что обвинение не лишено основания. Предположив, что и дама могла быть соучастницей, он приказал разлучить нас и посадить в тюрьму. Судья этот был не из тех, что мечут свирепые взгляды: напротив, вид у него был добродушный и веселый. Впрочем, одному лишь богу ведомо, был ли он при этом совестливее. Как только меня привели в тюрьму, он явился туда с двумя ищейками, т. е. альгвасилами; вошли они с веселым видом, словно чуяли, что их ждет недурное дельце. Они не забыли доброго своего обыкновения и прежде всего принялись меня обыскивать. Что за пожива для этих господ! Они, быть может, отродясь не видали такой удачи. Я заметил, как глаза их сверкали от радости при каждой пригоршне пистолей, которую они извлекали. Но особенно ликовал коррехидор.
– Дитя мое, – сказал он мне голосом, полным кротости, – мы исполняем свой служебный долг; но не бойся ничего: если ты не виновен, тебе не причинят зла.
Тем временем они деликатно очистили мои карманы и забрали даже то, что постеснялись взять разбойники, а именно сорок дядиных дукатов. Но и это их не удовлетворило: их жадные, неутомимые руки обшарили меня с головы до пят; они поворачивали меня во все стороны и даже раздели донага, ища денег между телом и рубашкой. Думаю, что они охотно вскрыли бы мне живот, чтоб посмотреть, не запрятал ли я туда чего-нибудь. После того как они столь добросовестно исполнили свой служебный долг, коррехидор допросил меня. Я откровенно рассказал ему все, что со мной случилось. Он приказал записать мои показания; затем он удалился, забрав с собой своих альгвасилов и мои деньги, и оставил меня совершенно голым на соломе.
Очутившись один и увидя себя в таком положении, я воскликнул: «О, жизнь человеческая! Сколь полна ты диковинных приключений и превратностей! С тех пор как я выехал из Овьедо, меня постигают одни только невзгоды: не успел я избавиться от одной опасности, как попадаю в другую. Думал ли я, въезжая в этот город, что мне придется так скоро познакомиться с коррехидором?» Предаваясь этим тщетным размышлениям, я снова облачился в проклятый камзол и прочее платье, ставшее причиной моего несчастья. Затем я обратился к самому себе с увещеванием не падать духом: «Ну, Жиль Блас, крепись! Помни, что после этих дней могут наступить другие, более счастливые. Пристойно ли тебе предаваться отчаянью в обыкновенной тюрьме, после того как ты прошел столь тягостный искус терпения в подземелье? Но, увы! – добавил я печально. – Это самообман! Как выйду я отсюда? Ведь у меня только что отняли все средства к тому, ибо узник без денег – все равно что птица с подрезанными крыльями».
Вместо куропатки и молодого кролика, которого я приказал зажарить на вертеле, мне принесли черный хлебец и кувшин воды, предоставив терпеливо глотать досаду в своем узилище. Целых пятнадцать дней просидел я там, не видя никого, кроме тюремщика, который каждое утро неизменно возобновлял мой рацион. Как только он приходил, я заговаривал с ним и пытался вовлечь его в беседу, чтобы сколько-нибудь рассеять скуку; но эта важная особа и не думала удостоить меня ответом; невозможно было выжать из него ни одного слова; по большей части он даже входил и выходил, ни разу не взглянув на меня. На шестнадцатый день явился ко мне коррехидор и сказал:
– Наконец, друг мой, страдания твои кончились. Радуйся, ибо я пришел сообщить тебе приятную весть. Даму, которая была с тобой, я приказал проводить в Бургос; перед тем я допросил ее, и она показала в твою пользу. Тебя сегодня же выпустят, если только погонщик, с которым, по твоим словам, ты ехал из Пенья-флора в Какавелос, подтвердит твои показания. Он сейчас в Асторге. Я послал за ним и поджидаю его: если он сознается во всей этой истории с пыткой, то я немедленно отпущу тебя на свободу.
Слова коррехидора весьма меня обрадовали, и я уже считал себя вне опасности. Я поблагодарил судью за милостивое и скорое решение, которое он вынес по моему делу, и не успел я еще договорить этих учтивостей, как прибыл мой возница в сопровождении двух полицейских стражников. Я тотчас же узнал его; но злодей-погонщик, без сомнения продавший мой чемодан со всем его содержимым, испугался, как бы ему не пришлось вернуть вырученные за него деньги, если он меня опознает; а потому он нагло заявил, что не ведает, кто я такой, и что меня в глаза не видал.
– Ах, висельник! – воскликнул я. – Признайся лучше, что ты украл мои пожитки, и отдай долг истине. Посмотри на меня хорошенько: я один из тех молодых людей, которым ты пригрозил пыткой в местечке Какавелос и которых ты так испугал.
Погонщик невозмутимо ответил, что я толкую о вещах, о которых он не имеет ни малейшего понятия, и так как он до конца твердо стоял на том, что меня не знает, то мое освобождение было отложено до другого раза.
– Дитя мое, – сказал коррехидор, – ты видишь, что погонщик не подтверждает твоих показаний, а потому я при всем желании не могу вернуть тебе свободу.
Мне пришлось снова вооружиться терпением, смотреть на безмолвного тюремщика и поститься, довольствуясь хлебом и водой. Мысль о том, что я не могу вырваться из когтей правосудия, хотя не совершил никакого преступления, приводила меня в отчаяние: я жалел о подземелье. «В сущности, – размышлял я, – мне жилось там лучше, чем в этой темнице: я сладко ел и пил с разбойниками, вел с ними приятные беседы и утешался надеждой когда-нибудь удрать от них. Теперь же, несмотря на свою невинность, я, пожалуй, сочту за великое счастье, если меня выпустят отсюда и отправят на галеры».
Глава XIII Какими судьбами Жиль Блас наконец освободился из тюрьмы и куда он оттуда направился
В то время как я проводил дни, развлекаясь собственными рассуждениями, по городу распространилась молва о моих похождениях в том виде, в каком я изложил их при дознании. Кое-кто из горожан пожелал из любопытства взглянуть на меня. Они поочередно подходили к маленькому окошку, сквозь которое свет проникал в мою темницу, и, поглазев на меня некоторое время, удалялись. Я был весьма удивлен этим новым обстоятельством. С тех пор как меня посадили, никто не заглядывал в это окно, выходившее на двор, где царили безмолвие и ужас. Из этого я заключил, что обо мне в городе заговорили, но не знал, считать ли это хорошим или дурным предзнаменованием.
Одним из первых, кто представился моим взорам, был тот самый молодой псаломщик из Мондоньедо, который, как и я, пустился наутек, испугавшись пытки. Я узнал его, а он тоже не отрекся от знакомства. Мы обменялись приветствиями, и между нами завязалась долгая беседа. Мне пришлось снова подробно рассказать свои приключения, что произвело на моих слушателей двоякое впечатление: я рассмешил их и возбудил в них сострадание. В свою очередь певчий сообщил, что произошло на постоялом дворе в Какавелосе между погонщиком и молодой женщиной, после того как панический страх заставил нас бежать оттуда; словом, он передал мне то, о чем я выше уже повествовал. Наконец, прощаясь со мной, он обещал, не теряя времени, похлопотать о моем освобождении. Тогда остальные посетители, явившиеся, как и он, из одного только любопытства, заявили, что сочувствуют моему несчастью; они обещали присоединиться к молодому псаломщику и сделать все от них зависящее, чтоб вернуть мне свободу.
Они действительно сдержали свое обещание и замолвили за меня словечко коррехидору, который, узнав от псаломщика, как было дело, уже более не сомневался в моей невинности и три недели спустя пришел ко мне в тюрьму.
– Жиль Блас, – сказал он, – будь я более строгим судьей, я мог бы еще подержать тебя здесь; но мне не хочется затягивать дело. Ступай, ты свободен; можешь уйти отсюда, когда тебе заблагорассудится. Однако скажи мне, – добавил он, – не сумеешь ли ты разыскать подземелье, если отвести тебя в тот лес, где оно находится.
– Нет, сеньор, – отвечал я, – меня привели туда ночью, а выбрался я из него до рассвета: мне никак не узнать этого места.
Тогда судья удалился, сказав, что прикажет тюремщику отпереть двери темницы. Действительно, минуту спустя тюремщик вошел в мою камеру в сопровождении одного из сторожей, который нес холщовый узел. Оба они с важным видом и не говоря ни слова сняли с меня камзол и штаны, сшитые из хорошего сукна и почти новые; затем они напялили на меня какое-то старое рубище и, взяв за плечи, вытолкали из тюрьмы.
Смущение, охватившее меня, когда я увидел себя в этом жалком наряде, умерило радость, присущую узникам, выпущенным на свободу. Я хотел было тотчас же удалиться из города, чтоб укрыться от взоров толпы, которые были для меня почти что невыносимы. Однако чувство благодарности одержало верх над стыдом: я пошел поблагодарить молодого псаломщика, которому был столь многим обязан. Увидев меня, он не мог удержаться от смеха.
– Вот так облачение! – воскликнул он. – Я было вас и не узнал. Здорово обошлось с вами здешнее правосудие, как я погляжу.
– Я не жалуюсь на суд, – ответил я, – он поступил справедливо. Я хотел бы только, чтоб все судейские были честными людьми: хоть бы одежду мне оставили; кажется, я недешево за нее заплатил.
– Пожалуй, что так, – согласился он, – но они называют это формальностями, которые надлежит соблюдать. Не воображаете ли вы, кстати, будто ваша лошадь возвращена прежнему владельцу? Как бы не так: она стоит теперь в конюшне у повытчика, где ее берегут в качестве вещественного доказательства. Не думаю, чтоб пострадавшему дворянину удалось получить назад хотя бы загривок. Но поговоримте о другом, – продолжал он. – Каковы ваши намерения? Что собираетесь вы теперь предпринять?
– Я хотел бы добраться до Бургаса: там я разыщу даму, которую спас от разбойников. Она, наверно, даст мне несколько пистолей; я куплю новую сутанеллу [24] и отправлюсь в Саламанку, где попытаюсь использовать свою латынь. Но все дело в том, что я еще не в Бургосе: ведь надо питаться в дороге, а вы сами знаете, как наголодаешься, путешествуя без денег.
– Я вас понимаю, – возразил он, – и мой кошелек к вашим услугам; правда, он несколько тощ, но псаломщик, как вам известно, не епископ.
С этими словами он вытащил свой кошелек и сунул мне его в руку с таким радушием, что я принужден был принять его независимо от содержимого. Я поблагодарил псалмопевца так, как если б он подарил мне все золото в мире, и рассыпался в предложении услуг, которые, впрочем, мне никогда не удалось ему оказать. Затем мы расстались, и я удалился из города, не навестив остальных лиц, хлопотавших о моем освобождении. Я удовольствовался тем, что призвал на их головы тысячи благословений.
Псаломщик имел полное основание не хвастаться своим кошельком: в нем оказалось немного денег; да к тому же какие деньги, – одна только мелочь. К счастью, я за последние два месяца привык к весьма скудному питанию, так что у меня даже еще оставалось несколько реалов, когда я добрался до Понте де Мула, расположенному неподалеку от Бургоса. Там я остановился, чтоб навести справки о донье Менсии, и зашел на постоялый двор, хозяйка которого оказалась женщиной весьма сухопарой, подвижной и суровой. Моя дерюга, как я сразу заметил по неприветливой встрече, не снискала благоволения в ее глазах, что, впрочем, я ей охотно прощаю. Присев к столу, я поел хлеба и сыру и выпил несколько глотков отвратительного вина, которое она мне принесла. Во время этой трапезы, отлично гармонировавшей с моим облачением, я попытался вступить в разговор с хозяйкой, но она ясно дала мне понять презрительной гримасой, что гнушается беседовать со мной. Я просил ее сказать, не знает ли она маркиза де ла Гуардиа, далеко ли до его замка от этого местечка и, главным образом, что сталось с маркизой, его супругой.
– Вы что-то уж слишком много вопросов задаете, – надменно сказала она.
Все-таки она сообщила мне, хоть и очень неохотно, что замок дона Амбросио отстоит в какой-нибудь миле от Понте де Мула. Наступала ночь, а потому, покончив с едой и питьем, я выразил желание отдохнуть и попросил хозяйку отвести мне горницу.
– Вам горницу? – сказала она, бросая на меня взгляд, исполненный презрения. – У меня нет горниц для людей, ужинающих куском сыра. Все мои постели заняты. Я ожидаю сегодня вечером знатных кавалеров, которые хотели здесь переночевать. Все, что я могу сделать для вашей милости, – это поместить вас в сарай; вам, чай, не впервые приходится спать на соломе.
Ей и в голову не могло прийти, как верно она угадала. Я не стал возражать на эту речь и благоразумно направился к своей копне, на которой вскоре заснул, как человек, издавна закаленный.
Глава XIV О приеме, который донья Менсия оказала Жиль Бласу в Бургосе
На другой день я не поленился встать рано поутру и пошел расплатиться с хозяйкой, которая уже была на ногах; она показалась мне несколько менее заносчивой и в лучшем расположении духа, чем накануне вечером, что я приписал присутствию трех достойных стражников Священной Эрмандады, беседовавших с ней запанибрата. Они переночевали на постоялом дворе, и, по-видимому, для этих-то важных сеньоров и были заказаны все имевшиеся постели.
Я спросил в местечке о дороге в замок, куда мне надлежало отправиться, и случайно обратился к человеку одного пошиба с моим пеньяфлорским трактирщиком. Он не ограничился ответом на заданный мною вопрос и рассказал, что маркиз скончался три недели тому назад и что его супруга удалилась в один из бургосских монастырей, название коего он мне сообщил. Вместо того чтобы держать путь в замок, как мною было раньше намечено, я тотчас же направился в Бургос и поспешил в монастырь, где жила донья Менсия. Придя туда, я попросил привратницу передать этой даме, что молодой человек, недавно выпушенный из асторгской тюрьмы, желал бы с ней переговорить. Привратница тотчас же отправилась исполнять мою просьбу. Минуту спустя она вернулась и провела меня в приемную, где мне не долго пришлось дожидаться, так как вскоре появилась у решетки донья Менсия в глубоком трауре.
– Добро пожаловать, – любезно сказала мне эта дама. – Четыре дня тому назад я написала одному лицу в Асторгу, поручив ему зайти к вам от моего имени и передать, что я настоятельно прошу вас посетить меня, как только вы выйдете из тюрьмы. Я не сомневалась в том, что вас скоро выпустят: для этого было достаточно тех показаний, которые я дала коррехидору в ваше оправдание. Действительно, мне написали, что вы уже на свободе, но что никто не знает, куда вы девались. Я боялась, что больше вас не увижу и буду лишена удовольствия выразить вам свою признательность, а это было бы для меня большим огорчением. Утешьтесь, – добавила она, заметив, что я стыжусь жалких лохмотьев, в которых мне пришлось предстать пред нею, – не огорчайтесь тем, что я вижу вас в таком наряде. Я была бы неблагодарнейшей из женщин, если б ничего для вас не сделала после той важной услуги, которую вы мне оказали. Я намерена избавить вас от того незавидного положения, в котором вы находитесь; я должна и могу это сделать. Мне досталось довольно значительное состояние, которое позволяет мне вознаградить вас, не обременяя себя.
– Вы знаете, – продолжала она, – мои приключения по тот день, когда нас обоих посадили в тюрьму. Теперь я расскажу вам, что случилось со мной с тех пор.
После того как асторгский коррехидор, выслушав правдивый рассказ о моих злоключениях, приказал проводить меня в Бургос, я отправилась оттуда в замок дона Амбросио. Мой приезд вызвал там величайшее изумление; однако мне сообщили, что я вернулась слишком поздно, так как маркиз, пораженный моим побегом, как ударом молнии, заболел, и врачи отчаиваются в его спасении. Это подало мне новый повод сетовать на свою лютую судьбу. Тем не менее я приказала уведомить маркиза о своем приезде. Затем я вошла к нему в опочивальню и упала на колени у изголовья его постели, обливаясь слезами и преисполненная глубокой печали, сжимавшей мне сердце.
– Что привело вас сюда? – спросил он, увидев меня. – Или вы хотите посмотреть на деяние рук своих? Разве вам мало того, что вы лишили меня жизни? Неужели для вашего удовлетворения нужно, чтобы глаза ваши стали свидетелями моей смерти?
– Сеньор, – ответствовала я, – Инеса, наверно, передала вам, что я бежала со своим первым супругом. Не стрясись печального события, отнявшего его у меня, вы бы никогда больше меня не увидели. При этом я рассказала ему, как дон Альвар был убит разбойниками и как затем меня увезли в подземелье. Я сообщила ему также и остальное, и, когда я кончила, дон Амбросио протянул мне руку.
– Довольно, – сказал он ласково, – я больше не сетую на вас. И действительно, вправе ли я вас попрекать? Вы нашли любимого вами супруга и покинули меня, чтобы последовать за ним. Смею ли я хулить ваше поведение? Нет, сударыня, я не стану роптать на вас, ибо это было бы несправедливо. По этой же причине я не захотел послать за вами в погоню, хотя несчастье потерять вас убьет меня. Я уважал священные права вашего похитителя и даже ту привязанность, которую вы к нему питали. Словом, я воздаю вам справедливость; своим возвращением сюда вы вновь обрели всю мою прежнюю любовь. Да, любезная Менсия, ваше присутствие преисполнило меня радости; но – увы! – мне не суждено долго наслаждаться ею. Я чувствую уже, что близится мой последний час. Едва вы мне возвращены судьбой, как приходится сказать вам вечное прости. – При этих трогательных словах я пуще прежнего залилась слезами. Меня охватила безмерная скорбь, и я не стала ее скрывать. Кажется, я меньше оплакивала дона Альвара, которого так безумно обожала.
Предчувствие не обмануло дона Амбросио: он скончался на следующий день, и я осталась обладательницей значительного состояния, которое он определил мне при вступлении в брак. Я не намерена воспользоваться им для каких-либо худых дел. Хоть я еще и молода, однако никто не увидит меня в объятиях третьего супруга. Помимо того, что так, по моему мнению, может поступить разве только женщина, лишенная стыда и совести, скажу вам, что не испытываю больше склонности к светской жизни; хочу окончить дни свои в монастыре и стать благодетельницей этой обители.
Такова была речь доньи Менсии. Затем она вынула из-под своей робы кошелек и передала мне его со словами:
– Вот сто дукатов, которые я даю вам только для того, чтоб одеться. Зайдите потом опять ко мне; я не намерена ограничить свою признательность такой мелочью.
Я рассыпался перед доньей Менсией в благодарностях и поклялся, что не покину Бургоса, не попрощавшись с нею. После этой клятвы, нарушить которую у меня не было ни малейшего желания, я отправился разыскивать постоялый двор и зашел в первый попавшийся. Там я спросил себе горницу и, чтобы предотвратить скверное впечатление, которое могло вызвать мое рубище, сказал хозяину, что, несмотря на мой неказистый вид, я в состоянии хорошо заплатить за ночлег. Услышав эти слова, корчмарь, по имени Махуэло, который был от природы превеликий насмешник, оглядел меня с головы до пят и ответил с хладнокровным и лукавым видом, что заверения мои совершенно излишни, так как он и без того видит, какую кучу денег я у него истрачу, что сквозь мою одежду он учуял во мне что-то благородное и что я, безусловно, весьма состоятельный дворянин, в чем он нисколько не сомневается. Я прекрасно видел, что этот прохвост надо мной смеется, и, чтоб сразу положить конец его издевкам, показал ему кошелек. Я даже пересчитал при нем на столе свои дукаты и заметил, что мои капиталы внушили ему обо мне более благоприятное мнение. Затем я попросил его раздобыть мне портного.
– Лучше послать за ветошником, – сказал трактирщик, – он принесет вам всякие наряды и вы сразу будете одеты.
Я одобрил его совет и решил ему последовать; но так как день склонялся к концу, то я отложил покупку до следующего утра и направил все свои помыслы на ужин, чтоб вознаградить себя за скверные трапезы, которыми мне пришлось довольствоваться с той поры, как я вышел из подземелья.
Глава XV О том, как Жиль Блас принарядился, как получил вторичный подарок от доньи Менсии и в каком виде выехал из Бургоса
Мне подали изрядную порцию фрикасе из бараньих ножек, которое я съел почти без остатка. Выпив в меру съеденного, я отправился на покой. Мне дали довольно пристойную кровать, и я надеялся, что сон не замедлит сковать мои чувства. Однако мне не удалось сомкнуть глаз: всю ночь я промечтал о наряде, который мне предстояло выбрать.
«Как мне поступить? – спрашивал я себя. – Выполнить ли свое первоначальное намерение: купить сутанеллу и ехать в Саламанку, чтоб искать там место учителя? Но для чего мне одеваться лиценциатом? Разве я собираюсь посвятить себя духовному званию? Да и чувствую ли я влечение к нему? Напротив того, у меня совсем противоположные вкусы: я хочу носить шпагу и добиться успеха в свете».
На этом я и остановился. Я решил одеться дворянином, убежденный, что в таком платье не премину получить какую-нибудь пристойную и доходную должность. Льстя себя такими надеждами, я с величайшим нетерпением поджидал рассвета, и не успели первые лучи коснуться моих вежд, как я уже был на ногах и поднял такой шум, что разбудил весь постоялый двор. Я принялся звать слуг, но те лежали еще в постелях и ответили на мой зов одной только бранью. Все же им пришлось встать, и я тормошил их до тех пор, пока они не сбегали за ветошником. Вскоре они привели мне этого человека. За ним шло двое молодцов, из которых каждый нес по большой пачке, завернутой в зеленую холстину. Ветошник поклонился мне весьма учтиво и сказал:
– Ваше счастье, сеньор кавальеро, что вам рекомендовали именно меня, а не кого-либо другого. Я вовсе не желаю опорочить своих собратьев в ваших глазах и, упаси меня господь, хоть сколько-нибудь повредить их репутации; но между нами говоря, среди них нет ни одного совестливого человека: все они прижимистее жидов. Я единственный ветошник с честными правилами. С меня вполне достаточно и умеренного барыша: я довольствуюсь ливром на су, я хотел сказать: су на ливр. Благодарение богу, я веду дело без обмана.
После этого вступления, принятого мною по глупости за чистую монету, ветошник приказал своим молодцам развязать узлы, в которых оказалось платье всевозможных цветов. Сперва мне предложили одноцветные пары; но я отверг их с презрением, находя, что они слишком скромны. Затем меня заставили примерить наряд, который оказался сшит прямо на мой рост и ослепил меня, хотя и был уже несколько поношен. Он состоял из камзола с прорезными рукавами, из штанов и епанчи – все из синего бархата с золотым шитьем. Я остановился на этом наряде и спросил о цене. Заметив, что он мне понравился, ветошник похвалил мой тонкий вкус.
– Клянусь богом! – воскликнул он. – Сразу видно, что вы знаете в этом толк. Да будет вам ведомо, что платье это было сшито для одного из самых именитых вельмож королевства, который не надевал его и трех раз. Взгляните на бархат: лучшего нигде не сыскать. А что за вышивка! Признайтесь, что это отменнейшая работа.
– Сколько же вы за него хотите, – спросил я.
– Шестьдесят дукатов, – ответствовал он. – Пусть я не буду честным человеком, если мне уж раз не давали этой суммы.
Поистине убедительная альтернатива!
Я предложил сорок пять. Возможно, что платье не стоило и половины этих денег.
– Сеньор кавальеро, – холодно возразил старьевщик, – я не запрашиваю и слово мое твердо. Не угодно ли вам взять вот эти, – продолжал он, показывая на товары, от которых я отказался. – Тут я могу вам кое-что скинуть.
Тем самым он еще пуще разжигал во мне желание приобрести платье, которое я торговал, и так как мне показалось, что он на самом деле не сбавит ни гроша, то я отсчитал ему шестьдесят дукатов. Видя, сколь легко они ему достались, он, несмотря на свои честные правила, был, вероятно, немало раздосадован тем, что не запросил больше. Успокоившись все же на том, что нажил ливр на су, ветошник удалился со своими молодцами, которых я не забыл вознаградить.
Таким образом я обзавелся весьма изрядной епанчой, камзолом и штанами. Оставалось позаботиться об остальном моем туалете, на что у меня ушло все утро. Я купил белья, шляпу, шелковые чулки, башмаки и шпагу. Затем я облачился во все свои обновки. Что за удовольствие испытал я, видя себя таким нарядным! Глаза мои, так сказать, не могли насытиться этим убранством. Даже павлин никогда не разглядывал своего оперения с большим самодовольством.
В тот же день я нанес второй визит донье Менсии, которая приняла меня еще благосклоннее прежнего. Она снова поблагодарила меня за оказанную услугу. Затем мы взаимно обменялись многими учтивостями, после чего, пожелав мне всяческих успехов, она попрощалась со мной и удалилась, не подарив мне ничего, кроме перстня, ценою в тридцать пистолей, который попросила сохранить на память о ней.
Я был совершенно ошеломлен, так как рассчитывал на более ценное подношение. В задумчивости возвращался я на постоялый двор, не слишком довольный щедростью доньи Менсии. Но не успел я переступить порог, как туда вошел человек, шедший за мною следом; он неожиданно скинул епанчу, прикрывавшую ему лицо пониже глаз, и показал мне большой мешок, который нес под мышкой. При виде мешка, вероятно туго набитого деньгами, я широко раскрыл глаза; то же сделали и прочие лица, присутствовавшие при этом. Мне почудилось, что я слышу глас серафима, когда этот человек, положив свою ношу на стол, сказал мне:
– Сеньор Жиль Блас, вот что посылает вам сеньора маркиза.
Я отвесил посланцу несколько глубоких поклонов и осыпал его любезностями. Но не успел он уйти с постоялого двора, как я набросился на мешок, словно сокол на добычу, и унес его в свою комнату. Там я развязал его, не теряя времени, и нашел в нем тысячу дукатов. Я заканчивал их подсчет, когда вошел трактирщик, который слышал слова посланца и хотел осведомиться о содержании мешка. Зрелище стольких монет, рассыпанных на столе, повергло его в сильное изумление.
– Черт подери! – воскликнул он. – Какая груда денег! Должно быть, вы не дурак поживиться за счет женщин, – добавил он с лукавой улыбкой. – Вы и суток не пробыли в Бургосе, а уже облагаете маркиз контрибуцией.
Эти слова пришлись мне по вкусу. Меня очень соблазняла мысль оставить Махуэло при его заблуждении, которое доставляло мне удовольствие. Не удивляюсь тому, что молодые люди любят слыть покорителями сердец. Тем не менее мое простосердечие одержало верх над тщеславием. Я разуверил своего хозяина и рассказал ему историю доньи Менсии, которую он выслушал с большим вниманием. Затем я посвятил его в свои собственные дела, и так как он делал вид, что принимает во мне участие, то я попросил его пособить мне советом. Он сперва призадумался, а затем сказал серьезным тоном:
– Сеньор Жиль Блас, я питаю к вам расположение, и так как вы мне настолько доверяете, что говорите со мной вполне откровенно, то я скажу вам без лести, к чему считаю вас более всего способным. Мне кажется, что вы рождены для придворной жизни; советую вам ехать ко двору и пристроиться к какому-нибудь знатному вельможе; старайтесь втереться в его дела или споспешествовать его забавам, иначе вы зря потеряете там свое время. Я знаю этих важных господ: они не ставят ни во что рвение и преданность честного человека и считаются только с теми, кто им нужен. Но у вас есть еще один шанс, – добавил он, – вы молоды, пригожи собой, и будь вы даже вовсе лишены рассудка, этих качеств было бы достаточно, чтоб вскружить голову богатой вдове или какой-нибудь хорошенькой женщине, несчастной в замужестве. Если любовь разоряет людей, обладающих богатствами, то она же зачастую кормит тех, у кого ничего нет. Поэтому я думаю, что вам надобно поехать в Мадрид; но не следует являться туда без прислуги. Там, как и везде, встречают по одежде и будут уважать вас сообразно с тем, какую персону вы из себя разыграете. Я отрекомендую вам лакея, верного слугу, скромного малого, словом, человека, за которого я ручаюсь. Купите двух лошаков: одного для себя, другого для него, и поезжайте, как скоро сумеете.
Этот совет настолько пришелся мне по вкусу, что я не мог ему не последовать. На другой же день купил я двух отличных лошаков и нанял лакея, о котором мне говорил Махуэло. То был малый лет тридцати, на вид простой и набожный. Он сказал мне, что родился в Галисии и что его зовут Амбросио Ламела. Одно только показалось мне странным, а именно, что в отличие от прочих слуг, которые обычно бывают весьма жадны до денег, этот вовсе не заботился о хорошем жалованье и даже заявил, что готов довольствоваться платой, которую я по своей доброте соблаговолю ему назначить.
Я присоединил к прочим покупкам еще полусапожки, а также чемодан, чтоб уложить туда свое белье и дукаты. Затем я рассчитался с трактирщиком и, выехав на следующий день перед рассветом из Бургоса, направился в Мадрид.
Глава XVI, из которой явствует, что не следует обольщаться благополучием
Первую ночь мы провели в местечке Дуэньяс, а на вторые сутки часам к четырем пополудни прибыли в Вальядолид и пристали на постоялом дворе, который по всем признакам показался мне одним из лучших в городе. Я предоставил лошаков попечению своего лакея, а сам поднялся в горницу, приказав трактирному слуге отнести туда чемодан. Чувствуя себя несколько утомленным, я бросился на постель, не снимая полусапожек, и сам того не заметил, как заснул. Проснулся я, когда уже почти стемнело. Я кликнул Амбросио, но его на постоялом дворе не оказалось. Впрочем, он скоро явился. Я спросил его, куда он ходил; он ответил мне с благочестивым видом, что был в церкви, где благодарил всевышнего, сохранившего нас от всяких напастей на пути из Бургоса в Вальядолид. Я похвалил его за этот поступок, а затем велел заказать мне к ужину цыпленка на вертеле.
В то самое время, как я отдавал это распоряжение, в горницу вошел гостиник, держа в руке свечу. Он освещал путь даме [25] , одетой с большим великолепием и показавшейся мне более красивой, чем юной. Она опиралась на руку престарелого стремянного, а маленький арапчонок нес шлейф ее платья. Я был немало изумлен, когда эта дама, отвесив мне глубокий поклон, спросила меня, не имеет ли она удовольствия видеть перед собой Жиль Бласа из Сантильяны. Не успел я ответить утвердительно, как, оставив руку стремянного, она бросилась обнимать меня с порывистой радостью, удвоившей мое изумление.
– Да будет благословенно небо за этот счастливый случай! – воскликнула она. – Вас, сеньор кавальеро, именно вас-то я и ищу.
Это вступление напомнило мне пеньфлорского паразита, и я было заподозрил, что эта сеньора просто-напросто искательница приключений; однако ее дальнейшая речь заставила меня возыметь о ней лучшее мнение.
– Я – двоюродная сестра доньи Менсии де Москера, которая вам столь многим обязана, – продолжала она. – Сегодня поутру я получила от нее письмо. Узнав, что вы направляетесь в Мадрид, она просит меня попотчевать вас как следует, если вы будете проездом в Вальядолиде. Вот уже два часа как я катаюсь по всему городу от одного постоялого двора к другому и везде навожу справки о приезжих, которые там остановились. По описанию вашего трактирщика я заключила, что именно вы – избавитель моей кузины. Но раз мне уж посчастливилось вас найти, – добавила она, – то я хочу показать вам, сколь я признательна за услуги, оказанные моей семье и, в частности, моей любезной родственнице. Прошу вас теперь же переехать ко мне: вам будет там удобнее, чем здесь.
Я попытался было отказаться, ссылаясь на беспокойство, которое, ей причиню, но не было никакой возможности воспротивиться настояниям этой сеньоры. Карета уже поджидала нас у подъезда постоялого двора. Она сама распорядилась, чтоб мой чемодан перенесли в карету, так как, по ее словам, Вальядолид кишел ворами, что, к сожалению, было более чем верно. Затем я сел в экипаж с ней и стариком-стремянным и дал себя увезти с постоялого двора, к великому неудовольствию моего хозяина, рассчитывавшего на барыши, которые должны были перепасть ему от меня в связи с приездом сеньоры, стремянного и арапчонка.
Проколесив некоторое время, карета наша остановилась. Мы сошли у довольно большого дома и поднялись в опрятный покой, освещенный двадцатью или тридцатью свечами. Там нас встретило несколько слуг, у которых сеньора осведомилась, не приехал ли дон Рафаэль, на что те ответили отрицательно. Затем, обратившись ко мне, она сказала:
– Сеньор Жиль Блас, я ожидаю брата, который сегодня вечером должен вернуться из нашего замка, находящегося в двух милях отсюда. Какой приятный сюрприз для него, когда он увидит в своем доме человека, которому наша семья столь многим обязана.
Не успела она договорить, как мы услышали шум и тут же узнали, что причиной его был приезд дона Рафаэля. Вскоре и сам он явился. Я увидел перед собой рослого и весьма пригожего молодого человека.
– Радуюсь, братец, вашему возвращению, – сказала ему сеньора, – вы поможете мне радушно принять сеньора Жиль Бласа из Сантильяны. Мы не в состоянии достаточно отблагодарить его за все то, что он сделал для кузины нашей, доньи Менсии. Вот вам ее письмо, – добавила сеньора, – прочтите, что она пишет.
Дон Рафаэль развернул послание и прочел вслух: «Любезная Камила, сеньор Жиль Блас из Сантильяны, который спас мне честь и жизнь, только что отъехал отсюда ко двору. Он, без сомнения, будет держать путь через Вальядолид. Заклинаю вас узами крови и дружбой, что нас соединяет, попотчевать его и удержать у себя несколько времени. Льщу себя надеждой, что вы не преминете оказать мне это удовольствие и что мой избавитель будет всячески обласкан как вами, так и кузеном моим, доном Рафаэлем. Остаюсь всегда ваша, готовая к услугам кузина донья Менсия. Бургос».
– Как? – прочитав письмо, воскликнул дон Рафаэль, – вы и есть тот самый кавальеро, которому наша родственница обязана спасением чести и жизни? Благодарю небо за эту счастливую встречу!
С этими словами он подошел ко мне, крепко обнял меня и затем продолжал:
– Сколь я рад видеть здесь сеньора Жиль Бласа из Сантильяны. Напрасно кузина наша, маркиза, трудилась писать, чтоб мы оказали вам гостеприимство: ей следовало только сообщить, что вы поедете через Вальядолид; этого было бы достаточно. Я и сестра моя Камила отлично знаем, как надо принять человека, оказавшего величайшую в мире услугу члену нашей семьи, к коему мы питаем особенную привязанность.
Я отвечал, сколь мог учтивее, на эти речи, за которыми, вперемежку с объятиями, последовали многие другие в том же духе, после чего, заметив, что я все еще в полусапожках, Дон Рафаэль приказал своим слугам снять их с меня.
Затем мы перешли в покой, где было приготовлено угощение. Кавалер, дама и я уселись за стол. Во время ужина они наговорили мне кучу всяких любезностей. Не успевал я проронить слово, как брат и сестра провозглашали его перлом остроумия. Стоило взглянуть, с какой заботливостью они предлагали мне всякие кушанья. Дон Рафаэль часто пил за здоровье доньи Менсии. Я следовал его примеру и порой как будто замечал, что Камила, которая пила с нами, кидает на меня многозначительные взгляды. Мне даже показалось, что она выискивала для этого подходящие моменты, как бы опасаясь, чтоб брат не заметил ее уловок. Этого было достаточно; я сейчас же решил, что ранил сердце Камилы, и возмечтал использовать это открытие, если только пробуду некоторое время в Вальядолиде. Сия надежда была причиной того, что я без возражений сдался на просьбу своих хозяев погостить у них несколько дней. Они поблагодарили меня за любезность, и радость, которую при этом выказала Камила, пуще укрепила меня во мнении, что я ей весьма приглянулся.
Дон Рафаэль, удостоверившись в моем намерении пробыть у них несколько дней, предложил мне посетить его замок. Он расписал свои владения в самых великолепных красках и перечислил те развлечения, которые собирался мне там предоставить.
– Мы будем забавляться то охотой, то рыбной ловлей, – сказал он, – а если вы любите прогулки, то у нас есть упоительные леса и сады. Кроме того, там соберется приятное общество, и я надеюсь, что вы не соскучитесь.
Я принял предложение, и мы условились на следующий же день отправиться в этот прекрасный замок. Остановившись на сем приятном решении, мы встали из-за стола. Дон Рафаэль, казалось, был в полном восторге.
– Сеньор Жиль Блас, – сказал он, обнимая меня, – оставляю вас на минуту с сестрой. Пойду отдать необходимые распоряжения и прикажу оповестить тех, кого хотел пригласить в замок.
С этими словами он покинул горницу, а я продолжал беседу с его сестрой, причем речи этой сеньоры вполне согласовались с сладкими взглядами, которые она бросала на меня за ужином. Она взяла меня за руку и сказала, глядя на мой перстень:
– Ваш алмаз довольно хорош, но только очень мал. Знаете ли вы толк в камнях?
Я ответил отрицательно.
– Жаль, – заметила она, – а то вы могли бы мне оценить вот этот.
С этими словами она показала мне крупный рубин, который носила на пальце, и, пока я его рассматривал, продолжала:
– Этот камень подарил мне мой дядя, который был губернатором в испанских поселениях на Филиппинских островах. Вальядолидские ювелиры ценят его в триста пистолей.
– Охотно сему поверю, – возразил я, – по-моему, он великолепен.
– Если он вам нравится, – сказала она, – то я с вами поменяюсь.
Она тотчас же сняла с меня перстень, а свой надела на мой мизинец. После этой мены, которую я принял за галантный прием делать подарки, Камила пожала мою руку и поглядела на меня с большой нежностью, а затем, внезапно прервав разговор, пожелала мне покойной ночи и удалилась, весьма сконфуженная, точно устыдившись того, что слишком явно выдала мне свои чувства.
Хотя я был новичком в любовных делах, однако же оценил по достоинству, сколь лестно было для меня это поспешное бегство, и заключил, что недурно проведу время в замке. Завороженный этой обольстительной перспективой и блестящим положением своих дел, я заперся в отведенном мне покое, приказав перед тем слуге Амбросио разбудить меня рано поутру. Вместо того чтоб уснуть, я погрузился в приятные размышления, которые навевали мне чемодан, стоявший на столе, а также рубиновый перстень.
«Слава богу, – думал я, – если мне раньше и не везло, то зато теперь все уладилось. Тысяча дукатов, с одной стороны, перстень в триста пистолей – с другой: вот я и обеспечен надолго. Вижу, что Махуэло мне не льстил: я вскружу сердца всех мадридских красавиц, раз мне удалось так быстро пленить Камилу». Благосклонность этой щедрой сеньоры рисовалась мне во всем своем очаровании; вместе с тем я предвкушал и развлечения, которые дон Рафаэль готовил для меня в замке. Несмотря, однако, на эти радостные грезы, сон наслал на меня свой дурман. Почувствовав дремоту, я разделся и лег в постель.
Проснувшись на следующее утро, я заметил, что уже не рано. Меня удивило, что я не вижу своего лакея, несмотря на приказ, который я дал ему накануне. «Амбросио, мой преданный Амбросио, наверно, в церкви, если он сегодня не вздумал отпраздновать святого лентяя», – сказал я сам себе. Однако мне вскоре пришлось отказаться от этого лестного для него мнения и заменить его значительно худшим, ибо, встав с постели и не видя своего чемодана, я заподозрил, что Амбросио украл его ночью. Чтоб рассеять сомнения, я открыл дверь и несколько раз кликнул этого лицемера. На мой зов явился старец, который спросил меня:
– Что вам угодно, сеньор? Все ваши люди покинули мой дом еще до рассвета.
– Как, ваш дом? – воскликнул я. – Разве я здесь не у дона Рафаэля?
– Не знаю, кто будет этот кавалер, – ответил он мне. – Вы здесь в меблированных комнатах, а я их хозяин. Вчера вечером за час до вашего прибытия приехала сюда сеньора, что с вами ужинала, и наняла эти покои для знатного вельможи, который, как она сказывала, путешествует инкогнито. Она даже уплатила мне вперед.
Тут меня осенило. Я понял, что за птицы были дон Рафаэль и его сестрица и как мой лакей, знавший обо мне всю подноготную, предал меня этим плутам. Вместо того чтоб винить самого себя в сем прискорбном происшествии и сознаться, что этого никогда бы со мной не случилось, не проболтайся я без всякой нужды трактирщику Махуэло, я обрушился на ни в чем не повинную Фортуну и стократно проклял свою звезду. Хозяин меблированных комнат, которому я поведал свое несчастье и который, быть может, знал о нем не меньше меня самого, проникся ко мне сочувствием. Он выразил мне свое сожаление и очень негодовал на то, что все это произошло в его доме. Полагаю, однако, несмотря на все его уверения, что он принимал в этом мошенничестве не меньшее участие, чем мой бургосский трактирщик, которому я всегда приписывал честь всей комбинации.
Глава XVII Что предпринял Жиль Блас после происшествия в меблированных комнатах
Тщетно и горько посетовав на свое несчастье, я пришел к заключению, что не стоит предаваться отчаянию, а лучше ополчиться на свою злую судьбу. Я призвал на помощь все свое мужество и, одеваясь, сказал себе в утешение: «Какое счастье, что плуты не утащили моего платья и пощадили те несколько дукатов, которые были у меня в кармане». Я был им признателен за их деликатность. Они оказались даже настолько великодушны, что оставили мне полусапожки, которые я тут же отдал хозяину за треть цены.
Наконец я вышел из этого дома и, слава богу, уже не нуждался ни в ком, чтоб тащить мои пожитки. Прежде всего я отправился на постоялый двор, где остановился накануне, чтоб наведаться, не уцелели ли мои лошаки. Я уже знал заранее, что Амбросио их там не оставил, и дай бог, чтоб я всегда так здраво судил о нем.
Действительно, мне сказали, что он постарался увести их еще в тот же вечер. Убежденный, что уже никогда не увижу ни их, ни столь любезного мне чемодана, слонялся я уныло по улицам, размышляя о том, что предпринять. У меня было искушение вернуться в Бургос и снова обратиться за помощью к донье Менсии, но я отказался от этого намерения, не желая злоупотреблять добротой любезной сеньоры и к тому же прослыть за олуха. Я давал себе клятву впредь остерегаться женщин и, пожалуй, в те минуты не доверился бы даже целомудренной Сусанне. От времени до времени я поглядывал на свой перстень и горестно вздыхал, вспоминая, что это подарок Камилы.
«Увы! – говорил я сам себе, – в рубинах я не разбираюсь, но зато разбираюсь в людях, которые их выменивают. Не стоит ходить к ювелиру, чтобы лишний раз убедиться, какой я дурак». Все же мне хотелось выяснить стоимость перстня, и я отправился к брильянтщику, который оценил его в три дуката. Услыхав эту оценку, которая, впрочем, нисколько меня не удивила, я послал к дьяволу племянницу филиппинского губернатора, т. е. воздал бесу бесово. Когда я выходил от брильянтщика, со мной поравнялся какой-то молодой человек, который тут же остановился и принялся внимательно меня разглядывать. Сперва я его не узнал, хотя и был с ним хорошо знаком.
– Как, Жиль Блас? – обратился он ко мне. – Вы прикидываетесь, будто не знаете, кто я? Или два года так изменили сына цирюльника Нуньеса, что его и узнать нельзя? Вспомните Фабрисио, своего земляка и однокашника. Сколько раз мы спорили с вами у доктора Годинеса об универсалиях и метафизических степенях [26] .
Не успел еще Фабрисио договорить этих слов, как я узнал его, и мы обнялись самым сердечным образом.
– Сколь я рад тебя видеть, дружище! – продолжал он. – Не знаю даже, как выразить свой восторг… Однако, – воскликнул он с удивлением, – какой у тебя блестящий вид. Ведь ты, прости господи, расфуфырился, как принц. Прекрасная шпага, шелковые чулки, камзол и епанча бархатные, да к тому же с золотым шитьем. Футы-нуты! это дьявольски попахивает любовной интрижкой. Держу пари, что ты пользуешься милостями какой-нибудь щедрой старушки.
– Жестоко заблуждаешься, – отвечал я, – дела мои далеко не так блестящи, как тебе кажется.
– Рассказывай сказки! – возразил он. – Скромничаешь, любезный. А что это у вас за перстень на пальце, сеньор Жиль Блас? От кого он, с вашего разрешения?
– От самой отъявленной плутовки. Ах, Фабрисио, мой милый Фабрисио, я вовсе не баловень вальядолидских женщин; напротив, друг мой, они меня одурачили.
По грустному тону, которым я произнес эти последние слова, Фабрисио понял, что со мной сыграли какую-то шутку. Он попросил меня объяснить, почему я так жалуюсь на прекрасный пол. Я охотно согласился удовлетворить его любопытство, но так как история моя была не из коротких, да к тому же нам хотелось побыть вместе подольше, то зашли мы в питейный дом, где можно было удобнее побеседовать. Там я рассказал ему за завтраком все, что произошло со мной после отъезда из Овьедо. Мои приключения показались ему весьма диковинными и, выразив мне сочувствие по поводу досадного положения, в котором я очутился, он сказал:
– Не надо огорчаться житейскими невзгодами, друг мой: помни, что сильные и смелые души тем и отличаются от слабых. Очутившись в беде, мудрец терпеливо дожидается лучших времен. Цицерон учит никогда так не падать духом, чтоб забыть самое главное, а именно: что ты – человек. У меня самого как раз такой характер: несчастья меня не угнетают; я стою выше всяких превратностей судьбы. Вот, к примеру: влюбился я в Овьедо в одну отцовскую дочь, которая ответила мне взаимностью; я попросил у отца ее руки, но он отказал мне. Другой на моем месте умер бы с горя, а я – дивись же силе духа! – похитил эту юную особу. Она была живой и ветреной кокеткой, а потому ставила свои прихоти выше долга. Полгода возил я ее по Галисии, после чего, войдя во вкус путешествий, пожелала она поехать в Португалию, однако выбрала на сей раз другого попутчика. Новый удар! Но я не пал под бременем этого несчастья и поступил мудрее Менелая: вместо того чтоб ополчиться на Париса, который свистнул мою Елену, я был ему признателен за то, что он меня от нее избавил. Затем, не желая возвращаться в Астурию во избежание возможных столкновений с правосудием, отправился я в Королевство Леонское, проматывая в городах деньги, оставшиеся у меня после похищения моей инфанты; ибо оба мы, уезжая из Овьедо, успели здорово погреть руки и как следует снарядиться в дорогу. В Паленсию я приехал уже с одним дукатом, да еще пришлось мне из этих денег купить себе башмаки. Остатка хватило ненадолго. Положение мое становилось затруднительным, и я даже начал жить впроголодь, – необходимо было быстро принять меры. Я решил поступить в услужение. Сперва устроился я у одного крупного торговца сукном, сын которого был большим забулдыгой; я нашел там убежище от голода, но зато попал в затруднительное положение. Отец приказывал мне следить за сыном, а сын просил, чтоб я помогал ему обманывать отца: пришлось выбирать. Я предпочел просьбу приказанию, и из-за этого предпочтения лишился места. Затем я поступил к старому живописцу, который захотел по дружбе посвятить меня в основы своего искусства; но, обучая меня сему ремеслу, он морил меня голодом. Это внушило мне отвращение к живописи и к пребыванию в Паленсии. Я перебрался в Вальядолид, где, к величайшему своему счастью, попал в дом к смотрителю богадельни; там я живу по сие время и весьма доволен своим местом. Хозяин мой, сеньор Мануэль Ордоньес, – человек глубокого благочестия и весьма достойная персона, ибо он постоянно ходит потупив глаза и с большими четками в руках. Говорят, будто он смолоду так старался делать добро бедным людям, что пристрастился к их добру с неусыпным рвением. И действительно, попечения его не остались без награды: все ему удавалось. Небо ниспослало на него свою благодать. Ратуя о делах бедняков, он разбогател сам.
Выслушав повествование Фабрисио, я сказал ему:
– Очень рад, что ты доволен своей судьбой, но, между нами говоря, ты мог бы, по-моему, играть более почетную роль в обществе, чем роль слуги; молодчик с твоими достоинствами имеет право летать повыше.
– Ошибаешься, Жиль Блас, – возразил он, – знай, что для человека такого склада, как я, нет более приятного занятия, чем мое. Должность лакея действительно тягостна для дурака; но для смышленого малого она заключает в себе одни только привлекательные стороны. Человек с выдающимся умом поступает в услужение не для того, чтоб работать физически, как какой-нибудь простачок. Он находит себе место не столько чтоб служить, сколько для того, чтоб командовать. Сперва он изучает своего барина, затем потакает его слабостям, втирается к нему в доверие и, наконец, водит его за нос. Так я и поступал со своим смотрителем. Сначала я раскусил, что это за гусь: заметил, что он хочет прослыть праведником, и сделал вид, будто попался на эту удочку. Это ничего не стоит. Но я пошел дальше и стал его копировать; разыгрывая перед ним ту роль, которую он разыгрывал перед другими, я обманул обманщика и мало-помалу сделался его фактотумом. Надеюсь со временем и сам приобрести состояние, пристроившись под его покровительством к добру бедных людей, ибо чувствую к добру не меньшее влечение, чем мой хозяин.
– Приятные перспективы, любезный Фабрисио, – сказал я, – прими мои поздравления. Что касается меня, то я возвращаюсь к моему первому намерению: сменю свой расшитый кафтан на сутанеллу, отправлюсь в Саламанку и там, став под знамена университета, буду учительствовать.
– Вот так придумал! – воскликнул Фабрисио. – Нечего сказать, дивная мечта! Что за безумие в твои годы стать педагогом! Да знаешь ли, несчастный, на что ты себя обрекаешь этой выдумкой? Как только ты поступишь на место, весь дом будет за тобой присматривать, каждый твой шаг будет обсуждаться со всех сторон. Тебе придется непрестанно держать себя в руках, принять обличие лицемера и притворяться воплощением всех добродетелей. У тебя не останется почти ни одной свободной минуты для удовольствий. Неусыпный страж своего ученика, ты будешь по целым дням обучать его латыни и читать ему нотации, если он скажет или учинит что-либо противное благопристойности; а это создаст тебе немало работы. Что же ты пожнешь от своих трудов после стольких забот и самоистязаний? Если из твоего барчука выйдет оболтус, то скажут, что ты плохо его воспитал, и его родители уволят тебя без всякой награды, а, быть может, не заплатят даже обещанного жалованья. А потому не говори мне, пожалуйста, об учительстве; это должность, с которой хлопот не оберешься. То ли дело место лакея: это – легкая служба и ни к чему не обязывает. Если за барином водятся какие-нибудь пороки, то смышленый малый, который ему прислуживает, потворствует им и нередко обращает их в свою пользу. В хорошем доме лакей катается как сыр в масле. Выпьет, закусит, как следует, и ложится на боковую, точно маменькин сынок, не беспокоясь ни о мяснике, ни о булочнике. Я в жизни не кончу, – продолжал он, – если примусь перечислять все преимущества лакейской должности. Поверь мне, Жиль Блас, выкинь навсегда из головы намерение стать учителем и последуй моему примеру.
– Пусть так, – заметил я, – но смотрители богаделен попадаются не каждый день, а если б я уже решился стать слугой, то хотел бы, по крайней мере, поступить на приличное место.
– В этом ты прав, – сказал он, – и я беру на себя все заботы. Ручаюсь, что достану тебе хорошее место, хотя бы для того, чтоб спасти порядочного человека от университета.
Грозившая мне в недалеком будущем нужда и довольный вид Фабрисио оказали на меня еще больше влияния, чем его доводы, и я решил поступить в услужение. После этого мы вышли из питейного дома, и мой земляк сказал:
– Сейчас же сведу тебя к человеку, к которому обращаются почти все слуги, когда их вышвыривают на улицу. У него есть свои сероливрейные лакеи [27] , которые осведомляют его обо всем, что происходит в барских домах. Он знает, где нуждаются в прислуге, и ведет точный реестр не только свободных мест, но также достоинств и недостатков господ. Человек этот был прежде монахом в какой-то обители. Словом, это он приискал мне место у смотрителя.
Продолжая беседовать со мной об этой диковинной рекомендательной конторе [28] , сын брадобрея Нуньеса привел меня в глухой переулок. Мы вошли в маленький домик, где застали человека лет за пятьдесят, писавшего что-то за столом. Мы поклонились ему, и даже довольно почтительно; но, потому ли, что был он горд от природы, или потому, что, имея дело только с лакеями и кучерами, привык обращаться с этой публикой без церемонии, он не счел нужным привстать и ограничился легким кивком головы. На меня, однако, он посмотрел с особым вниманием. Видимо, его удивило, что молодой человек в бархатном, расшитом золотом камзоле хочет наняться в лакеи; он мог скорее думать, что я сам ищу служителя. Но ему не пришлось долго сомневаться относительно моих намерений, так как Фабрисио сразу же объявил ему:
– Сеньор Ариас де Лондона, разрешите представить вам моего лучшего друга. Это молодой человек из хорошей семьи, которого несчастья заставляют поступить в лакеи. Укажите ему, пожалуйста, хорошее место и можете быть уверены, что он вас отблагодарит.
– Все вы таковы, – сурово ответил Ариас, – пока вы без места, то готовы посулить любые сокровища мира; а как только вас пристроишь, вы обо мне и думать забыли.
– Как? – удивился Фабрисио. – Неужели вы жалуетесь на меня? Разве я не отблагодарил вас как следует?
– Можно бы и лучше, – возразил Ариас. – Ваше место не хуже чиновничьего, а заплатили вы мне, точно я устроил вас к сочинителю.
Тут я вмешался в разговор и сказал сеньору Ариас, что он не должен считать меня неблагодарным человеком и что я хочу, чтоб награда предшествовала услуге. С этими словами я вынул из кармана два дуката, каковые и вручил ему, обещав, что не ограничусь этим, если место окажется хорошим.
Этим поступком он, по-видимому, остался весьма доволен.
– Вот такое обхождение мне нравится, – сказал он и добавил: – Есть много отличных мест, которые теперь свободны. Я вам их перечислю, а вы выберете то, что вам подойдет.
Сказав это, он надел очки, раскрыл реестр, лежавший на столе, перелистал несколько страниц и прочел следующее: «Нужен лакей капитану Торбельино [29] , человеку вспыльчивому, грубому и взбалмошному; беспрерывно бранится, чертыхается, дерется и уже неоднократно калечил прислугу».
– Нет ли кого другого? – воскликнул я, услыхав эту характеристику. – Этот капитан не в моем вкусе.
Моя экспансивность заставила улыбнуться сеньора Ариас; затем он принялся читать далее: «Донья Мануэла де Сандоваль, престарелая знатная вдова, бранчлива и капризна; теперь без лакея; держит только одного служителя, да и тот обычно уживается у нее не более суток. В доме имеется одна ливрея, сшитая десять лет тому назад, в нее наряжают всех поступающих слуг, какого бы роста они ни были. Можно сказать, что они только ее примеряют и что она еще совсем новая, хотя носили ее уже две тысячи лакеев. – Нужен лакей доктору Альвару Фаньесу, он же составитель лекарств. Кормит прислугу хорошо, содержит чисто, даже платит крупное жалованье; но пробует на ней свои снадобья. В этом доме часто бывают вакантные места для лакеев».
– Нисколько не удивляюсь, – прервал его со смехом Фабрисио. – Однако, черт подери, недурные местечки вы нам рекомендуете.
– Имейте терпение, – сказал Ариас де Лондона, – мы еще не дошли до конца; найдется и для вас что-нибудь подходящее.
Затем он продолжал: «Донья Альфонса де Солис, богомольная старуха; проводит две трети дня в церкви и требует от лакея, чтоб он находился при ней неотлучно. Уже три недели сидит без слуги. – Лиценциат Седильо, престарелый каноник здешнего собора; вчера вечером прогнал своего лакея…»
– Остановитесь, сеньор де Лондона, – прервал его Фабрисио в этом месте, – последнее предложение нам подходит. Лиценциат Седильо – друг моего хозяина, и я с ним отлично знаком. У него есть ключница, старая ханжа по имени Хасинта, которая заправляет всем домом. Это одно из лучших мест в Вальядолиде. Живется там спокойно и кормят хорошо. К тому же каноник – человек хворый и давно страдает подагрой; ему скоро придется писать духовную, и тут есть надежда на наследство. Великолепная перспектива для лакея. Жиль Блас, – добавил он, повернувшись ко мне, – не будем терять драгоценного времени, отправимся сейчас же к лиценциату. Я сам представлю тебя ему и буду твоим поручителем.
Опасаясь упустить столь блестящий случай, мы после этих слов поспешно простились с сеньором Ариас, заверившим меня, что, если это место от меня ускользнет, он за мои деньги найдет мне другое, не менее удачное.
Книга вторая
Глава I Фабрисио приводит Жиль Бласа к лиценциату Седильо и определяет его на службу. В каком состоянии был сей каноник. Описание его ключницы
Мы так боялись опоздать к старому лиценциату, что единым духом отмахали расстояние от тупика до его дома. Двери оказались запертыми, так что пришлось постучаться. Нам открыла десятилетняя девочка, которую ключница, вопреки злословию, выдавала за свою племянницу. Пока мы осведомлялись у нее, нельзя ли повидать каноника, появилась сама сеньора Хасинта. То была особа уже степенного возраста, но еще не утерявшая красоты; особенно поразил меня цвет лица, отличавшийся необыкновенной свежестью. На ней было длинное платье из совсем простой шерстяной материи и широкий кожаный пояс, с которого по одну сторону свисала связка ключей, а по другую четки с крупными бусами. Увидев ее, мы поклонились с большим почтением; она отвечала нам весьма учтиво, однако же потупив глаза и с превеликой скромностью.
– Я узнал, – обратился к ней мой приятель, – что сеньор лиценциат ищет честного слугу; могу предложить ему молодого человека, которым, надеюсь, он останется доволен.
При этих словах ключница подняла глаза, пристально посмотрела на меня и, не зная, как ей согласовать мое золотое шитье со словами Фабрисио, спросила, не я ли претендую на освободившееся место.
– Да, именно этот молодой человек! – сказал сын Нуньеса. – Хотя он, как вы видите, не простого звания, однако же превратности судьбы понуждают его поступить в услужение. Но он, без сомнения, утешится в своих несчастьях, – добавил Фабрисио елейно, – если ему посчастливится попасть в этот дом и жить подле добродетельной Хасинты, которая достойна быть ключницей у патриарха обеих Индий.
При этих словах старая святоша отвела от меня глаза, чтоб взглянуть на столь учтивого собеседника. Пораженная чертами его лица, показавшегося ей знакомым, она спросила Фабрисио:
– Мне смутно представляется, что я вас уже видела; помогите мне вспомнить.
– Целомудренная Хасинта, – ответил ей Фабрисио, – считаю за великую честь, что обратил на себя ваше внимание; я два раза приходил сюда за своим барином, сеньором Мануэлем Ордоньесом, смотрителем богадельни.
– Ах да! – сказала ключница. – Теперь вспоминаю и узнаю вас. Но раз вы состоите при сеньоре Ордоньесе, то вы, несомненно, человек честный и благонравный. Ваша служба говорит за вас, и этот молодой человек не мог бы пожелать себе лучшего поручителя. Пойдемте, – добавила она, – я отведу вас к сеньору Седильо. Думаю, что он будет рад взять слугу по вашей рекомендации.
Мы последовали за сеньорой Хасинтой. Каноник жил в нижнем этаже, и апартаменты его состояли из четырех покоев, отделанных отличной панелью и расположенных анфиладой. Ключница предложила нам обождать минутку в первой горнице и, покинув нас, пошла во вторую, где находился каноник. Пробыв с ним некоторое время наедине и изложив ему наше дело, она вернулась и сказала, что мы можем войти.
Мы увидели старого подагрика, утопавшего в кресле: голова покоилась на подушке, руки лежали на думках, а ноги опирались на тюфячок, туго набитый пухом. Мы подошли к канонику, не скупясь на поклоны, и Фабрисио, снова взяв слово, не ограничился повторением того, что сказал ключнице, а принялся восхвалять мои достоинства и остановился главным образом на славе, которую я снискал себе на философских диспутах у доктора Годинеса, словно для поступления в лакеи к канонику мне надлежало быть великим философом. Тем не менее этими дифирамбами моей особе Фабрисио ухитрился пустить пыль в глаза лиценциату, который, заметив к тому же, что сеньора Хасинта ничего против меня не имеет, сказал моему поручителю:
– Друг мой, я принимаю к себе на службу сего юношу, которого ты привел. Он мне понравился, и я доброго мнения о его нраве, поскольку он представлен мне служителем сеньора Ордоньеса.
Убедившись, что я принят, Фабрисио отвесил поклон канонику, другой, еще более глубокий, ключнице и, шепнув мне, чтоб я остался и что мы еще увидимся, удалился, весьма довольный результатами своих хлопот. Как только он вышел, лиценциат спросил, как меня зовут и отчего я покинул родину, каковыми вопросами побудил меня рассказать мои похождения в присутствии сеньоры Хасинты. Этим я их весьма позабавил, в особенности же описанием своего последнего приключения. История с Камилой и доном Рафаэлем вызвала у них неудержимый приступ смеха, который чуть было не стоил жизни старому подагрику, ибо, хохоча во все горло, сеньор лиценциат так раскашлялся, что, казалось, был готов отдать душу богу. Духовная еще не была написана: судите поэтому об ужасе ключницы. Растерявшись и вся дрожа, бросилась она на помощь бедняге и, прибегнув к средствам, которыми останавливают у детей кашель, принялась тереть ему лоб и хлопать его по спине. Однако тревога оказалась ложной: старец перестал кашлять, а ключница его тормошить. Я хотел было закончить свой рассказ, но сеньора Хасинта, опасаясь вторичного припадка, воспротивилась этому. Она увела меня из опочивальни каноника в гардеробную, где среди прочего платья хранилась ливрея моего предшественника. Ключница предложила мне надеть ее и спрятала на ее место мое одеяние, которое я был не прочь сберечь – в надежде, что оно мне еще пригодится. Затем мы вдвоем отправились готовить обед.
Я оказался не новичком в кулинарном искусстве. Действительно, мне пришлось пройти недурную школу у старой Леонарды, которая могла в самом деле сойти за хорошую стряпуху. Но все же ей было далеко до сеньоры Хасинты, которая, пожалуй, заткнула бы за пояс даже кухаря толедского архиепископа [30] . Каждое блюдо было шедевром, а ее похлебки – сплошным упоением, так ловко умела она комбинировать и смешивать разные мясные соки, которые туда прибавляла; рубленые же кушанья она сдабривала приправами, придававшими им весьма приятный вкус.
Приготовив обед, мы вернулись в покои каноника, и, пока я накрывал на стол подле его кресла, ключница подвязала ему под подбородок салфетку, которую скрепила на шее узлом. Минуту спустя я подал старцу суп, способный потрафить даже богатейшему из мадридских иереев, и два блюда закусок, от которых облизнулся бы любой вице-король, если бы сеньора Хасинта не побоялась растравить подагру лиценциата, приправив их крепкими специями. При виде этих славных кушаний мой дряхлый хозяин, коего я почитал за полного паралитика, показал, что не совсем еще потерял способность владеть руками. С их помощью освободился он от подушки и думок и радостно приготовился приступить к обеду. Правда, кисть у него дрожала, но служить не отказывалась. Он орудовал ею довольно свободно, проливая, впрочем, на скатерть и салфетку половину того, что подносил ко рту. Как только старик вдосталь наелся супу, я убрал это блюдо со стола и принес куропатку, красовавшуюся посреди двух жареных перепелок. Сеньора Хасинта разрезала эту дичь. Вместе с тем она от времени до времени подносила ему к губам, точно годовалому ребенку, широкий и глубокий серебряный кубок с вином, слегка разбавленным водой, и он отпивал из него большими глотками. Каноник приналег на закуску, а затем оказал не меньше чести и птичкам. Когда он основательно налопался, ключница отвязала ему салфетку и положила на место подушку и думку. Затем, предоставив ему безмятежно наслаждаться в кресле послеобеденным покоем, установленным обычаем, мы убрали со стола и сами пошли поесть.
Таким вот образом обедал ежедневно наш каноник, который был, может быть, самым большим обжорой во всем капитуле. Но ужинал он умереннее, довольствуясь цыпленком или кроликом и разными компотами из фруктов. Кормили меня и в этом доме хорошо, и жил я в свое удовольствие. Одно только было неприятно: приходилось бодрствовать по ночам и заменять хозяину сиделку. Он не только страдал задержанием урины, что заставляло его раз по десять в час требовать ночной сосуд, но также усиленным выделением пота; а когда он потел, то приходилось менять ему рубаху.
– Жиль Блас, – сказал он мне на вторую ночь, – ты малый дельный и расторопный. Вижу, что останусь доволен твоей службой. Одно только советую тебе: угождай во всем сеньоре Хасинте и безропотно исполняй все, что она тебе скажет, как если б я сам тебе приказывал. Эта девушка служит мне, почитай, пятнадцать лет с особливой ревностью; она имеет обо мне такое попечение, что я не могу ее за то довольно возблагодарить. Признаюсь тебе, что она мне милее всей моей родни. Ради нее прогнал я племянника своего, сына родной моей сестры. И поделом ему: он не оказывал никакого уважения этой бедной девушке и, вместо того чтобы отдавать справедливость ее искренней ко мне привязанности, бесстыдник обзывал ее лицемерной ханжой, ибо ныне молодые люди почитают добродетель за лицемерие. Слава богу, я избавился от сего нечестивца. Сердечное ко мне расположение я ставлю превыше кровного родства и чувствую признательность лишь к тем, кто не оставляет меня своими добрыми делами.
– Вы совершенно правы, сеньор, – сказал я лиценциату, – благодарность должна пользоваться большей властью над нами, нежели законы природы.
– Без сомнения, – подтвердил он. – И моя духовная воочию покажет, что я не считаюсь со своей родней. Ключница получит изрядную долю; да и ты не будешь забыт, если станешь и впредь служить мне так, как начал. Слуга, которого я вчера уволил, сам виноват, что лишился хорошего наследства. Когда бы сей прощелыга не принудил меня своим поведением прогнать его со двора, то я непременно обогатил бы его; но он был превеликий гордец, который не оказывал почтения сеньоре Хасинте, да и к тому же лентяй и боялся работы. Он не любил бодрствовать и почитал за великий труд ухаживать за мной по ночам.
– Ах, несчастный! – воскликнул я, точно в меня вселился дух моего приятеля Фабрисио. – Он был недостоин служить у такой почтенной особы, как вы. Слуга, имеющий счастье состоять при вас, должен проявлять неусыпную ревность, обязанности свои вменять себе в удовольствие и считать, что ничего не делает даже тогда, когда доработался до кровавого пота.
Я заметил, что эти слова весьма пришлись по вкусу лиценциату. Он остался также очень доволен заверением, что я всегда буду беспрекословно повиноваться желаниям сеньоры Хасинты. Стремясь прослыть слугой, не боящимся никакой усталости, я отправлял свои обязанности с величайшей готовностью и не жаловался на то, что провожу ночи на ногах. Это, однако, не мешало мне находить свою службу весьма неприятной, и, не будь наследства, которым я подкармливал свои надежды, место мое скоро бы мне опротивело; думаю, что я просто не выдержал бы, хотя и спал днем по нескольку часов.
Ключница – надо отдать ей справедливость – была ко мне чрезвычайно внимательна, что следует приписать любезному и почтительному обхождению, с помощью которого я старался завоевать себе ее расположение. Так, сидя за столом с нею и ее племянницей, которую звали Инесильей, я менял им тарелки, подливал вина и вообще всячески старался услужить. Благодаря этому я втерся к ним в дружбу. Однажды, когда сеньора Хасинта ушла за провизией, я остался наедине с Инесильей и, разговорившись с нею, спросил, живы ли ее родители.
– Ах, нет, – возразила она, – папа и мама давно, давно умерли: так мне сказывала тетушка, а сама я их никогда не видала.
Я счел долгом поверить, хотя ответ девочки и не носил категорического характера. Затем, подстрекаемая мною, она принялась щебетать и выболтала мне кучу таких вещей, которых я и знать не хотел. Между прочим, она сообщила, или, вернее, я понял из срывавшихся у нее наивностей, что у тетки имелся сердечный друг, проживавший в услужении у другого старого каноника и заправлявший его мирскими делами, и что эти счастливые слуги намеревались, унаследовав добро своих хозяев, объединить его воедино посредством брака, радости коего заранее вкушали. Хотя сеньора Хасинта была уже в летах, однако отличалась – как я выше упоминал – необычной свежестью. Правда, она принимала все меры к тому, чтоб сохраниться как можно лучше: помимо клистира, который она ставила себе каждое утро, сия особа пила в течение дня, а также перед сном, крепкий мясной отвар. К тому же она спокойно спала по ночам, тогда как я дежурил подле своего господина. Но, быть может, еще в большей степени, чем все эти средства, способствовали сохранению свежести фонтанели [31] , которые – как сообщала мне Инесилья – ключница ставила на обеих ногах.
Глава II Каким способом лечили заболевшего каноника, что из этого воспоследовало и какое наследство он завещал Жиль Бласу
В течение трех месяцев служил я лиценциату Седильо, не жалуясь на мучительные ночи, которые проводил по его милости. К концу этого срока он занемог. У него определилась лихорадка, а от этого, в свою очередь, обострилась подагра. Впервые за всю свою жизнь, которая была не из коротких, прибег он к лекарям и приказал позвать доктора Санградо [32] , которого весь Вальядолид почитал за Гиппократа. Сеньора Хасинта предпочла бы, чтоб хозяин составил завещание до того, как посылать за врачом, и даже намекнула на это, но, во-первых, наш каноник вовсе еще не собирался умирать, а, во-вторых, в известных случаях бывал необычайно упрям. А потому я отправился за доктором Санградо и привел его к нам на квартиру. Это был высокий человек, сухой и бледный, который уже, по меньшей мере, лет сорок поставлял работу ножницам Парки [33] . Сей достойный эскулап обладал внушительной наружностью, взвешивал слова и выбирал самые изысканные выражения. Рассуждения его походили на геометрические фигуры, а мнения отличались оригинальностью. Пристально поглядев на моего господина, он сказал докторальным тоном:
– Надо заменить чем-нибудь остановившийся процесс выделения пота. Другие на моем месте, несомненно, прописали бы вызывающие испарину солянистые или мочегонные средства, которые, по большей части, содержат серу и ртуть; но слабительные и потогонные – это опасные лекарства и придумали их шарлатаны. Все химические препараты причиняют человеку один только вред. Что касается меня, то я лечу самыми простыми и верными средствами. Скажите, пожалуйста, – спросил он у пациента, – что вы обычно кушаете?
– Обычно я ем крепкие похлебки и сочную говядину, – отвечал каноник.
– Как! – воскликнул доктор с удивлением. – Крепкие похлебки и сочную говядину! Нисколько не удивляюсь тому, что вы больны. Вкусные блюда – это наслаждения, таящие яд; это капканы, которые чревоугодие ставит человеку, чтоб вернее его погубить. Вы должны отказаться от лакомых кушаний; чем еда безвкуснее, тем она полезнее для здоровья. Кровь сама по себе не вкусна и потому требует такой же пищи. А вино вы пьете? – осведомился он.
– Пью, но разбавленное водой.
– Разбавленное или неразбавленное, а это верх неумеренности. Просто чудовищный режим! Удивляюсь, как вы давно не умерли. Сколько вам лет?
– Недавно пошел шестьдесят девятый, – отвечал каноник.
– Так оно и есть, – продолжал доктор, – преждевременная старость является всегда плодом невоздержанности. Если бы вы всю свою жизнь пили одну только чистую воду и удовольствовались простой пищей, например печеными яблоками, горохом или бобами, то не страдали бы теперь подагрой и все ваши члены свободно отправляли бы свои функции. Все же я не отчаиваюсь поставить вас на ноги, если вы будете точно исполнять мои предписания.
Сколь лиценциат ни был прожорлив, однако же обещал во всем слушаться доктора. Тогда Санградо послал меня за фельдшером, которого сам рекомендовал, и велел ему пустить сеньору Седильо шесть добрых тазиков [34] крови, чтоб заменить процесс выделения пота. Затем он сказал фельдшеру:
– Мастер Мартин Онес, вернитесь сюда через три часа, чтоб снова пустить пациенту кровь, а завтра проделайте то же самое. Ошибочно думать, что кровь необходима для сохранения жизни; чем больше выпустишь больному крови, тем лучше. Ведь больной не обязан ни двигаться, ни напрягаться, и все его дело сводится к тому, чтоб не умереть, а потому для поддержания жизни ему нужно не больше крови, чем спящему человеку; у обоих жизнь проявляется только в биении пульса и в дыхании.
Простодушный каноник решил, что такой знаменитый врач не может ошибаться, и без сопротивления позволил пустить себе кровь. Прописав частые и обильные кровопускания, доктор заявил, что необходимо как можно чаще поить больного теплой водой и что вода, выпитая в больших количествах, может считаться панацеей от всевозможных болезней. Затем он удалился, с уверенностью сказав мне и сеньоре Хасинте, что отвечает за жизнь пациента, если будут аккуратно следовать его предписаниям. Ключница, которая, быть может, была иного мнения о его методе врачевания, обещала, что все будет исполнено в точности. Действительно, мы тотчас же принялись согревать воду, и так как доктор пуще всего наказал нам не жалеть ее, то заставили нашего хозяина выпить большими глотками две или три пинты [35] . Час спустя мы это повторили, а затем, возвращаясь через известные промежутки к той же процедуре, влили канонику в желудок целый океан жидкости. Фельдшер, с своей стороны, помогал нам обильными кровопусканиями, так что менее чем через два дня мы довели дряхлого лиценциата до последней черты.
Почувствовав, что ему уже невмоготу, несчастный старик сказал мне слабым голосом, когда я собирался влить в него большой стакан пресловутого универсального средства:
– Постой, Жиль Блас! Не давай мне больше сего напитка, друг мой. Вижу, что приходится умирать, невзирая на целительные свойства воды; и хоть осталось у меня не больше одной капли крови, однако же мне нисколько не полегчало: это доказывает, что даже самый искусный лекарь в мире не в силах продлить наши дни, когда они сочтены. А потому должен я приготовиться, чтоб уйти в иной мир; ступай же и приведи нотариуса: я хочу составить духовную.
Услыхав не без удовольствия эти последние слова, я притворился весьма опечаленным, как это обычно делает в таких случаях всякий наследник, и, хотя и сгорал от желания выполнить данное мне поручение, однако же сказал своему барину:
– Что вы, сеньор? Слава богу, ваша милость еще не так плоха, чтоб вы не могли поправиться.
– Нет, нет, друг мой, – возразил каноник, – пришел мой конец. Чувствую, что подагра вновь обострилась и что приближается смерть. Торопись же пойти туда, куда я тебя посылаю.
Я действительно заметил, что каноник явно сдавал, и дело показалось мне столь неотложным, что я поспешно отправился выполнять его поручение, оставив при нем сеньору Хасинту, боявшуюся еще больше меня, как бы он не умер без завещания. Я завернул к первому попавшемуся нотариусу, которого мне указали, и, застав его дома, обратился к нему:
– Сеньор! Хозяин мой, лиценциат Седильо, находится при смерти; он хочет продиктовать свою последнюю волю; нельзя терять ни минуты.
Нотариус был небольшой веселый старичок, любивший шутки. Он осведомился, какой врач пользует каноника. Я отвечал, что его лечит доктор Санградо. Услыхав это имя, он поспешно схватил плащ и шляпу.
– Ах ты господи! – воскликнул он. – Бежим скорее, ибо этот доктор так ретив, что его пациенты не успевают дождаться нотариуса. Сколько завещаний упустил я из-за этого человека!
С этими словами нотариус поторопился выйти вместе со мной, и, пока мы шагали полным ходом, чтоб прийти к канонику до его агонии, я сказал своему спутнику:
– Сеньор, вы знаете, что у завещателей перед смертью нередко мутится память; если барин мой случайно забудет меня в своем завещании, не откажите напомнить ему о моем усердии.
– Охотно, дитя мое, – возразил нотариус, – можешь на меня положиться. Считаю справедливым, чтоб господин вознаграждал лакея, который служил ему верой и правдой. Я даже похлопочу, чтоб тебе был завещан знатный куш, если только лиценциат склонен признать твои заслуги.
Когда мы пришли в опочивальню каноника, он был еще в полной памяти. Сеньора Хасинта, заливаясь притворными слезами, находилась подле него. Она только что сыграла свою роль и подготовила доброго старца к тому, чтоб он ее всячески облагодетельствовал. Оставив своего господина наедине с нотариусом, мы перешли с нею в прихожую, где застали фельдшера, которого прислал доктор, чтоб сделать больному еще одно и, вероятно, последнее кровопускание. Мы остановили его.
– Обождите минутку, мастер Мартин, – сказала ключница, – сейчас нельзя входить к сеньору Седильо. К нему пришел нотариус, которому он диктует свою последнюю волю. Когда сеньор составит духовную, можете пускать ему кровь, сколько вам будет угодно.
Я и моя святоша безумно боялись, как бы лиценциат не умер во время составления завещания, но, по счастью, акт, причинявший нам столько беспокойства, был в конце концов оформлен. Мы увидели выходящего нотариуса, и тот, подойдя ко мне, похлопал меня по плечу и сказал:
– Ну, Жиль Блас, ты не забыт.
При этих словах я испытал живейшую радость и проникся такой благодарностью к своему хозяину за память, что пообещал молиться за него богу после кончины, которая не замедлила наступить, ибо, как только фельдшер пустил ему кровь, бедный старик, который и без того чрезвычайно ослаб, покинул мир чуть ли не в тот же момент. Когда он уже был при последнем издыхании, явился доктор, на лице которого отразилось некоторое недоумение, несмотря на привычку отправлять больных на тот свет. Тем не менее он был далек от того, чтоб приписать смерть каноника питью воды и кровопусканию, и, уходя, холодно проронил, что больному выпустили слишком мало крови и что его недостаточно поили теплой водой. Палач от медицины, – я имею в виду фельдшера, – видя, что никто уж не нуждается в его услугах, последовал за доктором Санградо; при этом и тот и другой заявили, что они с первого же дня считали положение каноника безнадежным. И действительно, надо сказать, что они редко ошибались, когда изрекали такие предсказания.
Как только сеньора Хасинта, Инесилья и я увидели, что хозяин наш приказал долго жить, мы закатили такой концерт похоронных воплей, что всполошили всех соседей. В особенности наша ханжа, у которой были все основания ликовать, испускала столь жалостные стоны, что, казалось, мир не видал еще подобной скорби. В одно мгновение вся горница наполнилась людьми, которых привлекало туда не столько сочувствие, сколько любопытство. Не успели родственники покойного проведать про его кончину, как кинулись к нему на квартиру и позаботились опечатать имущество. Застав ключницу в такой печали, они сперва подумали, что каноник не успел составить завещания, но, к величайшему своему сожалению, вскоре убедились в существовании такового, да к тому же написанного с соблюдением всех необходимых формальностей. Когда же по вскрытии духовной они узнали, что завещатель отказал самое ценное из своего имущества в пользу сеньоры Хасинты и ее маленькой племянницы, то почтили покойного надгробным словом, в котором для его памяти было мало лестного. В то же время они обрушились с бранью на святошу, а также не забыли пройтись и на мой счет. Надо сознаться, что я этого вполне заслуживал. Ибо лиценциат, – царствие ему небесное, – желая, чтоб я весь свой век чтил его память, так помянул меня в одном из пунктов своего завещания: «Idem, понеже Жиль Блас, – молодой человек в науках уже искушенный, то для усовершенствования его в сем деле отказываю ему мою библиотеку, все мои книги и рукописи без всякого изъятия».
Я не имел ни малейшего представления о том, где могла находиться означенная библиотека, ибо в доме никогда таковой не видывал. Насколько я знал, в кабинете моего хозяина лежали на двух сосновых полочках пять-шесть книг, да еще какие-то бумаги. Таково было мое наследство. К тому же книги не могли принести мне большой пользы: одна носила заглавие «Современный повар», другая касалась несварения желудка и способов его излечить, а остальные представляли собой четыре части требника, наполовину источенные червями. Что касается рукописей, то самая любопытная из них состояла из документов какого-то процесса о пребенде, который каноник вел в свое время. Осмотрев свое наследство с большим тщанием, чем оно того заслуживало, я отдал его родственникам покойного, которые мне так из-за него позавидовали. Я вернул им также бывшую на мне ливрею и облачился в свое собственное платье, довольствуясь за все свои услуги одним только жалованьем. Затем я отправился искать другое место. Что касается сеньоры Хасинты, то, помимо завещанных ей сумм, она поживилась еще разными ценными вещами, которые с помощью своего сердечного дружка похитила во время болезни лиценциата.
Глава III Жиль Блас поступает в услужение к доктору Санградо и становится известным врачом
Я порешил разыскать сеньора Ариаса де Лондона и выбрать себе по его списку новое место; но, подходя к тупику, где он жил, я повстречался с доктором Санградо, которого не видал со дня смерти своего хозяина, и взял на себя смелость ему поклониться. Несмотря на то, что я был в другом платье, он тотчас же узнал меня и даже выказал некоторую радость.
– Ба, да это ты, любезный! – сказал он. – Только что думал о тебе. Мне нужен в услужение порядочный малый, и ты как раз пришел мне на ум. Вид у тебя добродушный и ты можешь мне пригодиться, если умеешь читать и писать.
– Сеньор, – отвечал я ему, – что до этого, то я ваш покорный слуга, ибо умею и то и другое.
– Если так, – заявил доктор Санградо, – то ты мне вполне подходишь. Поступай ко мне; ты заживешь у меня в свое удовольствие, а обходиться с тобой я буду хорошо. На жалованье не рассчитывай, но зато у тебя ни в чем не будет недостатка. Я позабочусь о том, чтоб ты содержался в опрятности, и научу тебя великому искусству лечить от всех болезней. Словом, ты будешь скорее моим учеником, нежели слугой.
Я принял предложение доктора в надежде, что под руководством столь ученого наставника смогу прославиться на медицинском поприще. Он тотчас же отвел меня к себе, чтоб подготовить к отправлению должности, каковая заключалась в записывании фамилий и адресов больных, присылавших за ним, пока он ходил по городу. Для этой цели в доме имелась книга, куда старуха-служанка, составлявшая всю его челядь, заносила адреса; но, помимо того, что она не знала орфографии, почерк ее был так плох, что, по большей части, невозможно было ничего разобрать. Сеньор Санградо поручил мне вести эту книгу, которую без греха можно было назвать синодиком, так как почти все, кого я туда вносил, умирали. Можно сказать, что я записывал лиц, собравшихся отправиться на тот свет, подобно писарю на ямском дворе, отмечающему фамилии тех, кто заказал места в почтовой карете. Мне приходилось часто браться за перо, так как в то время не было в Вальядолиде более популярного врача, чем сеньор Санградо. Он создал себе известность среди населения пышными разглагольствованиями, импонировавшими благодаря его внушительной наружности, а также несколькими удачными исцелениями, которые принесли ему больше славы, чем он того заслуживал.
У него не было недостатка в пациентах, а следовательно, и в доходах. Но стол его от этого не становился обильнее: жилось у него скудно. Обычно мы питались горохом, печеными яблоками или сыром. Он уверял, что эта пища всего полезнее для желудка, так как ее легче измельчать, т. е. разжевывать. Считая, что эти кушанья перевариваются без затруднения, он, однако, не хотел, чтоб ими наедались досыта, в чем, разумеется, был совершенно прав. Но, запрещая мне и служанке есть слишком много, он зато разрешал нам пить воду в любом количестве. Не предписывая в этом отношении никаких ограничений, он иногда говаривал так:
– Пейте, дети мои: здоровье заключается в восприимчивости и влажности внутренних органов. Пейте воду в изобилии; это – универсальное разжижающее средство: оно растворяет все соли. Замедлилось ли кровообращение – вода его усилит. Ускорилось ли оно – вода успокоит его стремительность.
Наш доктор так чистосердечно верил в то, что сам, несмотря на преклонный возраст, пил одну только воду. Старость почитал он за естественную чахотку, которая сушит и пожирает человека, и, опираясь на это определение, сожалел о невежестве тех, кто называл вино молоком стариков. Он доказывал, что вино подтачивает и губит их организм, и заявлял со свойственным ему красноречием, что как для старцев, так и для прочих людей этот пагубный напиток является коварным другом и обманчивым наслаждением.
Но на восьмой день моего пребывания у доктора Санградо у меня – наперекор всем этим рассуждениям – сделался понос и я почувствовал отчаянные рези в желудке, которые дерзал приписывать действию универсального растворяющего средства и скверным харчам, отпускаемым мне в этом доме. Я пожаловался своему господину в надежде на то, что он смягчится и даст мне за едой немного вина; но он был слишком рьяным врагом этого напитка, чтоб согласиться на такое попущение.
– Когда ты привыкнешь пить воду, – сказал он, – то оценишь ее благотворные свойства. Впрочем, – заметил он, – если ты испытываешь некоторое отвращение к чистой воде, то имеются невинные средства, которые делают этот безвкусный напиток более приемлемым для желудка: например, шалфей и вероника придают ему восхитительный вкус; а если ты хочешь сделать его еще приятнее, то прибавь цветы гвоздики, розмарина или мака.
Но как он ни восхвалял воду, как ни посвящал меня в секреты приготовлять из нее упоительные напитки, я пил ее с такой умеренностью, что он, наконец, это заметил.
– Эх, Жиль Блас, – сказал он, – не удивляюсь тому, что ты не обладаешь превосходным здоровьем. Ты пьешь слишком умеренно, друг мой. Вода, поглощаемая в малых дозах, только раздражает желчные частицы и усиливает их деятельность, тогда как необходимо потопить их в больших количествах растворяющей жидкости. Не бойся, дитя мое, чтоб изобилие воды могло ослабить или простудить тебе желудок; откинь напрасный страх, который ты, быть может, питаешь перед частым употреблением этого напитка. Я отвечаю за последствия; но если моя гарантия для тебя недостаточна, то пусть сам Цельс [36] будет тебе порукой. Сей латинский оракул отзывается о воде с отменной похвалою; далее, он определенно говорит, что охотники до вина, оправдывающие свою страсть слабостью желудка, явно клевещут на этот внутренний орган, чтоб замаскировать свои дурные наклонности. Будучи новичком на медицинском поприще, я счел неприличным выказывать непреодолимое упорство, а потому сделал вид, будто приемлю резоны доктора Санградо; сознаюсь даже, что действительно ему поверил. А потому я продолжал пить воду, полагаясь на ручательство Цельса, или, лучше сказать, я принялся топить свою желчь в этом напитке, который глотал в огромных количествах; и хотя мне изо дня в день становилось хуже, однако же предрассудок одерживал верх над опытом. Из этого можно усмотреть, что у меня действительно было предрасположение к тому, чтоб стать медиком. Все же по прошествии известного времени у меня не хватило сил выдержать боль, которая настолько усилилась, что я наконец решил покинуть доктора Санградо. Но тут мой эскулап пожаловал меня новой службой, ради которой я решил отказаться от прежнего намерения.
– Послушай, – сказал он мне однажды, – я не принадлежу к числу тех жестоких и неблагодарных господ, у которых слуги успевают состариться в услужении, прежде чем получить какую-либо награду. Я доволен тобой и полюбил тебя; а потому, не дожидаясь, чтоб ты прослужил у меня подольше, я решил с сегодняшнего же дня устроить твою судьбу и открыть тебе немедля секрет благодетельного искусства, которым уже столько лет занимаюсь. Другие врачи полагают, что нельзя изучить медицину, не познакомившись предварительно со многими трудными науками; я хочу сократить тебе этот длинный путь и избавить тебя от корпения над физикой, фармакопией, ботаникой и анатомией. Знай же, друг мой, что достаточно пускать кровь и поить больных теплой водой: вот тебе и вся тайна, как излечивать от всевозможных болезней. Этот простой секрет, который я тебе открываю и который природа, непроницаемая для моих собратьев, не смогла от меня утаить, сводится к двум означенным правилам: пускать кровь и поить водой как можно чаще. Мне больше нечему тебя учить, ты теперь знаешь всю медицину насквозь и, пользуясь плодами моего долголетнего опыта, становишься сразу таким же искусным, как я. Ты можешь уже теперь помогать мне; утром веди книгу, а днем навещай часть моих больных. Пока я буду лечить знать и духовенство, ты пойдешь вместо меня в те дома среднего сословия, куда меня позовут; а когда ты проработаешь некоторое время, я постараюсь, чтоб тебя приняли в нашу корпорацию. Ты, Жиль Блас, можешь уже считать себя ученым, еще не сделавшись врачом, тогда как другие врачи подолгу, а иногда и всю жизнь занимаются медициной, прежде чем стать учеными.
Я поблагодарил доктора за то, что он так быстро приспособил меня себе в заместители, и, чтоб выразить ему свою признательность за хорошее отношение, заверил его, что всю свою жизнь буду придерживаться высказанных им взглядов, хотя бы они противоречили учению самого Гиппократа. Это обещание было, однако, не вполне искренним, ибо я не разделял его мнения насчет пользы воды и намеревался, обходя своих больных, ежедневно пить по дороге вино. Вторично повесил я на крючок расшитый кафтан, чтоб надеть платье своего господина и придать себе обличие врача [37] , после чего я приготовился заняться медициной на горе тем, кто попадется мне под руку.
Я начал с альгвасила, страдавшего плевритом, и приказал нещадно пускать ему кровь, а также не жалеть для него воды. Затем я навестил пирожника, которого подагра заставляла кричать благим матом. Я так же мало пощадил его кровь, как и кровь альгвасила, и велел беспрерывно поить его водой. За мои предписания мне заплатили двенадцать реалов, и это так приохотило меня к медицине, что мне стали мерещиться одни только раны да опухоли.
Выйдя от пирожника, повстречался я с Фабрисио, которого не видал со смерти лиценциата Седильо. Он долго смотрел на меня с удивлением, а затем, схватившись за бока, принялся хохотать во всю глотку. И действительно было чему посмеяться, ибо докторская мантия волочилась за мной по земле, а камзол и штаны были вчетверо длиннее и шире, чем надлежало. Словом, вид у меня был чудной и комический. Я дал ему похохотать вволю, будучи сам не прочь последовать его примеру; но удержался, чтоб сохранить на улице декорум и лучше подделаться под врача, животное отнюдь не смешливое. Но если мой курьезный облик вызвал у Фабрисио такой приступ смеха, то моя серьезность еще его удвоила. Нахохотавшись, он воскликнул:
– Боже мой, Жиль Блас! Как ты смешно одет! Какой черт тебя так вырядил?
– Потише, друг мой, потише, – ответствовал я, – питай уважение к новому Гиппократу. Знай, что я заместитель доктора Санградо, знаменитейшего врача во всем Вальядолиде. Я живу у него уже три недели и под его руководством основательно изучил медицину, а так как он не успевает пользовать всех, кто к нему обращается, то я помогаю ему, навещая часть его больных. Он лечит в важных домах, а я в тех, что похуже.
– Вот это здорово, – заметил Фабрисио. – Словом, он уступил тебе кровь народную, а себе взял благородную. Поздравляю тебя с этим дележом; гораздо лучше иметь дело с простонародьем, чем со знатью. Да здравствует врач предместья! Его промахи не так бросаются в глаза, а убийства вызывают меньше шума. Да, дружок, – добавил он, – судьба твоя кажется мне достойной зависти, и, говоря словами Александра Македонского, – не будь я Фабрисио, то хотел бы быть Жиль Бласом.
Желая убедить сына брадобрея Нуньеса, что он не напрасно превозносит мою теперешнюю профессию, я показал ему реалы альгвасила и пирожника, после чего мы отправились пропить часть из них в питейном доме. Нам подали довольно пристойное вино, которое показалось мне лучше, чем было на самом деле: так хотелось мне отведать этого запретного напитка. Я пил большими глотками, и да простит мне латинский оракул, но по мере того, как вино проникало в желудок, я чувствовал, что этот внутренний орган нисколько не протестует против причиняемого ему поношения. Мы с Фабрисио долго просидели в питейном доме и, как водится между лакеями, изрядно позубоскалили насчет своих господ. Затем, заметив приближение ночи, мы расстались, пообещав друг другу встретиться в том же месте на следующий день после полудня.
Глава IV Жиль Блас продолжает заниматься врачеванием с таким же успехом, как и искусством. Приключение с найденным перстнем
Едва успел я прийти домой, как вернулся и доктор Санградо. Осведомив его относительно больных, которых мне пришлось навестить за день, я вручил ему восемь реалов из двенадцати, полученных мною за врачебные советы.
– Восемь реалов, – заметил он, пересчитав деньги, – это немного за два визита; но надо брать что дают.
На этом основании он забрал почти все, а именно шесть реалов из восьми, и отдал мне остальные два.
– Вот тебе, Жиль Блас, – сказал он, – начни с этого свои сбережения. Кроме того, я хочу сделать с тобой весьма выгодный для тебя уговор: четверть того, что ты принесешь, будет принадлежать тебе. Ты не замедлишь разбогатеть, друг мой, ибо, с божьей помощью, болезней в этом году будет хоть отбавляй.
У меня были все основания удовольствоваться этим дележом, ибо я намеревался всякий день удерживать четверть того, что получал в городе, а это плюс четвертая часть от отдаваемых доктору денег составляло – если только арифметика точная наука – около половины всей выручки. От этой перспективы рвение мое к медицине еще усилилось. На другой день после обеда надел я снова свое ассистентское платье и вышел на промысел. Я навестил нескольких пациентов, пригласивших меня с утра, и всем прописал одно и то же, хотя болезни у них были разные. Пока что все шло благополучно, и никто, слава богу, не протестовал против моих предписаний; но как бы искусно врач ни лечил, всегда найдутся хулители и завистники. А именно, зашел я после этого к бакалейщику, у которого сын страдал водянкой, и застал там одного черномазого лекаришку, по имени Кучильо [38] , которого привел к больному кто-то из родственников хозяина. Я отвесил глубокие поклоны всем присутствующим, а в особенности врачу, которого, как я догадывался, пригласили, чтоб спросить у него совета по поводу данной болезни.
Он поклонился мне с величайшей серьезностью и затем, поглядев на меня весьма пристально, сказал:
– Прошу не прогневаться на мое любопытство, сеньор доктор, но я полагал, что знаю всех своих собратьев в Вальядолиде, а между тем, признаюсь, лицо ваше мне совершенно незнакомо. Вы, вероятно, очень недавно изволили поселиться в этом городе.
Мне пришлось ответить, что я молодой практикант и пока еще работаю под наблюдением доктора Санградо.
– Позвольте поздравить вас с тем, – заявил он учтиво, – что вы придерживаетесь системы столь великого человека. Нисколько не сомневаюсь, что вы уже весьма искусны, хотя выглядите еще совсем молодым человеком.
Это было сказано таким непосредственным тоном, что я не знал, говорит ли он всерьез или издевается надо мной; но пока я обдумывал свой ответ, бакалейщик воспользовался этой минутой и обратился к нам:
– Я уверен, сеньоры, что вы оба одинаково сведущи в медицине; сделайте милость, осмотрите моего сына и скажите, что, по вашему благорассуждению, надлежит сделать, чтоб его исцелить.
После этого лекарь принялся исследовать пациента и, обратив мое внимание на симптомы, определявшие характер болезни, спросил, каким способом, по моему мнению, следует ее лечить.
– Считаю, – отвечал я, – что надо ежедневно пускать больному кровь и поить его в изобилии теплой водой.
– И вы полагаете, что этими средствами спасете ему жизнь? – осведомился лекаришка с лукавой усмешкой.
– Без всякого сомнения, – воскликнул я уверенно, – вы воочио увидите, как больной будет поправляться; эти средства безусловно окажут надлежащее действие, ибо служат панацеей от всевозможных заболеваний. Спросите у доктора Санградо.
– В таком случае, – заметил Кучильо, – Цельс глубоко неправ, утверждая, что водянку лучше всего лечить постом и жаждой.
– Цельс для меня не оракул, – отчеканил я, – он мог ошибаться, как и всякий другой, и я нередко бывал весьма рад, что не следовал его предписаниям, так как это оказывалось к лучшему.
– Узнаю в ваших речах надежную и благотворную систему, которую доктор Санградо хочет распространить среди молодых практикантов. Кровопускание и питье воды для него универсальные средства. Не удивительно, что от его рук погибло столько порядочных людей…
– Воздержимся от поношений, – довольно резко оборвал я его. – Вашему ли брату пристало делать подобные упреки? Сознайтесь, сеньор доктор, что и без кровопускания и питья воды отправляют на тот свет немало народу, а вы, быть может, уморили еще больше людей, чем другие. Если вы не согласны с сеньором Санградо, то и пишите против него; он вам ответит, а там посмотрим, на чьей стороне будут насмешники.
– Клянусь св. Иаковом и св. Дионисием, – гневно прервал он меня в свою очередь, – вы плохо знаете доктора Кучильо. У меня есть и клюв и когти, и я нисколько не боюсь вашего Санградо, который при всем своем самомнении и чванстве – просто чудак.
Поведение маленького лекаря привело меня в ярость. Я ответил ему язвительно, он отпарировал мне тем же, и вскоре дело дошло у нас до рукопашной. Мы успели угостить друг друга несколькими кулачными ударами и вырвать каждый по горсти волос, прежде чем бакалейщик и его родственник смогли нас разнять. Когда им это наконец удалось, то они заплатили мне за визит и попросили остаться моего антагониста, который, должно быть, показался им искуснее меня.
После этого приключения со мной чуть было не случилось другого. Я зашел к одному толстяку певчему, страдавшему лихорадкой. Не успел я обмолвиться относительно теплой воды, как он высказал такое отвращение к этому лечебному средству, что принялся неистово ругаться. Он осыпал меня бесчисленными оскорблениями и пригрозил вышвырнуть в окошко, если я немедленно же не уберусь. Этого я не дал повторить себе дважды и поспешил удалиться.
Решив в тот день больше не навещать больных, я пошел в питейный дом, где мы с Фабрисио условились встретиться. Он уже был там. Так как нам обоим хотелось выпить, то мы устроили здоровую пирушку и вернулись к своим господам в соответствующем виде, т. е. сильно на взводе. Но сеньор Санградо не заметил моего опьянения, так как я с таким оживлением рассказал ему про столкновение с лекарем, что он принял мой пыл за последствие возбуждения, еще не улегшегося после схватки. К тому же и сам он фигурировал в моем донесении и, чувствуя себя задетым доктором Кучильо, сказал мне следующее:
– Ты хорошо поступил, Жиль Блас, защищая честь наших методов лечения против этого жалкого ублюдка медицинского факультета. Как? Он считает, что больным водянкой нельзя давать воды? Неуч он этакий! А я утверждаю, что они должны ее пить. Да, – продолжал он, – вода вылечивает от всевозможных видов водянки, подобно тому как она помогает при ревматизмах и бледной немочи; она также весьма полезна при лихорадке, когда человека бросает то в жар, то в холод, и оказывает чудесное действие даже при таких страданиях, которые происходят от золотухи, от выделения серозной жидкости, мокроты или слизи. Такие воззрения кажутся странными молодым врачам, вроде Кучильо, но при серьезном отношении к медицине всякий сочтет их вполне обоснованными. Если б эти люди были способны мыслить логически, то не поносили бы меня, а, напротив, восхищались бы моим методом и сделались бы самыми горячими его адептами.
Сеньор Санградо был вне себя от гнева, а потому даже не заподозрил моего опьянения; я же, стараясь обозлить его еще больше против лекаря, вставлял в свой отчет кое-какие обстоятельства собственного изобретения. Однако его интерес к моему рассказу не помешал ему заметить, что я в этот вечер пил воду более обыкновенного.
Действительно, у меня от вина сильно пересохло в горле. Всякий другой на месте Санградо отнесся бы с подозрением к такой жажде, побуждавшей меня поглощать воду огромными глотками; но он, разумеется, вообразил, что я начинаю входить во вкус этого напитка.
– Что я вижу, Жиль Блас! – сказал он мне с улыбкой. – Ты уже не питаешь больше отвращения к воде и, слава богу, пьешь ее, как нектар. Это, друг мой, меня нисколько не удивляет; я знал, что ты к ней привыкнешь.
– Сеньор, – отвечал я, – всякому овощу свое время; в данную минуту я отдал бы бочку вина за кружку воды.
Такой ответ привел доктора в восхищение, и он не упустил столь удобного случая отметить превосходные свойства воды, а потому пустился в новые дифирамбы, но уже не как холодный ритор, а как пылкий энтузиаст.
– В тысячи и тысячи раз почтеннее и невиннее наших современных трактиров те термополии [39] прошлых веков, куда собирались не для того, чтоб накачиваться вином и позорно растрачивать состояния и жизнь, а для того, чтоб пристойно развлечься и без всякого риска пить теплую воду. Нельзя довольно надивиться мудрой предусмотрительности древних руководителей гражданской жизни, устроивших общественные места, где каждый прохожий мог испить теплой воды, и приказавших хранить вино в аптеках, откуда оно выдавалось только по предписанию врачей. Какой образец мудрости! Видимо, – добавил он, – следует отнести к благословенным пережиткам древней умеренности, достойной золотого века, то обстоятельство, что теперь еще встречаются такие люди, как мы с тобой, которые пьют одну только воду и которые надеются предохранить и излечить себя от всех болезней, употребляя воду подогретую, но отнюдь не прокипевшую; ибо я заметил, что кипяченая вода перегружает желудок и приносит ему меньше пользы.
Меня несколько раз подмывало расхохотаться, пока он держал эту витиеватую речь. Тем не менее я сохранил серьезность и даже выразил полное согласие с мнениями доктора, т. е. осудил употребление вина и пожалел о людях, пристрастившихся к столь пагубному напитку. Затем, все еще испытывая жажду, я налил себе огромный кубок воды и, выпив его большими глотками, сказал своему господину:
– Давайте же, сеньор, упиваться этим благотворным напитком. Возродим в вашем доме тот древний термополий, о коем вы так сильно сожалеете.
Он весьма одобрил мои слова и битый час уговаривал никогда не употреблять ничего, кроме воды. Я обещал приучить себя к хваленому напитку и для этой цели пить его всякий вечер в больших количествах; а чтобы вернее сдержать свое обещание, я, ложась спать, решил ежедневно заглядывать в кабак.
Неприятное происшествие, приключившееся со мной у бакалейщика, не помешало мне продолжать медицинскую практику и на другой же день снова прописывать больным кровопускание и питье теплой воды. Выходя из дома одного поэта, страдавшего буйным помешательством, повстречал я старушку, которая остановила меня и осведомилась, не врач ли я. Услыхав, что она не ошиблась, старуха продолжала:
– Коли так, сеньор доктор, то нижайше прошу вас пойти со мной: племяннице моей неможется со вчерашнего дня, а мне невдомек, что у нее за болезнь.
Старуха привела меня к себе в дом и пригласила пройти в довольно опрятную комнату, где я увидел женщину, лежавшую в постели. Подойдя к больной, чтоб ее осмотреть, я был поражен чертами ее лица и, внимательно приглядевшись, с несомненностью опознал в ней авантюристку, так хорошо разыгравшую роль Камилы. Что касается до нее, то она меня, по-видимому, не узнала, потому ли, что очень страдала от болезни, или потому, что докторское платье ввело ее в заблуждение. Я взял ее за руку, чтоб пощупать пульс, и узрел у нее на пальце свой перстень. Вид предмета, которым я был в праве завладеть, привел меня в величайшее волнение, и я испытал немалое желание попробовать, не удастся ли мне его отобрать; но, рассудив, что женщины поднимут крик и Дон Рафаэль или какой-нибудь другой защитник прекрасного пола может прибежать на их зов, я поборол в себе это искушение. Не лучше ли, думалось мне, пока притвориться, а затем посоветоваться с Фабрисио. На этом последнем решении я и остановился. Между тем старуха настаивала, чтобы я сказал, чем именно больна ее племянница.
Сознаться в том, что я ничего не смыслю, было бы слишком глупо, а потому я прикинулся знатоком и, подражая своему, господину, с апломбом заявил, что больная страдает недостатком транспирации и что надлежит пустить ей кровь, ибо кровопускание служит естественной заменой для выделения пота; кроме того, чтоб не отступать от наших правил, я прописал ей также теплую воду.
Свой визит я сократил, насколько это было возможно, и побежал к сыну брадобрея Нуньеса, которого встретил в тот момент, когда он выходил из дому, чтобы исполнить какое-то поручение своего господина. Поведав ему о своем новом приключении, я спросил, не посоветует ли он мне обратиться к правосудию и просить об аресте Камилы.
– Что ты? – воскликнул он. – Упаси тебя господь! И не помышляй об этом; таким способом ты не раздобудешь своего перстня. Судейские не любят отдавать назад. Вспомни, как ты сидел в асторгской тюрьме: разве они не присвоили себе твоей лошади, твоих денег и даже твоего платья? Нет, чтоб вернуть алмаз, лучше прибегнуть к собственной изобретательности. Берусь придумать какую-нибудь хитрость и поразмыслю об этом по дороге в богадельню, где я должен сказать несколько слов тамошнему эконому от имени своего господина. Подожди меня в нашем трактире и не теряй терпения; я вскоре туда приду.
Я просидел там, однако, более трех часов, прежде чем он явился. Сперва я даже его не узнал. Он не только переменил платье и заплел волосы, но еще нацепил поддельные усы, закрывавшие ему пол-лица. На боку у него висела длинная шпага с чашкой окружностью в добрых три фута, и он шествовал во главе пяти человек, отличавшихся таким же решительным видом, как и он, такими же густыми усами и такими же длинными рапирами.
– Ваш покорный слуга, сеньор Жиль Блас, – сказал он, обращаясь ко мне. – Сеньор видит во мне альгвасила новейшей фабрикации, а в сих честных малых, что меня сопровождают, стражников такого же сорта. Сеньору только остается отвести нас к женщине, укравшей у него алмаз, и, клянусь честью, мы заставим ее вернуть эту вещь.
После этих слов, из которых мне стало ясно, какую уловку задумал ради меня Фабрисио, я обнял его и выразил ему полное одобрение по поводу его затеи. Я приветствовал также мнимых стражников. Эти молодцы, из коих трое оказались лакеями, а двое – подмастерьями цирюльника, принадлежали к числу друзей Фабрисио и были приглашены им, чтоб разыграть роль полицейских служителей. Я приказал подать вина, чтоб подпоить свою дружину, а с наступлением ночи мы все вместе отправились к Камиле. Двери оказались на запоре, и мы постучались. Нам отперла старуха и, приняв моих спутников за ищеек правосудия, навестивших ее дом не без основания, она сильно перепугалась.
– Успокойтесь, бабушка, – сказал ей Фабрисио, – мы зашли к вам ради пустячного дельца, с которым быстро покончим, ибо мы люди расторопные.
После этих слов мы двинулись вперед и направились в помещение болящей, предшествуемые старухой, которая освещала нам путь свечой, воткнутой в высокий серебряный подсвечник. Взяв этот шандал, я приблизился к постели и дал Камиле возможность вспомнить мое лицо.
– О коварная! – воскликнул я. – Узнайте во мне слишком доверчивого Жиль Бласа, которого вы обманули! Наконец-то, злодейка, я нашел вас после долгих поисков! Коррехидор рассмотрел мою жалобу и поручил этому альгвасилу арестовать вас. Сеньор начальник, – сказал я, обращаясь к Фабрисио, – благоволите приступить к отправлению своих обязанностей.
– Незачем меня увещевать, раз дело касается моей должности, – отвечал Фабрисио нарочито грубым голосом. – Я очень хорошо помню эту мокрохвостку; она уж лет десять значится красными буквами в моих списках. Ну-ка, вставайте, принцесса, – добавил он, – оденьтесь поскорее, а я буду вашим стремянным и, с вашего дозволения, провожу вас в здешнюю тюрьму.
Как ни была больна Камила, но, услыхав эти слова и заметив, что двое усатых стражников намереваются силой стащить ее с постели, она сама приподнялась на своем ложе, умоляюще сложила руки и, устремив на меня взор, полный страха, сказала:
– Сжальтесь надо мной, сеньор Жиль Блас; умоляю вас об этом именем вашей целомудренной матери, которой вы обязаны жизнью. Я скорее несчастна, нежели виновна; вы убедитесь в этом, выслушав мою историю.
– Нет, нет, сеньорита, я не стану вас слушать! – воскликнул я. – Мне слишком хорошо известно, как искусно вы сочиняете всякие басни.
– Ну что же, – продолжала она, – раз вы не позволяете мне оправдаться, то я верну алмаз, но, прошу вас, не губите меня.
Сказав это, она сняла перстень с пальца и передала его мне. Но я ответил ей, что не удовольствуюсь одним камнем, а требую еще возвращения тысячи червонцев, украденных у меня в меблированных комнатах.
– Ах, сеньор, – отнеслась она ко мне, – что касается ваших дукатов, то не требуйте их у меня. Этот злодей Рафаэль, которого я с тех пор не видала, увез их с собой в ту же ночь.
– Ни-ни, крошка! – вмешался тут Фабрисио. – Вы думаете выпутаться из этого дельца, сказав, что не получили своей доли пирога. Нет, так дешево вы не отвертитесь. Достаточно того, что вы соучастница дона Рафаэля, чтоб потребовать у вас отчета относительно вашего прошлого. Должно быть, у вас на совести найдется порядочно всяких грешков. Пожалуйте-ка со мной в тюрьму, чтоб принести там полную исповедь. Я захвачу с собой также и сию добрую старушку, – продолжал он, – она знает, вероятно, немало забавных историй, которые сеньор коррехидор будет не прочь услышать.
После этих слов обе женщины приложили все старания, чтоб нас смягчить. Они огласили горницу криками, жалобами и стонами. Пока старуха валялась на коленях то перед альгвасилом, то перед стражниками, стараясь возбудить их жалость, Камила самым трогательным образом умоляла меня спасти ее от рук правосудия. Зрелище это стоило того, чтоб на него взглянуть. Наконец я притворился, будто она меня разжалобила.
– Сеньор альгвасил, – сказал я сыну Нуньеса, – раз уж мне вернули алмаз, я готов примириться с потерей всего остального. Мне не хотелось бы, чтоб пострадала эта бедная женщина, ибо я не жажду смерти грешника.
– Постыдитесь, сеньор, такого мягкосердия! – возразил он. – Из вас никогда не вышло бы хорошего полицейского. Однако, – добавил он, – я должен исполнить данное мне поручение. Мне строжайше приказано задержать этих инфант, ибо сеньор коррехидор хочет наказать их в пример другим.
– Снизойдите, пожалуйста, к моей просьбе и поступитесь несколько вашим долгом ради подарка, который сделают вам эти дамы, – сказал я.
– О, это другое дело! – возразил Фабрисио. – Вот что значит вовремя применить риторическую фигуру. Однако что же эти дамы хотят мне предложить?
– У меня есть жемчужное ожерелье и серьги большой ценности, – сказала Камила.
– Хорошо, – резко прервал он ее, – но если эти жемчуга с Филиппинских островов, то благодарю покорно.
– Можете взять их без всякой опаски, – возразила она – ручаюсь вам, что они настоящие.
Камила тут же приказала старухе принести маленький ларец и, вынув оттуда колье и серьги, передала их сеньору альгвасилу. Хотя он смыслил в камнях не больше меня, однако же признал подлинными как те, что были в подвесках, так и жемчужную нитку.
– Камни, по-моему, настоящие, – сказал он, рассмотрев их внимательно, – и если к ним добавят подсвечник, который держит сеньор Жиль Блас, то я не ручаюсь за свою верность присяге.
– Не думаю, – обратился я тогда к Камиле, – чтоб вы из-за такой безделицы захотели нарушить столь выгодное для вас соглашение.
С этими словами я вынул свечу и, передав ее старухе, вручил шандал Фабрисио, который, не найдя, вероятно, в комнате ничего такого, что можно было легко унести, удовлетворился этим и сказал обеим женщинам:
– Прощайте, сударыни! Можете больше не беспокоиться. Я переговорю с сеньором коррехидором и изображу вас белее снега. Мы представляем ему вещи в таком свете, в каком нам это нравится, и делаем правдивые донесения только тогда, когда ничто не побуждает нас делать ложные.
Глава V Продолжение приключения с найденным перстнем. Жиль Блас бросает медицину и покидает Вальядолид
Выполнив таким образом затею Фабрисио, мы вышли от Камилы, радуясь успеху, превзошедшему наши ожидания, ибо рассчитывали на один только перстень. Без всякого смущения унесли мы все остальное и не только не совестились ограблением куртизанок, но даже воображали, что учинили весьма похвальный поступок.
– Господа, – сказал Фабрисио, когда мы очутились на улице, – неужели мы расстанемся после столь славного похода, не повеселившись за стаканом вина? Я держусь иного мнения и предлагаю вернуться в наш питейный дом, чтоб провести там ночь в свое удовольствие. Завтра мы продадим подсвечник, ожерелье и серьги и поделим деньги по-братски, после чего каждый отправится к себе домой и извинится перед своим господином, как сумеет.
Предложение сеньора альгвасила показалось нам весьма рассудительным. Мы всей компанией вернулись в кабак, одни рассчитывая легко найти извинение, почему не ночевали дома, другие мало печалясь, если их за это прогонят со двора.
Приказав изготовить хороший ужин, мы уселись за стол с превеликим веселием и не меньшим аппетитом. Трапеза наша была приправлена многими приятными разговорами. Особенно развлекал все общество Фабрисио, умевший вносить оживление в беседу. Он так и сыпал остротами, полными кастильской соли, ничем не уступавшей аттической. Но в самый разгар веселья радость наша была внезапно нарушена неожиданным и весьма неприятным происшествием, а именно: в горницу, где мы ужинали, вошел довольно видный мужчина в сопровождении двух личностей весьма подозрительной наружности. За этими следовало трое других, и, наконец, их собралась целая дюжина, причем остальные тоже приходили по трое. Они были вооружены карабинами, а также шпагами и багинетами. Мы тотчас же сообразили, что перед нами стражники полицейского дозора, и нам не стоило особых усилий угадать, в чем заключались их намерения. Сперва мы было собрались оказать сопротиление, но они окружили нас в мгновение ока и внушили нам страх как своей численностью, так и наличием огнестрельного оружия.
– Господа, – обратился к нам насмешливо начальник дозора, – мне ведомо, с помощью какой остроумной проделки вы вырвали перстень из рук некой авантюристки. Поистине, это – бесподобная выдумка и она заслуживает публичной награды, каковая, конечно, вас не минует. Правосудие, предназначившее вам апартаменты в своем дворце, не забудет вознаградить вас за столь гениальную затею.
Эта речь весьма смутила тех, к кому относилась. Мы потеряли самообладание и в свою очередь испытали такой же страх, какой перед тем внушили Камиле. Фабрисио тоже был бледен и расстроен, однако сделал попытку нас обелить.
– Сеньор, – сказал он, – у нас не было дурных намерений, а потому нам следовало бы простить эту маленькую хитрость.
– Как, черт подери? Вы называете это маленькой хитростью? – закричал в гневе начальник патруля. – Да ведомо ли вам, что это попахивает виселицей? Я не говорю уж о том, что запрещается самому чинить правосудие, но вы еще унесли шандал, ожерелье и серьги. А повесить вас следует уже за то, что вы для этой кражи осмелились нарядиться стражниками. Этакие негодяи! Принять обличье порядочных людей, чтоб учинить преступление! Почитайте себя счастливцами, если вас всего-навсего пошлют косить соленую ниву [40] .
Как только он дал нам понять, что дело гораздо серьезнее, нежели нам сперва казалось, бросились мы все гурьбой перед ним на колени и стали его умолять, чтоб он пощадил нашу молодость. Но все просьбы оказались тщетными. Более того, – и это было совершенно невероятно, – он отклонил наше предложение отдать ему нитку, серьги и подсвечник, и даже отказался от перстня, может быть, потому, что я предлагал его в присутствии теплой компании, с которой ему пришлось бы поделиться. Словом, он остался неумолим и, приказав обезоружить моих соратников, повел нас в городскую тюрьму. Дорогой один из стражников сообщил мне, что старуха, жившая с Камилой, усомнилась, действительно ли мы являемся служителями правосудия, и выследила нас до самого питейного дома; убедившись там в правильности своих подозрений, она решила нам отомстить и донесла обо всем дозору.
Сперва нас тщательно обыскали, отобрав при этом жемчуга, серьги и подсвечник. Я не только лишился своего перстня, украшенного рубином с Филиппинских островов, который, к несчастью, оказался у меня в кармане, но мне не оставили даже и реалов, полученных в тот день за лекарские советы, из чего я убедился, что в Вальядолиде судейские так же хорошо знают свое дело, как и в Асторге, и что у всех этих господ одни и те же повадки.
В то время как у меня отбирали деньги и драгоценности, начальник дозора, присутствовавший при этом, рассказывал о нашей проделке чинам, производившим обыск. Преступление показалось им столь серьезным, что большинство сочло нас достойными смертной казни. Другие, менее строгие, говорили, что мы, быть может, отделаемся двумястами ударами кнута на каждого и несколькими годами галер в придачу. В ожидании постановления господина коррехидора, нас заперли в узилище, где мы улеглись на полу, почти так же густо покрытом соломой, как иная конюшня подстилками для лошадей. Мы могли бы просидеть там немало времени и выйти оттуда не иначе, как отправившись на галеры, если бы сеньор Мануэль Ордоньес не проведал на следующий же день о нашем деле и не решил извлечь Фабрисио из тюрьмы, чего он не мог сделать, не освободив заодно и всех нас. Этого человека весьма уважали в городе, и так как он очень усиленно хлопотал, то отчасти благодаря своему влиянию, отчасти благодаря содействию друзей добился через три дня нашего освобождения. Однако мы вышли из этого места не совсем так, как туда вошли: подсвечник, ожерелье, серьги, перстень, рубин – словом, все осталось там. Это напомнило мне Виргилиевы стихи, начинающиеся словами: «Sic vos non vobis» [41] .
Очутившись на свободе, мы вернулись к своим хозяевам. Доктор Санградо встретил меня весьма любезно.
– Мой бедный Жиль Блас, – сказал он, – я только сегодня утром узнал о твоем несчастье и собирался усиленно ходатайствовать за тебя. Не сетуй об этом происшествии, друг мой, а займись медициной еще прилежнее, чем раньше.
Я ответствовал, что и сам имел такое намерение. И действительно, я всецело отдался этому занятию. Мы не только не испытывали недостатка в пациентах, но случилось именно так, как весьма удачно предсказывал сеньор Санградо, т. е. что болезней стало хоть отбавляй. И в городе и в предместьях появились злокачественные лихорадки. Все вальядолидские врачи – а мы в особенности – были завалены работой. Не проходило дня, чтоб нам не случилось навещать от восьми до десяти больных; можно себе представить, сколько было выпито воды и сколько пролито крови. Не знаю почему, но все пациенты умирали: оттого ли, что тому способствовали наши методы врачевания, оттого ли, что болезни оказывались неизлечимыми? Редко когда приходилось бывать по три раза у того же больного: уже при втором визите мы узнавали, что он находится в агонии или что его только что похоронили. Будучи еще молодым врачом, не успевшим зачерстветь в убийствах, я огорчался этими печальными результатами, в которых меня легко могли обвинить.
– Сеньор, – сказал я как-то вечером доктору Санградо, – призываю бога в свидетели, что я в точности следую вашим предписаниям; между тем все больные отправляются на тот свет; можно подумать, что они умирают нарочно, для того чтоб дискредитировать наши методы лечения. Еще сегодня встретил двоих, которых несли на кладбище.
– Дитя мое, – ответил он, – я мог бы сказать почти то же самое и о себе: мне редко выпадает счастье вылечивать тех, кто очутился в моих руках; и не будь я столь твердо убежден в непогрешности своих принципов, то, пожалуй, подумал бы, что мои средства оказывают вредное действие почти при всех болезнях, к которым я их применяю.
– Поверьте мне, сеньор, – продолжал я, – давайте переменим наши методы лечения. Попробуем любопытства ради прописать нашим больным химические препараты, хотя бы, для примера, кермес [42] ; в худшем случае последствия будут те же, что от теплой воды и кровопускания.
– Я охотно сделал бы такой опыт, – возразил он, – если бы это не грозило неприятными последствиями. Ведь я написал книгу, в которой восхваляю частые кровопускания и питье воды. Неужели ты хочешь, чтоб я отрекся от своего учения?
– Ах нет! – воскликнул я. – В таком случае вы совершенно правы. Нельзя допустить, чтоб ваши враги восторжествовали: они, пожалуй, скажут, что им удалось вас вразумить, и тем подорвут вашу репутацию. Пусть лучше гибнет народ, знать и духовенство! Пойдем же и впредь своим путем. Ведь и наши собратья, несмотря на все их отвращение к кровопусканию, творят не больше чудес, чем мы, и я думаю, что их лекарства вполне стоят наших.
Мы сызнова принялись за работу и так усердствовали, что не прошло и шести недель, как мы наплодили не меньше вдов и сирот, чем их было после осады Трои. Иной бы подумал, что в Вальядолиде свирепствует чума: столько там было похорон! Каждый день к нам наведывался какой-нибудь отец, требовавший отчета за залеченного до смерти сына, или дядя, упрекавший нас в кончине племянника. Сыновья же и племянники, отцам и дядьям которых не поздоровилось от наших лекарств, к нам не заявлялись. Мужья также оказались весьма деликатными; они не докучали нам по поводу утраты жен. Что же касается действительно огорченных родственников, попреки которых нам приходилось выслушивать, то горе их порой выражалось в весьма грубых формах. Они называли нас неучами, убийцами и вообще не стеснялись в выражениях. Эти эпитеты весьма меня расстраивали, но доктор Санградо, который был к ним привычен, выслушивал их с полным хладнокровием. Возможно, что со временем я тоже свыкся бы с этими поношениями, если бы небо, вероятно пожелавшее избавить вальядолидских больных от одного из их бичей, не ниспослало происшествия, внушившего мне отвращение к медицине, которою я так безуспешно занимался. Об этом я подробно поведаю читателю, даже рискуя тем, что он надо мной посмеется.
По соседству с нами находился «жёдепом» [43] , где ежедневно собирались городские лодыри. Там подвизался один из тех присяжных забияк, которые сами назначают себя главарями и разрешают споры, возникающие в таких заведениях. Он был родом из Бискайи и называл себя доном Родриго де Мондрагон [44] . По виду ему можно было дать лет тридцать. Это был человек среднего роста, сухой и жилистый. Помимо двух сверкающих глаз, вращавшихся в орбитах и, казалось, угрожавших всякому, на кого они были устремлены, он обладал сильно приплюснутым носом, который свисал над рыжими усами, закрученными до самых висков. Речи его были так грубы и резки, что стоило ему открыть рот, чтоб уже навести страх. Этот фанфарон сделался тираном всего заведения: он самовластно решал споры между игроками, и тот, кто вздумал бы воспротивиться его приговору, рисковал на следующий день получить от него картель. Несмотря на все эти свойства сеньора Родриго, которому самодельная приставка «дон» не мешала быть самым обыкновенным разночинцем, он все же ухитрился поразить сердце содержательницы жёдепома. То была богатая и довольно пригожая женщина лет сорока, потерявшая мужа месяцев за пятнадцать до этого. Не знаю, чем именно он мог ей понравиться, но во всяком случае не красотой, а скорее чем-то таким, чего не выразить словами. Так или иначе, но она влюбилась и вознамерилась выйти за него замуж. Как раз в то время, когда вдова готовилась завершить это дело, она занемогла и, на свое несчастье, стала лечиться у меня. Окажись у нее не злокачественная лихорадка, а даже что-нибудь менее серьезное, моего лечения было бы вполне достаточно, чтоб сделать ее болезнь опасной. Через четыре дня я поверг в скорбь все заведение. Его содержательница отправилась туда, куда я посылал всех своих больных, и родня захватила ее состояние. Дон Родриго в отчаянии от потери возлюбленной или, вернее, надежды на выгодный брак не удовольствовался тем, что метал против меня громы и молнии; он поклялся, что проткнет меня шпагой насквозь и отправит к праотцам при первой же встрече. Сердобольный сосед уведомил меня об этой клятве. Я слишком хорошо знал Мондрагона, чтоб пренебречь таким предостережением, ввергшим меня в ужас и смущение. Опасаясь встретиться с этим чертом, я не смел выйти из дому; мне беспрестанно чудилось, что он яростно врывается в наш дом, и я не знал ни минуты покоя. Это отвратило меня от медицины, и все мои помыслы были направлены на то, как бы избавиться от мучительного беспокойства. Я снова облачился в расшитый золотом кафтан и, простившись со своим господином, который на этот раз уже не мог меня удержать, вышел из города на рассвете, не переставая опасаться, как бы дон Родриго не попался мне на пути.
Глава VI О том, куда направился Жиль Блас по выходе из Вальядолида и кто присоединился к нему по дороге
Я шел очень быстро, по временам оглядываясь назад, чтоб взглянуть, не гонится ли за мной по пятам ужасный бискаец; мое воображение было так занято этим человеком, что каждое дерево и каждый куст я принимал за него, а сердце у меня не переставало содрогаться от ужаса. Наконец, отмахав с добрую милю, я успокоился и уже медленнее продолжал свой путь по направлению к Мадриду, куда намеревался отправиться. Покидая Вальядолид, я не испытывал никакого сожаления и скорбел только о разлуке с Фабрисио, моим любезным Пиладом, с которым даже не успел проститься. Не сокрушался я также и о медицине, которую мне пришлось бросить, а, напротив, молил бога простить мне то, что я когда-либо ею занимался. Тем не менее я не без удовольствия пересчитывал деньги, звеневшие у меня в кармане, хотя они являлись платой за совершенные мною убийства. В этом отношении я походил на женщин, переставших распутничать, но без малейшего зазрения продолжающих пользоваться плодами своего распутства. У меня было реалами около пяти дукатов, составлявших все мое состояние. С этими деньгами я рассчитывал добраться до Мадрида, вполне уверенный в том, что найду там какое-нибудь подходящее место. К тому же мне страстно хотелось посетить этот прекрасный город, где, как мне передавали, были представлены все чудеса мира.
В то время как я вспоминал все, что мне рассказывали о Мадриде, и заранее предвкушал ожидавшие меня удовольствия, я услыхал голос человека, шедшего за мной по пятам и распевавшего во всю глотку. Он нес на спине кожаную котомку, на шее у него болталась гитара, а с бедра свисала довольно длинная шпага. Он шел с такой быстротой, что вскоре нагнал меня. Как оказалось, это был один из тех двух парикмахерских подмастерьев, с которыми я сидел в тюрьме по делу о перстне. Мы тотчас же узнали друг друга, несмотря на перемену платья, и были весьма поражены такой неожиданной встречей на большой дороге. Я выразил ему свое удовольствие по поводу того, что он попался мне в попутчики, да и он, по-видимому, был рад снова встретиться со мной. Затем я рассказал ему, почему покинул Вальядолид, а он в ответ на мою откровенность счел долгом сообщить мне, что поругался со своим хозяином и что они расстались друг с другом навеки.
– Пожелай я остаться в Вальядолиде, – добавил он, – то нашел бы не одно место, а десять, ибо, не хвалясь, смею сказать, что во всей Испании не сыщется цирюльника, который умел бы лучше меня брить по волосу и против волоса или завивать усы папильотками. Но я не мог дольше устоять против страстного желания вернуться на родину, которую покинул целых десять лет тому назад. Хочу немного подышать родным воздухом и взглянуть, как поживают мои родственники. Я доберусь до них послезавтра, так как они живут в деревне, по имени Ольмедо, не доходя Сеговии.
Я решил проводить этого цирюльника до его родного селения, а затем отправиться в Сеговию и искать порожняка в Мадрид. Дорогой мы принялись беседовать о всякой всячине. Сей молодой человек был веселого и приятного нрава. Поболтав со мною около часа, он спросил, не испытываю ли я аппетита. Я отвечал ему, что он убедится а этом на первом же постоялом дворе.
– Мы могли бы сделать привал и раньше, – сказал он. – У меня в котомке найдется чем позавтракать. Когда я путешествую, то всегда беру с собой провизию. Лишнего таскать не люблю, а потому не отягощаю себя ни платьем, ни бельем, ни прочими бесполезными пожитками. Суну в котомку съестное, бритвы да мыло – вот и все, что мне нужно.
Я похвалил его за предусмотрительность и с удовольствием согласился на предложение сделать небольшую передышку. Мне хотелось есть, и я приготовился к обильному завтраку, на что, судя по его словам, имел полное основание рассчитывать. Свернув несколько в сторону от большой дороги, мы расположились на траве. Тут мой брадобрей разложил свои запасы, состоявшие из сыра, пяти-шести луковиц и нескольких ломтей хлеба; а в качестве главного лакомства он извлек из своей котомки небольшой бурдюк, наполненный, по его словам, весьма тонким и вкусным вином. Хотя эти яства были и не слишком заманчивы, однако же голод, томивший нас обоих, не позволил нам отнестись к ним критически; мы осушили также весь бурдюк, вмещавший около двух пинт вина, от восхваления которого мой брадобрей мог бы смело воздержаться. Покончив с трапезой, мы поднялись и в весьма веселом настроении пустились в дальнейший путь, Цирюльник, слыхавший от Фабрисио о том, что мне довелось испытать разные диковинные приключения, попросил меня рассказать ему о них самолично. Я не счел себя в праве отказать человеку, так хорошо меня угостившему, и исполнил его просьбу. Затем я попросил его ответить мне тем же на мою откровенность и поведать историю своей жизни.
– Что вы! – воскликнул он. – Мою историю и слушать не стоит: она состоит из одних только обыкновенных происшествий. Тем не менее, – добавил он, – раз у нас нет лучшего дела, то я расскажу вам все так, как оно было.
После чего он изложил мне свою Одиссею приблизительно следующим образом.
Глава VII Похождение парикмахерского подмастерья
Начну издалека: дед мой, Фернандо Перес из Ла-Фуэнте, пробыв пятьдесят лет цирюльником в деревне Ольмедо, умер и оставил после себя четырех сыновей. Старший, по имени Николас, получил цирюльню и унаследовал отцовское ремесло; следующий, которого звали Бертран, пристрастился к торговле и сделался щепетильником[ Щепетильник — коробейник, торговец вразнос галантерейными товарами.]; Томас же, третий сын, стал школьным учителем. Что касается младшего сына, Педро, то он чувствовал призвание к изящной словесности, а потому продал небольшой участок земли, доставшийся ему при разделе, и поселился в Мадриде, где надеялся со временем отличиться благодаря своим знаниям и уму. Трое старших братьев не разлучались друг с другом и, обосновавшись в Ольмедо, женились на крестьянских дочках, принесших им незначительное приданое, но зато обильное потомство. Они плодили детей как бы взапуски. Что касается матери моей, жены цирюльника, то за первые пять лет брака она произвела на свет шестерых ребят, в том числе и меня. Отец мой научил меня с детства обращаться с бритвой, а когда мне минуло пятнадцать лет, взвалил мне на плечи вот эту котомку, опоясал меня длинной шпагой и сказал:
– Теперь, Диего, ты в состоянии сам себя прокормить. Погуляй по белу свету: тебе необходимо постранствовать, чтоб обтесаться и приобрести совершенство в своем ремесле. Ступай и не возвращайся до тех пор, пока не обойдешь всей Испании. Смотри, чтоб я до этого времени ничего о тебе не слыхал.
С этими словами он дружески обнял меня и выставил за дверь.
Вот как простился со мной отец. Что же касается матушки, отличавшейся менее суровым нравом, то она, казалось, была более чувствительна к моему отъезду. Пролив несколько слез, она даже тайком сунула мне в руку дукат.
Покинув Ольмедо, я направился по сеговийской дороге, но, не пройдя и двухсот шагов, остановился, чтоб осмотреть свою котомку. Мне хотелось ознакомиться с ее содержимым и узнать, как велико мое состояние. Я обнаружил в ней ремень для правки, кусок мыла и футляр с двумя бритвами, настолько иступившимися, что казалось, будто ими перебрили не менее десяти поколений. Кроме того, там лежала совершенно новая посконная рубаха, старые отцовские башмаки и двадцать реалов, завернутых в полотняную тряпку, которым я особенно обрадовался. Вот каково было мое богатство. Из этого вы можете заключить, что, отпуская меня со столь малыми деньгами, почтенный цирюльник Николас весьма рассчитывал на мою изворотливость. Впрочем, обладание дукатом и двадцатью реалами не преминуло ослепить юнца, никогда еще не располагавшего деньгами. Я счел финансы свои неисчерпаемыми и, не чуя ног от радости, продолжал путь, поминутно поглядывая на рукоять рапиры, которая при каждом шаге ударяла меня по икрам или путалась между ногами.
К вечеру, жестоко проголодавшись, прибыл я в деревню Атакинес. Остановившись на постоялом дворе, я приказал подать себе ужин таким заносчивым тоном, словно был в состоянии бог весть как швырять деньгами. Трактирщик, посмотрев на меня внимательно и раскусив, с кем имеет дело, ответил мне вкрадчивым тоном:
– Не беспокойтесь, сударь, вы останетесь отменно довольны: я попотчую вас по-царски.
Сказав это, он отвел меня в небольшую каморку, куда четверть часа спустя принес рагу из кота, которое я съел с не меньшим аппетитом, чем если бы оно было из зайца или кролика. К сему великолепному кушанью он подал мне вино, лучше которого, по его словам, не пивал и сам король. Хотя я заметил, что оно прокисло, однако же оказал ему такую же честь, как и коту. Для завершения этого царского приема мне отвели постель, более способную вызвать бессонницу, нежели ее прогнать. Представьте себе весьма жалкое и узкое ложе, да еще такое короткое, что, несмотря на свой маленький рост, я едва мог протянуть ноги. К тому же не было на ней ни тюфяка, ни перины, а лежал простой стеганый сенник, покрытый сложенной вдвое простыней, которая с последней стирки успела обслужить добрую сотню постояльцев. Хотя я набил желудок кошатиной и дивным вином, которым угостил меня трактирщик, однако же благодаря молодости и здоровью заснул на описанной постели крепчайшим сном и проспал всю ночь без всяких недомоганий.
На следующий день, позавтракав и дорого заплатив за изготовленное мне угощение, я без остановки дошел до Сеговии. Не успел я туда прибыть, как мне посчастливилось найти цирюльню, куда меня приняли на харчи и содержание. Но я пробыл там всего шесть месяцев; знакомый подмастерье, собиравшийся перебраться в Мадрид, уговорил меня присоединиться к нему, и мы отправились в этот город. Там я без всяких затруднений нашел себе место на таких же условиях, как и в Сеговии. Цирюльня, в которую я поступил, считалась одной из самых бойких. Этому обстоятельству она была обязана тем, что помещалась бок о бок с церковью Креста господня и по соседству с Принцевым театром, которые привлекали туда много посетителей. Мой хозяин, два старших подмастерья и я еле успевали обслужить всех, кто заходил туда побриться. Я насмотрелся там на людей всякого звания, в том числе на актеров и сочинителей. И вот однажды зашли к нам два писателя. Они разговорились о современных поэтах и их произведениях, упомянув при этом имя моего дяди; это побудило меня внимательнее прислушаться к их беседе.
– Дон Хуан де Савалета [45] такой сочинитель, от которого публика не может ожидать ничего хорошего, – сказал один из них. – Это холодный ум, лишенный всякой фантазии. Он здорово осрамился со своей последней пьесой.
– А что вы скажете о Луисе Велес де Геварра [46] , – воскликнул второй. – Ну и произведеньице преподнес он зрителям! Видали ли вы что-либо более жалкое?
Они назвали не знаю уж сколько других поэтов, имена которых я запамятовал; помню только, что ни о ком не было сказано ничего хорошего. Что касается моего дяди, то они отнеслись к нему более уважительно: оба сошлись на том, что он человек достойный.
– Да, – сказал один из них, – дон Педро де ла Фуэнте [47] превосходный сочинитель; его книги полны тонкого юмора, перемешанного с эрудицией, а это делает их занимательными и остроумными. Нисколько не удивляюсь тому, что он пользуется почетом как при дворе, так и в городе, и что многие вельможи положили ему содержание.
– Вот уж много лет, – заметил другой, – как он получает довольно крупные доходы. Герцог Медина Сели [48] предоставил ему стол и квартиру. Ему просто некуда тратить деньги, и надо думать, что дела его весьма недурны.
Я не проронил ни слова из того, что поэты говорили о моем дяде. До нашей семьи дошло, что он нашумел в Мадриде своими произведениями; об этом сообщали нам разные лица, проезжавшие через Ольмедо. Но поскольку он не считал нужным извещать нас о себе и, казалось, совсем отшатнулся от своих, то и мы относились к нему весьма безразлично. Однако, как известно, всякая сосна своему бору шумит: не успел я проведать о таком дядином благополучии и о том, где он живет, как возымел желание его разыскать. Одно только смущало меня: поэты назвали его дон Педро. Это «дон» вызывало во мне сомнения, и я боялся, что они имели в виду не дядю, а какого-нибудь другого писателя. Однако же эти опасения не остановили меня: мне пришло на ум, что, ухитрившись стать гениальным человеком, он мог точно так же сделаться и дворянином, и я решился его повидать. И вот как-то поутру, испросив разрешение у хозяина и приодевшись возможно лучше, вышел я из нашей цирюльни, не без гордости думая о том, что прихожусь племянником человеку, стяжавшему такую славу своим талантом. Цирюльники не принадлежат к числу людей, коим вовсе неведомо тщеславие. Я даже начал повышаться в собственном мнении и, шествуя с весьма спесивым видом, попросил указать мне палаты герцога Медина Сели. Направившись к воротам, я сказал, что хотел бы переговорить с сеньором Педро де ла Фуэнте. Указав мне пальцем на небольшую лестницу в глубине двора, привратник пояснил:
– Поднимитесь наверх, а затем постучите в первую дверь направо.
Поступив как мне было сказано, я постучался в двери. Мне открыл молодой человек, у которого я осведомился, не живет ли здесь сеньор дон Педро де ла Фуэнте.
– Да, он живет здесь, – ответил молодой человек, – но сейчас дон Педро не принимает.
– Мне бы хотелось повидаться с ним; я привез ему вести об его родных, – сказал я.
– Будь это даже вести о самом папе, – возразил он, – и то я не проводил бы вас к нему в данную минуту: он сочиняет, а когда он занят, то сохрани бог помешать. Его можно будет видеть только около полудня. Пойдите, погуляйте и возвращайтесь к тому времени.
Я вышел и прогулял все утро по городу, непрестанно размышляя о приеме, который окажет мне дядя.
«Полагаю, – думал я, – что он будет очень рад меня видеть».
Я судил об его чувствах по своим собственным и, приготовившись к весьма трогательной встрече, поспешил вернуться в назначенный час.
– Вы пришли как раз вовремя, – сказал мне лакей, – мой господин собирается вскоре уходить. Подождите здесь минуточку: я доложу о вас.
С этими словами он оставил меня в прихожей. Вернувшись мгновение спустя, он проводил меня в покой своего господина, лицо которого прежде всего поразило меня фамильным сходством. Мне казалось, что я вижу перед собою дядю Томаса, так походили они друг на друга. Я поклонился ему с глубоким почтением и, назвавшись сыном мастера Николаса из Ла-Фуэнте, сообщил, что уже три недели занимаюсь в Мадриде отцовским ремеслом в качестве подмастерья и намереваюсь обойти всю Испанию с целью усовершенствоваться. Пока я все это рассказывал, мне показалось, будто дядюшка мой о чем-то задумался. По-видимому, он колебался между двумя альтернативами; либо отречься от родного племянника, либо отделаться от меня каким-нибудь ловким образом. Он остановился на последней. Приняв притворно веселый вид, он сказал:
– Ну, друг мой, как поживает твой отец? Как Томас? Как Бертран? В каком положении их дела?
В ответ на это я принялся описывать дяде обильное потомство нашей семьи, назвал ему всех детей мужского и женского пола и даже включил в этот перечень их крестных отцов и матерей. По-видимому, он не очень заинтересовался этими подробностями и, не желая дольше со мной канителиться, сказал:
– Диего, я весьма одобряю твое намерение попутешествовать, чтоб основательно изучить свое ремесло; но не советую тебе дольше задерживаться в Мадриде: пребывание в столице опасно для молодежи; ты здесь погибнешь, дитя мое. Отправляйся лучше в другие города королевства: там нравы менее испорчены. Ступай, – добавил он, – а когда приготовишься к отъезду, зайди ко мне: я подарю тебе золотой, можешь объехать всю Испанию.
С этими словами он отпустил меня, ласково выпроводив из своей горницы.
Мне было невдомек, что он только искал способа от меня избавиться. Вернувшись в цирюльню, я обстоятельно описал хозяину, как принял меня дядя. Он тоже не понял намерений высокородного дона Педро и сказал:
– Я не разделяю мнения вашего дяди; на его месте я не советовал бы вам таскаться по королевству, а предложил бы остаться в столице. Мало ли он видит всяких вельмож; ему ничего не стоит поместить вас в хороший дом и дать вам возможность понемногу составить себе приличное состояние.
Пораженный этим рассуждением, рисовавшим мне заманчивые картины, я отправился спустя два дня к дяде и предложил ему использовать свое влияние, чтоб пристроить меня в доме какого-нибудь придворного. Но это предложение пришлось ему не по вкусу. Кичливому человеку, имевшему свободный доступ к вельможам и ежедневно разделявшему с ними трапезы, вовсе не хотелось, чтоб люди видели, как его племянник кормится вместе с лакеями, в то время как он сам восседает за господским столом: мальчишка Диего заставил бы краснеть сеньора дона Педро. Он не постеснялся выпроводить меня и притом самым грубым образом.
– Как, распущенный мальчишка? – воскликнул он в сердцах. – Ты хочешь бросить свое ремесло? Ступай, поищи помощи у тех, кто дает тебе такие зловредные советы. Убирайся из моего дома, и чтоб ноги твоей здесь никогда не было, не то я прикажу наказать тебя так, как ты этого заслуживаешь.
Эти слова, а еще больше тон, которым дядя со мной говорил, ошеломили меня. Я удалился со слезами на глазах, глубоко задетый таким грубым обращением. Но, будучи от природы вспыльчив и горд, я быстро осушил слезы и, перейдя от горя к негодованию, решил позабыть об этом скверном родственнике, без которого я до того дня прекрасно обходился.
Все мои мысли были направлены на то, чтоб усовершенствоваться в своем искусстве, и я весь отдался работе. По целым дням я брил, а вечером, чтоб отдохнуть душой, учился играть на гитаре. Моим наставником был некий señor escudero [49] , старичок, которому я подстригал бороду. Он обучал меня также теории музыки, каковую знал основательно, ибо некогда был соборным певчим. Звали его Маркос де Обрегон. Он был человеком степенным, обладал в такой же мере умом, как и опытом, и любил меня так, точно я приходился ему родным сыном. Служил он стремянным при супруге одного доктора, жившего в тридцати шагах от нашей цирюльни. Я заходил к нему по вечерам, сейчас же по окончании работы, и, сидя на пороге, мы вдвоем услаждали соседей небольшими концертами. Не то чтоб у нас были очень приятные голоса, но, тренькая на гитаре, каждый из нас стройно пел свою партию, и этого было достаточно, чтоб доставить удовольствие нашим слушателям. В особенности развлекали мы донью Мерхелину, супругу доктора; она выходила в сени нас послушать и заставляла иногда повторять песенки, которые ей больше всего нравились. Муж не препятствовал ей в этой забаве. Хоть и был он испанцем и к тому же человеком преклонного возраста, однако же нисколько ее не ревновал. Правда, врачебная практика всецело поглощала его, и, возвращаясь по вечерам, утомленный посещением больных, он рано ложился спать, не тревожась тем увлечением, с которым его супруга относилась к нашим концертам. Возможно также, что он не считал их способными зародить в ней опасные мысли. К этому необходимо добавить, что он не видел ни малейшего повода для опасений, ибо Мерхелина, хоть и была молодой и действительно красивой сеньорой, однако же отличалась столь суровой добродетелью, что даже не выносила, когда мужчины на нее смотрели. А потому он не вменял ей в вину развлечения, казавшегося ему невинным и пристойным, и позволял нам распевать сколько душе угодно.
Однажды вечером, подходя к докторскому дому с намерением позабавиться по нашему обыкновению, я застал у крыльца старика-стремянного. Он поджидал меня и, взяв за руку, объявил, что хочет прогуляться, прежде чем приступить к нашему концерту. Затем он повел меня в глухой переулок и, убедившись, что там можно говорить без помехи, обратился ко мне с печальным видом:
– Диего, сын мой, я должен сообщить вам нечто важное. Очень боюсь, дитя мое, как бы мы с вами не раскаялись в том, что каждый вечер устраиваем концерты у крыльца моего господина. Я поистине питаю к вам большую дружбу и очень рад, что обучил вас игре на гитаре и пенью; но если б я мог предвидеть угрожающую нам опасность, то, видит бог, выбрал бы для этих уроков другое место.
Эти слова меня перепугали. Я попросил стремянного высказаться яснее и сообщить, что именно нам угрожает, ибо далеко не был храбрецом и к тому же еще не успел обойти Испании.
– Расскажу все, что вам следует знать, – отвечал старик, – дабы вы могли судить об опасности, в которой мы находимся. Когда я поступил в услужение к доктору, – продолжал он, – а было это с год тому назад, он как-то утром привел меня к своей супруге и сказал: «Вот, Маркос, ваша госпожа; вы будете повсюду сопровождать эту сеньору». Я был очарован доньей Мерхелиной: она показалась мне удивительно красивой, прямо как картина: особенно же поразила меня ее приятная осанка. «Сеньор, – отвечал я доктору, – считаю за счастье служить столь прелестной даме». Мой ответ не понравился Мерхелине, и она резко возразила: «Как вам это нравится? Он уже начинает забываться! Не выношу, когда мне отпускают комплименты». Эти слова, произнесенные столь прекрасными устами, весьма меня удивили; я не знал, как согласовать такую деревенскую и грубую манеру разговора с очарованием, исходившим от всего облика моей госпожи, Что касается мужа, то он уже привык к этому и даже радовался редкостному характеру доньи Мерхелины. «Маркос, – сказал он, – моя супруга – чудо добродетели». Затем, заметив, что она надела накидку и приготовилась идти к обедне, он приказал мне проводить ее в церковь. Как только мы очутились на улице, то повстречались с несколькими кавалерами, которые, дивясь на красоту доньи Мерхелины, бросали ей на ходу – что вполне естественно – весьма лестные комплименты. Она отвечала им. Но вы и представить себе не можете, до чего ее ответы были нелепы и смехотворны. Молодые люди останавливались в изумлении и недоумевали, откуда взялась на свете женщина, негодовавшая на то, что ее хвалили. «Ах, сеньора, – сказал я ей сперва, – не обращайте внимания, когда с вами заговаривают. Пристойнее молчать, нежели отвечать колкостями». «Нет, нет, – возразила она, – я хочу показать этим нахалам, что я не такая женщина, которая позволяет обращаться с собой неуважительно». Словом, она разразилась таким потоком дерзостей, что я не удержался и откровенно высказал ей свое мнение, рискуя навлечь на себя ее немилость. Я заявил, насколько мог деликатнее, что она оскорбляет природу и своим диким нравом порочит присущие ей прекрасные свойства, что добрая и обходительная женщина может привлечь любовь, даже не будучи красивой, тогда как красавица, лишенная доброты и обходительности, вызывает к себе презрение. К этим рассуждениям я присовокупил еще много других в том же роде, рассчитанных на исправление ее характера. Прочитав своей госпоже такую мораль, я испугался, что навлеку на себя ее гнев и нарвусь на неприятные возражения; но она не возмутилась моими упреками, а удовольствовалась тем, что вовсе не приняла их во внимание, равно как и те, которые я имел глупость высказать ей в следующие дни. Наконец мне наскучило без толку напоминать ей об ее недостатках и, предоставив Мерхелину самой себе, я перестал заботиться об ее неукротимом характере. Между тем – поверите ли? – вот уже два месяца, как это свирепое существо, эта надменная женщина совершенно изменилась. Она обходительна со всеми, у нее появились приятные манеры. Это уже не та Мерхелина, которая дерзила мужчинам, обращавшимся к ней с учтивыми речами; она стала чувствительна к похвалам, которые ей расточают, и любит, когда говорят об ее красоте или о том, что ни один мужчина не может взглянуть на нее безнаказанно; ей нравится лесть, и вообще она стала теперь похожа на всех прочих женщин. Эта перемена едва постижима; но вы еще больше удивитесь, когда я вам скажу, что вы являетесь творцом этого великого чуда. Да, дорогой Диего, – добавил Маркос, – это вы так преобразили донью Мерхелину; вы превратили тигрицу в агнца, – словом, она к вам неравнодушна. Мне это уже несколько раз бросалось в глаза, и либо я не знаю женщин, либо она питает к вам безумную страсть. Вот, сын мой, какую печальную весть я вам принес и в каком неприятном положении мы очутились.
– Не вижу, – отвечал я старцу, – ни причины нам огорчаться, ни большой беды для себя в том, что меня любит красивая сеньора.
– Ах, Диего, – возразил он, – так рассуждают только юноши; вы видите приманку и не замечаете крючка; вам бы только наслаждаться, а я предвижу все неприятности, которые из этого воспоследуют. В конце концов все тайное становится явным: если вы будете по-прежнему ходить к нам и петь у крыльца, то усилите страсть Мерхелины и, возможно, что, потеряв всякую сдержанность, она случайно выдаст мужу, доктору Олоросо, свое увлечение; и этот муж, который, не имея поводов к ревности, относится к ней теперь так снисходительно, тогда рассвирепеет и отомстит ей; да и нам с вами может здорово достаться.
– Хорошо, – сказал я, – вижу, что вы правы, и последую вашему совету. Укажите, какого поведения мне держаться, чтоб предотвратить всякие напасти.
– Нам надо только прекратить концерты, – возразил он. – Не показывайтесь на глаза моей госпоже; не видя вас, она снова обретет спокойствие. Сидите у своего хозяина, а я буду заходить в цирюльню, где мы можем играть на гитаре без всякой опаски.
– Согласен, – отвечал я, – и обещаю, что ноги моей не будет в вашем доме.
Действительно, я решил больше не петь на крыльце у доктора и запереться на будущее время в цирюльне, раз уж я оказался человеком, столь опасным для женских взоров. Между тем спустя несколько дней мой добрый Маркос, невзирая на свою хваленую осторожность, принужден был убедиться, что придуманное им средство погасить любовное пламя доньи Мерхелины возымело как раз обратное действие. Эта сеньора, не слыша нашего пения, спросила его на второй же вечер, отчего мы прекратили свои концерты и по какой причине я больше не показываюсь. Он отвечал, что я очень занят и не имею ни одной свободной минуты для развлечений. Она как будто удовлетворилась этим объяснением и три дня сряду довольно спокойно переносила мое отсутствие; но на четвертые сутки моя принцесса потеряла терпение и сказала стремянному:
– Маркос, вы меня обманываете; Диего недаром перестал к нам ходить. Здесь кроется какая-то тайна, которую я хочу выяснить. Говорите! Я вам приказываю! Не скрывайте от меня ничего.
– Сеньора, – отвечал он, придумав новую отговорку, – раз уж вы хотите знать правду, то скажу вам, что после наших концертов ему нередко приходилось возвращаться домой, когда уже было убрано со стола; он не хочет больше подвергать себя этому риску и ложиться в постель без ужина.
– Как, без ужина? – воскликнула она с огорчением. – Почему вы мне этого раньше не сказали? Ложиться в постель без ужина? Ах, бедное дитя! Ступайте к нему сейчас же и скажите, чтоб он пришел сегодня вечером; ему больше не придется уходить домой не евши: для него всегда будет приготовлено какое-нибудь блюдо.
– Что я слышу? – вскричал Маркос, прикинувшись изумленным. – Боже, какая перемена! Вы ли говорите это, сеньора? С каких пор вы стали такой сердобольной и чувствительной.
– С тех пор, – перебила она его резко, – как вы живете в этом доме, или, вернее, с тех пор, как вы осудили мое надменное обхождение и попытались смягчить мой суровый характер. Но, увы! – воскликнула она, расчувствовавшись. – Я от одной крайности перешла к другой: из спесивой и бессердечной я сделалась теперь слишком нежной и чувствительной; я люблю вашего молодого друга Диего и не могу побороть в себе этой страсти. Его отсутствие не только не ослабило моей любви, но, по-видимому, еще придало ей большую силу.
– Возможно ли, – возразил старик, – чтоб молодой человек, не отличающийся красотой, да и собой невидный, мог стать предметом столь пылкой страсти? Я простил бы еще ваши чувства, если б они были внушены каким-нибудь кавалером, обладающим блестящими достоинствами, но…
– Ах, Маркос! – прервала его Мерхелина. – Видимо, я не похожа на других особ моего пола, или же, несмотря на свой многолетний опыт, вы худо их знаете, если думаете, что они при выборе возлюбленного руководствуются его достоинствами. Насколько могу судить по себе, женщины отдают свое сердце не размышляя. Любовь – это некое безрассудство, влекущее нас к какому-нибудь предмету и приковывающее к нему против нашей воли; это – болезнь, которая нападает на нас, как бешенство на животных. А потому перестаньте уверять меня, что Диего не достоин моей нежности. Я люблю его и этого достаточно, чтоб я находила в нем тысячи прекрасных свойств, которые от вас ускользают и которыми он, быть может, вовсе не обладает. Не трудитесь убеждать меня в том, что лицо его и фигура недостойны ни малейшего внимания, ибо мне он представляется восхитительно стройным и прекрасным, как день. К тому же в голосе его есть какая-то нежность, которая меня трогает, а на гитаре он играет с исключительной приятностью.
– Однако, сеньора, – возразил Маркос, – подумайте о том, кто такой Диего. Его простое звание…
– Я ничем не выше его, – снова перебила она старика, – и будь я даже знатной госпожой, то не обратила бы на это никакого внимания.
Результат этого разговора был таков, что Маркос отчаялся переубедить свою госпожу и перестал бороться с ее упорством, как искусный кормчий, уступающий буре, которая отгоняет его корабль от той гавани, куда он направлялся. Он пошел даже дальше: чтобы удовлетворить донью Мерхелину, старик отправился в цирюльню и, отведя меня в сторону, сообщил мне все, что произошло между ними.
– Вы видите, Диего, – сказал он, – что мы не можем прекратить наши концерты у крыльца доньи Мерхелины. Вам необходимо, друг мой, свидеться с этой сеньорой, а не то она способна выкинуть какой-нибудь такой безрассудный поступок, который пуще всего повредит ее репутации.
Я не стал разыгрывать жестокого сердцееда и ответил Маркосу, что приду к нему под вечер с гитарой и что он может отнести эту приятную весть своей госпоже. Старик не преминул этого исполнить, и моя пылкая возлюбленная была в полном восторге, узнав, что вечером будет иметь удовольствие видеть меня и послушать мое пение.
Между тем одно довольно неприятное происшествие чуть было не разрушило этой надежды. Мне удалось выйти из цирюльни только с наступлением ночи, которая, видимо за грехи мои, оказалась очень темной. Я ощупью продвигался по улице и был уже, пожалуй, на полпути, когда из одного окна меня окатили чем-то таким, что отнюдь не ласкало обоняния. Могу даже сказать, что я не упустил ни одной капли из этой порции, так ловко меня отделали. В этом положении я не знал, на что мне решиться. Вернуться назад? Но какое зрелище для моих товарищей! Это значило бы подвергнуться самым невыносимым насмешкам. Явиться же к донье Мерхелине в таком прекрасном виде было мне весьма неприятно. Тем не менее я предпочел последнее и отправился к дому этой сеньоры. У ворот я застал поджидавшего меня Маркоса. Он сообщил мне, что доктор Олоросо только что лег почивать и что мы можем забавляться без всякой помехи. Я отвечал, что мне прежде всего необходимо почистить платье, и тут же поведал ему о своем несчастье. Он посочувствовал мне и повел в покой, где находилась его госпожа. Как только эта сеньора услыхала про мое приключение и увидела меня в таком состоянии, она принялась сожалеть обо мне, точно со мной стряслось величайшее несчастье в мире; а потом, обрушившись на людей, которые меня так изукрасили, она осыпала их всяческими проклятьями.
– Успокойтесь, сеньора, – сказал ей Маркос, – ведь все это происшествие – чистейшая случайность. Зачем так близко принимать его к сердцу?
– А почему, скажите, пожалуйста, почему мне не принимать к сердцу обиду, нанесенную этому агнцу, этому незлобивому голубку, который даже не жалуется на причиненное ему оскорбление? – воскликнула она в сердцах. – Ах, как мне сейчас жаль, что я не мужчина! Я отомстила бы за него.
Она наговорила еще кучу всяких других вещей, выдававших силу ее любви, которая проявилась также и в ее поступках. А именно, пока Маркос обтирал меня полотенцем, донья Мерхелина сбегала в свою горницу и принесла ларец, наполненный всевозможными благовониями. Она зажгла монашки и окурила все мое платье, а затем щедро опрыскала его духами. Покончив с окуриванием и опрыскиванием, эта милосердная особа отправилась сама на кухню за хлебом, вином и несколькими кусками жареной баранины, которые припасла для меня. Затем она заставила меня приняться за еду и, по-видимому, находила удовольствие в том, чтоб мне прислуживать, так как то разрезала жаркое, то подливала мне в стакан вина, хотя я и Маркос всячески ее от этого удерживали. После того как я покончил с ужином, господа концертмейстеры принялись настраивать голоса под гитару и угостили донью Мерхилину таким дуэтом, от которого она пришла в восторг. Правда, мы умышленно выбирали песни, слова которых льстили ее любви, и надо еще сказать, что во время исполнения я бросал на нее украдкой взгляды, подливавшие масла в огонь, ибо начинал входить во вкус этой забавы. Хотя концерт продолжался немалое время, однако же он мне нисколько не наскучил. Что касается моей дамы, которой часы казались минутами, то она охотно слушала бы нас всю ночь, если б старик-стремянный, которому минуты казались часами, не напомнил ей, что время уже позднее. Мерхелина заставила его повторить это по крайней мере раз десять, но тут она наткнулась на упорного человека, который не успокоился до тех пор, пока я наконец не ушел. Будучи весьма разумным и осторожным и видя, что его госпожа потеряла голову от безумной страсти, он боялся, как бы с нами не приключилось неприятности. Его опасения вскоре оправдались: потому ли, что доктор заподозрил какую-то тайную интригу, или потому, что демон ревности, до тех пор его не беспокоивший, захотел ему досадить, но он выразил недовольство по поводу наших концертов. Мало того: он запретил их по праву хозяина и, не входя ни в какие объяснения относительно своего поступка, заявил, что впредь не потерпит в доме присутствия посторонних мужчин.
Маркос сообщил мне об этом распоряжении, которое главным образом касалось меня. Оно причинило мне немалую досаду, ибо у меня зародились надежды, от которых жаль было отказаться. Но как правдивый историк, точно передающий события, я должен сознаться, что терпеливо покорился своей печальной участи. Не так обстояло дело с Мерхелиной: запрещение только разожгло ее страсть.
– Любезный Маркос, – сказала она старику, – только вы один в состоянии мне помочь. Устройте, пожалуйста, так, чтоб я могла тайно свидеться с Диего.
– Чего вы требуете от меня? – воскликнул он, рассердившись. – Я и без того был слишком податлив. Вовсе не намерен в угоду вашей безумной страсти способствовать бесчестию своего господина, погубить вашу репутацию и опозорить себя самого, ибо всю свою жизнь я был безупречным слугой. Лучше уйду из вашего дома, нежели стану служить столь постыдным образом.
– Ах, Маркос! – прервала его сеньора, испуганная этими последними словами, – вы разрываете мне сердце, когда говорите о своем уходе. Неужели, жестокий человек, вы собираетесь меня покинуть, после того как довели до такого состояния. Верните мне прежде мою гордость и дикий нрав, который вы искоренили. Ах, почему не обладаю я, как раньше, этими благотворными недостатками! Я была бы спокойна, между тем как ваши назойливые увещевания лишили меня душевного мира, которым я наслаждалась. Желая исправить мой характер, вы меня совратили… Но что я говорю, несчастная? – продолжала она, заливаясь слезами. – К чему попрекаю вас напрасно? Нет, отец мой, вы не виновны в моем несчастье: горькая судьба моя уготовила мне все эти печали. Умоляю вас, не обращайте внимания на сумасбродные речи, которые срываются у меня с языка. Увы! Страсть помутила мне рассудок. Сжальтесь над моей слабостью; вы – мое единственное утешение, и если жизнь моя вам дорога, то не откажите мне в вашей помощи.
При этих словах она заплакала еще пуще, так что уже не могла продолжать. Вынув платок и закрыв им лицо, она опустилась на стул, как человек, подавленный горем. Старый Маркос, добрейший из когда-либо существовавших стремянных, не устоял при виде этого трогательного зрелища; оно глубоко поразило его, и, заплакав вместе со своей госпожой, он произнес с умилением:
– Ах, сеньора, как вы обольстительны! Я не в силах устоять против вашей печали: она одержала верх над моей добродетелью. Обещаю вам свои услуги и не удивляюсь более тому, что любовь заставила вас изменить долгу, раз даже простое сострадание побудило меня забыть свой собственный.
Таким образом, старый стремянный, несмотря на свою безупречность, взялся с величайшей предупредительностью служить страсти доньи Мерхелины. Однажды утром он явился в цирюльню, чтобы уведомить меня обо всем, и на прощание сказал, что обдумывает способ, как устроить мне тайное свидание с сеньорой Мерхелиной. Этим он окрылил меня надеждой, но два дня спустя я узнал весьма скверную новость. Один из наших клиентов, аптекарский ученик из того же квартала, зашел к нам навести красоту. Пока я готовился его побрить, он мне сказал:
– Что же вы плохо смотрите за своим приятелем, стариком стремянным, Маркосом де Обрегон? Знаете ли вы, что ему приходится уходить от доктора Олоросо?
Я отвечал, что не имею об этом ни малейшего понятия.
– Это решенное дело, – продолжал он. – Его должны нынче уволить. Доктор Олоросо только что беседовал с моим хозяином и вот о чем они говорили. «Сеньор Апунтадор, – сказал доктор, – у меня есть к вам просьба. Я не доволен своим старым стремянным и ищу верную, строгую и бдительную дуэнью, которая присматривала бы за женой». – «Понимаю вас, – прервал его мой хозяин, – вам нужна Мелансия, которая была компаньонкой моей жены и продолжает жить у меня в доме, хотя я овдовел полтора месяца тому назад. Правда, она очень помогает мне по хозяйству, но так как я принимаю близко к сердцу интересы вашей супружеской чести, то готов вам ее уступить. Можете вполне на нее положиться и не беспокоиться о том, как бы у вас не выросли на лбу кой-какие украшения: это – перл среди дуэний, это – настоящий дракон для охраны целомудрия женского пола. В течение двенадцати лет состояла она при моей супруге, которая, как вы знаете, была молода и пригожа, и за все это время я не видал в доме и тени любовника. Клянусь богом, такому молодчику у нее бы не поздоровилось. Скажу вам, между нами, что покойница, особенно в первое время, питала большую склонность к кокетству, но Мелансия быстро ее охладила и внушила ей любовь к добродетели. Словом, она не компаньонка, а клад, и вы еще много раз будете благодарить меня за этот подарок». После этого доктор выразил величайшую радость по поводу любезности сеньора Апунтадора, и они уговорились, что дуэнья сегодня же заступит на место вашего приятеля. Это известие, которое я счел за правду и которое действительно оказалось таковой, смутило приятные чаяния, начинавшие было ласкать мое воображение, а Маркос, зашедший ко мне после полудня, окончательно угробил их, подтвердив то, что сообщил аптекарский ученик.
– Любезный Диего, – сказал добрый старик, – я в восторге от того, что доктор Олоросо прогнал меня: он избавил меня от многих хлопот. Не говоря о том, что я тяготился взятой на себя позорной ролью, мне пришлось бы еще придумывать всякие хитрости и извороты, чтоб устраивать вам тайные свидания с Мерхелиной. Боже, какая обуза! Но, благодарение небу, я отделался от всех этих неприятных забот и от связанных с ними опасностей. Вам же, друг мой, советую не печалиться об утрате нескольких приятных минут, которые, быть может, повлекли бы за собой тысячи огорчений.
Я перестал питать какие-либо надежды, а потому внял нравоучению Маркоса и отказался от своего романа. Признаюсь, что я не принадлежал к числу тех упорных любовников, которые ополчаются на препятствия, а если б и был таковым, то госпожа Мелансия, наверно, заставила бы меня расцепить зубы. Судя по тому, как описывали ее нрав, она была в состоянии довести до отчаяния любого вздыхателя. Несмотря, однако, на столь мрачную характеристику, я дня два-три спустя узнал, что докторша ухитрилась усыпить этого аргуса или подкупить его совесть. Выйдя из цирюльни, чтоб побрить на дому одного из наших клиентов, я встретил добрую старушку, которая спросила, не зовут ли меня Диего из Ла-Фуэнте. Получив утвердительный ответ, она сказала:
– Раз это так, то вас именно мне и надобно. Приходите сегодня ночью к воротам доньи Мерхелины, а когда вы там будете, то подайте какой-нибудь знак и вас проведут в дом.
– Хорошо, – отвечал я, – в таком случае надо условиться насчет знака. Я прекрасно подражаю кошке и промяукаю несколько раз.
– Вот и отлично, – отвечала вестница любви, – я так и передам сеньоре Мерхелине. Ваша покорная слуга, сеньор Диего; да хранит вас господь! Ах, какой вы красавчик! Клянусь святой Агнесой, что, будь мне снова пятнадцать лет, я б никого не выбрала, кроме вас.
С этими словами услужливая старушка меня покинула.
Легко можете себе представить, как сильно взволновало меня это приглашение: прощай нравоучение Маркоса! Я с нетерпением ждал ночи, и, как только наступил час, когда, по моему предположению, доктор Олоросо должен был улечься в постель, я отправился к его крыльцу. Там я принялся мяукать так громко, что меня можно было слышать издалека, к великой славе наставника, обучившего меня этому прекрасному искусству. Минуту спустя сама Мерхелина открыла мне потихоньку дверь и заперла ее, как только я очутился в доме. Мы пробрались в покой, в котором происходил наш последний концерт и где теперь тускло горел ночник, стоявший в камине. Усевшись рядышком, чтоб побеседовать, мы оба оказались сильно взволнованными, с той только разницей, что ее волнение происходило исключительно от страсти, тогда как к моему примешивалась некоторая доля страха. Тщетно уверяла меня моя красавица, что нам нечего бояться мужа; я ощущал дрожь, отравлявшую мне все удовольствие.
– Сеньора, – спросил я, – как удалось вам обмануть бдительность вашей дуэньи? После того, что мне наговорили про почтенную Мелансию, я уже не рассчитывал получить от вас весточку, а тем более встретиться с вами наедине.
В ответ на эти слова донья Мерхелина улыбнулась и сказала:
– Вы перестанете удивляться тому, как мне удалось устроить это ночное свидание, когда я расскажу вам, что произошло между мной и дуэньей. Как только она пришла к нам, мой муж всячески ее обласкал, и сказал мне: «Мерхелина, поручаю присмотр за вами этой скромной особе, которая слывет за образец всех добродетелей; она будет служить вам зерцалом, в которое вы можете беспрестанно смотреть, чтоб черпать оттуда примеры благоразумия.
Сия несравненная женщина опекала в течение двенадцати лет жену одного аптекаря, моего приятеля; но как опекала… так, как другие не опекают: она сделала из нее чуть ли не святую». Эти похвалы, вполне подтверждавшиеся строгим видом Мелансии, привели меня в отчаяние и заставили пролить немало слез. Я уже представляла себе поучения, сыплющиеся на меня с утра до вечера, и выговоры, которые мне пришлось бы ежедневно выслушивать. Словом, мне казалось, что я стала самой несчастной женщиной в мире. В предвидении таких горестей я уже не считалась ни с чем и, оставшись наедине с дуэньей, сказала ей самым резким тоном: «Вы, по-видимому, собираетесь доставить мне немало мучений, но предупреждаю вас, что я не отличаюсь долготерпением, и отплачу вам в свою очередь всяческими обидами. Заявляю вам без обиняков, что сердце мое пылает страстью, которую не искоренят никакие поучения: принимайте любые меры. Можете удвоить свою бдительность, но предупреждаю вас, что использую все средства, чтоб вас обмануть». Я ожидала, что после этих слов хитрая дуэнья прочтет мне изрядную отповедь, но она вдруг перестала морщить лоб и сказала со смехом: «Я в восторге от вашего характера и на откровенность отвечу вам откровенностью. Плохо вы меня знаете, прекрасная Мерхелина, если судите обо мне по похвалам своего супруга или по моему угрюмому виду. Я вовсе не враг удовольствий, и если состою на службе у ревнивых мужей, то только для того, чтоб потакать их прелестным женам. Уже много лет, как я владею великим искусством притворяться и могу почитать себя счастливой, ибо одновременно пользуюсь всеми приятностями порока и хорошей репутацией, которую создает добродетель. Между нами говоря, мир и не знает другой добродетели. Чтоб стать нравственным по-настоящему, надо затратить слишком много усилий, а потому в наши дни довольствуются видимостью. Положитесь на меня, – продолжала дуэнья, – и мы окрутим старичка-доктора Олоросо. Его постигнет та же судьба, что и сеньора Апунтадора. Думаю, что докторский лоб достоин не большего почтения, чем аптекарский. Бедный Апунтадор! Чего только мы с аптекаршей над ним не выделывали! Что за милая женщина! И какой славный характер, царствие ей небесное! Могу побожиться, что она весело прожила молодость. И сама не помню, сколько я привела к ней в дом любовников, а муж ни разу ничего не заметил. А потому, сеньора, будьте ко мне благосклоннее и поверьте, что, как бы усердно ни служил вам старик-стремянный, вы ничего не потеряете от этой замены. Я, быть может, окажусь для вас полезнее, чем он». Можете себе представить, Диего, сколь я была благодарна своей дуэнье за такую ее откровенность. Ведь я почитала ее за образец добродетели. Вот как можно ошибаться в женщинах! Ее искренность сразу покорила меня, и я обняла ее с восторгом, показав этим, насколько была рада такой компаньонке. Поведав ей все секреты своего сердца, я попросила ее устроить мне поскорее тайное свидание с вами. Мелансия так и поступила. Сегодня с утра отправила она на розыски ту старуху, с которой вы говорили; это великая мастерица на такие дела, и моя дуэнья пользовалась ее услугами, когда служила у аптекарши. Но самое забавное во всем этом приключении, – добавила она со смехом, – это то, что Мелансия, которой я рассказала про обыкновение моего мужа спать всю ночь без просыпа, легла рядом с ним и заступает теперь мое место.
– Ах, сеньора! – воскликнул я. – Мне совсем не нравится эта выдумка. Ваш муж легко может заметить обман.
– Ничего он не заметит, – поспешила возразить Мерхелина, – не беспокойтесь об этом, и пусть напрасный страх не отравляет вам удовольствие, которое вы должны испытывать в обществе молодой дамы, желающей вам добра.
Заметив, что эти уговоры не ослабили моих опасений, жена старого доктора пустила в ход все средства, которые, по ее мнению, должны были меня ободрить, и приложила к этому столько стараний, что наконец добилась своего. Я уже стал помышлять только о том, чтобы использовать благоприятный случай; но в то самое время, когда бог Купидон, сопровождаемый собором Смехов и Игр, готовился увенчать мое счастье, у ворот дома раздался сильный стук. Тотчас же Амур улетел со всей своей свитой, подобно стае робких птиц, внезапно испуганных громким шумом. Мерхелина поспешно упрятала меня под стол, находившийся в зале, и потушила ночник, а сама – как это было условлено с дуэньей на случай тревоги – отправилась к дверям горницы, где спал ее муж. Между тем стук в воротах усилился, так что гул разносился по всему дому. Тут сеньор Олоросо проснулся и позвал Мелансию. Дуэнья соскочила с постели, несмотря на то, что доктор, принимавший ее за жену, кричал ей, чтоб она не вставала, и помчалась к своей госпоже, которая, ощутив ее подле себя, в свою очередь позвала Мелансию и приказала ей посмотреть, кто стучит у ворот.
– Я здесь, сеньора, – ответила дуэнья, – пожалуйста лягте опять в постель, а я сейчас узнаю, в чем дело.
В это время Мерхелина разделась и улеглась подле доктора, нимало не подозревавшего, что его обманывают. Правда, вся эта сцена была разыграна в темноте и притом двумя актрисами, из которых одна была бесподобна, а другая обладала достаточными задатками, чтобы стать таковой.
Вскоре после того дуэнья, накинув капот, вошла в опочивальню с факелом в руке.
– Потрудитесь встать, сеньор доктор, – сказала она своему господину. – Нашего соседа, книгопродавца Фернандеса де Буэндиа, хватил удар. За вами прислали; поспешите ему на помощь.
Доктор оделся со всевозможной поспешностью и вышел из дому. Тогда его супруга, облачившись в капот, направилась вместе с дуэньей в тот покой, где я находился. Они вытащили меня из-за стола скорее мертвого, чем живого.
– Успокойтесь, Диего, вам больше нечего бояться, – сказала Мерхелина.
При этом она сообщила мне в двух словах о том, что произошло. Затем она вознамерилась продолжать со мной прерванную беседу, но дуэнья этому воспротивилась.
– Сеньора, – сказала Мелансия, – возможно, что ваш супруг уже не застанет книгопродавца в живых и вернется обратно. К тому же, – добавила она, заметив, как я оцепенел от страха, – что вы станете делать с этим беднягой? Он не в состоянии поддерживать разговор. Лучше отправить его домой и отложить нежности на завтра.
Донья Мерхелина, предпочитавшая настоящее грядущему, лишь с большой неохотой согласилась на отсрочку и, казалось, весьма досадовала на то, что ей не удалось украсить чело мужа головным убором, который она ему предназначала.
Что касается меня, то я больше радовался избавлению от опасности, нежели печалился о том, что упустил драгоценные дары любви, и, вернувшись к своему хозяину, провел остаток ночи в размышлениях о пережитом мной приключении. Некоторое время я колебался, идти ли мне в следующую ночь на свидание или нет, ибо был о второй затее не лучшего мнения, чем о первой; но бес, который неотвязно искушает нас или, вернее, овладевает нами в таких случаях, шепнул мне, что я буду большим глупцом, если остановлюсь на полпути. Он даже представил мне Мерхелину в ореоле новых чар и пышно расцветил ожидавшие меня наслаждения. Я решил продолжать начатое и дал себе обещание выказать больше твердости; с этим прекрасным намерением направился я на следующий день в двенадцатом часу к докторскому дому. Ночь была очень темная и небо беззвездно. Я промяукал два-три раза, чтобы предупредить о своем приходе, но так как мне не отпирали, то я не только не унялся, а продолжал свои упражнения на всевозможные лады, которым обучил меня один ольмедский пастух. Видимо, я исполнял это с большим искусством, ибо какой-то сосед, возвращавшийся домой, принял меня за животное, которому я подражал, и, подняв камень, попавшийся ему под ноги, швырнул им в меня из всей силы со словами: «Ах, проклятый котище!» Удар пришелся мне в голову, и в первую минуту я был так оглушен, что чуть было не опрокинулся навзничь. Затем я ощутил сильное ранение. Этого было достаточно, чтоб отбить у меня охоту к волокитству; теряя любовь вместе с кровью, побрел я домой, где разбудил и поднял на ноги всех домочадцев. Хозяин осмотрел и перевязал рану, которую признал опасной. Однако никаких дурных последствий она за собой не повлекла и недели через три зажила совсем. В течение всего этого времени я ничего не слыхал о Мерхелине. Надо думать, что почтенная Мелансия, желая отвлечь от меня докторшу, нашла ей какого-нибудь интересного кавалера. Но это меня ничуть не беспокоило, ибо как только я окончательно выздоровел, то покинул Мадрид, чтоб продолжать путешествие по Испании.
Глава VIII О том, как Жиль Блас и его спутник повстречали человека, макавшего хлебные корки в источник, и об их беседе с этим человеком
Сеньор Диего из Ла-Фуэнте поведал мне еще о многих других случившихся с ним после этого приключениях, но они кажутся мне столь мало достойными пересказа, что я обойду их молчанием. Мне пришлось, однако, прослушать все его повествование, оказавшееся очень длинным, так что мы за этим делом успели дойти до Понте де Дуэро. Там мы провели остаток дня и, остановившись на постоялом дворе, приказали изготовить капустный суп и зажарить зайца на вертеле, не преминув тщательно убедиться в его свежести. На следующий день мы чуть свет отправились в путь, наполнив предварительно бурдюк довольно пристойным вином и положив в котомку несколько кусков хлеба, а также половину зайца, оставшегося от ужина.
Пройдя около двух миль, ощутили мы аппетит и, заметив шагах в двухстах от проезжей дороги несколько больших деревьев, бросавших на поляну приятную тень, устроили привал в этом месте. Там мы увидали мужчину лет двадцати семи или двадцати восьми, макавшего корки хлеба в источник. Подле него валялась на траве длинная рапира и снятая со спины торба. Одет он был плохо, но недурен с лица и собою статен. Мы учтиво приветствовали его, а он ответил нам тем же. Затем, указав на свои корки, он со смехом спросил, не соизволим ли мы откушать вместе с ним. Мы ответили согласием, однако с тем условием, что он позволит нам присоединить наши запасы к его завтраку, для того чтобы сделать трапезу несколько сытнее. Он не воспротивился этому, и мы тотчас же извлекли свою провизию, что доставило незнакомцу немалое удовольствие.
– Помилуйте, господа, – воскликнул он в полном восторге, – какое необычайное обилие яств! Вы, как я посмотрю, люди весьма предусмотрительные. Что касается меня, то я путешествую без таких предосторожностей и больше полагаюсь на удачу. Несмотря, однако, на неприглядный вид, в котором я предстал перед вами, могу сказать, не хвастаясь, что иногда являю собой весьма блестящую персону. Знайте, что меня при этом величают принцем и что я хожу в сопровождении стражи.
– Понимаю вас, – сказал Диего, – вы намекаете на то, что вы актер.
– Вы угадали, – возразил тот, – я уже свыше пятнадцати лет представляю на сцене, еще ребенком выступал в мелких ролях.
– Поистине мне трудно вам поверить, – заявил цирюльник, покачивая головой. – Я знаю актеров: эти господа не путешествуют, как вы, пешедралом и не питаются пищей св. Антония. Сомневаюсь даже, чтоб вы там свечи оправляли.
– Можете думать обо мне что хотите, – заявил актер, – но я тем не менее выступаю в главных ролях и играю первых любовников.
– В таком случае поздравляю вас, – сказал мой спутник, – и очень рад, что сеньор Жиль Блас и я имеем честь завтракать с такой важной особой.
После этого мы принялись грызть корки и обгладывать остатки драгоценного зайца, так основательно прикладываясь при этом к бурдюку, что не замедлили его опорожнить. Занявшись вплотную этим делом, мы еле успевали перемолвиться словечком, но, покончив с едой, снова разговорились.
– Меня удивляет, – сказал цирюльник актеру, – что ваши дела идут, по-видимому, неважно. У вас слишком убогий вид для театрального героя. Не прогневайтесь на то, что я так откровенно высказываю свои мысли.
– Так откровенно? – воскликнул актер. – Видно, вы совсем не знаете Мелькиора Сапату. Слава богу, я человек не строптивый. Вы доставили мне удовольствие своей искренностью, ибо я сам люблю выкладывать все, что у меня на душе. Охотно признаюсь, что я небогат. Взгляните хотя бы на материю, заменяющую мне подкладку, – продолжал он, показывая нам свой камзол, подбитый театральными афишами. – А если вас интересует мой гардероб, то я готов удовольствовать ваше любопытство.
С этими словами он вытащил из торбы театральный костюм, обшитый мишурным и поблекшим серебряным позументом, жалкую широкополую шляпу с поредевшим старым плюмажем, весьма дырявые шелковые чулки и сильно поношенные башмаки из красного сафьяна.
– Как видите, – сказал он затем, – я более или менее нищий.
– Весьма тому удивлен, – заметил Диего. – Неужели у вас нет ни жены, ни дочери?
– Как же, – возразил Сапата, – жена моя молода и пригожа, но мне от этого ничуть не легче. И подумайте только, что у меня за несчастная планида! Женюсь я на прелестной актрисе в надежде, что она не даст мне умереть с голода, а она, на беду мою, оказывается образцом неподкупного целомудрия. Тут сам черт бы вляпался! И надо же, чтоб среди всех странствующих актерок нашлась одна добродетельная и чтоб она досталась именно мне.
– Действительно, невезение, – согласился цирюльник. – Но почему же вы не женились на какой-нибудь из актрис главной мадридской труппы? Тут бы вы не промахнулись.
– Конечно, – отвечал гистрион [50] , – но черт возьми! Ничтожный странствующий комедиант не смеет даже и мечтать об этих знаменитых героинях. Это мог бы себе позволить разве актер Принцева театра, да и то многим из них приходится искать утешения в городе. К счастью для них, Мадрид – отличное место: там зачастую попадаются такие особы, которые ни в чем не уступят театральным принцессам.
– Неужели вам никогда не приходило в голову поступить в эту труппу? – спросил мой спутник. – Разве для этого требуется какой-нибудь невероятный талант?
– Да вы смеетесь надо мной, что ли, с вашим невероятным талантом? – возразил Мелькиор. – Всех актеров – двадцать человек. Порасспросите-ка публику и услышите, как она их честит. Доброй половине этих господ следовало бы ходить по-прежнему с котомкой за плечами. А между тем нелегко попасть в эту труппу. Чтоб заменить талант, нужны либо деньги, либо могущественные друзья. Мне ли этого не знать, когда я только что дебютировал в Мадриде, где меня ошикали и освистали вовсю, вместо того чтоб наградить бурными аплодисментами? Я ли не надрывался, я ли не вопил несуразным голосом и не преступал сотни раз пределов природы? А разве, декламируя, я не поднес кулака к подбородку принцессы? Словом, я играл в духе великих актеров Кастилии, а между тем публика, которая весьма одобряет эту манеру, порицала ее при моем выступлении. Вот что значит предвзятость. Таким образом, не понравившись зрителям своей игрой и не имея денег, чтоб попасть в труппу в пику тем, кто меня освистал, я возвращаюсь в Самору. Иду к жене и товарищам, дела которых далеко не блестящи. Не пришлось бы нам только просить подаяния, дабы было на что перебраться в другой город, как не раз уже с нами случалось.
После этих слов наш театральный принц встал и поднял с земли торбу и шпагу; затем, расставаясь с нами, он торжественно произнес:
…Прощайте, господа!
Пусть милости свои вам боги шлют всегда.
– Да ниспошлют они вам, – отвечал в том же тоне Диего, – чтобы, придя в Самору, вы застали свою супругу переменившейся и выгодно пристроенной.
Не успел сеньор Сапата повернуться к нам спиной, как он принялся жестикулировать и декламировать на ходу. Тотчас же я и брадобрей засвистали ему вслед, чтоб напомнить о неудачном дебюте. Эти звуки достигли его слуха, и ему показалось, что он все еще слышит мадридских свистунов. Оглянувшись и видя, что мы забавляемся на его счет, он не только не оскорбился этой проделкой, но принял ее весьма добродушно и продолжал свой путь, хохоча во всю глотку. Что касается нас, то, натешившись досыта, мы вернулись на большую дорогу и пошли по направлению к Ольмедо.
Глава IХ В каком положении застал Диего свою родню и после каких увеселений он и Жиль Блас расстались друг с другом
В этот день мы заночевали между Мойадос и Вальпуэстой, в маленькой деревушке, название коей я запамятовал, а на следующее утро около одиннадцати прибыли в ольмедскую равнину.
– Сеньор Жиль Блас, – сказал мой спутник, – вот то место, где я родился. Не могу смотреть на него без умиления, ибо каждому человеку свойственно любить свою родину.
– Мне кажется, сеньор Диего, – отвечал я ему, – что тот, кто выказывает столько любви к отчизне, должен отзываться о ней благосклонней, чем вы. Ольмедо производит на меня впечатление города, а вы говорили, что это деревня. Следовало назвать его, по меньшей мере, крупным поселком.
– Готов перед ним извиниться, – согласился цирюльник, – но должен вам сказать, что, обойдя всю Испанию и побывав в Мадриде, Толедо, Сарагоссе и других крупных центрах, я стал смотреть на маленькие города, как на деревни.
Продвигаясь вперед по равнине, мы начали различать неподалеку от Ольмедо как бы некое скопление народа, а когда подошли настолько близко, что уже можно было рассмотреть предметы, то увидели зрелище, достойное нашего внимания.
А именно на некотором расстоянии друг от друга стояло три шатра, возле которых суетились множество поваров и поварят, занятых приготовлениями к пиршеству. Одни расставляли приборы на длинных столах, расположенных под сенью шатров, другие наливали вино в глиняные кувшины, третьи следили за поставленными на огонь котелками, а остальные переворачивали вертела, на которых жарилась всякая говядина. Но с особенным вниманием рассматривал я воздвигнутую тут же большую сцену. Она была украшена картонными декорациями, расписанными всевозможными красками, и обвешана греческими и латинскими изречениями. Увидев эти надписи, цирюльник воскликнул:
– Вся эта затея с греческими цитатами сильно попахивает дядюшкой Томасом; готов биться об заклад, что это его рук дело, ибо, между нами говоря, он большой мастак и знает наизусть кучу школьных текстов. Жаль только, что в разговоре он так и сыплет оттуда целыми отрывками, а это многим вовсе не нравится. Кроме того, – присовокупил цирюльник, – мой дядя перевел ряд латинских стихотворцев и греческих сочинителей. Он отлично знаком с античным миром, как видно из написанных им прекрасных комментариев. Без него мы не знали бы, что в городе Афинах дети плакали, когда их секли: этим открытием мы обязаны его глубокой эрудиции.
Осмотрев все вышеописанное, я и мой спутник пожелали узнать о причине стольких приготовлений. Мы было уже собрались расспросить об этом, как Диего, заметив человека, походившего на устроителя празднества, узнал в нем сеньора Томаса из Ла-Фуэнте, к которому мы тотчас же и направились. Школьный учитель сначала не опознал юного брадобрея, настолько тот изменился за десять лет; но наконец, убедившись, что это его племянник, он сердечно обнял его и сказал приветливо:
– Так это ты, Диего, любезный мой племянник? Итак, ты снова вернулся в родной город? Пришел взглянуть на своих пенатов, и небо возвращает тебя семье целым и невредимым? О день, трижды и четырежды блаженный! Albo dies notanda lapillo [51] . Есть много всяких новостей, друг мой, – продолжал он. – Твой гениальный дядя Педро стал жертвой Плутона: вот уже три месяца, как его нет на свете. При жизни этот скряга все боялся, как бы ему не испытать нужды в самом необходимом: argenti pallebat amore [52] . Несмотря на то, что некоторые знатные вельможи назначили ему крупные пенсии, он не проживал на свое содержание и десяти пистолей в год; даже лакей, который ему прислуживал, был на чужих харчах. Разве он не безрассуднее грека Аристиппа [53] , приказавшего рабам бросить посреди Ливийской пустыни все его сокровища, чтоб избавить их от ноши, которая мешала им продвигаться вперед? Наш безумец, напротив, копил все золото и серебро, которое попадалось ему в руки. А для кого? Для наследников, которых он и знать не хотел. После него осталось тридцать тысяч дукатов, которые твой отец, дядя Бертран и я поделили между собой. Теперь мы в состоянии хорошо пристроить своих детей. Брат мой Николас уже позаботился о сестре твоей Терезе; он только что выдал ее замуж за сына одного из наших алькальдов [54] : соnnubio junxit stabili propriamque dicavit [55] .
Вот уже два дня как мы с большой пышностью празднуем этот брак, заключенный при весьма благоприятных предзнаменованиях. Мы разбили на равнине эти шатры. У каждого из наследников Педро собственный шатер, и все в течение трех дней несут по очереди расходы по угощению. Жаль, что ты не вернулся раньше, так как застал бы начало празднества. Позавчера, в день свадьбы, угощал твой отец. Он устроил роскошный пир, за которым последовала карусель с кольцами. Дядя мой, щепетильник, потчевал нас вчера и развлекал пасторалью. Он нарядил десять самых красивых юношей пастухами, а десять девушек – пастушками и пожертвовал для этого всеми лентами и бантами своей лавки. Эта нарядная молодежь исполняла разные танцы и пела множество нежных и грациозных бержереток. Все было на редкость изящно, но особого успеха не имело: видимо, пастораль отжила свой век [56] . Сегодня – моя очередь раскошелиться, – продолжал он, – и я взялся угостить ольмедских горожан пьесой своего сочинения finis coronabit opus [57] . Я приказал сколотить театр, где мои ученики, с божьей помощью, исполнят написанную мною трагедию. Она называется «Забавы Мулея Бухентуфа, султана марокканского». Сыграют ее бесподобно, так как у меня есть питомцы, которые декламируют не хуже мадридских актеров. Все эти дети хороших семейств из Пеньяфьеля и Сеговии, которые отданы ко мне в обучение. Великолепные исполнители! Правда, я сам натаскивал ребят, и их искусство, ut ita dicam [58] , – отмечено печатью учителя. Что касается пьесы, то не стану о ней распространяться: не хочу лишать тебя приятного ощущения, вызываемого неожиданностью. Скажу только, что она должна захватить всех зрителей. Я выбрал одни из тех трагических сюжетов, которые потрясают душу видениями смерти, являющимися нашему воображению. Я разделяю мнение Аристотеля: надо возбуждать ужас. О! Если б я посвятил себя театру, то выпускал бы на сцену одних только кровожадных правителей и героев-убийц! Я плавал бы в крови! Все погибали бы в моих трагедиях: и не только главные персонажи, но и прислужники. Я удавил бы даже суфлера. Словом, мне нравится только ужасное [59] , – таков мой вкус. И заметьте: эти пьесы увлекают толпу, помогают актерам жить в роскоши и обеспечивают авторам безбедное существование.
В то время как он кончал свою речь, мы увидали большое скопище людей обоего пола, которые выходили из деревни и направлялись в равнину. То были молодожены в сопровождении родственников и друзей. Впереди выступали десять или двенадцать музыкантов, которые играли все зараз, что составляло весьма шумный концерт. Мы пошли им навстречу, и Диего объявил, кто он такой. Тотчас же понеслись из толпы радостные возгласы и каждый поспешил с ним поздороваться. Нелегкое это было дело отвечать на все приветствия, которыми его осыпали. Вся семья и даже все присутствующие принялись его обнимать, после чего отец молодого брадобрея сказал:
– Добро пожаловать, Диего! Ты застаешь своих родителей слегка раздобревшими. Не стану сейчас ничего тебе больше рассказывать, друг мой, а уже объясню все в подробности.
Тем временем вся ватага направилась в равнину и, дойдя до шатров, разместилась за накрытыми там столами. Я не покинул своего спутника, и мы пообедали вместе с новобрачными, которые, на мой взгляд, отлично подходили друг к другу. Трапеза продолжалась довольно долго, так как учитель, желая из тщеславия перещеголять братьев, ограничившихся более скромным угощением, приказал подать нам три перемены.
После пирушки все сотрапезники выразили сильное нетерпение увидеть пьесу сеньора Томаса, уверяя, что произведение столь гениального человека, как он, заслуживает всяческого внимания. Мы подошли к театру, перед которым уже разместились музыканты, для того чтобы играть в антрактах. В то время как все в глубоком молчании ожидали начала действия, на сцене появились актеры, и автор с текстом в руке уселся за кулисами, так как собирался заменить суфлера. Он был совершенно прав, когда предупреждал нас о том, что пьеса будет носить трагический характер, ибо в первом акте марокканский султан укокошил из лука, развлечения ради, целую сотню мавританских невольников, во втором он отрубил головы тридцати португальским офицерам, которых привел ему в качестве военнопленных один из его полководцев, а в третьем этот монарх, пресытившись своими женами, собственноручно поджег уединенный дворец, где они были заперты, и обратил его в пепел вместе со всеми одалисками. Мавританские невольники, равно как и португальские офицеры, были чучела, весьма искусно сделанные из ивовых прутьев, а картонный дворец при свете фейерверка являл вид пылающего здания. Этим пожаром, сопровождавшимся тысячами жалобных стенаний, как бы исходивших из пламени, закончилось представление. Такой финал был весьма эффектен [60] , и вся равнина загудела от рукоплесканий в честь столь превосходной трагедии, что свидетельствовало об отличном вкусе поэта и об его умении выбирать сюжеты для своих пьес.
Я думал, что все кончится представлением «Забав Мулея Бухентуфа», но это оказалось ошибкой. Звуки литавр и труб возвестили нам новое зрелище, а именно раздачу наград, ибо Томас из Ла-Фуэнте заставил своих учеников, как экстернов, так и пансионеров, написать по сочинению и собирался оделить наиболее успевающих книгами, купленными им на собственные деньги в Сеговии. Для этой цели на сцену неожиданно внесли две длинных школьных скамьи, а также шкап, наполненный аккуратно переплетенными книгами. Тут все актеры вернулись на сцену и выстроились вокруг сеньора Томаса, который своим напыщенным видом не уступал любому ректору. В руках у него был список тех, кто удостоился награды. Он передал эту бумагу марокканскому султану, который принялся читать ее вслух. Каждый ученик, имя которого выкликалось, почтительно подходил к учителю, чтоб получить книгу из его рук; затем ученика увенчивали лаврами и сажали на одну из скамеек, дабы он мог предстать перед взорами восхищенных зрителей. Но как ни хотелось учителю, чтобы все разошлись довольными, это ему не удалось, ибо, распределяя награды, как полагается, главным образом среди пансионеров, он рассердил матерей экстернов, которые обвинили его в пристрастии. Таким образом, празднество, служившее до этого момента славе дяди Томаса, чуть было не окончилось столь же печально, как пир лапифов [61] .
Книга третья
Глава I О прибытии Жиль Бласа в Мадрид и о первом господине, у которого он служил в этом городе
Я провел несколько дней у молодого цирюльника, а затем пристроился к одному сеговийскому купцу, проезжавшему через Ольмедо. Он только что отвез на четырех мулах партию товара в Вальядолид и теперь возвращался порожняком. Мы познакомились дорогой, и я так ему полюбился, что он просил меня непременно остановиться у него в Сеговии. Я прогостил в его доме два дня, а когда собрался ехать в Мадрид с погонщиком мулов, то этот купец вручил мне письмо с просьбой передать его в собственные руки по указанному адресу, но не сообщил, что письмо было рекомендательным.
Я не преминул отнести его сеньору Матео Мелендесу, торговцу сукном, проживавшему у Пуэрта дель Соль, на углу Сундучной улицы. Как только он вскрыл письмо и познакомился с его содержанием, то весьма учтиво обратился ко мне:
– Сеньор Жиль Блас, мой корреспондент Педро Паласио так настоятельно вас рекомендует, что я считаю долгом предложить вам приют в своем доме. Кроме того, он просит меня подыскать вам хорошее место, о чем я с удовольствием позабочусь. Вполне уверен, что мне нетрудно будет найти для вас подходящую должность.
Я с тем большим удовольствием принял предложение Мелендеса, что мои финансы таяли на глазах. Но мне недолго пришлось быть ему в тягость. По прошествии недели он сообщил, что рекомендовал меня одному знакомому кавалеру, нуждавшемуся в камердинере, и что, по всей вероятности, это место от меня не ускользнет. Действительно, в ту же минуту явился и сам кавалер.
– Сеньор, – сказал ему Мелендес, указывая на меня, – вот молодой человек, о котором я вам говорил. Он порядочный и нравственный малый. Ручаюсь вам за него, как за самого себя.
Кавалер пристально взглянул на меня, сказал, что мое лицо ему нравится и что он берет меня в услужение.
– Пусть идет за мной, – добавил он. – Я объясню ему, в чем будут состоять его обязанности.
С этими словами он распростился с купцом и вывел меня на главную улицу прямо против церкви св. Филиппа. Мы вошли в довольно красивый дом, одно из крыльев которого он занимал, и поднялись по лестнице в пять-шесть ступеней. Тут кавалер отпер две основательных двери, из которых первая была снабжена маленьким решетчатым окошком, и провел меня в первую горницу, а оттуда в другую, где стояла постель и прочая мебель, производившая скорее впечатление опрятности, нежели богатства.
Если мой хозяин пристально всматривался в меня у Мелендеса, то теперь пришла моя очередь разглядеть его повнимательнее. Это был уравновешенный и серьезный человек лет пятидесяти с лишком. Он обладал, по-видимому, добродушным характером, и я почувствовал к нему расположение. Расспросив о моей родне и удовлетворившись полученными ответами, он сказал:
– По-видимому, Жиль Блас, ты весьма разумный малый, и я рад, что тебя нанял. Ты, в свою очередь, тоже останешься доволен службой. Я буду давать тебе шесть реалов в день на харчи и содержание, но можешь рассчитывать и еще на кой-какие мелкие доходы. Хлопот у тебя будет немного, так как я не веду дома хозяйства и столуюсь в городе. Утром почистишь мое платье, а затем весь день будешь свободен. Приходи только по вечерам пораньше домой и жди меня у дверей: вот все, что я от тебя требую.
Объяснив мне мои обязанности, он вынул из кармана шесть реалов и, соблюдая договор, отдал их мне для почина. Затем мы оба вышли, и он сам запер двери. Забрав с собой ключи, он сказал:
– Ты мне больше не нужен, друг мой. Ступай, куда тебе угодно, погуляй по городу, но смотри, чтоб ты был на лестнице, когда я вечером вернусь домой.
Сказав это, он удалился и предоставил мне распоряжаться собой по своему усмотрению.
«Честное слово, Жиль Блас, – сказал я самому себе, – лучшего господина и сыскать трудно. Как? Ты нашел человека, который платит тебе шесть реалов в день за то, чтоб чистить ему платье и прибирать поутру горницу, да еще предоставляет тебе свободу гулять и развлекаться, как школьнику на каникулах? Клянусь богом, нет должности приятнее этой! Не удивляюсь тому, что мне так хотелось попасть в Мадрид; видимо, я предчувствовал счастье, которое меня здесь ожидало».
Я провел весь день, шатаясь по улицам и развлекаясь осмотром предметов, которые были для меня новы, что потребовало немалой беготни. Вечером, поужинав в харчевне неподалеку от нашего дома, я поспешил туда, куда мне было приказано. Мой господин пришел спустя три четверти часа после меня и, по-видимому, остался доволен моей исправностью.
– Отлично, – сказал он, – это мне нравится; люблю слуг, знающих свои обязанности.
С этими словами он отворил двери квартиры и запер их за нами, как только мы туда вошли. В квартире было темно, и потому, достав кремень и трут, он зажег свечу, после чего я помог ему раздеться. Когда он улегся в постель, я засветил по его приказанию ночник, стоявший в камине, и, забрав свечу, унес ее в переднюю, где помещалась небольшая кровать без полога, на которой я и расположился.
На следующее утро он встал между девятью и десятью часами. Я вычистил ему платье, а он отсчитал мне шесть реалов и отпустил меня до вечера. Сам он тоже ушел, не забыв старательно запереть двери, после чего мы расстались друг с другом на целый день.
Таков был наш обычный образ жизни, и я находил его весьма для себя приятным. Забавнее всего было то, что я не знал, как зовут моего хозяина. Даже Мелендес не мог мне этого сказать. Кавалер этот был ему известен только как клиент, изредка заходивший в лавку и покупавший у него сукно. Наши соседи тоже были не в состоянии удовлетворить мое любопытство; все они уверяли, что не знают, кто он такой, хотя мой хозяин жил в этом квартале уже два года. По их словам, он не ходил ни к кому по соседству, а отсюда, те, кто привык к скороспелым заключениям, делали вывод, что от такой личности нечего ждать добра. Некоторые шли еще дальше и подозревали в нем португальского шпиона, а мне сочувственно советовали позаботиться о своей безопасности. Это предостережение смутило меня и наводило на размышления: действительно, оправдайся их подозрения, я сам рисковал попасть в мадридскую тюрьму, которая представлялась мне не более приятной, чем все прочие. Сознание моей причастности к делу не могло меня ободрить: испытанные мною злоключения внушили мне страх перед правосудием. Я дважды познал на собственном опыте, что если оно и не казнит невинных, то во всяком случае плохо соблюдает по отношению к нам законы гостеприимства, и что даже недолгое пребывание в ее теремах всегда бывает весьма неприятным.
Я переговорил с Мелендесом по поводу этого щекотливого обстоятельства, но он не мог подать мне никакого совета. Если ему и не верилось, чтоб мой господин оказался шпионом, то, с другой стороны, он не мог утверждать и противного. А потому я решил понаблюдать за своим патроном и покинуть его, как только удостоверюсь, что он действительно государственный преступник; однако же мне казалось, что осторожность и приятная моя служба требуют, чтоб я сначала твердо в этом убедился. Приняв такое решение, я стал следить за его поступками и однажды вечером, помогая ему раздеться, сказал, чтоб его испытать:
– Ах, сеньор, не знаю уж, как надо жить, чтоб уберечься от злых языков. Свет чертовски зол! Возьмите хотя бы наших соседей: они хуже самого дьявола. Гнуснейшие людишки, сударь! Вы и представить себе не можете, что они о нас говорят.
– Вот как, Жиль Блас? – заметил, он. – Что же, друг мой, они могут про нас говорить?
– Ах, сеньор, – отвечал я, – злословие всегда найдет себе пищу; оно не пощадит даже добродетели. Наши соседи говорят, что мы опасные люди, что суд должен обратить на нас внимание, словом, они почитают вас здесь за шпиона португальского короля [62] .
Говоря это, я глядел на хозяина так же испытующе, как Александр на своего врача [63] , и напрягал всю свою проницательность, чтоб угадать, какое действие произвело на кавалера мое сообщение. Мне показалось, что он вздрогнул, а это подтверждало предположения соседей; к тому же он погрузился в раздумье, которое я тоже истолковал не в его пользу. Впрочем, он скоро оправился от смущения и сказал мне довольно спокойно:
– Пусть соседи болтают что хотят, это не должно нарушить наш покой. Не стоит беспокоиться о пересудах, поскольку мы не подаем никакого повода для того, чтоб о нас дурно думали.
С этими словами он улегся в постель, а я, ничего не добившись, последовал его примеру.
На следующее утро, собираясь выйти из дому, мы услыхали сильный стук в первую дверь, выходившую на лестницу; мой хозяин отпер вторую и, посмотрев в решетчатое оконце, увидел хорошо одетого человека, который сказал ему:
– Сеньор кавальеро, я – альгвасил и пришел к вам от имени сеньора коррехидора, который хочет с вами поговорить.
– Что ему от меня нужно? – спросил мой хозяин.
– Не знаю, сеньор, – возразил тот, – соблаговолите пожаловать к нему, и дело быстро решится.
– Слуга покорный, – сказал мой хозяин, – он мне вовсе не нужен.
С этими словами он резко захлопнул внутреннюю дверь. Затем, походив некоторое время взад и вперед по комнате с видом человека, которого сообщение альгвасила заставило, по-видимому, сильно призадуматься, он отдал мне мои шесть реалов и сказал:
– Можешь идти, друг мoй, и провести день, где тебе угодно. Я еще побуду здесь, но сегодня утром ты мне больше не нужен.
Эти слова навели меня на мысль, что он боится ареста и что страх заставляет его оставаться дома. Я ушел и, чтоб проверить правильность своих подозрений, спрятался в таком месте, откуда мог видеть его, если бы он вышел. У меня хватило бы терпения просидеть там все утро, но он избавил меня от этого труда. Час спустя я увидел его идущим по улице с такой самоуверенностью, которая заставила меня сперва усомниться в своей проницательности. Все же я не придал веры первому впечатлению и не отступился от подозрений, так как был предубежден против своего хозяина. Я подумал, что вся его выдержка могла быть показной, и у меня даже возникло предположение, что он остался дома только для того, чтоб собрать все свое золото и все драгоценности, и намеревается теперь обеспечить себе безопасность поспешным бегством. Я не надеялся больше его увидать и сомневался, стоит ли мне вечером дожидаться у дверей, настолько я был уверен, что он в тот же день покинет город, чтоб спастись от угрожавшей ему опасности. Тем не менее я отправился к нашему дому и был весьма удивлен, когда хозяин мой вернулся в обычное время. Он лег спать, не проявив ни малейшей тревоги, и так же спокойно встал на следующее утро.
В то время как он кончал свой туалет, неожиданно раздался стук в дверь. Кавалер посмотрел сквозь решетчатое окно и, увидев альгвасила, приходившего накануне, спросил, что ему угодно.
– Отворите, – отвечал тот, – к вам пожаловал сеньор коррехидор.
Кровь застыла у меня в жилах от одного упоминания об этом страшном человеке. Я чертовски боялся всех этих господ с тех пор, как побывал в их руках, и в этот момент предпочел бы находиться за сто миль от Мадрида. Что касается моего патрона, то он испугался меньше меня и, отворив дверь, встретил судью весьма почтительно.
– Вы видите, – сказал коррехидор, – что я пришел к вам почти без провожатых, так как не хочу подымать шума. Несмотря на неблагоприятные слухи, которые ходят о вас по городу, я все же считаю, что вы заслуживаете предупредительного обхождения. Скажите мне ваше имя и что вы делаете в Мадриде.
– Сеньор, – отвечал ему мой господин, – я родом из Новой Кастилии и зовут меня дон Бернальдо де Кастиль Бласо. А что касается моих занятий, то я гуляю, посещаю театральные представления и ежедневно развлекаюсь в обществе нескольких лиц приятного обхождения.
– Вы, вероятно, получаете большие доходы? – спросил судья.
– Нет, – прервал его мой хозяин, – у меня нет ни ренты, ни земель, ни домов.
– На что же вы живете? – удивился коррехидор.
– Это я вам сейчас покажу, – возразил дон Бернальдо.
При этом он приподнял шпалеры, отпер дверь, которую я раньше не замечал, за ней другую, находившуюся позади, и, впустив судью в каморку, где стоял большой баул, наполненный золотыми монетами, показал ему свои сокровища.
– Сеньор, – сказал он затем, – вам известно, что испанцы не любят работать; но какое бы отвращение они ни питали к труду, смею вас заверить, что превосхожу их всех в этом отношении: во мне сидит такая лень, что я не гожусь ни для какого занятия. Вздумай я выдавать свои пороки за добродетели, я назвал бы свою лень философским равнодушием, я сказал бы, что она является порождением духа, отвернувшегося от всего того, к чему так жадно стремятся люди; но вместо этого я готов откровенно сознаться, что ленив от природы и притом до такой степени, что если б мне пришлось зарабатывать на жизнь, то, пожалуй, предпочел бы умереть с голоду. И вот, чтоб вести образ жизни, соответствующий моим наклонностям, чтоб не отягощать себя заботами о собственном добре и, главное, не возиться с управляющим, я превратил в наличные все имения, доставшиеся мне по нескольким крупным наследствам. Здесь, в бауле, хранится пятьдесят тысяч дукатов. Это больше того, что мне нужно до конца моих дней, проживи я даже сто лет, ибо я трачу в год менее тысячи дукатов, а мне пошел уже шестой десяток. Будущее меня не страшит, так как я, слава богу, не подвержен ни одной из тех трех слабостей, которые обычно разоряют людей. Я не питаю пристрастия к роскошному столу, играю только для развлечения, а женщины меня больше не прельщают. Таким образом, я не боюсь превратиться на склоне жизни в одного из тех сладострастных старичков, которым кокетки продают свои милости на вес золота.
– Вы действительно счастливец, – сказал ему тогда коррехидор. – Совершенно неуместно подозревать вас в шпионстве: это не вяжется с человеком такого склада, как вы. Продолжайте, дон Бернальдо, жить так, как жили до сих пор. Я не только не стану тревожить ваше спокойное житье, но, напротив, буду всячески его ограждать. Подарите мне вашу дружбу и примите взамен мою.
– Ах, сеньор! – воскликнул мой господин, тронутый этими любезными речами, – с радостью и почтением принимаю драгоценное предложение, которое вы мне делаете. Даря меня своей дружбой, вы умножаете мои богатства и довершаете мое благополучие.
После этой беседы, которую я с альгвасилом слушал у дверей каморки, коррехидор простился с доном Бернальдо, не находившим слов, чтоб выразить ему свою признательность. Желая, в свою очередь, пособить хозяину в радушном приеме гостей, я рассыпался в учтивостях перед альгвасилом и отвесил ему тысячу глубоких поклонов, хотя в душе чувствовал к нему презрение и отвращение, которые всякий порядочный человек естественно питает к полицейскому.
Глава II О том, как удивился Жиль Блас, встретив в Мадриде атамана Роландо, и о любопытных происшествиях, которые поведал ему этот разбойник
Проводив коррехидора до самой улицы, дон Бернальдо де Кастиль Бласо поспешил вернуться назад, чтоб запереть свой денежный сундук и двери, за которыми он хранился; затем мы оба вышли из дому, весьма довольные: он тем, что приобрел могущественного друга, а я тем, что мне обеспечены ежедневно мои шесть реалов. Желание поведать это приключение Мелендесу побудило меня направиться к нему, и я уже подходил к его дому, как вдруг увидал атамана Роландо. Неожиданная встреча повергла меня в крайнее изумление, и я невольно затрепетал при виде этого человека. Он тоже узнал меня, подошел ко мне с внушительным видом и, продолжая сохранять тон превосходства, приказал следовать за собой. Я повиновался, дрожа от страха.
«Увы! – воскликнул я про себя, – он, наверное, потребует, чтоб я вернул захваченное добро. Куда только он меня ведет? Быть может, у него в городе тоже имеется подземелье. Ах ты черт! Знай я это наверняка, я показал бы ему, что у меня нет подагры в ногах».
С этими мыслями шел я позади атамана Роландо, внимательно следя за ним, чтоб улепетнуть во все лопатки, если место, где он остановится, покажется мне подозрительным.
Но Роландо вскоре рассеял мои опасения. Он завернул в одну из лучших харчевен, куда я последовал за ним. Там он потребовал бутылку хорошего вина и приказал трактирщику приготовить для нас обед. Тем временем мы перешли в другую горницу, и когда остались наедине, то атаман обратился ко мне со следующими словами:
– Ты, вероятно, удивлен, Жиль Блас, встретив здесь своего прежнего атамана, но ты изумишься еще больше, когда узнаешь то, что я собираюсь тебе рассказать. В тот день, когда я оставил тебя в подземелье и отправился со своими молодцами в Мансилью продавать там мулов и лошадей, захваченных накануне, нам повстречался сын леонского коррехидора, который ехал в карете в сопровождении четырех хорошо вооруженных всадников. Двоих из них мы уложили на месте, а прочие ускакали. Тогда кучер, боясь за жизнь своего господина, крикнул умоляющим голосом: «Милосердные сеньоры, заклинаю вас именем бога: не убивайте единственного сына леонского коррехидора!» Но эти слова нисколько не смягчили моих всадников, а, напротив, довели их почти что до бешенства. «Господа, – сказал один из них, – неужели мы выпустим живьем сына величайшего врага нашей братии? Сколько из наших товарищей по ремеслу погибло по приказу его отца! Отомстим же за них, принесем молодчика в жертву их теням, которые в данный момент как бы умоляют нас об этом». Остальные всадники одобрили это предложение, и мой податаманье уже собирался выступить в качестве главного жреца при жертвоприношении, когда я удержал его за руку. «Остановитесь! – сказал я ему. – К чему без нужды проливать кровь? Удовольствуемся кошельком этого молодого человека. Поскольку он не сопротивляется, было бы варварством его убивать. К тому же он не ответствен за поступки отца, а отец его только исполняет долг, когда приговаривает нас к смерти, как мы пополняем свой, грабя проезжих». Словом, я вступился за сына коррехидора, и мое заступничество не оказалось безрезультатным. Мы только отняли все находившиеся при нем деньги и, прихватив лошадей убитых нами всадников, продали этих животных в Мансилье вместе с теми, которых туда вели. Затем мы отправились обратно к подземелью, куда прибыли на следующий день за несколько минут до рассвета. Трап оказался открыт, и это нас весьма удивило, но наше изумление еще возросло, когда, войдя в кухню, мы увидали связанную Леонарду. Она в двух словах объяснила нам все, что произошло. Вспомнив о твоих коликах, мы расхохотались и все дивились тому, как тебе удалось нас провести: никто не думал, что ты в состоянии сыграть с нами такую штуку, и мы простили тебя ради твоей изобретательности. Как только развязали стряпуху, я приказал ей изготовить нам завтрак. Тем временем мы отправились в конюшню, чтоб позаботиться о лошадях, и застали при смерти старого негра, пролежавшего без помощи в течение суток. Нам хотелось помочь ему, но он уже потерял сознание и был так плох, что, при всем добром желании, пришлось оставить этого несчастного витающим между жизнью и смертью. Это не помешало нам сесть за стол и плотно позавтракать, после чего мы разбрелись по своим помещениям, где отдыхали весь день. Проснувшись, мы узнали от Леонарды, что Доминго скончался. Мы отнесли его в погреб, который, как ты помнишь, служил тебе спальней, и устроили ему там такие похороны, как если б он имел честь быть нашим товарищем. Пять-шесть дней спустя выехали мы поутру на промысел и повстречали у опушки леса три команды стражников Священного братства, которые, по-видимому, поджидали нас там с намерением атаковать. Сперва мы заметили только одну команду. Отнесясь к ней с презрением, мы напали на нее, хотя своею численностью она превышала наш отряд; но в разгар побоища две другие команды, которым удалось притаиться, неожиданно нагрянули на нас, так что вся наша доблесть оказалась тщетной. Пришлось уступить ввиду превосходства сил неприятеля. Податаманье и двое из наших всадников погибли в этой схватке. Меня же с двумя товарищами окружили и так прижали, что стражникам удалось захватить нас в плен. Пока две команды сопровождали нас в Леон, третья отправилась разорять наше убежище, которое было открыто вот при каких обстоятельствах. Какой-то лусенский крестьянин, возвращаясь лесом домой, случайно заметил трап нашего подземелья, который ты оставил открытым. Это было в тот самый день, когда ты удрал оттуда с сеньорой. Он сразу заподозрил, что это наше жилище, но побоялся туда войти. Поэтому он ограничился обследованием окрестностей и, чтоб вернее разыскать место, слегка надрезал ножом кору нескольких соседних деревьев, а затем стал помечать через известные промежутки другие стволы, пока не вышел из лесу. После этого он отправился в Леон, чтоб доложить о своем открытии коррехидору, который тем более ему обрадовался, что наш отряд незадолго до того обобрал его сына. Он приказал собрать три команды, чтоб нас задержать, а крестьянин пошел с ними в качестве проводника. Мой въезд в город Леон был зрелищем, привлекшим всех его обитателей. Будь я даже португальским генералом, захваченным в плен на поле брани, то и тогда народ не сбегался бы с таким рвением, чтоб на меня посмотреть. «Вот он! – кричала толпа. – Вот он, знаменитый атаман, гроза нашего края! Он заслуживает клещей! Пусть разорвут его на части вместе с его пособниками!» Нас отвели к коррехидору, который принялся меня честить. «Ага, негодяй, – сказал он мне, – небу надоели наконец твои преступления, и оно отдало тебя в руки правосудия». – «Сеньор, – отвечал я ему, – если на мне и много грехов, то все же нет среди них смерти вашего единственного сына: я спас ему жизнь, и вы обязаны мне за то некоторой благодарностью». – «Ах, злодей! – воскликнул он. – Да развe к таким людям, как ты, питают благодарность? Но если б я даже захотел тебя спасти, то долг службы не позволяет мне этого сделать». Покончив на этом разговор, он приказал отправить нас в тюрьму, где моим товарищам не пришлось долго томиться. Они вышли оттуда через три дня, для того чтоб исполнить трагическую роль на торговой площади. Что касается меня, то я просидел в тюрьме целых три недели. Мне казалось, что мою казнь откладывают для того, чтоб сделать ее как можно ужаснее, и я уже готовился к какому-нибудь особенному роду смерти, когда коррехидор приказал позвать меня к себе и сказал: «Выслушай свой приговор: ты свободен. Без тебя моего единственного сына убили бы на большой дороге. Как отец я хотел отблагодарить за эту услугу, но как судья я не мог оправдать тебя, а потому письменно ходатайствовал о тебе перед двором: я просил о твоем помиловании, и просьбу мою уважили. Ступай же, куда тебе будет угодно. Но послушай меня, – добавил он, – воспользуйся этим счастливым случаем. Одумайся и брось разбой раз навсегда». Эти слова подействовали на меня, и я отправился в Мадрид с твердым намерением покончить с прошлым и вести в этом городе спокойный образ жизни. Я не застал в живых ни отца, ни матери, а наследством моим управлял один старичок-родственник, который отчитался передо мной так, как это делают все опекуны; коротко говоря, мне досталось всего-навсего три тысячи дукатов, что не составляло, быть может, и четвертой части моего состояния. Но что тут поделаешь? Я ничего не выгадаю, если затею с ним тяжбу. Чтоб не пребывать в праздности, я купил должность альгвасила, которую отправляю так, точно всю жизнь ничем другим не занимался. Мои теперешние сотоварищи, вероятно, воспротивились бы из приличия принятию меня на службу, если б проведали о моем прошлом. Но, к счастью, оно им не известно или они делают вид, что его не знают, а это в сущности одно и то же. В этой почтенной корпорации всякий заинтересован в том, чтоб скрыть свои дела и поступки, и, слава богу, никто не смеет попрекнуть другого, ибо самый лучший достоин повешения. Но теперь, друг мой, – продолжал Роландо, – мне хочется открыть тебе свою душу. Занятие, которое я избрал, мне не по вкусу; оно требует слишком большой щепетильности и таинственности: все дело состоит в том, чтоб обманывать ловче да незаметнее. Ах, как я жалею о своем прежнем ремесле! Моя новая профессия, правда, безопасна, но старая много приятнее и к тому же я люблю свободу. Меня так и подмывает отделаться от своей должности и в один прекрасный день дернуть в горы, которые находятся у истоков Тахо. Я знаю, что в этом месте есть убежище, где скрывается огромная шайка, состоящая преимущественно из каталонцев [64] , а это само за себя говорит. Если ты согласен меня сопровождать, то мы пополним с тобой ряды этих славных героев. Я буду в этой шайке податаманьем, а чтоб тебе оказали хороший прием, подтвержу, что ты десятки раз бился бок о бок со мной. Я превознесу твою храбрость до небес и наговорю о тебе столько хорошего, сколько иной генерал не скажет об офицере, которого хочет повысить в чине. Но я, конечно, поостерегусь упоминать о твоей проделке: это может навлечь на тебя подозрение, и лучше о ней умолчать. Ну, что же, – добавил он, – хочешь мне сопутствовать? Я жду твоего ответа.
– У каждого человека – свои склонности, – отвечал я атаману Роландо, – вы рождены для смелых подвигов, а я для покойной и тихой жизни.
– Понимаю, – прервал он меня, – похищенная сеньора все еще владеет вашим сердцем, и вы, без сомнения, наслаждаетесь с нею той покойной жизнью, которую вы только что восхваляли. Сознайтесь, сеньор Жиль Блас, что вы обставили для вашей красавицы квартирку и проедаете вместе с ней пистоли, украденные в подземелье.
Я стал разуверять атамана и, чтоб вывести его из заблуждения, обещал рассказать за обедом все приключения этой сеньоры, что я и исполнил, сообщив ему заодно и все происшествия, случившиеся со мной после того, как я покинул шайку. К концу обеда Роландо снова завел речь о каталонцах. Он даже сознался мне, что твердо решил к ним присоединиться, и сделал новую попытку меня уговорить. Но, видя, что я твердо стою на своем, он внезапно переменил тон и обращение и, поглядев на меня свысока, строго сказал:
– Если у тебя такая низкая душонка, что ты предпочитаешь рабскую должность чести вступить в дружину храбрых людей, то и оставайся при своих подлых наклонностях. Но слушай как следует то, что я тебе скажу, и пусть это крепко засядет у тебя в памяти! Забудь, что ты меня сегодня встретил, и ни с кем никогда не говори обо мне. Если только до меня дойдет, что ты где-либо упомянул мое имя, то ты меня знаешь: мне незачем распространяться на эту тему.
Сделав мне это предупреждение, он позвал трактирщика и расплатился. Затем мы оба встали из-за стола и вышли на улицу.
Глава III Жиль Блас покидает дона Бернальдо де Кастиль Бласо и поступает к петиметру [65]
В то самое время, когда мы выходили из харчевни и прощались друг с другом, прошел по улице мой хозяин. Он увидал меня, и я заметил, как он несколько раз внимательно поглядел на атамана. Из этого я заключил, что он не ожидал встретить меня в обществе такой личности. Правда, наружность Роландо не говорила в его пользу. Это был рослый человек с длинным лицом и носом, напоминавшим клюв попугая; будучи на вид не так уж страшен, он тем не менее походил на самого отъявленного мошенника.
Я не ошибся в своих предположениях. Вечером я убедился, что дон Бернальдо обратил серьезное внимание на атамана и, по-видимому, составил себе о нем такое мнение, что безусловно поверил бы всем дивным историям, которые я мог рассказать ему об этой личности, если бы посмел о ней заикнуться.
– Жиль Блас, – спросил он меня, кто тот верзила, которого я видел сегодня с тобою?
Я отвечал, что это некий альгвасил, думая, что дон Бернальдо удовлетворится моим объяснением и на этом успокоится; но он стал задавать мне разные другие вопросы, которые смутили меня, так как я вспомнил угрозы Роландо. Заметив это, он внезапно прервал разговор и лег спать.
Когда я на следующее утро управился со всеми своими обязанностями, он дал мне шесть дукатов вместо шести реалов и сказал:
– Вот тебе жалованье за то время, которое ты у меня прослужил. Ищи себе другое место: я не могу держать у себя лакея, у которого такие блестящие знакомства.
Я попытался объяснить ему в свое оправдание, что знал альгвасила по Вальядолиду, где снабжал его некими лечебными средствами, когда занимался медициной.
– Отлично придумано, – возразил дон Бернальдо, – но так надо было ответить мне вчера вечером, вместо того чтоб приходить в замешательство.
– Сеньор, я постеснялся рассказывать вам такие вещи: вот причина моего смущения, – отвечал я.
– Удивительная деликатность! – заметил мой господин, легонько хлопнув меня по плечу. – Право, я не считал тебя таким хитрецом. Ступай, дружок, ты свободен: я не намерен держать слуг, которые якшаются с альгвасилами.
Я немедленно отправился сообщить эту прискорбную новость Мелендесу, который сказал мне в утешение, что надеется найти для меня лучшее место. Действительно, спустя несколько дней он заявил мне:
– Ну-с, Жиль Блас, друг мой, я принес вам такое отрадное известие, какого вы и не ожидали. Вы получите приятнейшую службу на свете. Я помещу вас к Дону Матео де Сильва. Это – знатный аристократ, один из тех молодых сеньоров, которых называют петиметрами. Я имею честь быть его поставщиком. Он забирает у меня сукно, правда в кредит, но с такими барами ничем не рискуешь: они обычно женятся на богатых наследницах, которые уплачивают их долги; а если этого не случается, то купец, знающий свое дело, продает им всегда товары по такой высокой цене, что не потерпит убытка, если даже получит четвертую часть следуемой суммы. Управитель дона Матео – мой близкий приятель, – продолжал он. – Пойдемте к нему. Он сам представит вас своему патрону, и вы можете рассчитывать на то, что из уважения ко мне он и к вам отнесется весьма доброжелательно.
По дороге к палатам дона Матео купец сказал мне:
– Считаю нужным сообщить вам, что за человек управитель, дабы вы могли этим руководствоваться. Зовут его Грегорио Родригес. Между нами говоря, он из простого звания, но, чувствуя склонность к делам, не пренебрег своими дарованиями и разбогател, служа управителем в двух богатых домах, которые разорились. Предваряю вас, что он очень тщеславен и любит, когда остальные слуги перед ним лебезят. Если им нужно добиться у своего господина даже самой ничтожной милости, они должны сперва обратиться к управителю; выпроси они что-либо без его ведома, он всегда может устроить так, что либо господин отменит свое обещание, либо от этого обещания не будет никакого прока. Примите это к сведению, Жиль Блас: ходите на поклон к сеньору Родригесу даже чаще, чем к самому барину, и сделайте все, что от вас зависит, чтоб ему понравиться. Его благосклонность принесет вам немало пользы. Он будет аккуратно платить вам жалованье, а если у вас хватит ловкости втереться к нему в доверие, то он, может быть, даже даст вам обглодать какую-нибудь косточку. У него их – хоть отбавляй! Дон Матео – молодой сеньор, который помышляет только об удовольствиях и совершенно не желает заниматься собственными делами. Отличное местечко для управителя.
Придя в палаты дона Матео, мы спросили сеньора Родригеса. Нам сказали, что он находится на своей половине. Мы действительно застали его там и вместе с ним какого-то человека, походившего на крестьянина и державшего в руках мешок из синей холстины, набитый деньгами. Управитель показавшийся мне бледнее и желтее девицы, истомленной безбрачием, вышел навстречу Мелендесу с распростертыми объятиями; тот, в свою очередь, раскрыл свои, и они обнялись с изъявлениями дружбы, в которых было гораздо больше притворства, нежели искренности. Затем речь зашла обо мне. Оглядев меня с головы до пят, управитель весьма любезно сказал, что, по всей видимости, я подойду дону Матео и что он с удовольствием берется представить меня этому сеньору. Тут Мелендес заявил, насколько он принимает к сердцу мои интересы, и просил управителя оказать мне свое покровительство; затем, наговорив Родригесу кучу всяких комплиментов, он оставил меня с ним, а сам удалился. После его ухода управитель обратился ко мне:
– Я отведу вас к своему господину, как только управлюсь с этим славным поселянином.
Он тотчас же подошел к крестьянину и, взяв у него мешок, сказал:
– Посмотрим, Талего, налицо ли все пятьсот пистолей.
Он сам пересчитал их и, убедившись, что все в порядке, выдал землепашцу расписку и отпустил его. Затем он положил деньги обратно в мешок и, покончив с этим, обратился ко мне:
– Теперь можем идти к дону Матео. Он встает обычно часам к двенадцати; сейчас около часу: вероятно, у него в опочивальне уже светло.
Дон Матео действительно только что встал и был еще в шлафроке. Он сидел, развалившись в кресле, на ручку которого закинул одну ногу, и, раскачиваясь взад и вперед, растирал на терке нюхательный табак [66] . Мы застали его беседующим с лакеем, который временно замещал должность камердинера и находился в опочивальне в ожидании приказаний.
– Сеньор, – сказал управитель, – я взял на себя смелость привести вам этого молодого человека, чтобы заменить того, которого вы изволили уволить третьего дня. Ваш поставщик Мелендес ручается за него и уверяет, что он порядочный малый. Надеюсь, что вы останетесь им вполне довольны.
– Хорошо, – отвечал молодой сеньор, – поскольку это ваш протеже, я не задумываясь беру его на службу: пусть будет камердинером. С этим покончено. А теперь, Родригес, – добавил он, – поговорим о другом. Вы пришли весьма кстати: я только что собирался послать за вами. Мне нужно сообщить вам неприятное известие, любезный Родригес. Я несчастливо играл сегодня ночью: помимо ста пистолей, которые были при мне, я проиграл еще двести на слово. Вы сами знаете, как важно для человека моего круга аккуратно уплачивать такие долги. В сущности, это единственные, которыми честь не позволяет нам манкировать; в отношении прочих мы менее исправны. Поэтому необходимо срочно достать двести пистолей и послать их графине де Педроса.
– Сеньор, – заметил управитель, – это легче сказать, чем сделать. Откуда, с вашего позволения, возьму я такую сумму? Ни одного мараведи [67] не могу я выжать из ваших арендаторов, сколько я их ни стращаю. Между тем я должен пристойно содержать вашу челядь и лезу из кожи вон, чтоб покрыть все расходы. Правда, до сих пор я, слава богу, сводил концы с концами; но теперь просто не знаю, какому святому молиться: я в безвыходном положении.
– Все ваши разговоры ни к чему, – прервал его дон Матео, – эта канитель наводит на меня скуку. Не воображаете же вы на самом деле, Родригес, что я переменю образ жизни и примусь управлять своим поместьем? Нечего сказать, миленькое развлечение для человека, любящего удовольствия.
– Потерпите немножко, сеньор; предвижу по ходу дела, что вы скоро навсегда избавитесь от этой заботы, – заметил управитель.
– Вы мне надоели! Вы меня в гроб вгоните! – резко крикнул ему дон Матео. – Предоставьте мне разоряться и устраивайтесь так, чтоб я этого не замечал. Мне во что бы то ни стало нужно двести пистолей, слышите: во что бы то ни стало.
– В таком случае разрешите обратиться к старичку, который уже ссужал вас деньгами под ростовщические проценты, – сказал Родригес.
– Обращайтесь хоть к самому дьяволу! – возразил молодой сеньор. – Я желаю получить двести пистолей, а до остального мне дела нет.
Он произнес эти слова запальчиво и с раздражением. Дворецкий удалился, и в ту же минуту вошел в опочивальню молодой аристократ по имени дон Антонио де Сентельес.
– Что с тобой, любезный друг? – спросил этот последний у моего господина. – Взгляд мрачный, и по лицу вижу, что ты сердит. Кто привел тебя в такое скверное настроение? Держу пари, что это тот прохвост, который отсюда вышел.
– Ты не ошибся, – отвечал дон Матео, – это – мой управитель. Всякий раз, как он является со своими разговорами, мне приходится переживать несколько пренеприятных минут. Он не перестает говорить о моих делах и упрекает меня в том, что я проедаю свое состояние. Можно подумать, что он от этого в убытке! Этакая скотина!
– Я и сам в таком же положении, дитя мое, – утешил его дон Антонио. – Мой управитель ничуть не рассудительнее твоего. Каждый раз, как этот плут приносит мне деньги (и то после повторных приказаний), он делает такой вид, точно дает мне свои. При этом он пускается в длиннейшие рассуждения. «Сеньор, – говорит он мне, – вы себя губите; на ваши доходы наложено запрещение». Приходится его обрывать, чтоб прекратить эти дурацкие разговоры.
– Все несчастье в том, – сказал дон Матео, – что мы не можем обойтись без таких людей; это – неизбежное зло.
– Да, это так, – согласился Сентельес. – Но погоди, – добавил он, хохоча от всей души, – мне пришла на ум довольно забавная мысль. Лучше и придумать нельзя. Мы превратим те мрачные сцены, которые они нам устраивают, в комические и будем смеяться над тем, что нас огорчает. Слушай: когда тебе понадобятся деньги, я буду требовать их у твоего управителя, а ты, в свою очередь, поступишь так же с моим. Пусть они читают нам тогда сколько угодно наставлений, мы будем выслушивать их совершенно спокойно. Твой управитель будет представлять отчеты мне, а мой – тебе. Я буду слушать рассказы о твоем мотовстве, а ты – о моем. Это будет превесело.
Тысячи блестящих острот последовали за этой выдумкой и привели в хорошее настроение молодых сеньоров, которые продолжали беседу с большим оживлением. Их разговор был прерван приходом Грегорио Родригеса, явившегося в сопровождении маленького старичка, до того плешивого, что у него не сохранилось почти ни одного волоса. Дон Антонио хотел было удалиться и сказал моему господину:
– До свидания, дон Матео; мы скоро увидимся. Оставляю тебя с этими господами: вам, вероятно, необходимо переговорить о каких-нибудь серьезных делах.
– Да нет же, останься: ты нам не помешаешь, – ответил дон Матео. – Скромный старец, которого ты видишь, честнейший человек: он ссужает меня деньгами из двадцати пяти процентов.
– Как, из двадцати пяти? – воскликнул с удивлением Сентельес. – Поздравляю тебя с тем, что ты попал в такие хорошие руки. Видит бог, со мной обращаются не так милосердно: я занимаю из пятидесяти за сто и покупаю серебро на вес золота.
– Какое лихоимство! – сказал тут старый ростовщик. – Вот мошенники! Как только они не боятся страшного суда? Нет ничего удивительного, что на лиц, дающих деньги в рост, сыплется столько нареканий. Чрезмерные барыши, которые получают некоторые заимодавцы, порочат нашу честь и подрывают нам репутацию. Если б все мои собратья походили на меня, нас не стали бы так поносить, я лично одалживаю деньги исключительно из любви к ближнему. Да, вернись добрые старые времена, я предложил бы вам свой кошелек без всяких процентов; но, поверите ли, как ни тяжела сейчас жизнь, а мне совестно брать даже двадцать пять за сто. Деньги сейчас как сквозь землю провалились, с огнем не сыщешь, и их отсутствие принуждает меня несколько поступиться своею совестью. Сколько вам потребуется, сеньор? – обратился он к моему господину.
– Мне нужно двести пистолей, – отвечал тот.
– Я принес с собой мешок, в котором четыреста пистолей, – сказал ростовщик, – остается только отсчитать вам половину.
С этими словами он вытащил из-под епанчи мешок из синей холстины, напомнивший мне тот, который крестьянин Талего передал Родригесу с пятьюстами пистолей. Вскоре я понял, в чем тут было дело, и убедился, что Мелендес не зря выхвалял оборотистость управителя. Старик опорожнил мешок, разложил монеты на столе и принялся их считать. Вид денег распалил жадность моего господина: его прельстила эта груда золота.
– Сеньор Дескомульгадо, – обратился он к ростовщику, – по зрелом размышлении выходит, что я сделал глупость: ведь я собирался взять у вас ровно столько, сколько мне нужно, чтоб погасить долг чести, и совершенно упустил из виду, что у меня нет в кармане ни гроша и что я буду вынужден завтра снова обратиться к вам. Поэтому я решил забрать все четыреста пистолей, чтоб избавить вас от труда приходить сюда лишний раз.
– Сеньор, – отвечал старик, – я предназначал часть этих денег одному доброму лиценциату, ожидающему крупное наследство, которое он из христианского милосердия тратит на то, что извлекает из грешного мира маленьких девочек и меблирует им квартиры; но раз вам нужна вся сумма, то она к вашим услугам. Вам остается только позаботиться об обеспечении…
– О, что касается обеспечения, – прервал его Родригес, извлекая из кармана бумагу, – то оно будет вполне надежным. Вот тратта [68] , которую дону Матео остается только подписать. Вы получите по ней пятьсот пистолей с одного из его арендаторов, богатого крестьянина из Мондехара, по имени Талего.
– Ладно, – отвечал ростовщик, – я не привереда; когда предлагают разумные условия, я тотчас же соглашаюсь без всякого ломанья.
Тут управитель подал перо своему господину, и тот, посвистывая, подписал тратту, не потрудившись даже в нее заглянуть.
Покончив с этим делом, старик попрощался с доном Матео, который бросился его обнимать.
– До свидания, сеньор ростовщик! – воскликнул он. – Я ваш покорный слуга. Не понимаю, почему вашу братию почитают за мошенников. По-моему, вы приносите государству большую пользу: вы – утешение аристократической молодежи и подспорье всех вельмож, у которых расходы превышают доходы.
– Ты прав, – поддержал его Сентельес, – ростовщики – честные люди, которым следует оказывать почтение, и я тоже хочу обнять этого старца, раз он берет только двадцать пять процентов.
С этими словами он подошел к ростовщику, чтоб заключить его в объятия, и тут оба петиметра, забавы ради, принялись перебрасывать старика друг другу, как игроки, кидающиеся мячиком на жёдепоме. Потрепав как следует несчастного Дескомульгадо, они отпустили его вместе с управителем, который в гораздо большей мере заслуживал таких объятий и даже кой-чего в придачу.
Когда Родригес и его фактотум [69] удалились, дон Матео приказал лакею, находившемуся вместе со мной в спальне, отнести половину занятых пистолей графине де Педроса, а другую спрятал в длинный, расшитый золотом и шелками кошелек, который обычно носил в кармане. Весьма довольный тем, что оказался опять при деньгах, он весело сказал дону Антонио:
– Что же нам сегодня предпринять? Давай держать совет.
В то время как они собирались обдумать, как им провести этот день, подошли еще два сеньора. Один из них был дон Алехо де Сехиар, а другой дон Фернандо де Гамбоа, оба в возрасте моего господина, т. е. от двадцати восьми до тридцати лет. Все четверо кавалеров принялись с жаром обнимать друг друга: можно было подумать, что они не видались лет десять. После этого дон Фернандо, большой весельчак, обратился к Дону Матео и дону Антонио:
– Где вы сегодня обедаете, сеньоры? Если вы никуда не званы, то я отведу вас в кабачок, где можно получить божественное винцо. Я ужинал там накануне и ушел в шестом часу утра.
– Дал бы бог и мне провести ночь так же благоразумно, – воскликнул мой господин, – я не проиграл бы тогда своих денег.
– Что до меня, – сказал Сентельес, – то я нашел себе вчера вечером новую забаву, так как люблю разнообразить удовольствия: только смена развлечений и делает жизнь отрадной. Приятель затащил меня к одному из тех толстосумов, которые собирают налоги и, обслуживая казну, не забывают самих себя. В доме у него много роскоши и вкуса, да и ужин показался мне довольно пристойным: но хозяева были до того смешны, что я очень веселился. Откупщик корчил из себя вельможу, хотя во всей их компании нет человека более низкого происхождения; а жена его, редкая уродина, жеманничала вовсю и болтала всякие глупости, да еще с бискайским акцентом, который их особенно подчеркивал. Добавьте к этому, что за столом сидели пять или шесть ребят с гувернером. Можете себе представить, как позабавил меня этот семейный ужин.
– А я, сеньоры, – сказал дон Алехо Сехиар, – ужинал у одной артистки, у Арсении. Нас было за столом шестеро: Арсения, Флоримонда с подружкой из веселящихся девиц, маркиз Дзенетта, дон Хуан де Монкада и ваш покорный слуга. Мы всю ночь пьянствовали и говорили непристойности. Сплошное упоение! Правда, Арсения и Флоримонда звезд с неба не хватают, но зато у них есть опыт в любовных делах, который заменяет им ум. Это веселые, живые, сумасбродные создания. Не в тысячу ли раз приятнее проводить время с ними, чем с порядочными женщинами?
Глава IV О том, как Жиль Блас познакомился с лакеями петиметров, как они научили его замечательному секрету, с помощью которого можно без труда прослыть умным человеком, и об удивительной клятве, которую они заставили его дать
Эти сеньоры продолжали вести беседу в том же духе, пока дон Матео, которому я помогал одеваться, не был окончательно готов. Он приказал мне следовать за ним, и все четверо петиметров направились в харчевню, куда собирался отвести их дон Фернандо де Гамбоа. Я шел позади вместе с тремя другими служителями, так как у каждого кавалера был свой лакей. При этом я с удивлением заметил, что слуги копировали своих господ и старались подражать их манерам. Я их приветствовал в качестве нового товарища. Они также поклонились мне, и один из них, оглядев меня внимательно, сказал:
– Вижу, братец, по вашему обхождению, что вы еще никогда не служили у знатного молодого сеньора.
– К сожалению, не служил, – отвечал я. – Мне лишь недавно довелось попасть в Мадрид.
– Оно и заметно, – сказал тот, – от вас так и разит провинцией; вид у вас робкий и застенчивый; нет настоящей развязности. Но это не беда; клянусь честью, мы вас быстро отшлифуем.
– Вы мне, наверное, льстите? – спросил я.
– Ничуть, – отвечал лакей, – нет такого болвана, которого мы не могли бы перефасонить; будьте совершенно спокойны.
Из этого я заключил и без дальнейших пояснений, что мои товарищи – тертые ребята и что я не мог попасть в лучшие руки, если хочу приобрести лоск. Придя в харчевню, мы застали обед уже приготовленным, так как дон Фернандо предусмотрительно заказал его еще с утра. Господа сели за стол, а мы собрались им прислуживать. Тотчас же между ними завязался веселый разговор. Я слушал их с величайшим наслаждением. Их характеры, их мысли, их выражения – все меня восхищало. Сколько огня! Сколько живости соображения! Эти люди казались мне существами какой-то другой породы.
Когда дело дошло до десерта, то мы принесли изрядное количество бутылок самого лучшего испанского вина, а сами, покинув молодых сеньоров, отправились обедать в маленькую залу, где для нас был накрыт стол.
Тут я быстро убедился, что кавалеры моей кадрили [70] обладали еще большими достоинствами, чем я сначала предполагал. Эти плуты копировали не только манеры, но и разговор своих господ, причем делали это столь искусно, что, будь у них внешность поблагороднее, трудно было бы уловить разницу. Их свободное и непринужденное обращение восхищало меня; но еще больше нравилось мне их остроумие, и я отчаивался стать когда-либо таким же занимательным, как они. Поскольку обедом потчевал дон Фернандо, то и за нашим столом исполнял роль хозяина его камердинер. Ратуя о том, чтоб все у нас было в изобилии, он позвал содержателя харчевни и сказал:
– Сеньор трактирщик, подайте нам десять бутылок самого лучшего вина и припишите их, как обычно, к тем, которые будут выпиты нашими господами.
– Охотно сеньор Гаспар, – отвечал тот, – но вы знаете, что дон Фернандо должен мне уже за много обедов. Если б я мог чрез ваше посредство получить с него хоть сколько-нибудь наличными…
– Пожалуйста, не беспокойтесь насчет денег, – прервал его камердинер, – я отвечаю вам за них: долги моего господина все равно что золото в слитках. Правда, некоторые неучтивые кредиторы наложили запрещение на наши доходы, но мы на днях добьемся, чтоб его сняли и оплатим вам, не проверяя счет, который вы представите.
Трактирщик принес бутылки, несмотря на секвестр доходов, и мы выпили, не дожидаясь, пока его снимут. Стоило взглянуть, как мы ежеминутно провозглашали заздравные тосты, величая друг друга по имени своих господ. Камердинер дона Антонио называл Гамбоа лакея дона Фернандо, а лакей дона Фернандо называл Сентельесом слугу дона Антонио; меня же они звали Сильва. Так мы мало-помалу напились под чужими именами ничуть не хуже тех сеньоров, которым они принадлежали.
Хотя я обнаружил в разговоре значительно меньше блеска, чем мои сотрапезники, однако же они не преминули сообщить, что остались мной относительно довольны.
– Сильва, – сказал мне один из более дошлых, – мы сделаем из тебя, друг мой, путного человека; я замечаю в тебе природное дарование, но ты не умеешь показать товар лицом. Ты боишься ляпнуть что-нибудь невпопад, и это мешает тебе говорить наудачу, а между тем тысячи людей создали себе теперь славу остроумцев только благодаря смелой болтовне. Хочешь блистать, так не обуздывай своего темперамента; выкладывай все, что взбредет тебе на ум: твои вздорные речи сойдут за благородную смелость. Неси любую чепуху, но если у тебя сорвется хоть одно меткое словцо, тебе простят все твои глупости: люди запомнят только твою остроту и возымеют высокое мнение о твоих достоинствах. Наши господа с успехом осуществляют это на практике, и так должен поступать всякий, кто хочет прослыть человеком возвышенного ума.
Помимо того, что мне до смерти хотелось снискать себе репутацию остряка, самый секрет добиться этого показался мне столь несложным, что я не хотел им пренебречь. Поэтому я тут же принялся испытывать его на практике, и выпитое вино немало содействовало успешности этой попытки; иными словами, я плел несусветную чушь, но среди всей этой околесицы мне удалось обронить несколько удачных острот, заслуживших одобрение присутствующих. Этот опыт окрылил меня; я удвоил смелость в надежде отмочить какую-нибудь шутку, и судьба снова пожелала, чтобы мои старания не пропали втуне.
– Ну что? – сказал мне камердинер, заговоривший со мной на улице. – Вот ты и начинаешь отшлифовываться, не правда ли? Нет и двух часов, как ты с нами, а уже стал совсем другим человеком: ты будешь меняться прямо на глазах. Видишь, что значит служить у знатных господ. Это возвышает дух: в мещанском доме ты таких результатов никогда не достигнешь.
– Нисколько не сомневаюсь! – подтвердил я. – А потому мне хочется отныне посвятить свои услуги исключительно дворянству.
– Отлично сказано! – воскликнул лакей дона Фернандо, основательно подвыпивший. – Мещане недостойны держать у себя таких выдающихся личностей, как мы. Вот что, господа! – добавил он. – Дадим обет никогда не служить у этого отребья; поклянемся именем Стикса!
Предложение Гаспара было встречено всеобщим восторгом, и, подняв стаканы, мы дали клятву. Наша трапеза продолжалась до тех пор, пока господам не заблагорассудилось удалиться. Это было в полночь, но мои товарищи сочли такое поведение за верх умеренности. Правда, наши сеньоры покинули кабак в этот ранний час только для того, чтобы отправиться к одной известной прелестнице, дом которой находился в дворцовом квартале и был открыт днем и ночью для всех любителей развлечений. Это была особа в возрасте между тридцатью пятью и сорока годами, все еще очень красивая, забавная в разговоре и столь опытная в искусстве нравиться, что она продавала, как рассказывали, остатки своей красоты дороже, чем ее первые цветочки. У нее всегда можно было застать еще двух-трех прелестниц высшего полета, которые немало способствовали огромному наплыву знатных сеньоров, посещавших эту даму. Днем гости играли в карты, затем ужинали и проводили ночь за вином и в приятных забавах. Наши господа просидели там до утра, а мы дожидались их без всякой скуки, ибо, пока они коротали время с сеньорами, наша братия развлекалась с субретками. На рассвете мы наконец расстались и каждый отправился к себе домой.
Господин мой, встав по своему обыкновению около полудня, оделся и вышел. Я сопровождал его, и мы зашли к дону Антонио Сентельесу, у которого застали некоего дона Альвара де Акунья. Это был пожилой дворянин, известный в качестве наставника по части мотовства. К нему обращались все молодые люди, желавшие приобрести лоск. Он обучал их наслаждениям, а также искусству блистать в обществе и проматывать наследственные именья. Он не опасался проесть свое собственное, так как оно давно уже было съедено.
Когда эти трое кавалеров покончили с взаимными объятиями, Сентельес сказал моему господину:
– Черт возьми, дон Матео, ты не мог прийти более кстати. Дон Альвар зашел за мной, чтоб свести меня к одному мещанину, который угощает обедом маркиза Дзенетто и дона Хуана де Монкада; мне хотелось бы, чтоб и ты отправился с нами.
– А как зовут этого мещанина? – спросил мой господин.
– Его имя – Грегорио де Нориега, – ответил дон Альвар. – Я объясню вам в двух словах, что это за молодой человек. Отец его, богатый ювелир, отправился в чужие края торговать драгоценными камнями и, уезжая, предоставил в его пользование состояние с порядочным доходом. Грегорио – простофиля, обладающий склонностью быстро спускать все свои деньги; он корчит из себя петиметра и вопреки природе хочет прослыть умным человеком. Ему вздумалось пригласить меня в руководители. Я взялся за это и могу вас заверить, сеньоры, что дело пошло полным ходом. Грегорио уже начал проедать капитал.
– Нимало не сомневаюсь! – воскликнул Сентельес. – Вижу отсюда, что наш мещанин скоро докатится до богадельни. Знаешь что, дон Матео? – продолжал он. – Давай познакомимся с этим фертом и поможем ему разориться.
– Охотно, – отвечал мой господин, – я люблю наблюдать, как вылетают в трубу такие молодчики из разночинцев, которые смеют воображать, что их кто-либо равняет с нами. Ничто, например, меня так не позабавило, как случай с сыном откупщика; игра и тщеславное желание тянуться за знатью принудили его продать все имущество, вплоть до дома.
– О, этого мне ничуть не жаль, – заметил дон Антонио. Он и в бедности остался таким же хлыщом, каким был в богатстве.
Сентельес и мой господин отправились в сопровождении дона Альвара к Грегорио де Нориега. Я с Мохиконом пошел туда же, радостно предвкушая возможность полакомиться на даровщинку и надеясь со своей стороны пособить разорению выскочки. Придя в дом, мы увидели несколько человек, занятых приготовлением обеда, причем дымок, исходивший от рагу, щекоча обоняние, предвещал не меньшее удовольствие и для нёба. Маркиз Дзенет-то и дон Хуан де Монкада только что прибыли. Хозяин дома показался мне большим балбесом. Он тщетно пытался разыгрывать из себя петиметра. Но это была прескверная копия с блестящего оригинала, или, говоря проще, он походил на дурака, корчащего из себя развязного сеньора. Представьте себе человека такого склада среди пяти насмешников, у которых только и было на уме, что поиздеваться над ним и ввести его в большие расходы.
– Сеньоры, – сказал дон Альвар после первых учтивостей, – рекомендую вам сеньора Грегорио де Нориега, как одного из самых достойных кавалеров. Он обладает множеством прекрасных качеств. Ведомо ли вам, что он человек весьма образованный? Выбирайте любую науку: он одинаково силен во всех областях, начиная от самой тонкой и строгой логики до орфографии.
– Право, вы мне слишком льстите, – прервал его мещанин с принужденным смехом, – я мог бы, сеньор Альвар, вернуть вам ваш комплимент. Вы сами являетесь тем, что принято называть кладезем премудрости.
– Я не имел намерения напрашиваться на столь остроумную похвалу, – возразил дон Альвар. – Смею вас, однако, уверить, сеньоры, – добавил он, – что наш хозяин не преминет составить себе имя в свете.
– Что касается меня, – заметил дон Антонио, – то мне больше всего нравится в нем – и я ставлю это выше орфографии – его умение выбирать лиц, с которыми он ведет знакомство. Вместо того чтобы ограничиться общением с мещанами, он предпочитает молодых сеньоров, не считаясь с тем, во что это ему обойдется. В этом есть известная возвышенность чувств, которая меня восхищает. Вот что называется тратить деньги со вкусом и разбором.
За этими язвительными замечаниями последовало множество других в том же духе. Бедного Грегорио отделали на все корки. Петиметры один за другим осыпали его стрелами своих насмешек, но наш болван даже не ощущал этих уколов; напротив, он верил всему, что они говорили, и был, казалось, весьма доволен своими сотрапезниками, принимая их издевательства за великую честь. Одним словом, он служил им игрушкой все время, пока они сидели за столом, а это продолжалось весь день и всю ночь.
Мы с Мохиконом выпили так же основательно, как и наши господа, и когда мы выходили от мещанина, то и лакеи и сеньоры были пьяны в стельку.
Глава V Жиль Блас становится сердцеедом, он знакомится с прелестной дамой
Проспав несколько часов, я встал в отличном расположении духа. Мне вспомнился совет Мелендеса, и я решил до пробуждения своего господина сходить на поклон к нашему управителю, тщеславие которого, как мне показалось, было до известной степени польщено оказанным ему вниманием. Он принял меня любезно и спросил, освоился ли я с образом жизни молодых сеньоров. Я отвечал, что все это для меня ново, но что я не отчаиваюсь со временем привыкнуть. Действительно, я привык, и даже очень скоро. В моем характере и настроении произошла полная перемена. Из прежнего рассудительного и степенного юноши я превратился в шумного, легкомысленного, пошлого вертопраха. Лакей дона Антонио поздравил меня с этой метаморфозой и сказал, что мне остается только завести любовную интригу, чтобы блистать в обществе. Он объяснил, что без этого я никогда не сделаюсь законченным щеголем, что у всех наших товарищей прелестные возлюбленные и что сам он пользуется благосклонностью двух благородных дам. Я решил, что каналья просто врет.
– Сеньор Мохикон, – сказал я, – вы, безусловно, красивый и очень умный малый, обладающий немалыми достоинствами, но я не понимаю, каким образом благородные дамы, у которых вы к тому же не живете, дают себя обольстить человеку вашего звания.
– Разумеется, они не знают, кто я такой, – отвечал он. – Я одерживаю свои победы, пользуясь платьем и даже именем своего господина. Делается это так: я наряжаюсь молодым вельможей и перенимаю все его повадки; явившись на гулянье, я заигрываю со всеми встречными женщинами, пока не найдется такая, которая клюнет на это. Тогда я иду за ней и стараюсь втянуть ее в разговор, называя себя доном Антонио Сентельес. Я прошу у нее свидания, дама жеманится; настаиваю, она соглашается и так далее. Вот, друг мой, – закончил он, – как я добиваюсь любовных успехов, и советую тебе последовать моему примеру.
Мне слишком хотелось прослыть блестящим кавалером, чтоб не послушаться такого совета; к тому же я не чувствовал ни малейшего отвращения к любовным интригам. А потому я возымел намерение нарядиться молодым вельможей и пуститься в галантные авантюры. Я не осмеливался переодеться у нас в доме из боязни быть замеченным. Забрав поэтому из гардероба моего господина роскошный костюм и завернув его в узел, отправился я с ним к одному цирюльнику средней руки из числа моих приятелей, где, по моим расчетам, можно было удобно переодеться. Там я принарядился самым тщательным образом. Цирюльник тоже приложил руку к моему убранству, и, когда мы решили, что больше добавить нечего, я зашагал по направлению к Лугу св. Иеронима с твердой уверенностью вернуться оттуда не иначе, как заручившись какой-нибудь любовной интригой. Но мне не пришлось бежать так далеко, чтоб завязать одну из самых блестящих.
Пересекая какой-то глухой переулок, я заметил богато одетую и очень стройную даму, которая выходила из маленького домика и садилась в наемную карету, поджидавшую у крыльца. Я тотчас же остановился, чтоб на нее посмотреть, и отвесил поклон с намерением засвидетельствовать ей, что она мне понравилась. Желая, в свою очередь, доказать, что она заслуживает еще большего внимания, чем я предполагал, дама приподняла на мгновение вуаль, и моим взорам представилось прелестнейшее личико. Карета укатила, а я продолжал стоять на улице, несколько ошеломленный миловидностью черт, которые мне пришлось улицезреть.
«Какая красотка! – сказал я сам себе. – Вот этакая, черт подери, могла бы окончательно закрепить за мной славу блестящего кавалера. Если те две дамы, которые любят Мохикона, так же красивы, как эта, то он просто счастливейшая бестия. Я благословлял бы судьбу, будь у меня такая возлюбленная».
Предаваясь этим размышлениям, я случайно взглянул на дом, откуда вышла моя красавица, и увидел в окне нижнего этажа старуху, сделавшую мне знак, чтоб я вошел.
Я тотчас же помчался на это приглашение и застал в довольно опрятной горнице почтенную и скромную старушку, которая, приняв меня, по меньшей мере, за маркиза, почтительно поклонилась и сказала:
– Не сомневаюсь, сеньор, что вы возымели дурное мнение о женщине, которая, не будучи с вами знакома, зазывает вас к себе; но, быть может, вы отнесетесь ко мне благосклоннее, когда узнаете, что я поступаю так не со всяким. Я приняла вас за придворного…
– Вы не ошиблись, любезная, – перебил я ее, выставляя вперед правую ногу и налегая корпусом на левое бедро, – могу сказать, не хвалясь, что принадлежу к одному из самых знатных испанских родов.
– Так я и думала, – продолжала старуха, – и сознаюсь вам, что всегда рада услужить благородным персонам: это моя слабость. Я наблюдала за вами из окна, и мне показалось, что вы очень внимательно смотрели на сеньору, которая только что от меня уехала. Не приглянулась ли она вам? Скажите откровенно.
– Клянусь честью придворного кавалера, – воскликнул я, – она меня поразила: я во всю жизнь не встречал более пикантного существа. Сведите-ка нас, дражайшая, и рассчитывайте на мою благодарность. Могу вас уверить, что мы, вельможи, ценим по достоинству такие услуги и платим за них щедрее, чем за какие-либо другие.
– Я уже сказывала вам, – отвечала старуха, – что всецело предана знатным особам и стараюсь быть им полезной. Например, я принимаю здесь дам, которым показная добродетель мешает видеться у себя со своими обожателями. Предоставляя им свой дом, я примиряю их темперамент с благопристойностью.
– Прекрасно, – сказал я, – но, по-видимому, вы только что оказали эту любезность даме, о которой идет речь.
– Нет, – возразила она, – это молодая вдова из благородных, которая ищет себе любовника. Но очень уж она привередлива: не знаю даже, подойдете ли вы ей, несмотря на все достоинства, которыми вы, наверно, обладаете. Я уже представила ей трех статных кавалеров, но она их отвергла.
– Ах ты черт! – воскликнул я самоуверенно. – Подпусти меня только к ней, и, клянусь честью, я тебе кой-что расскажу. Меня так и разбирает любопытство побыть наедине с этой несговорчивой красоткой: этакие мне еще не попадались.
– В таком случае, – сказала старуха, – соблаговолите пожаловать сюда завтра в тот же час, и вы удовлетворите свое любопытство.
– Непременно буду, – возразил я, – и посмотрим, может ли такой кавалер, как я, потерпеть поражение.
Я вернулся к своему брадобрею, не желая искать новых приключений и с нетерпением ожидая, чем кончится это.
На следующий день, снова вырядившись щеголем, отправился я к старухе часом раньше назначенного времени.
– Вы очень исправны, сеньор, – сказала она, – и я вам за это весьма благодарна. Правда, игра стоит свеч. Я виделась с нашей молодой вдовой, и мы очень много о вас беседовали. Мне не велено рассказывать, но уж так я к вам расположена, что не могу молчать: вы понравились и будете осчастливлены. Между нами говоря, эта сеньора – аппетитнейший кусочек: муж недолго прожил с нею; он, так сказать, мелькнул, как тень, и ее можно почитать как бы за девицу.
Добрая старушка, вероятно, хотела сказать «веселую девицу», которые и в безбрачии не слишком тяготятся скукой.
Вскоре прибыла и сама героиня. Она была в великолепном платье и приехала, как и накануне, в наемной карете. Как только она вошла в залу, я отвесил ей, по обычаю петиметров, пять – шесть поклонов, сопровождая их грациознейшими ужимками. После этого я подошел к ней весьма развязно и сказал:
– Прелестная принцесса, вы видите перед собой сеньора, подстреленного Амуром. Со вчерашнего дня ваш образ непрестанно витает передо мной, и вы изгнали из моего сердца герцогиню, которая было прочно в нем утвердилась.
– Эта победа весьма для меня лестна, – отвечала она, снимая вуаль, – но радость моя не лишена горечи: молодые кавалеры не знают постоянства и, как говорят, их сердце труднее удержать, чем неразменный червонец.
– О, моя королева! – воскликнул я. – К чему нам беспокоиться о будущем? Подумаем лучше о настоящем. Вы – прекрасны, я – влюблен. Если любовь моя вам приятна, то отдадимся ей без размышлений. Вступим на корабль, как матросы, не тревожась об опасностях и помышляя лишь о радостях путешествия.
С этими словами я с жаром бросился к ногам моей нимфы и, стараясь как можно более походить на петиметра, принялся страстно молить ее, чтоб она составила мое счастье. Мне показалось, что мои настойчивые просьбы произвели на нее некоторое впечатление, но, рассчитав, что еще не пришло время сдаваться, она отстранила меня и сказала:
– Перестаньте! Вы слишком пылки! Ах, какой вертопрах! Боюсь, как бы вы не оказались просто лукавым соблазнителем.
– Не стыдно ли вам, сеньора? – воскликнул я. – Неужели вы ненавидите то, что нравится всем незаурядным женщинам? Ведь даже среди мещан теперь осталось немного таких, которые ополчаются против любовных соблазнов.
– Довольно! Я не в силах устоять против столь убедительных доводов, – сказала она. – Вижу, что с молодыми сеньорами, вроде вас, бесполезно жеманиться: дама сама должна идти вам навстречу. Узнайте же, что вы одержали победу, – добавила она с притворным смущением, точно ее целомудрие пострадало от этого признания. – Вы внушили мне чувство, какого я еще никогда ни к кому не питала, и мне остается только узнать, кто вы, чтобы сделать вас окончательно избранником своего сердца. Я почитаю вас за молодого вельможу и к тому же за порядочного человека, но я в этом не уверена; и сколь я ни расположена в вашу пользу, однако же не хочу подарить свою любовь незнакомцу.
Тут я вспомнил рассказ лакея дона Антонио о том, как он выходил из подобных затруднений, и, решив по его примеру выдать себя за своего господина, сказал прелестной вдове:
– Сеньора, не стану скрывать от вас свое имя: оно звучит достаточно громко, чтоб я мог назвать его, не стыдясь. Слыхали ли вы когда-либо о доне Матео де Сильва?
– Как же, – отвечала она, – мне довелось даже встретиться с ним у одной знакомой дамы.
Хотя я в то время успел уже достаточно обнаглеть, однако же этот ответ смутил меня. Тем не менее я быстро оправился и, напрягши всю свою находчивость, чтоб как-нибудь выпутаться, ответил:
– Значит, ангел мой, вы знаете сеньора… которого… я тоже знаю… словом… раз уж необходимо это сказать… я принадлежу к его роду. Дед дона Матео был женат на свояченице одного из дядей моего отца. Как видите, мы довольно близкие родственники. Меня зовут дон Сесар. Я единственный сын знаменитого дона Фернандо де Ривера, убитого пятнадцать лет тому назад в сражении на португальской границе. Я мог бы описать вам всю битву с мельчайшими подробностями: это был чертовски горячий бой… Но жаль тратить драгоценное время, которое любовь повелевает мне провести с большей приятностью.
После этого объяснения я проявил настойчивость и страстность, что, однако, завело меня не слишком далеко. Вольности, разрешенные мне красавицей, только заставили меня еще сильнее вздыхать о тех, до которых она меня не допустила. Жестокая вернулась в карету, ожидавшую ее у крыльца. Тем не менее я остался доволен своим приключением, хотя оно и не увенчалось полным успехом.
«Мне не удалось добиться ничего, кроме полумилостей, – говорил я сам себе, – но это, вероятно, потому, что моя красавица весьма знатная дама и не сочла уместным уступить моим настояниям при первой же встрече. Родовая гордость помешала моему счастью, но оно всего лишь отсрочено на несколько дней».
Правда, мне приходило в голову, что моя богиня могла также оказаться просто прожженной плутовкой. Но я предпочитал смотреть на вещи скорее в розовом, чем в мрачном свете, и того ради остался при благоприятном мнении, которое составил себе о прекрасной вдове. Мы условились свидеться через день, и, надеясь достигнуть последних пределов блаженства, я уже предвкушал радости, льстившие моему самолюбию.
Погруженный в эти радужные видения, вернулся я к своему брадобрею и, переодевшись, пошел в игорный дом, куда барин приказал мне явиться. Я застал его там за игрой и заметил, что ему везло, ибо дон Матео не походил на тех выдержанных игроков, которые богатеют и разоряются, не меняясь в лице. Он становился насмешлив и дерзок при удаче и сумрачен, когда Фортуна поворачивалась к нему спиной.
Выйдя из игорного дома в весьма веселом настроении, дон Матео направился к Принцеву театру. Я проводил его до самого подъезда. Там, сунув мне в руку дукат, он сказал:
– Возьми себе, Жиль Блас; я сегодня выиграл и хочу, чтобы и ты порадовался моей удаче; ступай, повеселись с приятелями и приходи в полночь за мной к Арсении, у которой я ужинаю с доном Алехо Сехьяром.
С этими словами он вошел в театр, а я остался у подъезда, размышляя о том, с кем бы мне истратить дукат, согласно воле дарителя. Мне недолго пришлось ломать себе голову, ибо передо мной неожиданно вырос Кларин, лакей дона Алехо. Я повел его в первый попавшийся питейный дом, где мы развлекались до двенадцати. Оттуда мы направились к Арсении, куда Кларину тоже было велено явиться. Нам отворил двери мальчик-слуга и ввел нас в горницу нижнего этажа, где две камеристки, состоявшие одна при Арсении, другая при Флоримонде, беседовали между собой, заливаясь веселым смехом, в то время как их хозяйки принимали наверху наших господ.
Приход двух повес, только что хорошо поужинавших, не мог быть неприятен субреткам, в особенности субреткам театральных див; но каково было мое изумление, когда я в одной из этих наперсниц узнал свою очаровательную вдову, которую почитал за графиню или маркизу. Она тоже удивилась не меньше, увидав своего любезного дона Сесара де Ривера превращенным в лакея петиметра. Тем не менее мы поглядели друг на друга без всякого смущения, и нас даже разобрало такое желание расхохотаться, что мы не смогли против него устоять. Затем, видя, что Кларин беседует с ее подругой, Лаура – так звали мою красавицу – отвела меня в сторону и, приветливо протянув мне ручку, тихонько сказала:
– Пожмем друг другу руки, дон Сесар, и вместо попреков обменяемся лучше комплиментами. Вы упоительно сыграли роль молодого вельможи, да я тоже недурно справилась со своей. Каково ваше мнение? Признайтесь, что вы приняли меня за одну из тех знатных красавиц, которые любят пускаться в авантюры.
– Ваша правда, – отвечал я, – но, кто бы вы ни были, моя королева, я, изменив обличье, не изменил своих чувств. Извольте считать меня своим покорным слугой и разрешите камердинеру дона Матео докончить то, что было так счастливо начато доном Сесаром.
– Знаешь? – отвечала она. – В своем естественном виде ты мне даже больше нравишься, чем в прежнем. Ты среди мужчин – то, что я среди женщин: лучшей похвалы я не могу для тебя придумать. Принимаю тебя в число своих обожателей. Мы больше не нуждаемся в услугах старушки: можешь видеться здесь со мной совершенно свободно. В нашей театральной среде женщины живут без всяких предрассудков и в постоянном общении с мужчинами. Правда, иной раз всех концов не упрячешь; но публика только смеется в таких случаях, а мы, как ты знаешь, на то и созданы, чтобы ее потешать.
Мы были не одни, а потому пришлось ограничиться этим. Завязался общий разговор, живой, веселый и полный прозрачных двусмысленностей. Каждый внес в него свою лепту. Особенно блистала камеристка Арсении, моя любезная Лаура, которая обнаружила больше ума, чем добродетели. В свою очередь, сверху то и дело доносились до нас продолжительные раскаты смеха, из чего можно заключить, что беседа молодых сеньоров и актерок была столь же рассудительна, сколь и наша. Если бы записать все высоконравственные речи, которые говорились в эту ночь у Арсении, то из этого, пожалуй, получилась бы книга, весьма поучительная для юношества.
Между тем наступило время идти домой, иначе говоря, утро: пришлось расстаться. Кларин последовал за доном Алехо, а я отправился с доном Матео.
Глава VI Беседа нескольких сеньоров об актерах Принцева театра
В этот же день, во время утреннего туалета, господин мой получил от дона Алехо Сехьяра записку, в которой тот приглашал его зайти. Мы отправились к нему и застали там маркиза Дзенет-то и еще одного молодого сеньора приятной наружности, которого мне прежде видеть не приходилось.
– Дон Матео, – сказал Сехьяр, представляя незнакомца моему господину, – это мой родственник дон Помпейо де Кастро. Он почти с самого детства живет при польском дворе, а вчера вечером прибыл в Мадрид с тем, чтобы завтра же ехать обратно в Варшаву. Таким образом, он может посвятить мне только сегодняшний день; я хотел поэтому использовать как можно лучше столь драгоценное время и, дабы гость мой провел его с приятностью, счел необходимым пригласить вас и маркиза Дзенетто.
После этого мой господин и родственник дона Алехо обнялись и наговорили друг другу множество учтивостей. Я с удовольствием прислушивался к речам дона Помпейо, который показался мне человеком солидным и разносторонним.
Мы отобедали у дона Сехьяра, после чего эти сеньоры сели играть, чтоб позабавиться до начала спектакля. Затем они все вместе отправились в Принцев театр посмотреть дававшуюся там новую трагедию, которая называлась «Карфагенская царица». По окончании представления они вернулись ужинать туда же, где обедали, и между ними завязался разговор сперва о пьесе, которую они видели, а затем об актерах.
– Что касается трагедии, – сказал дон Матео, – то я ее не одобряю; по-моему, Эней там еще бесцветнее, чем в «Энеиде». Однако следует признать, что играли отменно. Как думает об этом сеньор дон Помпейо? Мне кажется, что он не разделяет моего мнения.
– Сеньоры, – возразил этот кавалер со вздохом, – я только что видел, как вы восхищались своими актерами и в особенности актрисами, а потому не посмею сознаться, что думаю о них иначе, чем вы.
– И хорошо сделаете, – шутливо перебил его дон Алехо, – вашу критику встретили бы у нас весьма неодобрительно. Соблаговолите относиться с уважением к нашим артисткам перед лицом глашатаев их славы. Мы пьянствуем с ними каждый день и ручаемся за их совершенства: если угодно, мы охотно дадим в этом письменное удостоверение.
– Нисколько не сомневаюсь, – заметил его родственник, – вы, как я посмотрю, так дружны с ними, что готовы поручиться даже за их нравственность и поведение.
– Значит, ваши польские актерки много лучше? – спросил смеясь маркиз Дзенетто.
– Безусловно, – возразил дон Помпейо. – По крайней мере, там имеется несколько совершенно безукоризненных актрис.
– И эти, разумеется, могут рассчитывать на ваши удостоверения? – обратился к нему маркиз.
– Я с ними не знаюсь, – отвечал дон Помпейо, – и не принимаю участия в их кутежах, а потому могу судить беспристрастно. Но, говоря серьезно, – добавил он, – неужели вы считаете, что у вас хорошая труппа?
– Да нет же, – возразил маркиз, – я этого не думаю и буду защищать только нескольких актеров, а от прочих отступаюсь. Но не согласитесь ли вы с тем, что актриса, исполнявшая роль Дидоны [71] , восхитительна? Разве не изобразила она эту царицу исполненной благородства и приятных качеств, которые мы обычно связываем с ее образом? Неужели вы не восторгались ее искусством приковывать внимание зрителя и заставлять его переживать движения тех страстей, которые она изображала? Про нее можно сказать, что она овладела всеми вершинами декламации.
– Я согласен с вами в том, что она умеет пронять и взволновать зрителя, – сказал дон Помпейо. – Ни одна актриса не играет с такой задушевностью, как она, и действительно, это прекрасное исполнение; однако же и ее нельзя назвать безупречной. Два или три места в ее игре подействовали на меня неприятно. Желая выразить удивление, она неестественно закрывает глаза, что вовсе не пристало царице. Добавьте к этому, что, заглушая голос, который у нее от природы нежен, она портит эту нежность и басит довольно неблагозвучно. К тому же, как мне показалось, в нескольких местах пьесы ее можно заподозрить в недостаточном понимании того, что она говорит. Предпочитаю, впрочем, отнести это за счет ее рассеянности, нежели обвинять ее в недостатке ума.
– Насколько я вижу, – сказал тогда дон Матео критику, – вы не стали бы слагать стихи в честь наших комедианток.
– Простите, – возразил дон Помпейо, – но я обнаружил у них сквозь недостатки также и немало таланта. Скажу даже, что я в восторге от актрисы, игравшей наперсницу в интермедиях [72] . Какая естественность! С какой грацией она держит себя на сцене! Когда ей по роли приходится отколоть какую-нибудь шутку, она сопровождает ее лукавой и очаровательной улыбкой, которая усиливает пикантность. Ее можно было бы, пожалуй, упрекнуть в том, что она иной раз переигрывает и переходит границы дозволенной смелости, но не надо быть чересчур строгим. Мне хотелось бы только, чтобы она исправилась от одной дурной привычки. Часто посреди представления, в каком-нибудь серьезном месте, она вдруг нарушает ход действия и разражается смехом, от которого не может удержаться. Вы мне скажете, что публика аплодирует ей даже и в такие моменты, но, знаете ли, это ее счастье.
– А какого мнения вы о мужчинах? – прервал его маркиз. – Если вы не пощадили женщин, то на тех, наверное, не оставите живого места.
– Нет, – сказал дон Помпейо, – я обнаружил несколько молодых многообещающих артистов, и особенно понравился мне тот толстяк, который играл роль первого министра Дидоны [73] . Он декламирует весьма естественно, именно так, как польские артисты.
– Если вы остались довольны толстяком, – заметил дон Сехьяр, – то тем более должны быть очарованы тем, который представлял Энея. Вот большой талант и оригинальный артист, не правда ли?
– Действительно оригинальный, – возразил критик, – у него своеобразные интонации и к тому же такие, которые ужасно режут слух. Он играет ненатурально, скрадывает слова, содержащие главную мысль, и напирает на остальные; ему даже случается делать ударение на союзах. Он очень меня позабавил, в особенности когда объяснял своему наперснику, как ему тягостно расстаться с царицей: трудно выразить скорбь комичнее, чем он это сделал.
– Постой, кузен! – прервал его дон Алехо. – А то как бы мы под конец не подумали, что хороший вкус неизвестен при польском дворе. Знаешь ли ты, что актер, о котором мы говорим, редкостное явление. Разве ты не слыхал, как ему рукоплескали? Это доказывает, что он не так уж плох.
– Это ничего не доказывает, – возразил дон Помпейо и добавил: – Сеньоры, не будем говорить об аплодисментах публики: она нередко расточает их весьма некстати и даже чаще рукоплещет бездарностям, нежели настоящим талантам, как передает о том Федр в одной остроумной басне [74] . Позвольте мне рассказать ее вам. Так вот. Все жители одного города высыпали на главную площадь, чтоб посмотреть на представление пантомимов. Среди этих лицедеев был один, которому ежеминутно аплодировали. Под конец надумал этот гаер закончить зрелище новой шуткой. Выйдя один на сцену, он наклонился, прикрыл голову плащом и принялся визжать по-поросячьи. И так хорошо это выходило, что зрители вообразили, будто у него под платьем действительно спрятан поросенок. Ему стали кричать, чтоб он вытряхнул плащ и одежду. Гаер послушался; но так как никакого поросенка не оказалось, то собравшиеся принялись аплодировать ему еще яростнее. Один крестьянин, присутствовавший в числе зрителей, был раздосадован этими выражениями восторга. «Господа, – воскликнул он, – вы напрасно так восхищаетесь этим гаером: он вовсе не такой хороший актер, как вам кажется. Я лучше его подражаю поросенку; а ежели вы в том сомневаетесь, то приходите сюда завтра в тот же час». Народ, расположенный в пользу пантомима, собрался на следующий день еще в большем числе, скорее с намерением освистать крестьянина, нежели для того, чтобы удостовериться в его умении. Оба соперника вышли на сцену. Гаер начал, и ему хлопали еще усиленней, чем накануне. Тогда крестьянин нагнулся в свою очередь и, прикрываясь плащом, принялся дергать за ухо живого порося, которого держал под мышкой, отчего тот завизжал самым пронзительным, образом. Между тем зрители продолжали отдавать предпочтение пантомиму и встретили гиканьем крестьянина, который неожиданно показал им поросенка.
«Господа, – крикнул он им, – вы освистали не меня, а самого поросенка. Нечего сказать, хороши судьи!»
– Кузен, – сказал дон Алехо, – ты своей басней несколько хватил через край. Однако, невзирая на твоего поросенка, мы не отступимся от своего мнения. Но побеседуем о чем-нибудь другом, – продолжал он, – мне надоело говорить о комедиантах. Неужели ты все-таки завтра уедешь, несмотря на мое желание удержать тебя здесь еще на некоторое время?
– Мне и самому хотелось продлить свое пребывание в Мадриде, – отвечал его родственник, – но, как я уже вам говорил, это невозможно. Я приехал к испанскому двору по делу государственной важности. Вчера, по прибытии, мне пришлось беседовать с первым министром; завтра утром я снова с ним повидаюсь, а затем немедленно же отправлюсь в Варшаву.
– Ты совсем ополячился, – заметил дон Сехьяр, – и, надо думать, уже не переедешь в Мадрид.
– Думаю, что нет, – отвечал дон Помпейо, – я имею счастье пользоваться милостью польского короля и наслаждаюсь всеми приятностями его двора. Но сколько он меня ни жалует, однако же, поверите ли, был момент, когда я чуть было не покинул навсегда его владения.
– Как? По какой причине? – опросил маркиз. – Пожалуйста, расскажите.
– С удовольствием, – ответил тот, – и, рассказывая это, я тем самым поведаю вам историю своей жизни.
Глава VII Повесть дона Помпейо де Кастро
– Дон Алехо, – продолжал он, – знает, что, возмужав, я захотел посвятить себя военному делу, но так как у нас в то время царил мир, то я отправился в Польшу [75] , которой турки перед тем объявили войну. Там я был представлен королю, который пожаловал меня офицером в своей армии. Я был одним из беднейших младших сыновей в Испании, что понуждало меня отличиться подвигами, дабы привлечь к себе внимание генерала. Я так исправно выполнял свои долг, что, когда после длительной войны наступил мир, король, приняв во внимание благоприятные обо мне отзывы генералитета, определил мне изрядную пенсию. Чувствительный к щедротам этого монарха, я не упускал ни одного случая выразить ему свою благодарность неослабным усердием. Я являлся ко двору во все часы, когда дозволено предстать перед очи государя, и, незаметно снискав таким поведением его расположение, удостоился новых милостей.
Однажды я отличился на карусели с кольцами, а также на предшествовавшем ей бое быков [76] , и весь двор восхвалял мою силу и ловкость. Осыпанный рукоплесканиями, вернулся я домой и застал записку, в которой сообщалось, что одна дама, победа над которой должна мне больше льстить, нежели вся приобретенная в этот день слава, желает со мной переговорить и что для этого мне надлежит отправиться с наступлением сумерек в некое место, каковое мне было указано. Это письмо доставило мне больше удовольствия, чем все похвалы, выпавшие на мою долю, так как я был убежден, что оно написано какой-нибудь весьма знатной дамой. Легко себе представить, что я полетел к месту свиданья. Старушка, поджидавшая там, чтоб служить мне проводником, провела меня через садовую калитку в просторный дом и заперла в богато обставленном покое, сказав:
– Обождите здесь: я доложу сеньоре, что вы пришли.
В этом кабинете, освещенном множеством свечей, было немало драгоценных предметов, но я обратил внимание на всю эту роскошь только потому, что она подтверждала предположение о знатном происхождении моей дамы. Если обстановка, казалось, говорила в пользу того, что писавшая мне особа принадлежала к самому высшему кругу, то я окончательно укрепился в этом мнении, когда в горницу явилась сеньора с благородной и величественной осанкой.
– Сеньор кавальеро, – сказала она, – после того, что я сделала ради вас, бесполезно скрывать нежные чувства, которые я к вам питаю. Но не доблесть, которую вы сегодня проявили перед всем двором, внушила их мне; она только ускорила то, что я вам открылась. Мне не раз случалось вас видеть, и я понаведалась у людей; лестные отзывы, слышанные о вас, побудили меня уступить своей склонности. Не думайте, однако, – продолжала она, – что вы покорили сердце какой-нибудь сиятельной особы; я всего-навсего вдова скромного офицера королевской гвардии. Но эта победа уже потому лестна для вас, что я отдала вам предпочтение перед одним из самых знатных вельмож королевства. Князь Радзивилл любит меня и не жалеет ничего для того, чтобы мне понравиться. Но все его старания тщетны, и я терплю его ухаживания единственно только из тщеславия.
Хотя из ее речей я усмотрел, что имею дело с прелестницей, однако же не преминул возблагодарить свою звезду за это приключение. Ортенсия – так звали мою даму – была еще очень молода, и красота ее меня ослепила. Более того: мне предлагали овладеть сердцем, которое пренебрегло поклонением князя. Какое торжество для испанского кавалера! Упав к ногам Ортенсии, я поблагодарил ее за оказанную мне милость и сказал все, что галантному кавалеру полагается говорить в таких случаях. Она осталась довольна выраженной мной с таким восторгом признательностью, и мы расстались лучшими друзьями на свете, сговорившись видеться всякий вечер, когда князь не сможет ее навестить, о чем она обещала меня в точности уведомлять. Действительно, она так и поступила, и я сделался Адонисом этой новой Венеры.
Однако радости жизни не бывают долговечны. Несмотря на меры, которые принимала эта сеньора, чтоб утаить от князя наши отношения, он под конец узнал все, что нам так хотелось от него скрыть: недовольная служанка поставила его о том в известность. Этот вельможа, по природе великодушный, но гордый, ревнивый и вспыльчивый, вознегодовал на мою дерзость. Гнев и ревность ослепили ему рассудок, и, не считаясь ни с чем, кроме своей ярости, он решил отомстить мне недостойным образом. Однажды ночью, когда я был у Ортенсии, он стал поджидать меня у садовой калитки вместе со всеми своими слугами, которые были вооружены палками. Как только я вышел, он приказал этой гнусной челяди схватить меня и избить до смерти!
– Бейте! – кричал он им. – Пусть этот дерзновенный погибнет под вашими ударами! Я накажу его за наглость!
Не успел он договорить этих слов, как его люди разом набросились на меня и нанесли мне своими палками столько ударов, что я без чувств остался на месте. После этого они удалились со своим господином, для которого эта жестокая экзекуция была весьма приятным зрелищем. Остаток ночи я пролежал в том ужасном состоянии, в которое они меня привели. На рассвете прохожие заметили, что я еще дышу, и, сжалившись надо мной, отнесли меня к лекарю. По счастью, раны мои оказались не смертельными, и я попал в руки искусного человека, который в два месяца совершенно меня вылечил. По окончании этого срока я снова вернулся ко двору и продолжал прежний образ жизни, за исключением свиданий с Ортенсией, которая, со своей стороны, не сделала никакой попытки повидать меня, так как князь только этой ценой согласился простить ей измену.
Поскольку мое приключение ни для кого не было тайной и к тому же я не слыл за труса, то все дивились, видя меня таким спокойным, словно мне не было нанесено никакого оскорбления. Я не высказывал своих мыслей и, казалось, не испытывал злобы, а потому люди не знали, что им думать о моем притворном равнодушии. Одни полагали, что, несмотря на мою храбрость, высокий ранг обидчика удерживает меня в почтении и побуждает проглотить оскорбление; другие, будучи ближе к истине, не доверяли моему молчанию и считали показным то спокойное состояние, в котором я, казалось, пребывал. Король, склонявшийся к мнению этих последних, тоже находил, что я не такой человек, чтоб оставить поругание безнаказанным, и что я не премину отомстить, как только представится подходящий случай. Желая проверить, угадал ли он мое намерение, король однажды приказал позвать меня в кабинет и сказал:
– Дон Помпейо, я знаю, что с вами случилось, и, признаюсь, удивлен вашим спокойствием; вы, несомненно, притворяетесь.
– Ваше величество, – отвечал я ему, – обидчик мне не известен; на меня напали ночью какие-то мне неведомые люди; это несчастье, с которым приходится мириться.
– Нет, нет, – возразил король, – я не верю вашим неискренним отговоркам. Мне рассказали все. Князь Радзивилл нанес вам смертельную обиду. Вы – дворянин и кастилец: я знаю, к чему вас обязывает и то и другое. Вы собираетесь отомстить. Признайтесь в своих намерениях: я этого требую; и не бойтесь раскаяться в том, что доверили мне свою тайну.
– Раз ваше величество мне приказывает, – сказал я, – то считаю долгом открыть вам свои чувства. Да, государь, я помышляю отомстить за причиненную мне обиду. Всякий, кто носит такое благородное имя, как мое, ответствен за него перед своим родом. Вы знаете, как недостойно со мной обошлись, а потому я намереваюсь убить князя, чтоб отплатить ему такою же обидой, какую он мне нанес. Я вонжу ему в грудь кинжал или размозжу голову выстрелом из пистолета, а потом, если удастся, убегу в Испанию. Таково мое намерение.
– Оно очень жестоко, – отвечал король, – но я не могу его осудить после тяжкого оскорбления, нанесенного вам Радзивиллом. Он достоин той кары, которую вы ему готовите. Однако же не торопитесь приводить в исполнение свое намерение, дайте мне найти какой-нибудь другой выход, который примирил бы вас обоих.
– Ах, государь! – воскликнул я с огорчением. – Зачем принудили вы меня открыть вам свою тайну? Какой выход в состоянии…
– Если я не найду такого, который вас удовлетворит, – прервал он меня, – то вы можете выполнить свой замысел. Я не намерен злоупотребить сделанным вами признанием и не дам в обиду вашей чести: можете быть совершенно спокойны.
Мне мучительно хотелось узнать, какой именно способ собирается избрать король, чтоб уладить это дело мирным путем. Вот как он поступил. Призвав к себе Радзивилла, он сказал ему с глазу на глаз:
– Князь, вы оскорбили дона Помпейо де Кастро. Вам известно, что он человек весьма знатного рода и что я люблю этого кавалера, который служил мне верой и правдой. Вы обязаны дать ему сатисфакцию.
– Я вовсе не намерен ему в этом отказывать, – отвечал князь. – Если он жалуется на мою горячность, то я готов держать перед ним ответ с оружием в руках.
– Тут нужна другая сатисфакция, – сказал король. – Испанский дворянин слишком высоко ставит вопросы чести, чтоб биться благородным способом с подлым убийцей. Я иначе не могу вас назвать, и вы в состоянии искупить свой недостойный поступок только тем, что сами подадите палку вашему врагу и подставите спину под его удары.
– О боже! – воскликнул мой соперник. – Неужели, государь, вы хотите, чтоб человек моего ранга смирился, унизился перед простым кавалером и чтоб он даже позволил избить себя палкой?
– Нет, – возразил король, – я возьму с дона Помпейо слово, что он вас не ударит. Попросите только у него прощения за учиненное над ним насилие и подайте ему трость: это все, что я от вас требую.
– Вы требуете слишком многого, ваше величество! – резко прервал его Радзивилл. – Я предпочитаю подвергнуться всем скрытым опасностям, которые готовит мне его мщение.
– Ваша жизнь мне дорога, – сказал король, – и я не хочу, чтоб это дело имело дурные последствия. Дабы покончить с ним без лишних для вас неприятностей, я один буду свидетелем удовлетворения, которое повелеваю вам дать этому испанцу.
Король должен был употребить всю власть, которой обладал над князем, чтоб добиться от него согласия на это унизительное предложение. Наконец ему удалось уговорить Радзивилла, после чего он послал за мной. Передав мне разговор, который был у него перед тем с моим врагом, он спросил, удовлетворит ли меня достигнутое между ними соглашение. Я ответил утвердительно и дал слово, что не только не ударю обидчика, но даже не приму трости, которую он мне подаст. Спустя несколько дней после этих переговоров я встретился с князем в условленный час у короля, который заперся с нами в кабинете.
– Итак, князь, признайте вашу вину, – сказал король, – и заслужите, чтоб вам ее простили.
Тогда мой противник извинился передо мной и подал мне трость, которую держал в руке.
– Дон Помпейо, – сказал государь, – возьмите эту трость и пусть мое присутствие не помешает вам смыть обиду, нанесенную вашей чести. Освобождаю вас от данного мне слова не бить своего противника.
– Нет, государь, – отвечал я, – вполне достаточно того, что он согласился принять удары: обиженный испанец большего не требует.
– Отлично, – сказал король, – раз это извинение вас удовлетворяет, то теперь вы можете перейти к обычной процедуре. Померяйтесь шпагами и покончите с этой распрей, как полагается дворянам.
– Только этого я и жажду! – резко воскликнул князь. – Ничто другое не способно утешить меня в том, что я совершил столь позорный поступок.
С этими словами он вышел, вне себя от гнева и смущения, и два часа спустя прислал мне сказать, что ждет меня в укромном месте. Я отправился туда и застал этого вельможу готовым биться до последнего издыхания. Ему шел сорок пятый год; он отличался храбростью и ловкостью, а потому можно сказать, что мы были равными противниками.
– Подойдите, дон Помпейо, – сказал он, – покончим с нашей ссорой. Мы оба должны быть в бешенстве: вы от учиненной над вами расправы, я от того, что просил у вас прощения.
Сказав это, князь с такой поспешностью обнажил шпагу, что я не имел времени ему ответить. Сперва он напал на меня весьма ретиво, но я счастливо парировал все его удары. Затем я сам принялся наступать; при этом я заметил, что имею дело с человеком, умеющим так же хорошо нападать, как и обороняться, и уж не знаю, чем бы это кончилось, если б он не поскользнулся при отступлении и не упал навзничь. Я тотчас остановился и сказал:
– Встаньте, князь.
– Зачем вы меня щадите? – возразил он. – Вы наносите мне обиду своим великодушием.
– He желаю пользоваться вашим несчастьем, – отвечал я, – это повредило бы моему доброму имени. Еще раз прошу вас, встаньте и продолжим поединок.
– Дон Помпейо, – сказал он, приподнимаясь, – после столь великодушного поступка честь запрещает мне дольше биться с вами. Что сказали бы обо мне, если б я пронзил вам сердце? Меня почли бы за подлеца, который убил человека, пощадившего его жизнь. Я не вправе больше посягать на ваши дни и чувствую, что под влиянием благодарности прежнее раздражение уступает место сладостному порыву симпатии. Дон Помпейо, – продолжал он, – перестанем ненавидеть друг друга; более того: будем друзьями.
– Ах, князь! – воскликнул я. – С радостью принимаю столь приятное предложение; я готов питать к вам самую искреннюю дружбу и как первое доказательство обещаю, что ноги моей не будет больше у доньи Ортенсии, даже если она того пожелает.
– Напротив, – сказал он, – уступаю вам эту даму; справедливее, чтоб я от нее отказался, так как она и без того питает к вам сердечную склонность.
– Нет, нет, – прервал я его, – вы ее любите! Милости, которые она вздумала бы мне оказать, причинили бы вам огорчение; жертвую ими ради вашего покоя.
– О, великодушнейший кастилец! – воскликнул Радзивилл, сжимая меня в своих объятиях. – Я очарован вашим благородством. Какое раскаяние вызывает оно в моей душе! С какой горечью, с каким стыдом вспоминаю я нанесенное вам оскорбление! Удовлетворение, которое я дал вам в кабинете короля, кажется мне теперь недостаточным. Я хочу еще полнее загладить эту обиду и, чтоб окончательно омыть бесчестье, предлагаю вам руку одной из моих племянниц, которая находится под моей опекой. Это богатая наследница, которой пошел всего пятнадцатый год и которая блистает красотой еще более, чем молодостью.
После этого я с величайшей учтивостью высказал князю, сколь польщен честью с ним породниться, и несколько дней спустя женился на его племяннице. Весь двор поздравлял этого вельможу с тем, что он составил счастье кавалера, которого несправедливо покрыл бесчестьем, а мои друзья радовались вместе со мной благополучному исходу приключения, угрожавшего кончиться печально. С тех пор, сеньоры, я с приятностью проживаю в Варшаве, супруга любит меня, и сам я тоже еще влюблен в нее. Князь Радзивилл ежедневно осыпает меня новыми доказательствами дружбы, и смею похвалиться, что и польским королем я отменно награжден. Важные дела, ради которых я по его приказанию приехал в Мадрид, свидетельствуют об его расположении ко мне.
Глава VIII О неожиданном обстоятельстве, заставившем Жиль Бласа искать новое место
Такова была повесть дона Помпейо, которую я и лакей дона Алехо ухитрились подслушать, несмотря на то, что наши господа предусмотрительно выслали нас из комнаты до того, как он начал свой рассказ. Но вместо того чтоб удалиться, мы притаились за дверью, которую оставили полуоткрытой, и, стоя там, не проронили ни слова из его повествования. Когда он кончил, молодые сеньоры продолжали пить, но не затянули попойки до рассвета, так как дону Помпейо, которому надлежало с утра побывать у первого министра, хотелось перед тем немного поспать. Маркиз Дзенетто и мой господин обняли этого кавалера и, простившись с ним, оставили его у родственника.
На сей раз мы легли спать до восхода солнца. Проснувшись, дон Матео пожаловал меня новой службой.
– Жиль Блас, – сказал он, – возьми бумагу и перо; ты напишешь два или три письма, которые я тебе продиктую. Произвожу тебя в секретари.
«Вот те на! – подумал я про себя, – расширение функций! В качестве лакея я повсюду сопровождаю своего господина, как камердинер помогаю ему одеваться, а как секретарь пишу для него письма. Словом, я буду существовать теперь в трех лицах, наподобие тройственной Гекаты».
– Знаешь ли ты, что я придумал? – продолжал он. – Скажу тебе, но смотри не болтай, а не то поплатишься жизнью. Так вот: мне иногда приходится встречаться с людьми, которые похваляются своими любовными приключениями; чтоб утереть им нос, я хочу носить в кармане подложные письма от разных дам, каковые буду им читать. Это меня немного позабавит, и я перещеголяю тех кавалеров моего круга, которые добиваются любовных побед только ради удовольствия их разгласить, тогда как я буду разглашать те, которые не трудился одерживать. Постарайся только, – добавил он, – так изменить свой почерк, чтоб цыдульки казались написанными разной рукой.
После этого я взял бумагу, перо и чернила и приготовился исполнить приказание дона Матео, который сначала продиктовал мне следующую любовную записку:
«Вы не пришли на свидание сегодня ночью. Ах, дон Матео, что скажете Вы в свое извинение? Сколь я обманулась! Сколь наказана Вами за тщеславные свои мысли, будто должны вы бросить все удовольствия и все дела на свете ради счастья видеть донью Клару де Мендоса!»
После этой записки заставил он меня написать другую от имени особы, жертвовавшей ради него принцем, и, наконец, третью, в которой одна сеньора выражала желание совершить с ним путешествие на Киферу, если он обещает сохранить это в тайне. Но дон Матео не удовольствовался тем, что продиктовал мне столь прелестные письма, а приказал еще подписать их именами знатных сеньор. Я не смог удержаться от замечания, что нахожу это не особенно деликатным, но он попросил меня давать ему советы только тогда, когда он сам их попросит. Пришлось замолчать и исполнить его приказание. Покончив с диктовкой, он встал, и я помог ему одеться. Затем он сунул письма в карман и вышел из дому. Я последовал за ним, и мы отправились обедать к дону Хуану де Монкада, который потчевал в этот день пять или шесть кавалеров из числа своих приятелей.
Это было обильное пиршество, и веселье – лучшая приправа для таких празднеств – царило во время трапезы. Все гости принимали участие в оживлении беседы, одни своими шутками, другие рассказами, героями которых они сами являлись. Мой господин не упустил столь благоприятного случая щегольнуть письмами, написанными мною по его приказу. Он прочел их вслух и при этом с таким внушительным видом, что, пожалуй, все, за исключением его секретаря, попались на эту удочку. В числе кавалеров, присутствовавших при этом бесстыдном чтении, находился один, которого звали дон Лопе де Веласко. Он был человеком весьма степенным и, вместо того чтоб подобно остальным забавляться мнимыми любовными успехами чтеца, спросил его холодно, больших ли усилий стоила ему победа над доньей Кларой.
– Ровно никаких, – отвечал дон Матео, – эта сеньора сама сделала все авансы. Она видит меня на прогулке. Я ей нравлюсь. За мной следуют по ее приказаниям. Узнают, кто я такой. Она мне пишет и назначает свидание у себя в такой час ночи, когда весь дом спит. Я являюсь; меня вводят в ее покой… Скромность запрещает мне рассказать вам остальное.
Во время этого лаконичного рассказа на лице сеньора Beласко отразилось сильное волнение. Нетрудно было приметить, какое участие принимал он в упомянутой даме.
– Все любовные записки, которыми вы хвалитесь, сплошная фальсификация, – сказал он, с яростью глядя на моего господина, – и во всяком случае та, которую вы якобы получили от доньи Клары де Мендоса. Во всей Испании не сыщется более строгой девицы, чем она. Уже два года, как один кавалер, не уступающий вам ни знатностью рода, ни личными достоинствами, прилагает все усилия, чтоб добиться ее благосклонности. Насилу разрешила она ему самые невинные вольности; но зато он смеет льстить себя тем, что будь она способна пойти дальше, то не удостоила бы своими милостями никого другого, кроме него.
– А кто же утверждает противное? – насмешливо прервал его дон Матео. – Согласен с вами, что она весьма честная девица. Со своей стороны, и я весьма честный малый. А потому вы можете быть уверены, что ничего нечестного между нами не произошло.
– Ну, это уж слишком! – в свою очередь прервал его дон Лопе. – Прошу вас оставить насмешки. Вы – клеветник. Никогда донья Клара не назначала вам ночью никакого свидания. Я не потерплю, чтоб вы порочили ее репутацию. Мне тоже скромность не позволяет договорить вам остальное.
С этими словами он повернулся спиной ко всей компании и удалился. Я заключил по его виду, что эта история может привести к самым дурным последствиям, но мой господин, который был достаточно храбр для сеньора своего пошиба, отнесся с презрением к угрозам дона Лопе.
– Экий глупец! – воскликнул он расхохотавшись. – Странствующие рыцари оружием доказывали красоту своей дамы, а он пытается доказать ее целомудрие: это представляется мне еще большим сумасбродством.
Уход дона Веласко, которому Монкада тщетно пытался воспротивиться, не нарушил пиршества. Кавалеры, не обратив особого внимания на это происшествие, продолжали развлекаться и расстались, когда забрезжила заря. Мой господин и я легли спать около пяти часов утра. Меня сильно клонило ко сну, и я собирался основательно выспаться, но расчет сей сделан был без хозяина или, вернее, без нашего привратника, который разбудил меня час спустя, сообщив, что какой-то мальчик дожидается у дверей и хочет меня видеть.
– Ax, чертов привратник! – воскликнул я зевая. – Разве ты не знаешь, что я только что лег? Скажи этому мальчику, чтоб он зашел попозже.
– Он хочет, – возразил тот, – переговорить с вами немедленно и уверяет, что дело спешное.
После этих слов я встал и, натянув только штаны и камзол, отправился с бранью туда, где ожидал меня мальчик.
– Скажите, любезный, – спросил я его, – что это за неотложное дело, которое доставляет мне удовольствие видеть вас в столь ранний час?
– Я принес письмо, – отвечал он, – которое должен передать в собственные руки сеньора дона Матео; необходимо, чтобы он теперь же его прочел; это для него очень важно; прошу вас проводить меня в его опочивальню.
Решив, что дело серьезное, я взял на себя смелость разбудить своего господина.
– Не прогневайтесь, – сказал я дону Матео, – что позволяю себе нарушить ваш покой, но важность…
– Что тебе нужно? – прервал он сердито.
– Сеньор, – сказал тогда сопровождавший меня мальчик, – мне поручено передать вам письмо от дона Лопе де Веласко.
Мой господин взял письмо, раскрыл его и, прочитав, обратился к слуге дона Лопе:
– Дитя мое, я никогда не встаю раньше полудня, какое бы развлечение меня ни ожидало; посуди сам, встану ли я для того, чтобы драться. Можешь сказать своему господину, что если в половине первого он еще будет в том месте, где хотел меня поджидать, то мы там увидимся. Передай ему мой ответ.
С этими словами он уткнулся в подушки и не преминул снова заснуть. Встав в двенадцатом часу, он спокойно оделся и вышел из дому, освободив меня от обязанности сопровождать его. Но мне слишком любопытно было узнать, чем все это для него кончится, а потому я не послушался. Последовав за ним до Луга св. Иеронима, я заметил дона Лопе де Веласко, который поджидал его там с самым решительным видом. Я спрятался, чтоб наблюдать за обоими, и вот что мне пришлось издали увидать. Не успели они встретиться, как тотчас же окрестили шпаги. Поединок длился долго. Они поочередно нападали друг на друга с большой ловкостью и настойчивостью. Однако же победа оказалась на стороне дона Лопе: он проткнул моего господина, тот упал, а сам он кинулся бежать, весьма довольный тем, что так удачно отомстил. Я бросился к несчастному дону Матео, который лежал уже без сознания и почти без признаков жизни. Зрелище это меня расстроило, и я не смог удержаться, чтоб не оплакать смерти, коей сам без умысла содействовал. Несмотря, однако, на свою скорбь, я не позабыл о своих личных делишках. Ничего никому не сказав, поспешил я в палаты дона Матео и собрал в узел свои пожитки, прихватив нечаянно кое-что из одежды моего господина. Затем я отнес все это к цирюльнику, у которого еще хранилось платье, служившее мне для любовных похождений, и принялся трезвонить по всему городу про скорбное происшествие, коего был свидетелем. Я рассказывал о нем всем, кому не лень было слушать, и не преминул, разумеется, оповестить также Родригеса. Он, казалось, не очень огорчился, озабоченный теми мерами, которые ему надлежало принять по этому случаю.
Созвав всю прислугу, приказал он ей следовать за ним, и мы гурьбой отправились к Лугу св. Иеронима. Там мы подняли дона Матео, который все еще дышал, и отнесли его домой, где он скончался спустя три часа.
Так погиб сеньор Матео де Сильва за то, что позволил себе некстати прочитать вымышленные любовные цыдульки.
Глава IX У какой особы довелось служить Жиль Бласу после смерти дона Матео де Сильва
Спустя несколько дней после похорон дона Матео все слуги получили расчет и были уволены. Я переселился к цирюльнику и зажил с ним в тесной дружбе. Мне казалось, что я буду проводить у него время с большей приятностью, чем у Мелендеса. Не испытывая нужды в деньгах, я не торопился искать новое место. К тому же я сделался на этот счет весьма привередлив: мне хотелось служить только у знатных господ, да и то я решил наводить сначала тщательные справки о кондициях, которые мне предложат. Я считал, что нет такого места, которое было бы слишком хорошо для меня, настолько, по моему мнению, лакей молодого сеньора стоял выше прочих лакеев.
В ожидании того, что Фортуна пошлет мне службу, достойную моей персоны, я решил посвятить свои досуги прекрасной Лауре, которой не видал с того самого дня, как мы разоблачили друг друга. Я не смел нарядиться доном Сесаром де Ривера; платье это было пригодно только для мистификации, и всякий почел бы меня в нем за сумасбродного человека. Но помимо того, что собственная моя одежда была еще довольно опрятна, я обладал также изрядной обувью и шляпой. А потому, принарядившись с помощью цирюльника так, чтоб походить на нечто среднее между доном Сесаром и Жиль Бласом, я отправился в дом Арсении и застал Лауру одну в той самой горнице, где с ней однажды уже беседовал.
– Ах, это вы! – воскликнула она, увидав меня. – Я думала, что вы совсем пропали. Вот уже семь или восемь дней, как я позволила вам приходить ко мне: вижу, что вы не злоупотребляете милостями, которыми дамы вас награждают.
Я сослался в свое извинение на смерть дона Матео и на дела, которыми был занят, не забыв учтиво присовокупить, что и среди моих забот образ любезной Лауры не переставал витать передо мной.
– Коли так, – сказала она, – то не стану вас больше попрекать и признаюсь, что также думала о вас. Когда я узнала про несчастье с доном Матео, то пришла мне на ум одна мысль, которая, быть может, понравится и вам. Моя госпожа уже давно говорит, что нужен ей человек вроде управителя, чтоб знал он экономию и вел бы счет деньгам, которые ему отпустят на расходы по дому. Я и подумала о вашей милости; мне кажется, что вы отлично справитесь с этой должностью.
– Думаю, – отвечал я, – что справлюсь с ней как нельзя лучше. Я читал аристотелево «Домостроительство», а что до счетоводства, то это мой конек… Однако, дитя мое, – добавил я, – есть одна преграда, которая возбраняет мне поступить к Арсении.
– Какая же преграда? – опросила Лаура.
– Я дал обет никогда больше не служить у мещан; я дажe поклялся в том самим Стиксом [77] . Коли Юпитер не смел нарушить этой клятвы, то судите сами, сколь обязательна она для лакея.
– А кто это, по-твоему, мещане? – гордо воскликнула субретка. – За кого принимаешь ты артисток? Не равняешь ли ты их с женами адвокатов или стряпчих? Знай, друг мой, что артисток надо почитать за благородных, даже за сверхблагородных, по причине их любовных связей со знатными вельможами.
– Раз дело обстоит так, моя инфанта, то я могу принять место, которое вы мне предназначаете, и это не будет для меня предосудительным.
– Отнюдь нет, – отвечала она, – перейти от петиметра к театральной диве – это значит остаться в том же кругу. Мы стоим на равной ноге с дворянами. У нас такие же экипажи, как у них, такой же роскошный стол, и по существу в обиходной жизни между нами не следует делать никакого различия. Действительно, – добавила она, – если сравнить, как проводят свой день маркиз и комедиант, то разница будет не так уж велика. Если три четверти дня маркиз стоит по своему положению выше комедианта, то зато в остальную четверть комедиант возвышается над маркизом, играя императоров и королей. А это, как мне кажется, заменяет актерам родовитость и ранг и равняет их с придворными.
– Действительно, – заметил я, – вы стоите на одном и том же уровне. Оказывается, черт подери, что актеры вовсе не такая шваль, как я думал, и вы возбудили во мне великую охоту служить у этих приличных людей.
– В таком случае, – отвечала она, – приходи сюда дня через два. Мне удастся к тому времени убедить свою госпожу, чтоб она тебя взяла. Я замолвлю за тебя словечко, и так как имею на нее влияние, то уверена, что ты к нам поступишь.
Поблагодарив Лауру за хорошее отношение, я заверил ее, что преисполнен величайшей признательности, и засвидетельствовал ей свои чувства с таким пылом, что у нее не могло быть на этот счет никаких сомнений. Наша беседа продолжалась довольно долго и, вероятно, затянулась бы еще, если бы не пришел мальчик-слуга и не заявил моей принцессе, что Арсения требует ее к себе. Пришлось расстаться. Я ушел от артистки со сладостной надеждой быть вскоре допущенным к высочайшему столу и не преминул вернуться туда через два дня.
– Я поджидала тебя, – сказала мне наперсница, – могу тебе сообщить, что ты будешь нашим домочадцем. Ступай за мной, я представлю тебя своей госпоже.
С этими словами отвела она меня в апартаменты, которые состояли из пяти или шести горниц, расположенных анфиладой и меблированных одна богаче другой.
Какая роскошь! Какое великолепие! Я вообразил себя у вице-королевы или, лучше сказать, мне показалось, что я вижу все сокровища мира, собранные в одном месте. Действительно, там были представлены всевозможные страны, и эти покои можно было назвать храмом богини, куда каждый путешественник приносил в дар какую-нибудь редкость из своей земли. Сама же богиня восседала на большой атласной подушке. Я нашел ее очаровательной и окруженной дымом жертвоприношений. На ней был элегантный пеньюар, а своими прекрасными руками она мастерила новый головной убор, в котором хотела в тот день выступить в театре.
– Сеньора, – сказала субретка, – вот эконом, о котором я вам говорила; смею уверить, что трудно сыскать более подходящего человека.
Арсения оглядела меня весьма внимательно, и я имел счастье ей понравиться.
– Ай да Лаура! – воскликнула она. – Какой смазливый мальчик! Думаю, что мы с ним уживемся.
Затем, обращаясь ко мне, она добавила:
– Вы мне подходите, дитя мое. Скажу вам только одно: если я буду вами довольна, то и вы будете довольны мной.
Я отвечал, что приложу все усилия, чтобы ей угодить. Убедившись в том, что мы договорились, я тотчас же отправился за своими пожитками и вернулся назад, чтоб устроиться в этом доме.
Глава X, которая не длиннее предыдущей
Приближалось время спектакля, и моя госпожа приказала мне и Лауре проводить ее в театр. Мы прошли в ее уборную, где она скинула городское платье и надела другое, более великолепное, в котором собиралась выступить на сцене. Как только началось представление, Лаура провела меня в такое место, откуда я мог отлично видеть и слышать актеров, а сама поместилась подле меня. Большинство исполнителей мне не понравились, быть может, потому, что дон Помпейо внушил мне против них предубеждение. Тем не менее некоторым из них аплодировали, в том числе и таким, которые напомнили мне басню о поросенке.
Лаура называла мне имена актеров и актерок, по мере того как они выступали перед нами. Но этим она не ограничилась: каждому из них давала эта ехида меткие характеристики.
– У этого, – говорила она, – в голове солома, а тот – редкостный нахал. Видите ли вы вон ту милашку, у которой больше бесстыдства, чем грации? Ее зовут Росарда: неважное приобретение для нашего общества! Этаких следовало бы посылать в труппу, которую набирают сейчас по приказу вице-короля Новой Испании и на днях отправят в Америку [78] . Взгляните-ка на это лучезарное светило, на это заходящее солнышко! Ее зовут Касильда. Если бы с тех пор, как завелись у нее любовники, брала она с каждого по одному тесаному камню для постройки пирамиды, – как это сделала некогда одна египетская принцесса [79] , – то возвела бы такое сооружение, которое дошло б, пожалуй, до седьмого неба.
Словом, Лаура всем перемыла косточки. Ах, злой язычок! Она не пощадила даже собственной госпожи.
Признаюсь, однако, в своей слабости; я был пленен прелестной субреткой, хотя она и не отличалась моральными качествами. Но Лаура так мило злословила, что я восхищался даже ее язвительностью. В антрактах она выходила, чтоб узнать, не нуждается ли Арсения в ее услугах; но вместо того, чтоб тотчас же вернуться на свое место, она слушала за сценой комплименты мужчин, которые за ней увивались. Я даже раз вышел, чтоб понаблюдать за ней, и заметил, что у нее весьма обширное знакомство. Так, я насчитал трех актеров, которые один за другим остановили ее, чтоб о чем-то поговорить, и мне показалось, что они обращаются с ней крайне фамильярно. Это мне не понравилось, и я впервые в жизни испытал, что такое ревность. Я вернулся на свое место в такой задумчивости и грусти, что Лаура, вскоре пришедшая туда же, тотчас это приметила.
– Что с тобой, Жиль Блас? – спросила она удивленно. – С чего это напала на тебя такая черная меланхолия после моего ухода? Ты мрачен и печален.
– Не без причины, моя принцесса, – отвечал я, – вы ведете себя чересчур бойко. Я только что видел, как вы с комедиантами…
– Хороша причина для грусти! – прервала она меня, заливаясь хохотом. – Как? Это тебя огорчает? Ну, знаешь, мой милый, ты не испил еще чаши до дна: тебе много кой-чего придется увидать между нами, актерами. Ты должен привыкнуть к вольному обращению. Брось свою ревность, дитя мое! В актерской среде ревнивцев почитают за простофиль; а потому они почти совсем перевелись. Отцы, мужья, братья, дяди и кузены – самые покладистые люди на свете; порой они даже самолично заботятся о том, чтоб пристроить нашу сестру в хорошие руки.
Лаура долго увещевала меня, чтоб я ни к кому ее не ревновал и ко всему относился спокойно, и наконец объявила, что я – тот счастливый смертный, который нашел путь к ее сердцу. Затем она поклялась, что никого, кроме меня, никогда не полюбит. В ответ на эти уверения, в которых можно было усомниться, даже не будучи сугубым скептиком, я обещал больше не тревожиться и действительно сдержал слово. В тот же вечер мне пришлось наблюдать, как она в уголках судачила и смеялась с мужчинами.
По окончании спектакля мы проводили нашу госпожу домой, куда вскоре приехала ужинать Флоримонда в сопровождении трех престарелых сеньоров и одного актера. Помимо меня и Лауры, челядь этого дома состояла из поварихи, кучера и мальчика. Все мы впятером принялись готовить ужин. Повариха, не уступавшая в искусстве сеньоре Хасинте, принялась вместе с кучером стряпать мясные кушанья. Камеристка и мальчик накрыли на стол, а я расставил на поставце прекрасные серебряные блюда и несколько золотых сосудов, также поднесенных в дар богине этого храма. Украсив поставец бутылками различнейших вин, я взял на себя роль кравчего, для того чтоб показать своей госпоже, что я мастер на все руки.
За ужином я подивился на обхождение артисток: они разыгрывали знатных дам и воображали себя персонами первого ранга. Не только не величали они сеньоров «сиятельствами», но даже не жаловали их «вашей милостью», а называли просто по именам. Правда, эти вельможи сами их избаловали и потворствовали их спеси, обращаясь с ними слишком фамильярно. Актер, привыкший играть героев, также держал себя в этом обществе весьма развязно; он провозглашал тосты за здоровье сеньоров и чуть ли не председательствовал за столом.
«Ах ты черт! – подумал я про себя. – Лаура доказывала мне, что в течение дня актер не уступит маркизу; она могла бы сказать это еще с большим правом относительно ночи, так как они проводят ее, выпивая вместе».
Арсения и Флоримонда были от природы веселого нрава. Кокетничая и позволяя гостям легкие вольности, они так и сыпали игривыми шуточками, которые старые грешники смаковали с превеликим удовольствием. Пока моя госпожа развлекала одного из них невинными шалостями, ее подруга, сидевшая между двумя другими сеньорами, отнюдь не разыгрывала из себя целомудренной Сусанны.
В то время как я присматривался к этому зрелищу, достаточно соблазнительному для взрослого юноши, подали десерт. Тогда я поставил на стол бутылки с напитками и бокалы, а сам удалился, чтоб поужинать с Лаурой, которая меня поджидала.
– Ну, Жиль Блас, – спросила она, – что ты думаешь о вельможах, которых только что видел?
– Это, должно быть, обожатели Арсении и Флоримонды, – отвечал я.
– Ничуть не бывало, – возразила она, – это старые сластолюбцы, которые навещают прелестниц, но не заводят амуров. Они довольствуются легкими вольностями и щедро платят за те безделицы, которые им позволяют. Слава богу, ни у Флоримонды, ни у моей госпожи сейчас нет любовников, я хочу сказать, таких любовников, которые корчат из себя супругов и хотят одни срывать все удовольствия только потому, что несут все расходы. Что касается меня, то я этому весьма рада и утверждаю, что разумная прелестница должна избегать подобных связей. К чему надевать на себя ярмо? Лучше копить грош за грошем на обстановку и туалеты, чем получить их сразу такою ценой.
Лауре не приходилось лазить за словом в карман, когда она болтала, – а болтала она почти беспрерывно. Боже, какая речистая особа! Она сообщила мне тысячи происшествий, приключившихся с актерами Принцева театра, и из ее рассказов я заключил, что не мог бы найти лучшего места, чтоб познакомиться с пороками. К несчастью, я был еще в том возрасте, когда они не внушают омерзения, и к тому же субретка изображала распутство в таких привлекательных красках, что я не усматривал в нем ничего, кроме удовольствия. Она не успела рассказать мне и десятой части всех похождений актерок, так как проговорила всего лишь три часа, а к тому времени сеньоры и комедиант собрались уезжать вместе с Флоримондой, которую хотели проводить домой.
Как только они вышли, Арсения дала мне денег и сказала:
– Вот вам, Жиль Блас, десять пистолей, чтобы завтра утром сходить за провизией. У меня будут обедать человек пять-шесть из наших кавалеров и дам; постарайтесь, чтоб было хорошее угощение.
– Сеньора, – отвечал я, – на эти деньги я берусь угостить хоть всю актерскую банду вашего театра.
– Друг мой, – сказала она, – прошу вас изменить свои выражения: надо говорить «общество», а не «банда». Можно сказать, «разбойничья банда», «нищая банда», «писательская банда», но знайте, что про нас следует говорить «общество актеров» [80] ; особенно мадридские актеры заслуживают того, чтоб их корпорацию называли обществом.
Я извинился перед своей госпожой за то, что позволил себе столь непочтительное выражение, и нижайше просил ее простить мне мое невежество. При этом я обещал, что если мне придется говорить о мадридских комедиантах вкупе, то буду впредь именовать их не иначе, как обществом.
Глава XI О том, как жили между собой актеры и как они обращались с сочинителями
Итак, на следующее утро я принялся за дело и приступил к обязанностям эконома. День был постный, но, по приказанию своей госпожи, я накупил хороших жирных цыплят, кроликов, куропаток и разной мелкой птицы. Поскольку господа комедианты были не слишком довольны тем, как жаловала их церковь, то и не соблюдали набожно всех ее уставов. Я принес домой больше съестного, чем потребовалось бы дюжине порядочных людей, чтоб как следует провести все три дня карнавала. Поварихе хватило работы на целое утро. Пока она готовила обед, Арсения встала и до полудня занималась туалетом. Тут подошли двое актеров, господа Росимиро и Рикардо. После них явились актрисы Констансия и Селинаура, а минуту спустя Флоримонда в сопровождении человека, которого можно было принять за какого-нибудь «сеньора кавальеро» из числа самых элегантных. У него была изящная прическа, шляпа украшена пучком коричневых перьев, штаны сильно в обтяжку, а сквозь прорезы камзола виднелась рубашка из тонкого полотна с великолепными кружевами. Перчатки и носовой платок были продеты сквозь эфес шпаги, а епанчу он носил с особенной изысканностью.
Хотя он был статен и недурен лицом, однако я с первого же взгляда заметил в нем нечто странное.
«Этот кавалер, наверное, большой чудак», – подумал я про себя.
Действительно, я не ошибся: он был необычайной личностью. Войдя в покои Арсении, он бросился обнимать поочередно актеров и актрис еще с большей экспансивностью, чем принято у петиметров. Я не изменил своего мнения о нем и тогда, когда он заговорил. Он делал ударение на каждом слоге и произносил слова в напыщенном тоне, сопровождая свою речь соответствующими жестами и взглядами. Я полюбопытствовал спросить у Лауры, что это за кавалер.
– Считаю твое любопытство извинительным, – сказала она. – Нельзя впервые увидать и услыхать сеньора Карлоса Алонсо де ла Вентолерия и не испытать того же желания, что и ты. Я опишу его тебе таким, каков он есть [81] . Во-первых, этот человек был прежде актером. Он покинул театр из прихоти и впоследствии раскаялся в этом из благоразумия. Обратил ли ты внимание на его черные волосы? Они у него крашеные, равно как усы и брови. Он старее Сатурна, но так как его родители не отметили в приходской книге дату его рождения, то он пользуется их небрежностью и говорит, что ему чуть ли не на двадцать лет меньше, чем есть на самом деле. К тому же нет в Испании человека более самовлюбленного, чем он. Первые шестьдесят лет своей жизни он провел в глубоком невежестве; но затем, чтоб стать ученым, он взял наставника, который научил его маракать по-гречески и по-латыни. Кроме того, сеньор де ла Вентолерия знает наизусть кучу всяких анекдотов, которые он столько раз приписывал собственной изобретательности, что в конце концов и сам тому поверил; он приводит их в разговоре, и можно сказать, что остроумие его блещет за счет памяти. Говорят, впрочем, что он великий актер. Я готова этому свято верить, но признаюсь тебе, что мне он совсем не нравится. Несколько раз мне приходилось слышать, как он декламирует, и в числе прочих недостатков я нахожу, что у него слишком много претенциозности, да к тому же дрожит голос, а это придает исполнению что-то допотопное и смехотворное.
Так обрисовала мне субретка почтенного гистриона, и действительно, я не видал ни одного смертного, который держал бы себя надменнее, чем он. К тому же сеньор де ла Вентолерия корчил из себя краснобая. Он не преминул извлечь из своего запаса два-три рассказца, каковые преподнес с импозантным и заранее заученным видом. Со своей стороны, актеры и актерки тоже пришли не для того, чтоб молчать, а потому не остались в долгу. Они принялись без всякой пощады судачить насчет отсутствующих товарищей. Впрочем, ни актерам, ни сочинителям этого не следует ставить в вину. Таким образом завязался оживленный разговор, направленный против ближнего.
– Вы не знаете, сударыня, какую новую штуку выкинул наш любезный собрат Сесарино, – сказал Росимиро. – Он накупил сегодня утром шелковых чулок, бантов и кружев, которые приказал доставить к себе на дом через пажа, как бы от имени некоей графини.
– Что за плутовство! – заметил сеньор де ла Вентолерия, улыбаясь с фатоватым и спесивым видом. – В мое время люди были честнее, мы не помышляли о подобных баснях. Правда, знатные дамы избавляли нас от таких выдумок; они сами делали эти покупки: такова была их прихоть.
– Черт возьми! – воскликнул в том же тоне Рикардо. – Они и по сие время не бросили этой прихоти, и если б было позволено распространиться на эту тему… но о таких приключениях надлежит молчать, в особенности когда замешены особы известного ранга.
– Ради бога, господа, – прервала их Флоримонда, – перестаньте говорить о своих любовных победах: они известны всему свету. Потолкуем об Исмене. Говорят, что от нее ускользнул сеньор, который так щедро на нее тратился.
– Да, это верно, – воскликнула Констансия, – и скажу вам в придачу, что она, кроме того, теряет одного дельца, которого, безусловно, разорила бы. Я знаю это из первоисточника. Ее посредница дала маху: она отнесла сеньору цыдульку, предназначенную для дельца, а дельцу ту, которая была адресована сеньору.
– Две больших потери, душечка, – заметила Флоримонда.
– Что касается сеньора, – возразила Констансия, – то она незначительна: этот кавалер уже проел почти все свое состояние. Но делец только что начал выступать на этом поприще: он не успел еще пройти через руки забавниц, и Исмене есть о чем пожалеть.
Они разговаривали на сходные темы до самого обеда и продолжали беседовать в том же духе, когда сели за стол. Я никогда не кончу, если возьмусь передать все те разговоры, полные злословия или фатовства, которые мне пришлось услышать, а потому читатель разрешит мне опустить их, чтоб описать, как приняли одного беднягу-сочинителя, явившегося к Арсении под конец обеда.
Вошел наш юный лакей и громко доложил госпоже:
– Сеньора, вас спрашивает какой-то человек в грязном белье, замызганный с головы до пят и, с вашего позволения, сильно смахивающий на поэта.
– Пусть войдет, – ответила Арсения. – Не трудитесь вставать, сеньоры; это – сочинитель.
Действительно, это был автор принятой к постановке трагедии, принесший роль для моей госпожи. Его звали Педро де Мойа. При входе он отвесил присутствующим пять-шесть глубоких поклонов, но никто из них не привстал и не поздоровался с ним. Арсения ответила простым кивком головы на приветствия, которыми тот ее осыпал. Поэт вступил в столовую со страхом и смущением и при этом уронив перчатки и шляпу. Подняв их, он подошел к моей госпоже и поднес ей роль с большим почтением, нежели проситель, подающий судье челобитную.
– Прошу вас, сеньора, – сказал он ей, – принять от меня роль, которую беру на себя смелость вам поднести.
Она приняла список холодно и презрительно, не удостоив даже ответить на любезности сеньора де Мойа.
Это нисколько не обескуражило нашего автора, и он воспользовался случаем передать остальные роли Росимиро и Флоримонде, которые обратили на него не больше внимания, чем Арсения. Напротив, актер принялся отпускать на его счет колкие насмешки, хотя был обходителен от природы, как большинство этих господ. Педро де Мойа понял их, но не посмел ответить актеру из боязни повредить постановке. Он удалился молча, и, как мне показалось, глубоко задетый оказанным ему приемом. Полагаю, что, обуреваемый досадой, он не преминул обругать в душе актеров так, как они того заслуживали; а те, как только он вышел, принялись, в свою очередь, столь же почтительно отзываться об авторах.
– Мне кажется, – сказала Флоримонда, – что сеньор Педро де Мойа вышел отсюда не особенно довольный.
– Есть о чем беспокоиться, сударыня! – воскликнул Росимиро. – Стоит ли обращать внимание на авторов? Я хорошо знаю этих господчиков: они обладают свойством быстро забывать. Надо и впредь обращаться с ними, как с рабами, и нечего бояться, что их терпение лопнет. Если полученные обиды иногда удаляют от нас писателей, то страсть к сочинительству гонит их обратно, и они еще должны почитать за великое счастье, что мы соглашаемся играть их пьесы.
– Вы правы, – сказала Арсения, – нас покидают только те авторы, которых мы обогащаем. Как только мы их облагодетельствовали, так они начинают благодушествовать и перестают работать. К счастью, театры находят других и публика от этого не страдает.
Эти прелестные рассуждения встретили всеобщее сочувствие, и таким образом вышло, что авторы, несмотря на дурное обращение со стороны актеров, все же оказывались у них в долгу. Наши гистрионы ставили их ниже себя, что действительно было высшим пренебрежением, какое можно было им оказать.
Глава XII Жиль Блас входит во вкус театра; он отдается наслаждениям актерской жизни, но вскоре получает к ней отвращение
Гости просидели за столом, пока не пришло время идти в театр, куда все общество и направилось. Я последовал за ними и в тот день снова смотрел представление, доставившее мне такое удовольствие, что я решил ходить туда ежедневно. Так я и поступил и незаметно для себя примирился с актерами. Дивитесь силе привычки! Больше всего восхищали меня те, которые усиленно кричали и жестикулировали на сцене, а я был далеко не единственным, обладавшим подобным вкусом.
Но не только манера игры, а также и качество пьес оказывали на меня свое влияние. От некоторых из них я был в восторге; в особенности же от тех, где на сцену выходили сразу все кардиналы или все двенадцать пэров Франции. Я запоминал отрывки этих бесподобных произведений. Помню, что я в два дня выучил наизусть целую пьесу, озаглавленную «Царица цветов». Роза изображала царицу, ее наперсницей была Фиалка, а конюшим Жасмин. Я принимал эти пьесы за гениальнейшие творения, и мне казалось, что они приносят великую славу духу нашей нации.
Я не довольствовался тем, что обогащал память прекраснейшими отрывками из этих драматических шедевров, но всячески старался усовершенствовать свой вкус. Для того чтоб вернее достигнуть означенной цели, я прислушивался с жадным вниманием ко всему, что говорили актеры. Я одобрял те пьесы, которые они хвалили, и порицал те, которые они считали плохими. Мне казалось, что они так же хорошо разбираются в театральных произведениях, как ювелиры в алмазах. Однако трагедия Педро де Мойа имела огромный успех, хотя они предрекали ей провал. Но это не опорочило в моих глазах их суждений, и я предпочитал считать публику бестолковой, чем усомниться в непогрешимости лицедеев. Меня со всех сторон заверяли, что обычно аплодируют тем новым пьесам, которые не понравились актерам, и, напротив, освистывают те, которые они одобряют. Мне также сообщили, что у них вошло в обычай дурно судить о пьесах, и перечислили множество удачных постановок, не оправдавших их суждений. Только после всех этих доказательств у меня открылись глаза.
Никогда не забуду того, что произошло однажды на премьере новой комедии. Актеры нашли ее холодной и скучной; они даже говорили, что едва ли удастся довести ее до конца. В этом убеждении они сыграли первый акт, во время которого им много аплодировали. Это их удивило. Они сыграли второй; публика приняла его еще лучше, чем первый. Вот мои актеры в полном недоумении!
– Какого черта! – воскликнул Росимиро. – Пьеса-то клюет.
Наконец они исполнили третий акт, который понравился еще больше.
– Ничего не понимаю, – сказал Росимиро, – мы думали, что вещь провалится, а смотрите, какое она доставила всем удовольствие!
– Господа, – весьма наивно выпалил один из актеров, – дело в том, что в пьесе много острот, которых мы не поняли. [82]
После всего этого я перестал считать актеров хорошими судьями и оценил их по достоинству. Они вполне оправдывали те смешные черты, которые приписывали им в обществе. Я знал актерок и актеров, избалованных аплодисментами и воображавших, что они оказывают зрителям великую милость своим выступлением, так как почитали себя особами, достойными поклонения. Мне претили их пороки, но, к сожалению, этот образ жизни пришелся мне слишком по вкусу и я погряз в беспутстве. Да и мог ли я устоять? Ведь все рассуждения, которые я от них слышал, были гибельными для юношества и только способствовали моему совращению. Если бы я даже не знал того, что происходит у Касильды, у Констансии и у других актерок, то одного дома Арсении было вполне достаточно, чтобы меня испортить. Помимо пожилых сеньоров, уже мною упомянутых, туда хаживали барчуки-петиметры, которым ростовщики давали возможность сорить деньгами. Иногда там принимали также откупщиков, причем они не только не получали денег за свое присутствие, как это водится у них на заседаниях, а, напротив, сами платили за право туда являться.
Флоримонда, жившая в одном из соседних домов, ежедневно обедала и ужинала у Арсении. Соединившие их узы поражали очень многих. Люди удивлялись тому, как может царить такое доброе согласие между двумя публичными забавницами, и предполагали, что они рано или поздно поссорятся из-за какого-нибудь кавалера; но они плохо знали этих идеальных подруг: то была прочная дружба. Вместо того чтоб ревновать друг к другу подобно остальным женщинам, они все делали сообща, предпочитая делить между собой добычу, отнятую у мужчин, чем глупо ссориться из-за воздыхателей.
Лаура брала пример с этих прославленных компаньонок и тоже пользовалась счастливыми деньками. Она правильно предсказала, что мне придется насмотреться разных вещей. Но я уже не разыгрывал ревнивца: ведь я обещал подчиниться в этом отношении духу актерской компании. В течение нескольких дней я скрывал свои чувства и довольствовался тем, что спрашивал у нее фамилии мужчин, с которыми заставал ее в особенно интимной беседе. Но она всякий раз отвечала, что те приходились ей кто дядей, кто кузеном. Сколько у нее было родственников! По-видимому, эта семейка превосходила численностью потомство царя Приама [83] . Однако субретка не ограничивалась ни дядями, ни кузенами; иногда она отправлялась еще ловить иностранцев и разыгрывать знатную вдову у славной старушки, о которой я говорил. Словом, Лаура – чтоб дать читателю верное и точное о ней представление – была столь же молода, столь же красива и столь же кокетлива, как и ее госпожа, которая имела над ней только то преимущество, что публично развлекала публику.
В течение трех недель я не противился течению и отдавался всем видам сластолюбия. Все же должен сказать, что среди удовольствий я часто испытывал угрызения совести, вызванные моим воспитанием и подмешивавшие горечь к наслаждениям. Но распутство не восторжествовало над этими угрызениями; напротив, они увеличивались по мере того, как я становился беспутнее, и благодаря моей счастливой натуре беспорядочная актерская жизнь начала внушать мне отвращение.
«Ах, жалкая тварь, – говорил я сам себе, – вот как ты оправдываешь родительские надежды! Разве недостаточно того, что ты обманул их, не став учителем? Разве твоя лакейская должность мешает тебе жить, как подобает честному человеку? Пристало ли тебе путаться с такими развратниками? У одних царят зависть, злоба и скупость, другие отрешились от стыда; эти отдались невоздержанности и лени, гордость тех доходит до наглости. Довольно, не желаю жить дольше среди семи смертных грехов».
Книга четвертая
Глава I Жиль Блас, не будучи в состоянии привыкнуть к актерским нравам, покидает службу у Арсении и находит более пристойную кондицию [84]
Остаток порядочности и религиозности, все еще сохраненный мною среди распутных нравов, побудил меня не только покинуть Арсению, но даже порвать всякие отношения с Лаурой, которую я продолжал любить, хотя и знал про ее многочисленные измены. Счастлив тот, кто подобным же образом может использовать минуты отрезвления, смущающие его среди удовольствий, в которых он утопает!
И вот однажды утром я собрал свои вещи и, не рассчитавшись с Арсенией, которая, по правде говоря, должна была мне какие-то пустяки, и даже не простившись с моей милой Лаурой, покинул этот дом, пропитанный атмосферой сластолюбия. Не успел я совершить столь достойный поступок, как небо уже вознаградило меня за него. А именно мне повстречался управитель покойного дона Матео. Я поклонился ему; он узнал меня, остановил и спросил, у кого я служу. Я отвечал, что с минуту тому назад остался без места и что, прослужив около месяца в доме Арсении, нравы которого показались мне неподходящими, я по собственному почину ушел от нее, чтоб спасти свою добродетель. Хотя управитель был от природы не слишком щепетилен, однако же оценил мою деликатность и сказал, что, видя во мне молодого человека, столь дорожащего своею честью, готов лично подыскать мне выгодную службу. Он сдержал обещание и в тот же день поместил меня к дону Висенте де Гусман, с управляющим которого был в хороших отношениях.
Трудно было найти лучшее место, да и впоследствии я никогда не раскаивался в том, что туда поступил. Дон Висенте был пожилой, очень богатый сеньор, который вот уже несколько лет как благополучно проживал без тяжб и без жены, так как врачи отняли у него супругу, желая ее избавить от кашля, с которым она могла бы еще долго не расставаться, если б не принимала их лекарств. Вместо того чтоб помышлять о новом браке, он весь отдался воспитанию единственной своей дочери Ауроры, которой шел тогда двадцать шестой год и которую можно было почитать за совершенство. Она была не только исключительно красива, но также весьма умна и образованна. Отца нельзя было назвать мудрецом, но зато он обладал талантом отлично управлять своими делами. У него был недостаток, который простителен старцам: он любил поговорить и главным образом о войне и сражениях. Если кто-либо, по несчастью, касался при нем этой слабой струнки, то он немедленно седлал своего героического конька, и собеседники могли считать себя счастливцами, если им удавалось отделаться рассказами о двух осадах и трех баталиях. Он провел три четверти своей жизни на военной службе, а потому память его была неисчерпаемым источником всевозможных происшествий, которые не всегда доставляли слушателям такое же удовольствие, как рассказчику. Добавьте к этому, что он был заикой и весьма многословен, отчего его манера рассказывать не становилась приятнее. В остальном же могу сказать, что мне не приходилось видеть барина с лучшим характером, чем у него. Он был всегда в ровном настроении, не упрямился и не капризничал, что особенно поражало меня в знатном сеньоре. Хотя он управлял своим имуществом с большой расчетливостью, однако же жил весьма пристойно. Челядь его состояла из нескольких лакеев и трех женщин, прислуживавших Ауроре. Я скоро понял, что управитель дона Матео доставил мне хорошее место, и думал только о том, как бы на нем удержаться. Поэтому я постарался познакомиться с окружением и изучить склонности домочадцев. Сообразуя с этим свое поведение, я не замедлил расположить в свою пользу барина, а равно и всех слуг.
Прослужив свыше месяца у дона Висенте, я стал замечать, что дочь его как будто отличает меня от прочих лакеев. Всякий раз, как она останавливала на мне свои взгляды, я улавливал в них особую благосклонность, которую она не проявляла по отношению к остальным. Не побывай я в обществе петиметров и актеров, то не осмелился бы вообразить, что Аурора думает обо мне; но я уже успел несколькo испортиться среди этих господ, которые нередко относятся без уважения даже к самым высокопоставленным дамам.
«Если верить некоторым из этих гистрионов, – размышлял я, – то у благородных сеньор иной раз бывают капризы, которые актеры обращают в свою пользу. Почем знать, не подвержена ли также моя госпожа подобным фантазиям? Но нет, – добавил я мгновение спустя, – этому нельзя поверить. Она не похожа на тех Мессалин, которые, пренебрегая своим высоким происхождением, постыдно снисходят до низов и бесчестят себя не краснея; скорее всего она из тех добродетельных, но нежных сердцем девушек, которые, довольствуясь границами, поставленными их нежности добродетелью, не боятся внушать и испытывать ласковую страсть, являющуюся для них безопасной забавой».
Так рассуждал я о своей госпоже, не зная наверняка, какого мнения держаться. Между тем, завидев меня, она всякий раз улыбалась и выказывала радость. Было от чего, не рискуя прослыть фатом, соблазниться столь заманчивым миражом, и, действительно, я оказался не в силах устоять. Я поверил, что Аурора на самом деле увлечена моими достоинствами, и стал смотреть на себя, как на одного из тех счастливых слуг, для которых любовь делает рабство сладостным. Желая оказаться возможно достойнее того блага, которое моя счастливая судьба пожелала мне ниспослать, я принялся заботиться о своей персоне тщательнее, чем делал это раньше. Я изощрялся в поисках способов, чтоб придать своей наружности некоторую приятность, и тратил все деньги на белье, помады и благовония. С самого утра я наряжался и душился, дабы не предстать перед сеньорой в неряшливом виде. Рассчитывая на тщательность своего туалета и на прочие приемы обольщения, я льстил себя надеждой, что счастье не за горами.
Среди служанок Ауроры была одна пожилая женщина, которую звали Ортис. Она прожила у дона Висенте свыше двадцати лет, воспитала его дочь и сохранила звание дуэньи, но уже не исполняла связанных с ним тягостных обязанностей: вместо того чтобы, как раньше, выводить на чистую воду поступки Ауроры, она, напротив, скрывала их. Словом, эта особа пользовалась полным доверием своей госпожи.
Однажды вечером, улучив минуту, когда никто не мог нас слышать, почтенная Ортис шепнула мне, что если я обязуюсь быть благоразумным и не болтать, то могу прийти к полуночи в сад, где мне сообщат нечто для меня небезынтересное. Пожав руку дуэнье, я ответствовал, что не премину туда явиться, после чего мы быстро расстались из опасения быть застигнутыми врасплох. Я уже больше не сомневался в нежных чувствах, внушенных мною дочери дона Висенте, и ощущал при этом такую радость, что мне стоило большого труда сдержаться. Боже, как тянулось для меня время начиная с этого момента и до ужина, – хотя ужинали там очень рано, – а затем – от ужина и до часа, когда мой барин ложился в постель! Мне казалось, что в этот вечер все в нашем доме производилось с невероятной медлительностью. В довершение всех неприятностей дон Висенте, удалившись к себе, не пожелал предаться сну, а принялся пересказывать свои португальские кампании, которыми не раз уже мозолил мне уши. Но к этому вечеру он приберег для меня нечто такое, чего обычно не делал, а именно он перечислил по именам всех офицеров, отличившихся в его время, и даже описал их подвиги. Сколько я выстрадал, пока он не угомонился! Но в конце концов он все же прекратил свою болтовню и заснул. Тогда я тотчас же удалился в комнатушку, где помещалась моя постель и откуда можно было спуститься в сад по потайной лестнице. Умастив тело притиранием, я надел белую сорочку, которую предварительно надушил, и, убедившись, что принял все меры к тому, чтоб польстить чувству своей госпожи, направился к месту свидания.
Однако Ортис там не оказалось. Я решил, что, соскучившись ожидая, она вернулась в дом и что час пастушка миновал. Но пока я винил во всем дона Висенте и проклинал его походы, часы пробили десять. Мне показалось, что они идут неверно и что должно быть, по меньшей мере, около часу. Между тем я основательно ошибался, так как добрых четверть часа спустя я снова сосчитал десять ударов на других часах.
«Ну что ж, – сказал я, обращаясь сам к себе, – придется проторчать здесь еще целых два часа. Нельзя пожаловаться на то, что я не исправен. Но куда деться до полуночи? Побродим по этому саду и подумаем о роли, которую мне предстоит играть: ведь она для меня внове. Я еще не привык к причудам благородных сеньор и умею ухаживать только за гризетками да актерками, с которыми следует обходиться фамильярно и без церемоний ускорять развязку. Но со знатными особами необходимо другое обхождение. Поклонник, как мне представляется, должен быть вежлив, любезен, нежен и почтителен, не будучи при этом застенчив; вместо того чтобы страстными порывами торопить счастье, ему надлежит выжидать минуту слабости».
Вот каковы были мои рассуждения, и я твердо решил держаться этого поведения с Ауророй. Мне уже мерещилось, что спустя короткое время я буду иметь счастье лежать у ног этой любезной дамы и шептать ей тысячи нежностей. Я даже восстанавливал в памяти те пассажи из театральных пьес, которые могли пригодиться при нашем свидании и послужить мне к чести. Рассчитывая применить их вовремя, я надеялся, по примеру нескольких знакомых актеров, прослыть за человека, обладающего умом, хотя обладал только памятью. Занятый всеми этими мыслями, которые смягчали муки моего нетерпения с большей приятностью, нежели военные рассказы дона Висенте, я услыхал, как пробило одиннадцать.
«Вот и прекрасно, – сказал я, – мне остается ждать не более шестидесяти минут; вооружимся терпением».
Я приободрился и, снова погрузившись в мечты, продолжал свою прогулку, иногда присаживаясь в зеленой беседке, находившейся в конце сада. Наконец наступил долгожданный миг: часы пробили двенадцать. Несколько мгновений спустя появилась Ортис, столь же пунктуальная, но менее нетерпеливая, чем я.
– Давно ли вы здесь, сеньор Жиль Блас? – спросила она, подойдя ко мне.
– Два часа, – отвечал я.
– Неужели? – воскликнула она, разражаясь смехом по моему адресу. – Вы необычайно исправны: сплошное удовольствие назначать вам ночные свидания. Правда, – продолжала она уже серьезным тоном, – счастье, которое я вам возвещу, стоит больше, чем вы в состоянии за него заплатить. Моя госпожа хочет побеседовать с вами наедине и приказала мне проводить вас на свою половину, где она вас ожидает. Это все, что я вам скажу; остальное – тайна, которую вы узнаете из ее собственных уст. Следуйте за мной: я вас поведу.
С этими словами дуэнья взяла меня за руку и, отперев маленькую дверцу, от которой у нее был ключ, впустила с большой таинственностью в покои своей госпожи.
Глава II Как Аурора приняла Жиль Бласа и какой разговор произошел между ними
Аурора приняла меня в пеньюаре, что доставило мне немалое удовольствие. Я поклонился ей весьма почтительно и со всей любезностью, на какую был способен. Она встретила меня с веселой улыбкой, усадила, против моей воли, рядом с собой и совершенно очаровала тем, что велела своей посланнице перейти в другую горницу и оставить нас одних. После этого она сказала, обращаясь ко мне:
– Жиль Блас, вы, вероятно, заметили, что я смотрю на вас благосклонно и отличаю от прочих слуг моего отца; но если б даже мои взгляды не убедили вас в том, что я питаю к вам некоторое расположение, то поступок, совершенный мною сегодня ночью, не позволяет вам больше сомневаться в этом.
Я не дал ей продолжать. Как светский человек, я считал себя обязанным избавить ее стыдливость от более откровенного признания. Я порывисто вскочил и, бросившись к ее ногам, подобно театральному герою, становящемуся на колени перед своей принцессой, воскликнул с пафосом декламатора:
– Ах, сударыня! Не ослышался ли я? Ко мне ли обращены эти речи? Возможно ли, чтоб Жиль Блас, который до сей поры был игрушкой Фортуны и пасынком природы, удостоился счастья внушить вам чувства…
– Не говорите так громко, – смеясь остановила меня Аурора, – вы разбудите служанок, которые спят в соседней комнате. Встаньте, садитесь на ваше место и выслушайте меня не прерывая. Да, Жиль Блас, – продолжала она, вновь становясь серьезной, – я желаю вам добра и, чтоб доказать, что вы пользуетесь моим уважением, я поведаю вам секрет, от которого зависит спокойствие моей жизни. Я люблю одного молодого кавалера, красивого, статного и принадлежащего к знатному роду. Его зовут Луис Пачеко. Я иногда встречаю его на прогулках и спектаклях, но ни разу с ним не говорила и даже не ведаю, какой у него характер и нет ли у него каких-либо недостатков. Вот об этом я и хотела разузнать. Мне нужен человек, который навел бы тщательные справки об его правах и сообщил бы мне все в точности. Я выбрала вас предпочтительно перед остальными слугами. Полагаю, что, давая вам это поручение, я ничем не рискую, и надеюсь, что вы исполните его с ловкостью и деликатностью, которые не заставят меня раскаяться в моем доверии к вам.
Тут Аурора остановилась, чтоб выслушать мой ответ. Сперва я был озадачен тем, что так неприятно обманулся. Однако же, быстро оправившись и преодолев стыд, обычно порождаемый неудачной смелостью, я высказал сеньоре такое рвение к ее интересам, с таким жаром обязался ей служить, что если и не вытравил у нее мысли о своем безумном любовном заблуждении, то во всяком случае доказал ей, что умею исправлять глупости. Я испросил всего два дня, чтоб поразведать о доне Луисе. Затем моя госпожа позвала Ортис, которая провела меня в сад и на прощание сказала мне иронически:
– Покойной ночи, Жиль Блас. Не стану вам напоминать, чтоб вы вовремя явились на следующее свидание; я теперь слишком хорошо знаю вашу пунктуальность, чтоб об этом тревожиться.
Я вернулся к себе в комнату не без некоторой досады на то, что обманулся в своих ожиданиях. Тем не менее у меня хватило благоразумия утешиться, так как я рассудил, что мне более пристало быть наперсником, нежели любовником своей госпожи. К тому же это могло принести мне выгоду, ибо обычно посредников по любовным делам щедро вознаграждают за их труды. А потому я улегся спать с намерением исполнить то, что потребовала от меня Аурора.
На другое утро я отправился по этому делу. Разыскать жилище такого кавалера, как дон Луис, было нетрудно. Я навел справки у соседей, но лица, к которым я обращался, не смогли вполне удовлетворить мое любопытство, что побудило меня возобновить розыск на следующий день. На сей раз я оказался счастливее. Встретив на улице знакомого парня, я остановился, чтоб с ним поговорить. В это время проходил его приятель и, поздоровавшись с нами, сказал, что его только что прогнали от дона Хосс Пачеко, отца дона Луиса; его заподозрили в том, что он усосал целую четверть винной бочки. Я не упустил столь благоприятного случая разузнать о том, что меня интересовало, и благодаря тщательным расспросам вернулся домой весьма довольный тем, что смогу сдержать слово, данное своей госпоже. Мне предстояло свидеться с ней на следующую ночь, в тот же час и таким же способом, как и в первый раз. Но в этот вечер я уже не испытывал никакого волнения и, вместо того чтоб нетерпеливо страдать от рассказов своего старого патрона, сам напомнил ему про военные походы. Я дождался полуночи с величайшим в мире спокойствием и только тогда, когда на нескольких часах пробило двенадцать, спустился в сад не напомадившись и не надушившись, ибо исправился и от этого.
Я застал на месте свидания верную дуэнью, которая заметила мне иронически, что я сильно сдал в отношении аккуратности. Не удостоив ее ответа, я последовал за ней в покои Ауроры, которая, завидев меня, тотчас же спросила, тщательно ли я справился о доне Луисе и могу ли многое ей рассказать.
– Так точно, сударыня, я в состоянии удовлетворить ваше любопытство. Скажу вам прежде всего, что он возвращается на днях в Саламанку, чтоб закончить свое образование. Говорят, что этот молодой кавалер отличается благородством и честностью. Нет у него также недостатка в мужестве, ибо он дворянин и кастилец. К тому же он очень умен и обладает приятными манерами. Есть, впрочем, у него одна черта, которая, быть может, вам не понравится, но которую я не считаю себя вправе утаить: он слишком смахивает на всех наших молодых сеньоров и чертовски волочится за женщинами. Поверите ли вы, что, несмотря на свои юные годы, он уже содержал двух актерок?
– Что вы говорите! Какие нравы! – воскликнула Аурора. – Уверены ли вы, Жиль Блас, в том, что он ведет такую непристойную жизнь?
– Вполне уверен, сударыня, – возразил я. – Мне сказал это лакей, которого прогнали сегодня утром от дона Пачеко, а лакеи бывают весьма откровенны, когда судачат о недостатках своих господ. К тому же этот сеньор постоянно общается с доном Алехо Сехьяром, доном Антонио Сентельесом и доном Фернандо де Гамбоа, что уже само по себе свидетельствует об его легкомысленном поведении.
– Довольно, Жиль Блас, – сказала со вздохом моя госпожа. – Руководствуясь вашим донесением, я буду бороться со своей недостойной любовью. Хотя она уже успела пустить в моем сердце глубокие корни, я все же не отчаиваюсь вырвать ее оттуда. Ступайте, – сказала она, вручая мне небольшой и отнюдь не пустой кошелек, – вот вам за ваши труды. Храните, как следует, мою тайну; помните, что я доверила ее вашей молчаливости.
Я обнадежил свою госпожу, что она нашла во мне Гарпократа [85] среди лакеев-наперсников и что ей нечего беспокоиться относительно своего секрета. После этого я удалился, горя нетерпением познакомиться с содержимым кошелька. Там оказалось двадцать пистолей. Тотчас же у меня мелькнула мысль, что, принеси я Ауроре приятную весть, она наверно дала бы мне больше, коль скоро так щедро заплатила за неприятную. Я раскаивался в том, что не последовал примеру судейских, которые иногда прикрашивают истину в своих протоколах. Мне было досадно, что я погубил в зародыше любовную интригу, которая со временем могла оказаться очень выгодной для меня, если б я, как дурак, не вздумал щеголять своей искренностью. Впрочем, я успокоился тем, что вернул деньги, столь безрассудно потраченные на помаду и духи.
Глава III О важных переменах, происшедших в доме дона Висенте, и о странном решении, которое любовь побудила принять прекрасную Аурору
Случилось так, что спустя короткое время после этого приключения заболел сеньор дон Висенте. Симптомы его недуга проявились в такой острой форме, что даже безотносительно к его почтенному возрасту следовало опасаться печального исхода. С самого начала болезни были приглашены два знаменитейших мадридских врача. Одного звали доктор Андрос [86] , другого доктор Окетос [87] . Они внимательно осмотрели больного и после тщательного обследования сошлись на том, что соки находятся в состоянии брожения. Но это был единственный пункт, в котором они были согласны. Один требовал, чтоб больному с этого же дня начали ставить клистиры, другой предлагал повременить.
– Необходимо, – говорил Андрос, – поторопиться удалить соки, хотя и невпитавшиеся, пока они находятся в состоянии сильного брожения благодаря приливу и отливу, а не то они могут броситься на какую-нибудь благородную часть тела.
Окетос, напротив, утверждал, что, прежде чем прибегать к промывательным, следует обождать, чтоб соки впитались.
– Но ваш метод, – продолжал первый доктор, – противоречит учению короля медицины. Гиппократ рекомендует даже при самых сильных лихорадках прибегать к клистирам с первых же дней и определенно заявляет, что надо торопиться с промывательными, пока соки находятся в состоянии «оргазма», т. е. брожения.
– Вот это-то и вводит вас в заблуждение, – возразил Окетос. – Под словом «оргазм» Гиппократ имеет в виду [88] не брожение, а, скорее, претворение соков в кровь.
Тут наши доктора приходят в раж. Один приводит греческий текст и цитирует всех авторов, толковавших его так же, как он; другой, полагаясь на латинский, начинает говорить еще более доктринальным тоном. Кому из двух верить?
Дон Висенте был недостаточно ученым человеком, чтоб разрешить этот вопрос. Однако же необходимо было сделать выбор, а потому он доверился тому, кто отправил на тот свет больше больных, – то есть более старому. Тогда Андрос, который был помоложе, поспешил удалиться, не преминув бросить своему старшему коллеге несколько насмешек по поводу «оргазма». Окетос восторжествовал, и так как он придерживался системы доктора Санградо, то прописал больному обильные кровопускания, отложив клистир на то время, когда впитываются соки. Но смерть, видимо испугавшись, как бы столь разумно отсроченное промывательное не отняло у нее жертвы, опередила претворение соков в кровь и унесла моего хозяина. Таков был конец сеньора дона Висенте, потерявшего жизнь из-за того, что его врач не знал греческого языка.
Устроив отцу похороны, достойные человека столь знатного происхождения, Аурора сама вступила в управление имуществом. Став госпожой своих желаний, она уволила нескольких служителей, вознаградив их соответственно заслугам, и вскоре удалилась в свой замок, стоявший на берегу Тахо, между Саседоном и Буэндией. Я оказался в числе тех, кого она оставила и кто последовал за ней в ее владения. Мне даже выпало счастье оказаться ей необходимым. Несмотря на мое исправное донесение относительно дона Луиса, она продолжала любить этого кавалера или, вернее сказать, будучи не в силах справиться с любовью, всецело отдалась своему чувству. Теперь ей уже не нужно было никаких предосторожностей, чтоб поговорить со мной наедине.
– Жиль Блас, – сказала она мне со вздохом, – я не могу забыть дона Луиса. Сколь я ни стараюсь удалить его из своих мыслей, он является мне постоянно и не таким, каким ты мне его описал, погрязшим во всевозможных пороках, а таким, каким я хотела бы, чтоб он был: нежным, влюбленным, верным.
При этих словах она умилилась и не смогла удержаться от слез. Я чуть было и сам не расплакался, так растрогало меня это зрелище. Впрочем, я не мог бы найти лучшего способа угодить ей, как выказав себя чувствительным к ее горестям.
– Друг мой, – продолжала она, осушив свои прекрасные глаза, – вижу, что у тебя от природы доброе сердце, и так как я довольна твоим усердием, то обещаю щедро тебя вознаградить. Твоя помощь, дорогой Жиль Блас, нужнее мне теперь, чем когда-либо. Я должна поделиться с тобой одним замыслом, которым теперь занята. Он покажется тебе очень чудным. Знай же, что я хочу как можно скорее отправиться в Саламанку. Там я намереваюсь переодеться кавалером и под именем дона Фелиса познакомиться с Пачеко; я постараюсь добиться его доверия и дружбы и буду часто рассказывать ему про Аурору де Гусман, выдавая себя за ее двоюродного брата. Быть может, он пожелает ее увидать, а этого только мне и надо. В Саламанке мы наймем две квартиры: в одной я буду доном Фелисом, в другой Ауророй, и так, показываясь дону Луису то переодетой мужчиной, то в своем естественном виде, надеюсь склонить его к тому, что задумала. Готова согласиться, – добавила она, – мой замысел сумасброден, но страсть увлекает меня, а невинность моих намерений затуманивает передо мной опасность того шага, который я собираюсь предпринять.
Я вполне разделял мнение Ауроры относительно характера ее затеи, которая казалась мне безумной. Но хотя я и находил ее несуразной, однако же сугубо поостерегся разыгрывать из себя ментора. Напротив, я для начала подсластил пилюлю и взялся доказать, что эта сумасшедшая выдумка была только приятной игрой ума, не чреватой никакими последствиями. Не помню уже, что я наговорил, чтоб убедить ее в этом; во всяком случае она вняла моим резонам, ибо влюбленные всегда бывают рады, когда потакают их сумасброднейшим фантазиям. С этого момента мы стали смотреть на дерзновенную затею Ауроры не иначе, как на комедию, представление которой только надлежало как следует наладить. Мы выбрали актеров среди челяди, а затем распределили роли, что прошло без крика и без ссор, так как среди нас не было профессиональных комедиантов. Было решено, что Ортис изобразит тетку Ауроры под именем доньи Химены де Гусман и что ей будут даны лакей и камеристка; Аурора же, переодетая кавалером, возьмет меня в качестве камердинера, а для личных услуг одну служанку, которую мы обрядим пажом. Установив таким образом роли, мы вернулись в Мадрид, где нам сообщили, что Дон Луис еще не уезжал, но что в ближайшее же время намерен отбыть в Саламанку. Мы приказали немедленно сшить потребное нам платье, а когда таковое было готово, госпожа моя распорядилась упаковать его, так как нам предстояло воспользоваться им только в надлежащее время. Затем, поручив дом своему управителю, она села в карету, запряженную четырьмя мулами, и вместе со слугами, участвовавшими в этом представлении, направилась по дороге в Леонское королевство.
Мы уже пересекли Старую Кастилию, когда у нашей кареты сломалась ось. Это было между Авилой и Вильяфлором, в трехстах или четырехстах шагах от замка, видневшегося у подножия горы. Приближалась ночь, и положение наше было не из приятных. Но тут случайно подошел крестьянин, который вывел нас из затруднения без всякого, впрочем, для себя труда. Он сообщил, что лежавший перед нами замок принадлежит донье Эльвире, вдове дона Педро де Пинарес, и наговорил нам так много хорошего про эту даму, что моя госпожа послала меня к ней, чтоб попросить от ее имени ночлега на эту ночь. Эльвира вполне оправдала отзывы крестьянина. Правда, я выполнил данное мне поручение с такой куртуазностью, что, не будь даже донья Эльвира самой радушной дамой на свете, она все равно приютила бы нас в своем замке. Она приняла меня весьма любезно и ответила на учтивости согласно моим желаниям. Мы направились в замок, пока мулы медленно волокли нашу карету. У порога нас ожидала Эльвира, вышедшая навстречу моей госпоже. Умолчу о речах, которые вежливость при сем случае побудила держать обеих сеньор. Скажу только, что Эльвира была пожилой особой, знавшей лучше любой светской дамы обязанности гостеприимства. Она отвела Аурору в роскошное помещение и, предоставив ей отдохнуть там некоторое время, сама до мельчайших подробностей позаботилась обо всем, что нас касалось. Затем, как только приготовили ужин, она распорядилась подать его в комнату Ауроры, и обе они сели за стол. Вдова дона Педро не принадлежала к числу тех особ, которые, приняв мечтательный или огорченный вид, плохо занимают своих гостей за трапезой. Напротив, она обладала веселым характером и с приятностью поддерживала разговор. Говорила она с благородством и в изысканных выражениях; я удивлялся ее уму и тонкому обороту, который она придавала всем своим мыслям. Аурора, казалось, была очарована ею не меньше меня. Они подружились и обещали обмениваться письмами. Так как наша карета могла быть исправлена только на следующий день и мы рисковали из-за этого выехать весьма поздно, то решено было остаться в замке на сутки. Нам, слугам, в свою очередь, подали всякого мяса в изобилии и уложили нас не хуже, чем угостили. На другой день моя госпожа обнаружила новое очарование в беседе с Эльвирой. Они обедали в большом зале, где висело несколько картин. Среди них выделялась одна, на которой фигуры были воспроизведены с удивительным искусством. Картина эта, однако, являла взорам весьма трагическое зрелище. На ней был изображен мертвый кавалер, опрокинутый навзничь и утопавший в крови; но, несмотря на смерть, вид у него был угрожающий. Подле него виднелась молодая особа в другой позе, хотя тоже распростертая на земле. Шпага пронзила ей грудь и, испуская последнее дыхание, она устремляла гаснущий взор на юношу, испытывающего, по-видимому, смертельную скорбь от этой потери. Художник поместил на картине еще одну фигуру, тоже не ускользнувшую от моего внимания. То был старец благородного вида, глубоко потрясенный представившимся ему зрелищем и относившийся к нему с не меньшей чувствительностью, чем молодой человек. Казалось, что эти кровавые образы затрагивали их одинаково, но что они по-разному воспринимали впечатления. Старец, погруженный в глубокую грусть, имел вид подавленный, тогда как юноша обнаруживал ярость, смешанную со скорбью. Все это было изображено с такой экспрессией, что мы не могли насмотреться. Моя госпожа спросила про печальное происшествие, послужившее сюжетом для этой картины.
– Сеньора, – отвечала Эльвира, – это – правдивое изображение несчастий, случившихся в моей семье.
Такой ответ возбудил любопытство Ауроры; она выразила сильное желание узнать всю историю поподробнее, и вдове дона Педро пришлось обещать, что она исполнит ее желание. Это обещание, данное в присутствии Ортис, двух наших служанок и меня, удержало нас в зале по окончании обеда. Моя госпожа хотела было нас отослать, однако Эльвира, видя, что мы умираем от желания послушать объяснение картины, позволила нам, по доброте своей, остаться, сказав, что история, которую она собирается сообщить, не нуждается в соблюдении тайны. После этого она приступила к своему повествованию и рассказала нам следующее.
Глава IV Брак из мести. Новелла
У Рожера, короля сицилийского, были брат и сестра. Брат этот, по имени Манфред, восстал на него и затеял в стране опасную и кровопролитную войну; но, на свое несчастье, он проиграл две битвы и попал в руки короля, который ограничился тем, что в наказание за мятеж лишил его свободы. Это милосердие, однако, привело к тому, что Рожер прослыл жестоким варваром среди части своих подданных. Они говорили, что он пощадил жизнь брата только для того, чтоб учинить над ним медленную и бесчеловечную месть. Другие, не без оснований, винили в суровом обращении, которому Манфред подвергался в темнице, его сестру Матильду. Эта принцесса действительно всегда ненавидела брата и продолжала преследовать до конца его дней. Она умерла вскоре после него, и все считали ее смерть справедливой карой за такие неестественные чувства.
После Манфреда осталось двое сыновей. Оба были в младенческом возрасте. Рожер возымел было намерение отделаться от них, опасаясь, как бы, возмужав, они не пожелали отомстить за отца и не возродили старой партии, которая была еще не совсем подавлена и могла поднять новую смуту в государстве. Он поведал об этом намерении своему министру, сенатору Леонтио Сиффреди, но тот не одобрил его и, желая отвратить государя от смертоубийства, взял на воспитание старшего цринца, Энрико, а младшего, Пьетро, посоветовал доверить коннетаблю Сицилии. Рожер, убежденный, что эти сановники воспитают племянников в должном подчинении его власти, предоставил им обоих мальчиков, а на себя взял заботы о своей племяннице Констанце. Она была единственной дочерью принцессы Матильды и в одном возрасте с Энрико. Рожер приставил к ней прислужниц и наставников и не жалел ничего для ее воспитания.
У Леонтио Сиффреди был замок в каких-нибудь двух милях от Палермо, в местности, именуемой Бельмонте. В этом-то замке министр прилагал всяческие старания, чтоб сделать Энрико со временем достойным преемником сицилийского трона. Он сразу обнаружил у принца такие высокие душевные качества, что привязался к нему всем сердцем, словно сам не имел детей, – а между тем у него были две дочери. Старшая, которую звали Бианка и которая была моложе принца на год, отличалась совершенной красотой; младшая же, по имени Порция, причинившая своим рождением смерть матери, находилась еще в колыбели. Бианка и принц Энрико воспылали друг к другу любовью, как только стали способны испытывать это чувство. Хотя они и не пользовались такой свободой, чтоб встречаться наедине, однако же принц ухитрялся иногда обойти этот запрет и сумел даже так хорошо использовать драгоценные минуты, что убедил дочь Сиффреди разрешить ему осуществление одного своего замысла. Случилось так, что как раз в это время Леонтио принужден был совершить, по приказу короля, поездку в одну из отдаленнейших провинций острова. В его отсутствие Энрико приказал проделать отверстие в стене, отделявшей его покои от спальни Бианки. Это отверстие было замаскировано открывавшейся и закрывавшейся деревянной дверцей, так ровно прилегавшей к панели, что глаз не мог заметить обмана. Искусный архитектор, которого принц привлек на свою сторону, выполнил эту работу столь же старательно, сколь и секретно.
Влюбленный Энрико проникал иногда в спальню своей любезной, но не злоупотреблял ее расположением к нему. Если она и совершила неосторожность, позволив ему тайно являться в ее покои, то сделала это только после его заверений, что он никогда не потребует от нее ничего, кроме самых невинных милостей. Однажды ночью он застал ее в большой тревоге. Она узнала, что Рожер очень болен и что он вызвал к себе Сиффреди как великого канцлера королевства, чтоб сделать его хранителем своего духовного завещания. Она уже видела на троне своего милого Энрико и боялась, что высокий сан отнимет у нее возлюбленного. Этот страх вызвал в ней страшное волнение, и у нее даже были слезы на глазах, когда Энрико предстал перед ней.
– Вы плачете, сударыня, – сказал он. – Что означает печаль, в которой я вас застаю?
– Сеньор, – отвечала ему Бианка, – не могу скрыть от вас своих слез. Король, ваш дядя, вскоре покинет мир, и вы займете его место. Когда я думаю о том, насколько ваше новое высокое положение отдалит вас от меня, то, признаюсь, испытываю тревогу. Монарх смотрит на вещи иными глазами, чем влюбленный, и то, что было предметом всех его желаний, пока он признавал над собой другую власть, перестает его увлекать, когда он всходит на трон. Виною ли тому предчувствия или рассудок, но я испытываю в сердце такое волнение, что даже доверие, которое я обязана питать к вашей любви, не в силах его успокоить. Я не сомневаюсь в постоянстве ваших чувств, я сомневаюсь в своем счастье.
– Любезная Бианка, – возразил принц, – эти опасения для меня лестны и оправдывают мою привязанность к вашим чарам; но те крайности, до которых вы доходите в своих сомнениях, оскорбляют мою любовь и, смею сказать, нарушают уважение, которое я вправе от вас ожидать. Нет, нет! И не думайте о том, что моя судьба может быть отделена от вашей. Верьте, что только вы одна будете всегда моим счастьем и моей отрадой. Оставьте же напрасные страхи: к чему омрачать столь сладкие мгновения?
– Ах, сеньор, – сказала на это дочь Леонтио, – как только вас коронуют, подданные могут потребовать, чтоб королевой стала принцесса, которая насчитывает в своем роду длинный ряд королей и блестящий брак с которой присоединит к вашим землям новые владения. Возможно, увы, что вы уступите их желаниям, нарушив даже самые сладостные обеты.
– Ах, зачем, – гневно воскликнул Энрико, – зачем сокрушаетесь вы раньше времени и изображаете будущее в мрачном свете? Если небо захочет прибрать к себе короля, моего дядю, и сделать меня властелином Сицилии, то даю клятву обручиться с вами в Палермо в присутствии всего двора. Клянусь всем, что есть святого между нами.
Уверения Энрико несколько успокоили дочь Сиффреди. После этого беседа их вертелась вокруг болезни короля. Энрико обнаружил при этом свою природную доброту: он скорбел об участи дяди, хотя и не имел особых оснований для печали; узы крови заставляли его жалеть властителя, смерть которого приносила ему корону.
Бианка не знала еще всех несчастий, которые ей угрожали. Приехав однажды в замок Бельмонте по каким-то важным делам, коннетабль Сицилии увидел ее, когда она выходила из апартаментов отца, и был поражен ее красотой. На следующий же день он попросил ее руки у Сиффреди, который дал свое согласие; но из-за болезни короля, приключившейся в это самое время, брак был отложен, и отец ничего не сказал о нем Бианке.
Как-то утром, кончая одеваться, Энрико с удивлением увидел Леонтио, вошедшего в его покой в сопровождении Бианки.
– Ваше величество, – сказал ему этот министр, – известие, которое я вам принес, будет для вас тягостно, но сопровождающее его утешение должно умерить вашу скорбь. Король, ваш дядя, скончался: с его смертью вы наследуете скипетр. Сицилия вам подвластна. Вельможи королевства ждут ваших повелений в Палермо: они поручили мне принять их из ваших уст, и я явился, ваше величество, со своею дочерью, чтоб оказать вам первые искреннейшие знаки преданности, которая составляет долг ваших новых подданных.
Принц, знавший, что Рожер уже два месяца страдал постепенно подтачивавшей его болезнью, не удивился этому известию. Однако, пораженный внезапной переменой, происшедшей в его собственном положении, он почувствовал, что в сердце его зарождаются тысячи смутных переживаний. Некоторое время он пребывал в задумчивости, а затем, прервав молчание, обратился к Леонтио со следующими словами:
– Мудрый Сиффреди, я продолжаю по-прежнему считать вас своим отцом. Вменяю себе во славу пользоваться вашими советами; вы будете больше царствовать в Сицилии, чем я.
С этими словами он подошел к столу, на котором стоял письменный прибор, и, взяв чистый лист бумаги, подписал внизу свое имя.
– Что вы собираетесь сделать, ваше величество? – спросил Сиффреди.
– Доказать вам свою благодарность и свое уважение, – ответствовал Энрико.
Затем принц протянул бумагу Бианке и сказал:
– Примите, сударыня, этот залог моей верности и той власти, которую я вам даю над своей волей. Бианка, краснея, приняла бумагу и отвечала Энрико:
– Ваше величество, почтительно принимаю милость своего короля, но я завишу от отца и прошу вас не гневаться на то, что передам эту бумагу в его руки, дабы он сделал из нее то употребление, которое подскажет ему его благоразумие.
Она действительно вручила отцу бумагу с подписью Энрико. Тут Сиффреди заметил то, что до сих пор ускользало от его проницательности. Он разобрался в чувствах принца и сказал:
– Вашему величеству не в чем будет меня упрекнуть: я не злоупотреблю его доверием…
– Любезный Леонтио, – прервал его Энрико, – не бойтесь им злоупотребить. Как бы вы ни использовали этот документ, я заранее одобряю его назначение. А теперь возвращайтесь в Палермо, – продолжал он, – распорядитесь относительно приготовлений к коронации и скажите моим подданным, что я еду вслед за вами, чтоб принять от них присягу в верности и высказать им свое расположение.
Министр тотчас повиновался приказу своего нового повелителя и вместе с дочерью отправился в Палермо.
Спустя несколько дней после их отъезда принц также покинул Бельмонте, более озабоченный своей любовью, нежели троном, на который собирался вступить. Как только его завидели в городе, раздались бесчисленные клики радости; среди приветствий толпы вступил он во дворец, где уже все было приготовлено для церемонии. Там он встретил Констанцу, одетую в длинные траурные одежды. Она казалась очень огорченной смертью Рожера. Им полагалось выразить друг другу сочувствие по поводу кончины монарха, с чем оба справились вполне успешно, однако Энрико с большей холодностью, чем Констанца, которая, несмотря на семейные распри, относилась к принцу без всякой ненависти. Он уселся на трон, а Констанца поместилась рядом с ним в кресле, стоявшем несколько пониже. Вельможи королевства расположились по бокам в соответствии со своим рангом. Церемония началась, и Леонтио в качестве великого канцлера и хранителя королевского завещания вскрыл этот акт и принялся читать вслух.
В духовной говорилось, что Рожер, за неимением детей, назначал наследником старшего сына Манфреда с тем, чтоб он сочетался браком с принцессой Констанцей; в случае же его отказа от руки означенной принцессы Энрико устранялся от трона, а корона Сицилии должна была быть возложена на голову его брата, принца Пьетро, с тем же условием.
Эти слова потрясли Энрико. Он ощутил невообразимое огорчение, и это огорчение еще возросло, когда Леонтио, покончив с чтением завещания, обратился ко всему собранию:
– Сеньоры, я сообщил нашему новому монарху последнюю волю покойного короля, и наш великодушный государь согласился почтить бракосочетанием принцессу Констанцу, свою кузину.
При этих словах Энрико перебил канцлера:
– Леонтио, вспомните о бумаге, которую Бианка вам…
– Вот она, государь, – торопливо прервал Сиффреди принца, не дав ему объясниться. – Вельможи королевства, – продолжал он, показывая бумагу собранию, – убедятся из этого акта, скрепленного августейшей подписью вашего величества, в чести, оказанной вами принцессе, и в почтении, с которым вы относитесь к последней воле покойного короля, вашего дяди.
Вслед за тем он принялся читать текст документа в тех выражениях, в которых сам его составил. Этим актом новый король давал своим народам формальное обещание жениться на Констанце, согласно воле Рожера. Зал огласился продолжительными возгласами радости.
– Да здравствует наш великодушный король Энрико! – восклицали все присутствующие.
Поскольку принц никогда не скрывал своего отвращения к принцессе, то все, не без основания, опасались, как бы он не воспротивился условиям завещания и не поднял смуты в стране. Однако оглашение последнего документа, успокоив вельмож и народ, вызвало всеобщее ликование, втайне разрывавшее сердце монарха.
Констанца, которую честолюбие и нежные чувства побуждали больше чем кого-либо участвовать во всеобщем веселье, воспользовалась этим моментом, чтоб высказать принцу свою благодарность. Энрико тщетно пытался себя пересилить; он выслушал любезные речи принцессы с таким волнением и был так смущен, что даже не смог найти ответа, который требовала от него благопристойность. Наконец, будучи не в силах сдержаться, он подошел к Сиффреди, которого этикет обязывал находиться поблизости от персоны государя, и сказал ему шепотом:
– Что вы делаете, Леонтио? Бумага, которую я вручил вашей дочери, имела другое назначение. Вы предаете…
– Государь, – прервал его Сиффреди твердым тоном, – подумайте о славе вашего имени. Если вы откажетесь выполнить желание короля, вашего дяди, то потеряете корону Сицилии.
Сказав это, министр быстро отошел от него, чтоб не дать ему возможности ответить. Энрико пребывал в величайшем смущении; его волновали тысячи противоположных ощущений. Он гневался на Сиффреди, так как чувствовал себя не в силах покинуть Бианку, и, колеблясь между ней и славой своего имени, довольно долгое время не знал, что ему выбрать. В конце концов он все-таки принял определенное решение и, как ему казалось, придумал способ сохранить дочь Сиффреди, не отказываясь от трона. Он притворился, будто хочет подчиниться воле Рожера, а сам вознамерился хлопотать в Риме об освобождении от брака с кузиной, надеясь тем временем привлечь к себе благодеяниями вельмож королевства и настолько укрепить свою власть, чтоб избавиться от выполнения неугодного ему пункта завещания.
Приняв это решение, он успокоился и, обернувшись к Констанце, подтвердил ей то, что великий канцлер огласил перед собранием. Но в то самое время, когда он настолько изменил самому себе, что обещал на ней жениться, в залу совета вошла Бианка. Она явилась по приказу отца исполнить свой долг перед принцессой, и при входе до слуха ее долетели слова Энрико. Вдобавок Леонтио, желая отнять у дочери всякие сомнения относительно постигшего ее несчастья, сказал, представляя ее Констанце:
– Дочь моя, выразите ваше почтение королеве; пожелайте ей сладость цветущего царствования и счастливого брака.
Этот жестокий удар сразил несчастную Бианку. Она тщетно попыталась скрыть свои страдания; лицо ее попеременно то краснело, то бледнело, и она дрожала всем телом. Тем не менее принцесса не возымела никаких подозрений; она приписала нескладность ее приветствия замешательству юной особы, воспитанной в уединении и непривычной ко двору. Но иначе обстояло дело с молодым королем; вид Бианки лишил его самообладания, и отчаяние, которое он прочел в ее глазах, потрясло его до глубины души. Он не сомневался, что, руководствуясь внешними признаками, она поверит в его измену. Если б ему удалось с ней поговорить, то он не испытал бы такой тревоги; но как мог он сделать это, когда взоры чуть ли не всей Сицилии были обращены на него? К тому же жестокий Сиффреди лишил его всякой надежды на это. Читая в душах обоих влюбленных и желая предотвратить бедствия, которые сила их страсти могла причинить государству, министр искусно вывел дочь из собрания и отправился с ней в Бельмонте, решив по многим причинам обвенчать ее как можно скорее.
Как только они туда прибыли, Бианка узнала весь ужас ожидавшей ее участи. Отец сообщил ей, что обещал ее руку коннетаблю.
– Боже праведный! – воскликнула она, увлекаемая горестным порывом, который даже присутствие отца не в силах было подавить. – Какие ужасные пытки готовите вы для несчастной Бианки!
Отчаяние девушки было так сильно, что сознание покинуло ее; тело поледенело: холодная и бледная, упала она на руки отца. Он был тронут, увидев ее в этом состоянии, но, хотя живо сочувствовал ее страданиям, все же не изменил своего первого решения. Наконец Бианка пришла в чувство, скорее от острого ощущения горя, чем от воды, которую Сиффреди прыскал ей на лицо. Открыв томные очи, она увидала отца, который старался ей помочь, и сказала ему почти угасшим голосом:
– Мне стыдно, сеньор, что я обнаружила перед вами свою слабость, но смерть, которая не замедлит прекратить мои муки, вскоре освободит вас от несчастной дочери, позволившей себе располагать своим сердцем без вашего согласия.
– Нет, дорогая Бианка, – отвечал Леонтио, – вы не умрете, и ваша добродетель снова восторжествует над вами. Сватовство коннетабля делает вам честь; это самая видная партия в королевстве…
– Я ценю его самого и его заслуги, – прервала Бианка речь отца. – Но, сеньор, король позволил мне надеяться…
– Дочь моя, – прервал ее Сиффреди в свою очередь, – я знаю все, что вы можете сказать по этому поводу. Мне известно ваше чувство к нашему монарху, и я не порицал бы его при других обстоятельствах. Я даже всячески старался бы устроить ваш брак с Энрико, если бы его слава и интересы государства не обязывали его взять в супруги Констанцу. Покойный король назначил его своим преемником только при условии, что он женится на принцессе. Неужели вы хотите, чтоб он предпочел вас сицилийской короне. Поверьте, что я страдаю вместе с вами по поводу поразившего вас жестокого удара. Но поскольку мы не можем противиться року, то сделайте над собой великодушное усилие; никто в королевстве не должен знать, что вы обольстились легкомысленной надеждой: этого требует ваша честь. Чувство, которое вы испытываете к королю, может подать повод к неблагоприятным для вас слухам, и единственное средство предохранить себя от них – это выйти замуж за коннетабля. Наконец, Бианка, теперь уже поздно рассуждать: король променял вас на трон, он женится на Констанце. Я дал слово коннетаблю; прошу вас его не нарушать, и если для вашего согласия необходимо, чтобы я использовал свою власть, то я вам это приказываю.
Сказав это, он покинул ее, чтоб дать ей возможность обдумать его слова. Он надеялся, что, взвесив основания, приведенные им с целью заставить ее добродетель преодолеть сердечную склонность, она согласится отдать руку коннетаблю. И действительно, он не ошибся. Но чего стоило печальной Бианке принять это решение! Она пребывала в состоянии, достойном величайшей жалости. Скорбь по поводу измены Энрико, подтвердившей ее предчувствия, и необходимость, теряя его, отдаться человеку, которого она не могла полюбить, так угнетали бедную девушку, что каждая минута превращалась для нее в новую пытку.
– Если мое несчастье неизбежно, – восклицала она, – то как воспротивиться ему, не лишившись жизни? Безжалостная судьба, к чему обольщала ты меня сладчайшими надеждами, если собиралась ввергнуть в бездну отчаяния? А ты, вероломный любовник, обещавший мне непоколебимую верность, ты отдаешься другой! Неужели ты мог так быстро забыть данную мне клятву? Пусть же небо в наказание за твой жестокий обман превратит брачное ложе, которое ты собираешься осквернить клятвопреступлением, из источника наслаждений в источник раскаяния! Пусть ласки Констанцы вольют яд в твое вероломное сердце! Пусть твой брак будет так же ужасен, как и мой! Да, предатель, я выйду за коннетабля, которого не люблю, чтоб отомстить самой себе, чтоб наказать себя за то, что столь неудачно выбрала предмет своей безумной страсти. Коль скоро религия запрещает мне посягать на свою жизнь, я хочу, чтоб остающиеся мне дни стали мрачной цепью страданий и печалей. Если ты еще сколько-нибудь любишь меня, то я отомщу и тебе тем, что на твоих глазах брошусь в объятия другого; а если ты окончательно меня позабыл, то Сицилия, по крайней мере, сможет гордо назваться родиной женщины, покаравшей себя за то, что слишком легкомысленно отдала свое сердце.
Вот в каком состоянии провела эта печальная жертва любви и долга ночь, предшествовавшую ее браку с коннетаблем. Сиффреди, убедившись на следующее утро, что она готова исполнить его желание, поторопился воспользоваться этим благоприятным настроением. Он в тот же день вызвал коннетабля в Бельмонте и тайно обвенчал его с дочерью в часовне замка. Что за день для Бианки! Мало того, что она отказалась от короны, потеряла возлюбленного и должна была отдаться ненавистному человеку, ей приходилось еще сдерживать свои чувства перед супругом, пылавшим к ней пламенной страстью и ревнивым от природы. Этот муж, осчастливленный тем, что она ему досталась, был беспрестанно у ее ног. Он даже не оставил ей печального утешения оплакивать втайне свои несчастья. Ночь наступила, и скорбь Бианки стала еще сильнее. Но что испытала она, когда служанки, покончив с раздеванием, оставили ее наедине с коннетаблем! Он почтительно осведомился о причине ее уныния. Этот вопрос смутил Бианку, и она притворилась, будто ей стало дурно. Муж сперва дался на обман, но ему недолго пришлось оставаться в заблуждении. Действительно, обеспокоенный ее состоянием, он принялся усиленно уговаривать ее, чтоб она легла в постель; но эти настойчивые просьбы, ложно ею истолкованные, вызвали в ее душе такие ужасные образы, что, не будучи в состоянии пересилить себя, она дала полную волю вздохам и слезам. Какое зрелище для человека, мнившего себя у предела своих желаний! Он уже не сомневался, что за унынием супруги скрывалась какая-то угроза его любви. Хотя это открытие ввергло его почти в такое же плачевное состояние, в каком находилась Бианка, однако же у него хватило сил не выдать своих подозрений. Он удвоил заботливость и продолжал настаивать, чтобы супруга улеглась, обещая предоставить ей полный покой и предлагая даже позвать служанок, если только их помощь могла, по ее мнению, несколько облегчить ей страдания. Успокоенная этим обещанием, Бианка отвечала, что только сон может избавить ее от слабости, которую она испытывает. Он притворился, что поверил. После этого они легли в постель и провели ночь, весьма отличную от той, которую любовь и Гименей посылают любовникам, очарованным друг другом.
В то время как Бианка предавалась своей скорби, коннетабль ломал себе голову над причиной, отравившей его брак. Ему, впрочем, было ясно, что у него есть соперник, но, пытаясь его обнаружить, он терялся в догадках. Одно только знал он наверняка: это то, что был несчастнейшим из смертных. В этих треволнениях провел коннетабль две трети ночи, когда до слуха его долетел глухой звук. К его удивлению, в комнате раздались чьи-то медленно волочащиеся шаги. Он счел это за ошибку, так как помнил, что сам запер дверь за служанками Бианки. Отдернув полог постели, он попытался собственными глазами выяснить причину обнаруженного им шума, но ночник, оставленный в камине, потух. Однако вскоре он услыхал слабый и томный голос, который несколько раз позвал Бианку. Тут ревнивые подозрения привели его в ярость. Считая, что поруганная честь обязывает его встать, чтоб предотвратить оскорбление или отомстить за него, он схватил шпагу и пошел в ту сторону, откуда, как ему казалось, раздавался голос. Он чувствует прикосновение клинка к чужому клинку. Он наступает – невидимый ретируется. Он его преследует, тот ускользает от преследований. Он ищет, насколько позволяет темнота, во всех углах комнаты, но тот, видимо, его избегает. Он никого не находит. Останавливается. Прислушивается и ничего не слышит. Что за наваждение? Коннетабль подходит к дверям, предположив, что незримый враг его чести исчез этим путем; но двери по-прежнему заперты на засов.
Не понимая ничего во всем этом деле, он принялся звать тех слуг, которые скорее всего могли его услыхать; раскрыв для этого дверь, он загородил собою проход и держался настороже из боязни упустить того, кого искал.
На его громкие крики сбежались несколько слуг со свечами. Взяв одну из них, он с обнаженной шпагой в руке произвел в комнате новые розыски. Но там никого не оказалось; не было даже ни малейшего признака того, что кто-либо, входил. Он не обнаружил ни потайной двери, ни какого-либо отверстия, через которое можно было проникнуть. Между тем он не мог закрывать глаза на это свидетельство своего позора. Мысли его странным образом путались. Спросить Бианку? Но она была слишком заинтересована в сокрытии истины, чтоб он мог ждать от нее каких-либо разъяснений. Он решил открыть свое сердце Леонтио. Слуг он отпустил, сказав, что ему послышался шум в комнате, но что это оказалось ошибкой. Он встретил тестя, который выходил из своей опочивальни, разбуженный переполохом. Передавая ему то, что произошло, коннетабль обнаружил сильное волнение и глубокую грусть.
Сиффреди изумился этому происшествию. Оно показалось ему невероятным, но все же возможным. Не желая, однако, поддерживать ревнивые подозрения зятя, он уверенно заявил ему, что голос, им якобы слышанный, а также и шпага, якобы скрестившаяся с его шпагой, были плодом воображения, отравленного ревностью; что совершенно невероятно, чтоб кто-либо смог войти в спальню дочери; что грусть, которую он заметил у своей супруги, была скорее всего вызвана каким-нибудь недомоганием; что незачем делать честь ответственной за изменчивые настроения; что такая перемена в жизни девушки, привыкшей к уединению и неожиданно отданной мужчине, которого она не успела ни узнать, ни полюбить, вероятно, и была причиной слез, вздохов и острой печали, вызвавших его недовольство; что любовь проникает в сердце девушек благородной крови только постепенно и под влиянием ухаживаний; что он советует ему успокоиться и удвоить ласки и старания, дабы внушить Бианке нежные чувства; и что, наконец, он просит его вернуться к ней, так как она, несомненно, сочтет его подозрения и беспокойство оскорбительными для своей добродетели.
Коннетабль ничего не ответил на доводы тестя, потому ли, что действительно поверил в возможность ошибки, вызванной его расстроенным душевным состоянием, или потому, что считал более целесообразным притвориться, чем убеждать старика в происшествии, столь лишенном вероятности. Он вернулся в покои супруги, улегся рядом с ней и попытался найти во сне некоторую передышку от своих страданий. Со своей стороны, Бианка, несчастная Бианка была встревожена не меньше его; она слышала то же, что ее муж, и не могла считать иллюзией происшествие, секрет и мотивы коего были ей известны. Ее удивляла попытка Энрико проникнуть в ее опочивальню, после того как он столь торжественно дал свое слово принцессе Констанце. Вместо того чтоб радоваться этому поступку и испытать хоть немного удовольствия, она сочла его за новое оскорбление, и сердце ее воспылало гневом.
В то время как дочь Сиффреди, будучи предубеждена против юного короля, причисляла его к вероломнейшим из людей, несчастный монарх, более чем когда-либо увлеченный Бианкой, жаждал поговорить с ней, чтоб успокоить ее относительно внешних улик, ложно его осуждавших. Для этой цели он бы и раньше приехал в Бельмонте, но ему помешали разные дела, которыми ему пришлось заняться, так что он смог ускользнуть от придворных не раньше ночи. Ему слишком хорошо были известны все окольные пути того места, где он воспитывался, а потому для него не представляло никакого труда проникнуть в замок Сиффреди; у него даже сохранился ключ от потайной калитки, ведшей в сад. Этим путем он и пробрался в свое прежнее помещение, а оттуда в спальню Бианки. Представьте себе его удивление, когда он застал там мужчину и почувствовал, что его клинок скрестился с другим. Он чуть было не воспылал гневом и не приказал тут же наказать дерзновенного, осмелившегося поднять на своего короля кощунственную руку; но уважение, которым он был обязан дочери Сиффреди, заставило его затаить обиду. Он удалился тем же путем, каким вошел, и, расстроенный больше прежнего, направился обратно в Палермо. Прибыв туда перед самым рассветом, король заперся в своих апартаментах. Волнение помешало ему заснуть, и он помышлял только о том, как бы вернуться в Бельмонте. Его собственная безопасность, его честь и в особенности его любовь не позволяли ему откладывать выяснение всех обстоятельств столь горестного для него происшествия.
Как только рассвело, король приказал собрать свою охоту и под предлогом этого развлечения углубился в Бельмонтский лес в сопровождении псарей и нескольких придворных. Чтоб скрыть свои намерения, он принял на некоторое время участие в охоте, но, увидев, что все с увлечением помчались за собаками, отделился от охотников и один направился по дороге в замок Леонтио. Так как он слишком хорошо знал лесные дороги, чтоб заблудиться, и к тому же, обуреваемый нетерпением, не щадил коня, то вскоре преодолел пространство, отделявшее его от возлюбленной. Он мысленно подыскивал подходящий предлог, чтобы келейно переговорить с дочерью Сиффреди, когда, пересекая тропинку, упиравшуюся в одну из калиток парка, увидал двух женщин, которые, сидя под деревом, беседовали между собой. Эта встреча взволновала его, так как он не сомневался, что они принадлежали к замку; но его волнение еще возросло, когда обе женщины, услыхав топот его коня, обернулись и он в одной из них признал свою любезную Бианку. Она ускользнула из замка в сопровождении преданной ей камеристки Низы, дабы, по крайней мере, оплакать на свободе свое несчастье.
Он бросился или, вернее, полетел к ногам возлюбленной и, узрев в ее очах все признаки глубочайшего горя, умилился до глубины души.
– Прекрасная Бианка, – сказал он, – перестаньте предаваться отчаянию. Правда, внешние улики обвиняют меня в ваших глазах, но когда вам станут известны мои намерения относительно вас, то вы признаете в том, что кажется вам теперь преступлением, доказательство моей правоты и чрезмерной привязанности.
Эти оправдания, которые, по мнению Энрико, должны были успокоить терзания Бианки, только усилили их. Она сделала попытку ответить, но рыдания заглушили ее голос. Король, удивившись ее унынию, сказал:
– Неужели, сударыня, я не в состоянии вас успокоить? В силу какого несчастья потерял я ваше доверие, – я, рискующий короной и даже жизнью, чтоб не разлучаться с вами?
Тогда Бианка, принудив себя к объяснению, отвечала ему:
– Государь, ваши обещания запоздали. Отныне ничто уже не в состоянии соединить мою судьбу с вашей.
– Ах, Бианка! – порывисто прервал ее Энрико. – Какие жестокие слова мне приходится выслушивать от вас! Кто может отнять вас у моей любви? Кто посмеет подвергнуть себя гневу короля, который скорее спалит всю Сицилию, нежели согласится отказаться от надежды на вас?
– Все ваше могущество, государь, – отвечала изнемогая дочь Сиффреди, – бессильно перед разделяющими нас препятствиями. Я – жена коннетабля.
– Жена коннетабля? – воскликнул король, отступая назад на несколько шагов.
Он был так потрясен, что не смог продолжать. Подавленный неожиданным ударом, он совершенно обессилел и опустился наземь подле находившегося за ним дерева. Бледный, дрожащий, расстроенный, он не отрывал от Бианки взоров, доказывавших ей, как глубоко потрясло его несчастье, о котором она ему объявила. Но и в ее глазах, устремленных на него, он мог прочесть чувства, мало чем отличавшиеся от его собственных. Молчание, в котором было нечто трагическое, царило между этими несчастными любовниками. Наконец, сделав над собой усилие и несколько оправившись от потрясения, король обрел дар речи и сказал Бианке со вздохом:
– Что вы наделали, сударыня? Вы погубили меня и себя благодаря своей доверчивости.
Упрек короля задел Бианку, которая считала, что сама обладает достаточно вескими основаниями жаловаться на него.
– Как, государь! – ответствовала она. – Вы еще отягчаете свою измену притворством? Прикажете ли вы не верить собственным глазам и ушам и, несмотря на их свидетельство, почитать вас безвинным? Нет, государь, мой разум не способен на это.
– А между тем, сударыня, – возразил король, – свидетели, которые кажутся вам столь достоверными, обманули вас. Именно они и ввели вас в заблуждение. Я не виновен, и я вам не изменял: это так же верно, как то, что вы супруга коннетабля.
– Как, государь! – воскликнула Бианка. – Не при мне ли вы обещали Констанце брак и верную любовь? не при мне ли заверили вельмож королевства в том, что исполните волю покойного монарха? и не при мне ли принцесса приняла поздравления от своих новых подданных в качестве королевы и супруги Энрико? Или кто-либо околдовал мои глаза? Сознайтесь лучше, изменник, сознайтесь, что соблазн престола перевесил в вашем сердце любовь Бианки, и, не унижаясь до притворных заверений в том, чего вы больше не чувствуете и, быть может, никогда не чувствовали, скажите прямо, что считаете корону Сицилии для себя более обеспеченной с Констанцей, чем с дочерью Леонтио. Вы правы, государь: я столь же мало достойна блестящего трона, сколь и сердца такого монарха, как вы. Я была слишком тщеславна, осмелившись посягать на то и на другое; но вы не должны были поддерживать меня в этом заблуждении. Я поведала вам свои страхи, когда боялась вас потерять, что мне казалось почти неизбежным. К чему вы меня успокоили? к чему рассеяли мои опасения? Я скорее обвинила бы судьбу, чем вас, и, потеряв мою руку, которую я никому никогда бы не отдала, вы, по крайней мере, сохранили бы мое сердце. Но теперь поздно оправдываться. Я супруга коннетабля, и, чтобы избавить меня от последствий разговора, предосудительного для моей чести, разрешите, ваше величество, чтоб я, при всем уважении, коим вам обязана, покинула того, чьи речи мне больше не дозволено слушать.
С этими словами она удалилась от Энрико со всей поспешностью, на какую была способна в тогдашнем своем состоянии.
– Остановитесь, сударыня, – воскликнул Энрико, – не доводите до отчаяния короля, готового скорее презреть трон, которым вы его попрекаете, чем удовлетворить пожелания своих новых подданных!
– Эта жертва теперь уже бесполезна, – возразила Бианка. – Надо было похитить меня у коннетабля раньше, чем проявлять столь великодушные порывы. Но теперь, когда я уже несвободна, мне безразлично, превратите ли вы Сицилию в пепел и кого наречете своей супругой. Если я проявила слабость, позволив сердцу увлечься, то, по крайней мере, у меня хватит твердости задушить его порывы и показать новому королю Сицилии, что супруга коннетабля уже не возлюбленная принца Энрико.
С этими словами она подошла к калитке парка и, поспешно войдя туда вместе с Низой, захлопнула ее за собой. Король, подавленный горем, остался один. Он не мог прийти в себя от удара, который Бианка нанесла ему известием о своем браке.
– О, несправедливая Бианка, – воскликнул он, – вы позабыли все, что мы обещали друг другу! Мы разлучены, несмотря на мои и ваши клятвы. Значит, надежда обладать вашими чарами была лишь сновидением. Ах, жестокосердная, сколь дорогой ценой расплачиваюсь я за то, что добился вашей любви!
Тут счастье соперника представилось воображению короля, истязуя его всеми пытками ревности; это чувство так завладело им на несколько мгновений, что он был готов принести в жертву своей мести и коннетабля и самого Сиффреди. Однако разум мало-помалу охладил силу этого порыва. Невозможность разуверить Бианку в том, что он ей изменил, приводила его в отчаяние. Тем не менее ему казалось, что он убедил бы ее, если б смог поговорить с ней наедине. Для этого надо было удалить коннетабля, и он решил арестовать его, как человека подозрительного при данных политических обстоятельствах. Он отдал об этом приказ начальнику гвардии, который отправился в Бельмонте и, задержав с наступлением ночи коннетабля, отвез его в палермскую крепость.
Это происшествие, как громом, поразило обитателей Бельмонте. Сиффреди тотчас же отправился к королю, чтоб поручиться ему за невинность зятя и указать на опасные последствия такого ареста. Король, предвидевший этот поступок министра и желавший до освобождения коннетабля хотя бы повидаться наедине с Бианкой, строго приказал не допускать к себе никого до следующего утра. Но, несмотря на запрещение, Леонтио сумел проникнуть в покои короля.
– Ваше величество, – сказал он, появившись перед ним, – если только почтительный и преданный слуга вправе жаловаться на своего господина, то я пришел жаловаться вам на вас же самих. Какое преступление совершил мой зять? Подумало ли ваше величество о вечном позоре, которым оно покрывает мой род, и о последствиях ареста, который может отвратить от службы лиц, занимающих самые высокие государственные посты?
– У меня есть верные сведения, – отвечал король, – что коннетабль состоит в преступных сношениях с наследником престола, доном Пьетро.
– В преступных сношениях? – прервал его с изумлением Леонтио. – Не верьте этому, государь; вас обманывают. В роду Сиффреди никогда не было предателей, и коннетаблю достаточно быть моим зятем, чтоб подобное подозрение не могло его коснуться. Он ни в чем не повинен; но тайные замыслы побудили вас арестовать его.
– Раз вы говорите со мною столь откровенно, то и я отвечу вам тем же, – сказал король. – Вы жалуетесь на арест коннетабля, а не мне ли жаловаться на ваше бессердечие? Это вы, жестокий Сиффреди, лишили меня покоя и своим услужливым попечением довели до того, что я завидую судьбе самого жалкого из смертных. Но не обольщайтесь тем, что я сочувствую вашим намерениям. Брак с Констанцей напрасно решен…
– Как, государь? – с трепетом прервал его Леонтио. – Вы способны не жениться на принцессе, после того как на глазах у всего народа подали ей эту надежду?
– Если я обману народные ожидания, то вините в этом себя – возразил король. – Зачем поставили вы меня в необходимость обещать то, чего я не мог исполнить? Кто заставил вас вписать имя Констанцы в акт, который я предназначал для вашей дочери? Вам были известны мои намерения. К чему было тиранить сердце Бианки, выдавая ее замуж за нелюбимого человека? И по какому праву располагаете вы моим сердцем, которое хотите отдать ненавистной мне принцессе? Разве вы забыли, что она дочь жестокой Матильды, которая, поправ права крови и человечности, сгубила моего отца в тяготах жестокой темницы? И чтоб я на ней женился? Нет, Сиффреди, бросьте навсегда эту надежду; прежде чем зажжется свадебный факел этого ужасного брака, вы увидите всю Сицилию в пламени и все ее нивы залитыми кровью.
– Не ослышался ли я! – воскликнул Леонтио. – Ах, государь, в какое будущее заставляете вы меня заглянуть! Какие страшные угрозы! Но я напрасно тревожусь, – продолжал министр, меняя тон, – вы слишком любите своих подданных, чтоб уготовить им такую печальную судьбу. Вы не допустите, чтоб любовь вас поработила, и не омрачите своих добродетелей, поддавшись слабостям простых смертных. Если я отдал свою дочь коннетаблю, то только для того, государь, чтоб приобрести для вашего величества храброго слугу, который своей рукой и армией, находящейся в его распоряжении, поддержит ваши интересы против принца дона Пьетро. Я полагал, что, привязав его к своей семье столь прочными узами…
– Увы! – вскричал король. – Вот эти-то узы, эти зловещие узы и погубили меня. Жестокий друг, зачем вы нанесли мне столь чувствительный удар? Разве я поручал вам охранять мои интересы в ущерб моему сердцу? Почему не позволили вы мне самому защитить свои права? Или я недостаточно храбр, чтоб усмирить тех своих подданных, которые вздумали бы мне воспротивиться? Я сумел бы наказать и коннетабля, если б он ослушался. Конечно, короли не тираны и счастье подданных – это их первый долг; но должны ли они быть рабами своего народа? Теряют ли они право, предоставленное природой всем людям, располагать своими склонностями только оттого, что небо поручило им управлять людьми… Но если они не могут пользоваться им, как обыкновенные смертные, то возьмите обратно, Сиффреди, эту верховную власть, которую вы хотели мне обеспечить в ущерб моему покою.
– Вам известно, государь, – возразил министр, – что согласно воле покойного короля брак с принцессой является условием наследования престола.
– А по какому праву сделал он такое распоряжение? – отвечал Энрико. – Разве король Карло, его брат, которому он наследовал, завещал ему этот недостойный закон? И как могли вы проявить такую слабость, чтоб одобрить столь несправедливое условие? Для великого канцлера вы плохо знакомы с нашими обычаями. Словом, обещание жениться на Констанце было вынужденным. Я не собираюсь его сдержать, и если дон Пьетро, основываясь на моем отказе, хочет вступить на престол, не втягивая народы в кровопролитную бойню, то пусть предоставит шпаге решить, кто из нас более достоин править.
Леонтио не посмел дольше настаивать и, опустившись на колени, удовольствовался просьбой об освобождении зятя, на что получил согласие.
– Ступайте, – сказал ему король, – возвращайтесь в Бельмонте. Коннетабль вскоре последует за вами.
Министр вышел и вернулся в замок, уверенный в том, что зять не замедлит приехать вслед за ним. Но он ошибался. Энрико хотел ночью повидаться с Бианкой и с этой целью отложил освобождение ее супруга до следующего утра.
Тем временем коннетабля терзали жестокие мысли. Арест открыл ему глаза на истинную причину его злоключений. Он весь отдался ревности и, отрекшись от преданности, которой до сих пор славился, стал дышать одной только местью. Он догадался, что король не замедлит этой ночью навестить Бианку, и, чтобы застать их вместе, попросил коменданта палермской крепости выпустить его из заключения, обещав вернуться наутро до рассвета. Комендант, будучи ему всецело предан, легко согласился на это, зная к тому же, что Сиффреди выхлопотал коннетаблю освобождение. Он даже приказал дать ему лошадь для поездки в Бельмонте. Прибыв туда, коннетабль привязал коня к дереву, вошел в парк через маленькую калитку, от которой у него был ключ, и благополучно проник в замок, никого не повстречавши. Он пробрался в покои супруги и спрятался в прихожей за подвернувшейся ему ширмой. Собираясь наблюдать оттуда за всем, что произойдет, он решил внезапно появиться в опочивальне Бианки при первом же шуме, который там раздастся. Он увидал, как Низа, оставив свою госпожу, прошла в боковушку, в которой спала.
Бианка, сразу догадавшаяся о мотивах ареста супруга, предвидела, что он не вернется этой ночью в Бельмонте, хотя отец и сообщил ей об обещании короля послать ему вдогонку коннетабля. Она не сомневалась, что Энрико захочет воспользоваться благоприятными обстоятельствами, чтоб поговорить с ней на свободе. Имея это в виду, она поджидала короля, чтоб упрекнуть его в поступке, грозившем ей роковыми последствиями. Действительно, спустя некоторое время после ухода Низы заслонка отодвинулась, и король бросился к ногам Бианки.
– Сударыня, – воскликнул он, – не осуждайте меня не выслушав. Я действительно приказал арестовать коннетабля: но подумайте о том, что ведь это был единственный оставшийся мне способ оправдаться перед вами. Вините же в этой уловке только самое себя. Почему отказались вы сегодня утром внять моим словам? Увы, завтра ваш супруг будет на свободе, и я не смогу уже с вами говорить! Выслушайте же меня в последний раз. Если разлука с вами делает меня навеки несчастным, то оставьте мне, по крайней мере, утешение сказать вам, что не в наказание за измену стряслось надо мной это несчастье. Правда, я подтвердил Констанце свое согласие на брак, но лишь потому, что не мог поступить иначе при обстоятельствах, созданных вашим отцом. Необходимо было и в ваших и в моих интересах обмануть принцессу, дабы обеспечить вам корону и брак с вашим возлюбленным. Я надеялся этого достигнуть и уже принял меры, чтоб нарушить свое обещание; но вы расстроили мой замысел и, легкомысленно отдав свою руку другому, уготовили вечные муки двум сердцам, которых совершенная любовь могла сделать счастливыми.
Он закончил свою речь со столь явными признаками искреннего отчаяния, что Бианка была тронута. Она уже больше не сомневалась в его невинности. Сперва это обрадовало ее, но затем сознание ее несчастья стало еще острее.
– Ах, государь, – сказала она королю, – после того как судьба так распорядилась нами, вы причиняете мне новую муку, доказав чистоту своих намерений. О несчастная, что я натворила! Обида увлекла меня: я сочла себя покинутой и в досаде приняла предложение коннетабля, которое передал мне отец. Вина за этот грех и за наши несчастья падает на меня. Увы, негодуя на вашу измену, я, по своей доверчивости, сама разорвала узы, которые клялась вечно уважать. Отомстите же и вы, государь: возненавидьте неблагодарную Бианку… забудьте…
– Ах, сударыня, разве я в силах сделать это? – прервал ее Энрико. – Как вырвать из сердца страсть, которую даже ваша несправедливость не смогла погасить?
– Тем не менее, государь, вам придется себя пересилить, – сказала со вздохом дочь Сиффреди.
– А способны ли вы сами на это? – возразил король.
– Не знаю, удастся ли мне, – продолжала она, – но, во всяком случае, я сделаю все, чтоб этого добиться.
– О жестокая! – воскликнул король. – Вы быстро забудете Энрико, раз вы способны питать такие намерения.
– А как же вы думаете? – сказала Бианка твердым голосом. – Неужели вы полагаете, что я и дальше позволю вам выказывать мне знаки привязанности! Нет, государь, оставьте эту надежду. Если я и не рождена для того, чтоб стать королевой, то, во всяком случае, небо создало меня и не такой, чтоб внимать недозволенной любви. Супруг мой так же, как и вы, государь, принадлежит к благородному Анжуйскому дому; и если б даже то, чем я ему обязана, не служило непреодолимой преградой для ваших ухаживаний, то честь моя все равно бы их не допустила. Умоляю вас удалиться: мы не должны больше видеться.
– Какая жестокость! – воскликнул король. – Ах, Бианка, возможно ли, чтоб вы обращались со мной с такою суровостью? Неужели не довольно тех мук, что я испытываю, видя вас в объятиях коннетабля, и нужно отнять у меня еще последнее утешение: возможность вас лицезреть?
– Вам лучше удалиться, – отвечала дочь Сиффреди, роняя слезы. – Тягостно глядеть на предмет, прежде нежно любимый, когда потеряна надежда им обладать. Прощайте, государь, забудьте меня: вы должны пересилить себя ради своей чести и моего доброго имени. Я прошу вас об этом также ради моего спокойствия; хотя сердечные волнения не в силах поколебать моей добродетели, однако воспоминание о вашей любви заставляет меня выдерживать лютую борьбу, стоящую мне слишком больших усилий.
Она произнесла эти слова с таким пылким жестом, что нечаянно опрокинула подсвечник, стоявший на столе позади нее. Свеча при падении потухла. Бианка подняла ее и, отперев дверь в прихожую, пошла за огнем в боковушку Низы, которая еще не спала. Затем она возвратилась с зажженной свечой.
Энрико поджидал ее и, как только она появилась, принялся снова настаивать на том, чтоб она не отвергала его любви. Услыхав голос короля, коннетабль со шпагой в руке внезапно вошел в комнату, почти одновременно со своей супругой, и, наступая на Энрико с бешенством, разжигаемым обидой, крикнул противнику:
– Довольно, тиран! Не думай, что я настолько труслив, чтоб стерпеть оскорбление, которое ты наносишь моей чести!
– Ах предатель! – отвечал ему король, приготовившись к защите. – Не воображай, что сможешь безнаказанно выполнить свое намерение!
После этих слов между ними завязался бой, слишком рьяный, чтоб продолжаться долго. Коннетабль не берег себя: он опасался, как бы Сиффреди и слуги не прибежали слишком скоро на крики Бианки и не воспротивились его мести. Ярость помутила его рассудок. Он так неудачно наступал, что сам наткнулся на шпагу противника, которая вошла ему в тело по рукоять. Коннетабль упал, и король отступил.
Огорченная печальной участью супруга, Бианка преодолела свою сердечную неприязнь и опустилась наземь, чтоб оказать ему помощь. Но несчастный муж был слишком предубежден против нее, чтоб смягчиться от этих доказательств скорби и сострадания. Даже смерть, приближение коей он чувствовал, не заглушила его ревности. В свои последние минуты он думал только о счастье соперника, и эта мысль казалась ему столь ужасной, что, собрав оставшиеся силы, он поднял шпагу, которую все еще держал в руке, и погрузил ее в грудь Бианки.
– Умри! – сказал он, пронзая ее. – Умри, коварная супруга, раз даже узы Гименея не помешали тебе нарушить верность, в которой ты поклялась мне перед алтарем! А ты, Энрико, – продолжал он, – не радуйся своей участи! Ты не воспользуешься моим несчастьем, и я умираю довольный.
При этих словах он испустил дух, и хотя тень смерти уже прикрыла ему лицо, однако было в нем нечто гордое и страшное. Лик Бианки являл совсем другое зрелище. Нанесенная ей рана была смертельна. Бианка упала на тело умирающего супруга, и кровь невинной жертвы смешалась с кровью убийцы, который так внезапно выполнил свое бесчеловечное намерение, что король не успел его остановить.
Увидав падающую Бианку, несчастный Энрико испустил крик и, пораженный более ее самой ударом, уносившим ее из жизни, принялся оказывать ей такую же помощь, какую она пыталась перед тем оказать мужу и за которую была так дурно вознаграждена. Но она произнесла ему умирающим голосом:
– Ваши старания тщетны, государь. Я – жертва неумолимого рока. Да смирит эта жертва его гнев и обеспечит вам счастливое царствование.
В то время как она договаривала эти слова, в комнату вбежал Леонтио, привлеченный ее криками, и остановился как вкопанный при виде представившегося ему зрелища. Но Бианка продолжала, не замечая его:
– Прощайте, государь, храните свято память обо мне; моя любовь и мои несчастья обязывают вас к этому. Не гневайтесь на моего отца. Пощадите его жизнь и, снизойдя к его горю, отдайте должное его усердию. Но прежде всего поведайте ему о моей невинности; об этом я вас особенно прошу. Прощайте, мой милый Энрико! Я умираю… примите мой последний вздох…
После этих слов ее не стало. Король хранил некоторое время мрачное молчание. Затем он обратился к смертельно подавленному Сиффреди:
– Взгляните на дело ваших рук, Леонтио; вы видите в этом трагическом происшествии плод вашего усердия и вашего услужливого попечения о моих интересах.
Старик был до того потрясен горем, что не ответил ему.
Но стоит ли мне описывать чувства, которые нельзя передать никакими словами? Достаточно будет сказать, что, как только скорбь позволила и тому и другому выражать свои ощущения, они излили их в самых трогательных жалобах.
Король сохранил на всю жизнь нежное воспоминание о своей возлюбленной. Он не смог решиться на брак с Констанцей. Наследник, дон Пьетро, вступил в союз с этой принцессой, и оба они приложили все усилия, чтоб осуществить предсмертные распоряжения Рожера, но принуждены были уступить Энрико, справившемуся со своими врагами.
Что касается Сиффреди, то, сознавая себя виновником стольких несчастий, он испытал отвращение к миру, и пребывание на родине сделалось для него невыносимым. Он покинул Сицилию и, перебравшись в Испанию вместе со второй дочерью, Порцией, купил этот замок. Здесь он прожил около пятнадцати лет после смерти Бианки, и еще до его кончины ему выпало счастье найти супруга для Порции. Она вышла замуж за дона Хероме де Сильва, и я единственный плод этого брака.
– Вот, – добавила вдова дона Педро де Пинарес, – история моего рода и точный рассказ о злоключениях, изображенных на этой картине, которую дед мой, Леонтио, заказал, чтоб сохранить в потомстве память об этом скорбном происшествии.
Глава V О том, что предприняла Аурора де Гусман по приезде своем в Саламанку
Выслушав этот рассказ, Ортис, служанки и я покинули залу и оставили Аурору наедине с Эльвирой. Они скоротали там в беседе остаток дня, нисколько не наскучив друг другу, и, когда на следующий день мы собрались уезжать, им было так же трудно расстаться, как двум подругам, усвоившим приятное обыкновение жить вместе.
Наконец прибыли мы без приключений в Саламанку, где прежде всего сняли дом с полной обстановкой. Почтенная Ортис, как было условлено между нами, приняла имя доньи Химены де Гусман. Она слишком долго служила в дуэньях, чтоб не быть хорошей актрисой. Однажды утром она вышла из дому в сопровождении Ауроры, камеристки и лакея, и они отправились в меблированные комнаты, где, как мы узнали, обычно останавливался Пачеко. Дуэнья спросила, нет ли там свободного помещения. Ей ответили утвердительно и показали довольно опрятные покои, которые она оставила за собой. Она даже дала хозяйке задаток, сказав, что комнаты предназначаются для ее племянника, который собирался учиться в Саламанке и должен был в этот день прибыть из Толедо.
Обеспечив за собой это помещение, дуэнья и моя госпожа вернулись на первую квартиру, где Аурора, не теряя времени, перерядилась кавалером. Она прикрыла черные волосы русым париком, окрасила в тот же цвет брови и вырядилась так, что вполне могла сойти за молодого сеньора. Ее движения были свободны и непринужденны, и за исключением лица, пожалуй слишком красивого для мужчины, ничто ее не выдавало. Горничная, предназначавшаяся ей в пажи, также перерядилась, и мы не опасались, что она плохо исполнит свою роль; помимо того, что она была не из смазливых, в ней чувствовался какой-то задор, весьма подходящий для пажа. После полудня обе артистки оказались вполне готовыми к появлению на сцене, то есть в меблированных комнатах, и я отправился туда вместе с ними. Мы прибыли в карете, привезя с собой все нужные нам пожитки.
Хозяйка, которую звали Бернарда Рамирес, приняла нас весьма любезно и проводила в наше помещение, где мы вступили с ней в разговор. Сперва мы условились о том, как она должна нас столовать и сколько мы будем платить ей за это помесячно. Затем мы спросили, проживают ли у нее другие жильцы.
– В настоящее время у меня нет никого, – отвечала она. – Я могла бы набрать сколько угодно постояльцев, если б хотела пускать к себе людей без разбора, но я беру только молодых дворян. Сегодня вечером я жду одного кавалера, который приезжает из Мадрида, чтоб закончить здесь свое образование. Это – дон Луис Пачеко, молодой человек в возрасте не свыше двадцати лет. Если вы не знаете его лично, то, вероятно, слыхали о нем.
– Лично не знаю, – сказала Аурора, – слыхала только, что Луис Пачеко принадлежит к знатному роду, но что он за человек, мне не известно. Вы весьма меня обяжете, рассказав мне о нем, так как нам придется жить с ним под одной крышей.
– Сеньор, – отвечала хозяйка, взглянув на своего ряженого жильца, – дон Пачеко – самый что ни на есть блестящий кавалер. Он очень похож на вас. Ах, как хорошо вы подходите друг к другу! Клянусь св. Яковом, я смогу похвалиться, что у меня живут два самых красивых кавалера во всей Испании!
– Наверное, у этого Дона Луиса здесь немало любовных приключений? – спросила моя госпожа.
– Клянусь честью, это настоящий ферлакур [89] ; могу вас в этом заверить, – отвечала хозяйка. – Ему стоит только показаться, чтоб одержать победу. Он очаровал здесь среди прочих одну молодую и красивую даму. Зовут ее Исабела. Это дочь одного престарелого доктора прав. Она так в него втюрилась, что, наверное, лишится рассудка.
– Скажите, милейшая, – стремительно прервала ее Аурора, – сам-то он тоже в нее влюблен?
– Он любил ее до своего отъезда в Мадрид, – отвечала Бернарда Рамирес, – но продолжает ли любить ее, сказать не могу, так как на него не очень-то можно положиться. Он порхает от одной женщины к другой, как все молодые кавалеры.
Не успела почтенная вдова договорить этих слов, как во дворе послышался шум. Мы тотчас же поглядели в окно и увидали двух спешившихся всадников. То был сам дон Луис Пачеко, прибывший в Саламанку со своим камердинером. Старуха покинула нас, чтобы встретить его, а моя госпожа приготовилась, не без волнения, разыграть роль дона Фелиса. Вскоре в наше помещение явился дон Луис, еще обутый в дорожные сапоги.
– Я узнал, – обратился он к Ауроре, отвесив ей поклон, – что в этой гостинице остановился молодой толедский сеньор. Прошу позволения выразить ему свою радость по поводу того, что буду жить рядом с ним.
В то время как моя госпожа отвечала ему на этот комплимент, я заметил, что Пачеко был приятно изумлен встречей со столь привлекательным кавалером. Он даже не смог удержаться и объявил, что никогда не видал более красивого и статного сеньора. После многих речей, полных взаимных учтивостей, дон Луис удалился в отведенные ему покои.
В то время как он менял платье и белье, а камердинер переобувал его, Ауроре попался на лестнице мальчик вроде пажа, который разыскивал дона Пачеко, чтоб вручить ему письмецо. Он принял ее за дона Луиса и, передавая ей порученную ему записку, сказал:
– Это вам, сеньор кавальеро. Хотя я и не знаю дона Пачеко, однако думаю, что мне не к чему спрашивать, вы ли это: судя по описанию, я уверен, что не ошибся.
– Нет, друг мой, вы нисколько не ошиблись, – отвечала моя госпожа с замечательным присутствием духа. – Вы прекрасно исполняете данные вам поручения. Я действительно дон Пачеко, и вы правильно угадали. Можете идти, я сам позабочусь о том, чтоб переслать ответ.
Паж удалился, а Аурора, запершись со мной и камеристкой, вскрыла записку и прочла нам следующее:
«Только что узнала, что вы в Саламанке. Какую радость доставила мне эта весть! Мне казалось, что я сойду с ума. Любите ли вы еще Исабелу? Поспешите уверить ее, что вы не переменились. Мне кажется, что она умрет от восторга, убедившись в вашей верности».
– Записка написана со страстью и свидетельствует о сильном увлечении, – заметила Аурора. – Эта дама – опасная соперница. Я должна сделать все, чтоб отвратить от нее дона Луиса и даже помешать тому, чтоб они свиделись. Сознаюсь, что это нелегкая задача, но я все же надеюсь с ней справиться.
После этих слов Аурора задумалась, но вскоре добавила:
– Ручаюсь вам, что не пройдет и суток, как они поссорятся.
Так оно и случилось. Немного отдохнув у себя, дон Пачеко вернулся к нам и возобновил до ужина разговор с Ауророй.
– Сеньор кавальеро, – сказал он шутя, – полагаю, что мужья и любовники не слишком радуются вашему приезду в Саламанку: вы доставите им немало беспокойства. Что касается меня, то я дрожу за свои победы.
– Ваши опасения не лишены основания, – отвечала ему в тон моя госпожа. Предупреждаю вас, что дон Фелис де Мендоса довольно опасный соперник. Я уже бывал в этих краях и знаю, что женщины здесь отнюдь не лишены чувствительности.
– А есть ли у вас тому доказательства? – с живостью прервал ее дон Луис.
– Есть, и даже бесспорное, – ответствовала дочь дона Висенте.
– Мне пришлось быть в этом городе с месяц тому назад; я прожил здесь неделю и скажу вам по секрету, что вскружил голову дочери одного престарелого доктора прав.
Я заметил, что дон Луис смутился при этих словах.
– Не будет ли слишком большой нескромностью, – продолжал он, – спросить у вас имя этой сеньоры?
– Какая же тут нескромность? – воскликнул мнимый дон Фелис. – С какой стати мне скрытничать? Неужели вы считаете меня скромнее прочих сеньоров моего возраста? Прошу вас не делать мне этой несправедливости. К тому же, говоря между нами, моя пассия не заслуживает особо щепетильного отношения; это – мещаночка без всякого значения. А вы знаете, что благородный кавалер не принимает всерьез таких девиц и что, по его мнению, он даже делает им честь, когда лишает их чести. Скажу вам поэтому без обиняков, что дочь доктора прав зовут Исабелой.
– А не зовут ли доктора сеньором Мурсиа де ла Льяна? – нетерпеливо прервал Пачеко мою госпожу.
– Именно, – отвечала та. – Вот письмо, которое она мне только что прислала; прочтите его и вы увидите, что эта дама относится ко мне доброжелательно.
Дон Луис взглянул на цыдульку и, узнав почерк, был смущен и озадачен.
– Что я вижу? – продолжала Аурора с удивлением. – Вы изменились в лице? Мне кажется, прости господи, что вы интересуетесь этой дамой. Ах, сколь я досадую на себя, что рассказал вам все с такой откровенностью!
– А что касается меня, то я вам весьма благодарен! – воскликнул дон Луис голосом, в котором звучали досада и гнев. – О, коварная! О, изменница! Ах, дон Фелис, сколь многим я вам обязан! Вы избавили меня от заблуждения, в котором, быть может, я пребывал бы еще долгое время. Я думал, что любим, да что я говорю, любим! Я считал, что Исабела меня обожает. Я питал даже серьезное чувство к этой твари, но теперь вижу, что она просто негодница, достойная моего презрения.
– Сочувствую вашему негодованию, – сказала Аурора, притворяясь, в свою очередь, возмущенной. – Дочь какого-то юриста могла бы вполне удовольствоваться тем, что за ней ухаживает такой привлекательный молодой сеньор, как вы. Не нахожу никаких извинений для ее непостоянства и, не желая, чтоб она приносила мне вас в жертву, намереваюсь в наказание пренебречь впредь ее милостями.
– А я не собираюсь видеться с ней до конца своей жизни, – вставил Пачеко, – с меня довольно и этой мести.
– Вы правы, – воскликнул мнимый Мендоса. – Все же нам следует показать ей, насколько мы оба ее презираем, а потому я предлагаю, чтоб каждый написал ей по оскорбительной записке. Я сложу их вместе и пошлю в ответ на ее письмо. Но прежде чем пускаться в такие крайности, загляните в свое сердце: чувствуете ли вы, что оно достаточно охладело к изменнице и что вы никогда не раскаетесь в разрыве с ней?
– Нет, нет, – прервал ее дон Луис, – я никогда не проявлю такой слабости, и, чтоб унизить неблагодарную, я согласен сделать то, что вы предлагаете.
Я тотчас же сходил за бумагой и чернилами, после чего оба кавалера принялись сочинять по любезному письму дочке доктора Мурсиа де ла Льяна. Особенно Пачеко не мог никак найти для описания своих чувств достаточно сильных выражений и порвал пять или шесть начатых писем, так как они казались ему недостаточно резкими. В конце концов он все же составил записку, которая его удовлетворила и которой он имел все основания быть довольным. Она гласила:
«Знайте себе цену, моя королевна, и не воображайте впредь, что я вас люблю. Таких чар, как ваши, недостаточно, чтоб меня пленить. Женщина с вашими прелестями не в состоянии позабавить меня даже несколько минут. На вас может польститься разве только самый последний из наших школяров».
Таково было изысканное содержание его записки. Аурора, дописав свою, оказавшуюся не менее оскорбительной, запечатала оба послания, положила их в конверт и, передавая мне, сказала:
– Возьми этот пакет, Жиль Блас, и постарайся, чтоб Исабела получила его сегодня вечером. Ты меня понял? – добавила она, сделав мне знак глазами, который я отлично уразумел.
– Так точно, сеньор, – отвечал я, – будет исполнено, как вы изволили приказать.
Я тотчас же вышел и, очутившись на улице, сказал сам себе:
«Ну-с, господин Жиль Блас, ваша сообразительность подвергается испытанию. Вы, значит, собираетесь изобразить в этой комедии расторопного слугу. Отлично, друг мой: в таком случае докажите, что у вас достаточно ума, чтоб сыграть эту роль, которая требует немалой смекалки. Сеньор дон Фелис удовольствовался тем, что вам подмигнул. Он, как видите, рассчитывает на вашу прозорливость. А разве он ошибся? Я понимаю, чего он от меня ждет. Он хочет, чтоб я передал только записку дона Луиса: вот что означало его подмигивание; это ясно, как палец».
Не сомневаясь в правильности своей догадки, я без колебаний вскрыл пакет. Вынув оттуда письмо Пачеко, я отнес его к доктору Мурсиа, жилище которого мне пришлось недолго искать. У ворот дома я повстречал юного пажа, который приходил к нам в гостиницу.
– Скажите, братец, – спросил я его, – не служите ли вы, случайно, у дочери господина доктора Мурсиа?
Он отвечал утвердительно, и, судя по его тону, можно было заключить, что ему далеко не внове носить и принимать любовные письма.
– У вас такое услужливое лицо, голубчик, – продолжал я, – что вы, наверно, не откажетесь передать вашей госпоже эту цидульку.
Тот спросил, от кого я принес письмо, и не успел я сообщить, что оно от дона Луиса Пачеко, как он сказал мне:
– Раз это так, то следуйте за мной. Мне приказано вас проводить: Исабела желает поговорить с вами.
Он провел меня в кабинет, где мне недолго пришлось дожидаться появления сеньоры. Я был поражен красотой ее лица: более деликатных черт я никогда не видал. В ней было что-то детское и милое, хотя, наверное, прошло уже добрых тридцать лет, как она вышла из пеленок.
– Друг мой, – сказала она с веселой улыбкой, – вы состоите при доне Луисе Пачеко?
Я отвечал, что три недели тому назад поступил к нему камердинером. Затем я передал порученное мне фатальное письмо. Она прочла его два или три раза: казалось, что она не верит глазам своим; и действительно, она меньше всего ожидала подобного ответа. Она возвела очи к небу, прикусила губы, и все ее поведение в течение нескольких минут свидетельствовало о сердечных муках. Затем она внезапно обратилась ко мне и спросила:
– Скажите, друг мой, не сошел ли дон Луис с ума после нашей разлуки? Его поступок мне непонятен. Объясните мне, если можете, что побудило его писать мне в этом изысканном стиле. Каким демоном он одержим? Если он хочет порвать со мной, то мог бы сделать это как-нибудь иначе и не посылать мне таких грубых писем.
– Сеньора, – отвечал я ей с притворной искренностью, – мой господин, безусловно, не прав, но он некоторым образом был вынужден так поступить. Если вы обещаетесь меня не выдавать, то я открою вам эту тайну.
– Обещаю, – торопливо прервала она меня, – не бойтесь, я вас не подведу: говорите с полной откровенностью.
– В таком случае, – продолжал я, – вот вам все дело в двух словах: вслед за вашим письмом явилась к нам в гостиницу дама, закутанная в непроницаемую вуаль. Она спросила сеньора Пачеко и некоторое время беседовала с ним наедине. Под конец разговора я слыхал, как она сказала ему: «Вы поклялись, что больше никогда с ней не увидитесь; но этого мало: для моего удовлетворения необходимо, чтоб вы сейчас же написали ей записку, которую я вам продиктую; я этого требую». Дон Луис сделал то, что она хотела, и, передав мне письмо, сказал: «Узнай, где живет доктор Мурсиа де ла Льяна, и постарайся половчей передать эту цидульку его дочери Исабеле». Вы видите, сеньора, – продолжал я, – что это нелюбезное письмо – дело рук некой соперницы и что, следовательно, мой господин не так уже виновен.
– О господи, – воскликнула она, – он еще виновнее, чем я думала! Его измена оскорбляет меня сильнее тех резких слов, что начертала его рука. Ах, коварный! Он смел заключить другие узы!.. Но пусть без стеснения предается новой любви, – добавила она, принимая гордый вид, – я не собираюсь становиться ему поперек пути. Пожалуйста, передайте ему, что я уступила бы сопернице и без его оскорблений и что слишком презираю ветреных поклонников, чтоб испытывать малейшее желание звать их назад.
С этими словами она отпустила меня, а сама удалилась из комнаты, весьма разгневанная на дона Луиса.
Я вышел от доктора Мурсиа де ла Льяна, весьма довольный собой, и решил, что, пожелай я пуститься в плутовство, из меня вышел бы ловкий пройдоха. Затем я вернулся в нашу гостиницу, где застал сеньоров Мендоса и Пачеко ужинающими вместе и беседующими так, словно они были знакомы спокон века. Аурора заметила по моему довольному виду, что я недурно справился с ее поручением.
– Так ты вернулся, Жиль Блас? – обратилась она ко мне. – Доложи же нам, что ты сделал.
Пришлось снова доказать свою сметку. Я сказал, что передал пакет в собственные руки и что Исабела, прочитав обе записки, не только не смутилась, но принялась хохотать как безумная и заявила: «Клянусь честью, у молодых сеньоров прелестный стиль; право, прочие люди не умеют писать так изящно».
– Вот что называется ловко выйти из затруднения! – воскликнула моя госпожа. – Поистине, это одна из самых прожженных кокеток.
– Что касается меня, – сказал дон Луис, – то я просто не узнаю Исабелы по этому описанию; видимо, характер ее сильно изменился в мое отсутствие.
– Я тоже был о ней совсем другого мнения, – заметила Аурора. – Приходится признать, что среди женщин есть настоящие оборотни. Я однажды был влюблен в такую особу, и она долго водила меня за нос. Жиль Блас подтвердит вам это: у нее был такой добродетельный вид, что всякий попался бы на удочку.
– Действительно, – вмешался я в разговор, – господь отпустил ей такую рожицу, что она провела бы любого пройдоху; пожалуй, я и сам бы вляпался.
Тут мнимый Мендоса и Пачеко разразились громким хохотом и не только не вознегодовали на то, что я позволял себе вставлять замечания в их беседу, но нередко и сами обращались ко мне, чтоб позабавиться моими ответами. Мы продолжали разговаривать о женщинах, обладающих даром притворства, и в результате этих речей Исабела была уличена и по всей форме признана отъявленной кокеткой. Дон Луис снова подтвердил, что не станет с ней встречаться, а дон Фелис, следуя его примеру, поклялся отныне питать к ней глубокое презрение. После этого оба кавалера заключили между собой дружбу и взаимно пообещали ничего не скрывать друг от друга. Они провели вечер, обменявшись любезностями, и наконец отправились спать каждый в свои покои. Я последовал за Ауророй в ее комнату и отдал ей точный отчет о моей беседе с докторской дочкой, не забыв ни малейшей подробности; я даже наговорил больше, чем было на самом деле, чтобы подластиться к своей госпоже, которая пришла в такой восторг от моего доклада, что чуть было меня не расцеловала от радости.
– Дорогой Жиль Блас, – сказала она, – я в восхищении от твоей сообразительности. Когда человек, на свое несчастье, бывает одержим страстью, заставляющей его прибегать к уловкам, то весьма важно иметь под рукой такого оборотистого малого, как ты. Не унывай, друг мой: мы только что устранили соперницу, которая могла нам помешать. Для начала недурно; но любовники нередко подвержены странным рецидивам, а потому я считаю, что надо ускорить ход событий и с завтрашнего же дня выпустить на сцену Аурору де Гусман.
Я поддержал эту мысль и, оставив сеньора дона Фелиса с его пажом, отправился в боковушку, где помещалась моя постель.
Глава VI К каким хитростям прибегла Аурора, чтобы влюбить в себя дона Луиса Пачеко
Первой заботой обоих новоиспеченных друзей было встретиться на следующее утро. Они начали день с поцелуев, которые Ауроре пришлось принять и вернуть, чтобы сыграть как следует роль дона Фелиса. Затем они отправились прогуляться по городу, а я сопровождал их вместе с Чилиндроном [90] , камердинером дона Луиса. Мы остановились перед университетом, чтоб взглянуть на объявления о книгах, только что вывешенные на дверях. Несколько прохожих также забавлялись чтением этих афиш, и я заметил среди них одного человека, высказывавшего свое мнение по поводу указанных там произведений. Окружающие слушали его с большим вниманием, а сам он, как я тут же установил, считал себя вполне достойным этого. Как большинство таких людишек, он производил впечатление пустого болтуна, наделенного большим апломбом.
– Новый перевод Горация [91] , – говорил он, – который рекомендуется здесь публике таким жирным шрифтом, сделан прозой одним старым университетским педагогом. Эта книга в большом почете у студентов: они расхватали целых четыре издания. Но порядочные люди не купили ни одного экземпляра.
Его рассуждения об остальных книгах были столь же неблагосклонны: он хулил их без всякого милосердия. Видимо, это был какой-то сочинитель [92] . Я не прочь был послушать его мнение до конца, но пришлось последовать за доном Пачеко и доном Фелисом, которые отошли от университета, так как речи этого молодца заинтересовали их не больше, чем критикуемые им книги.
К обеду мы вернулись в гостиницу. Моя госпожа села за стол вместе с Пачеко и искусно завела разговор о своей семье.
– Мой отец, живущий в Толедо, – сказала она, – один из младших сыновей рода Мендоса; а моя мать – родная сестра доньи Химены де Гусман, приехавшей несколько дней тому назад по важному делу в Саламанку, куда она привезла также свою племянницу Аурору, единственную дочь дона Висенте де Гусман, которого вы, быть может, знавали.
– Нет, – отвечал дон Луис, – но я часто слыхал о ней, а также и о вашей кузине Ауроре. Должен ли я верить тому, что мне сказывали об этой юной особе? Уверяют, что никто не сравнится с ней по уму и красоте.
– Что касается ума, – возразил дон Фелис, – то это действительно так; она даже довольно развитая девица. Но не могу сказать, чтоб она была особенной красавицей; люди находят, что мы очень походим друг на друга.
– О, если так, – воскликнул Пачеко, – то она вполне оправдает свою репутацию! У вас правильные черты, прекрасный цвет лица: ваша кузина должна быть очаровательна. Я хотел бы взглянуть на эту сеньору и побеседовать с ней.
– Готов удовлетворить ваше любопытство, и даже сегодня, – отвечал мнимый Мендоса. – После обеда мы отправимся к моей тетке.
Тут моя госпожа внезапно переменила тему беседы и заговорили о безразличных вещах. После обеда, пока оба кавалера готовились навестить донью Химену, я забежал зайцем вперед и предупредил дуэнью о предстоящем визите. Затем я вернулся обратно, чтоб сопровождать дона Фелиса, который наконец повел сеньора дона Пачеко к своей тетке. Но не успели мы зайти в дом, как повстречали донью Химену, показавшую нам знаками, чтоб мы не шумели.
– Тише, тише, – сказала она, понижая голос, – вы разбудите племянницу. Она со вчерашнего дня страдает ужасной мигренью, от которой только что избавилась. Бедное дитя заснуло с четверть часа тому назад.
– Какая неудача, – сказал Мендоса, притворяясь раздосадованным, – а я надеялся повидать кузину и обнадежил этим удовольствием моего друга Пачеко.
– Ну, это не спешное дело, – возразила улыбаясь Ортис, – можно отложить его и на завтра.
После весьма короткой беседы со старухой оба кавалера удалились. Дон Луис повел нас к одному приятелю, молодому дворянину, по имени Габриель де Педрос. Мы провели там остаток дня, даже поужинали, а затем около двух часов пополуночи отправились восвояси. Пройдя, должно быть, с полпути, мы наткнулись посреди улицы на двух людей, валявшихся на земле. Решив, что эти несчастные подверглись нападению, мы остановились, чтоб оказать им помощь, если таковая еще не запоздала. Но, пока мы пытались при царившей темноте определить, по возможности, состояние жертв, явился дозор. Начальник сперва решил, что мы убийцы, и приказал своим людям окружить нас, но, услыхав наши голоса и увидав при свете потайного фонаря лица Мендосы и Пачеко, он возымел о нас лучшее мнение. Стражники осмотрели по его приказу тех, кого мы сочли за покойников. Это был какой-то жирный лиценциат со своим слугой; оба подвыпившие или, вернее, пьяные до полусмерти.
– Господа, – воскликнул один из стражников, – я узнаю этого толстяка-жуира. Ведь это же сеньор лиценциат Гюомар [93] , ректор нашего университета! Хотя вы видите его в довольно жалком состоянии, однако же он великий человек и выдающийся гений. Никакой философ не устоит против него на диспуте; он так и сыплет словами. Жаль только, что он чересчур любит вино, тяжбы и гризеток. Вероятно, он возвращался домой, отужинав у своей Исабелы, где, по несчастью, его спутник нализался не меньше его. Теперь оба очутились в канаве. Прежде чем наш добрый лиценциат стал ректором, это с ним нередко случалось. Почести, как видите, не всегда изменяют нравы.
Мы оставили этих пьяниц на руках дозора, который позаботился о том, чтоб отнести их домой, а сами вернулись в гостиницу, где каждый поспешил предаться покою.
Дон Фелис и дон Луис встали около полудня и, встретившись, заговорили прежде всего об Ауроре де Гусман.
– Жиль Блас, – сказала мне сеньора, – сходи к моей тетке донье Химене и спроси ее от моего имени, можем ли мы, сеньор Пачеко и я, повидать сегодня мою кузину.
Я отправился выполнять поручение или, выражаясь точнее, условиться с дуэньей о плане действий. Договорившись с ней о всех необходимых мероприятиях, я вернулся к мнимому Мендосе.
– Сеньор, – сказал я, – ваша кузина Аурора чувствует себя превосходно. Она поручила мне передать вам от себя, что вы весьма обяжете ее своим посещением, а донья Химена приказала заверить сеньора Пачеко, что в качестве вашего друга он всегда будет желанным гостем.
Услыхав последние слова, дон Луис весьма обрадовался, что не ускользнуло ни от меня, ни от моей госпожи, которая сочла это за доброе предзнаменование. Перед самым обедом пришел лакей сеньоры Химены и сказал дону Фелису:
– Сеньор, к вашей тетушке заходил какой-то человек из Толедо и оставил для вас эту записку.
Мнимый Мендоса вскрыл ее и прочел вслух следующее:
«Если вы хотите получить вести о вашем родителе и узнать важные для вас новости, то по получении сего явитесь немедля к «Вороному коню», что подле университета».
– Мне так хочется узнать эти важные новости, – сказал он, – что я обязательно должен удовлетворить свое любопытство. Не прощаюсь с вами, Пачеко, – добавил он. – Если я не вернусь через два часа, то можете один пойти к моей тетке: я загляну туда после обеда. Жиль Блас передал вам приглашение доньи Химены, и вы вправе ее навестить.
Сказав это, он вышел и приказал мне следовать за собой.
Сами понимаете, что вместо того, чтоб направиться к «Вороному коню», мы поспешили к дому, где жила Ортис. Прибыв туда, мы приготовились разыграть свою пьесу: Аурора сняла русый парик, вымыла и вытерла брови, надела женское платье и превратилась в прелестную брюнетку, каковой была на самом деле. Действительно, костюмировка изменяла ее до такой степени, что Аурора и дон Фелис казались разными личностями. К тому же она выглядела выше в женском наряде, нежели в мужском, чему, впрочем, немало способствовали чапины [94] , которые обычно были у нее очень высокие.
Усилив свои чары с помощью всех средств, изобретенных искусством, она принялась поджидать дона Луиса с волнением, к которому примешивались страх и надежда. То она полагалась на свой ум и красоту, то ей мерещилось, что опыт кончится неудачей. Ортис, со своей стороны, всячески готовилась поддержать свою госпожу. А что касается меня, то, пообедав, я тотчас же удалился, так как Пачеко не должен был застать меня в этом доме и мне, подобно актеру, выступающему только в последнем акте, предстояло явиться к концу визита.
Словом, все было в полном порядке, когда пришел дон Луис. Донья Химена приняла его весьма учтиво, и он в течение двух или трех часов занимал разговором Аурору, после чего я вошел в комнату, где они находились, и, обратившись к кавалеру, сказал:
– Сеньор, мой барин, дон Фелис, не придет сюда сегодня и очень просит вас извинить его: с ним трое каких-то господ из Толедо, от которых он не может избавиться.
– Ах, маленький шалопай! – воскликнула донья Химена. – Он, наверно, закутил.
– Никак нет, сударыня, – возразил я, – сеньор беседует с ними о весьма серьезных делах и поручил мне передать это как вам, так и донье Ауроре.
– Ни-ни, не принимаю никаких извинений, – шутливо проговорила моя госпожа. – Он знает, что мне неможется, и должен оказывать больше внимания лицам, связанным с ним узами крови. А в наказание – пусть не является сюда целых две недели.
– Ах, сеньора, – вмешался тут дон Луис, – не принимайте столь жестокого решения: он и без того достоин жалости, так как лишен был счастья лицезреть вас сегодня.
Они некоторое время шутили на эту тему, после чего Пачеко ретировался.
Прекрасная Аурора тотчас же меняет облик, надевает мужское платье и со всей возможной поспешностью возвращается в меблированные комнаты.
– Простите, любезный друг, – сказала она дону Луису, – что я не последовал за вами к своей тетке; но я никак не мог освободиться от лиц, с которыми мне пришлось быть. Меня, однако, утешает то, что вам представилась возможность удовлетворить свое любопытство. Ну-с, какого же вы мнения о моей кузине? Скажите мне без всякой лести.
– Я от нее в восторге, – отвечал Пачеко. – Вы были правы, говоря, что она на вас похожа. Никогда не видал более сходных черт: тот же овал лица, те же глаза, тот же рот, тот же звук голоса. Есть все же небольшая разница; Аурора выше вас; она брюнетка, а вы блондин; у вас веселый характер, она – серьезна. Вот и все, чем вы отличаетесь друг от друга. Что касается ума, – добавил он, – то вряд ли даже ангелы небесные умнее вашей кузины. Словом, эта молодая особа полна беспримерных достоинств.
Сеньор Пачеко произнес эти последние слова с таким пылом, что дон Фелис сказал ему улыбаясь:
– Я раскаиваюсь, милый друг, что познакомил вас с доньей Хименой. Поверьте мне, не ходите больше к ней: советую вам это ради вашего спокойствия. Аурора де Гусман способна так вскружить вам голову и внушить такую страсть…
– Мне незачем возвращаться к вашей кузине, чтоб влюбиться в нее: дело сделано, – прервал он дона Фелиса.
– Скорблю о вас, – возразил мнимый Мендоса, – ибо вы – человек не постоянный, кузина моя не какая-нибудь Исабела: предупреждаю вас об этом. Она снизойдет только до такого поклонника, который питает законные намерения.
– Законные намерения! – воскликнул дон Луис. – А какие же намерения можно питать по отношению к девушке столь знатного рода? Право, вы меня оскорбляете, если думаете, что я способен бросить на нее непочтительный взгляд. Узнайте меня поближе, любезный Мендоса; увы, я почел бы себя за счастливейшего из смертных, если б она не отвергла моего сватовства и согласилась соединить свою судьбу с моей.
– Это другой разговор, – ответствовал дон Фелис, – и в таком случае я готов оказать вам содействие. Сочувствую вашим желаниям и предлагаю вам свои услуги у Ауроры. Завтра же попытаюсь расположить в вашу пользу свою тетку, которая имеет на нее большое влияние.
Пачеко рассыпался в бесчисленных благодарностях перед кавалером, надававшим ему таких радужных обещаний, и мы с удовольствием заметили, что наша тактика увенчалась успехом. На следующий день мы еще больше разожгли любовь дона Луиса новой выдумкой. Моя госпожа отправилась к донье Химене, как бы для того, чтоб склонить ее на сторону кавалера, а затем, вернувшись обратно, сказала дону Пачеко:
– Я говорил с тетушкой, и мне стоило немалых трудов обеспечить вам ее содействие. Она была ужасно предубеждена против вас. Не знаю, кому вы обязаны тем, что она считала вас ветрогоном, но, несомненно, что кто-то обрисовал вас ей с самой неблагоприятной стороны. К счастью, я взял на себя вашу защиту, и мне удалось в конце концов рассеять дурное мнение, которое она составила себе о ваших нравах. Но это еще не все, – продолжала Аурора, – я хочу, чтоб вы в моем присутствии переговорили с тетушкой: мы постараемся окончательно добиться ее поддержки.
Пачеко проявил необычайное нетерпение свидеться с доньей Хименой, и желание его было удовлетворено на следующее утро. Мнимый Мендоса отвел его к Ортис, и они втроем завели беседу, из которой выяснилось, что дон Луис дал сильно увлечь себя в самое короткое время. Ловкая Химена притворилась растроганной чувствами, которые он выказывал, и обещала кавалеру приложить все усилия, чтоб уговорить племянницу выйти за него замуж. Пачеко бросился к ногам доброй тетушки, чтоб поблагодарить ее за ее доброжелательство, после чего дон Фелис спросил, проснулась ли уже его кузина.
– Нет, – отвечала дуэнья, – она еще почивает, и вам не удастся увидеть ее теперь. Но приходите после обеда и можете беседовать с ней, сколько вам будет угодно.
Ответ доньи Химены, как вы легко можете себе представить, удвоил радость дона Луиса, которому остаток утра показался особенно долгим. Он вернулся в меблированные комнаты вместе с Мендосой, которому доставляло немалое удовольствие наблюдать за своим спутником и примечать у него все признаки истинной любви.
Беседа их вертелась исключительно вокруг Ауроры, а когда они отобедали, то дон Фелис сказал Пачеко:
– У меня есть идея. Я думаю отправиться к тетушке несколько раньше вас и переговорить наедине с кузиной; при этом я постараюсь, по возможности, выведать, как она к вам относится.
Дон Луис одобрил эту мысль и, отпустив своего друга, последовал за ним только час спустя. Моя госпожа так удачно воспользовалась этим временем, что к приходу своего поклонника была уже в женском наряде.
– Я надеялся застать здесь дона Фелиса, – сказал кавалер, поздоровавшись с Ауророй и дуэньей.
– Вы его скоро увидите: он пишет в моем кабинете, – отвечала донья Химена.
Пачеко, казалось, без труда примирился с этой неудачей и затеял беседу с дамами. Несмотря на присутствие предмета своей страсти, он все же заметил, что часы текли, а Мендоса не показывался. Наконец он не выдержал и выразил по этому поводу некоторое удивление. Тогда Аурора внезапно переменила тон и, расхохотавшись, сказала дону Луису:
– Возможно ли, что у вас до сих пор не возникло ни малейшего подозрения относительно проделки, которую с вами выкинули. Неужели русый парик и крашеные брови делают меня настолько неузнаваемой, чтоб можно было до такой степени заблуждаться? Образумьтесь, Пачеко, – продолжала она, становясь снова серьезной, – и узнайте, что дон Фелис де Мендоса и Аурора де Гусман – одно и то же лицо.
Она не удовлетворилась тем, что вывела его из заблуждения, и призналась ему в чувствах, которые питала к нему, а также во всех поступках, предпринятых ею, чтоб его пленить. Дон Луис был столь же очарован, сколь и удивлен. Он упал на колени перед моей госпожой и воскликнул с жаром:
– Ах, прекрасная Аурора! Действительно ли я тот счастливый смертный, к которому вы отнеслись с такой благосклонностью? Чем выразить мне свою признательность? Даже вечной любви недостаточно, чтоб отплатить за это.
За этими словами последовали многие нежные и страстные речи, после чего влюбленные заговорили о мерах, которые надлежало принять для завершения их желаний. Было решено немедленно же отправиться в Мадрид и закончить нашу комедию браком. Это намерение осуществилось почти сейчас же после того, как было задумано. Спустя две недели дон Луис женился на моей госпоже, и свадьба подала повод для бесконечных празднеств и увеселений.
Глава VII Жиль Блас меняет кондицию и переходит на службу к дону Гонсало Пачеко
Спустя три недели после этой свадьбы моя госпожа пожелала вознаградить меня за оказанные мною услуги. Она подарила мне сто пистолей и сказала:
– Жиль Блас, друг мой, я не гоню вас от себя; живите здесь сколько заблагорассудится; но дядя моего мужа, дон Гонсало Пачеко, выразил желание взять вас к себе в качестве камердинера. Я так расписала ваши достоинства, что он просил меня уступить вас ему. Это добрый человек, старой придворной складки, – добавила она, – вам будет у него очень хорошо.
Я поблагодарил Аурору за доброе отношение, и так как она больше во мне не нуждалась, то принял предложенное место с тем большей охотой, что продолжал служить в той же семье. Того ради отправился я на следующее утро от имени новобрачной к сеньору дону Гонсало. Он лежал еще в постели, хотя было уже около полудня. Когда я вошел в спальню, он кушал бульон, только что принесенный ему пажом. Усы были у него в папильотках, глаза – потухшие, а лицо бледное и тощее. Он принадлежал к числу холостяков, которые, проведя молодость в распутстве, не становятся благоразумнее и в более пожилом возрасте. Дон Гонсало принял меня любезно и сказал, что если я готов служить ему с таким же усердием, как и его племяннице, то он позаботится о моем благополучии. Получив такое заверение, я обещал ему не меньшую преданность, и он тут же оставил меня при себе.
Таким образом я очутился у нового хозяина, и черт его знает, что это был за человек. Когда он встал, то мне показалось, что я присутствую при воскрешении Лазаря. Представьте себе длинное тело, такое сухопарое, что если бы его раздеть, то на нем можно было бы отлично изучать остеологию. Ноги у него были до того худы, что они показались мне жердочками, даже после того как он натянул на них три или четыре пары чулок. Помимо того, эта живая мумия страдала астмой и кашляла всякий раз, как ей приходилось произнести какое-либо слово.
Сперва он откушал шоколаду, а затем, спросив бумагу и чернил, написал записку, которую запечатал и приказал пажу, подававшему ему бульон, отнести по назначению. После этого он обратился ко мне:
– Я намерен, друг мой, отныне передавать тебе все мои поручения и в особенности те, которые касаются доньи Эуфрасии. Это – молодая дама, которую я люблю и которая отвечает мне нежной взаимностью.
«Боже праведный! – подумал я про себя, – к чему удивляться молодым людям, приписывающим себе любовные успехи, когда даже этот старый греховодник воображает, что его боготворят?»
– Жиль Блас, – продолжал он, – я сегодня же сведу тебя к донье Эуфрасии, так как ужинаю у нее почти каждый вечер. Ты увидишь весьма приятную сеньору и будешь в восхищении от ее благоразумия и скромности. Она нисколько не похожа на тех вертопрашек, которые интересуются молодежью и увлекаются внешностью. Напротив, донья Эуфрасия обладает зрелым умом и рассудительностью; она требует от мужчины искренних чувств и предпочитает самым блестящим кавалерам поклонника, который умеет любить.
Сеньор дон Гонсало не ограничился апологией своей возлюбленной: он объявил ее кладезем всех совершенств. Но на сей раз он нарвался на слушателя, которого нелегко было убедить в этих делах. После всех фортелей, которые выкидывали на моих глазах актерки, я перестал верить в любовное благополучие старых вельмож. Из вежливости я сделал вид, что нисколько не сомневаюсь в словах своего господина; более того, я похвалил рассудительность и хороший вкус Эуфрасии. У меня даже хватило наглости заявить, что ей трудно было бы найти более обаятельного поклонника. Простак даже не заподозрил, что я кадил ему бесстыднейшим образом, напротив, он был в восторге от моих слов: ибо так создан свет, что с великими мира сего льстец может отважиться на что угодно, – они готовы слушать самую преувеличенную лесть.
Старик, написав записку, вырвал щипчиками несколько волосков из подбородка, затем промыл глаза, которые слипались у него от густого гноя. Он вымыл также уши и руки, а по совершении этих омовений покрасил черной краской усы, брови и волосы. Он занимался своим туалетом дольше любой старой вдовы, силящейся затушевать следы времени. Когда он кончал прихорашиваться, вошел другой старец. То был его приятель, граф д’Асумар. Как не похожи были они друг на друга! Граф не скрывал седых волос, опирался на трость и не только не стремился выглядеть молодым, но, казалось, похвалялся своей старостью.
– Сеньор Пачеко, – сказал он входя, – я пришел к вам обедать.
– Добро пожаловать, граф, – отвечал мой господин.
При этом они обнялись, а затем, усевшись, стали беседовать в ожидании обеда.
Сначала речь зашла о бое быков, происходившем за несколько дней до этого. Они вспомнили о кавалерах, отличившихся на этом состязании ловкостью и силой, на что старый граф, подобно Нестору [95] , которому все современное давало повод восхвалять минувшее, сказал со вздохом:
– Увы, нет ныне таких людей, которые сравнились бы с прежними, и не видать на турнирах той пышности, что бывала в дни моей молодости.
Я посмеялся про себя над предубеждением доброго сеньора д’Асумара, который не ограничился одними турнирами. Помню, что за десертом он сказал, глядя на прекрасные персики, которые ему подали:
– В мое время персики были много крупнее, чем теперь; природа слабеет с каждым днем.
«В таком случае, – подумал я про себя с улыбкой, – персики времен Адама были, вероятно, сказочной величины».
Граф д’Асумар засиделся почти до вечера. Не успел мой господин избавиться от него, как тотчас же вышел из дому, приказав мне следовать за собой. Мы отправились к Эуфрасии, которая жила в хорошо обставленной квартире в ста шагах от нашего дома. Она была одета с большой элегантностью и выглядела так моложаво, что я было принял ее за несовершеннолетнюю, хотя ей перевалило, по меньшей мере, за тридцать. Ее, пожалуй, можно было назвать красавицей, а в ее уме я вскоре убедился. Она не походила на тех прелестниц, которые щеголяют блестящей болтовней и вольными манерами: в ее поведении, равно как и в речах, преобладала скромность, и она поддерживала беседу с редкостным остроумием, не пытаясь при этом выдавать себя за умницу. Я приглядывался к ней с превеликим удивлением.
«О небо! – думал я. – Возможно ли, чтоб особа, выказывающая себя такой скромницей, была способна вести распутную жизнь?»
Я представлял себе всех женщин вольного поведения не иначе, как бесстыдными, и был изумлен проявленной Эуфрасией сдержанностью, не рассудив, что эти особы умеют притворяться и стараются приспособиться к богачам и вельможам, попадающим к ним в руки. Если клиенты требуют темперамента, то они делаются бойкими и резвыми; если клиенты любят скромность, то они украшают себя благоразумием и добродетелью. Это настоящие хамелеоны, меняющие цвет в зависимости от настроения и характера мужчины, с которыми им приходится иметь дело.
Дон Гонсало не принадлежал к числу сеньоров, любящих бойких красавиц. Он не выносил этого жанра, и, чтоб его разжечь, женщина должна была походить на весталку. Эуфрасия так и поступала, свидетельствуя этим, что не все талантливые комедиантки играют на сцене.
Оставив своего барина наедине с его нимфой, я спустился в нижние покои, где застал пожилую камеристку, в которой узнал субретку, состоявшую прежде в наперсницах у одной актрисы. Она тоже узнала меня, и сцена нашей встречи была достойна того, чтоб войти в какую-нибудь театральную пьесу.
– Вас ли я вижу, сеньор Жиль Блас! – сказала мне субретка, не помня себя от восторга. – Вы, значит, ушли от Арсении, как и я от Констансии?
– О да! – отвечал я. – И к тому же довольно давно: мне даже довелось с тех пор послужить у одной знатной сеньоры. Жизнь актеров не в моем вкусе: я сам себя уволил, не удостоив Арсению никаких объяснений.
– Отлично сделали, – заявила субретка, которую звали Беатрис. – Я почти так же поступила с Констансией. В одно прекрасное утро я весьма холодно сдала ей свои счета; она приняла их, не говоря ни слова, и мы расстались довольно недружелюбно.
– Очень рад, – сказал я, – что мы встречаемся в более приличном доме. Донья Эуфрасия смахивает на благородную даму, и мне кажется, что у нее приятный характер.
– Вы не ошиблись, – отвечала почтенная субретка, – она из хорошего рода, и это довольно заметно по ее манерам; а что касается характера, то могу ручаться, что нет более ровного и мягкого человека, чем она. Донья Эуфрасия не походит на тех вспыльчивых и привередливых барынь, которые всегда к чему-нибудь придираются, вечно кричат, мучат слуг – словом, таких, у которых служба – ад. Я ни разу не слыхала, чтоб она бранилась: так любит она мягкое обращение. Когда мне случается сделать что-либо не по ней, она выговаривает мне без всякого гнева, и не бывает того, чтоб у нее вырвалось какое-либо поносное словцо, на которые так щедры взбалмошные дамы.
– У моего барина, – отвечал я, – тоже очень мягкий характер; он обращается со мной фамильярно и скорее, как с равным, нежели, как с лакеем; одним словом, это прекраснейший человек, и мы с вами как будто устроились лучше, чем у комедианток.
– В тысячу раз лучше, – сказала Беатрис, – там я вела шумную жизнь, тогда как здесь живу в уединении. К нам не ходит ни один мужчина, кроме сеньора Гонсало. А теперь только вы будете разделять мое одиночество, и это очень меня радует. Я уже давно питаю к вам нежные чувства и не раз завидовала Лауре, когда вы были ее дружком. Надеюсь, что буду не менее счастлива, чем она. Правда, я не обладаю ни молодостью ее, ни красотой, но зато ненавижу кокетство, а это мужчины должны ценить дороже всего: я верна, как голубка.
Добрая Беатрис принадлежала к числу тех особ, которые вынуждены предлагать свои ласки, так как никому не вздумалось бы их добиваться, а потому и я не испытал никакого искушения воспользоваться ее авансами. Но мне не хотелось, чтоб она заметила мое пренебрежение, и я обошелся с ней самым вежливым образом, чтобы не лишить ее надежды покорить мое сердце. Словом, я вообразил, что влюбил в себя престарелую наперсницу, а на самом деле оказалось, что я снова попал впросак. Субретка нежничала со мной не только ради моих прекрасных глаз: она вознамерилась внушить мне любовь, чтоб привлечь меня на сторону своей госпожи, которой она была так предана, что не постояла бы ни перед чем, лишь бы ей услужить. Я познал свою ошибку на следующий же день, когда принес донье Эуфрасии любовное письмецо от своего барина. Эта сеньора приняла меня весьма ласково и наговорила мне всяческих любезностей, к которым присоединилась и камеристка. Одна восхищалась моей наружностью, другая дивилась моему благоразумию и сообразительности. Их послушать, выходило, что сеньор Гонсало обрел в моем лице настоящее сокровище. Словом, они так меня захвалили, что я перестал доверять расточаемым мне дифирамбам и догадался об их намерениях, тем не менее я принял их похвалы с простодушием дурачка и этой контрхитростью обманул плутовок, которые наконец сняли маску.
– Послушай, Жиль Блас, – сказала мне Эуфрасия, – от тебя самого зависит составить себе состояние. Давай действовать заодно, друг мой. Дон Гонсало стар, и здоровье его так хрупко, что малейшая лихорадка, с помощью хорошего врача, унесет его из этого мира. Воспользуемся остающимися ему мгновениями и устроим так, чтоб он завещал мне большую часть своего состояния. Я уделю тебе изрядную долю, и ты можешь рассчитывать на это обещание, как если б я дала его тебе в присутствии всех мадридских нотариусов.
– Сударыня, – отвечал я, – располагайте вашим покорным слугой. Укажите только, какого поведения мне держаться, и вы останетесь мною довольны.
– В таком случае, – продолжала она, – наблюдай за своим барином и докладывай мне о каждом его шаге. В беседе с ним переводи разговор на женщин и пользуйся – но только искусно – всяким предлогом, чтоб расхвалить меня; старайся, чтоб он как можно больше думал обо мне. Но это, друг мой, еще не все, что мне от тебя нужно. Наблюдай внимательно за всем, что происходит в семье Пачеко. Если заметишь, что кто-либо из родственников дона Гонсало очень за ним ухаживает и нацеливается на наследство, то предупреди меня тотчас же. Большего от тебя не требуется: я сумею быстро утопить такого претендента. Мне известны слабые стороны всех его родственников, и я знаю, как выставить их перед доном Гонсало в самом непривлекательном виде; мне уже удалось очернить в его глазах всех племянников и кузенов.
Из этих инструкций, а также из прочих, последовавших за ними, я заключил, что донья Эуфрасия принадлежала к числу тех особ, которые пристраиваются к щедрым старикам. Незадолго до этого она заставила дона Гонсало продать землю и прикарманила себе выручку. Не проходило дня, чтоб она не выклянчила у него какого-нибудь ценного подарка. Помимо этого, она надеялась, что он не забудет ее в своем завещании. Я притворился, будто охотно выполню все ее пожелания, но, по правде говоря, возвращаясь домой, сам сомневался, обману ли своего барина или попытаюсь отвлечь его от любовницы. Последнее намерение представлялось мне честнее первого, и я питал больше склонности к тому, чтоб исполнить свой долг, нежели к тому, чтоб его нарушить. Вдобавок Эуфрасия не обещала мне ничего определенного, и это, быть может, было причиной того, что ей не удалось сломить мою преданность. А потому я решил усердно служить дону Гонсало, в надежде, что если мне посчастливится отвадить барина от его кумира, то я получу большую награду за хороший поступок, нежели за все дурные, какие мог совершить.
Для того чтоб добиться намеченной цели, я прикинулся верным слугой доньи Эуфрасии и убедил ее, будто беспрестанно напоминаю о ней своему барину. В связи с этим я плел ей всякие небылицы, которые она принимала за чистую монету, и так искусно вкрался к ней в доверие, что она сочла меня всецело преданным своим интересам. Чтоб окончательно укрепить ее в этом мнении, я притворился влюбленным в Беатрис, которая была в восторге от того, что на старости лет подцепила молодого человека, и не боялась быть обманутой, лишь бы я обманывал ее хорошо. Увиваясь за нашими принцессами, я и мой хозяин являли две разных картины в одинаковом жанре. Дон Гонсало, сухопарый и бледный, каким я его описал, походил на умирающего, когда умильно закатывал глаза, а моя инфанта разыгрывала маленькую девочку, как только я проявлял страсть, и пользовалась всеми приемами старой потаскухи, в чем ей помогал ее более чем сорокалетний опыт. Она навострилась в этом деле, состоя на службе у нескольких жриц Венеры, которые умеют нравиться до самой старости и умирают, скопив немало добра, награбленного у двух или трех поколений.
Я не довольствовался тем, что навещал Эуфрасию каждый вечер вместе со своим господином, но иногда отправлялся к ней и днем, рассчитывая обнаружить какого-нибудь спрятанного молодого любовника. Однако, в какой бы час я ни заходил, мне не удавалось встретить там не только мужчину, но даже женщину подозрительного вида. Я не обнаружил ни малейшего следа какой-либо измены, что немало меня удивляло, так как трудно было поверить, чтоб такая красивая дама была беззаветно верна дону Гонсало. Впрочем, предположения мои оказались вполне обоснованными, и Эуфрасия, как читатель увидит, нашла способ терпеливо скоротать время в ожидании наследства, обзаведясь любовником, более подходящим для женщины ее возраста.
Однажды утром я, как обычно, занес красавице любовное письмецо и, находясь в ее комнате, заметил мужские ноги, торчавшие из-под настенного ковра. Я, разумеется, поостерегся заявить о своем открытии и, выполнив поручение, тотчас же удалился, не показывая вида, будто что-либо заметил. Хотя это обстоятельство не должно было меня удивить и не задевало моих личных интересов, однако же сильно меня взволновало.
«Как? – восклицал я с негодованием. – Коварная, подлая Эуфрасия! Ты не довольствуешься тем, что обманываешь добродушного старца притворной любовью, но в довершение своего вероломства еще отдаешься другому?»
Какие это были глупые рассуждения, как теперь подумаю!
Следовало просто посмеяться над всей этой историей и рассматривать ее как некую компенсацию за скуку и докуку, которые Эуфрасии приходилось терпеть в обществе моего барина. Было бы разумнее вовсе не заикаться об этом, чем разыгрывать из себя преданного слугу. Но вместо того чтоб умерить свое усердие, я принял близко к сердцу интересы дона Гонсало и доложил ему подробно о своем открытии, рассказав также и о том, что Эуфрасия пыталась меня подкупить. Я не утаил от него ни единого слова, ею сказанного, и дал ему возможность составить себе правильное мнение о своей любовнице. Он задал мне несколько вопросов, видимо не вполне доверяя моему донесению; но ответы мои были таковы, что лишили его всякой возможности сомневаться. Он был потрясен, несмотря на хладнокровие, которое обычно сохранял при прочих обстоятельствах, и легкие признаки гнева, отразившегося на его лице, казалось, предвещали, что измена красавицы не пройдет ей безнаказанно.
– Довольно, Жиль Блас – сказал он мне, – я очень тронут усердием, которое ты проявил, и доволен твоей преданностью. Тотчас же иду к Эуфрасии, осыплю ее упреками и порву с неблагодарной.
С этими словами он действительно вышел из дому и отправился к ней, освободив меня от обязанности ему сопутствовать, дабы избавить от неприятной роли, которую мне пришлось бы играть во время их объяснения.
С величайшим нетерпением поджидал я возвращения своего барина. Я не сомневался, что, обладая столь вескими основаниями для недовольства своей нимфой, он вернется, охладев к ее чарам, или, по крайней мере, с намерением от них отказаться. Тешась этими мыслями, я радовался своему поступку. Мне рисовалось ликование законных наследников дона Гонсало, когда они узнают, что их родственник перестал быть игрушкой страсти, столь противной их интересам. Я льстил себя надеждой заслужить их благодарность и рассчитывал отличиться перед прочими камердинерами, которые обычно более склонны поощрять распутство своих господ, нежели удерживать их от него. Меня прельщал почет, и я с удовольствием думал о том, что прослыву корифеем среди служителей. Но несколько часов спустя мой барин вернулся, и эти приятные мечты рассеялись как дым.
– Друг мой, – сказал он мне, – у меня только что был резкий разговор с Эуфрасией. Я обозвал ее неблагодарной женщиной и изменницей и осыпал упреками. Знаешь ли ты, что она мне ответила? Что я напрасно доверяюсь лакеям. Она утверждает, что ты ложно донес на нее. По ее словам, ты просто обманщик и прислужник моих племянников и что из любви к ним ты готов на все, лишь бы поссорить меня с ней. Я видел, как она проливала слезы и притом самые настоящие. Она клялась всем, что есть святого на свете, что не делала тебе никаких предложений и что у нее не бывает ни одного мужчины. Беатрис, которую я считаю порядочной девушкой, подтвердила мне то же самое. Таким образом, против моей воли, гнев мой смягчился.
– Как, сеньор? – прервал я его с огорчением. – Вы сомневаетесь в моей искренности? Вы подозреваете меня…
– Нет, дитя мое, – остановил он меня в свою очередь, – я воздаю тебе справедливость и не верю, чтоб ты был в сговоре с моими племянниками. Я уверен, что ты руководствовался только моими интересами, и благодарен тебе за это. Но в конце концов, видимость бывает обманчива; быть может, все было не так, как тебе показалось; а в таком случае суди сам, сколь твое обвинение должно быть неприятно Эуфрасии. Но как бы то ни было, я не в силах подавить свою любовь к этой женщине. Такова моя судьба: я даже вынужден принести ей жертву, которую она требует от моей любви, и жертва эта заключается в том, чтоб я тебя уволил. Мне это очень грустно, мой милый Жиль Блас, и уверяю тебя, что я согласился лишь с большим сожалением; но я не могу поступить иначе: снизойди к моей слабости. Во всяком случае не огорчайся, потому что я не отпущу тебя без награды. Кроме того, я собираюсь поместить тебя к одной даме, моей приятельнице, где тебе будет очень хорошо.
Я был глубоко задет тем, что мое усердие обернулось против меня, и, проклиная Эуфрасию, жалел о слабохарактерности дона Гонсало, который позволил увлечь себя до такой степени. Добрый старец отлично чувствовал, что, увольняя меня исключительно в угоду своей возлюбленной, совершает не слишком мужественный поступок. Желая поэтому вознаградить меня за свое безволие и позолотить пилюлю, он подарил мне пятьдесят дукатов и на следующий же день отвел к маркизе де Чавес, которой заявил в моем присутствии, что любит меня и что, будучи вынужден расстаться со мной по семейным обстоятельствам, просит ее взять меня к себе. Она тут же приняла меня в число своих служителей, и таким образом я неожиданно очутился на новом месте.
Глава VIII Какой характер был у маркизы де Чавес и какие люди обычно у нее собирались
Маркиза де Чавес была тридцатипятилетней вдовой, красивой, рослой и стройной. Она пользовалась доходом в десять тысяч дукатов и не имела детей. Мне не приходилось встречать более серьезной и менее болтливой сеньоры, что не мешало ей прослыть остроумнейшей женщиной. Возможно, что этой репутацией она была больше обязана наплыву знатных персон и сочинителей, ежедневно ее посещавших, чем своим личным достоинствам. Не берусь судить об этом; скажу только, что имя ее было символом высокого ума, а дом ее называли в городе литературным салоном в полном смысле этого слова.
Действительно, у нее ежедневно читались то драматические поэмы, то другие стихотворения. Но допускались только серьезные вещи; к комическим же произведениям относились с презрением [96] . Самая лучшая комедия, самый остроумный и веселый роман почитались никчемными сочинениями, не заслуживающими никакой похвалы, тогда как какое-нибудь слабое, но серьезное стихотворение, ода, эклога, сонет рассматривались как величайшее достижение человеческого разума. Нередко случалось, что публика не сходилась во мнениях с салоном и порой невежливо освистывала те пьесы, которые имели там успех.
Я был чем-то вроде аудиенцмейстера, т. е. на моей обязанности лежало приготовлять к приему гостей апартаменты моей госпожи, расставлять стулья для мужчин и мягкие табуреты для дам, после чего я должен был дежурить у дверей залы, провожать прибывших и докладывать о них. В первый день, когда я впускал посетителей, паженмейстер [97] , случайно находившийся со мной в прихожей, принялся мне описывать их самым забавным образом. Его звали Андрес Молина. Он был от природы невозмутим и насмешлив и при том не лишен остроумия. Первым прибыл епископ. Я доложил о нем, и, как только он прошел в покои, Молина сказал мне:
– У этого прелата довольно курьезный характер. Он пользуется некоторым влиянием при дворе, но хочет убедить всех, что он в большой силе. Всем и всякому он предлагает свои услуги, но никому их не оказывает. Однажды он встретил в приемной короля кавалера, который ему поклонился. Он останавливает его, осыпает любезностями и, пожимая ему руку, говорит: «Я всепокорный слуга вашей милости. Пожалуйста, испытайте меня: я не могу спокойно умереть, пока не найду случая оказать вам услугу». Кавалер поблагодарил его с величайшей признательностью, а когда они расстались, прелат спросил кого-то из своей свиты: «Этот человек мне как будто знаком; я смутно припоминаю, что где-то его видел».
Вслед за епископом явился сын одного гранда. Я проводил его в покои своей госпожи, после чего Молина сказал мне:
– Этот сеньор тоже большой чудак. Представьте себе, он нередко заезжает в какой-нибудь дом, чтоб поговорить с хозяином о важном деле, и выходит оттуда, даже забыв упомянуть о цели своего визита. А вот донья Анхела де Пенафьель и донья Маргарита де Монтальвам, – добавил Молина, завидя двух прибывших сеньор. – Эти две дамы совершенно не похожи друг на друга. Донья Маргарита мнит себя философом; она не спасует даже перед умнейшими саламанскими профессорами, и все их резоны не в силах ее урезонить. Что касается доньи Анхелы, то она не корчит из себя ученой, хотя она весьма развитая особа. Ее рассуждения всегда обоснованны, мысли тонки, а выражения деликатны, благородны и естественны.
– Последний описанный вами характер очень приятен, – сказал я Молине, – но первый, кажется мне, мало подходит к слабому полу.
– Действительно, не слишком, – возразил он с улыбкой, – встречается, впрочем, и немало мужчин, которых он делает смешными. Сеньора маркиза, наша госпожа, тоже слегка заражена философией. А какие здесь сегодня будут диспуты! Дай только бог, чтоб они не затронули религии.
В то время как он договаривал эти слова, вошел сухопарый человек важного и хмурого вида. Мой собеседник не пощадил и его.
– Это одна из тех насупленных личностей, – сказал он, – которые хотят прослыть великими гениями с помощью глубокомысленного молчания или нескольких цитат, надерганных у Сенеки; но если покопаться в них поосновательнее, то оказываются они просто-напросто дураками.
Затем пожаловал довольно статный кавалер с видом, как у нас говорят, «грека», то есть хвата, полного самонадеянности. Я спросил, кто это.
– Драматург, – отвечал мне Молина. – Он сочинил в своей жизни сто тысяч стихов, которые не принесли ему ни гроша; но, как бы в награду за это, он шестью строчками прозы составил себе целое состояние.
Я только что собирался осведомиться поподробнее о богатстве, нажитом таким легким трудом, как услыхал на лестнице превеликий шум.
– Ara! – воскликнул Молина. – Вот и лиценциат Кампанарио. Он сам докладывает о себе еще до своего появления: этот человек начинает говорить у ворот и не перестает, пока не выйдет из дому.
Действительно, все гудело от голоса шумного лиценциата, который наконец вошел в прихожую в сопровождении одного приятеля-бакалавра и не умолкал в течение всего визита.
– Сеньор Кампанарио, должно быть, гениальный человек, – сказал я Молине.
– Да, – отвечал мой собеседник, – он обладает даром блестящих острот, а также иносказательных выражений, и вообще – личность занимательная. Нехорошо только, что сеньор Кампанарио – беспощадный говорун и не перестает повторяться; а если взглянуть на вещи в их настоящем свете, то, пожалуй, главное достоинство его речей заключается в том, что он преподносит их в приятной и комической форме. Но даже лучшие из его острот не сделали бы чести сборнику анекдотов.
Затем явились еще другие лица, которых Молина охарактеризовал самым забавным образом. Он не забыл также нарисовать портрет маркизы, и его отзыв доставил мне удовольствие.
– Могу вам сказать, – продолжал он, – что, несмотря на философию, наша госпожа рассуждает довольно здраво. Характер у нее легкий, и она почти не придирается к прислуге. Это одна из самых разумных барынь высшего света, каких мне приходилось встречать. У нее даже нет никаких страстей. Она не питает склонности ни к игре, ни к амурным делам и интересуется только разговорами. Большинству дам наскучила бы такая жизнь.
Эти похвалы Молины расположили меня в пользу нашей госпожи. Однако же несколько дней спустя мне невольно пришлось заподозрить ее в том, что она вовсе не такой враг любви, и я сейчас расскажу, на каком основании у меня возникло это подозрение.
Однажды, когда маркиза занималась своим утренним туалетом, передо мной предстал человек лет сорока, с неприятным лицом, одетый еще грязнее, чем сочинитель Педро де Мойа, и вдобавок горбатый. Он заявил мне, что желает поговорить с сеньорой маркизой. Я спросил молодчика, от чьего имени он пришел.
– От своего собственного, – гордо отвечал он. – Передайте ей, что я тот кавалер, о котором она беседовала вчера с доньей Анной де Веласко.
Я проводил его до покоя своей госпожи и доложил.
Тут у маркизы вырвалось радостное восклицание, и мне приказано было его впустить. Она не только оказала ему любезный прием, но еще велела всем служанкам удалиться из комнаты. Таким образом, маленький горбун оказался удачливее порядочных людей и остался наедине с маркизой. Горничные и я похохотали над этим свиданием, длившимся свыше часа, после чего моя госпожа отпустила горбуна со всякими учтивостями, свидетельствовавшими о том, что она осталась им чрезвычайно довольна.
Действительно, эта беседа доставила ей такое удовольствие, что в тот же вечер она сказала мне с глазу на глаз:
– Жиль Блас, когда придет горбун, проводите его в мои покои самым незаметным образом.
Признаться, этот приказ навел меня на странные подозрения. Все же, как только коротышка явился, – а это было на следующее утро, – я, исполняя данное мне повеление, проводил его по потайной лестнице в покой маркизы. Мне пришлось проделать это два или три раза, из чего я заключил, что либо у моей госпожи странные наклонности, либо горбун играет роль сводника.
«Клянусь честью, – подумал я под влиянием этих догадок, – было бы простительно, если бы моя госпожа полюбила какого-нибудь нормального человека; но если она втюрилась в обезьяну, то, поистине, я не могу извинить такой извращенности вкуса».
Сколь дурно судил я о своей госпоже! Оказалось, что маленький горбун промышлял магией и что маркиза, легко подпадавшая под влияние шарлатанов, вела с ним секретные беседы, ибо кто-то прославил его познания в этой области. Он показывал судьбу в стакане воды, учил вертеть решето [98] и открывал за деньги все тайны каббалы; проще говоря, это был жулик, существовавший за счет слишком доверчивых людей, и про него рассказывали, будто многие высокопоставленные дамы платили ему постоянную дань.
Глава IX О происшествии, побудившем Жиль Бласа покинуть маркизу де Чавес, и о том, что сталось с ним после
Шесть месяцев прожил я у маркизы де Чавес и был очень доволен своим местом. Но судьба, написанная мне на роду, воспротивилась моему дальнейшему пребыванию в доме этой дамы и даже в Мадриде. Расскажу о приключении, побудившем меня удалиться оттуда.
Между горничными моей госпожи была одна, которую звали Порсия. Она обладала не только молодостью и красотой, но, как мне казалось, также и прекрасным характером. Я пленился ею, не подозревая, что мне придется оспаривать у кого-нибудь ее сердце. Секретарь маркизы, человек заносчивый и ревнивый, был увлечен Порсией. Как только он обнаружил мои чувства, так, не справляясь о том, как относится ко мне Порсия, решил драться со мной на шпагах. С этой целью он как-то утром назначил мне свидание в укромном месте. Так как он был невелик ростом и едва доходил мне до плеча, а к тому же казался слабосильным, то я не счел его особенно опасным соперником. С этой уверенностью отправился я в назначенное место и рассчитывал одержать легкую победу, чтоб затем похвалиться ею перед Порсией. Но исход дела не оправдал моих ожиданий. Маленький секретарь, у которого было два или три года фехтовального опыта, обезоружил меня, как ребенка, и, приставив мне к груди острие шпаги, сказал:
– Готовься принять смертельный удар или поклянись, что сегодня же уйдешь от маркизы де Чавес и больше не будешь помышлять о Порсии.
Я охотно дал эту клятву и сдержал ее без неудовольствия. Мне было неприятно встретиться после моего поражения с челядинцами маркизы, а в особенности со своей прекрасной Еленой, причиной нашего поединка. Я вернулся домой только для того, чтоб забрать все свои вещи и деньги, и в тот же день зашагал по дороге в Толедо, унося с собой туго набитый кошелек и вскинув на плечи узел с пожитками. Хотя я вовсе не обязывался уходить из Мадрида, однако счел за лучшее покинуть этот город, по крайней мере на несколько лет. У меня созрело решение обойти Испанию, останавливаясь по пути в разных городах.
«Моих денег хватит надолго, – рассуждал я. – К тому же я не стану тратить их зря, а когда израсходую все, то снова поступлю на место. Стоит такому малому, как я, пожелать, и он всегда найдет себе службу: только выбирай».
Мне особенно хотелось повидать Толедо, куда я и прибыл через три дня. Я пристал на хорошем постоялом дворе, где меня приняли за важного кавалера благодаря щегольскому костюму покорителя сердец, в который я не преминул нарядиться. Поскольку я корчил из себя петиметра, то мне не стоило никакого труда завязать знакомство с хорошенькими женщинами, жившими по соседству; но, узнав, что тут для начала пришлось бы изрядно раскошелиться, я сдержал свои желания. Осмотрев все достопримечательности Толедо и все еще испытывая охоту к странствиям, я вышел как-то на рассвете из города и пошел по дороге в Куэнсу с намерением добраться до Арагона. На второй день я остановился в харчевне, повстречавшейся мне на пути. В то время как я собирался утолить жажду, появился отряд стражников Священной Эрмандады. Эти господа заказали вина и принялись его распивать; при этом они разговорились о приметах молодого человека, которого им было велено задержать.
– Этому кавалеру около двадцати трех лет, – сказал один из них. – У него длинные черные волосы, фигура стройная, нос орлиный, и разъезжает он на темно-гнедом коне.
Я притворился, что не слышу, о чем они говорят, и действительно меня это нисколько не интересовало. Оставив их в харчевне, я продолжал свой путь, но, не пройдя и четверти мили, повстречал молодого статного кавалера, сидевшего на гнедой лошади.
«Честное слово, или я основательно ошибаюсь, или это тот человек, которого разыскивают стражники, – подумал я про себя. – У него длинные черные волосы и орлиный нос. Его-то они и хотят сцапать. Надо ему услужить».
– Сеньор, – остановил я всадника, – разрешите спросить, нет ли за вами какого дела чести?
Молодой человек молча поглядел на меня и, видимо, удивился моим словам. Я заверил его, что задал ему такой вопрос не из пустого любопытства. Он вполне в этом убедился, когда я рассказал ему то, что слышал в харчевне.
– Великодушный незнакомец, – сказал он, – не скрою от вас, что имею основания опасаться этих стражников, которые разыскивают именно меня, и, для того чтоб их избежать, выберу другую дорогу.
– По-моему, – сказал я, – нам лучше отыскать такое место, где вы были бы в безопасности и где мы могли бы укрыться от грозы, которая нависла в воздухе и не замедлит разразиться.
Тут нам бросилась в глаза аллея довольно густых деревьев. Мы пошли по ней, и она привела нас к подножию горы, где мы наткнулись на келью пустынника.
То был просторный и глубокий грот, который время прорыло в горе; рука человека добавила к нему пристройку из камешков и ракушек, сплошь прикрытую дерном. Всевозможные цветы покрывали окрестность и разливали в воздухе свои ароматы; подле грота виднелось в горе небольшое отверстие, откуда с шумом вырывался родник, протекавший по лугу. У входа в это одинокое жилище мы заметили доброго отшельника, отягченного годами. Он опирался одной рукой на посох, а в другой держал четки, состоявшие по меньшей мере из двухсот крупных бусин. Голова его утопала в коричневом шерстяном треухе, а борода, белее снега, доходила до пояса. Мы подошли к нему.
– Отче, – сказал я, – не откажите нам в убежище от надвигающейся грозы.
– Пойдемте, дети мои, – отвечал анахорет, оглядев меня внимательно, – сия пустынь к вашим услугам, и вы можете оставаться здесь сколько вам заблагорассудится. Что же касается вашего коня, – добавил он, указывая на пристройку, – то вот для него отличное место.
Сопровождавший меня кавалер впустил туда лошадь, после чего мы последовали за старцем внутрь грота.
Не успели мы войти, как разразился сильный дождь, сопровождаемый молниями и ужасающими раскатами грома. Подвижник опустился на колени перед изображением св. Пахомия [99] , прикрепленным к стене, а мы последовали его примеру. В это время гром прекратился. Мы поднялись, и так как дождь все еще продолжался, а ночь надвигалась, то старец сказал нам:
– Не советую вам, дети мои, пускаться снова в путь при такой погоде, если у вас нет спешных дел.
Я и молодой человек отвечали ему, что нам некуда торопиться и что если бы мы не боялись его стеснить, то попросили бы разрешения провести ночь в келье.
– Вы нисколько меня не стесните, – отвечал отшельник. – Если кого надо пожалеть, то только вас. Вам придется удовольствоваться весьма скверным ложем, и я не могу предложить вам ничего, кроме скромной трапезы анахорета.
Затем святой муж пригласил нас усесться за маленьким столиком и, достав несколько луковиц, ломоть хлеба и кружку с водой, продолжал:
– Вот, любезные дети, моя обычная пища; но сегодня из любви к вам я позволю себе некоторое излишество.
С этими словами он отправился за небольшим куском сыра и двумя пригоршнями орехов, которые разложил на столе. Молодой человек, не испытывавший большого аппетита, пренебрег этими яствами.
– Вижу, – сказал отшельник, – что вы привыкли к лучшему столу, чем мой, или, вернее, что чревоугодие извратило ваш естественный вкус. Я тоже был таким, когда жил в миру. Самое нежное мясо, самое упоительное рагу были недостаточно хороши для меня: но с тех пор как я пребываю в уединении, ко мне вернулись естественные вкусовые ощущения. Я люблю теперь только корешки, плоды, молоко – словом, то, чем питались наши праотцы.
Во время этой речи молодой человек впал в глубокую задумчивость. Отшельник заметил это и сказал:
– Сдается мне, сын мой, что дух ваш находится в смятении. Позвольте узнать, что вас смущает. Откройте мне ваше сердце. Не любопытство, а одно только милосердие руководит мною. Я в таких летах, что могу давать советы, а вы, быть может, попали в положение, когда в них нуждаетесь.
– Да, отец мой, – отвечал кавалер со вздохом, – я безусловно в них нуждаюсь и не премину последовать вашим наставлениям, раз вы так любезно их предлагаете. Думаю, что не рискую ничем, доверившись такому человеку, как вы.
– Разумеется, сын мой, вам нечего опасаться; можете открыться мне во всем.
Тогда кавалер рассказал ему следующее.
Глава X История дона Альфонса и прекрасной Серафины
«Не стану скрывать ничего, отец мой, ни от вас, ни от этого кавалера, который меня слушает: после проявленного им великодушия я не вправе отнестись к нему с недоверием. Поведаю же вам свои злоключения.
Я родился в Мадриде, и вот каково мое происхождение. Один офицер немецкой гвардии [100] , по фамилии барон Штейнбах, возвращаясь как-то вечером домой, заметил у крыльца белый полотняный узел. Он поднял его и отнес в покои жены, где обнаружилось, что в свертке лежит новорожденный младенец, завернутый в белоснежные пеленки; при нем оказалась записка, сообщавшая, что он отпрыск благородных родителей, которые дадут со временем знать о себе, и что он при крещении наречен Альфонсом. Я – тот несчастный ребенок, и вот все, что я знаю о себе. Бог ведает, являюсь ли я жертвой чести или измены, подкинула ли меня мать только для того, чтоб скрыть свои позорные шашни, или, соблазненная неверным любовником, оказалась перед жестокой необходимостью отречься от меня.
Но как бы то ни было, барон и его супруга приняли участие в моей судьбе, и так как они были бездетны, то решились воспитать меня под именем дона Альфонсо. По мере того как я рос, они все больше и больше привязывались ко мне. Мои мягкие и обходительные манеры побуждали их постоянно ласкать меня. Словом, мне выпало счастье заслужить их любовь, и они наняли для меня всевозможных учителей. Мое воспитание стало их единственной заботой, и они не только не дожидались с нетерпением появления моих родителей, но, казалось, напротив, жаждали, чтоб мое происхождение осталось навсегда неизвестным.
Когда я оказался в состоянии носить оружие, барон поместил меня в войска. Выхлопотав мне чин прапорщика, он снарядил меня в поход и, желая побудить к тому, чтобы я не упускал ни одной возможности добиться славы, заявил, что пути к ней открыты для всякого и что я на войне могу составить себе имя, которым к тому же буду обязан только самому себе. В то же время он открыл мне тайну моего рождения, каковую до тех пор скрывал от меня. Так как я слыл за его сына, чему и сам верил, то признаюсь вам, что его сообщение глубоко меня потрясло. Я не мог, да и теперь еще не могу подумать об этом без стыда. Чем больше чувства убеждают меня в моем благородном происхождении, тем сильнее печалюсь я о том, что покинут лицами, даровавшими мне жизнь.
Я отправился служить в Нидерланды; но вскоре был заключен мир, и так как Испания осталась без врагов, – хотя и не без завистников, – то я вернулся в Мадрид, где барон и его супруга оказали мне новые знаки своего расположения. Прошло уже два месяца после моего возвращения, как однажды поутру в мою комнату вошел маленький паж и подал мне записку приблизительно следующего содержания:
«Я не безобразна и телом не урод, а между тем вы ежедневно видите меня у окна и не оказываете мне никаких знаков внимания. Такое обхождение не соответствует вашему галантному виду, и я так этим раздосадована, что хотела бы из мести внушить вам любовь».
Получив эту цидульку, я не сомневался, что она исходила от одной вдовы, по имени Леонор, жившей против нашего дома и стяжавшей себе славу превеликой кокетки. Я спросил об этом маленького пажа, который хотел было разыграть скромного слугу, но, получив дукат, удовлетворил мое любопытство. Он даже взялся передать ответ, в котором я сообщал госпоже Леонор, что сознаюсь о своем грехе и что, насколько я чувствую, она уже наполовину отомщена.
Я не остался бесчувственен к такого рода любовной стратегии и просидел остаток дня дома, усердно дежуря у своих окон, чтобы наблюдать за дамой, которая не преминула показаться. Я стал делать ей знаки. Она отвечала мне тем же и на следующий день известила меня через маленького пажа, что если я в ту же ночь между одиннадцатью и двенадцатью выйду на нашу улицу, то смогу переговорить с ней у окна нижнего этажа. Хотя я и не испытывал сильного увлечения к этой слишком пылкой вдове, однако же не преминул написать ей ответ, полный страсти, и ждал ночи с таким же нетерпением, как если б был отчаянно влюблен. С наступлением сумерек я в ожидании блаженного часа отправился прогуляться по Прадо. Не успел я туда дойти, как какой-то человек, сидевший верхом на прекрасном коне, спешился около меня и сказал резким тоном:
– Кавальеро, не вы ли сын барона Штейнбаха?
– Да, – отвечал я.
– Значит, – продолжал он, – это вы должны были явиться ночью на свидание к окну Леонор? Я читал ее письма и ваши ответы, которые показал мне ее паж. Сегодня вечером я следовал за вами от вашего дома до этого места и намерен сообщить вам, что у вас есть соперник, честолюбие которого возмущено необходимостью оспаривать у вас ее сердце. Полагаю, что этим все сказано. Мы находимся в уединенном месте; давайте биться, если только вы не предпочитаете избежать моей кары, обещав порвать всякое общение с Леонор. Пожертвуйте мне своими надеждами, или я лишу вас жизни.
– Этой жертвы вам следовало бы просить, а не требовать, – сказал я. – Возможно, что я снизошел бы к вашим просьбам, но на угрозы отвечаю отказом.
– В таком случае давайте биться, – возразил он, привязав коня к дереву. – Такому знатному лицу, как я, не пристало унизиться до просьбы перед человеком вашего звания. Большинство людей моего круга отомстило бы на моем месте менее почетным для вас способом.
Последние слова задели меня за живое, и, видя, что он обнажил шпагу, я последовал его примеру. Мы дрались с таким бешенством, что поединок затянулся ненадолго. Потому ли, что он взялся за дело слишком рьяно, или потому, что был менее искусен, чем я, но вскоре, пронзенный насмерть, он зашатался и упал. Тогда, помышляя только о спасении, я вскочил на его коня и помчался по толедской дороге. Я не смел вернуться к барону Штейнбаху, так как только огорчил бы его своим приключением, и, раздумывая о грозившей мне опасности, счел за лучшее как можно скорее выбраться из Мадрида.
Предаваясь самым грустным размышлениям по этому поводу, я скакал остаток ночи и все утро. Но к полудню пришлось остановиться, чтоб дать отдых коню и переждать жару, сделавшуюся невыносимой. Я укрылся в деревне до наступления ночи, а затем продолжал путь, намереваясь в один перегон добраться до Толедо. Мне уже удалось миновать Ильескас и даже проскакать две мили дальше, когда примерно около полуночи меня застигла посреди поля гроза вроде сегодняшней. Заметив в нескольких шагах от себя сад, обнесенный стеной, я подъехал к нему и, за неимением лучшего убежища, расположился, как мог, вместе со своим конем в углу стены под балконом, выступавшим над дверью павильона. Прислонившись к двери, я почувствовал, что она отперта, и приписал это небрежности челяди. Я спешился и не столько из любопытства, сколько из желания укрыться от дождя, продолжавшего хлестать меня под балконом, вошел в нижний этаж павильона вместе с конем, которого ввел под уздцы.
Пока длилась гроза, я старался рассмотреть место, в котором очутился, и хотя это удавалось мне только при блеске молний, однако сообразил, что дом этот не мог принадлежать людям простого звания. Я все выжидал прекращения дождя, чтобы пуститься в дальнейший путь, но свет, замеченный мною вдалеке, побудил меня изменить свое решение. Оставив лошадь в павильоне и не забыв притворить дверь, я двинулся по направлению к свету с намерением попросить ночлега на эту ночь, так как был убежден, что жильцы этого дома еще не улеглись. Пройдя несколько аллей, я очутился подле здания, дверь которого также оказалась незапертой. Я вошел в зал и, увидав при свете роскошной хрустальной люстры, в которой горело несколько свечей, сказочное великолепие, понял, что нахожусь в доме важного вельможи. Пол был выложен мрамором, прекрасная панель украшена художественной позолотой, карниз отлично сработан, а плафон, видимо, расписан искуснейшими мастерами. Но особенно привлекло мое внимание множество бюстов испанских героев, расставленных вдоль стен зала на постаментах из крапчатого мрамора. Я успел рассмотреть все это, так как не только никто не появлялся, но я даже не слыхал никакого шума, хотя от времени до времени напрягал слух.
На одной стороне зала оказалась незапертая дверь. Открыв ее, я увидал анфиладу покоев, из которых был освещен только последний.
«Как быть? – подумал я. – Следует ли вернуться, или у меня хватит смелости проникнуть в эту комнату?»
Хотя я и сознавал, что было бы разумнее повернуть обратно, однако же не смог устоять против любопытства или, вернее, против власти судьбы, увлекавшей меня вперед. Иду, пересекаю разные горницы и дохожу до той, которая была освещена, т. е. где на мраморном столе горела свеча в позолоченном подсвечнике. Прежде всего мне бросилась в глаза элегантная летняя мебель отличной работы, но вскоре, взглянув на постель, полог которой был наполовину отдернут из-за жары, я увидал нечто, сосредоточившее на себе все мое внимание. То была молодая сеньора, спавшая глубоким сном, несмотря на раскаты грома. Я тихонько приблизился к ней и, разглядывая ее при свете свечи, был совершенно ослеплен ее чертами и цветом лица. Все чувства смутились во мне при этом зрелище. Я был потрясен, вознесен; но, несмотря на волновавшие меня ощущения, мысли о знатном роде сеньоры пресекли дерзновенные поползновения, и почтение одержало верх над страстью. В то время как я опьянялся ее созерцанием, она проснулась.
Представьте себе изумление этой сеньоры, когда она среди ночи обнаружила в своей комнате совершенно незнакомого человека. Она вздрогнула при виде меня и испустила громкий крик. Я попытался ее успокоить и, преклонив колено, сказал ей:
– Сеньора, не опасайтесь ничего; я пришел сюда без злых намерений.
Я собирался было продолжать, но она так испугалась, что не слушала меня. Несколько раз кликнула она своих прислужниц, но так как никто не отозвался, то, схватив пеньюар, лежавший у нее в ногах на спинке постели, она быстро вскочила и бросилась бежать по покоям, которые я перед тем пересек, снова зовя служанок, а также младшую сестру, находившуюся под ее присмотром. Я ожидал, что сбегутся все лакеи, и опасался, как бы они не набросились на меня, не пожелав выслушать, но, на мое счастье, на все ее крики явился только один старый слуга, который не мог оказать ей никакой существенной помощи, если б она действительно подвергалась опасности. Между тем, несколько осмелев от его присутствия, она гордо спросила меня, кто я такой, каким образом и зачем дерзнул проникнуть в ее дом. Я принялся оправдываться, но не успел я сказать, что нашел дверь садового павильона незапертой, как она тотчас же вскричала:
– Боже праведный! Какое подозрение терзает меня!
С этими словами она взяла свечу, стоявшую на столе, и принялась обходить одну горницу за другой, но не нашла там ни служанок, ни сестры и при этом заметила, что они унесли с собой все свои пожитки. Убедившись в правильности своих подозрений, она подошла ко мне и сказала:
– Ах, вероломный человек, не отягчай измены притворством! Вовсе не случайность привела тебя сюда: ты принадлежишь к свите дона Фернандо де Лейва, ты – соучастник его преступления. Но не надейся ускользнуть от меня; здесь осталось еще достаточно людей, чтоб тебя задержать.
– Сеньора, – отвечал я, – не причисляйте меня к числу своих врагов. Я не знаю дона Фернандо де Лейва, и мне даже не известно, кто вы. Дело чести принудило меня, несчастного, покинуть Мадрид, и клянусь вам чем угодно, не застигни меня гроза, я не был бы у вас. Судите обо мне более благосклонно: вместо того чтоб считать меня соучастником нанесенной вам обиды, поверьте, что я скорее готов отомстить за нее.
Эти последние слова, а также тон, которым я их произнес, успокоили даму, и она, видимо, перестала принимать меня за врага, но зато гнев ее сменился печалью. Она принялась горько рыдать. Слезы молодой сеньоры растрогали меня, и я был огорчен не меньше ее, хотя и не имел ни малейшего понятия об ее несчастье. Но я не только плакал вместе с нею: горя желанием отомстить за нее, я чувствовал, как меня охватывает ярость.
– Сеньора, – воскликнул я, – в чем состоит нанесенное вам оскорбление? Скажите мне все: я сочувствую вашей обиде. Угодно ли вам, чтоб я погнался за доном Фернандо и пронзил ему сердце? Назовите мне всех, кого следует истребить! Приказывайте! Каковы бы ни были опасности и невзгоды, связанные с этой местью, незнакомец, которого вы считаете заодно с вашими врагами, готов пожертвовать за вас своей жизнью.
Этот порыв поразил прекрасную даму, и слезы ее прекратились.
– Ах, сеньор, – сказала она, – простите мне подозрение, вызванное тем печальным состоянием, в котором вы меня видите. Ваши великодушные чувства вывели Серафину из заблуждения и даже побудили не стыдиться того, что посторонний человек стал свидетелем бесчестья, нанесенного ее семье. Да, благородный незнакомец, я признаю свою ошибку и не отказываюсь от вашей помощи, но вовсе не требую от вас смерти дона Фернандо.
– В таком случае, – спросил я, – какой же услуги ждете вы от меня?
– Сеньор, – отвечала Серафима, – вот чем я удручена. Дон Фернандо де Лейва влюблен в мою сестру Хулию, которую он случайно увидал в Толедо, где мы обычно живем. Три месяца тому назад он попросил ее руки у графа Подана, моего отца, который отказал ему из-за старой вражды, царящей между нашими родами. Моей сестре нет еще пятнадцати лет; она легкомысленно последовала дурным советам моих прислужниц, несомненно подкупленных доном Фернандо, а этот кавалер, уведомленный о том, что мы находимся одни в нашем загородном доме, воспользовался случаем, чтоб похитить Хулию. Мне хотелось бы, по крайней мере, узнать, какое убежище он избрал, дабы отец мой и брат, уже два месяца пребывающие в Мадриде, приняли нужные меры. Ради господа бога, – добавила она, – потрудитесь обыскать окрестности Толедо и добудьте самые точные сведения об этом похищении: пусть моя семья будет обязана вам этим.
Сеньора Серафина не подумала о том, что это было совсем неподходящее поручение для человека, которому надлежало как можно скорее убраться из Кастилии. Но до того ли ей было? Я сам забыл об опасности. Увлеченный счастьем услужить прелестнейшей в мире особе, я с восторгом принял поручение и поклялся выполнить его столь же быстро, сколь и усердно. Действительно, я не стал дожидаться рассвета, чтоб сдержать свое слово, но тотчас же покинул Серафину, умоляя простить мне причиненный ей испуг и обещая вскоре снабдить ее вестями. Я вышел оттуда тем же путем, каким вошел, однако столь занятый мыслями о даме, что мне нетрудно было понять, насколько я уже увлечен ею. Еще больше убедился я в этом по усердию, с которым рыскал ради нее, и по любовным мечтам, которыми упивался. Мне думалось, что Серафина, несмотря на свою печаль, догадалась о моей зарождающейся любви и, быть может, взглянула на это не без удовольствия. Я даже рисовал себе, что если б мне удалось принести ей точные вести о сестре и если б дело обернулось согласно ее желаниям, то вся честь выпала бы на мою долю.
Дон Альфонсо прервал в этом месте нить своего повествования и спросил старого отшельника:
– Простите меня, отче, если, увлеченный страстью, я останавливаюсь на подробностях, которые, без сомнения, вам наскучили.
– Они мне нисколько не наскучили, сын мой, – отвечал анахорет. – Мне даже очень интересно узнать, до какой степени ваше сердце занято молодой дамой, о которой вы нам рассказываете, ибо я сообразую с этим свои советы.
– Увлекаемый этими соблазнительными мечтами, – продолжал молодой человек, – я двое суток разыскивал похитителя Хулии; но, несмотря на самые рьяные попытки, мне не удалось обнаружить никаких следов. Глубоко раздосадованный бесплодностью своих усилий, я вернулся к Серафине, ожидая застать ее в сильной тревоге. Но она была гораздо спокойнее, чем я думал. Я узнал от нее, что она оказалась счастливее меня и уже получила вести о судьбе своей сестры: сам дон Фернандо уведомил ее письмом, что тайно женился на Хулии и отвез ее в один из толедских монастырей.
– Я отослала его письмо отцу, – продолжала Серафина. – Надеюсь, что все кончится дружелюбно и что торжественное венчание вскоре прекратит распрю, так давно разделяющую наши роды.
Уведомив меня о судьбе своей сестры, она заговорила о причиненном мне беспокойстве и об опасностях, которым по неосторожности подвергла меня, побудив разыскивать похитителя и забыв о том, что я рассказывал ей о своем поединке, заставившем меня спастись бегством. Она извинилась передо мной в самых обходительных выражениях и, заметив мою усталость, пригласила меня в салон, где мы оба уселись. На ней было домашнее платье из белой тафты с черными полосами и небольшая наколка из той же материи, украшенная черными же перьями. Это навело меня на мысль о том, что она вдова; но так как выглядела она очень молодой, то я не знал, какого мнения держаться.
Если я горел желанием получить интересовавшие меня сведения, то и ей не меньше меня хотелось узнать, кто я такой. Она спросила, как меня зовут, и сказала, что моя благородная внешность и великодушная жалость, побудившая меня так горячо принять ее сторону, с несомненностью свидетельствуют о моем знатном происхождении. Вопрос застал меня врасплох; я покраснел и смутился. Но стыд перед правдой оказался слабее, чем стыд перед ложью, и я отвечал, что мой отец, барон Штейнбах, офицер немецкой гвардии.
– Скажите мне также, – продолжала дама, – какая причина побудила вас покинуть Мадрид. Заранее обещаю вам заступничество моего отца, а также моего брата, дона Гаспара. Позвольте мне хотя бы этим ничтожным знаком внимания выразить благодарность кавалеру, рисковавшему своей жизнью, чтобы мне услужить.
Я не счел нужным скрывать от нее обстоятельств поединка. Она осудила убитого мною кавалера и обещала заинтересовать в моем деле всю свою родню.
Удовлетворив ее любопытство, я попросил ее отплатить мне тем же и сказать, связана ли она брачными узами.
– Три года тому назад, – отвечала она, – отец выдал меня замуж за дона Диего де Лара, но вот уже пятнадцать месяцев, как я вдовею.
– Какое же несчастье, сеньора, так рано лишило вас супруга? – спросил я.
– Не стану этого скрывать, сеньор, – ответствовала дама, – дабы отплатить вам за откровенность, которою вы меня почтили.
– Дон Диего де Лара, – продолжала она, – был весьма пригожим кавалером. Он страстно любил меня и, желая мне понравиться, ежедневно делал все, на что только способен нежный и пылкий поклонник ради предмета своей любви. Но, несмотря на свои старания и на все достоинства, которыми он обладал, ему не удалось покорить мое сердце. По-видимому, одного усердия или признанных качеств недостаточно для того, чтоб снискать взаимность. Увы! – добавила она. – Нередко бывает, что совершенно незнакомый человек внушает нам чувство с первого взгляда. Словом, я не могла его полюбить. Своими нежностями он больше смущал, нежели очаровывал меня; я была вынуждена отвечать на них без склонности, и хотя втайне укоряла себя в неблагодарности, но все же и свою участь считала достойной сожаления. На его, да и на мое несчастье, он был еще более чуток, чем влюблен. Он угадывал все, что скрывалось за моими поступками и речами, и читал в глубине моей души. Беспрестанно жаловался он на мое равнодушие, и невозможность мне понравиться тем более огорчала его, что он даже не мог винить в этом соперника: мне не было еще и шестнадцати лет, и, прежде чем посвататься ко мне, он подкупил всех моих служанок, которые удостоверили, что никто еще не привлек моего внимания. «Да, Серафина, – говаривал он часто, – я хотел бы, чтоб вы питали склонность к другому и чтоб это было единственной причиной вашего равнодушия ко мне. Мои старания и ваша добродетель восторжествовали бы над этим увлечением; но теперь я отчаиваюсь пленить ваше сердце, раз оно не откликнулось на все проявления моей любви». Устав слушать постоянно одни и те же речи, я посоветовала ему лучше положиться на время и не нарушать моего, да и своего покоя чрезмерной чувствительностью. Действительно, в тогдашнем моем возрасте я была еще не в состоянии оценить тонкости столь изысканной любви. Так бы и следовало поступить дону Диего; но, видя, что прошел целый год, а он не добился ничего, мой муж потерял терпение или, вернее, рассудок и, сославшись на дело, якобы требовавшее его присутствия при дворе, отправился вместо этого воевать в Нидерланды в качестве волонтера. Вскоре он нашел среди опасностей то, чего искал, т. е. конец своей жизни и своих мучений.
После того как донья Серафина окончила свой рассказ, мы принялись беседовать о странном характере ее супруга. Наш разговор был прерван прибытием курьера, привезшего Серафине письмо от графа Полана. Она попросила у меня позволения прочитать его, и я заметил, как во время чтения она побледнела и задрожала. Дочитав до конца, она воздела глаза к небу, испустила долгий вздох, и лицо ее в одно мгновение оросилось слезами. Я не остался равнодушен к ее горю. Меня объяла тревога, и, точно предугадывая удар, который должен был меня поразить, я почувствовал, как сердце леденеет от смертельного страха.
– Сеньора, – спросил я почти угасшим голосом, – позвольте спросить вас, о каком новом несчастье извещает вас это послание?
– Возьмите его, сеньор, – грустно отвечала Серафина, передавая мне письмо, – прочтите сами, что пишет мой отец. Увы, оно вас даже слишком касается.
После этих слов, вселивших в меня ужас, я с дрожью взял письмо и прочел следующее:
«Ваш брат, дон Гаспар, дрался вчера в Прадо. Его ранили шпагой, отчего он скончался сегодня. Перед смертью он заявил, что убивший его кавалер – сын барона Штейнбаха, офицера немецкой гвардии. В довершение несчастья убийца ускользнул от меня. Он бежал, но я не пожалею ничего, чтоб его изловить, в каком бы месте он ни скрывался. Я напишу нескольким губернаторам, которые не преминут арестовать его, если он проедет через вверенные им города. Кроме того, я постараюсь с помощью других писем преградить ему все дороги. Граф Подан».
Можете себе представить, в какое смятение привело это письмо все мои чувства. Несколько минут я пребывал в полной неподвижности, будучи не в силах произнести ни одного слова. Подавленный этой вестью, я предвидел жестокие последствия, которыми смерть дона Гаспара угрожала моей любви. Меня внезапно охватило глубокое отчаяние. Я бросился к ногам Серафины и, подавая ей обнаженную шпагу, воскликнул:
– Сеньора, освободите графа Полана от необходимости разыскивать человека, который мог бы ускользнуть от его кары. Отомстите за своего брата; уничтожьте убийцу собственной рукой: пронзите меня. Пусть тот же клинок, который лишил его жизни, станет роковым и для его несчастного врага.
– Сеньор, – возразила Серафина, отчасти растроганная моим поступком, – я любила дона Гаспара; хотя вы убили его в честном поединке и хотя он сам виновен в своем несчастье, но вы, конечно, понимаете, что я разделяю чувства отца. Да, дон Альфонсо, я ваш враг и предприму против вас все, чего требуют кровь и дружба; но я не стану злоупотреблять вашей неудачей, хотя бы она и дала мне возможность осуществить свое мщение; если честь вооружает меня против вас, то она же запрещает мне мстить недостойным образом. Обязанности гостеприимства ненарушимы, и я не хочу отплатить убийством за услугу, которую вы мне оказали. Бегите! Скройтесь, если удастся, от наших преследований и от кары закона и спасите свою голову от угрожающей опасности.
– Как, сеньора, – продолжал я, – вы можете отомстить и предоставляете это закону, который, быть может, не удовлетворит вашей ненависти? Ах, пронзите лучше презренного, который недостоин вашей пощады! Нет, сударыня, не обращайтесь со мной так благородно и великодушно. Знаете ли вы, кто я? Весь Мадрид считает меня сыном барона Штейнбаха, а я только подкидыш, которого он воспитал из жалости. Мне даже не известно, кто мои родители.
– Это безразлично, – прервала меня Серафина с такой поспешностью, как если б мои последние слова доставили ей новое огорчение, – будь вы даже последним из людей, я сделаю то, что мне повелевает честь.
– Но если смерть брата, сударыня, не в силах побудить вас к тому, чтобы вы пролили мою кровь, то я разожгу вашу ненависть новым преступлением, дерзость которого вы, надеюсь, не сможете простить. Я обожаю вас: с первого же взгляда ваши чары ослепили меня, и, несмотря на неопределенность своей судьбы, я возмечтал посвятить себя вам. Да, я был влюблен или, вернее, настолько тщеславен! Я надеялся, что небо, которое, быть может, щадит меня, утаивая мое происхождение, откроет мне его когда-нибудь и что я смогу, не краснея, назвать вам свое имя. Неужели и после этого оскорбительного признания вы не решитесь меня наказать?
– Это дерзкое признание, – отвечала она, – оскорбило бы меня во всякое другое время; но я прощаю вам ради тех волнений, которые вы переживаете. Кроме того, в моем теперешнем состоянии мне не до слов, которые у вас вырвались. Еще раз, дон Альфонсо, – добавила она, прослезившись, – уезжайте! Покиньте дом, который вы наполняете печалью; каждая лишняя минута вашего пребывания усиливает мои муки.
– Я более не противлюсь, сеньора, – возразил я, приподымаясь. – Мне приходится покинуть вас, но не думайте, что, тщась сохранить свою жизнь, которая вам ненавистна, я стал бы искать надежного убежища. Нет, нет, я приношу себя в жертву вашему гневу. С нетерпением буду ждать в Толедо участи, которую вы мне уготовите, и, не уклоняясь от ваших преследований, сам ускорю конец своих злоключений.
С этими словами я удалился. Мне подали лошадь, и я отправился в Толедо, где пробыл неделю и где действительно так мало скрывался, что, право, не знаю, как меня не арестовали, ибо не думаю, чтоб граф Полан, который старается заградить мне все пути, не сообразил, что я могу проехать через Толедо. Наконец вчера я покинул этот город, где, казалось, сам лезу в западню, и, не выбирая никакой определенной дороги, доехал до этого грота, как человек, которому нечего терять. Вот, отец мой, что меня терзает. Прошу не оставить меня своим советом».
Глава XI Что за человек был старый отшельник и как Жиль Блас очутился в знакомой компании
Когда дон Альфонсо закончил печальное повествование о своих невзгодах, старый отшельник сказал:
– Сын мой, вы поступили весьма безрассудно, оставаясь так долго в Толедо. Я взираю иными глазами на все то, что вы мне рассказали, и ваша любовь к Серафиме представляется мне сплошным безумием. Поверьте мне, смотрите действительности в лицо: вы должны забыть эту молодую даму, которая не может стать вашей. Отступите добровольно пред препятствиями, которые вас разделяют, и следуйте за вашей звездой, которая, судя по всем данным, уготовила вам другие приключения. Вы безусловно встретите какую-нибудь юную особу, которая произведет на вас такое же впечатление и брата которой вы не убивали.
Он собрался было добавить еще много всяких наставлений, клонившихся к тому, чтоб убедить дона Альфонсо вооружиться терпением, как в пещеру вошел другой отшельник, нагруженный туго набитой сумой. Он вернулся из города Куэнсы, где собрал обильные пожерствования. Выглядел он моложе своего товарища, а борода его была рыжая и очень густая.
– Добро пожаловать, брат Антонио, – сказал старый анахорет. – Какие новости принесли вы из города?
– Довольно дурные, – отвечал рыжий брат, передавая ему бумажку, сложенную в форме письма. – Вы узнаете все из этой записки.
Старец вскрыл письмо и, прочитав с должным вниманием, воскликнул:
– Ну и слава богу! Раз хвостик найден, то нам остается только принять какое-нибудь решение. Переменим тон, сеньор Альфонсо, – продолжал он, обращаясь к молодому кавалеру. – Вы видите перед собой человека, подобно вам подверженного капризам судьбы. Мне сообщают из Куэнсы, лежащей в одной миле отсюда, что меня очернили в глазах правосудия, все сподвижники которого должны с завтрашнего же дня двинуться походом на этот скит, чтоб заручиться моей особой. Но они не застанут зайца в норе. Я уже не впервые попадаю в такие переделки. Благодарение господу, мне почти всегда удавалось отвертеться с умом. Я предстану перед вами в новом обличье, ибо ваш покорный слуга вовсе не отшельник и вовсе не старик.
С этими словами он скинул с себя свой длинный балахон и оказался в камзоле из черной саржи с прорезными рукавами. Затем он снял треух, развязал шнурок, на котором держалась его приставная борода, и мы неожиданно увидели перед собой человека в возрасте от двадцати восьми до тридцати лет. По его примеру брат Антонио сбросил отшельническую одежду и, отделавшись от бороды тем же способом, что и его товарищ, вытащил из старого, наполовину источенного деревянного баула дрянную сутанеллу, в которую тут же и облачился. Но представьте себе мое удивление, когда я узнал в старом анахорете сеньора Рафаэля, а в брате Антонио – моего дорогого и верного слугу Амбросио Ламела.
– Ого! – вырвалось у меня. – Я, кажется, попал в знакомую компанию!
– Действительно так, сеньор Жиль Блас, – отвечал мне со смехом дон Рафаэль, – вы встретили двух своих друзей в тот момент, когда меньше всего этого ожидали. Согласен, что у вас есть кой-какие основания жаловаться на нас; но забудем прошлое и возблагодарим небо за то, что оно нас свело: Амбросио и я предлагаем вам свои услуги, коими отнюдь не стоит пренебрегать. Не считайте нас злодеями. Мы ни на кого не нападаем и никого не убиваем: мы только стараемся жить на чужой счет; но если кража является несправедливым поступком, то необходимость оправдывает эту несправедливость. Присоединитесь к нам и давайте бродить вместе. Это очень приятный образ жизни, если кто умеет соблюдать осторожность. Правда, несмотря на всю нашу предусмотрительность, сцепление второстепенных обстоятельств бывает иногда таково, что с нами случаются неприятные приключения; но наплевать, ибо зато мы еще больше ценим приятные. Мы привыкли к смене погоды, к превратностям Фортуны.
– Сеньор кавальеро, – продолжал мнимый отшельник, обращаясь к дону Альфонсо, – мы делаем вам такое же предложение, и с вашей стороны было бы неблагоразумно отвергать его в вашей теперешней ситуации, ибо, не говоря уже о деле, заставляющем вас скрываться, вы, вероятно, сейчас не при деньгах.
– Вы угадали, – отвечал дон Альфонсо, – и признаюсь, что это усиливает мои огорчения.
– В таком случае, – продолжал дон Рафаэль, – не покидайте нас. Самое лучшее, что вы можете придумать, – это присоединиться к нам. У вас не будет недостатка ни в чем, и мы сделаем бесплодными преследования ваших врагов. Нам знакома почти вся Испания, которую мы обошли вдоль и поперек. Мы знаем, где находятся леса, горы и все места, пригодные для того, чтоб служить убежищем от жестокостей правосудия.
Дон Альфонсо поблагодарил их за хорошее отношение и, будучи действительно без денег и без всяких других средств, согласился сопровождать их. Я тоже решился на это, так как не хотел покидать молодого человека, к которому начинал питать большое расположение.
Мы условились отправиться вчетвером и не расставаться. Договорившись относительно этого, мы принялись обсуждать, двинуться ли нам в путь тотчас же или сперва приложиться к бурдюку с отличным вином, который брат Антонио принес накануне из Куэнсы; но Рафаэль, как наиболее опытный, заявил, что сперва следует подумать о безопасности и что, по его мнению, надлежит добраться за ночь до дремучего леса между Вильярдесой и Альмодаваром, где мы можем сделать привал и без малейшей тревоги провести день, предаваясь отдыху. Мы одобрили зто предложение. Тогда мнимые отшельники собрали в два узла всю провизию и все свои пожитки и нагрузили ими, наподобие переметных сумок, коня дона Альфонсо. Это было выполнено с невероятной быстротой, после чего мы удалились из скита, оставив в добычу правосудию два отшельнических балахона, одну седую и одну рыжую бороды, две жалких лежанки, стол, дрянной баул, два старых соломенных кресла и изображение св. Пахомия.
Мы прошагали всю ночь и уже начали испытывать усталость, когда заметили на заре лес, к которому стремились. Вид гавани придает свежие силы матросам, утомленным долгим плаванием. Это ободрило нас, и мы, наконец, достигли цели нашего странствования еще до восхода солнца. Углубившись в самую гущу леса, мы расположились в весьма приятном месте на лужайке, окруженной несколькими могучими дубами, сплетенные ветви которых образовывали свод, не проницаемый для дневной жары. Разгрузив и разнуздав коня, мы предоставили ему пастись, а сами уселись на газоне. Извлекши из сумы брата Антонио несколько здоровенных ломтей хлеба и кусков жареного мяса, мы принялись уписывать за обе щеки. Но, несмотря на аппетит, мы нередко прерывали еду, чтобы хлебнуть из бурдюка, который то и дело переходил из одних объятий в другие.
Под конец трапезы дон Рафаэль сказал дону Альфонсо:
– Сеньор кавальеро, в ответ на вашу откровенность считаю долгом с такой же искренностью рассказать вам историю своей жизни.
– Вы доставите мне этим большое удовольствие, – ответил молодой человек.
– А мне в особенности, – воскликнул я. – Сгораю от любопытства узнать ваши похождения, которые, несомненно, стоят того, чтоб их послушать.
– Ручаюсь вам за это, – возразил дон Рафаэль. – Я собираюсь когда-нибудь записать их, но приберегаю эту забаву на старость, ибо я еще молод и надеюсь основательно пополнить сей том. Однако все мы утомлены; давайте поспим несколько часов. Пока мы трое будем отдыхать, Амбросио покараулит во избежание какой-либо неожиданности, а затем вздремнет в свою очередь.
С этими словами он растянулся на земле. Дон Альфонсо сделал то же. Я последовал их примеру, а Амбросио стал на стражу.
Вместо того чтоб предаться отдыху, дон Альфонсо принялся раздумывать над своими несчастьями. Я тоже не сомкнул глаз. Что касается дона Рафаэля, то он вскоре заснул, но, проснувшись час спустя и видя, что мы расположены его слушать, сказал Ламеле:
– Друг Амбросио, ты сможешь теперь усладить себя сном.
– Ни-ни, – отвечал Ламела, – я вовсе не хочу спать, и хотя мне известны все происшествия вашей жизни, однако они так поучительны для людей нашей профессии, что я с охотой послушаю их снова.
Тотчас же дон Рафаэль приступил к своему повествованию и рассказал нам следующее.
Книга пятая
Глава I Похождения дона Рафаэля
– Я сын мадридской актрисы, прославившейся своим декламаторским талантом, а еще больше своими любовными связями. Ее звали Лусиндой. Что касается отца, то не дерзну приписать себе такового. Я могу назвать вам вельможу, который был влюблен в мою мать, когда я появился на свет; но эти хронологические данные едва ли в состоянии служить бесспорным доказательством того, что он был творцом моих дней. Особы, принадлежащие к профессии моей матушки, весьма ненадежны в этом отношении; в то самое время, когда эти дамы кажутся вам особенно преданными какому-нибудь вельможе, они почти всегда находят ему помощника за его же деньги.
Что может быть достойнее, чем стоять выше злословия?!
Вместо того чтоб дать мне воспитание на стороне, Лусинда без стеснения брала меня за руку и открыто водила в театр, не смущаясь ни сплетнями, ходившими на ее счет, ни лукавыми насмешками, которые обычно вызывало мое появление. Словом, я был ее радостью, и все навещавшие ее мужчины ласкали меня: возможно, что родная кровь влекла их ко мне.
Первые двенадцать лет я провел во всяких пустых забавах. Меня едва обучали читать и писать и еще меньше старались о том, чтоб преподать мне догматы нашей веры. Я научился только танцевать, петь и играть на гитаре – это было все, что я умел, когда маркиз де Леганьес предложил взять меня к своему сыну, который был в одном со мной возрасте. Лусинда охотно согласилась, и тут я всерьез принялся за учение. Молодой Леганьес ушел немногим дальше меня. Этот юный сеньор, видимо, не был рожден для науки; он не знал почти ни одной буквы алфавита, хотя прошло уже пятнадцать месяцев, как при нем состоял гувернер. Другие учителя тоже не добились от него никакого толку; он выводил их из терпения. Правда, им было запрещено прибегать к строгости, а также решительно приказано обучать его без мучений. Этот приказ вдобавок к слабым способностям ученика делал уроки довольно бесполезными.
Но гувернер, как вы сейчас увидите, изобрел отличное средство стращать молодого сеньора, не нарушая при этом отцовского запрещения. Он решил сечь меня всякий раз, как маленький Леганьес провинится, и не преминул выполнить свое намерение. Этот педагогический прием пришелся мне не по вкусу; я удрал и побежал к матушке жаловаться на несправедливость. Но, несмотря на всю ее нежность ко мне, у нее хватило мужества устоять против моих слез, и, учитывая важные преимущества, с которыми было связано для ее сына пребывание у маркиза де Леганьеса, она приказала тотчас же водворить меня обратно. Таким образом я снова попал в лапы гувернера. Заметив, что его изобретение дает хорошие результаты, он продолжал сечь меня вместо маленького барчука и, для того чтоб произвести на него побольше впечатления, порол меня вовсю. Я каждый день знал наверняка, что мне придется расплачиваться за юного Леганьеса. Могу сказать, что он не выучил ни одной буквы алфавита без того, чтоб мне не всыпали добрых ста ударов: судите сами, во что обошлось мне его начальное обучение.
Но кнут не был единственной неприятностью, которую мне пришлось вынести в этом доме: так как все знали, кто я, то последняя челядь вплоть до поварят попрекала меня моим рождением. Это так меня обозлило, что в один прекрасный день я сбежал, изловчившись захватить все наличные деньги гувернера, а это составляло около ста пятидесяти дукатов. Такова была моя месть за порку, которой он меня подвергал, и полагаю, что я не мог бы изобрести более для него чувствительной. Я совершил свою проделку с немалой ловкостью, хотя это был мой первый опыт, и у меня хватило изворотливости уклониться от преследования, которое продолжалось в течение двух дней. Я покинул Мадрид и направился в Толедо, не видя за собой никакой погони.
Мне шел тогда пятнадцатый год. Какое удовольствие в этом возрасте чувствовать себя независимым человеком и хозяином своих поступков! Я познакомился с молодыми людьми, которые меня обтесали и помогли мне спустить мои дукаты. Затем я пристал к шулерам, которые так развили мои природные способности, что я вскоре стал одним из первых рыцарей этого ордена. По прошествии пяти лет меня обуяло желание постранствовать: я покинул своих собратий и, намереваясь начать свои путешествия с Эстремадуры, отправился в Алкантару; но еще по дороге в этот город мне представился случай использовать свои таланты, и я не захотел его упустить. Так как я путешествовал пешком и к тому же нагруженный довольно увесистой котомкой, то от времени до времени устраивал привалы под тенью деревьев, расположенных в нескольких шагах от проезжей дороги. Тут мне повстречались два папенькиных сынка, которые наслаждались прохладой и весело болтали лежа на траве. Я отвесил им вежливый поклон и вступил с ними в разговор, что, как мне показалось, не вызвало у них неудовольствия. Старшему из них не было еще пятнадцати лет, и оба выглядели простачками.
– Сеньор кавальеро, – сказал мне младший, – мы сыновья двух богатых пласенских горожан. Нам сильно захотелось увидать Королевство Португальское, и, чтобы удовлетворить свое любопытство, мы взяли каждый по сто пистолей у наших родителей. Хотя мы и путешествуем пешком, однако собираемся пройти очень далеко с этими деньгами. Каково ваше мнение?
– Если б у меня было столько денег, то я пробрался бы бог знает куда! – отвечал я им. – Я обошел бы все четыре части света. Ах ты черт! Двести пистолей! Да это колоссальная сумма, которой конца не видно! Если позволите, господа, то я провожу вас до города Альмерина, где мне предстоит получить наследство от дяди, прожившего там лет двадцать.
Оба папенькиных сынка заявили, что мое общество доставит им удовольствие.
Слегка отдохнув, мы зашагали по направлению к Алкантаре, куда прибыли еще до сумерек, и отправились ночевать в хорошую гостиницу. Нам отвели горницу, в которой стоял шкап, запиравшийся на ключ. Мы заказали ужин, а пока его готовили, я предложил своим спутникам прогуляться по городу. Они согласились на мое предложение, и, заперев наши котомки в шкап, ключ от которого забрал один из юношей, мы вышли из гостиницы. Затем мы принялись посещать церкви, и когда зашли в соборную, то я внезапно притворился, будто у меня неотложное дело.
– Господа, – сказал я своим спутникам, – чуть было я не забыл, что один толедский знакомый попросил меня переговорить с купцом, который живет подле этой церкви. Пожалуйста, подождите меня здесь; я моментально вернусь.
С этими словами я их покинул. Бегу в гостиницу, подлетаю к шкапу, взламываю замок и, обшарив котомки юных горожан, нахожу их пистоли. Бедные дети! Я не оставил им даже столько, чтоб расплатиться за ночлег: я забрал все. После этого, быстро выйдя из города, я пошел по дороге в Мериду, не беспокоясь о том, что станется с ними.
Это приключение, не вызвавшее у меня ничего, кроме смеха, дало мне возможность путешествовать с приятностью. Несмотря на молодость, я уже умел вести себя с осторожностью и, могу сказать, был развит не по летам. Я решил купить мула, что и осуществил в первом же местечке. Кроме того, я сменил котомку на чемодан и вообще начал разыгрывать из себя более важного барина.
На третий день я встретил на проезжей дороге человека, который во всю глотку распевал вечерню. По виду я заключил, что он псаломщик, и сказал ему:
– Валяйте, валяйте, сеньор бакалавр! Это у вас здорово выходит. Вижу, что вы любитель своего ремесла.
– Сеньор, – отвечал он, – с вашего позволения я – псаломщик и непрочь поупражнять голос.
С этого у нас завязался разговор, и я заметил, что имею дело с остроумнейшим и приятнейшим человеком. Ему было года двадцать четыре или двадцать пять. Так как он шел пешком, то я поехал шагом, для того чтобы не лишить себя удовольствия побеседовать с ним. Между прочим, разговорились мы о Толедо.
– Я хорошо знаю этот город, – сказал псаломщик. – Мне пришлось прожить в нем довольно долгое время, и у меня даже есть там несколько друзей.
– А где вы изволили жить в Толедо? – прервал я его.
– На Новой улице, – отвечал он. – Я проживал там с доном Висенте де Буэна Гарра, доном Матео де Кордель и еще двумя или тремя благородными кавалерами. Мы квартировали вместе, столовались вместе и отлично проводили время.
Эти слова поразили меня, ибо надо сказать, что названные им кавалеры были те самые плуты, с которыми я хороводился в Толедо.
– Сеньор псаломщик, – воскликнул я, – господа, которых вы назвали, мне знакомы, и я тоже жил с ними на Новой улице.
– Я вас понял, – сказал он с улыбкой, – вы, значит, вошли в эту компанию три года тому назад, когда я из нее вышел.
– Я только что расстался с этими господами, – отвечал я, – так как у меня явилась охота попутешествовать. Я собираюсь объехать Испанию. Чем больше у меня будет опыта, тем выше станут меня ценить.
– Безусловно, – возразил он, – кто хочет набраться разума, должен постранствовать. Я покинул Толедо по той же причине, хотя жил там в свое удовольствие. Благодарю небо за то, – продолжал он, – что оно послало мне рыцаря моего ордена в тот момент, когда я меньше всего этого ждал. Объединимся: давайте бродить вместе, посягать на мошну ближнего и пользоваться всеми случаями, которые нам представятся, чтоб проявить свои таланты.
Он сделал мне это предложение так дружески и чистосердечно, что я его принял. Своей откровенностью он сразу завоевал мое доверие. Мы открылись друг другу. Я рассказал ему все, что случилось со мной, а он не скрыл от меня своих похождений. При этом он сообщил, что только что покинул Порталегре, откуда, переодевшись псаломщиком, ему пришлось поспешно удрать из-за какой-то провалившейся мошеннической проделки. После того как он исповедался мне во всех своих делах, мы порешили вдвоем отправиться в Мериду попытать счастья, поживиться там, если удастся, и тотчас же улепетнуть в другое место. С этого момента наше имущество стало общим. Правда, дела Моралеса – так звали моего собрата – были неблестящи; все его достояние состояло из пяти или шести дукатов и кой-какой одежонки, которую он таскал с собой в торбе; но если я был богаче его деньгами, то зато он превосходил меня в искусстве надувать людей. Мы поочередно ехали на муле и таким манером добрались до Мериды.
Прибыв в предместье, мы разыскали постоялый двор, и как только мой соратник переоделся в платье, извлеченное им из торбы, то тотчас же отправились пройтись по городу, чтобы нащупать почву и посмотреть, не представится ли случай поработать. Мы весьма внимательно приглядывались ко всему, что попадалось нам на глаза, и походили – как сказал бы Гомер – на двух черных коршунов, рыщущих взглядом по окрестностям в поисках птиц, которые могли бы стать для них добычей. Словом, мы выжидали, чтобы судьба доставила нам возможность использовать наше искусство, когда заметили на улице седого кавалера с обнаженной шпагой, отбивавшегося от трех человек, которые сильно его теснили. Неравенство этого поединка возмутило меня, и так как я от природы охотник до драки, то кинулся на помощь кавалеру. Мы атаковали трех противников старца и принудили их обратиться в бегство.
После отступления врагов старик рассыпался в благодарностях.
– Мы очень рады, – сказал я ему, – что очутились здесь кстати и смогли вас выручить. Но разрешите спросить, кому мы имели честь оказать эту услугу, и скажите, ради бога, почему эти трое хотели вас укокошить.
– Господа, – отвечал он, – я обязан вам слишком многим, чтоб не удовлетворить вашего любопытства. Меня зовут Херонимо де Мойадас, и я живу в этом городе на доходы от своего состояния. Один из убийц, от которых вы меня освободили, влюблен в мою дочь. На днях он попросил у меня ее руки и, не получив моего согласия, взялся за шпагу, чтобы мне отомстить.
– Не разрешите ли также узнать, – спросил я снова, – какие причины побудили вас отказать этому кавалеру в браке с вашей дочерью.
– Сейчас вам скажу, – отвечал он. – У меня был брат – купец, торговавший в этом городе. Его звали Аугустин. Два месяца тому назад он отправился в Калатраву, где поселился у своего клиента Хуана Велеса де ла Мембрилья. Они были закадычными друзьями, и брат мой, дабы еще больше скрепить эту дружбу, обещал сыну этого клиента руку Флорентины, моей единственной дочери, не сомневаясь, что в силу наших добрых отношений убедит меня выполнить данное им слово. Действительно, как только брат вернулся в Мериду и заговорил со мной об этом, то я из любви к нему тотчас же согласился. Он послал портрет Флорентины в Калатраву, но, увы, ему не удалось закончить это дело: он скончался три недели тому назад. Умирая, он заклинал меня не отдавать руки дочери никому, кроме сына его клиента. Я обещал, и вот почему я не выдал Флорентины за кавалера, который только что напал на меня, хотя это была очень выгодная партия. Я раб своего слова и с минуты на минуту жду сына Хуана де ла Мембрилья, чтоб сделать его своим зятем, хотя никогда не видал ни этого кавалера, ни его отца. Простите за то, что я вам все это рассказываю, – добавил Херонимо де Мойадас, – но вы сами этого захотели.
Я с большим вниманием выслушал старца и, решившись на проделку, неожиданно пришедшую мне в голову, притворился глубоко изумленным и воздел глаза к небу. Затем, повернувшись к старцу, я сказал ему патетическим тоном:
– Ах, сеньор Мойадас! Возможно ли, что, вступив в Мериду, я удостоился счастья спасти жизнь собственного тестя?
Эти слова чрезвычайно поразили старика и не в меньшей мере Моралеса, который показал мне всем своим видом, что признает меня за величайшего плута.
– Что вы говорите? – воскликнул старец. – Как? Вы сын клиента моего брата?
– Да, сеньор Херонимо де Мойадас, – отвечал я, помогая себе бесстыдством и бросаясь ему на шею, – я тот счастливый смертный, которому предназначена очаровательная Флорентина. Но прежде чем выразить свою радость по поводу вступления в вашу семью, позвольте мне выплакать на вашей груди слезы, которые вызывает во мне воспоминание о вашем брате Аугустине. Я был бы неблагодарнейшим из людей, если б не был глубоко огорчен смертью человека, которому обязан счастьем своей жизни.
С этими словами я снова облобызал добряка Херонимо и затем провел рукой по глазам, как бы для того, чтобы утереть слезы. Моралес, внезапно сообразивший все преимущества, которые мы могли извлечь из этой плутни, не преминул пособить мне. Он надумал выдать себя за моего лакея и принялся еще пуще меня сетовать по поводу кончины сеньора Аугустина.
– О, сеньор Херонимо! – воскликнул он. – Какую вы понесли великую утрату, потеряв вашего братца! Это был такой порядочный человек! уникум среди коммерсантов! бескорыстный купец, честный купец! купец, каких больше не бывает!
Мы напали на простого и доверчивого человека: далекий от мысли о том, что мы его надуваем, он сам полез на крючок.
– А почему вы прямо не явились ко мне? – спросил он. – Вам незачем было останавливаться в гостинице. К чему щепетильность при наших теперешних отношениях?
– Сеньор, – вмешался Моралес, отвечая за меня, – мой господин немножко церемонен. Есть у него такой грешок. Он не обессудит меня, если я упрекну его в этом. Не скажу, однако, – добавил мой слуга, – чтоб он не заслуживал некоторого извинения за то, что не решился явиться к вам в таком виде. Дело в том, что нас обокрали дорогой: у нас отняли все наши пожитки.
– Этот парень сказал вам правду, сеньор де Мойадас, – прервал я его. – Случившееся со мной несчастье было причиной того, что я не остановился у вас. Я не посмел явиться в этом платье на глаза невесте, которая меня еще никогда не видала, и выжидал возвращения слуги, отправленного мной в Калатраву.
– Это происшествие, – возразил старик, – не должно было помешать вам заехать ко мне, и я намерен тотчас же поселить вас в своем доме.
С этими словами он повел меня к себе. По дороге мы беседовали о мнимой краже, и я заявил, что вместе с вещами лишился также портрета Флорентины и что это меня особенно огорчает. На это старик смеясь возразил, что мне незачем сетовать на потерю, так как оригинал лучше копии. Действительно, как только мы вошли в дом, он позвал свою дочь, которой не исполнилось еще шестнадцати лет и которую можно было почесть за совершенство.
– Вот юная особа, – обратился он ко мне, – которую покойный брат обещал вам.
– Ах, сеньор! – воскликнул я с пылом. – Вам не к чему объяснять, что передо мной любезная Флорентина: ее очаровательные черты запечатлелись в моей памяти и еще сильнее в моем сердце. Если утерянный мною портрет, который был только слабым наброском таких чар, смог воспламенить меня тысячами огней, то судите сами, какие чувства должны волновать меня в эту минуту.
– Ваши речи слишком лестны, – сказала Флорентина, – и я не настолько тщеславна, чтоб считать себя достойной таких похвал.
– Можете без нас продолжать свои комплименты, – прервал старик наш разговор.
В то же время он оставил меня наедине с дочкой и увел Моралеса.
– Друг мой, – сказал он ему, – воры, без сомнения, украли у вас все вещи и, вероятно, также и деньги, тем более что они всегда с этого начинают.
– Да, сеньор, – отвечал мой товарищ, – огромная шайка бандитов налетела на нас возле Кастиль-Бласо; они оставили нам только одежду, которая на нас; но мы не замедлим получить тратты и тогда приведем себя в порядок.
– В ожидании ваших тратт, – возразил старец, вынимая кошелек из кармана, – вот сто пистолей, которыми вы можете располагать.
– Нет, сеньор! – воскликнул Моралес. – Мой барин их не возьмет. Вы его не знаете. Он, черт возьми, ужасно щепетилен в таких делах и не занимает направо и налево, как иные папенькины сынки. Несмотря на свой возраст, он не любит влезать в долги и готов скорей просить милостыню, чем занять хотя бы мараведи.
– Отлично делает, – сказал наш меридский горожанин. – Я еще больше уважаю его за это. Терпеть не могу, когда люди берут в долг. По-моему, это простительно только дворянам, ибо у них издавна повелся такой обычай. Не стану принуждать твоего барина, – добавил старик. – Раз он обижается, когда ему предлагают деньги, то не стоит и говорить об этом.
С этими словами он собрался сунуть кошелек обратно в карман, но мой компаньон удержал его за руку.
– Постойте, сеньор де Мойадас, – сказал он. – Какое бы отвращение мой господин ни питал к займам, я все же надеюсь, что уговорю его принять ваши сто пистолей. Надо лишь знать, как к нему приступиться. В конце концов, он не любит занимать только у чужих, но в своей семье он менее щепетилен и вовсе не стесняется просить денег у своего родителя, когда в них нуждается. Этот молодой человек, как видите, умеет различать людей и должен смотреть на вас, сударь, как на второго отца.
С помощью этих речей Моралес завладел кошельком старика, который вернулся к нам и застал меня и дочь за учтивыми разговорами. Он прервал нашу беседу и сообщил Флорентине о том, как я его спас, после чего рассыпался передо мной в выражениях благодарности. Я воспользовался этим благоприятным настроением и сказал старику, что он не может трогательнее доказать мне свою признательность, как ускорив мой брак с его дочерью. Он охотно согласился успокоить мое нетерпение и обещал, что не позже чем через три дня я стану супругом Флорентины; он даже добавил, что, вместо обещанных в приданое шести тысяч дукатов, он даст мне десять тысяч, для того чтоб показать, до какой степени он чувствителен к одолжению, которое я ему оказал.
Таким образом, мы с Моралесом воспользовались гостеприимством простака Херонимо де Мойадаса и пребывали в приятном ожидании заграбастать десять тысяч дукатов, с которыми собирались поспешно убраться из Мериды. Одно только опасение смущало нашу радость: мы боялись, как бы настоящий сын Хуана Велеса де ла Мембрилья не стал поперек нашего счастья или, вернее, не расстроил его своим неожиданным появлением. Это опасение было не лишено оснований, ибо на следующий же день какой-то человек, смахивающий на крестьянина, заявился с чемоданом к отцу Флорентины. Меня в то время дома не оказалось, но мой товарищ был тут.
– Сеньор, – сказал крестьянин старцу, – я слуга калатравского кавалера, сеньора Педро де ла Мембрилья, что приходится вам зятем. Мы прибыли вчера в этот город; он не замедлит прийти, а я опередил его, чтоб вас предупредить.
Не успел он сказать этих слов, как появился его господин. Это крайне изумило старца и несколько вывело из равновесия Моралеса.
Педро был молодым человеком весьма приятной наружности. Он обратился с приветствием к отцу Флорентииы, но наш простак не дал ему договорить и, повернувшись к моему компаньону, спросил его, что все это значит. Тогда Моралес, не уступавший в нахальстве никому на свете, принял уверенный вид и сказал старику:
– Сеньор, эти двое принадлежат к шайке воров, которые обчистили нас на проезжей дороге; я узнаю их и в особенности того, который бесстыдно выдает себя за сына сеньора Хуана Велеса де ла Мембрилья.
Старик без колебаний поверил Моралесу и, будучи убежден, что оба новых пришельца жулики, сказал им:
– Господа, вы пришли слишком поздно: вас опередили. Педро де ла Мембрилья находится здесь со вчерашнего дня.
– Не может быть! – отвечал ему молодой человек из Калатравы. – Вас надувают: вы поселили у себя обманщика. Знайте, что у Хуана Велеса де ла Мембрилья нет других сыновей, кроме меня.
– Толкуйте! – возразил ему старик. – Неужели вы совсем не узнаете этого малого и не помните его барина, которого вы ограбили на калатравской дороге?
– Как ограбил? – изумился Педро. – Не будь я в вашем доме, то обрезал бы уши этому прохвосту, который осмелился назвать меня грабителем. Пусть он благодарит небо за ваше присутствие, которое одно только удерживает меня от того, чтоб дать волю своему гневу. Сеньор, – продолжал он, – еще раз повторяю: вас надувают. Я тот самый молодой человек, которому ваш брат Аугустин обещал Флорентину. Позвольте показать вам все письма, написанные им моему отцу по этому поводу. Поверите ли вы портрету вашей дочери, который он прислал мне незадолго до смерти?
– Нет, – прервал его старец, – портрет так же мало убедит меня, как и письма. Я знаю, каким путем они попали в ваши руки, и из милосердия советую вам как можно скорее выбраться из Мериды, чтоб не понести наказания, которого достойны все вам подобные.
– Это уж слишком! – прервал его в свою очередь молодой кавалер. – Не потерплю, чтоб у меня безнаказанно украли имя и к тому же выдавали меня за разбойника. Я знаю нескольких лиц в этом городе; пойду, разыщу их и вернусь с ними разоблачить обман, который предубедил вас против меня.
С этими словами он удалился вместе с своим слугой, и Моралес остался победителем. Это происшествие было причиной того, что Херонимо де Мойадас решил обвенчать меня с дочерью в тот же день и немедленно отправился отдать нужные распоряжения, чтоб завершить это дело.
Хотя доброе расположение к нам отца Флорентины было весьма приятно моему товарищу, однако же он испытывал некоторое беспокойство. Его пугали меры, к которым, по его убеждению, несомненно прибегнет Педро, и он с нетерпением поджидал меня, чтоб сообщить о том, что произошло. Я застал его погруженным в глубокую задумчивость.
– Что с тобой, любезный друг? – спросил я. – Ты как будто очень озабочен.
– Не без причины, – возразил Моралес и в то же время изложил мне все, что случилось.
– Ты видишь, – добавил он, – что я не зря призадумался. Твое безрассудство втравило нас в эту кашу. Готов согласиться, что затея была блестящей и, в случае удачи, покрыла бы тебя славой, но, судя по всем данным, она кончится плохо, и я советую не дожидаться разоблачений, а удрать с тем пером, которое мы вытащили из крылышка нашего простака.
– Господин Моралес, – возразил я на эту речь, – не извольте торопиться: вы слишком быстро пасуете перед затруднениями. Это не делает чести ни дону Матео де Кордель, ни прочим кавалерам, с которыми вы жили в Толедо. Побывав в учении у таких мастеров, нельзя так легко поддаваться панике. Что касается меня, то я собираюсь идти по стопам этих героев и выказать себя их достойным учеником; я ополчаюсь на пугающие вас препятствия и берусь их преодолеть.
– Если вы с ними справитесь, – сказал мне мой товарищ, – то я буду почитать вас превыше всех великих мужей Плутарха.
Не успел Моралес договорить, как вошел Херонимо де Мойадас.
– Я только что закончил все распоряжения насчет вашей свадьбы, – сказал он, – сегодня же вечером вы станете моим зятем. Ваш лакей, – добавил старик, – вероятно, сообщил вам то, что здесь произошло. Что вы скажете о наглости этого прохвоста, который выдал себя за жениха моей дочери и собирался меня в этом уверить?
Моралесу очень хотелось знать, как я вывернусь из этого затруднительного положения, и он был немало удивлен, когда я, печально взглянув на Мойадаса, простодушно ответил старику:
– Сеньор, от меня зависело бы продлить ваше заблуждение и использовать его; но я чувствую, что не рожден для лжи, и хочу искренне сознаться вам во всем. Я вовсе не сын Хуана Велеса де ла Мембрилья.
– Что я слышу? – перебил он меня с великой поспешностью и неменьшим изумлением. – Как? Вы не тот молодой человек, которого мой брат…
– Позвольте, сеньор! – прервал я его в свою очередь. – Раз я приступил к своей правдивой и искренней исповеди, то соблаговолите дослушать меня до конца. Вот уже восемь дней, как я влюблен в вашу дочь, и эта любовь задержала меня в Мериде. Вчера, выручив вас из беды, я собрался просить ее руки; но вы заткнули мне рот, сообщив, что предназначаете ее другому. Высказали, что брат, умирая, заклинал вас отдать ее за Педро де ла Мембрилья, что вы обещали ему это и что вы раб своего слова. Это сообщение повергло меня в печаль, и моя любовь, доведенная до отчаяния, толкнула на уловку, которую я и осуществил. Скажу вам, однако, что я в душе упрекал себя за это, но понадеялся на ваше прощение, когда откроюсь вам во всем и вы узнаете, что я итальянский принц, путешествующий инкогнито. Мой отец – владетельный сеньор, которому принадлежат долины между Швейцарией, Ломбардией и Савойей. Я даже мечтал о том, как вы будете приятно изумлены, узнав о моем происхождении, и как я в роли деликатного и влюбленного супруга объявлю об этом Флорентине после нашей свадьбы. Небо, – продолжал я, меняя тон, – не пожелало доставить мне эту радость. Появляется Педро де ла Мембрилья, приходится вернуть ему его имя, каких бы страданий мне это ни стоило. Ваше обещание обязывает вас избрать его в зятья, а мне остается только сетовать. Я не смею жаловаться: вы принуждены предпочесть его мне, несмотря на мой ранг и не считаясь с ужасным состоянием, в которое меня ввергаете. Не стану говорить вам о том, что ваш брат был только дядей вашей дочери, а что вы ее отец, и что было бы справедливее расквитаться со мной за мою услугу, чем держаться данного вами слова, которое вас почти ни к чему не обязывает.
– Разумеется, гораздо справедливее! – воскликнул Херонимо де Мойадас. – А потому я вовсе не намерен колебаться в своем выборе между вами и Педро де ла Мембрилья. Если б мой брат Аугустин был жив, он не обессудил бы меня за то, что я отдал предпочтение человеку, спасшему мне жизнь, и к тому же принцу, который готов снизойти до меня и породниться с моей семьей. Я был бы недругом собственного счастья или просто сумасшедшим, если б не выдал за вас своей дочери и не поторопился со столь лестным для нее браком.
– Зачем горячиться, сеньор, – отвечал я. – Не делайте ничего без зрелого обсуждения и руководствуйтесь только своими интересами. Несмотря на благородство моей крови…
– Вы смеетесь надо мной, что ли? – прервал он меня. – Смею ли я колебаться хоть минуту? Нет, мой принц, прошу вас сегодня же вечером почтить счастливую Флорентину узами брака.
– Ну что ж, пусть будет так, – сказал я, – отнесите сами эту весть вашей дочери и сообщите ей о славной участи, которая ее ожидает.
Пока добряк торопился уведомить Флорентину о том, что она покорила сердце принца, Моралес, присутствовавший при нашем разговоре, опустился передо мной на колени и сказал:
– Благородный итальянский принц, сын владетельного сеньора, которому принадлежат долины между Швейцарией, Ломбардией и Савойей, позвольте припасть к стопам вашей светлости и выразить вам свое восхищение. Честное слово жулика, вы – чудотворец! Я почитал себя за первого человека в нашем ремесле; но, поистине, опускаю стяг перед вами, хотя я и опытнее вас.
– Значит, ты успокоился? – сказал я.
– Вполне, – отвечал он. – Я больше не боюсь сеньора Педро; пусть приходит сюда, если ему вздумается.
И вот мы с Моралесом снова крепко сидим в седле.
Мы принялись намечать дорогу, по которой нам предстояло удирать вместе с приданым, так твердо рассчитывая его получить, что были чуть ли не больше уверены в обладании им, чем если б оно уже оказалось в наших руках. Но мы рано делили шкуру медведя: развязка приключения обманула наши ожидания.
Вскоре явился молодой человек из Калатравы. Его сопровождали два гражданина и альгвасил, которому усы и загар придавали столь же внушительный вид, сколь и его должность. Отец Флорентины был с нами.
– Сеньор де Мойадас, – сказал Педро, – я привел вам трех честных людей, которые меня знают и могут удостоверить кто я.
– Разумеется, я могу удостоверить, – воскликнул альгвасил. – Сообщаю всем, кому о том ведать надлежит, что я вас знаю: ваше имя – Педро и вы единственный сын Хуана Велеса де ла Мембрилья, а кто осмелится утверждать противное, тот обманщик.
– Верю вам, сеньор альгвасил, – сказал наш простак. – Ваше свидетельство для меня свято, так же как и слово господ купцов, которые пришли с вами. Я вполне уверен, что молодой кавалер, приведший вас сюда, единственный сын клиента моего брата. Но это не важно. Я больше не намерен выдавать за него свою дочь: я раздумал.
– О, это другое дело, – сказал альгвасил. – Я пришел только удостоверить, что этот молодой человек мне известен. Вы, разумеется, властны над своей дочерью, и никто не может принудить вас к тому, чтоб вы выдали ее замуж против вашего желания.
– Да и я, – прервал его Педро, – не намерен прекословить желаниям сеньора де Мойадас, который вправе располагать своею дочерью, как ему заблагорассудится. Но он разрешит мне спросить, что побудило его изменить свое решение. Нет ли у него каких оснований жаловаться на меня? Пусть, потеряв сладкую надежду стать его зятем, я, по крайней мере, буду уверен, что утратил ее не по своей вине.
– Я вовсе не жалуюсь на вас, – отвечал добрый старик. – Скажу вам даже, что я очень жалею о необходимости нарушить свое слово и умоляю вас простить меня. Но я уверен, что вы слишком великодушны, чтоб гневаться на меня за то, что я предпочел вам соперника, спасшего мне жизнь. Вот он, – продолжал Мойадас, указывая на меня, – этот сеньор выручил меня из большой опасности, и, чтоб еще лучше оправдаться перед вами, сообщу вам, что он итальянский принц и что он хочет жениться на Флорентине, в которую влюбился.
Услыхав эти последние слова, Педро растерялся и ничего не ответил. Купцы широко раскрыли глаза и, видимо, были изумлены. Но альгвасил, привыкший на все смотреть с дурной стороны, заподозрил в этом чудесном приключении мошенничество, на котором рассчитывал поживиться. Он пристально взглянул на меня, но так как мое лицо было ему не знакомо и не оправдало его надежд, то он с неменьшей внимательностью уставился на моего товарища. К несчастью для моей светлости, он опознал Моралеса, вспомнив, что видел его в тюрьмах Сиудад-Реаля.
– Хо-хо-хо! – воскликнул он. – Да ведь это же мой клиент! Узнаю сего дворянина и ручаюсь вам, что более отъявленного мошенника вы не найдете во всех королевствах и провинциях Испании.
– Поосторожнее, сеньор альгвасил, – сказал Херонимо де Мойадас, – парень, которого вы так опорочили, лакей принца.
– Ну и отлично, – отвечал альгвасил, – с меня этого вполне достаточно, чтоб знать, с кем имею дело. По слуге судят о барине. Не сомневаюсь в том, что эти ферты – жулики, которые сговорились вас надуть. У меня нюх на такую дичь, и, чтоб показать вам, что эти шельмы самые обыкновенные авантюристы, я сейчас же отправлю их в тюрьму. Постараюсь устроить им свидание с господином коррехидором, после которого они почувствуют, что не все еще палочные удары розданы на этом свете.
– Потише, сеньор начальник, – вмешался старик, – зачем прибегать к таким крайностям? А вы, господа, разве вам не жаль огорчать порядочного человека? Неужели, если слуга – плут, то и хозяин его должен быть тем же? Впервые ли случается, что жулики поступают в услужение к принцам?
– Да смеетесь вы, что ли, с вашими принцами? – прервал его альгвасил. – Даю вам слово, что этот молодой человек – мазурик, и я арестую его именем короля, так же как и его сотоварища. У меня под рукой двадцать стражников, которые сволокут их в тюрьму, если они не позволят отвести себя туда добровольно. Ну-с, любезный принц, – сказал он мне, – ходу!
Эти слова ошеломили меня, а также и Моралеса. Наше смущение показалось подозрительным старому Херонимо де Мойадас или, точнее, погубило нас в его глазах. Он отлично понял, что мы собирались его надуть. Однако он поступил в этом случае так, как подобало благородному человеку.
– Сеньор начальник, – сказал он альгвасилу, – возможно, что ваши подозрения ошибочны, но не исключена также возможность, что они вполне справедливы. Как бы то ни было, не будем разбираться в этом. Пусть эти молодые кавалеры удалятся и идут на все четыре стороны. Прошу вас не препятствовать их уходу: окажите мне эту любезность, чтоб я мог отплатить им за одолжение, которое они мне оказали.
– По долгу службы, – отвечал альгвасил, – мне следовало бы арестовать этих господ, невзирая на ваши просьбы; но из уважения к вам я согласен поступиться своими обязанностями с условием, что они моментально покинут город, ибо если я встречу их здесь завтра, то – господь свидетель! – они узнают, почем фунт лиха.
Услыхав, что нас отпускают на свободу, я и Моралес почувствовали некоторое облегчение. Мы собрались было заговорить решительным тоном и утверждать, что мы порядочные люди, но альгвасил поглядел на нас искоса и приказал нам заткнуться. Не знаю, почему эти люди так нам импонируют! Пришлось оставить Флорентину и ее приданое Педро де ла Мембрилья, который, вероятно, стал зятем Херонимо де Мойадаса.
Я удалился вместе со своим товарищем. Мы отправились по дороге в Трухильо, утешаясь тем, что извлекли из этого приключения хотя бы сто пистолей.
За час до наступления ночи мы проходили по какой-то деревушке, но решили не останавливаться и переночевать где-нибудь подальше. В этом местечке мы увидали харчевню, довольно пристойную для такой дыры. Хозяин с хозяйкой сидели у ворот на продолговатых камнях. Муж, высокий, сухопарый человек, уже пожилой, тренькал на дрянной гитаре, развлекая супругу, которая, по-видимому, слушала его с удовольствием.
– Господа, – окликнул он нас, видя, что мы проходим мимо, – советую вам сделать привал в этом месте. До ближайшей деревни добрых три мили, и предупреждаю вас, что так хорошо, как здесь, вы нигде не устроитесь. Поверьте мне, зайдите в мою харчевню: я приготовлю вам знатный ужин и посчитаю по божеской цене.
Мы дали себя уговорить и, подойдя к хозяину и хозяйке, раскланялись с ними. Затем, усевшись рядышком, мы принялись вчетвером толковать о всякой всячине. Хозяин назвался бывшим служителем Священной Эрмандады, а хозяйка оказалась разбитной толстухой, которая, по-видимому, умела показать товар лицом. Наша беседа была прервана прибытием двенадцати или пятнадцати всадников; одни ехали верхом на мулах, другие на лошадях. За ними следовало штук тридцать лошаков, нагруженных тюками.
– Ого, сколько принцев! – воскликнул хозяин при виде этой оравы. – Куда я только всех дену?
Мгновенно деревня наполнилась людьми и животными. По счастью, подле харчевни оказался просторный овин, куда поместили лошаков и поклажу. Мулов же и лошадей пристроили по разным местам. Что касается всадников, то они помышляли не столько о постелях, сколько о хорошем ужине. Хозяин, хозяйка и их молодая служанка не щадили рук. Они перерезали всю дворовую птицу. Прибавив к этому еще рагу из кролика и кошки, а также обильную порцию капустного супа, приправленного бараниной, они удовлетворили всю команду.
Я и Моралес поглядывали на всадников, а те от времени до времени смотрели на нас. Наконец разговор завязался, и мы попросили разрешения отужинать с ними. Они отвечали, что это доставит им удовольствие. И вот мы все вместе за столом.
Среди них был человек, который всем распоряжался и к которому остальные относились с почтением, хотя, впрочем, обращались с ним довольно фамильярно. Он, однако, председательствовал за столом, говорил повышенным тоном и иногда довольно развязно возражал своим спутникам, которые, вместо того чтоб отвечать ему тем же, казалось, считались с его мнением.
Беседа случайно зашла об Андалузии, и так как Моралесу вздумалось похвалить Севилью, то человек, о котором я только что упомянул, сказал ему:
– Сеньор кавальеро, вы превозносите город, в котором или, вернее, в окрестностях которого я родился, ибо я уроженец местечка Майрена.
– Могу сказать вам то же самое и про себя, – ответил ему мой товарищ. – Я также из Майрены, и не может быть, чтобы я не знал ваших родителей, так как знаком там со всеми, начиная от алькальда и до последнего человека в местечке. Чей вы сын?
– Честного нотариуса, Мартина Моралеса, – возразил тот.
– Мартина Моралеса? – воскликнул мой товарищ с великой радостью и неменьшим изумлением. – Клянусь честью, поразительный случай! Вы, значит, мой старший брат Мануэль Моралес?
– Я самый, – отвечал он, – а вы мой младший брат Луис, который был еще в колыбели, когда я покинул родительский кров?
– Именно так, – сказал мой спутник.
С этими словами оба встали из-за стола и несколько раз облобызались. Затем сеньор Мануэль обратился ко всей компании:
– Господа, совершенно невероятное происшествие! Судьбе было угодно, чтоб я встретил и узнал брата, которого не видал по меньшей мере двадцать лет. Позвольте вам его представить.
Тогда всадники, стоявшие из вежливости, поклонились младшему Моралесу и принялись его обнимать. После этого все снова уселись за стол и просидели там всю ночь. Спать никто не ложился. Оба брата поместились рядышком и шепотом беседовали о своей семье, в то время как остальные сотрапезники пили и развлекались.
Луис вел долгую беседу с Мануэлем, а затем, отведя меня в сторону, сказал:
– Все эти всадники – слуги графа де Монтанос, которого наш монарх недавно пожаловал вице-королем Майорки. Они сопровождают поклажу графа в Аликанте, где должны погрузиться на корабль. Мой брат, пристроившийся в мажордомы к этому сеньору, предлагает взять меня с собой и, узнав о моем нежелании расстаться с вами, сказал, что если вы согласны пуститься в это путешествие, то он постарается выхлопотать вам хорошую должность. Любезный друг, – продолжал он, – советую тебе не пренебрегать этим случаем. Поедем вместе на Майорку. Если нам понравится, мы останемся, если нет, вернемся в Испанию.
Я охотно принял предложение и, присоединившись с младшим Моралесом к свите графа, покинул вместе со всеми харчевню еще до восхода солнца. Большими переходами добрались мы до города Аликанте, где я купил гитару и успел до посадки заказать весьма пристойное платье. Я не думал больше ни о чем, кроме как о Майорке, а Луис Моралес разделял мое настроение. Казалось, что мы отреклись от плутен. Но надо сказать правду: нам хотелось прослыть честными людьми перед остальными кавалерами, и это побуждало нас обуздывать свои таланты. Наконец мы весело пустились в плаванье с надеждой быстро доехать до Майорки; но не успели мы выйти из аликантской гавани, как поднялся невероятный шквал. В этом месте моего рассказа мне представляется случай угостить вас прекрасным описанием шторма, изобразить небо, залитое огнем, заставить громы греметь, ветры свистать, волны вздыматься и т. п., но, оставляя в стороне все эти риторические цветы, скажу вам просто, что разразилась сильная буря и что мы были вынуждены причалить к мысу острова Кабреры. Это – пустынный остров с небольшим фортом, тогда охранявшимся пятью или шестью солдатами и офицером, который принял нас весьма любезно.
Пришлось задержаться там на несколько суток для починки парусов и снастей, а потому, во избежание скуки, все искали каких-нибудь развлечений. Каждый следовал своим склонностям: одни играли в приму [101] , другие забавлялись иначе. Что касается меня, то я гулял по острову с теми из наших спутников, кто был любителем прогулок: в этом заключалось мое удовольствие. Мы перескакивали со скалы на скалу, так как почва здесь неровная, покрыта множеством камней, и земли почти не видать. Однажды, разглядывая эту сухую и выжженную местность и дивясь капризу природы, которая, как ей вздумается, являет себя то плодовитой, то скудной, мы неожиданно почуяли приятный запах. Тотчас же обернувшись на восток, откуда исходил этот аромат, мы с удивлением заметили между скалами круглую площадку, поросшую жимолостью, более красивой и душистой, чем та, которая встречается в Андалузии. Мы с удовольствием подошли к этим кустам, источавшим благоухание на всю окрестность, и оказалось, что они окаймляют вход в очень глубокую пещеру. Эта пещера была широкой и не очень темной. Мы спустились вниз, кружась по каменным ступеням, окаймленным цветами и представлявшим собой нечто вроде естественной винтовой лестницы. Дойдя до дна, мы увидали на песке, желтее золота, несколько маленьких змеящихся источников, уходивших под землю и питавшихся каплями, которые изнутри беспрерывно стекали со скал. Вода показалась нам прекрасной, и нам захотелось ее испить. Действительно, она отличалась такой свежестью, что мы решили на следующий день вернуться в это место и принести с собой несколько бутылок вина, будучи уверены, что разопьем их там не без удовольствия. Мы с сожалением покинули этот столь приятный уголок и, вернувшись в форт, не преминули расхвалить товарищам свое великолепное открытие; но комендант крепости дружески посоветовал нам не ходить больше в пещеру, которая нас так очаровала.
– А почему? – спросил я. – Разве есть какая-нибудь опасность?
– Безусловно, – отвечал он. – Алжирские и триполийские корсары иногда высаживаются на остров и запасаются водой из этого источника; однажды они застали там двух солдат моего гарнизона и увели их в неволю.
Хотя офицер говорил это вполне серьезно, однако же не смог нас убедить. Нам думалось, что он шутит, и на следующий же день я вернулся в пещеру с тремя кавалерами нашего экипажа. Мы даже отправились туда без огнестрельного оружия, желая показать, что ничуть не боимся. Младший Моралес не захотел участвовать в прогулке; он, так же как и его брат, предпочел остаться в крепости, чтоб сыграть в карты.
Мы, как и накануне, спустились на дно пещеры и остудили в источнике принесенные нами бутылки. Поигрывая на гитаре, мы с наслаждением распивали вино и забавлялись веселой беседой, как вдруг увидали наверху пещеры несколько усачей в тюрбанах и турецкой одежде. Мы сперва приняли их за людей нашего экипажа, перерядившихся вместе с комендантом форта, чтоб нагнать на нас страху. Под влиянием этого предубеждения, мы принялись хохотать и, не помышляя о защите, дождались того, что десять человек спустились вниз. Но тут наше прискорбное заблуждение рассеялось, и мы поняли, что перед нами корсар, явившийся со своими людьми, чтоб нас захватить.
– Сдавайтесь, собаки, или я вас укокошу! – крикнул он нам по-кастильски.
В то же время сопровождавшие его молодцы прицелились в нас из своих карабинов, и мы подверглись бы серьезному обстрелу, если б вздумали сопротивляться; но мы оказались достаточно благоразумными, чтоб воздержаться от этого, и, предпочтя рабство смерти, отдали свои шпаги пирату. Он велел заковать нас в цепи и отвести на корабль, поджидавший неподалеку, а затем, приказав поднять паруса, поплыл прямо в Алжир.
Таким образом, мы оказались справедливо наказанными за то, что пренебрегли предостережением гарнизонного офицера. Корсар начал с того, что обыскал нас и отобрал все наши деньги. Славно он поживился! Двести пистолей пласенских горожан, сто пистолей, полученных Моралесом от Херонимо де Мойадас, – все это, к несчастью, находилось при мне и было отнято без всякого сожаления. Мои сотоварищи также поплатились туго набитыми кошельками. Словом, добыча была богатая. Пират, казалось, не помнил себя от радости; но мучитель не удовольствовался тем, что отнял наши деньги, он еще осыпал нас насмешками, которые сами по себе были менее оскорбительны, чем сознание, что мы должны их сносить. Вдосталь потешившись над нами, корсар придумал новое издевательство: он приказал принести бутылки, которые мы охлаждали в источнике и которые его люди прихватили с собой, и принялся осушать их вместе с нами, насмешливо провозглашая тосты за наше здоровье.
В это время на лицах моих сотоварищей можно было прочесть то, что происходило у них в душе. Рабство угнетало их особенно потому, что они уже сжились с более сладостной мечтой отправиться на Майорку, где рассчитывали вести приятный образ жизни. У меня же хватило твердости примириться с судьбой и вступить в разговор с насмешником; я даже пошел навстречу его шуткам и этим расположил его к себе.
– Молодой человек, – сказал он, – мне нравится твой характер; к чему стенать и вздыхать, не лучше ли вооружиться терпением и приспособиться к обстоятельствам? Сыграй-ка нам какой-нибудь мотивчик, – добавил он, видя, что со мной гитара, – посмотрим, что ты умеешь.
Я повиновался, как только мне развязали руки, и постарался сыграть так, что он остался мною доволен. Правда, я недурно владел этим инструментом. Затем я запел и заслужил своим голосом неменьшее одобрение. Все бывшие на корабле турки показали восторженными жестами, какое они испытывали удовольствие, слушая меня, и это привело меня к убеждению, что в отношении музыки они не были лишены вкуса. Пират шепнул мне на ухо, что я не буду несчастен в невольничестве и что с моими талантами могу рассчитывать на должность, которая сделает мое пленение вполне выносимым.
Эти слова меня несколько ободрили, но, несмотря на их утешительный характер, я не переставал испытывать беспокойство относительно занятия, о котором корсар говорил, и опасался, что оно придется мне не по вкусу. Прибыв в алжирский порт, мы увидали большую толпу народа, собравшегося, чтоб на нас посмотреть. Не успели мы еще сойти на берег, как воздух огласился тысячами радостных криков. Прибавьте к этому смешанный гул труб, мавританских флейт и других инструментов, которые в ходу в этой стране. Все это составляло скорее шумную, нежели приятную симфонию. Причиной этого ликования был ложный слух, разнесшийся по городу: откуда-то пришла весть, будто ренегат Мехемет – так звали нашего пирата – погиб при атаке большого генуэзского судна, а потому все его родственники и друзья, уведомленные об его возвращении, поспешили выразить ему свою радость.
Не успели мы коснуться земли, как меня и моих товарищей отвели во дворец паши Солимана, где писец-христианин допросил каждого из нас в отдельности и осведомился о наших именах, возрасте, отечестве, религии и талантах. Тогда Мехемет, указав на меня паше, похвалил ему мой голос и сказал, что я к тому же отлично играю на гитаре. Этого было достаточно, чтоб Солиман взял меня к себе. Таким образом я попал в его сераль, куда меня и отвели для исполнения предназначенных мне обязанностей. Остальных пленников отправили на рыночную площадь и продали согласно обычаю.
Сбылось то, что предсказал мне Мехемет на корабле: судьба моя оказалась счастливой. Меня не отдали на произвол тюремных сторожей и не отягчали утомительными работами. В знак отличия Солиман-паша приказал поместить меня в особое место с пятью или шестью невольниками благородного звания, которых должны были вскоре выкупить, а потому употребляли только на легкие работы. Меня приставили к садам, поручив поливку апельсиновых деревьев и цветов. Трудно было найти более приятное занятие, а потому я возблагодарил свою звезду, предчувствуя, не знаю почему, что я буду счастлив у Солимана.
Этот паша – я должен здесь дать его портрет – был человек лет сорока, приятной наружности, очень вежливый и очень галантный для турка. Его фаворитка, родом из Кашмира, приобрела над ним неограниченную власть благодаря своему уму и красоте. Он любил ее до обожания. Не проходило дня, чтоб он не угостил ее каким-нибудь новым празднеством, то вокальным и инструментальным концертом, то комедией в турецком вкусе, т. е. драматической поэмой, в которой стыдливость и приличие уважались так же мало, как и правила Аристотеля [102] . Фаворитка, которую звали Фарукназ [103] , страстно любила представления и иногда даже наставляла своих служанок исполнять в присутствии паши арабские пьесы. Она сама принимала в них участие и своей грацией и живостью игры очаровывала зрителей. Однажды я в числе музыкантов присутствовал при таком представлении. Солиман приказал мне спеть соло и сыграть на гитаре во время антракта. Мне выпало счастье понравиться паше; он не только хлопал в ладоши, но и вслух выразил мне свое одобрение. Фаворитка, как мне показалось, тоже поглядела на меня благожелательным оком.
Когда на другой день я поливал в саду апельсиновые деревья, мимо меня прошел евнух, который, не останавливаясь и ничего не говоря, бросил к моим ногам записку. Я поднял ее со смущением, к которому примешивались и страх и удовольствие. Опасаясь, чтоб меня не заметили из окон сераля, я лег на землю и, спрятавшись за апельсиновые кадки, вскрыл послание. Я нашел там перстень с довольно ценным алмазом и прочел следующие слова, написанные на чистом кастильском наречии:
«Юный христианин, возблагодари небо за свое пленение. Любовь и Фортуна сделают его счастливым: любовь, если ты чувствителен к чарам красивой женщины, а Фортуна, если у тебя хватит смелости презреть всякие опасности».
Я ни минуты не сомневался, что эпистола исходила от любимой султанши; стиль письма и алмаз убеждали меня в этом. Помимо того, что я не робок от природы, тщеславное желание пользоваться милостями возлюбленной знатного вельможи и еще в большей степени надежда выманить у нее в четыре раза больше денег, чем мне нужно было для выкупа, – все это побуждало меня пуститься в приключение, несмотря на связанные с ним опасности. Я продолжал работать в саду, мечтая пробраться в помещение Фарукназ, или, вернее, выжидая, чтоб она открыла мне доступ туда, ибо я был убежден, что фаворитка не остановится на полдороге и сама пройдет мне навстречу большую часть пути. Я не ошибся. Тот же евнух, который прошел мимо меня, вернулся через час и сказал мне:
– Ну что, христианин, обдумал ли ты все как подобает и хватит ли у тебя смелости следовать за мной?
Я отвечал, что хватит.
– В таком случае, да хранит тебя небо! – продолжал он. – Ты увидишь меня завтра поутру; будь готов: я провожу тебя куда следует.
С этими словами он ушел.
На следующее утро часам к восьми евнух действительно явился. Он знаком подозвал меня к себе; я повиновался и последовал за ним в залу, где лежал большой свернутый кусок холста, который он перед тем приволок туда вместе с другим евнухом. Холст этот надлежало отнести к султанше, так как он предназначался для декорации одной арабской пьесы, которую она готовила для паши.
Убедившись, что я согласен слушаться их во всем, оба евнуха не стали терять времени: они развернули холст, приказали мне улечься на нем во всю свою длину и, скатав его снова, завернули меня туда с риском задушить. Затем, подняв сверток за оба конца, они отнесли его в опочивальню прекрасной кашмирки. Она была одна со старой рабыней, всецело преданной ее желаниям. Обе женщины развернули холст, и при виде меня Фарукназ проявила необузданную радость, свидетельствующую о темпераменте женщин на ее родине. Но сколь я ни был отважен от природы, однако же не смог преодолеть некоторого страха, увидев себя неожиданно перенесенным в запретные женские покои. Дама заметила это и, чтоб рассеять мои опасения, сказала:
– Не бойся, молодой человек. Солиман только что отправился в свой загородный дом; он пробудет там весь день: мы можем беседовать здесь без помехи.
Эти слова ободрили меня и привели в настроение, удвоившее радость фаворитки.
– Вы мне понравились, – продолжала она, – и я намерена облегчить вам тяжесть невольничества. Считаю вас достойным тех чувств, которые к вам питаю. Даже в одежде раба вид у вас благородный и изысканный, а это показывает, что вы человек не простого звания. Будьте откровенны со мной: скажите, кто вы. Я знаю, что пленники из благородных скрывают свое происхождение, чтобы уменьшить выкуп; но вам незачем прибегать со мной к этой уловке, и такая осторожность даже обидела бы меня, так как я и без того обещаю вам свободу. А потому не скрывайте от меня ничего и сознайтесь, что вы молодой человек из хорошей семьи.
– Действительно, сударыня, – возразил я, – было бы дурно с моей стороны отплатить притворством за ваши милости. Вы настаиваете на том, чтоб я поведал вам свое происхождение. Удовлетворю ваше желание: я сын испанского гранда.
Весьма возможно, что я сказал ей правду; во всяком случае, султанша поверила мне и, радуясь тому, что ее выбор пал на знатного кавалера, обещала устроить так, чтоб мы часто виделись наедине. После этого между нами завязалась беседа, длившаяся очень долго. Мне никогда не приходилось встречать более занимательной женщины. Она говорила на нескольких языках, а также на кастильском наречии, которым владела довольно изрядно. Когда она сочла, что наступило время нам расстаться, я влез по ее приказанию в большую ивовую корзину, прикрытую шелковой вышивкой ее работы. Затем она приказала позвать рабов, доставивших меня в опочивальню, и они унесли меня в качестве подарка, предназначенного фавориткой паше, а такие подарки священны для всех лиц, приставленных к охране гарема.
Я и Фарукназ нашли еще другие способы видеться, и мало-помалу прекрасная пленница внушила мне такую же любовь, какую питала ко мне. Наши отношения оставались тайной в течение двух месяцев, хотя в сералях редко бывает, чтоб любовные секреты долго ускользали от взоров аргусов. Но несчастный случай положил конец нашим амурным шашням, и судьба моя совершенно изменилась. Однажды я проник к султанше в туловище искусственного дракона, предназначавшегося для представления, и уже беседовал с ней, как вдруг появился Солиман, который, по моим расчетам, отправился за город по делу. Он так внезапно вошел в покои фаворитки, что старая рабыня едва успела нас предупредить об его возвращении. У меня уже не было времени спрятаться, и, таким образом, я первый попался ему на глаза.
Он, видимо, был изумлен, увидав меня там, и взоры его вспыхнули от бешенства. Я счел себя конченым человеком, и мне уже мерещились всякие пытки. Что касается Фарукназ, то она тоже, видимо, испугалась, но, вместо того чтоб сознаться в своем прегрешении и испросить прощения, сказала Солиману:
– Господин мой, прежде чем вынести приговор, соблаговолите меня выслушать. Улики, безусловно, говорят против меня, и все выглядит так, как будто я совершила измену, достойную самого жестокого наказания. Я приказала доставить сюда этого молодого пленника и, чтобы ввести его в свои покои, прибегла к тем же способам, как если б питала к нему пламеннейшую любовь. Но, несмотря на этот поступок, клянусь нашим великим пророком, что здесь не было никакой измены. Я только хотела уговорить этого раба-христианина, чтоб он бросил свою секту и перешел к правоверным. При этом я наткнулась на сопротивление, которого, впрочем, ожидала. Однако же я одержала верх над его предрассудками, и он обещал мне принять магометанство.
Признаюсь, что мне следовало опровергнуть слова фаворитки, не считаясь с рискованным положением, в котором я находился. Глубоко удрученный всем этим и взволнованный опасностью, угрожавшей любимой женщине, а еще более дрожа за самого себя, я пребывал в растерянности и смущении и был не в силах произнести ни одного слова. Истолковав мое молчание в том смысле, что фаворитка сказала чистую правду, паша дал себя укротить.
– Сударыня, – отвечал он, – охотно верю, что вы не нанесли мне обиды и что желание совершить поступок, угодный пророку, побудило вас на этот рискованный шаг. А потому готов извинить вашу неосторожность с условием, чтоб этот пленник немедленно обратился в мусульманскую веру.
Паша тотчас же приказал позвать марабута [104] . Меня обрядили в турецкую одежду. Я исполнял все, что от меня хотели, будучи не в силах сопротивляться, или, вернее, я не знал, что делал, в охватившем меня смятении. Сколько христиан поступило столь же недостойно в подобном случае.
После церемонии я покинул сераль, и под именем Сиди [105] Али поступил на мелкую должность, которую назначил мне Солиман. Султанши я больше не видал, но как-то спустя некоторое время меня разыскал один из ее евнухов. Он принес мне от ее имени драгоценностей на две тысячи золотых султанинов и письмо, в котором эта дама уверяла, что никогда не забудет моей великодушной учтивости, побудившей меня принять ислам, чтоб спасти ей жизнь. Действительно, помимо подарков, присланных ею, Фарукназ выхлопотала мне лучшую должность, чем первая, и менее чем в шесть-семь лет я стал одним из богатейших ренегатов города Алжира.
Вы, разумеется, понимаете, что если я присутствовал на мусульманских молитвах в мечети и выполнял прочие религиозные обряды, то это было лишь простым лицемерием. Меня не покидало непреклонное желание вернуться в лоно церкви, и для этой цели я собирался со временем отправиться в Испанию или Италию со всеми накопленными мною богатствами. В ожидании этого момента я жил в свое удовольствие. У меня был прекрасный дом, роскошные сады, много рабов, а в гареме красивейшие одалиски. Хотя мусульманам в этой стране запрещено употреблять вино, однако же многие пили его тайно. Что касается меня, то я распивал его открыто, как все ренегаты. Припоминаю, что было у меня там два приятеля по выпивке, с которыми я проводил за столом целые ночи. Один был еврей, другой араб. Я считал их порядочными людьми, а потому не стеснял себя в их присутствии. Однажды вечером я пригласил их отужинать со мной. В этот день у меня издохла собака, которую я страстно любил; мы обмыли труп и погребли его со всеми обрядами, принятыми на мусульманских похоронах. Сделали мы это вовсе не с целью поиздеваться над магометанской религией, а просто чтоб позабавиться и осуществить обуявшую нас спьяна прихоть отдать собаке последний долг.
Эта проказа, как вы увидите, чуть было не погубила меня. На следующий день явился ко мне человек, который сказал:
– Сиди Али, я пришел к вам по важному делу. Наш кади [106] хочет переговорить с вами; соблаговолите тотчас же пожаловать к нему.
– Не будете ли вы столь любезны сказать мне, что ему от меня нужно? – спросил я.
– Он сам сообщит вам об этом, – возразил посланец. – Могу вам только сказать, что арабский купец, ужинавший с вами вчера, обвинил вас в осквернении религии по поводу похороненной собаки. Сами понимаете, чем это пахнет, а потому советую сегодня же отправиться к судье, ибо предупреждаю вас, что в случае неявки вы будете привлечены к уголовной ответственности.
С этими словами он вышел, совершенно ошеломив меня своим требованием. У араба не было никаких причин жаловаться на меня, и я не мог понять, что побудило этого предателя сыграть со мной такую скверную штуку. Тем не менее дело заслуживало некоторого внимания. Я знал кади за человека строгого по внешности, но по существу далеко не щепетильного и к тому же весьма жадного. А потому я сунул в кошелек двести золотых султанинов и направился к судье. Он принял меня в своем кабинете и сказал суровьм тоном:
– Вы – нечестивец, вы – осквернитель святыни, вы – возмутительнейший человек. Похоронить собаку по мусульманскому закону! Какая профанация! Вот как вы уважаете наши священнейшие обряды! Вы, значит, стали мусульманином только для того, чтоб издеваться над нашим ритуалом?
– Господин кади, – отвечал я ему, – этот араб, этот фальшивый друг, сделавший на меня столь злостный донос, сам является соучастником моего преступления, если только это преступление – похоронить с почетом верного слугу, животное, обладающее множеством прекрасных качеств. Эта собака так любила всех достойных и заслуженных лиц, что, умирая, пожелала доказать им свою дружбу. Согласно духовной, она оставляет им все свое имущество, а я являюсь ее душеприказчиком. Она завещала кому двадцать, кому тридцать эскудо. Вас же, достопочтенный господин, она тоже не забыла, – продолжал я, вынимая кошелек, – вот двести золотых султанитов, которые она поручила мне передать вам.
Эта речь сбила с кади всю серьезность, и он не смог удержаться от смеха. Так как мы были одни, то он без церемоний взял кошелек и сказал, отпуская меня:
– Ступайте, Сиди Али, вы прекрасно поступили, похоронив с помпой и почестями собаку, питавшую такое уважение к порядочным людям [107] .
Вот каким способом выпутался я из беды и стал после этого если не благоразумнее, то, во всяком случае, осторожнее. Ни с арабом, ни даже с евреем я больше не пьянствовал, а выбрал для попоек молодого ливорнского дворянина, который был моим невольником. Его звали Адзарини. Я не походил на других ренегатов, мучающих христиан-рабов, пожалуй, еще больше, чем сами турки; все мои невольники довольно терпеливо дожидались выкупа. Правда, я обращался с ними мягко, и они иногда говорили мне, что, несмотря на все прелести, какие имеет свобода для людей, находящихся в рабстве, они меньше вздыхают о ней, чем терзаются опасениями переменить хозяина.
Однажды корабли наши вернулись, нагруженные обильной добычей. Они привезли свыше ста невольников обоего пола, захваченных на берегах Испании. Солиман оставил себе только небольшое число, а остальных приказал продать. Я отправился на место, где происходила распродажа, и купил испанскую девочку лет десяти – двенадцати. Она плакала горючими слезами и страшно убивалась. Меня удивило, что ребенок в ее возрасте так горюет о свободе. Я сказал ей по-кастильски, чтоб она умерила свою печаль, и заверил ее, что она попала к хозяину, который, несмотря на тюрбан, не лишен гуманности. Но эта маленькая особа, занятая исключительно своими горестями, не слушала меня; она не переставала стенать и жаловаться на свою судьбу, а от времени до времени умильно восклицала:
– О, мама! Зачем нас разлучили? Будь мы вместе, я терпеливо перенесла бы все.
Произнося эти слова, она бросала взгляды на женщину от сорока пяти до пятидесяти лет, стоявшую в нескольких шагах от нее с потупленными взорами и выжидавшую в мрачном молчании, чтоб кто-нибудь ее купил. Я спросил у девочки, не приходится ли ей матерью та особа, на которую она смотрит.
– Увы, сеньор, это так! – отвечала она. – Ради бога, постарайтесь, чтоб нас не разлучали.
– Ну что ж, дитя мое, – сказал я, – если для вашего утешения нужно соединить вас обеих вместе, то это будет сделано.
В то же время я подошел к матери, чтоб ее купить. Но представьте себе мое волнение, когда, взглянув на нее, я узнал черты, подлинные черты Лусинды.
«Праведное небо! – воскликнул я про себя. – Никаких сомнений! Ведь это моя мать!»
Что касается Лусинды, то она меня не узнала, может быть, потому, что переживаемые ею несчастья побуждали ее видеть в окружающих одних только врагов, а может быть, моя одежда ввела ее в заблуждение или я так сильно изменился за двенадцать лет, которые мы не видались. Я купил ее и отвел в свой дом вместе с ее дочерью.
Тут мне захотелось обрадовать их и сказать им, кто я.
– Сударыня, – обратился я к Лусинде, – неужели мое лицо ничего вам не напоминает? Возможно ли, чтоб усы и тюрбан помешали вам узнать собственного сына?
Моя мать вздрогнула при этих словах, вгляделась в меня, узнала, и мы нежно обнялись. Я поцеловал также ее дочь, которая, вероятно, столь же мало подозревала, что у нее есть брат, как я то, что у меня имеется сестра.
– Признайте, – сказал я своей матери, – что во всех ваших театральных пьесах не найдется более удачного «узнавания» [108] , чем это.
– Сын мой, – отвечала она со вздохом, – сперва я действительно обрадовалась; но теперь моя радость сменилась печалью. Увы, в каком виде я вас нашла! Мое рабство огорчает меня в тысячу раз меньше, чем ненавистная одежда…
– Черт возьми, сударыня, – прервал я ее со смехом, – ваши деликатные чувства приводят меня в восторг: я их очень ценю в актрисе. Видимо, матушка, вы основательно изменились, если моя метаморфоза так сильно оскорбляет ваш взор. Но вместо того чтоб возмущаться моим тюрбаном, вы бы лучше смотрели на меня, как на актера, играющего на сцене роль турка. Хоть я и ренегат, однако же не больше мусульманин, чем был им в Испании, а в душе по-прежнему придерживаюсь своей веры. Вы меня не обессудите, когда узнаете все приключения, случившиеся со мной в этой стране. Амур – виновник моего греха; я принес себя в жертву этому богу. Как видите, между нами есть кой-какое сходство. Но еще другая причина, – продолжал я, – должна умерить недовольство, которое вы испытываете, застав меня в этом положении. Вы готовились подвергнуться в Алжире ужасам невольничества, а вместо этого вашим хозяином оказался нежный, почтительный сын, достаточно богатый, чтоб устроить вам здесь жизнь среди всяческого изобилия, пока нам не представится безопасная возможность вернуться в Испанию. Верьте пословице: нет худа без добра.
– Сын мой, – отвечала Лусинда, – раз вы намереваетесь возвратиться на родину и отречься от ислама, то я вполне утешена. Слава богу, – добавила она, – я смогу отвезти в Кастилию вашу сестру Беатрис целой и невредимой.
– Разумеется, сударыня, – воскликнул я. – Мы все втроем уедем отсюда при первой возможности, чтоб соединиться с нашей семьей, так как, вероятно, вы оставили в Испании еще и другие плоды вашего чадородия.
– Нет, – отвечала моя мать, – у меня нет других детей, кроме вас обоих. Узнайте также, что Беатрис была рождена в наизаконнейшем браке.
– А почему, – спросил я, – вы предоставили моей маленькой сестре это преимущество передо мной? Как могли вы решиться выйти замуж? Сколько раз слыхал я от вас в детстве, что хорошенькой женщине непростительно обзаводиться мужем.
– Иные времена – иные заботы, сын мой, – возразила она. – Даже самые стойкие люди меняют свои убеждения, а вы хотите, чтоб женщина осталась непоколебимой. Расскажу вам, – добавила она, – все, что случилось со мной, после того как вы удалились из Мадрида.
Вслед затем Лусинда поведала мне следующую историю, которую я никогда не забуду. Она настолько любопытна, что я не стану лишать вас удовольствия познакомиться с ней.
– Прошло уже, если помните, около тринадцати лет, – сказала моя мать, – как вы покинули юного маркиза де Леганьес. В то время герцог Мелина Сели пожелал как-то поужинать со мной наедине. Он назначил мне день. Я стала дожидаться этого сеньора; он пришел, и я ему понравилась. Тогда герцог потребовал, чтоб я принесла ему в жертву всех соперников, какие только могли быть у него. Я согласилась на это в надежде, что он мне щедро заплатит. Так оно и случилось. На следующий день он прислал мне подарки, за которыми в дальнейшем последовали другие. Я опасалась, что не смогу удержать в своих тенетах человека столь высокого ранга, и это тем более, что, как мне было известно, он не раз ускользал от прославленных красавиц, разрывая цепи, в которые они едва успевали его заковать. Однако же, вместо того чтоб с течением времени пресытиться моими чарами, он, казалось, находил в них все новое и новое удовольствие. Словом, я обладала искусством его забавлять и сумела помешать его ветреному от природы сердцу отдаться своим склонностям.
Прошло уже три месяца, как он меня любил, и у меня были основания надеяться, что любовь его будет длительной, когда однажды мне захотелось отправиться с одной приятельницей на ассамблею, где он должен был присутствовать вместе с герцогиней, своей супругой. Мы поехали туда, чтоб послушать вокальный и инструментальный концерт, и случайно уселись довольно близко от герцогини, которой вздумалось вознегодовать на то, что я осмелилась появиться там, где была она. Через одну из женщин своей свиты она попросила меня немедленно удалиться. Я ответила посланнице грубостью. Взбешенная герцогиня пожаловалась супругу, а тот сам подошел ко мне и сказал:
– Уходите сейчас же, Лусинда. Когда знатные вельможи связываются с такими ничтожными особами, как вы, то эти особы не должны забываться: если мы любим вас больше, чем наших жен, то все же чтим наших жен больше, чем вас, и всякий раз, как вы осмелитесь равняться с ними, вы испытаете позор унизительного обращения.
К счастью, герцог произнес эти жестокие слова так тихо, что никто из окружающих их не слыхал. Я удалилась, подавленная стыдом, и плакала от досады за испытанный мною позор. В довершение моего горя актеры и актерки узнали в тот же вечер об этом происшествии. Можно подумать, что в этих людях засел какой-то демон, которому доставляет удовольствие передавать одним то, что случается с другими. Накуролесит ли какой-нибудь актер в пьяном виде, попадет ли какая-нибудь актриса на содержание к богатому поклоннику, как уже вся труппа осведомлена об этом. Словом, все мои товарищи узнали о том, что произошло в концерте, и одному богу известно, как они потешались на мой счет. В этой среде царит дух милосердия, обычно проявляющий себя в подобных случаях. Но я пренебрегла этими сплетнями и утешилась в потере герцога Медина Сели; ибо он больше ко мне не являлся, и я даже узнала несколько дней спустя, что он увлекся одной певицей.
Когда театральная дива находится в зените успеха, то у нее не бывает недостатка в поклонниках, и любовь знатного вельможи, продлись она хоть три дня, придает ей новую цену. Меня стали осаждать обожатели, как только в Мадриде разнесся слух, что герцог меня покинул. Соперники, которыми я пожертвовала ради него, вернулись толпой к моим ногам, еще более увлеченные моими чарами, чем прежде; тысячи новых сердец оказывали мне знаки верноподданства. Среди лиц, искавших моих милостей, был один дворянин из свиты герцога Оссунского, толстый немец, принадлежавший к числу самых ретивых моих поклонников. Он был далеко не хорош собой, но привлек мое внимание тысчонкой пистолей, которую сколотил на службе у своего господина и истратил, чтоб попасть в список осчастливленных мною любовников. Этого доброго малого звали Брютандорф. Пока он сорил деньгами, я принимала его благосклонно, но, как только он разорился, дверь моя оказалась для него закрытой. Такое отношение ему не понравилось. Он разыскал меня в театре во время спектакля. Я была за кулисами. Он принялся меня упрекать, но я подняла его на смех. Тогда он вспылил и, как истый немец, закатил мне пощечину. Я громко вскрикнула. Это прервало представление, а я кинулась на сцену и, обращаясь к герцогу Оссунскому, который в этот день присутствовал в театре вместе с герцогиней, своей супругой, попросила у него суда над его придворным за такое слишком германское обращение. Герцог приказал продолжать спектакль и сказал, что выслушает стороны по окончании пьесы. Как только она кончилась, я снова, весьма взволнованная, предстала перед герцогом и с большой горячностью изложила ему свою жалобу. Немец не потратил и двух слов на оправдание; он заявил, что не только не раскаивается в своем поступке, но даже не прочь начать снова. Выслушав стороны, герцог сказал тевтону:
– Брютандорф, ступайте от меня и не смейте мне больше показываться на глаза, не за то, что вы дали пощечину комедиантке, а за то, что вы неуважительно отнеслись к своему господину и своей госпоже, прервав представление в их присутствии.
Этот приговор задел меня за живое. Я испытала смертельную досаду на то, что немца прогнали вовсе не за учиненное мне поношение. Мне думалось, что обида, нанесенная артистке, должна караться так же строго, как оскорбление величества, и я рассчитывала, что этот дворянин понесет чувствительное наказание. Но это неприятное происшествие отрезвило меня и убедило в том, что мир не склонен смешивать актеров с ролями, которые они исполняют. Вследствие этого я прониклась отвращением к театру и решила покинуть его, чтоб жить вдали от Мадрида. Выбрав своей резиденцией город Валенсию, я отправилась туда под другим именем, захватив с собой двадцать тысяч дукатов, частью наличными, частью в драгоценностях, что, казалось мне, должно было хватить на остаток моих дней, так как я собиралась вести уединенный образ жизни. В Валенсии я наняла небольшой домик и взяла в прислуги одну женщину и пажа, которые знали обо мне не больше, чем прочие жители города. Я выдала себя за вдову дворцового чиновника и объявила, что намереваюсь поселиться в Валенсии, так как город этот пользуется репутацией одного из наиболее приятных местопребываний во всей Испании. Народу у меня бывало немного, а мое поведение отличалось такой безупречностью, что никому не приходило в голову заподозрить во мне бывшую артистку. Но, несмотря на свои старания укрыться от людей, я привлекла внимание одного дворянина, которому принадлежал замок под Палерной. Это был кавалер довольно приятной наружности, лет тридцати пяти – сорока, весь в долгах, что случается с дворянами в Валенсийском королевстве не реже, чем в прочих государствах.
Моя особа пришлась по вкусу этому сеньору идальго, и он пожелал узнать, подхожу ли я ему в других отношениях. Для этого он отправил за справками серых лакеев и имел удовольствие узнать из их донесений, что я не только обладала смазливой рожицей, но была к тому же довольно состоятельной вдовой. Убедившись, что дело подходящее, он подослал ко мне добрую старушку, которая объявила от его имени, что, увлеченный моей добродетелью в такой же мере, как и моей красотой, он готов вступить со мной в брак и отвести меня к алтарю, если я согласна стать его женой. Я попросила три дня на размышления и навела справки об этом дворянине. От меня не скрыли состояния его дел, но наговорили мне о нем столько хорошего, что спустя некоторое время я без труда решилась выйти за него замуж.
Дон Мануэль де Херика – так звали моего супруга – отвез меня сперва в свой замок, весьма старинный на вид, чем его владелец очень гордился. Он утверждал, что замок был построен в отдаленные времена одним из его предков, и это приводило его к выводу, что нет в Испании более старинного рода, чем род Херика. Но время грозило уничтожить эту столь замечательную дворянскую грамоту; замок, подпертый уже в нескольких местах, собирался развалиться. Какое счастье для дона Мануэля, что он женился на мне! Половина моих денег ушла на ремонт, а остальные мы тратили на то, чтоб занимать видное положение в округе. И вот я, так сказать, в новом мире, превращенная во владелицу замка, в почетную прихожанку: какая метаморфоза! Я была слишком хорошей актрисой, чтоб не поддержать блеска, который распространял на меня мой ранг. Благодаря своим важным манерам и театральным позам я слыла в деревне за особу знатного происхождения. Как бы эти люди потешались на мой счет, знай они обо мне всю подноготную! Окрестное дворянство осыпало бы меня язвительными шутками, а крестьяне сильно поубавили бы почтения, которое они мне оказывали.
Почти шесть лет прожила я счастливо с доном Мануэлем, но тут его постигла смерть. Он оставил мне запутанные дела и вашу сестру Беатрис, которой минуло четыре года. К несчастью, замок, составлявший наше единственное имущество, оказался заложенным у нескольких заимодавцев, из которых главного звали Бернальдо Астуто. Как хорошо он оправдывал свое имя! Он занимал в Валенсии должность стряпчего и исполнял таковую, как человек, набивший себе руку в судебной процедуре; он даже изучил право, чтоб искуснее творить бесправие. Какой ужасный заимодавец! Замок в лапах такого стряпчего, все равно что голубка в когтях черного коршуна: и действительно, не успел сеньор Астуто узнать о смерти моего мужа, как он принялся осаждать мое жилище. Он безусловно взорвал бы его с помощью мин, подложенных крючкотворством, если бы не вмешалась моя звезда: Фортуна пожелала, чтоб осаждающий стал моим рабом. Я очаровала его во время свидания, которое было у нас по поводу его судебных преследований. Признаюсь, что не поскупилась ничем, для того чтоб внушить ему любовь; желание спасти свой замок заставило меня прибегнуть к тем ужимкам, которые уж не раз имели успех. Но при всем своем искусстве я тем не менее опасалась, что упущу стряпчего. Он был так поглощен своим ремеслом, что казался нечувствителен к каким бы то ни было любовным впечатлениям. Однако этот угрюмец, заноза, приказная строка любовался мною больше, чем я предполагала.
– Сударыня, – сказал он мне, – я не умею строить куры. Моя профессия так затянула меня, что я не успел познакомиться со свычаями и обычаями галантного обихода. Но суть его мне известна, и, чтоб подойти прямо к делу, скажу вам, что если вы согласны выйти за меня замуж, то мы прекратим этот процесс; я устраню заимодавцев, присоединившихся ко мне для продажи вашей земли. Вам достанутся доходы, а вашей дочери право собственности.
Интересы Беатрис и мои не позволили мне колебаться; я приняла предложение. Стряпчий сдержал обещание: он повернул оружие против остальных заимодавцев и обеспечил мне владение замком. Возможно, что это был первый случай в его жизни, когда он защитил вдовицу и сиротку.
Таким образом, я стала супругой стряпчего, не переставая быть почетной прихожанкой. Но этот новый брак уронил меня в глазах валенсийской знати. Дворянки смотрели на меня, как на особу, изменившую своему рангу, и не желали иметь со мной никакого дела. Пришлось ограничиться обществом мещанок, что сперва меня несколько огорчало, так как я за шесть лет привыкла вращаться среди знатных барынь. Тем не менее я утешилась и свела знакомство с одной повытчицей и двумя женами стряпчих, отличавшихся весьма смешным характером. Их безвкусные манеры забавляли меня. Эти дамочки считали, что они стоят выше толпы.
«Увы! – говорила я иногда самой себе, когда они начинали хорохориться, – таков свет! Каждый воображает, что он выше соседа. Я думала, что зазнаются только актрисы, а оказывается, что и мещанки ничуть не благоразумнее. Мне хотелось бы, чтоб их заставили в наказание хранить в своем доме портреты предков. Клянусь смертью! Они не повесили бы их на самое освещенное место».
После четырехлетнего брака сеньор Бернальдо Астуто занемог и скончался бездетным. С тем состоянием, которое он выделил мне при бракосочетании, и тем, которое мне принадлежало, я оказалась богатой вдовой. За таковую я и слыла, а потому один сицилийский дворянин, по имени Колификини, узнав об этом, вздумал заинтересоваться мной с целью либо меня разорить, либо жениться на мне. Он предоставил мне право выбора. Прибыл он из Палермо, чтоб посмотреть Испанию, и, удовлетворив свое любопытство, поджидал, по его словам, в Валенсии подходящего случая вернуться в Сицилию. Этому кавалеру не было еще двадцати пяти лет; он был мал ростом, но зато строен, и к тому же лицо его мне приглянулось. Он нашел случай встретиться со мной наедине, и признаюсь вам откровенно, что я безумно влюбилась с первой же беседы. Со своей стороны, маленький плутишка притворился, что сильно увлечен моими чарами. Думаю, – да простит мне господь, – что мы немедленно поженились бы, если бы смерть стряпчего, еще слишком недавняя, не помешала мне заключить новые узы. Но с тех пор как я вошла во вкус гименеев, я соблюдала общественные приличия. А потому мы решили благопристойности ради отложить наш брак на некоторое время. Между тем Колификини всячески угождал мне, и любовь его не только не ослабевала, но, казалось, крепла с каждым днем. Бедный малый был в то время не при деньгах. Я заметила это, и он перестал нуждаться. Во-первых, я была почти вдвое старше его, а во-вторых, мне вспомнилось, что я в молодости обкладывала мужчин немалой данью, а потому смотрела на эти подарки, как на некое возмещение, очищавшее мою совесть. Мы по возможности терпеливо дожидались окончания срока, после которого приличие позволяет вдовам снова вступить в брак. Когда он наступил, мы предстали перед алтарем и связали себя вечными узами. Затем мы уединились в моем замке и, поверьте мне, прожили там два года не столько как супруги, сколько как нежные любовники. Но, увы, нам не дано было долго наслаждаться таким счастьем: простуда унесла моего любезного Колификини.
В этом месте я прервал свою мать.
– Как, сударыня? – сказал я. – И третий ваш супруг тоже умер? Неужели вы такая грозная крепость, что ее нельзя взять, не потерявши жизни?
– Что делать, сын мой, – отвечала она, – разве я в силах продлить дни, сосчитанные небом? Хоть у меня и умерло трое мужей, но я тут ни при чем. О двух из них я сильно печалилась. Меньше всего я оплакивала стряпчего. Выйдя за него замуж по расчету, я легко утешилась в этой потере. Но, чтоб вернуться к Колификини, – продолжала она, – скажу вам, что через несколько месяцев после его смерти мне захотелось самой взглянуть на загородный дом возле Палермо, который он предоставил мне в качестве вдовьей части в нашем брачном контракте. Я вместе с дочерью отправилась морем в Сицилию, но по дороге наше судно было захвачено кораблями алжирского паши. Нас привезли в этот город. На наше счастье, вы оказались на площади, где нас хотели продать. Без этого мы попали бы в руки какого-нибудь варвара, который обращался бы с нами грубо и у которого мы, быть может, провели бы всю жизнь в рабстве, так что вы никогда не слыхали бы о нас.
Таков был рассказ моей матери, после чего я отвел ей лучшие покои в своем доме, предоставив ей полную свободу жить по собственному усмотрению, что пришлось ей весьма по душе. Любовь настолько вошла у нее в привычку, укоренившуюся благодаря рецидивам, что ей обязательно нужен был либо любовник, либо муж. Сперва она заинтересовалась некоторыми из моих невольников, но вскоре греческий ренегат, Халли Пегелин, часто навещавший нас, привлек к себе все ее внимание. Она воспылала к нему еще большей любовью, чем некогда к Колификини, и так она преуспевала в искусстве нравиться мужчинам, что нашла секрет очаровать также и этого. Я притворился, будто не замечаю их шашен, тем более что в то время думал только о том, как бы вернуться в Испанию. Паша уже дал мне разрешение оснастить судно, чтоб сделаться пиратом и каперствовать. Я был занят этим снаряжением и за неделю до его окончания сказал Лусинде:
– Сударыня, мы в ближайшие дни покинем Алжир и навсегда потеряем из виду эту столь ненавистную для вас страну.
При этих словах моя родительница побледнела и погрузилась в ледяное молчание. Это весьма удивило меня.
– Что я вижу? – сказал я. – Почему у вас такое испуганное лицо? Можно подумать, что я вас огорчил, вместо того чтоб обрадовать. А я думал принести вам приятную весть, сообщив, что все готово к нашему отъезду. Разве вы не хотите вернуться в Испанию?
– Нет, сын мой, – отвечала она, – я этого больше не хочу. Мне пришлось испытать там столько горя, что я навсегда отказываюсь от родины.
– Что я слышу! – воскликнул я с огорчением. – Скажите лучше, что любовь отвратила вас от нее. О небо, какая перемена! Когда вы прибыли в этот город, все казалось вам противным, но Халли Пегелин внушил вам другие чувства.
– Не стану отрицать, – возразила Лусинда, – я люблю этого ренегата и хочу, чтоб он стал моим четвертым супругом.
– Какое безумие! – прервал я ее в ужасе. – Выйти за мусульманина? Вы забываете, что вы христианка. Неужели вы были ею до сих пор только по имени? О, матушка, какое будущее вы себе готовите! Вы решили сгубить свою душу и собираетесь добровольно сделать то, что я сделал по принуждению.
Я держал еще многие другие речи, чтоб отвратить ее от этого намерения, но все мои уговоры были тщетны: она твердо стояла на своем. Мало того, что она уступила своим дурным наклонностям и ушла от меня к ренегату, но ей захотелось еще забрать с собой Беатрис. Однако я воспротивился этому.
– О, несчастная Лусинда! – сказал я ей. – Если ничто не способно вас удержать, то предавайтесь одни обуявшим вас страстям и не вовлекайте юную невинность в пропасть, в которую собираетесь броситься.
Лусинда ничего не возразила на это и удалилась. Я думал, что последний проблеск благоразумия осенил ее и помешал настоять на уходе дочери. Но как дурно знал я свою мать! Два дня спустя один из моих невольников сказал мне:
– Сеньор, будьте осторожны. Раб Пегелина только что поведал мне по секрету нечто очень важное, и чем скорее вы воспользуетесь этим сообщением, тем лучше. Ваша мать отреклась от своей веры и, чтоб наказать вас за то, что вы не отдали ей Беатрис, она решила предупредить пашу о вашем бегстве.
Я ни минуты не сомневался, что Лусинда была вполне способна исполнить то, о чем сообщил мне мой невольник. У меня было достаточно времени изучить эту даму, и я заметил, что благодаря привычке играть кровавые роли в трагедиях она в достаточной мере освоилась с преступлениями. У нее хватило бы духу подвести меня под сожжение живьем, и не думаю, чтоб она была более чувствительна к моей смерти, чем к какой-нибудь катастрофе в театральной пьесе.
В силу этого я не счел возможным пренебречь советом, который дал мне невольник, и ускорил отправку корабля. Согласно обычаю алжирских корсаров, пускающихся в пиратские набеги, я взял с собой турок, но лишь столько, сколько нужно было, чтоб отвлечь подозрения, после чего я отплыл из порта со всей возможной поспешностью вместе со своими рабами и с сестрой Беатрис. Вы, конечно, понимаете, что я не забыл захватить с собой все свои деньги и драгоценности, в общем на шесть тысяч дукатов. Очутившись в открытом море, мы прежде всего обезопасили себя от турок. Нам легко удалось заковать их в кандалы, так как мои рабы численно превышали их. Дул такой благоприятный ветер, что мы в короткое время достигли берегов Италии и счастливо прибыли в Ливорно, где чуть ли не весь город сбежался посмотреть, как мы высаживаемся. Отец моего раба Адзарини оказался случайно или из любопытства среди зрителей. Он внимательно вглядывался в моих рабов, по мере того как они спускались на берег, и хотя он искал среди них знакомые черты сына, однако же не ожидал его увидеть. Но сколько было восторгов, сколько объятий, когда, встретившись, они узнали друг друга!
Как только Адзарини сообщил своему отцу, кто я и зачем приехал в Ливорно, старик обязал меня и Беатрис остановиться у него. Не стану подробно распространяться о том, что мне пришлось проделать, чтоб вернуться в лоно церкви; скажу только, что я чистосердечнее отрекся от магометанства, чем принял его. Очистившись от алжирской скверны, я продал судно и отпустил на волю всех рабов. Что касается турок, то их посадили в ливорнскую тюрьму, чтоб со временем выменять на христиан. Оба Адзарини старались всячески меня ублажить; сын даже женился на моей сестре. Беатрис, впрочем, являлась для него недурной партией, так как была дочерью дворянина и владелицей замка, который мать ее перед отъездом в Сицилию позаботилась сдать в аренду богатому патернскому земледельцу.
Побыв некоторое время в Ливорно, я отправился во Флоренцию, которую мне хотелось посмотреть. Я поехал туда не без рекомендательных писем. У отца Адзарини были друзья при дворе великого герцога, и он представил меня им в качестве испанского дворянина, приходившегося ему свойственником. Я добавил «дон» к своему имени, подражая в этом отношении многим испанским разночинцам, без стеснения присваивающим себе этот почетный титул за пределами своей родины. Таким образом я нагло титуловал себя доном Рафаэлем, и так как я привез из Алжира достаточно денег, чтоб с достоинством поддержать свое дворянское звание, то появился при дворе с большой пышностью. Кавалеры, которым отрекомендовал меня старик Адзарини, распространили слух о моем знатном происхождении; благодаря их свидетельству и моим барским манерам я без труда прослыл за важную персону. Вскоре я втерся в общество самых высокопоставленных сеньоров, которые представили меня великому герцогу. Мне выпало счастье ему понравиться. Тогда я принялся усердно ходить к нему на поклон и изучать его. Внимательно прислушиваясь к тому, о чем беседовали царедворцы, я разузнал из их разговоров, какие у него наклонности. Между прочим, я заметил, что он любит шутки, анекдоты и остроты. Это определило линию моего поведения. С утра я заносил на свои таблички [109] забавные истории, которые намеревался рассказать герцогу в течение дня. Я знал их превеликое множество; могу сказать, что у меня был их целый мешок. Но хотя я расходовал их экономно, однако же мешок мало-помалу пустел, так что мне пришлось бы повторяться или обнаружить перед всеми, что запас моих историй исчерпан, если б мой гений, тороватый на всякие выдумки, не снабдил меня таковым в изобилии: я стал сочинять любовные и комические побасенки, которые весьма забавляли герцога, и, как это нередко бывает с профессиональными остряками, начал с утра записывать шутки, которые днем выдавал за экспромты.
Я даже заделался поэтом и посвятил свою музу восхвалению герцога. Впрочем, я охотно сознавался, что мои стихи никуда не годятся, а потому их никто и не критиковал, но сомневаюсь, чтоб они могли воспользоваться у герцога большим успехом, если б оказались лучше. Он, видимо, и так был ими вполне доволен. Вероятно, самый сюжет мешал ему находить их дурными. Как бы то ни было, а государь незаметно проникся ко мне таким расположением, что это вызвало недовольство придворных. Они попытались разузнать, кто я. Но это им не удалось. Они выяснили только, что я был раньше ренегатом, и не преминули доложить об этом герцогу в надежде мне повредить. Но это не увенчалось успехом; государь приказал мне точно описать мое путешествие в Алжир. Я повиновался, и мои приключения, которые я не стал скрывать от него, весьма его позабавили.
– Дон Рафаэль, – сказал он мне, выслушав мой рассказ, – я благоволю к вам и намерен доказать свое расположение поступком, который убедит вас в этом. Вы будете поверенным моих тайн, и для начала я скажу вам, что влюблен в супругу одного из своих министров. Это самая обаятельная и в то же время самая добродетельная дама при моем дворе. Погруженная в свою домашнюю жизнь, всецело преданная супругу, который ее боготворит, она как бы не замечает шумного восхищения, которое ее чары вызывают во Флоренции. Судите сами, как трудна такая победа. Но хотя эта красавица и не приступна для поклонников, однако же согласилась несколько раз внять моим вздохам. Мне удалось поговорить с ней без свидетелей. Ей ведомы мои чувства. Не могу похвалиться тем, что внушил ей взаимность; она не дала мне повода льстить себя столь приятной надеждой; тем не менее я не отчаиваюсь понравиться ей своим постоянством и той осторожностью, которую тщательно соблюдаю.
Моя страсть к этой даме, – продолжал он, – известна только ей одной. Вместо того чтоб безудержно следовать своему влечению и воспользоваться прерогативами монарха, я скрываю от всех тайну своей любви. Меня побуждает к такой щепетильности уважение к Маскарини: это супруг той особы, которую я люблю. Его усердие и преданность, а также его заслуги и честность обязывают меня к такому скрытному и осторожному поведению. Я не желаю вонзать кинжал в грудь этого несчастного супруга, объявив себя поклонником его жены. Мне хотелось бы, если это только возможно, чтоб он никогда не узнал о пламени, которое меня сжигает, ибо убежден, что он умер бы с горя, если б услыхал то, что я вам сейчас сказал. А потому я держу в секрете свои намерения и решил воспользоваться вашими услугами, чтоб передать Лукреции, как я страдаю от той узды, которую на себя наложил. Нисколько не сомневаюсь, что вы прекрасно справитесь с этим поручением. Сойдитесь поближе с Маскарини; постарайтесь завязать с ним дружбу; навещайте его и добейтесь возможности свободно общаться с его женой. Вот чего я жду от вас, и уверен, что вы выполните это со всей ловкостью и осторожностью, каковых требует столь деликатная миссия.
Я обещал великому герцогу сделать все от меня зависящее, чтоб оправдать его доверие и споспешествовать успеху его пламенного увлечения. Вскоре я сдержал слово. Я не пожалел ничего, чтоб понравиться Маскарини, и легко добился этого. Польщенный тем, что фаворит государя старается снискать его дружбу, он сам пошел мне навстречу. Двери его дома раскрылись передо мной; я получил свободный доступ к его супруге и, смею сказать, так искусно играл свою роль, что у него не возникло никаких подозрений относительно порученных мне переговоров. Правда, он был не слишком ревнив для итальянца и, полагаясь на добродетель Лукреции, нередко запирался в своем кабинете и оставлял меня с нею наедине. Сперва я повел дело честно. Я объявил даме о любви великого герцога и сказал, что пришел исключительно для того, чтоб говорить с ней об этом государе. Насколько мне показалось, она не была увлечена им, однако тщеславие мешало ей отвергнуть его вздохи. Ей доставляло удовольствие слушать их, но отвечать на них она не думала. Лукреция отличалась благонравием, но все же была женщиной, и я заметил, что добродетель ее невольно сдавалась перед блестящей перспективой видеть монарха у своих ног. Словом, герцог мог уже уповать, что покорит Лукрецию, не прибегая к силе, подобно Тарквинию, но одно обстоятельство, которого он меньше всего ожидал, расстроило, как вы сейчас узнаете, его надежды.
Я от природы смел с женским полом. Эту привычку, хорошую или дурную, я усвоил в бытность свою у турок. Лукреция была прекрасна. Забыв, что мне следует ограничиться исключительно ролью посланца, я заговорил от своего имени. В самой куртуазной форме предложил я даме свои услуги. Но вместо того чтоб вознегодовать на мою дерзость и ответить мне в сердцах, она сказала с улыбкой:
– Признайте, дон Рафаэль, что великий герцог избрал отменно верного и старательного посредника. Вы служите ему с такой честностью, на которую невозможно нахвалиться.
– Сеньора, – отвечал я ей в том же тоне, – к чему нам разбираться в этом с такой щепетильностью? Прошу вас, оставим в стороне рассуждения: я знаю, что выводы клонятся не в мою пользу, но руководствуюсь сейчас только своим чувством. Не думаю, чтоб в конечном счете я был единственным наперсником, который когда-либо предавал своего государя в любовных делах. Знатные сеньоры нередко находят опасных соперников в лице своих меркуриев [110] .
– Возможно, – сказала Лукреция, – но что касается меня, то я горда, и никто, кроме монарха, не посмеет до меня коснуться. Примите это к сведению, – продолжала она, принимая серьезный тон, – а теперь давайте переменим разговор. Я охотно согласна забыть то, что вы мне только что сказали, с условием, чтобы вы никогда больше не держали мне подобных речей; иначе вам придется в этом раскаяться.
Несмотря на это предостережение, которое следовало принять во внимание, я не перестал твердить жене Маскарини о своей страсти. Я даже еще с большим пылом, чем раньше, добивался того, чтоб она ответила на мои нежные чувства, и был настолько дерзок, что позволил себе некоторые вольности. Тогда эта дама, обидевшись на мои речи и мусульманские замашки, перешла в решительное наступление. Она пригрозила, что уведомит великого герцога о моей наглости и попросит наказать меня по заслугам. Тут уж я взбеленился на эти угрозы. Любовь превратилась в ненависть, и я решил отомстить жене Маскарини за ее презрение ко мне. Я отправился к мужу и, взяв с него клятву, что он меня не выдаст, уведомил его о шашнях между герцогом и Лукрецией, которую не преминул выставить безумно влюбленной в государя, дабы придать сцене побольше живости. Во избежание несчастья министр без дальнейших околичностей запер свою супругу в потайном помещении и приказал доверенным лицам строжайше стеречь ее. Пока ее окружали аргусы, наблюдавшие за ней и мешавшие снестись с великим герцогом, я с грустным видом посоветовал этому государю больше не думать о Лукреции. Я сказал ему, что Маскарини, видимо, проведал обо всем, раз он вздумал наблюдать за женой; что я не знаю причины, побудившей его заподозрить меня, так как я, казалось, вел себя все время с большой предусмотрительностью, и что, быть может, дама сама призналась во всем супругу и по уговору с ним дала себя запереть, дабы избежать преследований, оскорблявших ее добродетель. Герцог сильно огорчился моим донесением. Я был тронут его печалью и не раз раскаивался в своем поступке, но было уже поздно. Признаюсь, впрочем, что я испытывал злорадство, думая о том, как наказал гордячку, презревшую мои желания.
Я безнаказанно наслаждался сладостью мести, столь отрадной для всех людей и в особенности для испанцев, когда однажды великий герцог обратился ко мне и еще к пяти или шести придворным:
– Скажите, господа, как следует, по-вашему, наказать человека, злоупотребившего доверием своего государя и вознамерившего похитить у него возлюбленную?
– Надлежало бы его четвертовать, – отвечал один из царедворцев.
Другой предложил избить его палками до смерти. Самый милосердный из этих итальянцев, проявивший наибольшую гуманность, сказал, что было бы вполне достаточно сбросить преступника с высокой башни.
– А каково ваше мнение, дон Рафаэль? – спросил тогда герцог. – Я убежден, что испанцы в подобных случаях не менее строги, чем итальянцы.
Я сразу понял, как вы можете рассудить, что либо Маскарини не сдержал клятвы, либо жена его нашла способ уведомить герцога о том, что произошло между нами. Охватившая меня тревога отразилась на моем лице. Но сколь я ни был взволнован, однако же ответил герцогу твердым голосом:
– Государь, испанцы гораздо великодушнее: в подобном случае они простили бы наперсника и своей добротой зародили бы в его душе вечное раскаяние в том, что он их предал.
– Ну что ж, – отвечал герцог, – я чувствую себя способным на такое великодушие; прощаю предателя, тем более что мне некого винить, кроме себя самого, так как я доверился человеку, которого не знал и в котором имел основания сомневаться после того, что мне о нем говорили. Дон Рафаэль, – добавил он, – моя месть будет заключаться в следующем: немедленно покиньте мои владения и никогда больше не показывайтесь мне на глаза.
Я тотчас же удалился, менее огорченный постигшей меня немилостью, чем обрадованный тем, что так дешево отделался. На следующий же день я сел на корабль, который покидал ливорнский порт и возвращался в Барселону.
В этом месте рассказа я прервал дона Рафаэля.
– Мне кажется, – сказал я, – что для умного человека вы совершили изрядную ошибку, не уехав из Флоренции тотчас же после того, как открыли Маскарини любовь герцога к Лукреции. Вы должны были предвидеть, что этот государь не замедлит узнать о вашем предательстве.
– Вполне с вами согласен, – отвечал сын Лусинды, – я и собирался испариться как можно скорее, несмотря на обещание министра не выдавать меня герцогу.
– Я прибыл в Барселону, – продолжал он, – с остатком привезенных из Алжира богатств, большую часть которых протранжирил во Флоренции, разыгрывая испанского дворянина. Но я недолго пробыл в Каталонии. Мне смертельно хотелось снова повидать Мадрид, мою несравненную родину, и я не замедлил осуществить преследовавшее меня желание. Прибыв в этот город, я случайно поселился в меблированных комнатах, где жила одна особа, по имени Камила. Хотя она уже перевалила за совершеннолетие, однако же была еще весьма пикантной бабенкой: могу сослаться на свидетельство сеньора Жиль Бласа, который видел ее почти в то же время в Вальядолиде. У нее было еще больше ума, чем красоты, и ни одна авантюристка не обладала таким талантом подцеплять простаков. Но Камила не походила на тех прелестниц, которые извлекают для себя пользу из подношений своих любовников. Не успевала она общипать какого-нибудь богача, как делила добычу с первым приглянувшимся ей рыцарем притона.
Мы влюбились друг в друга с первого взгляда, и сходство вкусов так скрепило наши узы, что вскоре и имущество стало у нас общим.
Правда, оно было невелико, и мы проели его в короткое время. К несчастью, мы оба помышляли только о том, чтоб нравиться друг другу, и совершенно не пользовались своим талантом жить на чужой счет. Но в конце концов нужда разбудила наши дарования, усыпленные наслаждением.
– Любезный Рафаэль, – сказала мне Камила, – изменим тактику, друг мой: перестанем хранить друг другу верность, которая нас разоряет. Вы можете вскружить голову богатой вдове, а я сумею очаровать какого-нибудь старого сеньора. Соблюдая верность, мы теряем два состояния.
– Прекрасная Камила, – отвечал я ей, – вы меня опередили: я собирался сделать вам точно такое же предложение. Согласен, царица моя. Попытаемся добиться полезных побед, чтоб поддержать нашу взаимную страсть. Наши измены превратятся для нас в триумфы.
Заключив такое соглашение, мы принялись за дело. Сперва мы проявили большую энергию без всякого толка. Камиле попадались только петиметры, т. е. любовники, не имевшие ничего за душой, а мне – женщины, предпочитавшие взимать, а не платить дань. Поскольку любовь отказывалась служить нашим потребностям, мы прибегли к плутням и совершили их такое множество, что слухи об этом дошли до коррехидора. Сей чертовски злой судья приказал посадить нас под стражу; но альгвасил, который был настолько же добр, насколько коррехидор был злобен, выпустил нас из Мадрида за небольшую сумму. Мы направились в Вальядолид и поселились там. Я снял дом для Камилы, которую во избежание скандала выдал за свою сестру. Сперва мы держали свои таланты в узде и изучали почву, прежде чем пуститься в какое-либо предприятие.
Однажды какой-то человек остановил меня на улице и, поклонившись весьма учтиво, сказал:
– Вы не узнаете меня, сеньор дон Рафаэль?
Я ответил ему отрицательно.
– А я отлично вас помню, – продолжал он. – Мне пришлось видеть вас при тосканском дворе, где я был телохранителем великого герцога. Несколько месяцев тому назад, – добавил он, – я оставил службу у этого государя и приехал в Испанию с одним итальянцем, большим пройдохой. Вот уже три недели, как мы в Вальядолиде, где поселились с двумя безусловно честными малыми – одним кастильцем и одним галисийцем. Мы живем вместе трудами рук своих, ублажаем свою утробу и развлекаемся, как принцы. Если вы хотите присоединиться к нам, то мои собратья окажут вам любезный прием, ибо я всегда считал вас галантным человеком, не слишком щепетильным от природы, и членом нашего ордена.
Откровенность этого плута побудила меня ответить ему тем же.
– Раз вы говорите со мной начистоту, – сказал я, – то заслуживаете, чтоб и я поступил с вами так же. Действительно, я не новичок в вашем ремесле, и если б скромность позволила мне рассказать про свои геройства, то вы увидели бы, что еще недооценили меня. Но, оставя похвальбу, скажу вам только, что я принимаю ваше предложение и, став вашим компаньоном, постараюсь всячески доказать, чего я стою.
Не успел я сказать этому пройдохе, что согласен пополнить ряды его сотоварищей, как он отвел меня туда, где они находились, и познакомил с ними. Там-то я впервые увидал прославленного Амбросио Ламела. Эти господа проэкзаменовали меня по части искусства тонко присваивать добро ближнего. Они пожелали убедиться, знаю ли я основы ремесла, но я показал им такие штучки, о которых они не имели понятия и которые привели их в восторг. Они еще больше изумились, когда, отозвавшись с пренебрежением о ловкости рук, как о слишком трафаретном таланте, я сообщил им, что особенно искусен в плутнях, требующих сообразительности. В доказательство я привел им приключение с Херонимо де Мойадас, и по одному моему рассказу они признали меня за такого выдающегося гения, что единогласно выбрали своим главарем. Я блестяще оправдал их ожидания бесчисленным множеством мошенничеств, которые мы совершили и в которых я был, так сказать, движущей пружиной. Когда нам нужна была для подмоги актриса, то мы пользовались Камилой, восхитительно исполнявшей роли, которые ей поручали. В ту пору наш собрат Амбросио испытал желание повидать свою родину. Он отправился в Галисию, заверив нас, что мы можем рассчитывать на его возвращение. Выполнив свое намерение, он на обратном пути завернул в Бургас, чтоб кое-чем поживиться, и один знакомый гостиник поместил его в услужение к сеньору Жиль Бласу из Сантильяны, не преминув осведомить о делах этого кавалера. Сеньор Жиль Блас, – продолжал дон Рафаэль, обращаясь ко мне, – вы знаете, каким манером мы обчистили вас в вальядолидских меблированных комнатах; не сомневаюсь, что вы заподозрили и Амбросио, главного организатора этой кражи, и вы были правы. Вернувшись в Вальядолид, он разыскал нас, сообщил, где вы остановились, и наша теплая компания построила на этом свой план. Но вам не известны последствия этого похождения, – сейчас осведомлю вас о дальнейшем. Амбросио и я утащили ваш чемодан и направились вдвоем на мулах по мадридской дороге, не заботясь ни о Камиле, ни о наших собратьях, которые, вероятно, были крайне изумлены, обнаружив на следующее утро наше исчезновение.
На другой день мы изменили свое намерение. Вместо того чтоб держать путь на Мадрид, который я покинул не без оснований, мы поехали через Себрерос и отправились в Толедо. По прибытии в этот город мы прежде всего позаботились о том, чтоб одеться попристойнее, после чего, выдав себя за братьев, уроженцев Галисии, путешествующих из любознательности, вскоре втерлись в весьма приличное общество. Я настолько привык корчить из себя важного барина, что люди легко этому верили, и так как проще всего ослепить щедростью, то мы пустили всем пыль в глаза галантными увеселениями, которые устраивали в честь дам. Среди женщин, которых я встречал в Толедо, была одна, поразившая мое сердце. Она казалась мне красивей и много моложе Камилы. Я захотел узнать, кто она, и мне сообщили, что ее зовут Виолантой и что замужем она за кавалером, который, пресытившись ее прелестями, гоняется за ласками одной приглянувшейся ему куртизанки. Этого с меня было достаточно для того, чтоб сделать Виоланту владычицей своих помыслов.
Она не замедлила обнаружить одержанную ею победу. Я следовал за ней повсюду и совершал тысячи безумств с целью убедить свою даму, что горю желанием утеплить ее и вознаградить за неверность супруга. Красавица предалась по этому поводу размышлениям, в результате каковых я, наконец, имел удовольствие узнать, что мои притязания приняты с благосклонностью. Я получил от нее письмецо в ответ на несколько моих записок, доставленных ей одной из тех старушек, которые приносят столько пользы любовникам в Испании и Италии. В этом письме дама сообщала, что ее муж каждый вечер ужинает у своей возлюбленной и возвращается домой очень поздно. Нетрудно было понять, что это означает. В ту же ночь я отправился под окна Виоланты и завязал с ней нежнейший разговор. Расставаясь, мы условились беседовать таким образом всякую ночь в определенный час, не пренебрегая прочими романтическими возможностями, которые могли нам представиться в течение дня.
До сих пор дон Балтасар – так звали супруга Виоланты – отделывался довольно дешево; но я хотел любить физически, а потому отправился однажды вечером под окна своей дамы с намерением сказать ей, что умру, если не добьюсь от нее свидания в месте, более подходящем для пыла моей страсти, на что она до этого не соглашалась. Но, придя туда, я повстречал на улице человека, видимо наблюдавшего за мной. Это оказался муж Виоланты. Вернувшись раньше обычного от любезной ему куртизанки, он заметил подле своего дома кавалера и, вместо того чтоб войти к себе, принялся разгуливать взад и вперед по улице. Сперва я пребывал в нерешительности, не зная, что предпринять. Но наконец я надумал заговорить с доном Балтасаром, которого не знал и которому сам был неизвестен.
– Сеньор кавальеро, – сказал я ему, – не будете ли вы столь любезны освободить мне улицу на эту ночь; я готов в другой раз оказать вам ту же услугу.
– Сеньор, – отвечал он, – я собирался обратиться к вам с такой же просьбой. Я влюблен в одну девушку, которую ее брат приказал строжайшим образом стеречь; она живет в двадцати шагах отсюда. Мне хотелось бы, чтоб никого не было на улице.
– Есть возможность, – отвечал я, – устроиться так, чтоб примирить наши желания, ибо дама моего сердца, – добавил я, указывая на его собственный дом, – живет вот здесь. По-моему, нам следовало бы даже вступить в союз, если кто-либо вздумает на нас напасть.
– Отлично, – возразил он, – в таком случае я иду на свое свидание, а в случае надобности мы поддержим друг друга.
С этими словами он удалился, но лишь для того, чтоб лучше наблюдать за мной, чему вполне благоприятствовала темнота ночи.
Что касается меня, то я, ничего не подозревая, подошел к балкону Виоланты. Она вскоре появилась, и мы принялись беседовать. Я не преминул настойчиво просить свою царицу о том, чтоб она назначила мне тайное свидание в каком-нибудь подходящем месте. Она некоторое время противилась моим настояниям, для того чтоб повысить ценность тех милостей, которых я домогался, но затем, вынув из кармана записку, бросила ее мне и сказала:
– Ловите! Вы найдете в этом письме обещание, которого так назойливо от меня добиваетесь.
Затем она удалилась, так как приближалось время, когда ее муж обычно возвращался домой. Я спрятал цыдульку и направился к тому месту, где, по словам дона Балтасара, у него было назначено свидание. Но этот супруг, поняв, что я нацеливаюсь на его жену, вышел мне навстречу и сказал:
– Ну как, сеньор кавальеро? Довольны ли вы своим приключением?
– Да, у меня есть для этого все основания, – отвечал я. – А как ваши дела? Была ли любовь к вам благосклонна?
– Увы, нет! – возразил он. – Проклятый брат моей красавицы неожиданно вернулся из загородного дома, где должен был пробыть, по нашим расчетам, до завтрашнего дня. Это препятствие лишило меня удовольствия, на которое я рассчитывал.
Я и дон Балтасар рассыпались в заверениях взаимной симпатии и назначили свидание на следующее утро на главной площади. Этот кавалер, расставшись со мной, вернулся к себе и не подал Виоланте виду, что ему что-либо известно. На другой день он утром отправился на главную площадь, а я явился туда спустя несколько минут. Мы приветствовали друг друга в любезнейших выражениях, столь же вероломных с одной стороны, сколь искренних с другой. Затем коварный дон Балтасар доверил мне тайну своей интриги с дамой, о которой говорил накануне. Он рассказал длинную басню, сочиненную им, и все это для того, чтоб побудить меня, в свою очередь, открыть ему, как мне удалось познакомиться с Виолантой. Я не преминул попасться в эту западню и выложил все с величайшей откровенностью; я даже показал ему полученную от нее записку и прочел ее содержание:
«Завтра буду обедать у доньи Инесы. Вы знаете, где она живет. Назначаю Вам свидание в доме моей верной подруги. Не могу долее отказывать Вам в этой милости, которую, как мне кажется, Вы заслужили».
– Да, – сказал он, – это послание сулит вам награду за пламенную любовь. Поздравляю наперед с ожидающим вас счастьем.
Говоря это, он не смог сохранить полного спокойствия, но тем не менее легко скрыл от меня свою тревогу и замешательство. Я так погрузился в сладкие надежды, что и не думал наблюдать за своим конфидентом, который, однако, был вынужден покинуть меня из боязни, как бы я не заметил его волнения. Он побежал уведомить об этом происшествии своего шурина. Мне не известно, что произошло между ними; знаю только, что дон Балтасар постучался в двери доньи Инесы в то самое время, когда я находился с Виолантой у этой дамы. Мы догадались, что пришел муж, и я удрал с заднего крыльца, прежде чем он вошел в дом. Обе дамы, несколько смущенные неожиданным появлением супруга, пришли в себя после моего исчезновения и встретили дона Балтасара с величайшим бесстыдством, которое, несомненно, навело его на мысль, что либо я удрал, либо меня спрятали. Не сумею сказать, что именно он наговорил донье Инесе и своей жене, ибо это до меня не дошло.
Между тем, все еще не подозревая, что дон Балтасар водит меня за нос, я вышел от Инесы, осыпая проклятиями мужа моей красавицы, и направился на главную площадь, где назначил свидание Ламеле. Но его там не оказалось. У этого плута были свои маленькие делишки, и счастье улыбалось ему больше, чем мне. Пока я его поджидал, явился с веселым видом мой коварный приятель. Он подошел ко мне и осведомился у меня со смехом о моем свидании с прелестной нимфой у доньи Инесы.
– Не знаю, – отвечал я, – какому ревнивому демону вздумалось испортить мне удовольствие: в то самое время, как я, наедине со своей дамой, заклинал ее составить мое счастье, муж – да сокрушит его небо! – постучался в двери. Пришлось немедленно удрать. Я убежал с заднего крыльца, посылая ко всем чертям этого докучливого дурака, расстроившего все мои чаяния.
– Искренне скорблю за вас, воскликнул дон Балтасар, которому мое огорчение доставляло тайную радость. – Что за наглец этот муж! Советую вам не щадить его.
– Да, да! – отвечал я. – Не премину последовать вашему совету и ручаюсь, что сегодня же ночью честь этого молодца подвергнется последнему испытанию. Расставаясь со мной, его супруга сказала, чтоб я не терял куража из-за таких пустяков и явился под ее окна раньше обычного, так как она решила впустить меня к себе. При этом она посоветовала во избежание какой-либо опасности прихватить на всякий случай для эскорта двух или трех друзей.
– Какая осторожная дама! – сказал он. – Позвольте мне сопровождать вас.
– О, любезный друг – воскликнул я, радостно обнимая дона Балтасара, – премного вам обязан.
– Я сделаю даже больше, – добавил он. – У меня есть знакомый молодой человек: это настоящий Цезарь. Я возьму его с собой, а с таким конвоем вам нечего беспокоиться.
Я не знал, как мне благодарить своего новоявленного друга, великодушие которого приводило меня в восторг. Наконец я все же принял предложенные мне услуги, и мы расстались, условившись встретиться с наступлением ночи под балконом Виоланты. Он отправился к своему шурину, который и был тем пресловутым Цезарем, а я до вечера разгуливал с Ламелой. Последний хотя и удивлялся рвению, проявленному доном Балтасаром к моим интересам, но, так же как и я, не возымел никаких подозрений. Мы сами очертя голову полезли в ловушку. Признаюсь, что это было непростительно для таких людей, как мы. Когда я заметил, что наступило время явиться под окна Виоланты, мы с Амбросио направились туда, вооруженные добрыми рапирами. Там мы застали мужа моей дамы в сопровождении другого человека, которые храбро нас поджидали. Дон Балтасар подошел ко мне и, указывая на своего шурина, сказал:
– Сеньор, вот кавалер, мужество которого я недавно вам расхваливал. Войдите к вашей возлюбленной, и пусть никакая тревога не помешает вам испытать полное блаженство.
После нескольких взаимных комплиментов я постучался в двери Виоланты. Мне открыла какая-то особа, смахивавшая на дуэнью. Я вошел и, не обращая внимания на то, что происходит за мной, направился в салон, где находилась моя дама. Но, пока я приветствовал ее, оба предателя захлопнули за собой дверь с такой быстротой, что Амбросио остался на улице, и, последовав за мной, обнаружили свое настоящее лицо.
Сами понимаете, что пришлось потягаться с ними. Они напали на меня одновременно, но я показал им, где раки зимуют. Я задал изрядную работу и тому и другому, и они, наверное, пожалели, что не избрали более надежного способа мести. Супруг пал, пронзенный моей шпагой. Шурин его, видя, что тот вышел из строя, шмыгнул в двери, которые оказались открытыми, так как дуэнья и Виоланта бежали во время нашего поединка. Я погнался за ним на улицу, где встретил Ламелу, который, не добившись никакого толку от промчавшихся мимо него женщин, не знал, что ему думать о долетевшем до него шуме. Мы вернулись в гостиницу и, захватив лучшие свои пожитки, сели на мулов и выбрались из города до наступления рассвета.
Было ясно, что это дело не останется без последствий и что власти произведут в городе расследование, от которого нам не мешало уклониться. Мы отправились ночевать в Вильярубия и пристали на постоялом дворе, куда вскоре после нас завернул один толедский купец, державший путь в Сегорбе. Он отужинал вместе с нами и рассказал нам про трагическое происшествие с мужем Виоланты. Ему и в голову не приходило заподозрить нас в этой проделке, так что мы смело задавали ему всякие вопросы.
– Господа, – сказал он нам, – я узнал об этом печальном событии сегодня утром, когда собирался уезжать. Всюду разыскивали Виоланту, и мне сказали, что коррехидор, который приходится родственником дону Балтасару, решил принять самые энергичные меры, чтобы разыскать виновников убийства. Это все, что я знаю.
Розыски, предпринятые толедским коррехидором, нисколько, меня не тревожили. Однако же я счел за благо немедленно покинуть Новую Кастилию. Я рассудил, что в случае ареста Виоланты она признается во всем и укажет мои приметы правосудию, которое не преминет послать за мной погоню. А потому мы со следующего же дня стали из предосторожности избегать проезжих дорог. К счастью, Ламела исколесил три четверти Испании и знал, какими окольными путями безопаснее всего пробраться в Арагон. Вместо того чтоб прямо направиться в Куэнсу, мы свернули в горы, находившиеся подле этого города, и тропинками, известными моему проводнику, добрались до грота, походившего на скит. Это тот самый, в котором вы вчера попросили у меня пристанища.
Пока я любовался окрестностями, являвшими прелестные виды, мой сотоварищ сказал:
– Я был здесь шесть лет тому назад. В то время пещера эта служила убежищем одному старому отшельнику, который отнесся ко мне милосердно и разделил со мной свои запасы. Припоминаю, что это был святой человек и что он держал мне речи, которые чуть было не отвратили меня от мирского житья. Быть может, он еще жив; надо взглянуть.
С этими словами любознательный Амбросио слез с мула и вошел в пещеру. Он пробыл там несколько минут и, вернувшись, позвал меня.
– Пойдите сюда, дон Рафаэль, – сказал он, – пойдите взглянуть на трогательное зрелище.
Я тотчас же спешился. Мы привязали мулов к деревьям, и я последовал за Ламелой внутрь грота, где увидал распростертого на лежанке старого анахорета, бледного и умирающего. Белоснежная густая борода доходила ему до пояса, а в руках он держал длинные переплетающиеся четки. При шуме, произведенном нашим приходом, он приоткрыл глаза, которые уже смыкала смерть, и, окинув нас взглядом, рек:
– Кто бы вы ни были, братья мои, да послужит вам в поучение зрелище, что представляется вашим очам. Сорок лет пробыл я в миру и шестьдесят в сей пустыне. Ах, сколь долгими кажутся мне годы, в кои предавался я мирской суете, и, напротив, сколь краткими те, что я посвятил покаянию. Увы! Боюсь, что подвижничество брата Хуана не достаточно искупило грехи лиценциата дона Хуана де Солис.
С этими словами он испустил дух. Его смерть поразила нас. Такого рода зрелища всегда производят некоторое впечатление даже на самых закоренелых распутников. Но наше умиление длилось недолго. Мы быстро забыли поучения старца и принялись обследовать инвентарь скита, что отняло у нас немного времени, так как вся обстановка его состояла из того скарба, который вы, вероятно, заметили в гроте. Не только меблировка, но и кухня брата Хуана оставляла желать лучшего. Мы не нашли никаких припасов, кроме орехов и нескольких весьма черствых корок ячменного хлеба, которых дёсны святого старца, видимо, не могли раскусить. Я сказал «дёсны», так как мы заметили, что он лишился всех зубов. Все, что находилось в этой уединенной обители, все, что попадалось нам на глаза, наводило на мысль о святости доброго анахорета. Одно только не вязалось с этим, а именно: мы обнаружили на столе сложенную в виде письма бумажку, в которой брат Хуан просил того, кто ее прочтет, отнести четки и сандалии епископу куэнсскому [111] . Мы недоумевали, какую цель мог преследовать этот новоявленный отец-пустынник, вздумав поднести подобный подарок своему преосвященному: такой поступок явно оскорблял смирение и отличал в анахорете человека, желавшего быть причисленным к сонму блаженных. Возможно, впрочем, что он сделал это по простоте душевной, о чем судить не берусь.
В то время как мы беседовали на эту тему, Ламеле пришла на ум довольно забавная мысль.
– Поселимся в этой пустыне, – сказал он. – Переоденемся отшельниками и похороним брата Хуана. Вы сойдете за него, а я, под именем брата Антонио, буду собирать подаяния в соседних городах и местечках. Во-первых, мы укроемся от преследований коррехидора, так как ему едва ли вздумается искать нас здесь, а кроме того, у меня есть в Куэнсе добрые знакомые, с которыми мы можем проводить время.
Я одобрил эту курьезную затею не столько из-за соображений, выставленных Амбросио, сколько из прихоти и желания разыграть такую комедию. Вырыв могилу в тридцати или сорока шагах от грота, мы скромно предали земле тело старого анахорета, сняв с него предварительную одежду, т. е. простую рясу, перехваченную посередине кожаным пояском. Мы также срезали ему бороду, чтоб сделать для меня подставную, и после похорон тотчас же вступили во владение пещерой.
В первый день мы питались скудно, так как нам пришлось довольствоваться припасами покойного, но еще до рассвета Амбросио принялся за дело и отправился в Торальву продавать наших мулов, откуда вернулся вечером, нагруженный снедью и разными вещами, которые там приобрел. Таким образом, мы раздобыли все, что нужно было для нашего маскарада. Амбросио сам сшил себе шерстяную рясу и смастерил из конской гривы рыжую бородку, которую так артистически прицепил к ушам, что всякий с божбой признал бы ее за настоящую. Право, нет на всем свете человека ловче его. Он также привел в порядок бороду брата Хуана и приладил ее к моему лицу, а шерстяной коричневый треух прикрыл последние следы этой мистификации. Словом, наша костюмировка была в полном порядке, и мы оказались так забавно переряженными, что не могли без смеха смотреть друг на друга в облачении, которое нам отнюдь не подобало носить. Помимо одежды брата Хуана, я присвоил себе также его четки и сандалии, нисколько не терзаясь тем, что лишил этого дара епископа куэнсского.
Прошло трое суток с тех пор, как мы поселились в пещере, и никто туда не являлся; но на четвертый день к нам пришло двое крестьян. Они принесли хлеба, сыру и луку покойнику, которого еще считали живым. Завидев пришельцев, я бросился на нашу лежанку. Мне нетрудно было их обмануть, тем более что полумрак мешал им разглядеть как следует мое лицо, а кроме того, я подделался, насколько возможно, под голос брата Хуана, предсмертные слова которого мне удалось услыхать. У них не возникло никаких подозрений по поводу нашей проделки. Они только подивились присутствию в пещере второго отшельника; но Ламела, заметив их недоумение, сказал с видом святоши:
– Не дивитесь, братья мои, тому, что видите меня в сей пустыне. Покинувши скит свой в Арагоне, пришел я сюда, дабы пребывать при преподобном и велемудром брате Хуане, понеже он в крайней своей старости испытывает потребность в товарище, который принял бы на себя заботы об его нуждах.
Поселяне рассыпались в бесконечных похвалах по поводу милосердия Амбросио и заявили, что они будут рады похвастаться присутствием двух святых подвижников в своей округе.
Вскинув на плечи большую торбу, которой не забыл обзавестись, Ламела отправился в первый раз собирать подаяние в город Куэнсу, расположенный в какой-нибудь миле от нашего жилища. Благодаря благочестивой наружности, отпущенной ему природой, и искусству использовать ее, которым он владеет в совершенстве, Амбросио не преминул побудить милосердных жителей к пожертвованиям и наполнил свою торбу их щедротами.
– Сеньор Амбросио, – сказал я ему по его возвращении, – поздравляю вас с счастливым талантом умилять христианские души. Клянусь богом, можно подумать, что вы прежде были нищенствующим братом в ордене капуцинов!
– У меня были другие дела, помимо торбы, – отвечал он. – Знайте, что я откопал некую нимфу, по имени Барбара, с которой хороводился в свое время. Эта особа переменила образ жизни и ударилась в набожность, вроде нас с вами. Она поселилась с двумя или тремя святошами, которые на людях являют пример добродетели, а втайне ведут распутную жизнь. Сперва она меня не признала. «Как, сеньора Барбара? – сказал я, – неужели вы не узнаете одного из стариннейших друзей своих, вашего покорного слугу Амбросио». – «Клянусь честью! Сеньор Ламела, – воскликнула она, – никак не ожидала встретить вас в этом облачении! Какими судьбами превратились вы в отшельника?» – «Этого я вам сейчас объяснить не могу, так как мой рассказ, пожалуй, затянется, – отвечал я, – но завтра вечером я приду к вам и удовлетворю ваше любопытство. Я приведу также с собой своего товарища, брата Хуана». – «Брата Хуана? – прервала она меня, – этого доброго отшельника, который живет в скиту неподалеку от нашего города? Вы смеетесь: ведь, говорят, ему за сто лет!» – «Правда, – отвечал я, – он достиг этого возраста, но за последние дни сильно помолодел. Брат Хуан не старше меня». – «Хорошо, – сказала Барбара, – пусть придет с вами. Вижу, что тут кроется какая-то тайна».
На следующий день, как только стемнело, мы не преминули отправиться к этим святошам, которые устроили для нашего приема обильный ужин. Там мы прежде всего скинули бороды и отшельнические одеяния, после чего без всяких околичностей объявили нашим принцессам, кто мы такие. Как бы боясь отстать от нас в откровенности, они, со своей стороны, показали, на что способны мнимые праведницы, когда сбрасывают маску. Мы провели почти всю ночь за столом и отправились в пещеру только перед самой зарей. Вскоре после того мы снова вернулись к ним или, точнее говоря, возвращались туда в течение трех месяцев и проели с этими милыми созданиями больше двух третей нашей наличности. Но какой-то ревнивец, пронюхавший всю подноготную, уведомил правосудие, которое должно сегодня посетить грот, чтоб нас захватить. Вчера, собирая подаяние в Куэнсе, Амбросио встретил одну из наших святош, которая передала ему записку и сказала:
– Одна моя приятельница написала мне вот это письмо, которое я хотела переслать вам с нарочным. Покажите его брату Хуану и примите нужные меры.
Это та самая записка, господа, которую Ламела вручил мне в вашем присутствии и которая побудила нас немедленно покинуть наше уединенное жилище.
Глава II О совете, который держал дон Рафаэль со своими слушателями, и о приключении, случившемся с ними, когда они вознамерились выбраться из лесу
Когда дон Рафаэль закончил свое повествование, показавшееся мне несколько длинным, дон Альфонсо заявил из вежливости, что оно доставило ему большое развлечение. После этого сеньор Амбросио взял слово и, обращаясь к своему собрату по плутням, сказал:
– Дон Рафаэль, не забудьте, что солнце уже садится. Не пора ли нам обсудить, как быть дальше? Что касается меня, – продолжал Ламела, – то я полагаю за лучшее, чтоб мы, не теряя времени, пустились в путь, добрались еще сегодня ночью до Рекены, а завтра перемахнули в Валенсийское королевство, где дадим простор нашим талантам. Предвижу, что мы там изрядно поживимся.
Дон Рафаэль, веривший в непогрешимость предчувствий Ламелы, присоединился к этому предложению. Что касается дона Альфонсо и меня, то, подчинившись руководству этих двух честных молодцов, мы молча дождались результата их совещания.
Таким образом было постановлено двинуться по рекенской дороге, и мы приготовились к этому переходу. Усладив себя такой же трапезой, как и утром, мы навьючили на лошадь бурдюк и остатки нашей провизии. Затем, пользуясь наступившей ночной темнотой, обеспечивавшей нам безопасное продвижение вперед, мы вознамерились выйти из лесу. Но не успели мы сделать и ста шагов, как обнаружили между деревьями свет, заставивший нас серьезно призадуматься.
– Что б это могло означать? – сказал дон Рафаэль. – Не ищейки ли это куэнсского правосудия? Может быть, их пустили по нашим следам и они, учуяв нас в этом лесу, рыщут за добычей?
– Не думаю, – возразил Амбросио, – скорее всего, это – путешественники. Наверное, их застигла ночь, и они забрались в лес, чтоб дождаться зари. Возможно, однако, что я ошибаюсь, – добавил он, – пойду проверить. Побудьте все трое здесь, я моментально вернусь.
С этими словами он идет по направлению к свету, который мерцает неподалеку, медленно раздвигает листья и ветки, мешающие ему продвигаться, и всматривается со всей тщательностью, которой, по его мнению, заслуживает дело.
Он увидал на траве вокруг свечи, воткнутой в кочку, четырех людей, доедавших пирог и приканчивавших довольно изрядный бурдюк, к которому они прикладывались вкруговую. Он заметил также в нескольких шагах от них даму и кавалера, привязанных к деревьям, а немного поодаль дорожную карету, запряженную двумя мулами в богатых попонах. Ему тотчас же пришло на ум, что закусывавшие люди были грабителями, а подслушав их беседу, он убедился в правильности своего предположения. Четверо разбойников обнаруживали равное желание обладать дамой, попавшейся им в руки, и собирались тянуть жребий по поводу того, кому она достанется. Получив эти сведения, Ламела вернулся к нам и подробно передал все, что видел и слышал.
– Господа, – сказал тогда дон Альфонсо, – возможно, что дама и кавалер, которых грабители привязали к деревьям, особы высокого звания. Допустим ли мы, чтоб они стали жертвой жестокости и насилия со стороны этих разбойников? Послушайтесь меня: нападем на них и пусть они погибнут под нашими ударами.
– Согласен, – сказал дон Рафаэль. – Меня одинаково легко подбить как на хороший, так и на дурной поступок.
Амбросио, с своей стороны, также заявил, что охотно окажет содействие в столь похвальном предприятии, за которое, как он думает, нас отлично вознаградят. Должен сказать, что в данном случае опасность меня нисколько не пугала и что никогда еще ни один странствующий рыцарь не проявлял большего рвения служить прекрасным дамам. Но, не желая скрывать истину, замечу, что риск был действительно невелик, так как согласно донесению Ламелы оружие разбойников, сложенное в кучу, валялось в десяти – двенадцати шагах от них, а это позволяло нам легко осуществить свое намерение. Мы привязали нашего коня к дереву и тиxoнькo подкрались к месту, где сидели разбойники. Они беседовали с большим жаром и сильно шумели, что позволило нам застать их врасплох. Мы завладели их оружием, прежде чем они успели нас заметить, а затем, выстрелив по ним и упор, уложили всех четверых.
Во время этой пальбы свеча потухла, так что мы очутились в темноте. Это не помешало нам отвязать мужчину и женщину, которые так перепугались, что были не в силах поблагодарить нас за оказанную помощь. Правда, они еще не знали, смотреть ли на нас как на избавителей, или как на новых бандитов, отбивших их у других вовсе не для того, чтоб обращаться с ними лучше. Но мы успокоили пленников, сказав, что проводим их до постоялого двора, находившегося, по уверениям Амбросио, в полумиле от леса, – где они смогут принять все нужные меры предосторожности, чтоб безопасно доехать туда, куда они направлялись. После этого заверения, которым они, казалось, остались очень довольны, мы усадили их в карету и вывели ее из леса, держа мулов под уздцы. Наши анахореты обшарили карманы побежденных, после чего мы отправились за конем дона Альфонсо и прихватили также лошадей разбойников, которые оказались привязанными к деревьям неподалеку от места битвы. Уведя таким образом всех лошадей, мы последовали за Амбросио, который сел верхом на мула, чтоб вести карету на постоялый двор, куда мы прибыли, однако, не раньше чем через два часа, хотя он уверял, что это недалеко.
Мы громко постучали в ворота. Все в доме уже спали. Хозяин и хозяйка поднялись впопыхах, но нисколько не сетовали на нарушение ночного покоя при виде кареты, сулившей им гораздо больше барыша, чем оказалось на деле. Вмиг весь постоялый двор засверкал огнями. Дон Альфонсо и прославленный сын Лусинды подали руку кавалеру и даме, чтоб помочь им выйти из кареты, и даже сопутствовали им до самой комнаты, куда проводил их хозяин. Затем последовали взаимные комплименты, и мы были немало поражены, услыхав, что освободили самого графа Полана и дочь его Серафину. Трудно описать, сколь велико было изумление дамы, а равно и дона Альфонсо, когда они узнали друг друга. Граф, отвлекшись разговором с нами, не обратил на это никакого внимания. Он принялся рассказывать, каким образом напали на него разбойники и как, убив форейтора, пажа и камердинера, они захватили его вместе с дочерью. В заключение он заявил, что питает к нам величайшую признательность и что если мы захотим навестить его в Толедо, где он будет через месяц, то сумеем убедиться, благодарный ли он человек или неблагодарный.
Дочь этого сеньора также не забыла поблагодарить нас за благополучное освобождение, после чего я и дон Рафаэль рассудили, что доставим удовольствие дону Альфонсо, если дадим ему возможность втихомолку поговорить с юной вдовой, а потому принялись всячески занимать графа Полана.
– Прекрасная Серафина, – прошептал дон Альфонсо своей даме, – я более не сетую на судьбу, которая принуждает меня вести жизнь человека, изгнанного из общества, коль скоро я имел счастье содействовать оказанной вам услуге.
– Как? – отвечала она ему со вздохом. – Так это вы спасли мне жизнь и честь? Значит, вам отец мой и я обязаны столь многим! Ах, дон Альфонсо, зачем убили вы моего брата?
Тут она умолкла, но он понял по ее словам и по тону, которым они были сказаны, что если он сам был безумно влюблен в Серафину, то и она любила его не меньше.
Книга шестая
Глава I О том, что предприняли Жиль Блас и его спутники после того, как покинули графа Полана, а также о важном предприятии, задуманном Амбросио, и о том, как оно было осуществлено
Проведя добрую половину ночи в благодарственных излияниях по нашему адресу и в заверениях, что мы можем рассчитывать на его признательность, граф Полан позвал хозяина, чтоб посоветоваться с ним о том, как безопаснее всего проехать в Турис, куда он намеревался держать путь. Мы предоставили этому сеньору принимать необходимые меры, а сами покинули постоялый двор и пошли по дороге, которую Ламеле заблагорассудилось выбрать.
Спустя два часа рассвет застал нас под Кампильо. Мы немедленно свернули в горы, расположенные между этим местечком и Рекеной. Там мы провели весь день, отдыхая и подсчитывая свои финансы, которые значительно увеличились благодаря деньгам, найденным в карманах разбойников и составлявшим свыше трехсот пистолей разной монетой. С наступлением ночи мы снова двинулись в путь, а на следующее утро вступили в Валенсийское королевство и удалились в первый подвернувшийся нам лес. Мы углубились в него и дошли до места, где протекал ручей, медленно уносивший свои кристально чистые струи навстречу водам Гвадалавьяра. Тенистые деревья, а также трава, сулившая обильный корм лошадям, сами по себе внушили бы нам мысль остановиться там, даже если б у нас и не было такого намерения. А потому мы не преминули устроить привал в этом месте.
Спешившись, мы приготовились провести день с большой приятностью; но когда нам вздумалось позавтракать, то выяснилось, что у нас осталось очень немного припасов. Хлеб был на исходе, а бурдюк превратился в тело, лишенное души.
– Господа, – сказал нам Ламела, – самые очаровательные уголки теряют свою прелесть без даров Бахуса и Цереры. Мне думается, что нам необходимо обновить свои запасы. Для этого я тотчас же отправлюсь в Хельву. Это довольно красивый город, до которого отсюда нет и двух миль. Я быстро слетаю туда и назад.
Затем он навьючил на лошадь бурдюк и торбу, уселся верхом и помчался из лесу с быстротой, предвещавшей скорое возвращение.
У нас были все основания надеяться на это, и мы с минуты на минуту ждали появления Ламелы; но он вернулся не так скоро. Прошло больше половины дня, и ночь уже готовилась осенить деревья своими черными крылами, когда мы снова увидали своего поставщика, запоздание которого уже начинало нас тревожить. Количество вещей, которыми он был нагружен, превысило наши ожидания. Помимо бурдюка, наполненного отменным вином, и торбы, набитой хлебом и всякого сорта жареной дичью, он привез на лошади большой узел с одеждой, который привлек наше внимание. Заметив это, Ламела сказал нам с улыбкой:
– Господа, вы дивитесь на это платье, и я вас извиняю, так как вы не знаете, для чего я купил его в Хельве. Готов биться об заклад, что этого не угадает ни дон Рафаэль, ни все человечество вместе взятое.
С этими словами Амбросио развязал пакет, чтоб продемонстрировать нам в розницу то, что мы рассматривали оптом. Он извлек оттуда плащ и весьма длинную черную рясу, два камзола и штаны к ним, затем один из тех письменных приборов, которые состоят из двух частей, чернильницы и пенала, скрепленных шнурком, и, наконец, пачку прекрасной белой бумаги, замок, большую печать и зеленый воск. После того как он показал нам все свои покупки, дон Рафаэль сказал ему шутливым тоном:
– Да-с, сеньор Амбросио, надо сказать, что вы обзавелись весьма ценными предметами. Но разрешите узнать, какое употребление намереваетесь вы сделать из всего этого?
– Самое наилучшее, – возразил Ламела. – Все эти вещи обошлись мне не более десяти дублонов [112] , а я уверен, что они принесут нам свыше пятисот: можете на это рассчитывать. Не такой я человек, чтоб отягчать себя бесполезным тряпьем, и, дабы доказать, что я купил все это не как дурак, поведаю вам свой план. Это такой план, что он бесспорно может быть признан одним из самых гениальных, когда-либо задуманных умом человеческим. Судите о нем сами; я уверен, что, ознакомившись с ним, вы придете в восторг. Слушайте же.
– Запасшись хлебом, – продолжал он, – зашел я в кухмистерскую, где приказал насадить на вертел полдюжины куропаток, столько же цыплят и молодых кроликов. Пока все это жарилось, явился туда сильно раздраженный и разгневанный человек, который во всеуслышание жаловался на обращение с ним какого-то купца, и сказал кухмистеру: «Клянусь св. Яковом! [113] Самуэль Симон самый нелепый из хельвских торговцев. Он только что оскорбил меня в своей лавке при всем честном народе. Скупердяга не пожелал отпустить мне в долг шесть локтей сукна; а между тем я платежеспособный ремесленник и за мной не пропадет. Полюбуйтесь на этакую скотину! Он охотно продает в долг знатным господам и предпочитает рисковать с барами, нежели без всякой опаски оказать одолжение честному мещанину. Чистое безумие! Проклятый жидюга! Дай ему бог как следует попасться! Мои пожелания когда-нибудь сбудутся; найдется немало купцов, которые мне посочувствуют». Услыхав такие слова, к которым мастеровой добавил еще многое другое, я надумал отомстить за него и сыграть штуку с Самуэлем Симоном. «Друг мой, – сказал я человеку, жаловавшемуся на купца, – скажите мне, какой характер у лица, о котором вы говорите?» – «Самый отвратительный, – отвечал он запальчиво. – Я почитаю его за отъявленного ростовщика, хотя он прикидывается благородным человеком. Он – еврей, принявший католичество, но в глубине души этот Симон не меньший жид, чем сам Пилат, так как передают, что он крестился только по расчету». Я внимательно прислушался к речам ремесленника и, выйдя из кухмистерской, не преминул осведомиться о жилище Самуэля Симона. Один прохожий сообщает, где он живет, другой показывает саму лавку. Окидываю взглядом помещение, присматриваюсь ко всему, и тут фантазия, покорная моим велениям, изобретает проделку, которую я обмозговал и нахожу достойной лакея сеньора Жиль Бласа. Отправляюсь к ветошнику и покупаю у него принесенную мною одежду: одну для роли инквизитора, другую чтоб изобразить повытчика, а третью для альгвасила. Вот, господа, чем я был занят и отчего несколько запоздал с возвращением.
– Любезный Амбросио! – прервал его тут дон Рафаэль вне себя от восторга. – Какая дивная идея! Какой чудесный план! Завидую твоей изобретательности и готов отдать лучший из кунштюков моей жизни за столь удачную выдумку. О Ламела! – добавил он. – Вижу отсюда все богатство твоей затеи, а о выполнении ее можешь не беспокоиться. Тебе нужны в подмогу два добрых актера. Они – налицо. Ты с виду похож на ханжу и отлично разыграешь инквизитора, я буду изображать повытчика, а сеньор Жиль Блас, если захочет, исполнит роль альгвасила. Таким образом, персонажи распределены; завтра мы сыграем пьесу, и я отвечаю за удачу, разве только случится какая-нибудь из тех помех, которые расстраивают самые искусные замыслы.
Я пока лишь очень смутно представлял себе проект, приводивший в такой восторг дона Рафаэля, но за ужином меня посвятили во все подробности; трюк действительно показался мне гениальным. Истребив часть дичи и обильно пустив кровь нашему бурдюку, мы растянулись на траве и в скором времени заснули. Но сон наш длился недолго, ибо час спустя беспощадный Амбросио разбудил нас.
– Вставайте! Вставайте! – закричал он нам на рассвете. – Люди, которым предстоит важное дело, не должны праздновать лентяя.
– Тысячу проклятий, сеньор инквизитор! – возразил ему дон Рафаэль, вскакивая со сна. – Вы чертовски легки на подъем. Плохо придется господину Самуэлю Симону.
– Тоже так думаю, – сказал Ламела. – Тем более, – добавил он со смехом, – что сегодня мне снилось, будто я выщипываю ему бороду. Неважный сон для него, не правда ли, господин повытчик?
За этими шутками последовали тысячи других, приведших нас в хорошее расположение духа. Мы весело позавтракали и стали готовиться к своим ролям. Амбросио облачился в длинную рясу и плащ, так что походил как две капли воды на официала святой инквизиции. Мы с доном Рафаэлем также перерядились и действительно выглядели, как альгвасил и повытчик. Переодевание отняло у нас много времени, и было уже больше двух часов пополудни, когда мы выбрались из лесу, чтоб отправиться в Хельву. Впрочем, нам некуда было торопиться, так как комедия должна была начаться лишь с наступлением ночи. А потому мы шествовали с прохладцей и даже сделали привал у ворот города, чтоб дождаться сумерек.
Как только стемнело, мы оставили лошадей в этом месте под охраной дона Альфонсо, который был весьма доволен тем, что на него не возложили никакой другой роли. Дон Рафаэль, Амбросио и я направились сперва не к Самуэлю Симону, а к кабатчику, жившему в двух шагах от его дома. Господин инквизитор выступал первым. Он вошел и обратился к трактирщику внушительным тоном:
– Хозяин, мне нужно поговорить с вами с глазу на глаз, я пришел к вам по делу, касающемуся инквизиции, а следовательно, весьма важному.
Кабатчик отвел нас в отдельное помещение, а Ламела, убедившись, что там нет никого, кроме нас, сказал ему:
– Я – официал святой инквизиции.
При этих словах кабатчик побледнел и отвечал дрожащим голосом, что он не подавал этому высокому учреждению никакого повода гневаться на него.
– А посему, – продолжал Амбросио елейным тоном, – оно и не намерено причинять вам никакого зла. Да не допустит господь, чтоб святая инквизиция, торопясь карать, смешала грех с невинностью! Она строга, но всегда справедлива; словом, чтоб подвергнуться ее карам, надо их заслужить. Итак, не ради вас явился я в Хельву, а ради некоего купца по имени Самуэль Симон. До нас дошли неблагоприятные сведения о нем и его поведении. Говорят, что он продолжает пребывать в иудействе и принял христианство исключительно по мирским мотивам. Приказываю вам именем святой инквизиции сказать все, что вам известно об этом человеке. Но остерегитесь как сосед Симона, а может быть, и друг каких бы то ни было попыток его обелить; ибо заявляю вам, что если я замечу в ваших показаниях малейшее доброжелательство по отношению к нему, то вы погибли. Ну-с, повытчик, – продолжал он, повернувшись к дону Рафаэлю, – приступите к исполнению своих обязанностей.
Господин повытчик, уже державший в руках бумагу и письменный прибор, уселся за стол и приготовился с наисерьезнейшим видом записывать показания кабатчика, который со своей стороны заверил, что не погрешит против истины.
– Раз так, – сказал ему официал святой инквизиции, – то мы можем начать. Отвечайте только на мои вопросы, большего от вас не требуется. Видали ли вы, чтоб Самуэль Симон посещал церковь?
– Право, я не обратил на это никакого внимания, – отвечал кабатчик, – не могу припомнить, чтоб когда-либо видал его в церкви.
– Отлично, – воскликнул инквизитор, – запишите, что его никогда не видно в церкви.
– Я этого не говорил, сеньор, – возразил хозяин, – я только сказал, что мне не приходилось его там видеть. Возможно, что он был в той же церкви, но что я его не заметил.
– Друг мой, – заметил Ламела, – вы забываете, что не должны на этом допросе обелять Самуэля Симона; я предупредил вас о последствиях. Вам надлежит показывать только против него и не говорить ни слова в его пользу.
– В таком случае, сеньор лиценциат, – возразил кабатчик, – вы мало что почерпнете из моих показаний. Я совсем не знаю купца, о котором идет речь, и не могу сказать о нем ни доброго, ни худого; но если вам угодно разузнать про его домашнюю жизнь, то я приведу вам Гаспара, его приказчика, которого вы сможете допросить. Этот малый иногда заходит сюда, чтоб выпить с друзьями; могу вас заверить, что язык у него здорово привешен; он будет болтать, сколько вам угодно, выложит всю подноготную про своего хозяина и, клянусь честью, задаст немалую работу сеньору повытчику.
– Мне нравится ваша откровенность, – сказал тогда Амбросио. – Указывая мне лицо, знакомое с нравами Симона, вы доказываете свое рвение к интересам святой инквизиции. Я доложу ей об этом. Поторопитесь же, – продолжал он, – привести сюда этого Гаспара, о котором вы мне говорили; но ведите себя осторожно, дабы его хозяин не заподозрил того, что здесь происходит.
Кабатчик быстро и без огласки выполнил данное ему поручение и привел нам сидельца. Этот молодой человек действительно был величайшим болтуном, но такой нам и требовался.
– Приветствую вас, дитя мое, – сказал ему Ламела. – Вы видите в моем лице официала, назначенного святой инквизицией, для того чтоб собрать показания против Самуэля Симона, обвиняемого в иудаизме. Вы живете у него и, следовательно, являетесь свидетелем большинства его поступков. Полагаю, что вы и без моего предупреждения сочтете себя обязанным сообщить нам все имеющиеся у вас о нем сведения и что мне незачем приказывать вам это именем святой инквизиции.
– Сеньор лиценциат, – отвечал приказчик, – едва ли вы найдете человека, который был бы более меня расположен сообщить вам то, что вас интересует: я готов удовольствовать вас без всяких распоряжений со стороны святой инквизиции. Если спросить обо мне моего хозяина, то я уверен, что он меня не пощадит; а потому и я не стану щадить его и скажу вам перво-наперво, что он лицемер, до тайных помыслов которого невозможно докопаться, что это – человек, который внешне корчит из себя праведника, а в глубине души нисколько не добродетелен. Так, например, он каждый вечер ходит к одной гризеточке…
– Рад узнать это, – прервал его Амбросио, – заключаю из ваших слов, что он человек дурных нравов. Но попрошу вас отвечать мне именно на те вопросы, которые я вам поставлю. Мне поручено главным образом разузнать об его отношении к религии. Скажите мне, едят ли свинину в вашем доме?
– Не думаю, – отвечал Гаспар, – чтоб мы хотя бы два раза ели ее за тот год, что я у него живу.
– Отлично, – сказал господин инквизитор, – запишите: у Самуэля Симона никогда не едят свинины. Но зато, – продолжал он, – вы, наверно, иногда кушаете ягнятину.
– Да, бывает, – подтвердил приказчик, – например, мы ели ее на последнюю Пасху.
– Подходящее время, – воскликнул официал. – Пишите, повытчик: Симон справляет Пасху по еврейскому обряду. Дело у нас, слава богу, идет на лад, и мне кажется, что мы уже собрали важные показания. Но скажите мне еще, дружок, – продолжал Ламела, – не приходилось ли вам видеть, чтоб ваш хозяин ласкал маленьких детей?
– Тысячу раз, – отвечал Гаспар. – Стоит только маленьким мальчикам показаться возле лавки, то он непременно остановит их и приголубит, если находит, что они миленькие.
– Пишите, повытчик, – прервал его инквизитор. – На Самуэля Симона падает серьезное подозрение в том, что он завлекает христианских детей, чтоб их зарезать. Ну и выкрест! Ого, господин Симон, даю слово, что вы будете иметь дело со святой инквизицией! Не воображайте, что вам позволят безнаказанно совершать кровавые жертвоприношения. Смелее, мой ревностный Гаспар, – обратился он к приказчику, – выкладывайте все; докажите окончательно, что этот ложный католик упорно придерживается еврейских обычаев и обрядов. Верно ли, что он один день в неделю проводит в праздности?
– Этого я не замечал, – возразил Гаспар. – Но бывают дни, когда он запирается в своем кабинете и сидит там очень долго.
– Так и есть, – воскликнул официал, – или он справляет шабаш, или я не инквизитор! Отметьте, повытчик, отметьте, что он свято соблюдает субботний пост. Ах, гнусная личность! У меня остается еще только один вопрос. Не говорит ли он об Иерусалиме?
– Очень часто, – возразил приказчик. – Он рассказывает нам историю евреев и каким образом они разрушили иерусалимский храм.
– Так-с, – продолжал Амбросио, – не упустите этой черты, повытчик; пишите крупными литерами, что Самуэль Симон день и ночь мечтает о восстановлении храма и не перестает думать о возвеличении своей нации. Я знаю теперь достаточно: дальнейшие вопросы излишни. Таких показании, как дал нам правдивый Гаспар, хватило бы на то, чтоб сжечь целое гетто.
Допросив таким образом приказчика, господин официал отпустил его, приказав именем святой инквизиции не говорить своему хозяину ни слова о том, что произошло. Гаспар обещал повиноваться и удалился. Мы не замедлили последовать за ним. Выйдя из корчмы с такой же внушительностью, с какою туда вошли, мы отправились к дому Самуэля Симона и постучались в двери. Он сам отворил нам. Увидав три таких фигуры, как наши, он удивился, но его изумление еще возросло, когда Ламела в качестве представителя власти сказал ему повелительно:
– Господин Самуэль, приказываю вам именем святой инквизиции, официалом коей я имею честь состоять, выдать мне ключи от вашего кабинета. Я желаю взглянуть, не найдется ли там каких-либо улик, подтверждающих поступившее на вас донесение.
Купец, ошеломленный этой речью, отпрянул на два шага назад, точно кто-либо угостил его тумаком в живот. Далекий от мысли о каком-либо обмане с нашей стороны, он искренне вообразил, что некий тайный враг задумал навлечь на него подозрение святой инквизиции; возможно также, что он не чувствовал себя безупречным католиком и имел повод ожидать дознания. Но как бы то ни было, а я никогда не видал более встревоженного человека. Он повиновался без всякого сопротивления и с той почтительностью, которая свойственна людям, трепещущим перед инквизицией. Когда он отпер кабинет, Ламела вошел туда и сказал:
– Хорошо и то, что вы не противитесь повелениям святой инквизиции. Однако же, – добавил он, – удалитесь в другую комнату и не мешайте мне выполнить свои обязанности.
Самуэль повиновался этому приказу так же безропотно, как и первому. Он остался в своей лавке, а мы втроем вошли в кабинет и, не теряя времени, принялись за поиски денег. Найти их было нетрудно: они хранились в незапертом сундуке и в таком количестве, что мы не могли всего унести. Это были груды наваленных друг на друга мешков, но наполненных исключительно серебром. Мы предпочли бы золото, однако, будучи не в силах это изменить, примирились с необходимостью и набили дукатами полные карманы; мы даже насовали их в штанины и во все места, показавшиеся нам пригодными. Словом, мы нагрузили себя тяжелой ношей, которую, однако, Амбросио и дон Рафаэль ухитрились сделать совершенно незаметной. Увидав такое искусство, я пришел к заключению, что нет ничего важнее, как набить руку в своем ремесле.
Поживившись столь основательным образом, мы вышли из кабинета. По причине, которую читатель легко разгадает, господин официал вытащил из кармана замок и пожелал самолично запереть им двери; затем он наложил печать и сказал Симону:
– Господин Самуэль запрещаю вам именем святой инквизиции дотрагиваться до этого замка, а равно и до печати, каковую вы обязаны чтить, ибо это печать духовного суда. Я вернусь сюда завтра в то же время, чтоб снять ее и принести вам распоряжение властей.
После этой речи он приказал открыть входную дверь, в которую мы весело вышли один за другим. Пройдя пятьдесят шагов, мы пустились улепетывать с такой быстротой и легкостью, что, несмотря на свою ношу, еле касались земли. Вскоре мы очутились за городом и, сев на коней, поскакали по направлению к Сегорбе, вознося хваления богу Меркурию за столь счастливый исход.
Глава II О решении, принятом доном Альфонсо и Жиль Бласом после этого приключения
Согласно нашему похвальному обыкновению, мы ехали всю ночь и очутились на рассвете подле деревушки в двух милях от Сегорбе. Мы очень утомились, а потому охотно свернули с проезжей дороги и направились к ивам, росшим у подножия холма в ста или ста двадцати шагах от села, в котором мы сочли за лучшее не останавливаться. Ивы бросали приятную тень, а ручеек омывал корни этих деревьев. Местечко нам приглянулось, и, решив провести там день, мы спешились. Разнуздав лошадей, мы предоставили им пастись, а сами улеглись на траве и, отдохнув некоторое время, опорожнили торбу и бурдюк. После обильного завтрака мы занялись подсчетом денег, отнятых у Самуэля Симона, и насчитали три тысячи дукатов. Обладая такой суммой вдобавок к той, которая уже была у нас раньше, мы могли почитать себя изрядными богачами.
Необходимо было запастись провизией, а потому Амбросио и дон Рафаэль, скинув костюмы повытчика и инквизитора, объявили, что готовы взять на себя эту заботу. По их словам, приключение в Хельве их только разлакомило и им захотелось отправиться в Сегорбе, чтоб разузнать, не удастся ли нам снова чем-нибудь поживиться.
– Подождите нас здесь под ивами, – сказал сын Лусинды, – мы не замедлим вернуться.
– Пойте это другим, сеньор дон Рафаэль, – воскликнул я рассмеявшись, – вы с тем же успехом могли нам сказать: подождите второго пришествия. Если вы нас покинете, то мы рискуем долго не встретиться с вами.
– Такое подозрение для нас оскорбительно, – возразил сеньор Амбросио, – но мы, конечно, его заслужили. Вы вправе не верить нам после нашей вальядолидской проделки и предполагать, что мы так же мало посовестимся бросить вас, как и тех товарищей, которых покинули в этом городе. Но вы ошибаетесь. Приятели, которых мы оставили с носом, были лицами, обладавшими весьма дурным характером, и общество которых начинало становиться для нас невыносимым. Надо отдать эту справедливость людям нашей профессии, что нет таких компаньонов в гражданской жизни, которые бы меньше нас ссорились из-за корыстных интересов; но когда у нас нет общих склонностей, то наше доброе согласие портится, как и у прочих людей. А потому, сеньор Жиль Блас, – продолжал Ламела, – прошу вас и сеньора дона Альфонсо питать к нам несколько больше доверия и успокоиться насчет выраженного мною и доном Рафаэлем намерения отправиться в Сегорбе.
– Весьма нетрудно, – вмешался тут сын Лусинды, – избавить сеньоров от всяких оснований беспокоиться: оставим кассу в их руках, это будет отличной порукой нашего возвращения.
Как видите, сеньор Жиль Блас, – добавил он, – мы берем быка за рога. Вы оба будете обеспечены, и смею вас уверить, что, уезжая, ни я, ни Амбросио нисколько не беспокоимся о том, как бы вы не свистнули этого ценного налога. Неужели после такого доказательства нашей искренности вы не проникнетесь к нам полным доверием?
– Разумеется, господа, – сказал я им, – теперь вы можете делать все, что вам угодно.
Они тотчас же ускакали, нагруженные бурдюком и торбой, и оставили меня под ивами с доном Альфонсо, который сказал мне после их отъезда:
– Я должен, сеньор Жиль Блас, открыть вам свое сердце. Меня мучит совесть за то, что я согласился сопровождать этих двух прохвостов. Вы не можете себе представить, сколько раз я уже в этом раскаивался. Я думал о том, что молодому человеку, придерживающемуся правил чести, не пристало жить с такими порочными людьми, как Рафаэль и Ламела. Если в один прекрасный день – и это легко может случиться – они попадут за какое-нибудь мошенничество в руки правосудия, то я, к стыду своему, буду схвачен вместе с ними, как вор, и понесу позорное наказание. Эта картина беспрестанно встает передо мной, и признаюсь вам, что я решил навсегда расстаться с Рафаэлем и Ламелой, чтоб не стать соучастником их дальнейших плутен. Мне думается, – добавил он, – что вы одобряете мое намерение.
– Безусловно, уверяю вас, – отвечал я ему, – хотя, как вы видели, я изображал альгвасила в комедии с Самуэлем Симоном, однако же не думайте, что подобные пьесы – в моем вкусе. Призываю небо в свидетели, что, исполняя эту прелестную роль, я говорил себе: «Честное слово, сеньор Жиль Блас, если правосудие схватит вас в данную минуту за шиворот, то вы по заслугам примете награду, которая вам за это причитается!» А потому, сеньор дон Альфонсо, я испытываю не большую охоту, чем вы, оставаться в этой скверной компании, и если вы не возражаете, то пойду вместе с вами. Когда эти господа вернутся, мы предложим им разделить наши финансы, а завтра утром, или даже сегодня ночью, простимся с ними.
Поклонник Серафины одобрил мое предложение.
– Отправимся, – сказал он, – в Валенсию, а оттуда морем в Италию, где мы сможем поступить в войска Венецианской республики. Не достойнее ли заниматься военным ремеслом, чем вести ту подлую и преступную жизнь, которую мы ведем? С теми деньгами, которые у нас будут, мы даже сумеем содержать себя довольно пристойно. Мне, разумеется, совестно пользоваться средствами, добытыми столь дурным путем, но я клянусь при малейшей удаче на войне возместить Самуэлю Симону всю похищенную сумму.
Я заверил дона Альфонсо в том, что разделяю его чувства, и мы порешили покинуть наших сотоварищей на следующий день еще до рассвета. Мы не испытали ни малейшего искушения воспользоваться их отсутствием, т. е. удрать тотчас же вместе с кассой. Доверие, которое они нам выказали, оставив деньги в наших руках, удержало нас даже от мысли о такой краже, хотя проделка в меблированных комнатах могла бы до некоторой степени ее оправдать.
Амбросио и дон Рафаэль вернулись из Сегорбе к концу дня. Они тотчас же объявили нам, что их поездка была удачной и что они заложили основание для новой плутни, которая, судя по всем данным, обещала принести нам не меньший барыш, чем предыдущая. Тут сын Лусинды собрался было посвятить нас в это дело, но дон Альфонсо взял слово и вежливо заявил, что, не чувствуя в себе склонности к тому образу жизни, который они ведут, он решил расстаться с ними. Я со своей стороны сообщил, что питаю такое же намерение. Они всячески пытались уговорить нас, чтобы мы приняли участие в их дальнейших предприятиях, но старания их не увенчались успехом. Наутро, поделив деньги поровну, мы простились с ними и направились в Валенсию.
Глава III О неприятном происшествии, случившемся с доном Альфонсо, о том, как он после этого оказался наверху блаженства и как Жиль Блас неожиданно попал в счастливое положение
Мы весело доехали до Буноля, где нам, к несчастью, пришлось задержаться. Дон Альфонсо заболел. Он схватил сильную лихорадку с повторными приступами, заставившими меня опасаться за его жизнь. К счастью, там не было докторов, так что я отделался страхом. По прошествии трех дней он уже оказался вне опасности и благодаря моим попечениям окончательно оправился. Он выказал мне глубокую признательность за то, что я для него сделал, и так как мы действительно чувствовали взаимную симпатию, то поклялись друг другу в вечной дружбе. Затем мы снова пустились в путь, намереваясь воспользоваться по прибытии в Валенсию первой оказией, чтоб переехать в Италию. Но небо, уготовившее нам счастливую судьбу, расположило иначе.
У ворот одного замка мы заметили толпу крестьян обоего пола, которые водили хоровод и веселились. Мы подъехали поближе, чтоб взглянуть на их празднество, и тут дона Альфонсо ожидала непредвиденная встреча, весьма его поразившая. Он увидал барона Штейнбаха, который тоже заметил его и, бросившись ему навстречу с распростертыми объятиями, воскликнул с восторгом:
– Ах, дон Альфонсо, так это вы? Какая приятная встреча! Вас повсюду разыскивают, а тут нас сталкивает с вами сама Фортуна.
Мой приятель тотчас же соскочил с коня и кинулся обнимать барона, радость которого, казалось, не знала границ.
– Идемте, сын мой, – сказал затем этот добрый старец, – вы узнаете, кто вы, и насладитесь счастливой судьбой.
С этими словами он повел дона Альфонсо в замок, а я, спешившись и привязав лошадей, также отправился за ними. Первым лицом, которое мы встретили, оказался владелец замка. То был человек лет пятидесяти, весьма приятной наружности.
– Сеньор, – сказал барон Штейнбах, представляя ему дона Альфонсо, – вот ваш сын!
Услыхав это, дон Сесар де Лейва – так звали владельца замка – обнял дона Альфонсо и, плача от радости, сказал ему:
– Мой дорогой сын, перед вами тот, кому вы обязаны жизнью! Если я до сей поры скрывал от вас ваше происхождение, то, поверьте, это стоило мне немалых усилий. Тысячи раз вздыхал я от горя, но не мог поступить иначе. Я женился на вашей матушке по любви. Она была значительно менее знатного рода, чем я. Мне приходилось подчиняться власти сурового отца, и это заставляло меня держать в секрете брак, заключенный без его согласия. Один только барон Штейнбах был посвящен в тайну и воспитывал вас по уговору со мной. Отца моего теперь уже нет в живых, и я могу объявить вас своим единственным наследником. Но это еще не все, – добавил он. – Я намерен женить вас на молодой даме, не уступающей мне знатностью рода.
– О, сеньор, прервал его дон Альфонсо, – не заставляйте меня заплатить слишком дорогой ценой за счастье, которое вы мне объявили. Неужели, узнав, что имею честь быть вашим сыном, я должен тут же услыхать о вашем решении сделать меня несчастным? Ах, сеньор, не будьте со мной более жестоки, чем был с вами мой дед. Если он и не одобрял сделанного вами выбора, то, по крайней мере, не заставлял вас вступать в брак против вашей воли.
– Сын мой, – возразил дон Сесар, – я вовсе не намерен насиловать ваши желания. Но соблаговолите взглянуть на даму, которую я вам предназначаю; это все, что я жду от вашего послушания. Хотя она очаровательна и представляет для вас весьма выгодную партию, я обещаю, что не буду принуждать вас к этому браку. Она сейчас находится в замке. Следуйте за мной; вы безусловно признаете, что нет на свете более обаятельного существа.
С этими словами он повел дона Альфонсо в покои замка, а я последовал за ними вместе с бароном Штейнбахом.
Там мы застали графа Полана с обеими его дочерьми, Серафиной и Хулией, а также дона Фернандо де Лейва, приходившегося племянником дону Сесару. Были еще и другие дамы и кавалеры. Дон Фернандо, как я уже говорил, похитил Хулию, и брак этих двух влюбленных был причиной празднества, на которое собрались окрестные крестьяне. Как только дон Альфонсо вошел и отец представил его обществу, граф Полан поднялся и, бросившись обнимать его, воскликнул:
– Приветствую своего избавителя!
– Дон Альфонсо, – продолжал он, обращаясь к нему, – узнайте, какою властью обладает добродетель над великодушными сердцами! Правда, вы убили моего сына, но зато спасли мне жизнь. Прощаю нанесенную нам обиду и отдаю вам Серафину, честь которой вы защитили. Этим я хочу отблагодарить вас за услугу.
Сын дона Сесара не преминул выразить графу Полану, сколь многим он обязан ему за его доброту, и я, право, не знаю, больше ли он радовался тому, что раскрыл тайну своего рождения, или тому, что собирался стать супругом Cерафины. Действительно, брак этот состоялся через несколько дней, к величайшему удовольствию заинтересованных сторон.
Я был тоже одним из избавителей графа Полана, а потому вельможа, узнав меня, сказал, что берется обеспечить мою судьбу. Я поблагодарил его за великодушие, но не пожелал покинуть дона Альфонсо, который назначил меня управителем замка и почтил своим доверием. Терзаемый угрызениями совести за плутню, проделанную с Самуэлем Симоном, он тотчас же после свадьбы приказал мне отвезти этому купцу украденные у него деньги. Я отправился возмещать убытки и, таким образом, начал свою деятельность в качестве управителя с того, на чем иному надлежало бы ее кончить.
Книга седьмая
Глава I О любви Жиль Бласа и сеньоры Лоренсы Сефоры
Итак, я отправился в Хельву отвозить нашему любезному Самуэлю Симону те три тысячи дукатов, которые мы у него украли. Признаюсь откровенно, что по дороге я испытал искушение присвоить себе эти деньги, чтоб начать свою службу под счастливой звездой. Я мог поживиться совершенно безнаказанно: стоило мне только попутешествовать дней пять-шесть и затем вернуться, сказав, что я выполнил поручение. Дон Альфонсо и его отец были обо мне слишком высокого мнения, чтоб заподозрить меня в недобросовестности. Все складывалось удачно. Но я не поддался искушению, могу даже сказать, что справился с ним, как честный человек, а это весьма похвально для юноши, побывавшего среди крупных мошенников. Многие люди, вращающиеся только в порядочном обществе, бывают не так щепетильны; в особенности могут кое-что порассказать об этом те, которые управляют чужими состояниями и имеют возможность легко присвоить их себе, не подрывая своей репутации.
Вернув купцу деньги, которые тот не чаял получить, я возвратился в замок Лейва. Графа Полана там уже не было: он отправился в Толедо вместе с Хулией и доном Фернандо. Я застал своего нового господина еще более влюбленным в Серафину, чем когда-либо, Серафину очарованной им, а дона Сесара в восторге от них обоих. Я постарался заслужить расположение этого нежного отца и успел в своем намерении. Став управителем замка, я распоряжался всем: принимал деньги от мызников, вел расходы и пользовался деспотической властью над лакеями, но, в противоположность мне подобным, не злоупотреблял своим могуществом. Я не прогонял слуг, которые мне не нравились, и не требовал от остальных, чтоб они всей душой были преданы господину управителю. Если они обращались непосредственно к дону Сесару или его сыну, чтоб испросить какую-нибудь милость, я никогда не ставил им палки в колеса, а, напротив, ходатайствовал за них. Мои же господа непрестанно выказывали мне знаки своего благожелательства, подстрекавшего меня служить им с превеликим усердием. Всецело преданный их интересам, я не допускал никакого плутовства в своем управлении: я был дворецким, какого с огнем не сыскать.
В то время как я радовался своему счастливому положению, Амур, как бы приревновав меня к Фортуне, пожелал, чтоб я был и ему чем-нибудь обязан: он зародил в сердце сеньоры Лоренсы Сефоры, первой камеристки Серафины, пылкое чувство к господину управителю. Как правдивый историк, должен сказать, что моей жертве уже стукнуло пятьдесят. Но благодаря своей свежей коже, приятному лицу и черным глазам, которыми она умела искусно пользоваться, Лоренса могла еще сойти за некое подобие возлюбленной. Я пожелал бы ей, пожалуй, несколько больше румянца, ибо она была очень бледна, что я, впрочем, не преминул приписать подвигам безбрачия.
Моя дама долгое время заигрывала со мной при помощи взглядов, отражавших ее любовь; но вместо того чтобы отвечать нa эти авансы, я притворился, будто не замечаю ее намерений. Это побудило ее принять меня за новичка в амурных делах, что отнюдь ее не разочаровало. Вообразив поэтому, что ей не следует ограничиваться языком глаз с молодым человеком, который казался ей менее просвещенным, чем был на самом деле, она при первой же нашей беседе объявила мне о своих чувствах с откровенностью, не допускавшей никаких сомнений. Взялась она за это, как женщина, прошедшая хорошую школу: вначале она прикинулась смущенной, а выложив мне все, что хотела, закрыла лицо руками и притворилась, будто стыдится своей слабости. Пришлось сдаться и, хотя мной руководила не столько страсть, сколько тщеславие, я выказал себя весьма умиленным этими знаками расположения. Я даже проявил настойчивость и так хорошо разыграл роль пылкого любовника, что навлек на себя упреки. Лоренса пожурила меня весьма ласково, но, проповедуя мне правила скромности, видимо, была не прочь, чтоб я их преступил. Я отважился бы и на большее, если бы красавица не побоялась уронить в моих глазах свою добродетель, разрешив мне слишком легкую победу. Таким образом, мы расстались в предвидении нового свидания: Сефора – убежденная, что ее притворное сопротивление побудило меня принять ее за весталку, я же – полный сладостной надежды вскоре благополучно завершить это приключение.
Дела мои, следовательно, обстояли отлично, когда один из лакеев дона Сесара сообщил мне весть, умерившую мою радость. Это был один из тех любопытных слуг, которые стараются разузнать все, что делается в доме. Он усердно ходил ко мне на поклон и угощал меня всякий день какими-либо новостями. И вот однажды утром он заявил мне, что сделал забавное открытие и готов поделиться им со мной, если я обещаю его не выдавать, так как дело касалось сеньоры Лоренсы Сефоры, которую он боялся прогневить. Мне слишком хотелось знать, что он скажет, а потому я посулил ему соблюдение тайны, но притворился при этом вполне равнодушным и спросил его, насколько мог хладнокровнее, в чем же заключалось открытие, которым он хотел меня полакомить.
– По вечерам, – сказал он, – Лоренса тайно впускает в свою горницу сельского фельдшера, весьма видного собой молодого человека, и этот прохвост не торопится от нее уходить. Готов поверить в невинность их свиданий, – добавил он с лукавым видом, – но вы, конечно, согласитесь, что когда такой молодчик тайком пробирается в покои девицы, то это бросает тень на ее репутацию.
Хотя это известие доставило мне такое же огорчение, как если б я был действительно влюблен, однако же я поостерегся выдать свои чувства; я даже принудил себя расхохотаться при этом донесении, которое переворачивало мне душу. Но, очутившись один, я вознаградил себя за свою выдержку. Я проклинал, ругался и ломал себе голову над тем, как поступить дальше. То презирая Лоренсу, я собирался бросить эту кокетку, не удостоив ее даже объяснения; то вообразив, что моя честь требует мщения, я мечтал вызвать костоправа на дуэль. Последнее решение одержало верх. Под вечер я засел в засаду и действительно увидал, как мой соперник с таинственным видом пробрался в комнату дуэньи. Это зрелище разожгло во мне бешенство, которое без того, быть может, улеглось бы само по себе. Выйдя из замка, я стал на дороге, по которой должен был пройти этот волокита, и принялся поджидать его с величайшей решительностью. Каждое мгновение усиливало мое желание драться. Наконец враг появился. Я смело сделал несколько шагов ему навстречу; но тут, черт его знает почему, меня, точно какого-нибудь гомеровского героя, внезапно обуял такой страх, что я вынужден был остановиться, смутившись, как Парис, когда он вышел на бой с Менелаем. Взглянув на противника, я убедился, что он здоров и силен, к тому же его шпага показалась мне чрезмерной длины. Все это произвело на меня впечатление; но, несмотря на опасность, разраставшуюся в моих глазах, и на то, что мое естество подстрекало меня увильнуть от нее, чувство чести или что-либо другое одержало верх: у меня хватило смелости двинуться на фельдшера и обнажить шпагу. Мое поведение изумило его.
– Что случилось, сеньор Жиль Блас? – воскликнул он. – К чему эти повадки странствующего рыцаря? Вы, видимо, изволите шутить?
– Нисколько, сеньор цирюльник, нисколько, – возразил я, – это вовсе не шутки. Я хочу знать, столь же ли вы храбры, как и галантны. Не надейтесь, что я позволю вам спокойно наслаждаться милостями дамы, которую вы тайком навещаете в замке.
– Клянусь св. Косьмой [114] , – отвечал фельдшер, заливаясь смехом, – вот забавное приключение! Черт подери! Видимость, действительно, бывает обманчива.
Заключив из этих слов, что у него было не больше охоты драться, чем у меня самого, я сразу обнаглел.
– Вот как, любезный? – прервал я его. – Не думайте, пожалуйста, что вам удастся отвертеться простым отрицанием фактов.
– Вижу, – отвечал он, – что придется все рассказать, дабы избегнуть несчастья, которое могло бы случиться с вами или со мной. А потому раскрою вам тайну, хотя людям моей профессии надлежит строго хранить чужие секреты. Если сеньора Лоренса проводит меня украдкой в свой покой, то только для того, чтоб скрыть от слуг недомогание, которым она страдает. У нее на спине застарелая злокачественная язва, которую я хожу врачевать каждый вечер. Вот причина моих посещений, возбудивших вашу тревогу. Можете поэтому совершенно успокоиться. Но если это объяснение вас не удовлетворяет, – продолжал он, – и вы непременно жаждете помериться со мной силами, то вам стоит только сказать: я не такой человек, чтоб отказать кому-либо в поединке.
С этими словами он обнажил свою длинную рапиру, повергшую меня в трепет, и стал в позицию с таким видом, который не предвещал ничего хорошего.
– Довольно, – сказал я ему, вкладывая шпагу в ножны, – не считайте меня забиякой, который не внемлет никаким резонам: после того, что я от вас слышал, вы мне больше не враг. Обнимемся!
Убедившись по этой речи, что я не такой злодей, каким сперва себя выказал, он тоже сунул шпагу в ножны и протянул мне руку, после чего мы расстались лучшими друзьями в мире.
С этого момента Сефора потеряла в моих глазах всякую привлекательность. Я избегал ее каждый раз, как она собиралась остаться со мной наедине, и делал это с такой стремительностью и нарочитостью, что она наконец догадалась. Удивившись столь решительной перемене, она пожелала узнать причину и, улучив подходящий момент, чтоб переговорить со мной с глазу на глаз, сказала:
– Сеньор управитель, объясните мне, ради создателя, почему вы даже не хотите взглянуть на меня. Вместо того чтоб, как раньше, искать случая побеседовать со мной, вы всячески стараетесь уклониться от этого. Правда, я сделала вам авансы, но вы на них ответили. Вспомните, пожалуйста, наш разговор наедине: вы весь пылали, а теперь вы как лед. Что это означает?
Вопрос этот, весьма щекотливый для откровенного человека, привел меня в немалое смущение. Не помню уже, какой ответ я дал этой даме, знаю только, что, она осталась им весьма недовольна. По кроткому и скромному виду Лоренсы ее можно было принять за агнца, но в гневе она превращалась в настоящего тигра.
– Я думала, – сказала она, бросая на меня взгляд, полный досады и бешенства, – что, открывая вам свои чувства, которые польстили бы любому благородному кавалеру, я оказываю немалую честь такой ничтожной личности, как вы. Я здорово наказана за то, что снизошла до жалкого авантюриста.
Но она не остановилась на этом: мне не суждено было так легко отделаться. Ее язычок, подстрекаемый яростью, осыпал меня кучей всяких эпитетов, один сильнее другого. Мне следовало, разумеется, отнестись к ним с полным хладнокровием и подумать о том, что, пренебрегши победой над соблазненной мною добродетелью, я совершил преступление, которого женщины никогда не прощают. Но я был слишком экспансивен, чтоб стерпеть ругательства, над которыми благоразумный человек на моем месте только бы посмеялся. Мое терпение лопнуло, и я сказал ей:
– Сударыня, не будем никого презирать. Если бы благородные кавалеры, о которых вы говорите, увидали вашу спину, то они дальше бы не любопытствовали.
Не успел я выпустить этот заряд, как свирепая дуэнья закатила мне такую здоровенную пощечину, какой еще никогда не давала ни одна оскорбленная женщина. Я не стал ждать повторения и поспешно спасся бегством от града ударов, который, наверно, посыпался бы на меня.
Возблагодарив небо за то, что выскочил из этого неприятного дела, я уже почитал себя вне опасности, поскольку дама удовлетворила свою мстительность. Мне казалось, что в интересах своей чести она утаит это приключение: действительно, в течение двух недель все было тихо. Я уже и сам начинал о нем забывать, когда вдруг узнал, что дуэнья заболела. Эта весть, огорчила мое доброе сердце. Я проникся жалостью к Лоренсе. Мне представилось, что моя несчастная возлюбленная стала жертвой безнадежной любви, с которой не смогла справиться. С прискорбием думал я о том, что являюсь причиной ее болезни, и, будучи не в силах ее полюбить, по крайней мере, питал к ней сострадание. Но как плохо я ее знал! Перейдя от страсти к ненависти, она только и помышляла о том, как бы мне повредить.
Однажды утром вошел я к дону Альфонсо и, застав этого молодого кавалера в грустном и задумчивом настроении, почтительно спросил его, чем он расстроен.
– Меня печалит, – сказал он, – что Серафина так несправедлива, безвольна и неблагодарна. Вы поражены, – добавил он, заметив, что я слушаю его с удивлением, – а между тем это так. Не знаю, какой повод для ненависти вы дали Лоренсе; во всяком случае, она вас совершенно не выносит и объявила, что непременно умрет, если вы немедленно не покинете замка. Не сомневайтесь в том, что вы дороги Серафине и что сперва она дала отпор этой неприязни, которой не может потворствовать, не выказав себя несправедливой и неблагодарной. Но в конце концов она – женщина и нежно любит Сефору, которая ее воспитала. Эта дуэнья была ей второй матерью, и она боится, как бы ей не пришлось упрекать себя в смерти Сефоры, если не исполнит ее просьбы. Что касается меня, то сколь я ни люблю Серафину, однако же никогда не проявлю такой постыдной слабости, чтоб разделять ее чувства в этом отношении. Пусть лучше погибнут все испанские дуэньи, прежде чем я соглашусь удалить человека, в котором вижу скорее брата, нежели слугу.
На это я отвечал дону Альфонсо:
– Сеньор, мне суждено быть игрушкой фортуны. Я рассчитывал, что она перестанет преследовать меня у вас, где все предвещало мне счастливые и спокойные дни. Придется, однако, примириться с изгнанием, как бы мне ни было приятно остаться здесь.
– Нет, нет, – воскликнул великодушный сын дона Сесара, – подождите, пока я урезоню Серафину. Пусть не говорят, что вас принесли в жертву капризам дуэньи, которой и без того уделяют слишком много внимания.
– Сеньор, – отвечал я, – противясь желаниям Серафины, вы только рассердите ее. Я предпочитаю удалиться, для того чтобы не подавать дальнейшим своим пребыванием повода к несогласию столь идеальным супругам. Это было бы несчастьем, от которого я не утешился бы всю свою жизнь.
Дон Альфонсо запретил мне думать об этом намерении и был так тверд в своем решении меня поддержать, что Лоренса, безусловно, оказалась бы посрамленной, если б и я захотел настоять на своем. Так бы я и поступил, если б руководствовался только голосом мести. Правда, были минуты, когда, озлясь на дуэнью, я испытывал искушение отбросить всякую пощаду, но когда я думал о том, что, разоблачая ее позор, убиваю бедное создание, которому причинил зло и которому грозили смертью две неисцелимые болезни, то испытывал к Лоренсе одно только сострадание. Раз уж я являлся таким опасным человеком, то должен был, по совести, удалиться, чтоб восстановить спокойствие в замке, что я и выполнил на следующий день до зари, не простившись со своими господами из опасения, как бы они по дружбе ко мне не воспротивились моему уходу. Я удовольствовался тем, что оставил в своей комнате письмо, в котором представлял точный отчет относительно своего управления.
Глава II Что сталось с Жиль Бласом по уходе его из замка Лейва и о счастливых последствиях его неудачного любовного похождения
Я ехал верхом на хорошей собственной лошади и вез в чемодане двести пистолей, большая часть которых состояла из денег, отнятых у убитых бандитов, и из моей доли в трех тысячах дукатов, украденных у Самуэля Симона. Дон Альфонсо оставил мне мою часть и вернул купцу всю сумму из своего кармана. Считая, что это возмещение легализировало мои права на дукаты Симона, я пользовался ими без малейших угрызений совести. Я обладал, таким образом, суммой, позволявшей мне не беспокоиться о будущем, а кроме того, уверенностью в своих талантах, присущей людям моего возраста. К тому же я рассчитывал найти в Толедо гостеприимное пристанище. Я не сомневался, что граф Полан сочтет за удовольствие достойно принять одного из своих спасителей и предоставить ему помещение у себя в доме. Но я смотрел на этого вельможу, как на последнее прибежище, и решил, прежде чем обращаться к нему, истратить часть своих денег на путешествие по королевствам Мурсия и Гренада, которые мне особенно хотелось повидать. С этой целью я отправился в Альмансу, а оттуда, следуя по намеченному пути, поехал из города в город до Гренады, не подвергнувшись никаким неприятным происшествиям. Казалось, что фортуна, удовлетворившись теми злыми шутками, которые она сыграла со мной, пожелала наконец оставить меня в покое. Однако ничуть не бывало: она уготовила мне еще множество других, как читатель впоследствии увидит.
Одним из первых лиц, встреченных мною в Гренаде, был сеньор дон Фернандо де Лейва, приходившийся, как и дон Альфонсо, зятем графу Полану. Увидав друг друга, мы оба испытали одинаковое удивление.
– Как вы попали в этот город, Жиль Блас? – воскликнул он. – Что привело вас сюда?
– Сеньор, – отвечал я ему, – если вы удивлены, увидав меня здесь, то еще больше изумитесь, когда узнаете, что я покинул службу у сеньора дона Сесара и его сына.
Затем я рассказал ему без всякой утайки то, что произошло между мной и Сефорой. Он похохотал над этим от всей души, после чего сказал мне уже серьезным тоном:
– Друг мой, предлагаю вам свое посредничество в этом деле. Я напишу свояченице…
– Нет, нет, сеньор, – прервал я его, – не пишите, прошу вас. Я покинул замок Лейва не для того, чтобы туда возвращаться. Не откажите лучше проявить свое хорошее отношение ко мне в другом направлении. Если кто-либо из ваших друзей нуждается в секретаре или управителе, то заклинаю вас замолвить словечко в мою пользу. Никто из них, смею поручиться, не упрекнет вас за то, что вы рекомендовали ему шалопая.
– Весьма охотно исполню то, о чем вы меня просите, – отвечал он. – Я прибыл в Гренаду, чтоб навестить старую, больную тетку, и пробуду здесь еще три недели, после чего вернусь в замок Лорки, где меня ждет Хулия. Я живу вот в этом доме, – продолжал он, указывая на барские палаты, находившиеся в ста шагах от нас. – Наведайтесь через несколько дней: к этому времени я, быть может, разыщу вам подходящую службу.
Действительно, в первый же раз, как мы снова встретились, он сказал мне:
– Архиепископ гренадский, мой родственник и друг, желает иметь при себе человека, сведущего в литературе и обладающего хорошим почерком, дабы переписывать начисто его произведения. Мой дядя – известный проповедник: он составил не знаю уж сколько проповедей и сочиняет каждый день новые, которые произносит с большим успехом. Считая, что вы ему подойдете, я предложил вас на это место, и он согласился. Ступайте, представьтесь ему от моего имени; по приему, который он вам окажет, вы сможете судить о благоприятном отзыве, который я о вас дал.
Место мне показалось таким, лучше которого трудно было пожелать. Приготовившись с величайшей тщательностью предстать перед его высокопреосвященством, я однажды утром отправился в его палаты. Если б мне вздумалось подражать сочинителям романов, то я составил бы пышное описание архиепископского дворца в Гренаде: я распространился бы относительно архитектуры здания, расхвалил бы роскошь меблировки, поговорил бы о находившихся там статуях и не пощадил бы читателя изложением сюжетов всех висевших там картин. Но я буду краток и скажу только, что дворец тот превосходил великолепием дворцы наших королей.
Я застал в покоях целую толпу духовных и светских лиц, большинство которых принадлежало к штату монсиньора: эскудеро, камер-лакеи, идальго и священники его свиты. Все миряне были в роскошных одеждах: их можно было скорее принять за сеньоров, нежели за людей служилого сословия. Вид у них был напыщенный, и они корчили из себя важных бар. Глядя на них, я не мог удержаться от смеха и внутренне поиздевался над ними.
«Черт подери! – подумал я. – Этих людей можно назвать счастливыми, так как они несут ярмо рабства, не замечая его. Если б они его чувствовали, то, пожалуй, не усвоили бы себе таких высокомерных повадок».
Я обратился к одной важной и дородной личности, которая дежурила у дверей архиепископского кабинета и назначение которой заключалось в том, чтоб отворять и затворять их, когда понадобится. На мой вежливый вопрос, нельзя ли поговорить с монсиньором, камер-лакей сухо ответил мне:
– Обождите здесь; его высокопреосвященство сейчас выйдут, чтоб отправиться к обедне, и дадут вам на ходу несколько минут аудиенции.
Я промолчал и, вооружившись терпением, попытался завязать разговор кое с кем из служителей; но они оглядели меня с головы до пят и не удостоили ответа, а затем, переглянувшись между собой, надменно усмехнулись над дерзостью человека, позволившего себе вступить с ними в беседу.
Признаюсь, что я был ошеломлен таким обращением со стороны служителей. Я еще не успел вполне оправиться от своего смущения, когда двери отворились и появился архиепископ. Глубокое молчание тотчас же воцарилось среди членов архиепископского двора, с которых моментально слетело всякое чванство, чтоб уступить место величайшей почтительности перед владыкой. Прелату шел шестьдесят девятый год, и он весьма походил на моего дядю каноника Хиля Переса, т. е. был толст и низкоросл. Вдобавок ноги его были сильно вогнуты внутрь, а голова украшена лысиной с одним только клоком волос на макушке, благодаря чему он был вынужден носить скуфейку из тонкой шерсти с длинными ушами. Несмотря на это, мне казалось, что прелат походил на знатную особу, быть может, потому, что он, как я знал, действительно был таковой. Мы, люди простого звания, смотрим на вельмож с предубеждением, нередко приписывая этим господам величие, в котором природа им отказала.
Архиепископ прямо направился ко мне и спросил елейным голосом, что мне угодно. Я отвечал ему, что меня прислал сеньор дон Фернандо де Лейва. Он не дал мне договорить и воскликнул:
– Так это вы тот молодой человек, которого он мне так расхвалил? Беру вас к себе на службу: вы для меня весьма ценное приобретение. Можете сейчас же оставаться здесь.
С этими словами он оперся на двух эскудеро и удалился, выслушав еще мимоходом нескольких священников, которые о чем-то ему докладывали. Не успел он выйти из покоя, где мы находились, как те же служители, которые перед тем не удостоили меня ответа, теперь устремились ко мне, чтоб вступить со мной в беседу. Они окружили меня, осыпали учтивостями и принялись выражать свою радость по поводу того, что я стал домочадцем архиепископа. Услыхав слова, сказанные мне его высокопреосвященством, они умирали от желания узнать, какое я займу положение при его особе. Но я из мести не удовлетворил их любопытства, желая наказать этих господ за выказанное мне презрение.
Монсиньор не замедлил вернуться и приказал мне пройти в кабинет, чтоб поговорить со мной с глазу на глаз. Я отлично понял, что он намерен проверить мои познания, и, насторожившись, приготовился тщательно взвешивать свои слова. Он начал с гуманитарных наук. Я недурно отвечал на его вопросы, и он убедился в моем достаточном знакомстве с греческими и латинскими авторами. Затем он перешел к диалектике. Этого я только и ждал, так как съел собаку в этой науке.
– Вы получили тщательное образование, – сказал он мне с некоторым удивлением. – Посмотрим теперь, как вы пишете.
Я вытащил из кармана бумагу, которую нарочно заготовил. Прелат остался вполне удовлетворен моим искусством.
– Я доволен вашим почерком и еще больше вашими познаниями, – воскликнул он. – Не премину поблагодарить своего племянника дона Фернандо за то, что он рекомендовал мне такого отличного молодого человека. Это настоящий подарок с его стороны.
Наша беседа была прервана прибытием нескольких гренадских вельмож, явившихся к его высокопреосвященству обедать. Я оставил их с архиепископом, а сам присоединился к служителям, которые выказали мне всякие знаки внимания. Затем, когда наступило время, я отправился обедать вместе со всеми, и если они за трапезой наблюдали за мной, то и я, в свою очередь, платил им тем же. Сколько степенности было в наружности духовных лиц! Они казались мне настоящими святыми: такое почтение внушало мне место, в котором я находился! Мне даже в голову не приходило принимать их поведение за фальшивую монету, точно таковая не имела хождения среди князей церкви.
Я сидел подле старого камер-лакея, которого звали Мелькиор де ла Ронда. Он заботливо накладывал мне лучшие куски. Я ответил ему вниманием на внимание, и моя вежливость очаровала его.
– Сеньор кавальеро, – сказал он мне шепотом после обеда, – я хотел бы поговорить с вами с глазу на глаз.
С этими словами он отвел меня в такое место дворца, где никто не мог нас подслушать, и держал мне следующую речь:
– Сын мой, я проникся к вам симпатией с первого момента, как вас увидал. Мне хочется доказать это на деле, снабдив вас сведениями, которые окажут вам немалую пользу. Вы находитесь в доме, где истинные и лживые праведники живут вперемежку. Вам понадобилось бы бесконечное время, чтоб разобраться в вашем окружении. Я собираюсь избавить вас от этой длительной и неприятной работы, осведомив вас о характерах и тех и других, после чего вы легко сможете определить нить своего поведения.
– Начну, – продолжал он, – с монсиньора. Это весьма благочестивый прелат, заботящийся о том, чтоб поучать народ и наставлять его на стезю добродетели проповедями, которые исполнены превосходной морали и которые он сочиняет сам. Вот уже двадцать лет, как он покинул двор, чтоб всецело посвятить себя заботам о своей пастве. Он человек ученый и великий оратор: для него нет большего удовольствия, чем проповедовать, а слушатели с радостью внемлют ему. Быть может, тут есть и некоторая доля тщеславия, но, во-первых, людям не дано проникать в чужие души, а во-вторых, было бы дурно с моей стороны копаться в недостатках лица, хлеб которого я ем. Если б я смел упрекнуть в чем-либо своего господина, то осудил бы его строгость. Вместо того чтоб отнестись снисходительно к провинившимся священникам, он карает их с чрезмерной суровостью. В особенности беспощадно преследует он тех, кто, полагаясь на свою невинность, пытается оправдаться ссылкой на право вопреки авторитету его высокопреосвященства. Я нахожу у него еще один недостаток, который он разделяет со многими вельможами: хотя он и любит своих подчиненных, но не обращает никакого внимания на заслуги и держит их у себя в доме до глубокой старости, не думая о том, чтоб устроить их судьбу.
Если иной раз он и вознаградит их, то они обязаны этим доброте тех лиц, которые замолвят за них словечко: сам он не позаботится сделать им ни малейшего добра.
Вот что старый камер-лакей рассказал мне о своем господине, после чего сообщил свое мнение о духовных особах, с которыми мы обедали. По его описанию, характеры этих лиц далеко не соответствовали их манере держать себя. Правда, он не назвал их бесчестными людьми, но зато довольно плохими священнослужителями. Некоторые, впрочем, являлись исключением, и он весьма расхвалил их добродетели. Теперь я знал, как мне вести себя с ними, и в тот же вечер за ужином я прикинулся таким же степенным, как они. Это очень легко, и нечего удивляться тому, что на свете столько лицемеров.
Глава III Жиль Блас становится фаворитом гренадского архиепископа и проводником его милостей
Днем я сходил за пожитками и лошадью на свой постоялый двор, а затем вернулся к ужину в архиепископский дворец, где мне отвели довольно хорошую горницу и приготовили пуховую перину. На следующий день монсиньор приказал позвать меня с раннего утра, чтоб поручить мне переписку одной проповеди. При этом он потребовал, чтоб работа была выполнена с величайшей точностью. Я не преминул сделать это, не пропустив ни одного знака препинания, ни одного ударения. Архиепископ не скрыл от меня своей радости, к которой примешивалось удивление.
– Боже предвечный! – воскликнул он с восторгом, после того как пробежал глазами все переписанные мною листы. – Видал ли кто подобную точность! Вы слишком хороший переписчик, чтоб не быть также и знатоком грамматики. Скажите мне откровенно, друг мой: не бросились ли вам в глаза при переписке какие-либо места, которые бы неприятно вас поразили, какая-нибудь небрежность стиля или неподходящее выражение. Это могло вырваться у меня в порыве творчества.
– О, монсиньор, – ответствовал я со скромным видом, – я не достаточно образован, чтоб высказывать критические замечания; но если б даже я и обладал такими познаниями, то все же убежден, что произведения вашего высокопреосвященства окажутся выше моей критики.
Прелат улыбнулся на эти слова и ничего не ответил, но мне удалось подметить сквозь его благочестие, что и он не был чужд тщеславия, присущего авторам.
Этой лестью я окончательно завоевал себе его благосклонность. С каждым днем его расположение ко мне возрастало, и наконец я узнал от дона Фернандо, который очень часто его навещал, что прелат без ума от меня и что я могу считать свою судьбу обеспеченной. Спустя некоторое время мой господин лично подтвердил мне это и вот при каких обстоятельствах. Однажды вечером он вдохновенно репетировал при мне в своем кабинете проповедь, которую должен был произнести в соборе на следующий день. При этом он не только спросил меня, что я думаю о ней вообще, но еще принудил указать места, наиболее меня поразившие. Мне посчастливилось процитировать те из них, которые он ценил и любил больше всего. Благодаря этому я прослыл в его глазах человеком, наделенным пониманием истинных красот литературного произведения.
– Вот что значит обладать вкусом и чутьем! – воскликнул он. – Да, друг мой, будь уверен, ухо у тебя не беотийское! [115]
Словом, он был так доволен мною, что продолжал с жаром:
– Не тревожься отныне, Жиль Блас, о своей судьбе; беру на себя устроить ее к полному твоему благополучию. Я тебя полюбил и, чтоб доказать это, делаю тебя своим поверенным.
Не успел он произнести эти слова, как, проникнутый благодарностью, я бросился к стопам монсиньора. От всего сердца обнял я его кривые ноги и уже почитал себя за человека, находящегося на пути к богатству.
– Да, дитя мое, – продолжал архиепископ, речь которого была прервана моим жестом, – я хочу сделать тебя хранителем своих сокровеннейших мыслей. Слушай же со вниманием то, что я тебе скажу. Я люблю проповедовать. Господь благословляет мои поучения: они оказывают влияние на грешников, побуждают их углубиться в себя и прибегнуть к покаянию. Мне удается заставить скупца, устрашенного образами, которыми я пугаю его жадность, раскрыть свою казну и раздать ее щедрой рукой; мне удается отвлечь распутника от наслаждений, наполнить скиты честолюбцами, вернуть на стезю долга супругу, смущаемую соблазнителем. Эти обращения, которые случаются часто, должны были бы сами по себе побуждать меня к работе. А между тем, признаюсь тебе в своей слабости, я стремлюсь еще к другой награде – награде, за которую моя щепетильная добродетель тщетно меня упрекает: это то уважение, которое свет питает к изысканным и тщательно отделанным произведениям. Меня прельщает честь прослыть безукоризненным оратором. Люди считают мои сочинения столь же сильными, сколь и утонченными; но я хотел бы избежать недостатка, свойственного многим хорошим авторам: писать слишком долго. Я желаю сойти со сцены в ореоле славы.
Так вот, любезный Жиль Блас, что я требую от твоего усердия, – продолжал прелат. – Как только ты заметишь, что перо мое дряхлеет и что я начинаю сдавать, то предупреди меня. Я не полагаюсь на себя в этом отношении, так как самолюбие может меня соблазнить. Тут нужен непредвзятый ум. Я выбираю твой, так как считаю его подходящим, и полагаюсь на твое суждение.
– Слава богу, монсиньор, – сказал я, – вам еще очень далеко до этого времени. К тому же у вашего высокопреосвященства ум такого закала, что он прослужит дольше всякого другого, или, говоря яснее, вы никогда не изменитесь. Я почитаю вас за второго кардинала Хименеса [116] , выдающийся гений которого не только не слабел с годами, но, казалось, приобретал все новые силы.
– Не надо ласкательств, друг мой, – прервал он меня. – Я знаю, что могу сразу увянуть. В моем возрасте начинаешь чувствовать недомогания, а телесные немощи подтачивают дух. Повторяю тебе, Жиль Блас, как только ты заметишь, что голова моя слабеет, так сейчас же предупреди меня. Не бойся быть откровенным и искренним: я сочту такое предостережение за знак твоей привязанности ко мне. К тому же это в твоих интересах: если, на твое несчастье, в городе начнут поговаривать, что мои проповеди не обладают прежней силой и что мне пора на покой, то скажу тебе напрямик: как только это дойдет до меня, то вместе с моей дружбой ты потеряешь состояние, которое я тебе обещал. Вот каковы будут плоды твоей неразумной скромности.
В этом месте прелат прервал свою речь, чтоб выслушать мой ответ, который заключался в обещании исполнить его желание. С этого момента у него не стало тайн от меня, и я сделался его любимцем. Весь штат, за исключением Мелькиора де ла Ронда, завидовал мне. Стоило посмотреть, как все эти идальго и эскудеро ухаживали за наперсником его преосвященства, не стыдясь никаких низостей, чтоб завоевать его расположение. Мне трудно было поверить, что они – испанцы. Все же я не переставал оказывать им услуги, хотя нисколько не обманывался насчет их корыстных учтивостей. По моим просьбам архиепископ ходатайствовал за них. Одному он выхлопотал ренту и дал ему возможность пристойно содержать себя в армии. Другого он отправил в Мексику, выпросив ему видную должность, а для своего друга Мелькиора я добился крупной награды. При этом я убедился, что если прелат сам и не заботился ни о ком, то, по крайней мере, редко отказывал, когда его о чем-либо просили.
Но то, что я сделал для одного священника, заслуживает, как мне кажется, более подробного описания. Однажды наш мажордом представил мне некоего лиценциата, по имени Луис Гарсиас, человека еще моложавого и приятной наружности.
– Сеньор Жиль Блас, – сказал мажордом, – этот честный священник – один из лучших моих друзей. Он состоял духовником в женском монастыре. Злословие не пощадило его добродетели. Моего друга опорочили перед монсиньором, который отрешил его от должности и, к несчастью, так предубежден против него, что не желает внять никаким ходатайствам. Мы тщетно обращались к содействию первых лиц в Гренаде, чтобы его обелить, – монсиньор остался неумолим.
– Господа, – отвечал я им, – вот поистине испорченное дело. Было бы лучше, если б вы вовсе не хлопотали за сеньора лиценциата. Желая помочь вашему приятелю, вы оказали ему медвежью услугу. Я хорошо знаю монсиньора: просьбы и хлопоты только усугубляют в его глазах вину священнослужителя; он сам недавно говорил это при мне. «Чем больше лиц, – сказал он, – подсылает ко мне с ходатайствами провинившийся священник, тем больше он раздувает скандал и тем строже я к нему отношусь».
– Это крайне прискорбно, – возразил мажордом, – и мой друг был бы в весьма затруднительном положении, если б не обладал хорошим почерком. К счастью, он превосходно пишет, и этот талант выручает его.
Я полюбопытствовал взглянуть на хваленый почерк лиценциата, чтоб проверить, лучше ли он моего. Гарсиас, прихвативший с собой образцы, показал мне одну страницу, на которую я не мог надивиться: это была настоящая пропись учителя чистописания. Пока я разглядывал эту прекрасную руку, мне пришла на ум идея. Попросив лиценциата оставить у меня рукопись, я сказал, что, быть может, смогу кой-чем ему помочь, но что не стану распространяться об этом в данную минуту, а осведомлю его обо всем на следующий день. Лиценциат, которому мажордом, видимо, расхвалил мою изобретательность, удалился с таким видом, точно его уже восстановили в должности.
Я действительно был не прочь ему пособить и в тот же день прибег к способу, который вам сейчас изложу. Находясь один на один с архиепископом, я показал ему почерк Гарсиаса, который весьма ему понравился. Тогда, воспользовавшись случаем, я сказал своему покровителю:
– Монсиньор, раз вам не угодно печатать свои проповеди, то мне хотелось бы, по крайней мере, чтоб они были переписаны так, как этот образец.
– Я вполне доволен твоим почерком, – отвечал он, – но признаюсь тебе, что не прочь обзавестись копией своих сочинений, исполненной этой рукой.
– Вашему высокопреосвященству стоит только приказать, – возразил я. – Этот искусный переписчик – некий лиценциат, с которым я познакомился. Он будет тем более счастлив доставить вам это удовольствие, что сможет таким путем возбудить ваше милосердие, дабы вы спасли его из печального положения, в котором он, по несчастью, теперь находится.
Прелат не преминул спросить меня об имени лиценциата.
– Его зовут Луис Гарсиас, – отвечал я. – Он в отчаянии от того, что навлек на себя вашу немилость.
– Этот Гарсиас, – прервал он меня, – был, если не ошибаюсь, духовником в женской обители. Он подвергся церковному запрещению. Припоминаю донесения, направленные против него. Нравы этого священника оставляют желать лучшего.
– Монсиньор, – прервал я его в свою очередь, – не стану оправдывать лиценциата; но мне известно, что у него есть враги. Он утверждает, что авторы представленных вам донесений стремились не столько выявить истину, сколько его очернить.
– Возможно, – отвечал прелат, – в миру существуют весьма зловредные души. Я готов согласиться с тем, что его поведение не всегда было безупречным, но, может быть, он раскаялся. Наконец, всякому греху – прощение. Приведи мне этого лиценциата; я снимаю с него интердикт.
Вот как самые строгие люди отступают от своей строгости, когда она становится несовместимой с их личными интересами. Поддавшись суетному желанию видеть свои произведения хорошо переписанными, архиепископ разрешил то, в чем отказывал самым могущественным ходатаям. Я поспешил сообщить эту весть мажордому, который уведомил своего друга Гарсиаса. Лиценциант явился на следующий день, чтобы принести мне благодарность в выражениях, соответствовавших полученной им милости. Я представил его своему господину, который ограничился легким выговором и дал ему переписать начисто свои проповеди. Гарсиас так хорошо справился с этой задачей, что его восстановили в должности и даже дали ему приход в Габии, крупном поселке подле Гренады. А это доказывает, что бенефиции не всегда раздаются за добродетели.
Глава IV Архиепископа поражает апоплексический удар. О затруднении, в котором очутился Жиль Блас, и о том, как он из него вышел
В то время как я оказывал услуги то одним, то другим, дон Фернандо де Лейва приготовился покинуть Гренаду. Я зашел к этому сеньору перед его отъездом, чтоб еще раз выразить ему свою признательность за превосходное место, которое он мне доставил. Заметив, что я в восторге от своей службы, он сказал:
– Очень рад, дорогой Жиль Блас, что вы довольны моим дядей архиепископом.
– Я совершенно очарован этим великим прелатом, – отвечал я. – Да иначе оно и быть не могло: ведь его высокопреосвященство – обаятельнейший человек и к тому же относится ко мне так милостиво, что я, право, не знаю, как его благодарить! Никакое другое место не могло бы утешить меня в том, что я не состою больше при сеньоре доне Сесаре и его сыне.
– Я уверен, – сказал дон Фернандо, – что, потеряв вас, они тоже весьма досадуют. Возможно, однако, что вы расстались не навеки и что судьба сведет вас в один прекрасный день.
Я не мог слышать этих слов без умиления. У меня вырвался вздох. В этот момент я почувствовал, как сильно люблю дона Альфонсо, и охотно покинул бы архиепископа со всеми его заманчивыми обещаниями, чтобы вернуться в замок Лейва, если б было устранено препятствие, заставившее меня удалиться оттуда. Заметив волновавшие меня чувства, дон Фернандо умилился и обнял меня, заявив при этом, что вся его семья всегда будет принимать участие в моей судьбе.
Спустя два месяца после отъезда этого кавалера, в самый разгар моего фавора в нашем дворце произошла большая тревога: архиепископа хватил удар. Ему так быстро оказали помощь и дали такие превосходные лекарства, что через несколько дней здоровье его совсем наладилось. Но мозг испытал тяжелое потрясение. Я заметил это по первой же составленной им проповеди. Правда, разница между ней и прежними его поучениями была не так чувствительна, чтоб по этому можно было заключить об упадке его ораторского таланта. Я подождал второй проповеди, чтоб знать, чего держаться. Увы, она оказалась решающей! Добрый прелат то повторялся, то хватал слишком высоко, то спускался слишком низко. Это была многословная речь, риторика выдохшегося богослова, чистая капуцинада [117] .
Не я один обратил на это внимание. Большинство слушателей – точно им тоже платили жалованье за критику – говорили друг другу шепотом:
– Проповедь-то попахивает апоплексией.
«Ну-с, господин арбитр, – сказал я тогда сам себе, – приготовьтесь исполнить свою обязанность. Вы видите, что монсиньор сильно сдает; ваш долг предупредить его не только потому, что вы являетесь поверенным его мыслей, но также из опасения, как бы кто-либо из его друзей не оказался более откровенен и не опередил вас. Вы знаете, что тогда произойдет: вас вычеркнут из завещания, в котором вам отписано наследство получше, чем библиотека лиценциата Седильо».
За этими рассуждениями последовали, однако, другие, совсем обратного характера. Предупреждение, о котором шла речь, было делом весьма щепетильным. Мне думалось, что автор, упоенный своими произведениями, был способен принять его далеко не благосклонно. Однако я отбросил эту мысль, считая невозможным, чтоб монсиньор обиделся на меня за то, на чем сам так упорно настаивал. Присовокупите к этому, что я рассчитывал использовать при нашем разговоре всю свою ловкость и заставить его проглотить пилюлю самым ласковым образом. Наконец, считая, что для меня опаснее хранить молчание, нежели его нарушить, я решил объясниться с архиепископом.
Одно только смущало меня: я не знал, как приступить. К счастью, сам оратор вывел меня из затруднения, спросив, что думают о нем миряне и довольны ли они его последней проповедью. Я отвечал, что все восхищаются по-прежнему, но что, как мне показалось, последняя речь произвела на аудиторию несколько меньшее впечатление.
– Неужели, друг мой, – спросил он с удивлением, – и тут нашелся какой-нибудь Аристарх? [118]
– Нет, монсиньор, – отвечал я, – отнюдь нет! Кто же осмелится критиковать такие творения, как ваши? Не существует человека, который не был бы ими очарован. Но, поскольку вы приказали мне быть искренним и откровенным, я беру на себя смелость сказать, что ваше последнее поучение кажется мне несколько менее сильным, чем предыдущие. Вероятно, вы и сами это находите?
От этих слов прелат побледнел и сказал с натянутой улыбкой:
– Значит, эта проповедь не в вашем вкусе, господин Жиль Блас?
– Этого я не говорил, монсиньор, – прервал я его, озадаченный таким ответом. – Я нахожу ее великолепной, хотя и несколько слабее ваших остальных произведений.
– Понимаю вас, – возразил он. – Значит, по-вашему, я начинаю сдавать? Не так ли? Говорите напрямик: мне пора на покой?
– Я никогда не позволил бы себе высказываться так откровенно, – отвечал я, – если б ваше высокопреосвященство мне этого не приказали. Я только повинуюсь вашему распоряжению и почтительнейше умоляю не гневаться на меня за мою вольность.
– Да не допустит господь, – поспешно прервал он меня, – да не допустит господь, чтоб я стал упрекать вас. Это было бы с моей стороны крайне несправедливо. Я вовсе не нахожу дурным то, что вы высказали мне свое мнение. Но самое ваше мнение нахожу дурным. Я здорово обманулся насчет вашего неразвитого ума.
Хотя и выбитый из седла, я попытался найти смягчающие выражения, чтоб поправить дело. Но разве мыслимо утихомирить рассвирепевшего автора, и к тому же автора, привыкшего к славословию.
– Не будем больше говорить об этом, дитя мое, – сказал он. – Вы еще слишком молоды, чтоб отличать хорошее от худого. Знайте, что я никогда не сочинял лучшей проповеди, чем та, которая имела несчастье заслужить вашу хулу. Мой разум, слава всевышнему, ничуть еще не утратил своей прежней силы. Отныне я буду осмотрительнее в выборе наперсников; мне нужны для советов более способные люди, чем вы. Ступайте, – добавил он, выталкивая меня за плечи из кабинета, – ступайте к моему казначею, пусть он отсчитает вам сто дукатов, и да хранит вас господь с этими деньгами. Прощайте, господин Жиль Блас; желаю вам всяких благ и вдобавок немножко больше вкуса.
Глава V Что предпринял Жиль Блас после того, как архиепископ его уволил. Как он повстречал лиценциата, которому оказал услугу, и чем тот отплатил ему за это
Я вышел из кабинета, проклиная каприз или, вернее, самомнение архиепископа, и не столько огорчился потерей его милостей, сколько сердился на него. Некоторое время я даже колебался, брать ли мне или не брать сто дукатов; но, поразмыслив как следует, не стал валять дурака. Я решил, что эти деньги не лишают меня права выставить прелата в смешном свете, и мысленно дал клятву не пропускать такого случая всякий раз, как при мне зайдет речь об его проповедях.
Итак, я отправился к казначею за ста дукатами, но не сказал ему ни слова о том, что произошло между мной и его господином. Затем я разыскал Мелькиора де ла Ронда, чтоб проститься с ним навеки. Он слишком любил меня, чтоб не посочувствовать моему несчастью. Лицо его омрачилось печалью, в то время как я описывал ему свою неудачу. Несмотря на почтение, которым он был обязан архиепископу, старый слуга не смог удержаться, чтоб не высказать ему порицания, но когда я в сердцах поклялся отомстить прелату и сделать его посмешищем всего города, то мудрый Мелькиор сказал мне:
– Поверьте мне, мой добрый Жиль Блас, проглотите обиду. Люди простого звания должны почитать вельмож даже тогда, когда имеют основания на них жаловаться. Я готов согласиться, что среди знатных господ существует немало пошляков, вовсе недостойных того, чтоб их уважали; но они могут повредить, и их надо бояться.
Я поблагодарил престарелого камер-лакея за добрый совет и обещал им воспользоваться, после чего он сказал мне:
– Если отправитесь в Мадрид, то навестите моего племянника Хосе Наварро. Он состоит тафельдекером при сеньоре Балтасаре де Суньига [119] и, смею сказать, достоин вашей дружбы. Он прямодушен, энергичен, предупредителен и услужлив; мне хотелось бы, чтоб вы с ним познакомились.
Я отвечал ему, что не премину навестить Хосе Наварро, как только прибуду в Мадрид, куда я твердо собирался отправиться. Затем я вышел из архиепископского дворца с намерением никогда туда не возвращаться. Будь у меня лошадь, я немедленно покинул бы Толедо, но я продал ее в эпоху своего фавора, полагая, что она мне больше не понадобится. Я нанял поэтому меблированную комнату, решив побыть еще месяц в Гренаде, а затем отправиться к графу Полану.
Так как приближалось обеденное время, то я спросил у хозяйки, нет ли по соседству какой-либо харчевни. Она отвечала, что в двух шагах от ее дома находится отличный трактир, в котором прекрасно кормят и куда ходят много приличных господ. Попросив указать мне его, я вскоре туда отправился и вошел в большую залу, походившую на монастырскую трапезную. Человек десять – двенадцать сидели за довольно длинным столом, покрытым грязной скатертью, и беседовали, поглощая свои скромные порции. Мне подали такой же обед, который во всякое другое время заставил бы меня пожалеть о прелатской кухне. Но я был так зол на архиепископа, что убогие кушанья моего трактира казались мне предпочтительнее роскошного стола, которым я у него пользовался. Я порицал обилие блюд и, рассуждая, как подобает вальядолидскому доктору, говорил себе:
«Горе тем, кто пристрастился к гибельным трапезам, за коими надлежит непрестанно опасаться собственной жадности, дабы не перегрузить желудка! Как мало бы человек ни ел, он всегда ест достаточно».
В припадке дурного настроения я одобрял афоризмы, которыми до того основательно пренебрегал.
Пока я поглощал свой непритязательный обед, не опасаясь перейти границ умеренности, в залу вошел лиценциат Луис Гарсиас, получивший габийский приход тем способом, о котором я уже говорил. Завидя меня, он подошел поздороваться с самым обязательным видом или, точнее, с экспансивностью человека, испытывающего безмерную радость. Он сжал меня в своих объятиях, и мне пришлось выдержать длиннейший поток любезностей по поводу услуги, которую я ему оказал. Эти бесконечные доказательства благодарности даже утомили меня. Подсев ко мне, он сказал:
– Любезнейший мой покровитель, раз моя счастливая судьба пожелала, чтоб я вас встретил, то нельзя нам расстаться, не совершив возлияний. Но так как в этой харчевне нет хорошего вина, то я отведу вас в одно место, где угощу бутылочкой самого сухого лусенского и бесподобным фонкаральским мускатом. Мы должны кутнуть; пожалуйста, не откажите мне в этом удовольствии. О, почему не дано мне хотя бы только на несколько дней приютить вас в своем приходском доме в Габии! Вас приняли бы там, как щедрого мецената, которому я обязан спокойствием и обеспеченностью своей теперешней жизни.
Пока он держал эту речь, ему подали обед. Он принялся за еду, не переставая, однако, в промежутках осыпать меня лестью. Тут и мне наконец удалось вставить слово, и так как он осведомился о своем друге мажордоме, то я не скрыл от него своего ухода от архиепископа. Я даже поведал ему о постигшей меня немилости во всех малейших подробностях, что он выслушал с большим вниманием. Кто бы после его излияний не стал ожидать, что, проникнутый сочувствием, он обрушится на архиепископа? Но ничуть не бывало. Напротив, он сделался холоден и задумчив, молча докончил свой обед, а затем, неожиданно встав из-за стола, поклонился мне с ледяным видом и исчез. Видя, что я больше не могу быть ему полезен, этот неблагодарный даже не дал себе труда скрыть от меня свои чувства. Я только посмеялся над его неблагодарностью и, отнесясь к нему с тем презрением, которого он заслуживал, крикнул ему вслед так громко, чтоб меня слышали:
– Эй, смиреннейший духовник женской обители, прикажи-ка заморозить бесподобное лусенское, которым ты хотел меня угостить!
Глава VI Жиль Блас отправляется в гренадский театр. Об удивлении, испытанном им при виде одной комедиантки, и о том, к чему это привело
Не успел Гарсиас покинуть зал, как вошли два веселых, пристойно одетых кавалера и уселись рядом со мной. Они разговорились об актерах гренадской труппы и о новой комедии, которая тогда ставилась. Судя по их словам, пьеса пользовалась в городе шумным успехом. Мне захотелось в тот же день посмотреть на это представление, тем более что за свое пребывание в Гренаде я ни разу не побывал в театре. Живя почти все время в архиепископском дворце, где всякие зрелища были преданы анафеме, я не смел доставить себе подобное удовольствие. Моим единственным развлечением были проповеди.
Когда наступило время спектакля, я отправился в комедию, где застал большое стечение публики. Еще до начала представления вокруг меня раздались споры о пьесе, и я заметил, что каждый считал себя вправе в них вмешаться. Один говорили за, другие против.
– Видал ли кто лучшее произведение? – заявляли справа.
– Убогий стиль! – восклицали слева.
Конечно, существует немало плохих актеров, но надо сознаться, что плохих критиков еще больше. Когда я думаю о неприятностях, которые приходится претерпевать драматургам, то удивляюсь тому, что еще существуют смельчаки, готовые противодействовать невежеству толпы и опасной критике недоучек, нередко портящих вкусы публики.
Наконец вышел грасиосо [120] , чтоб начать представление. Его появление было встречено единодушными рукоплесканиями, из чего я заключил, что это был один из тех избалованных актеров, которым партер прощает все. Действительно, при всяком его слове, при малейшем жесте сейчас же раздавались аплодисменты. Публика слишком явно выражала ему свое одобрение, а потому он и злоупотреблял им. Я заметил, что он иногда играл весьма небрежно и подвергал слишком большому испытанию установившееся в его пользу предубеждение. Если б его освистали, вместо того чтоб рукоплескать, то во многих случаях воздали бы ему по заслугам.
Хлопали в ладоши также при появлении нескольких других исполнителей, в том числе одной актрисы, игравшей роль наперсницы. Я вгляделся в нее… Но нет слов, чтоб выразить мое удивление, когда я узнал в ней Лауру, мою любезную Лауру, которую помнил в Мадриде у Арсении. Не могло быть никаких сомнений в том, что это она. Ее фигура, ее черты, ее голос – словом, все убеждало меня в правильности моего предположения. Все же, словно не доверяя свидетельству собственных глаз и ушей, я спросил у кавалера, находившегося подле меня, как зовут эту артистку.
– Откуда вы свалились? – отвечал он. – Видимо, вы только что приехали, если не знаете прекрасной Эстрельи.
Сходство было слишком разительно, чтоб ошибиться. Я понял, что вместе с ремеслом Лаура переменила также и имя. Мне хотелось узнать о ней поподробнее, и так как публика бывает обычно в курсе актерских дел, то я спросил у того же соседа, не обзавелась ли Эстрелья каким-нибудь могущественным покровителем. Он отвечал, что уже два месяца, как живет в Гренаде один знатный португальский сеньор, маркиз де Мариальва, который тратит на нее большие деньги. Он, наверное, рассказал бы мне и больше, если б я не постеснялся докучать ему расспросами. Сведения, данные мне кавалером, занимали меня гораздо больше, чем комедия, и если бы кто-нибудь спросил меня при выходе о сюжете пьесы, то поставил бы в весьма затруднительное положение. Я только то и делал, что мечтал о Лауре, или Эстрелье, и твердо решил на следующий же день отправиться к этой актрисе. Не скрою, что я испытывал некоторое беспокойство по поводу приема, который она мне окажет: было немало данных за то, что ввиду блестящего положения ее дел мое появление не доставит ей особенного удовольствия; с другой стороны, такой отличной артистке ничего не стоило притвориться, что она вовсе меня не знает, дабы отомстить человеку, которым она имела основания быть недовольной. Но все это меня не обескуражило. После легкого ужина – а другого в моем трактире не полагалось – я удалился в свою комнату, с нетерпением дожидаясь завтрашнего дня.
Я мало спал в эту ночь и поднялся ни свет ни заря. Но так как мне думалось, что возлюбленная знатного сеньора не станет принимать посетителей в столь ранний час, то, перед тем как идти к ней, я провел часа три или четыре за туалетом, приказав побрить себя, напудрить и надушить. Мне хотелось предстать перед ней в таком виде, чтоб ей не пришлось краснеть при встрече со мной. Я вышел около десяти часов и отправился к Лауре, зайдя сперва в театр, чтоб спросить, где она живет. Она занимала переднюю половину большого дома. Мне открыла дверь камеристка, которую я попросил передать, что молодой человек желает поговорить с сеньорой Эстрельей. Девушка пошла, чтоб доложить обо мне, и я тотчас же услыхал, как ее госпожа сказала, сильно повышая голос:
– Какой еще там молодой человек? Что ему от меня нужно? Пусть войдет.
Из этого я заключил, что попал не вовремя: вероятно, португальский любовник Эстрельи присутствовал при ее туалете, и она нарочно повысила голос, желая показать ему, что она не такая особа, чтобы принимать подозрительных посланцев. Мое предположение оправдалось: маркиз де Мариальва проводил у нее почти каждое утро. Я уже приготовился поэтому наткнуться на неблагосклонный прием, но эта необыкновенная артистка, завидев меня, бросилась мне навстречу с распростертыми объятиями и, как бы охваченная умилением, воскликнула:
– Вы ли это, любезный братец?
С этими словами она поцеловала меня несколько раз, а затем сказала, повернувшись к португальцу:
– Простите меня, сеньор, за то, что я поддалась голосу крови. Встретив после трех лет разлуки нежно любимого брата, я была не в силах сдержать своих чувств. Дорогой мой Жиль Блас, – продолжала она, снова обращаясь ко мне, – расскажите, пожалуйста, как поживает наша семья и в каком положении вы ее оставили?
Этот вопрос сперва смутил меня, но я вскоре разгадал намерение Лауры и, чтоб содействовать ее уловке, отвечал, приспособляясь всем своим видом к сцене, которую нам предстояло разыграть:
– Слава богу, сестрица, родители наши пребывают в добром здравии.
– Не сомневаюсь, – сказала она, – что вы удивлены, застав меня комедианткой в Гренаде; однако не вините, не выслушав. Как вам известно, отец наш, печась о моей выгоде, просватал меня капитану дону Антонио Коэльо, который увез меня из Астурии в Мадрид, откуда был родом. Спустя полгода после нашего приезда он дрался на дуэли, которая произошла из-за его вспыльчивого нрава, и заколол кавалера, осмелившегося слегка за мной приударить. Кавалер этот служил у знатных особ, пользовавшихся большим влиянием. У моего супруга не было связей, а потому, забрав все находившиеся в доме драгоценности и наличные деньги, он бежал в Каталонию. Сев в Барселоне на корабль, переправился он в Италию, поступил в войска Венецианской республики и погиб в Морее, сражаясь с турками. В это время у нас конфисковали поместье, составлявшее единственное наше имущество, и я осталась совсем бедной вдовой. Что делать в такой крайности? Затруднительное положение для молодой честной женщины. В Астурию я не могла вернуться. Это было ни к чему; от родителей мне нечего было ожидать, кроме соболезнований. С другой стороны, я была слишком строго воспитана, чтоб опуститься до беспутной жизни. На что же решиться? И вот я стала комедианткой, чтоб сохранить свою репутацию.
Когда я услыхал конец Лауриной повести, меня разобрал такой смех, что я еле удержался. Мне удалось, однако, справиться с собой, и я даже сказал ей серьезным тоном:
– Одобряю ваше поведение, сестрица, и очень рад, что вы так хорошо устроились в Гренаде.
Маркиз де Мариальва, не проронивший ни слова из нашего разговора, принял за чистую монету все, что было угодно наболтать вдове дона Антонио. Он даже вмешался в нашу беседу и спросил, нахожусь ли я на службе в Гренаде или в каком-либо другом городе. Минуту я колебался, не соврать ли, но затем, сочтя это излишним, сказал правду. Я даже сообщил по порядку, как поступил к архиепископу и при каких обстоятельствах ушел от него, чем немало насмешил португальского сеньора. По правде говоря, я не сдержал при этом обещания, данного Мелькиору, и немножко поиздевался над его высокопреосвященством. Но комичнее всего было то, что Лаура, принявшая мой рассказ за басню, сочиненную по ее примеру, заливалась искренним хохотом над моим злоключением, от чего, вероятно, воздержалась бы, если бы знала, что я вовсе не врал.
После этого повествования, которое я закончил рассказом о нанятой мною комнате, нас пришли звать к столу. Я тотчас же вознамерился удалиться, чтоб пообедать в своем трактире, но Лаура удержала меня.
– Куда это вы, братец? – сказала она. – Вы обедаете со мной. Я не потерплю, чтоб вы дольше оставались в меблированных комнатах. Вы должны жить и столоваться у меня. Прикажите сегодня же вечером перенести сюда свои пожитки: здесь для вас найдется постель.
Тут португальский сеньор, которому, быть может, такое гостеприимство нисколько не улыбалось, обратился к Лауре и сказал:
– Нет, Эстрелья, вы живете не достаточно просторно, чтоб поселить у себя еще кого-нибудь. Ваш брат, – добавил он, – производит впечатление славного малого, и то, что он приходится вам таким близким человеком, побуждает меня заинтересоваться им. Я беру его к себе на службу. Он будет моим любимым секретарем, и я сделаю его своим поверенным. Пусть сегодня же отправляется ночевать ко мне, я велю приготовить ему помещение. Он получит четыреста дукатов жалованья, и если впоследствии, как надо надеяться, я останусь им доволен, то постараюсь утешить его в том, что он был слишком чистосердечен со своим архиепископом.
Я рассыпался перед маркизом в благодарностях, а Лаура последовала моему примеру еще с большим усердием.
– Не стоит больше говорить об этом, – прервал он нас, – все улажено.
С этими словами он поклонился своей театральной диве и вышел.
Лаура тотчас же провела меня в свой кабинет, где, убедившись, что мы находимся наедине, воскликнула:
– Я задохнусь, если еще дольше буду удерживаться от хохота: так меня разбирает.
Она развалилась в кресле и, держась за бока, принялась смеяться как сумасшедшая. Я не мог не последовать ее примеру, а когда мы вдосталь нахохотались, Лаура сказала:
– Признайся, Жиль Блас, что мы разыграли презабавную комедию. Но такой развязки я не ожидала. Мне хотелось только предоставить тебе стол и пристанище, и, чтоб соблюсти при этом приличие, я выдала тебя за своего брата. Я в восторге от того, что случай определил тебе столь знатное место. Маркиз де Мариальва – щедрый сеньор, который сделает для тебя даже больше, чем обещал. Другая на моем месте, – продолжала она, – не приняла бы столь ласково человека, который бросает своих друзей, даже не простясь с ними. Но я принадлежу к тому сорту добрейших девиц, которые всегда рады повидать ветрогонов, некогда близких их сердцу.
Я чистосердечно признал, что поступил неучтиво, и попросил у нее прощения, после чего она отвела меня в очень хорошую столовую. Усевшись за стол, мы величали друг друга не иначе, как братом и сестрой, так как при этом присутствовали лакей и камеристка. Отобедав, мы вернулись в кабинет, где перед тем беседовали. Тут моя несравненная Лаура, дав волю своей природной веселости, спросила меня обо всем, что случилось со мной после нашей разлуки. Я поведал ей подробно все свои похождения, а когда я удовлетворил ее любопытство, то она отплатила мне тем же, изложив свою историю нижеследующим образом.
Глава VII Приключения Лауры
– Я расскажу тебе возможно короче, какими судьбами я попала в комедиантки.
После того как ты покинул меня столь благородным образом, случилось у нас важное событие. Арсения, моя барыня, скорее соскучившись, чем пресытившись светским образом жизни, бросила театр и увезла меня с собой в прекрасное поместье подле Саморы, которое она перед тем купила на деньги, полученные с иностранцев. У нас скоро завелись знакомые в этом городе. Мы частенько ездили туда и оставались там на день или два, а затем возвращались обратно, чтоб уединиться в своем замке.
В одну из наших поездок увидал меня случайно сын коррехидора, дон Фелис Мальдонадо, и я ему понравилась. Он стал искать случая поговорить со мной наедине, и, не желая ничего от тебя скрывать, признаюсь, что я слегка помогла ему найти этот случай. Моему кавалеру шел двадцатый год. Он был писаным красавцем и хорош, как сам Амур, а его щедрость и галантные манеры обольщали сердца еще в большей мере, чем его наружность. Он с такой предупредительностью и настойчивостью предложил мне крупный брильянт, который носил на пальце, что я была не в силах ему отказать. Заполучив такого любезного поклонника, я была на седьмом небе. Но сколь опрометчиво поступают гризетки, пленяясь сыновьями могущественных отцов! Коррехидор, самый строгий из всей своей братии, проведал про наши отношения и поторопился предупредить дальнейшие последствия. Он послал за мной отряд альгвасилов, которые, несмотря на мой плач, отвели меня в Приют магдалинок.
Там надзирательница распорядилась без всяких формальностей отобрать у меня перстень и платье и облачить меня в длинное одеяние из серой саржи, перехваченное в поясе широким черным ремешком, с которого свисали до самых пят четки с крупными бусинами. Затем меня отвели в залу, где я застала старого монаха, не знаю какого ордена, который принялся проповедовать мне покаяние, примерно так, как Леонарда поучала тебя терпению в подземелье. Он уверял меня, что я должна быть признательна людям, приказавшим меня запереть, и что они оказали мне великое одолжение, освободив из сетей дьявола, в которых я, по несчастью, запуталась. Признаюсь откровенно в своей неблагодарности: я не только не чувствовала себя обязанной по отношению к лицам, доставившим мне это удовольствие, но проклинала их на чем свет стоит.
Я провела восемь дней в полном отчаянии, но на девятый – ибо я считала даже минуты – судьба моя, видимо, пожелала перемениться. Пересекая маленький дворик, я повстречала эконома нашего заведения, особу, которой все там подчинялись, не исключая и самой надзирательницы. Он отчитывался в своем управлении только перед коррехидором, от которого зависел и который питал к нему полное доверие. Звали его Педро Сендоно, и был он родом из местечка Сальседон в Бискайе. Представь себе высокого, бледного и сухопарого человека, – фигура, прямо созданная для того, чтоб рисовать с него доброго разбойника. Он, казалось, еле взглядывал на магдалинок. Я уверена, что тебе не приходилось видеть более лицемерной рожи, хотя ты и жил у архиепископа.
Итак, – продолжала она, – я встретила сеньора Сендоно, который остановил меня и промолвил:
– Утешься, дочь моя, я сочувствую вашим несчастьям.
Больше он не сказал ничего и пошел своим путем, предоставив мне комментировать как угодно этот лаконичный текст. Считая его порядочным человеком, я вправду вообразила, что он потрудился выяснить причину моего заключения и, не найдя за мной вины, которая заслуживала бы столь недостойного обращения, решил похлопотать обо мне перед коррехидором. Но я плохо знала своего бискайца; у него были совсем другие намерения. Он обдумывал план поездки, о котором поведал мне несколько дней спустя.
– Любезная Лаура, – сказал он, – я глубоко тронут вашими невзгодами и порешил положить им конец. Не скрываю от себя, что рискую при этом жизнью, но я сам не свой и хочу жить только ради вас. Положение, в котором вы находитесь, разрывает мне сердце. Завтра же освобожу вас из заключения и сам отвезу в Мадрид. Я готов пожертвовать всем ради счастья стать вашим избавителем.
Я чуть было не лишилась чувств при этих словах сеньора Сендоно, который, заключив по моим благодарственным излияниям о моем желании удрать, имел дерзость на следующий же день увезти меня на глазах у всех, и вот каким способом. Он сказал надзирательнице, что ему приказано доставить меня к коррехидору, жившему в загородном доме в двух милях от Саморы, и нагло усадил меня в почтовую карету, заложенную двумя добрыми мулами, которых он купил для этой цели. При нас не было никакой челяди, кроме одного слуги, который правил и на которого эконом мог вполне положиться. Мы двинулись в путь, но не по направлению к Мадриду, как я предполагала, а к португальской границе, куда прибыли раньше, чем саморский коррехидор мог узнать о нашем бегстве и послать нам вдогонку своих ищеек.
Перед въездом в Браганцу бискаец заставил меня облачиться в мужское платье, которым предусмотрительно запасся, и, рассчитывая ехать со мной дальше, сказал мне на постоялом дворе, где мы остановились:
– Не гневайтесь на меня, прекрасная Лаура, за то, что я увез вас в Португалию. Саморский коррехидор, конечно, будет разыскивать нас в нашем отечестве как преступников, для которых не должно быть убежища в Испании. Но, – добавил он, – мы можем спастись от его преследований в чужеземном королевстве, хотя и находящемся под испанским владычеством [121] . Во всяком случае мы будем там в большей безопасности, чем в нашей стране. Дайте уговорить себя, ангел мой; последуйте за человеком, который вас боготворит. Мы отправимся с вами в Коимбру. Там я определюсь в шпионы святой инквизиции, и под крылышком этого грозного трибунала мы станем коротать свои дни в приятном спокойствии.
Это пылкое предложение убедило меня в том, что я связалась с кавалером, вовсе не расположенным служить защитником инфант ради одной только рыцарской славы. Я поняла, что он сильно рассчитывал на мою благодарность и в особенности на мое бедственное положение. Но, несмотря на то, что эти два обстоятельства склоняли меня в его пользу, я гордо отказалась от его предложения. Правда, у меня было два веских основания выказать себя такой несговорчивой: во-первых, он мне не нравился, а во-вторых, я не считала его достаточно богатым. Но когда, продолжая настаивать на своем, он обещал прежде всего жениться на мне и показал воочию, что должность эконома обеспечила его на долгое время, то, не скрою, я принялась внимать ему гораздо благосклоннее. Ослепленная золотом и драгоценностями, которые он выложил передо мной, я испытала на себе, что корысть способна производить такие же метаморфозы, как и любовь. Мой бискаец постепенно начал становиться совсем другим человеком в моих глазах. Его длинное сухопарое тело превратилось в стройный стан; его бледность показалась мне дивной белизной, и я даже нашла похвальный эпитет для лицемерного выражения его лица. Словом, я без отвращения согласилась стать его женой перед богом, которого он призвал в свидетели нашего уговора. После этого ему уже не пришлось испытывать никакого сопротивления с моей стороны. Мы снова пустились в путь, и вскоре Коимбра приютила в своих стенах новое семейство.
Мой муж накупил мне довольно пристойных женских нарядов и подарил несколько брильянтов, среди коих я узнала камень дона Фелиса Мальдонадо. Этого было достаточно, чтоб объяснить мне происхождение виденных мною драгоценностей и чтоб убедить меня в том, что я не вышла за человека, строго соблюдавшего седьмую заповедь. Но, считая себя первопричиной его мошенничеств, я охотно простила их ему. Женщина способна извинить даже самые дурные поступки, совершенные ради ее красоты. Не будь этого, он казался бы мне самым отъявленным злодеем.
В течение двух или трех месяцев я в общем была довольна своим мужем. Он был всегда учтив и, казалось, питал ко мне нежную любовь. Тем не менее его знаки внимания были лживой уловкой: негодяй обманывал меня и готовил мне судьбу, которую должна ожидать всякая девушка, соблазненная бесчестным человеком. Однажды, вернувшись с обедни, я не нашла дома ничего, кроме голых стен; мебель и даже мои платья – все было увезено. Сендоно и верный его слуга так ловко распорядились, что менее чем в час очистили весь дом до нитки, а я наподобие новой Ариадны [122] , покинутой неблагодарным, осталась в одном только платье, да еще при перстне дона Фелиса, по счастью оказавшемся у меня на пальце. Но уверяю тебя, что я не стала сочинять элегий по поводу своего несчастья, а скорее благословляла небо за избавление от мерзавца, который рано или поздно не преминул бы попасть в руки правосудия. Я просто сочла прожитое с ним время за потерянное и твердо решила его наверстать. Если б я захотела остаться в Португалии и поступить в услужение к какой-нибудь знатной сеньоре, то, конечно, нашла бы себе место; но потому ли, что я любила родину, или потому, что меня влекла моя звезда, уготовившая мне лучшую участь, я только и мечтала о том, чтоб вернуться в Испанию. Я обратилась к брильянтщику, который отсчитал мне стоимость моего перстня червонными, и уехала с одной старой испанской дамой, отправлявшейся в Севилью в дорожной карете.
Дама эта, по имени Доротея, приезжала в Коимбру, чтоб повидаться со своей родственницей, и возвращалась в Севилью, где жила постоянно. У нас оказалось такое сходство вкусов, что мы привязались друг к другу с первого же дня; и наша взаимная симпатия так окрепла в дороге, что по прибытии в Севилью дама во что бы то ни стало пожелала, чтоб я остановилась в ее доме. Я не раскаялась в том, что завязала это знакомство. Мне никогда не приходилось видеть женщины с лучшим характером. По чертам ее лица и по живости глаз еще можно было судить о том, что немало гитар звучало в ее честь. К тому же она была вдовой нескольких мужей знатных родов и жила пристойно на доходы с отказанного ей имущества.
Помимо прочих славных качеств, отличалась она еще особенным сочувствием к несчастиям молодых девиц. Когда я поведала ей свои, то она приняла так близко к сердцу мои интересы, что осыпала Сендоно тысячами проклятий.
– Ах, эти собаки – мужчины! – воскликнула она таким тоном, точно и ей пришлось встретить на своем жизненном пути какого-нибудь эконома. – Ах, мерзавцы! И подумать только, что существуют такие обманщики, для которых провести женщину – одно удовольствие. Однако, дитя мое, – продолжала она, – меня утешает то, что, судя по вашим словам, вы ничем не связаны с этим бискайским клятвопреступником. Если ваш брак достаточно законен, чтоб служить для вас оправданием, то, с другой стороны, он достаточно незаконен, чтоб позволить вам вступить в лучший, если представится возможность.
Я выходила всякий день с Доротеей то в церковь, то навестить друзей, ибо это лучший способ быстро завести любовную интригу. Несколько кавалеров обратили на меня свое внимание. Нашлись и такие, которые пожелали пощупать почву. Они подсылали к моей старой хозяйке, но у одних не было денег на обзаведение, а другие не надели еще гражданской тоги [123] , что отбивало у меня всякую охоту выслушивать их: я уже знала, чем это пахнет.
Однажды Доротее и мне пришла фантазия посмотреть, как играют севильские комедианты. Они вывесили объявление, что пойдет «La famosa comedia – еl Embaxador de si mismo» [124] , сочинение Лопе де Вега Карпио.
Между актерками, выступавшими на сцене, я увидала одну из своих прежних подруг. То была Фенисия, веселая толстушка, которая служила в камеристках у Флоримонды и с которой ты не раз ужинал у Арсении. Я знала, что Фенисия уже свыше двух лет как покинула Мадрид, но не слыхала, чтоб она стала комедианткой. Мне не терпелось обнять ее, и пьеса поэтому казалась бесконечной. Впрочем, может статься, в этом были повинны и актеры, которые играли не достаточно хорошо или не достаточно плохо, чтоб меня позабавить. Ибо, признаюсь тебе, что, будучи хохотушкой, я одинаково веселюсь, гляжу ли я на хорошего или на самого бестолкового актера.
Наконец настал желанный момент, т. е. конец этой famosa comedia, и мы с вдовой отправились за кулисы, где застали Фенисию, которая кокетничала вовсю и жеманничала, слушая щебетание юного птенца, видимо увязнувшего в птичьем клее ее декламаторского искусства. Лишь только она увидала меня, как сейчас же милостиво отпустила своего поклонника и, направившись ко мне с распростертыми объятиями, осыпала меня всякими любезностями. Я же, со своей стороны, поцеловала ее от всего сердца. Мы выразили друг другу радость по поводу встречи, но так как ни время, ни место не благоприятствовали долгой беседе, то условились на следующий день переговорить у Фенисии более обстоятельно.
Болтовня – одна из самых непреодолимых женских страстей, а в особенности моя. Я не смогла сомкнуть глаз во всю ночь, так мне хотелось почесать языком с Фенисией и задавать ей вопрос за вопросом. Легко догадаться, что я не поленилась встать спозаранку, чтоб отправиться туда, куда она мне указала. Она жила вместе со всей труппой в меблированных комнатах. Я попросила служанку, попавшуюся мне при входе, указать комнату Фенисии, и она повела меня наверх в коридор, вдоль коего помещалось десять – двенадцать клетушек, отделенных одними только сосновыми перегородками и населенных веселой ватагой. Моя водительница постучала в одну из дверей, и мне отворила сама Фенисия, у которой язычок от долгого ожидания зудел не меньше, чем у меня. Не успели мы присесть, как принялись трещать вовсю. И тут началось состязание. Нам надо было переговорить о стольких предметах, что вопросы и ответы так и сыпались с беспримерной словоохотливостью.
После того как мы поведали друг другу свои похождения и рассказали про теперешнее состояние наших дел, Фенисия спросила меня о моих намерениях, «ибо, – сказала она, – нельзя сидеть сложа руки: девица в твоем возрасте должна приносить пользу обществу». Я отвечала ей, что решила, в ожидании лучшего, поступить в услужение к какой-нибудь знатной особе.
– Фи! – воскликнула моя приятельница. – И не думай об этом! Неужели, душечка, ты не чувствуешь омерзения к службе? Возможно ли, чтоб тебе не претило подчиняться чужой воле, угождать прихотям других, выслушивать брань – словом, быть рабой? Почему бы тебе не последовать моему примеру и не заделаться комедианткой? Нет более пристойного звания для умных людей без рода и достатка. Это нечто среднее между знатью и мещанством, вольное ремесло, свободное от тягостных приличий, принятых в обществе. Мы получаем свои доходы наличными деньгами с капитала, который хранится у публики. Живя постоянно среди радостей, мы тратим деньги так же легко, как добываем.
Театр, – продолжала она, – особенно благоприятствует женщинам. В то время как я жила у Флоримонды, – даже стыдно вспомнить об этом, – мне приходилось принимать ухаживания капельдинеров Принцева театра; ни один порядочный человек не обращал внимания на мою особу. А почему бы это? Оттого что я была не на виду. Повесь картину в тень – и никто ее не заметит. Но какая перемена, с тех пор как я взошла на свой пьедестал, т. е. на сцену! За мной бегает по пятам самая блестящая молодежь во всех городах, где мы бываем. Много приятностей есть для комедиантки в нашем ремесле. Если она добродетельна, т. е. не заводит больше одного любовника за раз, то все ее почитают. Люди превозносят ее скромность; а когда она меняет ухаживателя, то на нее смотрят, как на вдову, вторично выходящую замуж. Но если настоящая вдова вступит в третий брак, то все ее презирают: можно подумать, что она оскорбляет людскую щепетильность. Напротив, актерка как бы становится тем драгоценнее, чем больше у нее перебывает обожателей, а после сотого приключения она уже – королевское лакомство.
– Кому вы это говорите? – прервала я Фенисию. – Неужели вы полагаете, что мне не известны все эти преимущества? Я не раз думала о них и не скрою от тебя, что они весьма соблазнительны для девицы моего пошиба. К тому же я чувствую склонность к театру. Но этого мало; надо обладать талантом, а его у меня нет. Я несколько раз пыталась декламировать перед Арсенией отрывки из пьес; но она осталась мною недовольна, и это отвратило меня от актерского ремесла.
– Тебя нетрудно обескуражить, – продолжала Фенисия. – Разве ты не знаешь, что знаменитые актрисы обычно бывают завистливы? Несмотря на все свое высокомерие, они боятся, как бы какой-нибудь новичок их не затер. Наконец, я не стала бы полагаться в этом деле на Арсению, так как она не могла быть искренней. Вообще же скажу без всякой лести, что ты прямо рождена для театра. В тебе все естественно, у тебя непринужденные и грациозные движения, сладкий голос, прелестная грудь и к тому же приятнейшая рожица. Ах, плутовка, скольких кавалеров ты бы пленила, если б стала актрисой!
Она наговорила мне еще кучу соблазнительных вещей и заставила продекламировать несколько стихов, чтоб я сама могла судить о своих дарованиях в комедийном жанре. Прослушав меня, Фенисия пришла в еще больший восторг. Она наградила меня всяческими похвалами и превознесла выше всех мадридских актрис. После этого было бы непростительно с моей стороны сомневаться дольше в своих талантах. Арсения была заподозрена и уличена в зависти и недобросовестности. Мне пришлось согласиться с тем, что я замечательная исполнительница.
В этот момент явились двое комедиантов, и Фенисия заставила меня повторить те же стихи. Оба они пришли в своего рода экстаз, из которого пробудились только затем, чтоб осыпать меня похвалами. Думаю, что если б они состязались в том, кто из них троих лучше меня расхвалит, то не могли бы придумать больших гипербол. Скромность моя не устояла против стольких славословий. Я начала воображать, что действительно чего-нибудь стою: и вот разум мой обращен в сторону комедии.
– Итак, дорогая, – сказала я, – пусть будет по-твоему: я готова последовать твоему совету и поступить в труппу, если меня примут.
При этих словах моя приятельница обняла меня с восторгом, а ее собратья, казалось, обрадовались не меньше ее проявленному мною намерению. Мы уговорились, что я явлюсь в театр на следующий день поутру и покажу перед собравшейся труппой тот же образчик своего таланта.
Комедианты отнеслись ко мне еще благосклоннее, чем Фенисия, как только я прочитала в их присутствии каких-нибудь двадцать стихов. Они охотно приняли меня в свою труппу, после чего я перестала думать о чем бы то ни было, кроме своего первого выступления. Чтоб сделать его более блестящим, я истратила все деньги, оставшиеся от продажи кольца, и если их и не хватало на роскошный наряд, то все же мне удалось заменить великолепие изысканным вкусом.
Наконец я впервые вышла на сцену. Сколько аплодисментов! Сколько похвал! Я буду лишь скромна, если просто скажу тебе, что привела зрителей в восторг. Чтоб поверить этому, надо было быть свидетелем того шума, который я наделала в Севилье. Весь город говорил только обо мне, и в течение целых трех недель зрители толпами ходили в комедию. Благодаря этой новинке театр вернул себе публику, начинавшую было к нему охладевать. Словом, я очаровала всех своим выступлением. Но такой дебют был равносилен публичному объявлению, что я отдамся самому крупному и последнему наддатчику на торгах. Двадцать кавалеров всех возрастов и положений состязались между собой, кому взять меня на содержание. Если б я захотела следовать своей склонности, то выбрала бы самого молодого и пригожего; но мы, комедиантки, должны считаться только с корыстью и тщеславием, когда дело идет о том, чтоб устроить свое положение, – это театральный закон. Вот почему одержал верх дон Амбросио де Нисана, человек уже пожилой и невзрачный, но богатый, щедрый и один из могущественнейших вельмож Андалузии. Правда, я заставила его дорого заплатить за это. Он снял для меня прекрасный дом, роскошно меблировал его, приставил ко мне повара, двух лакеев, горничную и обещал на расходы две тысячи дукатов в месяц. К этому надо еще добавить богатые наряды и довольно много драгоценностей. Даже Арсении так не везло. Какая перемена фортуны! Разум мой был не в силах это выдержать. Я вдруг стала казаться сама себе совсем другой личностью. Не дивлюсь тому, что иные девушки быстро забывают безвестность и нищету, из которых извлек их каприз какого-нибудь сеньора. Признаюсь тебе чистосердечно: аплодисменты публики, расточаемые мне со всех сторон, лесть и страсть дона Амбросио возбудили во мне тщеславие, доходившее до чрезмерных пределов. Я стала смотреть на свой талант, как на некую дворянскую грамоту. У меня появились замашки знатной дамы, и, столь же скупясь на кокетливые взгляды, сколь охотно раньше их расточала, я решила не дарить своим вниманием никого, кроме герцогов, графов и маркизов.
Сеньор де Нисана приходил ко мне всякий вечер ужинать с несколькими друзьями. Со своей стороны я старалась пригласить самых забавных из наших актерок, и мы проводили большую часть ночи, веселясь и распивая вино. Я весьма пристрастилась к этой жизни, но она продолжалась всего полгода. Вельможи обычно бывают изменчивы; если б не это, то они были бы слишком обольстительны. Дон Амбросио покинул меня ради одной юной гренадской прелестницы, только что прибывшей в Севилью и обладавшей, помимо чар, еще умением их использовать. Но я огорчалась не более суток и заменила его двадцатидвухлетним кавалером, доном Луисом д’Алькасер [125] , с которым могли равняться красотой лишь немногие испанцы.
Ты хочешь спросить меня, – вполне резонно, – почему я взяла в любовники столь юного сеньора, зная, как рискованно связываться с такими обожателями. Но у дона Луиса не было ни отца, ни матери, и он уже вступил во владение своим состоянием, а кроме того, скажу тебе, что такого рода связи опасны только для девиц, находящихся в услужении, или для каких-нибудь жалких авантюристок. Женщины же нашей профессии, все равно что титулованные особы: мы не ответчицы за то действие, которое производят наши чары. Пусть страдают семейства, чьих наследников мы ощипываем.
Д’Алькасер и я столь сильно пленили друг друга, что, мнится мне, не было на свете любви более пламенной, чем наша. Мы оба были так влюблены, что казалось, будто нас околдовали. Те, кто знал о нашей привязанности, почитали нас самыми счастливыми людьми в мире, а между тем мы являлись, быть может, самыми несчастными. Хотя дон Луис и был весьма хорош собой, но зато так ревнив, что непрестанно тиранил меня несправедливыми подозрениями. Угождая его слабости, я тщетно старалась сдерживаться и не позволяла себе даже взглянуть на мужчину; но его недоверчивость, искусная в приписывании мне всякого рода грехов, делала все мои старания бесплодными. Когда я выступала на сцене, то ему казалось, будто я бросаю заигрывающие взгляды на каких-нибудь молодых кавалеров, и он осыпал меня упреками; словом, даже нежнейшие наши беседы всегда прерывались ссорами. Не было никакой возможности выносить это долее: чаша нашего терпения переполнилась, и мы расстались миролюбиво. Поверишь ли, но последний день нашей связи был для нас самым счастливым. Устав оба от перенесенных мук, мы дали на прощание волю своей радости, точно два несчастных пленника, обретших свободу после жестокого рабства.
С тех пор я всячески остерегаюсь любви и избегаю привязанности, которая смутила бы мой покой. Нам, комедианткам, не пристало вздыхать, как прочим, и мы не должны сами испытывать страстей, над которыми насмехаемся перед публикой.
В это время я задала немалую работу Славе: она распространяла повсюду, что я бесподобная актриса. Поверя сей богине, гренадские комедианты написали мне письмо, предлагая вступить в их труппу, и, дабы я не презрела этого предложения, прислали мне счет своих каждодневных расходов и список абонементов [126] , из чего я усмотрела, что дело это было для меня выгодным. А потому я согласилась, хотя в глубине души мне было жаль расстаться с Фенисией и Доротеей, которых я любила так, как только женщина способна любить другую. Первую из них я оставила в Севилье, в то время как она занималась расплавкой столового серебра одного ювелиришки, которого тщеславие заставило завести себе метрессу из комедианток. Я забыла тебе сказать, что, когда я поступила в театр, мне вздумалось называться не Лаурой, а Эстрельей, и под этим именем я отправилась в Гренаду.
Я начала выступать там с неменьшим успехом, чем в Севилье, и вскоре оказалась окруженной толпой вздыхателей. Не желая поощрять никого без веских данных, я держала себя так строго, что пустила всем пыль в глаза. Однако, опасаясь, как бы самой не остаться в дурах при таком поведении, к тому же не свойственном моей природе, я было собралась внять мольбам одного молодого аудитора из мещан, который, кичась своей должностью, хорошим столом и выездом, корчил из себя сеньора. Но тут я впервые увидела маркиза де Мариальва. Этот португальский вельможа, из любопытства объезжавший Испанию, остановился по дороге в Гренаде. Он зашел в комедию. Я в тот день не играла. Маркиз весьма внимательно рассматривал выступавших актрис, и одна из них ему приглянулась. Он познакомился с ней на следующий же день и хотел было оформить это дело, когда я появилась в театре. Моя красота и кокетливость молниеносно повернули флюгер, и португалец оказался у моих ног. Но должна сказать тебе правду: мне было известно, что моя товарка понравилась этому сеньору, а потому я приложила все усилия, чтобы его отбить, и это мне удалось. Я знаю, что она на меня в обиде, но ничего не поделаешь. Она должна была бы рассудить, что такой поступок вполне естественен для женщины и что даже лучшие подруги не ставят себе этого в упрек.
Глава VIII О приеме, оказанном Жиль Бласу гренадскими комедиантами, и о встрече его в артистической со старым знакомым
Не успела Лаура кончить свое повествование, как ее соседка, старая комедиантка, зашла за ней, чтоб отправиться вместе в театр. Эта почтенная героиня подмостков могла бы отлично сыграть богиню Котитто [127] . Моя «сестра» не преминула представить своего «брата» этой допотопной особе, после чего с обеих сторон последовали превеликие учтивости.
Я оставил их вдвоем, сказав вдове эконома, что увижусь с ней в театре, как только справлюсь с переноской своих пожитков к маркизу де Мариальва, жилище коего она мне указала. Зайдя сперва в нанятую мною комнату, я рассчитался с хозяйкой, а затем отправился с человеком, несшим мой чемодан, в гостиницу, где жил мой новый патрон. У крыльца попался мне его управитель, который спросил меня, не брат ли я госпожи Эстрельи, на что получил утвердительный ответ.
– Добро пожаловать, сеньор кавальеро, – сказал он. – Маркиз де Мариальва, у которого я имею честь состоять в управителях, велел мне оказать вам любезный прием. Для вас отвели комнату, и, с вашего разрешения, я провожу вас туда, чтоб показать дорогу.
Он повел меня на верхний этаж в крошечную клетушку, где еле помещались довольно узкая постель, шкап и два стула: это и были мои апартаменты.
– Вам будет здесь не очень просторно, – заявил мой провожатый, – но зато я обещаю предоставить вам в Лиссабоне роскошное помещение.
Заперев чемодан в шкап, я сунул ключ в карман и спросил, в котором часу ужинают. Он ответил мне, что португальский сеньор не столуется в гостинице и что каждый слуга получает ежемесячно известную сумму на харчи. Я задал еще несколько вопросов и убедился, что люди маркиза были пресчастливые бездельники. После этой короткой беседы я покинул управителя и отправился к Лауре, размышляя не без удовольствия о том, что сулило мне мое новое место.
Лишь только я подошел к театру и назвался братом Эстрельи, как передо мной распахнулись все двери. Стоило посмотреть, как распинались привратники, чтоб очистить мне дорогу, точно я был одним из могущественнейших сеньоров в Гренаде. Все капельдинеры, все сборщики входных и выходных ярлыков [128] , встречавшиеся на моем пути, сгибались передо мной в три погибели. Но особенно хотелось бы мне рассказать читателю про почетный прием, который, как это ни смешно, оказали мне в артистической, где я застал всю группу одетой и уже готовой к выступлению. Узнав от Лауры, кто я такой, комедианты и комедиантки так и облепили меня. Мужчины сжимали меня в объятиях, а женщины, прикладываясь к моему лицу накрашенными щеками, покрывали его красными и белыми пятнами. Все спешили приветствовать меня, а потому говорили разом. Я не успевал им отвечать, но меня выручила моя сестрица, опытный язычок которой помог мне исполнить свой долг перед каждым.
Я, впрочем, не отделался одними объятиями актеров и актерок. Мне пришлось выдержать еще учтивости декоратора, скрипачей, суфлера, счикателя и подсчикателя свеч, наконец, всех театральных служителей, которые, проведав о моем посещении, сбежались, чтоб поглядеть на меня. Можно было подумать, что все эти люди были подкидышами, никогда не видавшими ни одного брата.
Между тем спектакль начался. Тогда дворяне, находившиеся в артистической, отправились смотреть пьесу, а я, как свой человек, продолжал калякать с актерами, не занятыми на сцене. Среди них был один, которого величали Мелькиором. Имя это поразило меня. Я внимательно поглядел на его носителя, и мне показалось, что я уже где-то видел этого актера. Наконец я вспомнил и узнал в нем Мелькиора Сапату, того нищего странствующего комедианта, который, как я уже передавал в первом томе моего жизнеописания, макал хлебные корки в источник.
Я тотчас же отвел его в сторону и сказал ему:
– Если не ошибаюсь, вы тот самый сеньор Сапата, с которым я имел честь однажды завтракать на берегу прозрачного ручья между Вальядолидом и Сеговией. Меня сопровождал тогда один цирюльник. У нас были с собой кой-какие припасы, которые мы присоединили к вашим, соорудив таким образом маленький завтрак, сопровождавшийся многими приятными беседами.
Сапата призадумался на несколько мгновений, а затем отмечал:
– Вы рассказываете про обстоятельство, которое мне нетрудно восстановить в памяти. Я возвращался тогда в Самору после своего дебюта в Мадриде. Помню даже, что дела мои были неважны.
– И я это помню, – возразил я, – тем более, что ваш камзол был подбит театральными афишами. Я не забыл также, что вы жаловались тогда на чрезмерную добродетель вашей жены.
– О, теперь я уже не жалуюсь! – поспешно воскликнул Сапата. – Слава богу, моя дражайшая половина совершенно исправилась, так что мой камзол подбит гораздо пристойнее.
Я было собрался поздравить его с вразумлением супруги, но тут он был вынужден покинуть меня, чтоб выступить на сцене. Полюбопытствовав взглянуть на его жену, я подошел к одному комедианту и попросил его показать мне ее. Он исполнил мою просьбу, сказав:
– Вот она; это – Нарсиса, самая хорошенькая из наших дам после вашей сестрицы.
Я решил, что она должна быть той самой актрисой, которую облюбовал маркиз де Мариальва до встречи с Эстрельей, и моя догадка оказалась правильной.
По окончании представления я проводил Лауру домой и застал там несколько поваров, готовивших парадный ужин.
– Ты можешь здесь поужинать, – сказала она.
– И не подумаю, – отвечал я, – маркиз, вероятно, захочет остаться с вами наедине.
– Вовсе нет, – возразила Лаура, – он придет с двумя друзьями и одним из наших комедиантов. От тебя зависит быть шестым. Тебе известно, что у артисток секретари пользуются привилегией кушать вместе со своими господами.
– Это так, – заметил я, – но не рано ли мне становиться на одну ногу с любимыми секретарями? Я должен сперва исполнить какое-нибудь интимное поручение, чтоб заслужить такое почетное право.
Сказав это, я вышел от Лауры и направился в свой трактир, где рассчитывал столоваться ежедневно, так как мой господин не кормил дома своих слуг.
Глава IX О необычайной личности, с которой Жиль Блас ужинал в тот вечер, и о том, что произошло между ними
Я увидал в углу залы старика, смахивавшего на монаха. Он был одет в серую сермягу и ужинал в одиночестве. Любопытство побудило меня сесть напротив него. Я вежливо поклонился ему, на что он ответил мне тем же. Получив свою порцию, я принялся молча уплетать ее с большим аппетитом и, частенько поглядывая на своего визави, заметил, что он не отрывает от меня глаз. Наконец мне надоело это упорное разглядывание, и я обратился к старику со следующими словами:
– Скажите, отче, не встречались ли мы с вами случайно где-нибудь в другом месте? Вы так пристально в меня всматриваетесь, точно я вам уже несколько знаком.
Он отвечал серьезным тоном:
– Я гляжу на вас, потому что меня поразило удивительное разнообразие приключений, отмеченное в чертах вашего лица.
– Вот как! – сказал я насмешливо. – Не изволит ли ваше преподобие увлекаться метопоскопией [129] ?
– Могу похвалиться, – возразил он, – что владею в совершенстве этой наукой и что мои предсказания всегда сбывались. Я также знаю хиромантию и смею вас заверить, что, сопоставляя наблюдения над рукой и лицом человека, безошибочно предвещаю будущее.
Хотя старец походил по внешности на разумного человека, однако же показался мне после этих слов таким безумцем, что я, не удержавшись, расхохотался ему прямо в лицо. Но вместо того чтоб обидеться на мою невежливость, он улыбнулся. Окинув залу взглядом и убедившись, что нас никто не подслушивает, он продолжал:
– Не удивляюсь вашему предубеждению против этих двух наук, которые слывут у нас шарлатанскими. Они требуют длительного и тягостного изучения, а это отпугивает ученых, которые отрекаются от них и стараются их ославить, досадуя на то, что они им не даются. Что касается меня, то я не убоялся ни окружающего их тумана, ни трудностей, непрестанно встречающихся при поисках химических секретов и при опытах дивного искусства превращать металлы в золото.
– Но я забываю, – продолжал он, спохватившись, – что обращаюсь к молодому кавалеру, которому мои речи действительно должны казаться бреднями. Образчик моего искусства лучше всяких слов заставит вас отнестись ко мне благосклоннее.
Сказав это, он извлек из кармана склянку с алой жидкостью и снова обратился ко мне:
– Вот эликсир, составленный мною сегодня утром с помощью перегонки соков нескольких растений, ибо я посвятил, подобно Демокриту [130] , почти всю свою жизнь изысканию свойств целебных трав и минералов. Вы сейчас испытаете его действие. Вино, которое мы пьем с вами за ужином, отвратительно; оно станет превосходным.
Старик тут же налил капли своего эликсира в мою бутылку, отчего вино сделалось лучше самых тонких вин, которые распивают в Испании.
Чудеса поражают воображение, а когда оно разыграется, то человек перестает руководствоваться разумом. Очарованный поразительным секретом и убежденный в сверхдьявольских способностях его изобретателя, я воскликнул восторженно:
– Ради бога, отче, простите меня, если я сперва принял вас за старого безумца! Отдаю вам теперь полную справедливость. Я и без дальнейших доказательств верю, что вы можете, если захотите, превратить железный брус в слиток золота. Сколь я был бы счастлив, если б постиг эту дивную науку!
– Упаси вас господь! – прервал меня старец с глубоким вздохом. – Вы не ведаете, сын мой, о чем мечтаете. Вместо того чтоб завидовать, вы лучше пожалейте меня, ибо я затратил много трудов для того, чтоб сделать самого себя несчастным. Я нахожусь в постоянной тревоге и боюсь, как бы не проведали о моей тайне и не заточили меня на веки вечные в награду за все мои страдания. Опасаясь этого, я веду бродячий образ жизни, то переряженный патером или монахом, то кавалером или крестьянином. Можно ли назвать преимуществом умение делать золото, купленное столь дорогой ценой, и не является ли оно скорее мукой для тех, кто не может пользоваться им спокойно?
– Вы рассуждаете, по-моему, весьма здраво, – сказал я тогда философу. – Ничто не может сравниться со спокойствием. Вы возбудили во мне отвращение к философскому камню, а потому я вполне удовольствуюсь, если вы не откажетесь предсказать мне мою судьбу.
– Весьма охотно, дитя мое, – возразил он. – Я уже исследовал ваше лицо. Теперь покажите ладонь.
Я протянул ему руку с полным доверием, за что меня, наверно, осудят некоторые читатели, которые, быть может, поступили бы точно так же на моем месте. Он внимательно осмотрел ее и затем воскликнул с восторгом:
– Ого, сколько переходов от горя к радости и от радости к горю! Какая курьезная чехарда злоключений и благополучий. Но вы уже испытали большую часть превратностей фортуны. Впредь вы избавлены от всех несчастий, и один благожелательный сеньор устроит вашу судьбу, которой не будут уже грозить никакие перемены.
Заверив меня, что я могу положиться на его пророчество, он распрощался со мной и покинул трактир, оставив меня погруженным в раздумье по поводу того, что мне довелось от него услышать. Я не сомневался, что пресловутым благожелательным сеньором окажется не кто иной, как маркиз де Мариальва, а поэтому считал предсказанное вполне вероятным. Но будь оно даже совершенно несуразным, это не помешало бы мне поверить мнимому монаху, ибо он совершенно заворожил меня своим эликсиром. Желая, со своей стороны, способствовать осуществлению того счастья, которое он мне посулил, я решил служить маркизу еще с большим рачением, чем всем своим прежним господам. Приняв такое намерение, я с превеликой радостью вернулся в нашу гостиницу; никогда еще ни одна женщина не выходила от ворожеи преисполненной таким довольством.
Глава X О поручении, которое маркиз де Мариальва дал Жиль Бласу, и о том, как выполнил поручение этот верный секретарь
Маркиз еще не изволил вернуться от своей комедиантки, и я застал в его покоях камердинеров, которые в ожидании его возвращения забавлялись игрой в приму. Я познакомился с ними, и мы скоротали время в шутках до двух часов пополуночи, пока не приехал наш барин. Он несколько удивился, увидев меня, и сказал мне добродушным тоном, свидетельствовавшим о том, что он остался весьма доволен проведенным им вечером:
– Как, Жиль Блас, вы еще не спите?
Я отвечал, что хотел сперва спросить, нет ли каких приказаний.
– Возможно, – заметил он, – что я завтра утром дам вам одно поручение, но вы еще успеете тогда узнать мои намерения. Ложитесь спать и знайте, что я освобождаю вас от обязанности дожидаться меня по вечерам: мне нужны только камердинеры.
Обрадовавшись такому распоряжению, которое избавляло меня от дежурств, иногда казавшихся мне тягостными, я покинул апартаменты маркиза и отправился на свой чердак, где улегся в постель. Но, не будучи в состоянии уснуть, я последовал совету Пифагора [131] , который рекомендует вспоминать по вечерам то, что мы делали в течение дня, дабы хвалить себя за хорошие поступки и хулить за дурные.
Совесть моя была не настолько чиста, чтоб я был доволен собой. Меня мучило содействие, оказанное мной Лауриной проделке. Тщетно оправдывал я себя тем, что вежливость не позволяла мне уличить во лжи особу, ратовавшую только о моем благе, и что я некоторым образом был вынужден стать соучастником плутовства; но, неудовлетворенный этими извинениями, я отвечал сам себе, что мне не следует продолжать эту плутню и что я буду бесстыднейшим человеком, если останусь служить у сеньора, которому так дурно заплатил за его доверие ко мне. Наконец, по строгом рассмотрении дела, я пришел к убеждению, что если я не мошенник, то во всяком случае мало чем от него отличаюсь.
Перейдя затем к последствиям, я решил, что веду опасную игру, обманывая знатного сеньора, который, в наказание за мои грехи, рано или поздно проведает о нашей проделке. Эти разумные рассуждения вселили в меня некоторый страх, но вскоре мысли об удовольствиях и наживе рассеяли его. Впрочем, одних предсказаний владельца эликсира было достаточно, чтоб меня успокоить. А потому я погрузился в приятные мечты и занялся арифметическими вычислениями, высчитывая мысленно сумму, которую я скоплю из своего оклада после десятилетней службы. Я присоединил сюда наградные, которые барин мне пожалует, и, сообразуя их с его щедрым нравом или, вернее, с моими желаниями, проявил такую – с позволения сказать – необузданную фантазию, что мои богатства оказались несметными. Такое изобилие благ мало-помалу усыпило меня, и я заснул, строя воздушные замки.
На следующий день я встал около восьми часов, чтоб отправиться к патрону за приказаниями, но, открыв свою дверь, был крайне изумлен, когда увидал его перед собой в шлафроке и ночном колпаке. Он был один.
– Жиль Блас, – сказал мне маркиз, – покидая вчера вечером твою сестру, я обещал провести с ней сегодняшнее утро; но важное дело мешает мне сдержать свое слово. Пойди к ней и скажи, что я весьма раздосадован этой помехой, но что я обязательно буду ужинать у нее вечером. Это еще не все, – промолвил он, вручая мне кошелек и маленький шагреневый футляр, усыпанный брильянтами, – отнеси ей мой портрет и возьми себе этот кошелек с пятьюдесятью пистолями, как знак расположения, которое я уже к тебе питаю.
Я взял одной рукой портрет, а другой кошелек, столь мало мною заслуженный, и немедля помчался к Лауре, говоря самому себе в порыве чрезмерной радости:
«Превосходно! Пророчество, видимо, сбывается. Какое счастье быть братцем пригожей и любвеобильной девицы. Жаль только, что это приносит больше выгоды и удовольствия, чем чести».
В противоположность особам своего ремесла, Лаура имела обыкновение вставать спозаранку. Я застал ее за уборным столиком, где она в ожидании своего португальца прибавляла к своей естественной красоте все вспомогательные чары, изобретенные искусством кокеток.
– Любезная Эстрелья, магнит чужеземцев, – сказал я входя, – отныне ничто не препятствует мне кушать за одним столом с моим господином, ибо он почтил меня поручением, которое дает мне эту привилегию и для выполнения коего я сюда пришел. Планы сеньора маркиза расстроились, и он лишен сегодня утром удовольствия беседовать с вами, но для вашего утешения он отужинает здесь вечером и посылает вам свой портрет, к коему, сдается мне, приложено нечто еще более утешительное.
Я тут же вручил Лауре футляр, и созерцание великолепной игры брильянтов, которыми он был украшен, доставило ей немалое удовольствие. Она открыла его, потом, небрежно взглянув на живопись, захлопнула и заговорила о драгоценных камнях. Похвалив их красоту, она сказала мне с улыбкой:
– Да, такие портреты театральные дивы ценят больше оригиналов.
Затем я сообщил ей, что, передавая мне это подношение, щедрый португалец наградил меня кошельком с пятьюдесятью пистолями.
– Поздравляю, тебя, – сказала она. – Этот сеньор начинает с того, чем другие даже редко кончают.
На это я ответил ей:
– Вам, моя обожаемая, обязан я этим подарком. Маркиз пожаловал мне его только благодаря нашему родству.
– Мне хотелось бы, – промолвила она, – чтоб он жаловал тебя так всякий день. Не могу тебе выразить, сколь ты мне дорог! С первой нашей встречи я привязалась к тебе такими прочными узами, что время не смогло их разрушить. После того как мы расстались в Мадриде, я не отчаялась разыскать тебя, и когда ты вчера явился, то встретилась с тобой, как с человеком, который неизбежно должен был ко мне вернуться. Словом, мой милый, небо предназначило нас друг для друга. Ты будешь моим мужем, но сперва нам следует разбогатеть. Осторожность требует, чтоб мы с этого начали. Мне нужны еще три-четыре любовных интриги, и твое благополучие будет обеспечено.
Я вежливо поблагодарил ее за хлопоты, которые она готова была предпринять ради меня, и мы незаметно проболтали до полудня. Затем я удалился, чтоб доложить своему господину, как приняла его фея присланный им гостинец. Хотя Лаура не снабдила меня в этом отношении никакими инструкциями, я не преминул сочинить по дороге изрядный комплимент, который собирался передать маркизу от ее имени. Но это был потерянный труд, ибо в гостинице мне сказали, что мой господин только что вышел, и судьбе было угодно, чтоб я больше никогда его не видал, как читатель узнает из следующей главы.
Глава XI О том, как Жиль Блас получил известие, поразившее его подобно громовому удару
Я направился в свой трактир, где, встретив двух приятных собеседников, пообедал и просидел с ними за столом до начала комедии. Затем мы расстались. Они пошли по своим делам, а я побрел в театр. Замечу мимоходом, что у меня были все основания для хорошего настроения: моя беседа с кавалерами носила самый веселый характер, а фортуна улыбалась мне как никогда. Между тем меня разбирала тоска, от которой я не мог отделаться. Пусть говорят после этого, что человек не предчувствует угрожающих ему несчастий.
Как только я заглянул в артистическую, ко мне подошел Мелькиор Сапата и шепотом пригласил следовать за собой. Он отвел меня в один из уединенных уголков театра и обратился ко мне с такою речью:
– Сеньор кавальеро, считаю своим долгом сделать вам весьма важное сообщение. Вы, конечно, знаете, что маркиз де Мариальва сперва увлекся моей супругой Нарсисой; он даже назначил день, чтоб отведать моего пирога, но хитрая Эстрелья расстроила это свидание и сама пленила португальского сеньора. Вы понимаете, что комедиантка не выпустит такой добычи с легким сердцем. Моя жена не может этого простить и способна на любую месть. На ваше несчастье, ей как раз представился хороший случай. Вчера, как вы помните, наши театральные служители сбежались посмотреть на вас. Подсчикатель свеч заявил кой-кому из труппы, что он вас узнал и что вы такой же брат Эстрельи, как он сам.
Сплетня, – продолжал Мелькиор, – дошла сегодня до ушей Нарсисы, которая не преминула порасспросить ее автора, а тот подтвердил ей сказанное. По его словам, он знавал вас в то время, когда вы были лакеем у Арсении, а Эстрелья под именем Лауры служила у нее же в Мадриде. Моя жена, обрадованная этим открытием, уведомит обо всем маркиза де Мариальва, который должен сегодня вечером быть в театре. Примите это к сведению, и если вы на самом деле не брат Эстрельи, то советую вам по дружбе, а также в память нашего старинного знакомства, позаботиться о своей безопасности. Нарсиса, которая требует только одной жертвы, позволила мне уведомить вас об этом, дабы вы успели поспешным бегством предупредить могущие произойти роковые события.
Ему не к чему было распространяться далее на эту тему. Я поблагодарил за предупреждение гистриона, легко догадавшегося по моему испуганному виду, что я не стану уличать во лжи подсчикателя. И действительно, у меня не было ни малейшего желания нагло упорствовать. Я даже не подумал зайти на прощание к Лауре из опасения, как бы она не заставила меня разыграть нахала. Не могло быть сомнений, что такая прекрасная комедиантка, как моя сестрица, сумеет выпутаться из затруднительного положения, но для себя я предвидел неминуемую кару и не испытывал такой влюбленности, чтоб презреть опасность. Все мои помыслы были направлены только на то, чтоб убежать со своими пенатами, т. е. пожитками. Я исчез из гостиницы в мгновение ока и распорядился молниеносно вынести и переправить свой чемодан к погонщику мулов, который должен был в три часа поутру отправиться в Толедо. Мне хотелось тотчас же очутиться у графа Полана, дом которого казался мне единственным надежным убежищем. Но до него было еще далеко, и я с трепетом думал о том, что мне предстоит провести немало времени в этом городе, где, быть может, меня начнут разыскивать в ту же ночь.
Тем не менее я отправился ужинать в свой трактир, хотя испытывал не меньшее беспокойство, чем должник, знающий, что альгвасил гонится за ним по пятам. Не думаю, чтоб съеденная мной в этот вечер пища дала надлежащий питательный сок моему желудку. Став жалкой игрушкой страха, я вглядывался во всех входящих и дрожал от ужаса всякий раз, как обнаруживал какую-нибудь подозрительную физиономию, каковое не редкость в таких местах. Отужинав в непрестанной тревоге, я встал из-за стола и вернулся к погонщику, где улегся на свежей соломе в ожидании отъезда.
Смею сказать, что в эту ночь терпение мое подверглось тяжелому испытанию. Меня осаждали тысячи неприятных мыслей. Всякий раз, как мне удавалось вздремнуть, я видел взбешенного маркиза, который полосовал прекрасное лицо Лауры и производил в ее жилище полный разгром или приказывал своим челядинцам бить меня палками до смерти. Тут я просыпался, и пробуждение, обычно столь приятное после кошмара, становилось для меня мучительнее, чем самый сон.
К счастью, погонщик избавил меня от этого тягостного состояния, объявив, что мулы поданы. Я тотчас же вскочил на ноги и, благодарение богу, выехал наконец из города, навсегда излечившись от любви к Лауре и от хиромантии. По мере того как мы удалялись от Гренады, у меня становилось спокойнее на душе. Я вступил в беседу с погонщиком, хохотал по поводу нескольких забавных историй, которые он мне рассказал, и незаметно утерял всякий страх. В Убеде, где мы ночевали после первого перегона, я заснул мирным сном, а на четвертый день мы прибыли в Толедо.
Первым делом я спросил, где живет граф Полан, и отправился к нему в полной уверенности, что он не позволит мне остановиться нигде, кроме как у него. Но счет сей сделан был без хозяина. В палатах оказался только привратник, сообщивший мне, что его господин выехал накануне в замок Лейва, так как оттуда пришло известие об опасной болезни Серафины.
Я этого не ожидал. Отсутствие графа несколько омрачило мое пребывание в Толедо и побудило меня переменить свое намерение. До Мадрида было недалеко, а потому я решил отправиться туда. Мне казалось, что я сумею сделать карьеру при дворе, где для этого, как мне говорили, вовсе не требуется быть непременно гением. На следующий день я воспользовался лошадью, возвращавшейся порожняком, и таким способом добрался до столицы Испании. Меня влекла туда сама фортуна, предназначавшая мне более важные роли, чем те, которыми она до сих пор меня наделяла.
Глава XII Жиль Блас останавливается в меблированных комнатах и знакомится с капитаном Чинчилья. Что за человек был сей офицер и какое дело привело его в Мадрид
По приезде своем в Мадрид я тотчас же пристал в меблированных комнатах, где в числе прочих постояльцев жил один старый капитан, приехавший с окраин Новой Кастилии, чтоб хлопотать при дворе о пенсии, которую он, по его мнению, вполне заслужил. Его звали дон Анибал де Чинчилья. Увидав его впервые, я даже пришел в некоторое изумление. Это был человек лет шестидесяти, гигантского роста, но исключительной худобы. Он носил густые и закрученные вверх усы, которые доходили ему с обеих сторон до самых висков. У него не только не хватало руки и ноги, но, кроме того, широкая повязка из зеленой тафты прикрывала ему недостающий глаз, а лицо в нескольких местах казалось покрыто шрамами. В остальном же капитан ничем не отличался от прочих людей и мог сойти не только за рассудительного, но и за весьма серьезного человека. Он строго придерживался кодекса морали и был особенно щепетилен в вопросах чести.
После двух-трех бесед Чинчилья почтил меня своим доверием. Вскоре я был в курсе всех его дел. Он рассказал мне, при каких обстоятельствах потерял глаз в Неаполе, руку в Ломбардии и ногу в Нидерландах. Больше всего я дивился тому, что, повествуя о баталиях и осадах, он не позволял себе никакого фанфаронства, ни малейшего хвастовства, хотя, видит бог, я охотно простил бы ему, если б в возмещение за утерянную половину тела он стал восхвалять ту, которая ему осталась. Далеко не все офицеры, возвращающиеся с войны целыми и невредимыми, бывают такими скромниками.
По его словам, он особенно тяготился тем, что во время походов прожил крупное состояние и принужден был существовать на доход в сто дукатов, едва хватавший на завивку усов, оплату квартиры и на переписку челобитных.
– Ибо, сеньор, кавальеро, – добавил он, пожимая плечами, – видит бог, я подаю их каждый день, но никто не обращает на них ни малейшего внимания. Можно подумать, что мы побились об заклад с первым министром, кому из нас скорее надоест: мне ли подавать или ему принимать мои челобитные. Я также имею честь зачастую вручать оные королю; но каков слуга, таков и барин, а тем временем мой замок Чинчилья превращается в развалины, так как мне не на что его чинить.
– Никогда не надо отчаиваться, – отвечал я на это капитану. – Вы знаете, что обычно приходится немного повременить, когда добиваешься высочайших милостей. Возможно однако, что недалек час, когда вам сторицей воздастся за все ваши труды и старания.
– Не смею льстить себя такой надеждой, – возразил Анибал. – Не прошло еще трех дней, как я беседовал с одним из секретарей министра, и если его послушать, то мне необходимо запастись терпением.
– А что он сказал вам, сеньор капитан? – спросил я. – Неужели вы, по его мнению, недостойны награды за понесенные вами увечья?
– Рассудите сами, – отвечал Чинчилья. – Этот секретарь заявил мне без обиняков: «Сеньор идальго, не старайтесь превозносить свое усердие и свою преданность; рискуя жизнью за родину, вы только исполнили свой долг. Слава, сопровождающая подвиги доблести, является сама по себе достойной наградой и должна доставлять удовлетворение, в особенности испанцу. А потому перестаньте заблуждаться и рассматривать, как чей-то долг, пенсию, о которой вы хлопочете. Если вам ее пожалуют, то вы будете обязаны этой милостью исключительно великодушию нашего короля, которому угодно почитать себя в долгу перед теми подданными, кто служил государству верой и правдой». Из сего, – добавил капитан, – можете усмотреть, что я, чего доброго, еще сам в долгу перед родиной и что мне придется уехать отсюда с тем, с чем я приехал.
Невозможно равнодушно отнестись к порядочному человеку, когда видишь, что он в нужде. Я убеждал капитана не терять бодрости и предложил ему переписывать безвозмездно его челобитные. Не довольствуясь этим, я предоставил в его распоряжение свой кошелек и заклинал его взять оттуда, сколько ему потребуется. Но он был не из тех людей, которые в таких случаях хватаются за деньги, не дожидаясь вторичного приглашения. Напротив, выказав себя крайне щепетильным в этих делах, капитан гордо поблагодарил меня за мою предупредительность. Затем он поведал мне, что, не желая ни у кого одолжаться, он постепенно приучил себя довольствоваться столь малым, что даже самого ничтожного количества пищи было достаточно, чтоб его насытить. Это оказалось правдой: он питался исключительно чесноком и луком, а потому от него осталась только кожа да кости. Желая избежать свидетелей, он обычно запирался для этих скудных трапез в своей комнате. Все же мне удалось в конце концов упросить его, чтоб мы обедали и ужинали вместе, и, пустившись из сочувствия к нему на хитрость, я обманул его гордость, заказав гораздо больше мяса и вина, чем мне самому требовалось, и усиленно уговаривая его отведать и того и другого. Сперва он церемонился, но в конце концов уступил моим настояниям, после чего, постепенно осмелев, помог мне сам очистить блюдо и опорожнить бутылку.
Выпив четыре-пять стаканов вина и ублажив свой желудок хорошей пищей, он сказал, повеселев:
– Вы великий соблазнитель, сеньор Жиль Блас, и заставляете меня делать все, что вам угодно. У вас такие обходительные манеры, что я уже больше не боюсь злоупотребить вашим великодушием.
Мой капитан, казалось, был в ту минуту настолько далек от своей щепетильности, что если б я пожелал воспользоваться моментом и снова предложить ему свой кошелек, то он, вероятно, не отказался бы. Но я не подверг его этому испытанию и удовольствовался тем, что сделал его своим сотрапезником и взялся не только переписывать, но и составлять вместе с ним его челобитные. Наловчившись в переписке проповедей, я научился гладко строить фразы, и сам стал чем-то вроде сочинителя. Старый служака, со своей стороны, мнил себя великим мастером по письменной части, так что, соревнуясь при совместной работе, мы составляли образчики витийства, достойные знаменитейших саламанкских профессоров. Но мы тщетно истощали свой дух, рассыпая по челобитным цветы красноречия: это было, как говорится, равносильно тому, чтоб сеять семя при дороге [132] . Как мы ни изловчались, выставляя в должном свете заслуги дона Анибала, двор не обращал на это никакого внимания, что отнюдь не поощряло старого инвалида отзываться с похвалой об офицерах, разоряющихся на военной службе. Под влиянием дурного настроения он проклинал свою судьбу и посылал ко всем чертям Неаполь, Ломбардию и Нидерланды.
В довершение обиды случилось как-то, что поэт, представленный герцогом Альбой, прочитал в присутствии короля сонет на рождение инфанты и был пожалован, как бы на зло капитану, пенсией в пятьсот дукатов. Мой искалеченный капитан, пожалуй, сошел бы от этого с ума, если б я не постарался его успокоить.
– Что с вами? – спросил я, видя, что он вне себя. – Тут нет ничего такого, что должно было бы вас возмущать. Разве поэты не владеют с незапамятных времен даром превращать государей в данников их музы? Нет такой коронованной особы, у которой не было бы нескольких таких пенсионеров. И между нами говоря, такого рода пенсии, редко забываемые грядущими поколениями, увековечивают щедрость монархов, тогда как другие раздаваемые ими награждения зачастую ничего не прибавляют к их славе. Сколько наград роздал Август, сколько пенсий, о которых мы ничего не знаем! Но даже самые отдаленные потомки будут помнить так же твердо, как мы, что этот император пожаловал Виргилию свыше двухсот тысяч эскудо.
Но как я ни убеждал его, плоды, пожатые стихоплетом от его сонета, легли свинцовым комом на желудок дона Анибала, и, не будучи в состоянии этого переварить, он решил бросить хлопоты. Все же ему хотелось перед отъездом сделать еще одну последнюю попытку, и он подал челобитную герцогу Лерме [133] . С этой целью мы вдвоем отправились к первому министру и встретили у него молодого человека, который, поклонившись капитану, сказал ему приветливо:
– Вас ли я вижу, мой дорогой барин? Какое дело привело вас к их светлости? Если вам нужен человек, пользующийся влиянием, то прошу вас, не стесняйтесь; я весь к вашим услугам.
– Как, Педрильо! – воскликнул офицер. – Судя по вашим словам, выходит, что вы важная шишка в этом доме?
– Во всяком случае, – возразил молодой человек, – я достаточно влиятелен, чтоб оказать одолжение такому достойному идальго, как вы.
– Коли так, – промолвил капитан улыбаясь, – то я прибегну к вашему покровительству.
– Готов вам его оказать, – отвечал Педрильо. – Соблаговолите только сказать мне, о чем идет речь, и обещаю вам, что с моей помощью вы выжмете из министра все, что захотите.
Не успели мы изложить этому услужливому малому обстоятельства нашего дела, как он осведомился, где живет дон Анибал, а затем, посулив завтра же дать нам ответ, исчез, не сообщив ни того, что именно он собирается предпринять, ни состоит ли вообще на службе у герцога Лермы. Я полюбопытствовал узнать, кто такой Педрильо, так как он показался мне человеком весьма смышленым.
– Этот малый, – сказал капитан, – был моим слугой несколько лет тому назад, но, видя мою бедность, ушел от меня, чтоб найти более выгодное место. Я не сержусь на него за это, ибо естественно менять худшее на лучшее. Педрильо не лишен сметки и такой интриган, что заткнет за пояс любого черта. Но, несмотря на его оборотистость, я не очень рассчитываю на усердие, которое он мне только что выказал.
– Возможно, – возразил я, – что он все же окажется вам полезен. Представьте себе, например, что он состоит при ком-нибудь из приближенных герцога. Как вы знаете, у великих людей мира сего все делается с помощью происков и интриг; у них имеются любимцы, которые ими управляют, а этими, в свою очередь, управляют их лакеи.
На другой день поутру Педрильо явился в нашу гостиницу.
– Господа, – сказал он, – если я вчера не объяснил вам, какими средствами располагаю, чтоб услужить капитану Чинчилья, то это потому, что мы были в месте, не подходящем для таких сообщений. Кроме того, мне хотелось до разговора с вами самому нащупать почву. Знайте же, что я – доверенный лакей сеньора дона Родриго Кальдерона [134] , первого секретаря герцога Лермы. Мой господин – великий ловец перед господом и ужинает почти каждый вечер у одной арагонской пташки, для которой завел клетку в дворцовом квартале. Это – прехорошенькая девица, родом из Альбарасина; она очень неглупа и отлично поет, а потому по заслугам зовется доньей Сиреной. Мне приходится носить ей каждое утро записочки, так что я сейчас иду от нее. Я предложил ей выдать сеньора дона Анибала за своего дядю и с помощью этой уловки заставить дона Родриго оказать ему свое покровительство. Она согласна взяться за это дело. Не говоря о маленькой награде, которую она чает получить, ей лестно прослыть за племянницу достойного идальго.
Сеньор Чинчилья, поморщился от такого предложения. Он с отвращением отказался стать соучастником этого плутовства, а тем более допустить, чтоб какая-то авантюристка опозорила его, сказавшись ему родственницей. Он не только обижался за самого себя, но усматривал в этом, задним числом, также бесчестье для своих предков. Такая щепетильность показалась Педрильо неуместной, и он, возмутившись, воскликнул:
– Смеетесь вы, что ли? Что это за рассуждение? Все вы таковы, захудалые дворянчики! У вас смехотворная спесь! Сеньор кавальеро, – продолжал он, – обращаясь ко мне, – вас не поражает такая совестливость? Клянусь богом, при дворе люди не столь разборчивы. Они не упустят счастья, под какой бы гнусной оболочкой оно им ни подвернулось.
Я одобрил доводы Педрильо, и мы вдвоем так напустились на капитана, что заставили его против воли превратиться в дядюшку Сирены. Одержав эту победу над его гордостью, – что далось нам отнюдь не легко, – мы принялись втроем составлять для министра новую челобитную, каковая подверглась просмотру, дополнениям и исправлениям. Затем я переписал ее начисто, а Педрильо отправился с ней к арагонке, которая в тот же вечер вручила ее сеньору дону Родриго и так настоятельно просила за дона Анибала, что секретарь, поверивший в ее родство с капитаном, обещал оказать свое содействие.
Спустя несколько дней мы увидали результат этой военной хитрости. Педрильо снова пожаловал в нашу гостиницу и на этот раз с торжествующим видом.
– Добрые вести, капитан! – сказал он Чинчилье. – Король собирается раздавать командорства [135] , бенефиции и пенсии. Вы также не будете забыты, о чем мне велено вам передать. Одновременно я получил распоряжение узнать, какой подарок вы собираетесь сделать Сирене. Что касается меня, то мне ничего не нужно: удовольствие улучшить судьбу своего бывшего барина мне милее всего золота на свете. Но наша альбарасинская нимфа не так бескорыстна; она рассуждает несколько по-жидовски, когда надо помочь ближнему. Есть за ней такой грешок: с родного отца деньги возьмет, не то что с подставного дяди.
– Пусть скажет, сколько она хочет, – отвечал дон Анибал. – Если она согласится ежегодно получать треть моей пенсии, то я обещаю ее выплачивать. Полагаю, что моего обещания было бы достаточно, даже если б речь шла о всех доходах его католического величества.
– Я бы, конечно, положился на ваше слово, – возразил Меркурий дона Родриго, – ибо знаю, что оно вернее верного. Но вы имеете дело с маленькой бестией, которая от природы весьма недоверчива. Она, пожалуй, предпочтет, чтоб вы дали ей сразу вперед две трети наличными деньгами.
– А откуда мне их взять, черт подери? – резко прервал его офицер. – Что я, королевский казначей, по ее мнению? Разве вы не объяснили ей моего положения?
– Простите, – возразил Педрильо, – ей отлично известно, что вы бедны, как Иов; она не может этого не знать после того, что я ей сказал. Но вы напрасно тревожитесь, ибо нет человека изворотливее меня. Я знаю одного старого аудитора; этот мошенник охотно ссужает деньги из десяти за сто. Вы переуступите ему нотариальным порядком вашу пенсию за первый год в той сумме, получение коей подтвердите, и эта сумма действительно будет вам выплачена за вычетом процентов вперед. Что касается обеспечения, то заимодавец удовлетворится вашим замком Чинчилья в его теперешнем виде; на этот счет у вас не будет никаких пререканий.
Капитан объявил, что примет эти условия, если ему посчастливится не быть обойденным при раздаче милостей, назначенной на послезавтра. Все сошло благополучно: ему определили пенсию в триста пистолей из доходов одного командорства. По получении этого известия он выдал все гарантии, которые от него требовали, и, уладив свои делишки, возвратился в Новую Кастилию с несколькими оставшимися у него пистолями.
Глава XIII Жиль Блас встречается при дворе с любезным своим другом Фабрисио, к великой радости обеих сторон. Куда они оба отравились и какой любопытный разговор произошел между ними
Я завел себе привычку заглядывать всякое утро во дворец, где проводил по два и по три часа, наблюдая, как входили и выходили гранды, являвшиеся туда без той помпы, которая окружает их в других местах.
Как-то раз я спесиво прохаживался по покоям, представляя собой, подобно многим другим, довольно глупую фигуру, и вдруг увидал Фабрисио, с которым расстался в Вальядолиде, когда он находился в услужении у смотрителя богадельни. Особенно удивило меня то, что он запросто беседовал с герцогом Медина Сидония и с маркизом де Сен-Круа, причем оба эти сеньора, казалось, внимали ему с удовольствием. К тому же он был одет не хуже любого знатного кавалера.
«Не померещилось ли мне? – подумал я. – Действительно ли это сын цирюльника Нуньеса? Или это какой-нибудь молодой придворный, похожий на него?»
Но я недолго пребывал в недоумении. Сеньоры удалились, и я подошел к Фабрисио. Он сразу же узнал меня, взял за руки и, протискавшись сквозь толпу, вывел из апартаментов.
– Очень рад тебя видеть, милейший Жиль Блас! – сказал он, обнимая меня. – Что ты делаешь в Мадриде? Служишь ли еще у господ или занимаешь какую-нибудь придворную должность? Как твои дела? Расскажи мне все, что случилось с тобой после твоего внезапного исчезновения из Вальядолида.
– Ты задаешь мне сразу слишком много вопросов, – отвечал я. – К тому же это совсем неподходящее место, чтоб рассказывать о своих похождениях.
– Ты прав, – заметил он, – нам будет удобнее у меня. Пойдем, я тебя поведу. Это недалеко. Я свободен, занимаю отличную, хорошо обставленную квартиру, живу припеваючи и вполне счастлив, поскольку считаю себя таковым.
Я принял приглашение и послушно пошел за Фабрисио. Мы остановились подле великолепного дома, в котором, по словам моего приятеля, находилась его квартира. Затем мы пересекли двор, где по одну сторону помещалось парадное крыльцо, ведшее в роскошные хоромы, а по другую – маленькая, столь же темная, сколь и узкая лестница, по которой мы поднялись в хваленую квартиру Фабрисио. Она состояла из одной комнаты, которую мой изобретательный друг превратил в четыре с помощью сосновых перегородок. Первая конура служила прихожей для второй, в которой спал Фабрисио; третья именовалась кабинетом, а последняя – кухней. Спальня и передняя были увешены географическими картами и философскими тезисами, а мебель вполне соответствовала убранству стен. Она состояла из большой постели с совершенно потертым парчовым пологом, старых стульев, обитых желтой саржей и украшенных гренадской шелковой бахромой того же цвета, стола на золоченых ножках, покрытого некогда красной кожей и окаймленного мишурной, почерневшей от времени бахромой, и, наконец, из шкапа черного дерева с фигурами грубой резьбы. Маленький стол заменял ему в кабинете секретер, а библиотека насчитывала всего несколько книг и связок с рукописями, которые лежали на полках, расположенных вдоль стен друг над другом. В кухне, гармонировавшей со всем остальным, красовалась глиняная посуда и прочая необходимая утварь.
Подождав, пока я вдосталь налюбуюсь на его жилище, Фабрисио спросил меня:
– Ну, как тебе нравится мое хозяйство и моя квартира? Не правда ли, восхитительно?
– Разумеется, – отвечал я, улыбаясь. – Видимо, дела твои в Мадриде идут удачно, раз ты так оперился. Ты, вероятно, пристроился на какую-нибудь должность.
– Упаси господь! – воскликнул он. – Избранное мною занятие стоит выше всяких должностей. Вельможа, которому принадлежит этот дом, предоставил мне комнату, а я превратил ее в четыре, омеблировав так, как ты видишь. Я делаю только то, что мне нравится, и ни в чем не нуждаюсь.
– Говори яснее! – прервал я его. – Ты разжигаешь во мне желание узнать, чем, собственно, ты занимаешься.
– Ну что ж, готов тебя удовлетворить, – сказал он. – Я сделался сочинителем, записался в остромыслы, пишу стихами и прозой, – словом, мастер на все руки.
– Как! Ты стал любимцем Аполлона? – вскричал я, расхохотавшись. – Ни за что бы не угадал! Всякое другое ремесло меня бы меньше удивило. Но что соблазнило тебя примкнуть к поэтам? Насколько я знаю, их презирают в обществе, и они не всякий день бывают сыты.
– Фуй! – воскликнул он, в свою очередь. – Ты имеешь в виду тех жалких писак, сочинениями которых гнушаются книготорговцы и актеры. Нет ничего удивительного, что никто не уважает таких бумагомарателей. Но хорошие авторы занимают совсем другое положение в свете, и могу сказать не хвалясь, что я принадлежу к их числу.
– Нисколько не сомневаюсь, – сказал я. – Ты умный малый и, наверно, недурно сочиняешь. Мне только хочется узнать, откуда взялся у тебя писательский зуд. Полагаю, что мое любопытство заслуживает оправдания.
– Да, ты в праве удивляться, – возразил Фабрисио. – Я был так доволен своим положением у сеньора Мануэля Ордоньеса, что не мечтал о лучшем. Но дух мой – подобно духу Плавта [136] – возвысился постепенно над рабским своим состоянием, и я написал комедию, которую вальядолидские актеры сыграли в театре. Хотя она ни к черту не годилась, однако же имела огромный успех. Из этого я рассудил, что публика – добрая корова, которую нетрудно доить. Это соображение, а также бешеная страсть к сочинению новых пьес отвратили меня от богадельни. Любовь к поэзии охладила любовь к богатству. Чтоб усовершенствовать свой вкус, я решил отправиться в Мадрид, являющийся средоточием блестящих умов. Я просил смотрителя отпустить меня, на что он согласился лишь с сожалением, так как питал ко мне привязанность. «Фабрисио, – сказал он, – почему ты меня покидаешь? Не подал ли я тебе неумышленно какого-либо повода к неудовольствию?» – «Нет, сеньор, – отвечал я ему, – лучшего господина не сыскать во всем мире, и я в умилении от вашей доброты, но вы знаете, что против судьбы не устоишь. Я чувствую себя рожденным для того, чтоб увековечить свое имя литературными произведениями». – «Что за сумасбродство! – возразил этот добрый человек. – Ты уже пустил корни в богадельне, а из людей твоей складки выходят экономы и даже иной раз смотрители. А ты хочешь менять надежное дело на вздорное. Будешь каяться, дитя мое». Смотритель, отчаявшись переубедить меня, выплатил мне жалованье и подарил пятьдесят дукатов в награду за мою усердную службу. Эти деньги вместе с теми, которые мне удалось сколотить при исполнении мелких поручений, доверенных моему бескорыстию, позволяли мне прилично одеться, что я не преминул выполнить, хотя наши писатели обычно не гонятся за чистоплотностью. Я вскоре познакомился с Лопе де Вега Карпио, с Мигелем Сервантес де Сааведра и другими прославленными сочинителями; но предпочтительно перед этими великими людьми я выбрал в наставники молодого бакалавра, несравненного дона Луиса де Гонгора [137] , величайшего гения, когда-либо порожденного Испанией. Он не желает печатать своих творений при жизни и довольствуется тем, что читает их друзьям. Самое удивительное – это то, что благодаря редкостному природному таланту он преуспевает во всех областях поэзии. Особенно удаются ему сатирические произведения: это его конек. Он не какой-нибудь Луцилий [138] , которого можно сравнить с мутной речкой, уносящей множество ила; нет. Гонгора подобен Таго, катящему прозрачные волны по золотистому песку.
– Судя по твоему лестному описанию, бакалавр этот весьма талантлив, – сказал я, – а потому надо думать, что он нажил себе немало завистников.
– Все сочинители, как хорошие, так и плохие, – отвечал Фабрисио, – обрушились на него. Одни говорят, что он любит напыщенность, парадоксы, метафоры и инверсии, другие – что его стихи туманны, как гимны, которые салии [139] распевали во время своих процессий и которых никто не понимал. Иные даже упрекают его в том, что он бросается от сонетов к романсам, от комедий к децимам [140] и летрилиям [141] , точно ему взбрела на ум сумасшедшая мысль затмить лучших писателей во всех жанрах. Но эти стрелы зависти только ломают свое острие о его музу, чарующую как вельмож, так и толпу.
Как видишь, мое ученичество проходит под руководством опытного наставника, и смею сказать не хвалясь, что плоды – налицо. Я так освоился с его духом, что уже сочиняю глубокомысленные произведения, которые он сам почел бы достойными своего пера. Следуя его примеру, я сбываю свой товар в аристократических домах, где меня отлично принимают и где люди не очень привередливы. Правда, я превосходно декламирую, что, разумеется, способствует успеху моих сочинений. Наконец, я пользуюсь расположением некоторых знатных сеньоров и живу на такой же ноге с герцогом Медина Седония, как Гораций жил с Меценатом. Вот каким образом, – закончил Фабрисио, – я превратился в сочинителя. Больше мне нечего рассказывать. Теперь твоя очередь, Жиль Блас, воспеть свои геройства.
Тогда я принялся за повествование и, опуская несущественные обстоятельства, рассказал ему то, о чем он меня просил.
Затем наступило время позаботиться об обеде. Фабрисио извлек из шкапа черного дерева салфетки, хлеб, остаток жареной бараньей ноги, а также бутылку превосходного вина, и мы уселись за стол в том веселом настроении, которое испытывают друзья, встретившиеся после продолжительной разлуки.
– Как видишь, – сказал Фабрисио, – я веду свободный и независимый образ жизни. Пожелай я следовать примеру своих собратьев, то ходил бы всякий день обедать к знатным особам. Но меня нередко задерживает дома любовь к моим занятиям, а к тому же я в своем роде маленький Аристипп, ибо чувствую себя довольным как в великосветском обществе, так и в уединении, как за обильной, так и за скудной трапезой.
Вино показалось нам таким вкусным, что пришлось достать из шкапа еще бутылку. За десертом я выразил Фабрисио желание ознакомиться с его творчеством. Он тотчас же разыскал между бумагами сонет, который прочел самым выспренным тоном. Несмотря на отличное чтение, стихи показались мне столь туманными, что я решительно ничего не понял. Это не ускользнуло от Фабрисио, и он спросил меня:
– Ты, кажется, находишь мой сонет не особенно ясным, не правда ли?
Я сознался, что предпочел бы несколько больше вразумительности.
Фабрисио осыпал меня насмешками.
– Если этот сонет, – продолжал он, – действительно непонятен, то тем лучше, друг мой. Сонеты, оды и прочие произведения, требующие выспренности, не терпят простоты и естественности. Туманность – вот их главное достоинство! Вполне достаточно, если сам поэт думает, что он их понимает.
– Ты, по-видимому, издеваешься надо мной! – прервал я его. – В стихах должен быть здравый смысл и ясность, к какому бы роду поэзии они ни принадлежали, и если твой несравненный Гонгора пишет так же невразумительно, как ты, то, признаться, я за него недорого дам. Такой стихотворец обманет разве только современников. Посмотрим теперь на твою прозу.
Нуньес показал мне предисловие, которое, по его словам, собирался предпослать сборнику своих комедий, находившемуся тогда в печати. Затем он спросил, что я о нем думаю.
– По-моему, – сказал я, – твоя проза не лучше твоих стихов. Сонет не что иное, как напыщенная галиматья, а в предисловии встречаются слишком изысканные выражения, слова, никем не употребляемые, и фразы, так сказать закрученные винтом. Словом, у тебя чудной стиль. Книги наших добрых старых сочинителей написаны совсем не так.
– Жалкий невежда! – воскликнул Фабрисио. – Ты, по-видимому, не знаешь, что всякий прозаик, рассчитывающий на репутацию изящного писателя, пользуется этим своеобразным стилем и этими иносказательными выражениями, на которые ты досадуешь. Нас пять или шесть смелых новаторов, вознамерившихся переделать испанский язык самым коренным образом, и если богу будет угодно, то мы доведем это дело до конца, невзирая ни на Лопе де Вега, ни на Сервантеса, ни на прочих прославленных гениев, придирающихся к нам за новые обороты. Нас поддерживает целый ряд достойных сторонников, и в нашей клике имеются даже богословы.
Как бы там ни было, – продолжал он, но наше намерение достойно похвалы, и, откинув предрассудки, надо сказать, что мы стоим выше тех безыскусственных сочинителей, которые говорят, как рядовые обыватели. Не понимаю, почему столько порядочных людей относятся к ним с уважением. Это было уместно в Афинах и в Риме, где в обществе не было таких резких различий, и вот почему Сократ сказал Алкивиаду, что лучший учитель языка – это народ. Но в Мадриде существует как изысканная, так и простая речь, и наши придворные изъясняются иначе, чем мещане. Могу тебя в этом заверить. Наконец, наш новый стиль превосходит стиль наших антагонистов. Одной черточкой я дам тебе почувствовать разницу между прелестью нашей манеры выражаться и их безвкусицей. Так, например, они сказали бы просто: «Интермедия украшает комедию», а мы говорим гораздо изящнее: «Интермедия составляет красоту комедии». Заметь себе это выражение «составляет красоту». Чувствуешь ли ты весь его блеск, всю его изысканность и прелесть?
Я громким хохотом прервал речь моего новатора.
– Чудак ты, Фабрисио, со своим жеманным слогом, – сказал я.
– А ты со своим естественным стилем просто олух! Ступайте, – продолжал он, применяя ко мне слова гренадского архиепископа, – ступайте к моему казначею, пусть отсчитает вам сто дукатов, и да хранит вас господь с этими деньгами. Прощайте, господин Жиль Блас; желаю вам немножко больше вкуса.
Я снова расхохотался на эту шутку, а Фабрисио, простив мне непочтительный отзыв об его писаниях, нисколько не утратил своего прекрасного расположения духа. Мы допили вторую бутылку, после чего встали из-за стола несколько навеселе и вышли из дому с намерением прогуляться по Прадо, но, проходя мимо дверей одного лимонадчика, вздумали туда заглянуть.
В этом заведении обычно собиралась чистая публика. Там было два отдельных зала, причем в каждом из них я заметил кавалеров, развлекавшихся по-своему. В одном играли в приму и в шахматы, в другом человек десять – двенадцать внимательно слушали спор двух записных любомудров. Даже не подходя к ним, нам нетрудно было догадаться, что предметом их дискуссий служила метафизическая задача, ибо они ораторствовали с таким жаром и задором, что их можно было принять за бесноватых. Полагаю, что если б им поднести к носу перстень Елеазара [142] , то у них из ноздрей повыскочили бы демоны.
– Ну и темперамент, черт подери! – сказал я своему приятелю. – Какие здоровые легкие! Эти спорщики родились, чтоб быть публичными глашатаями. Большинство людей занимается не тем, чем им надо.
– Ты прав, – возразил он. – Эти люди, видимо, из породы Новия [143] , того римского банкира, который заглушал голосом грохот повозок. Но в их споре мне всего противнее то, – добавил он, – что они жужжат тебе в уши без всякого толку.
Мы удалились от этих шумливых метафизиков, и благодаря этому я избежал мигрени, которая было начала меня одолевать. Затем мы выбрали местечко в углу другой залы, откуда, распивая прохладительные напитки, могли наблюдать за входившими и выходившими посетителями. Нуньес знал их почти всех.
– Клянусь богом! – воскликнул он. – Спор наших философов кончится не так скоро: вот идет новое подкрепление! Те трое, что сейчас вошли, тоже ввяжутся в разговор. Обрати внимание на двух чудаков, которые собираются удалиться. Того смуглого, сухопарого коротышку, прямые длинные волосы которого свисают одинаково как спереди, так и сзади, зовут доном Хулианом де Вильянуно. Это молодой аудитор, корчащий из себя петиметра. На днях я зашел к нему пообедать с одним приятелем, и мы застали его за довольно странным занятием. Он развлекался в своем кабинете тем, что кидал большой борзой сумки с тяжебными делами, по которым он является докладчиком, а затем заставлял ее приносить их обратно, причем собака разрывала документы в клочки. Сопровождающего его лиценциата с махровой рожей зовут Керубин Тонто. Это – каноник толедского собора, самый глупый человек на свете. Между тем, судя по его веселому и остроумному лицу, можно подумать, что он большой умник. Глаза у него блестят, а смех тонкий и лукавый. Иному, пожалуй, покажется, что каноник обладает проницательностью. Когда в его присутствии читают какое-нибудь изящное произведение, то он слушает его со вниманием, точно вникает в смысл, а на самом деле не понимает решительно ничего. Он обедал с нами у аудитора. Там говорилось множество забавных вещей и всяких острот. Дон Керубин не проронил ни звука, но зато он одобрял все такими ужимками и жестами, которые казались остроумнее отпускаемых нами шуток.
– Знаешь ли ты, – спросил я Нуньеса, – тех двух взлохмаченных молодцов, которые, опершись локтями на стол, шепчутся там в углу и дышат друг другу в лицо?
– Нет, – возразил он, – их лица мне не знакомы. Но по всем данным, это – кофейные политики [144] , поносящие правительство. Взгляни на прелестного кавалера, который, посвистывая, прогуливается по залу и переваливается с ноги на ногу. Это дон Аугустин Морето, молодой, не лишенный таланта стихотворец, которого льстецы и невежды превратили в полусумасшедшего. Сейчас подходит к нему один из его собратьев, который пишет рифмованной прозой и тоже навлек на себя гнев Дианы [145] .
– А вот и еще сочинители! – воскликнул он, указывая на двух вошедших офицеров. – Они точно все сговорились прийти сюда для того, чтоб ты устроил им смотр. Ты видишь перед собой Дона Бернальдо Десленгуадо и дона Себастьяна де Вилья Висиоса. Первый из них – человек желчный, автор, родившийся под созвездием Сатурна [146] , злокозненный писака, ненавидящий всех и не любимый никем. Что касается дона Себастьяна, то это добродушный малый и писатель, не желающий отягчать своей совести. Он недавно поставил в театре пьесу, имевшую исключительный успех, и теперь печатает ее, не желая дальше злоупотреблять одобрением публики.
Милосердный ученик Гонгоры собрался было продолжать свои разъяснения по поводу фигур мелькавшей перед нами живой картины, но его прервал дворянин из свиты герцога Медина Сидония:
– Я разыскиваю вас, сеньор дон Фабрисио, по поручению господина герцога, который желает с вами поговорить. Он ждет вас у себя.
Нуньес, знавший, что желания знатного вельможи надлежит исполнять немедленно, поспешно покинул меня, чтоб пойти к своему меценату, а я остался, недоумевая над тем, что его величают «доном» и что он столь неожиданно превратился в дворянина, хотя его отец, почтенный Хрисостом, был всего-навсего брадобреем.
Глава XIV Фабрисио определяет Жиль Бласа на должность к сицилийскому вельможе, графу Галиано
Мне так хотелось снова повидаться с Фабрисио, что я отправился к нему на другой день с раннего утра.
– Приветствую сеньора дона Фабрисио, цветок или, точнее говоря, грибок астурийского дворянства! – сказал я, входя к нему.
Он расхохотался в ответ на мои слова и воскликнул:
– Так ты заметил, что меня величают доном?
– Как же, сеньор идальго, – возразил я, – и позвольте мне указать, что, рассказывая вчера про свою метаморфозу, вы забыли самое главное.
– Твоя правда, – отвечал Фабрисио, – но если я присвоил себе это почетное звание, то не столько в угоду своему тщеславию, сколько для того, чтоб приспособиться к тщеславию других. Ведь ты знаешь испанцев: они ни во что не ставят порядочного человека, если, на его несчастье, у него нет состояния и благородных предков. Скажу тебе еще, что мне приходится встречать множество людей – и одному богу известно, какого сорта людей, – которые заставляют называть себя доном Франсиско, доном Габриэль, доном Педро и какими хочешь донами, а потому приходится признать, что дворянское звание стало вещью довольно обыкновенной и что приличный разночинец, пожалуй, еще оказывает ему честь, когда соглашается к нему примкнуть.
– Но поговорим о другом, – добавил он. – Вчера вечером за ужином у герцога Медина Седония, где присутствовал в числе прочих гостей знатный сицилийский вельможа, граф Галиано, зашла речь о смехотворных последствиях самолюбия. Обрадовавшись тому, что у меня есть чем позабавить общество, я угостил их историей с проповедями. Можешь себе представить, как они хохотали и как досталось на орехи твоему архиепископу. Это, однако, тебе ничуть не повредило. Напротив, тебя жалели, а граф Галиано, расспросив обстоятельно о тебе, – на что, как ты понимаешь, я отвечал ему надлежащим образом, – поручил мне привести тебя к нему. Я как раз собирался зайти за тобой. Он, видимо, намерен принять тебя в число своих секретарей. Советую не отказываться от такого места. Ты отлично устроишься у этого сеньора: он богат и тратится в Мадриде с размахом посланника. Говорят, что он прибыл ко двору, чтоб совещаться с герцогом Лермой относительно королевских латифундий в Сицилии, которые этот министр намеревается отчуждить. Наконец, граф Галиано хотя и сицилиец, однако же похож на человека щедрого, прямодушного и откровенного. Ты поступишь весьма разумно, если пристроишься к этому сеньору. Вероятно, ему-то и суждено тебя обогатить, согласно предсказанию, сделанному тебе в Гренаде.
– Собственно говоря, я собирался еще некоторое время бить баклуши и развлекаться, прежде чем снова поступить на службу, – сказал я. – Но ты так разлакомил меня своим рассказом о сицилийском графе, что это побудило меня переменить мое намерение. Мне уже не терпится состоять при нем.
– Либо я сильно ошибаюсь, либо оно вскоре так и будет, – ответил Фабрисио.
Затем мы оба вышли из дому, чтоб направиться к графу, который жил в палатах дона Санчо д’Авила, находившегося в то время в своем загородном доме.
Мы застали во дворе множество пажей и лакеев в столь же богатых, сколь и изящных ливреях, а в прихожей толпу эскудеро, дворян и других приближенных. Все они были в роскошных одеждах, но отличались при этом такими несусветными рожами, что я принял их за стаю обезьян, переодетых испанцами. Приходится признать, что как у мужчин, так и у женщин встречаются такие физиономии, которым никакое искусство не поможет.
Лакей доложил о доне Фабрисио, которого тотчас же пригласили в покои, куда и я последовал за ним. Граф сидел в шлафроке на софе и пил шоколад. Мы поклонились ему с изъявлением глубочайшего почтения, а он, со своей стороны, кивнул нам головой, сопровождая этот жест таким милостивым взглядом, что сразу же пленил мое сердце. Это – поразительное и в то же время обычное явление, что благосклонный прием знатных персон оказывает на нас неотразимое влияние. Только самое дурное отношение с их стороны может побудить нас к тому, чтоб мы их невзлюбили.
Откушав шоколаду, граф забавлялся некоторое время, играя с большой обезьяной, которую называл Купидоном. Не сумею сказать, почему именно окрестили обезьяну именем этого бога. Разве только потому, что она не уступала ему в лукавстве; во всех же остальных отношениях она нисколько на него не походила. Но какая она там ни была, а обезьяна доставляла немалое удовольствие своему барину, который так восторгался ее ужимками, что не спускал ее с рук. Хотя ни я, ни Нуньес нисколько не интересовались прыжками обезьяны, однако же притворились, что мы очарованы. Это понравилось сицилийцу, который прекратил забавлявшую его игру, чтоб сказать мне:
– Друг мой, от вас зависит стать моим секретарем. Если должность вам подходит, то я назначу вам двести пистолей в год. С меня достаточно того, что вы рекомендованы доном Фабрисио и что он за вас ручается.
– Да, сеньор, – воскликнул Нуньес, – я смелее Платона, убоявшегося поручиться за одного своего друга, которого он послал к тирану Дионисию. Я не опасаюсь навлечь на себя упреки.
Я отблагодарил поклоном астурийского пиита за его учтивую смелость, а затем, обращаясь к графу Галиано, заверил его в своей преданности и старательности. Убедившись, что я с радостью принял его предложение, этот сеньор тотчас же послал за своим управителем, с которым о чем-то пошептался, после чего сказал мне:
– Жиль Блас, я скажу вам потом, как именно собираюсь вас использовать. Покамест ступайте с моим управителем; он получил от меня касающиеся вас распоряжения.
Я повиновался, оставив Фабрисио в обществе графа и Купидона.
Управитель, оказавшийся прехитрым мессинцем, повел меня на свою половину, причем так и сыпал любезностями. Он послал за портным, который обшивал весь штат, и приказал ему поживее сшить мне такое же роскошное одеяние, какое носили важнейшие лица графской свиты. Портной снял с меня мерку и удалился.
– Что касается помещения, – сказал мессинец, – то я отведу вам подходящую комнату. Скажите, вы уже завтракали? – добавил он.
Я отвечал, что нет.
– Что же вы мне раньше этого не сказали, мой бедный сеньор! – воскликнул управитель. – Вы находитесь здесь в таких палатах, где стоит только пожелать – и все исполнится. Я сейчас отведу вас в одно место, в котором, слава богу, нет ни в чем недостатка.
С этими словами он повел меня вниз, в людскую, где мы застали неаполитанца-дворецкого, ни в чем не уступавшего мессинцу. Про эту парочку можно было сказать, что Жан пляшет лучше Пьера, а Пьер лучше Жана. Этот почтенный дворецкий находился в обществе пяти или шести друзей, которые набивали себе брюхо окороками, копчеными языками и солониной, что побуждало их утолять жажду усиленными возлияниями. Мы присоединились к этим объедалам и помогли им вылакать лучшие вина его сиятельства. Но пока в людской горнице шел пир горой, на кухне творились не лучшие дела. Повар также потчевал трех-четырех знакомых мещан, которые щадили господское вино не больше нас и лопали до отвала паштеты из кроликов и куропаток. Не было никого, включая и поварят, кто, бы не ублажал своей утробы всем, что попадалось ему под руку. Мне казалось, будто я нахожусь в доме, отданном на поток и разграбление. Но это было далеко не все. Я видел лишь самые пустяки по сравнению с тем, что мне предстояло лицезреть.
Глава XV Об обязанностях, которые граф Галиано возложил в своем доме на Жиль Бласа
Я отправился за своими пожитками и приказал отнести их на новую квартиру. Вернувшись, я застал графа за столом в обществе нескольких сеньоров и поэта Нуньеса, который весьма непринужденно вмешивался в разговор и позволял лакеям себе прислуживать. Я даже заметил, что каждое его слово доставляло собеседникам немалое удовольствие. Да здравствует ум! Кто им обладает, может корчить из себя какую хочет персону.
Что касается меня, то я отправился кушать со служителями, которых потчевали почти так же, как самого патрона. После обеда я удалился к себе в комнату, где принялся обдумывать свое положение.
«Итак, Жиль Блас, – сказал я сам себе, – ты состоишь при сицилийском графе, характер коего тебе не известен. Судя по внешним данным, ты будешь чувствовать себя в этом доме как рыба в воде. Но нельзя ни на что полагаться и не следует доверять судьбе, коварство которой ты не раз испытал. К тому же ты еще не знаешь, к каким обязанностям граф собирается тебя приставить. У него есть секретари и управитель. Каких же услуг он ждет от тебя? Вероятно, он хочет, чтоб ты носил кадуцей [147] . Тем лучше! Кто состоит при знатном барине для таких надобностей, тот делает карьеру, как на курьерских. Оказывая честные услуги, идешь вперед шажком, да и то не всегда достигаешь цели».
В то время как я предавался этим прекрасным рассуждениям, пришел ко мне лакей и объявил, что обедавшие у нас кавалеры разошлись по домам и что граф требует меня к себе. Я поспешил на графскую половину и застал своего господина лежащим на софе и собирающимся провести досуг в обществе обезьяны, которая находилась подле него.
– Подойдите поближе, Жиль Блас, – сказал он, – возьмите стул и слушайте, что я вам скажу.
Я повиновался, а он обратился ко мне со следующей речью:
– Дон Фабрисио сказал, что, помимо прочих качеств, вы отличаетесь преданностью своим господам и исключительной честностью. Эти два достоинства побудили меня взять вас к себе. Мне нужен верный слуга, который принимал бы к сердцу мои интересы и тщательно присматривал за моим добром. Правда, я богат, но мои расходы каждый год значительно превышают доходы. А почему? Потому что меня обкрадывают, меня грабят. Я живу в своем доме, как в лесу, кишащем разбойниками. У меня есть подозрение, что дворецкий и управитель снюхались между собой, а этого, если не ошибаюсь, более чем достаточно, чтоб разорить меня дотла. Вы, разумеется, скажете, что мне ничего не стоит прогнать их со двора, если я считаю и того и другого мошенниками. Но где сыскать таких, которые были бы выпечены из лучшего теста? А потому мне остается только поручить наблюдение за ними человеку, облеченному правом надзора, и я выбрал вас для выполнения этой миссии. Если вам удастся справиться с ней, то будьте уверены, что вы не испытаете неблагодарности за свою услугу. Я позабочусь о том, чтоб доставить вам в Сицилии выгодную должность.
После этих слов граф отпустил меня, и в тот же вечер в присутствии всей челяди я был объявлен главным управителем всего дома. Мессинец и неаполитанец сперва не очень обиделись, так как считали меня сговорчивым малым и надеялись, поделив со мной пирог, вести дело по-прежнему. Но на следующий день они сильно разочаровались, когда я заявил им, что не допущу никаких злоупотреблений. Я потребовал у дворецкого отчета относительно съестных припасов, проверил погреб и приказал показать себе все, что хранилось в людской, то есть серебряную посуду и столовое белье. Затем я предложил дворецкому и управителю беречь господское добро и не сорить деньгами и закончил свое увещевание предупреждением, что осведомлю его сиятельство обо всех недобросовестных поступках, какие будут мною замечены.
Но я не остановился на этом, а решил завести шпиона, чтоб выведать, нет ли между мессинцем и неаполитанцем тайного согласия. Я наметил одного поваренка, который, польстившись на мои обещания, заявил, что мне трудно было бы сыскать более подходящего человека, чтобы знать обо всем происходящем в нашем доме, что дворецкий и управитель спелись между собой и жгут свечу с обоих концов, что они ежедневно присваивают себе половину продуктов, покупаемых для кухни, что неаполитанец опекает дамочку, живущую напротив училища св. Фомы, а мессинец содержит другую у Пуэрта дель Соль, что сии господа посылают своим нимфам всякого рода провизию, что повар, со своей стороны, снабжает вкусными блюдами знакомую вдовушку, квартирующую по соседству, и что в награду за услуги, оказываемые им дворецкому и управителю, он пользуется наравне с ними графским погребом, и, наконец, что эти трое служителей являются виновниками бешеных расходов, уходящих на хозяйство его сиятельства.
– Если вы не доверяете моим словам, – добавил поваренок, – то соблаговолите подойти завтра поутру около семи часов к училищу св. Фомы и вы увидите меня нагруженным такой корзиной, что ваши сомнения превратятся в уверенность.
– Так ты, значит, состоишь на посылках у этих галантных поставщиков? – спросил я.
– Да, меня посылает дворецкий, – отвечал он, – а один из моих товарищей исполняет поручения управителя.
Донесение, как мне показалось, стоило того, чтоб его проверить, и я полюбопытствовал на следующий день отправиться в указанный час к училищу св. Фомы. Мне недолго пришлось дожидаться своего шпиона. Вскоре он явился с огромной корзиной на спине, наполненной доверху убоиной, птицей и дичью. Я произвел подсчет припасов и составил на своих табличках маленький протокол, который отнес графу, сказав предварительно ложкомою, чтоб он выполнил, как обычно, свое поручение.
Сицилийский вельможа, будучи весьма вспыльчив от природы, хотел было под горячую руку уволить и неаполитанца и мессинца, но, пораздумав, удовлетворился тем, что отделался от последнего, назначив меня на его место. Таким образом, должность главного управителя была упразднена вскоре после ее учреждения, и скажу откровенно, что я нисколько о ней не сожалел. В сущности это была должность почетного шпиона, не имевшая под собой солидной почвы, тогда как, став господином управителем, я получил в свое распоряжение денежную шкатулку, а это – главное. Такой служитель всегда является первым человеком в знатном доме, и с его должностью связано столько мелких барышей, что он неизбежно должен разбогатеть, хотя бы и был честным человеком.
Мой неаполитанец, далеко не исчерпавший запаса своих хитростей, приметил мою звериную бдительность и, видя, что я всякое утро проверяю купленные припасы и веду им счет, перестал их присваивать, но продолжал ежедневно закупать точно такое же количество. Благодаря этой уловке он увеличил свои барыши от кухонных остатков, принадлежавших ему по праву, и получил возможность посылать своей крошке хотя бы вареную пищу, поскольку не мог снабжать ее сырой. Бес тешился по-прежнему, а граф не выгадал ничего от того, что обзавелся таким фениксом среди управителей. Я все же не преминул обнаружить эту новую плутню, обратив внимание на чрезмерное изобилие, царившее за нашим столом, и тут же восстановил порядок, урезав излишки каждой перемены блюд, что произвел, однако, с большой осторожностью, так, чтоб это не походило на скупость. Всякий сказал бы, что господствует прежняя расточительность, а между тем я благодаря своей экономии значительно сократил расходы. Граф именно этого и требовал: он хотел бережливости, но и не имел желания уменьшать великолепие. Тщеславие побеждало в нем скопидомство.
Но я не удовлетворился этим и устранил еще и другое злоупотребление. Найдя, что расходуется слишком много вина, я заподозрил и здесь какую-то плутню. Действительно, когда за столом у графа собиралось, например, двенадцать персон, то выпивалось пятьдесят, а иной раз и шестьдесят бутылок. Это меня удивляло, и я обратился к своему оракулу, т. е. поваренку, с которым происходили у нас тайные собеседования и который доносил мне в точности все, что говорилось и делалось на кухне, где на него не имели ни малейшего подозрения. Так, он сообщил, что причиной обеспокоившего меня бедствия была новая лига, образованная дворецким, поваром и лакеями, разливавшими напитки, и что эти последние уносили на кухню наполовину опорожненные бутылки, каковые затем распределялись между конфедератами. Я отчитал лакеев и пригрозил вышвырнуть их из дому, если что-либо подобное повторится. Этого было достаточно, чтоб вернуть их на стезю долга. Мой барин, которого я тщательно оповещал о мельчайших мероприятиях, предпринимаемых мною в его интересах, осыпал меня похвалами, а расположение его ко мне возрастало с каждым днем. Желая, со своей стороны, вознаградить ложкомоя, оказавшего мне столь важные услуги, я произвел его в младшие повара. Вот какими способами честный слуга пробивает себе дорогу в богатых домах.
Неаполитанец бесился оттого, что я всюду ставлю ему палки в колеса, но пуще всего досадовал на меня за выговоры, которыми я награждал его всякий раз, как он отчитывался в расходах. Ибо, желая окончательно обкорнать ему когти, я не ленился посещать рынки и узнавать цены на продукты, а когда он являлся ко мне после этого со своими раздутыми счетами, то натыкался на здоровую головомойку. Я не сомневаюсь, что он проклинал меня по сто раз в день, но причина этих проклятий была столь неблаговидна, что я нисколько не опасался, чтобы небо их услышало. Не знаю, что побуждало его выносить мои преследования и не бросать своего места у сицилийского вельможи. Вероятно, несмотря ни на что, он все-таки ухитрялся набивать себе карман.
Фабрисио, с которым я изредка виделся и которому рассказывал о своих дотоле неслыханных подвигах на управительском поприще, был скорее склонен порицать, нежели одобрять мое поведение.
– Дай бог, – сказал он мне однажды, – чтобы твое бескорыстие в конце концов получило должную награду. Но, говоря между нами, я думаю, что тебе ничего бы не сделалось, если бы ты обходился с дворецким менее круто.
– Как? – отвечал я. – Этот мошенник нагло ставит мне в счет десять пистолей за рыбу, которая обошлась ему не дороже четырех, и ты хочешь, чтобы я спускал ему эту плутню?
– А почему бы и нет, – спокойно возразил он. – Пусть даст тебе половину излишка, и вы будете в расчете. Честное слово, любезный друг, – продолжал он, покачивая головой, – не ожидал я, чтобы такой умный человек столь глупо взялся за дело. Вы язва всякого порядочного дома и имеете много шансов долго остаться на месте, раз вы не обдираете угря, пока он у вас в руках. Знайте, что судьба похожа на бойких и ветреных кокеток, ускользающих от тех поклонников, которые не умеют взять их с нахрапа.
Я только расхохотался на эту речь Нуньеса, после чего и он последовал моему примеру, желая меня убедить, что все это было сказано в шутку. Он стыдился того, что зря подал мне дурной совет. Я же твердо решил быть всегда верным и ревностным слугой, и могу похвастаться, что не отступил от своего намерения, а благодаря своей бережливости сэкономил графу в течение четырех месяцев по крайней мере три тысячи дукатов.
Глава XVI О несчастье, приключившемся с обезьяной графа Галиано, и о печали, которую его сиятельство испытало по этому поводу. Отчего Жиль Блас занемог и каковы были последствия его болезни
К этому времени покой, царивший в наших палатах, был неожиданно нарушен происшествием, которое, пожалуй, покажется читателю незначительным, но которое наделало немало хлопот служителям и в особенности мне. Уже упомянутая мною обезьяна Купидон, столь любезная сердцу нашего господина, вздумала однажды перепрыгнуть с одного окна на другое, но сделала это так неудачно, что упала во двор и вывихнула себе лапу. Не успел граф узнать об этом несчастье, как принялся вопить, точно женщина. В порыве отчаяния он срывал сердце на всех служителях без разбора и чуть было не уволил их поголовно, ограничив, впрочем, свой гнев тем, что проклял нашу небрежность и обругал нас, не стесняясь в выражениях. Он немедленно послал за лекарями, славившимися в Мадриде по части переломов и вывихов костей. Лекари осмотрели лапу пациентки, вправили и забинтовали ее. Но хотя все они уверяли, что нет никакой опасности, граф тем не менее удержал одного из них для того, чтобы он неотлучно пребывал при обезьяне впредь до полного ее выздоровления.
Я был бы неправ, если бы умолчал о муках и тревогах, пережитых сицилийским вельможей за это время. Поверите ли вы, что он весь день не расставался со своим милым Купидоном, что он неизменно присутствовал при перевязках и вставал два-три раза в ночь, чтобы на него взглянуть. Но хуже всего было то, что все слуги – а в особенности я – должны были непрестанно дежурить, будучи наготове бежать, куда прикажут, чтобы услужить обезьяне. Словом, никто не имел покоя в доме, пока проклятое животное не оправилось окончательно от своего падения и не принялось снова за свои обычные прыжки и кувыркания. Можно ли после этого сомневаться в сообщении Светония [148] , повествующего нам о Калигуле, который так любил своего коня, что отвел ему богато отделанный дом, приставил к нему служителей и собирался даже провозгласить его консулом? Мой барин питал к своей обезьяне неменьшую любовь и охотно пожаловал бы ее в коррехидоры.
Мое несчастье заключалось в том, что, желая угодить своему господину, я старался больше прочих слуг и, намучившись с этим Купидоном, сам занемог. У меня объявилась жестокая горячка, и болезнь моя так усилилась, что я впал в обморочное состояние. Не ведаю, что происходило со мной в те две недели, пока я находился между жизнью и смертью. Во всяком случае молодость моя так удачно боролась с горячкой, а может быть, и с лекарствами, которые мне давали, что я наконец пришел в сознание. При первых же его проблесках я заметил, что нахожусь не в своей комнате, а в какой-то другой. Мне захотелось узнать причину этого переселения, и я наведался у старухи, которая за мною ходила, но она отвечала, что мне вредно говорить и что врач запретил это самым строжайшим образом.
Здоровый человек обычно смеется над лекарями, но больной покорно повинуется их предписаниям. Я решился поэтому молчать, хотя мне и очень хотелось побеседовать со своей сиделкой. В то время как я размышлял об этом, в комнату вошли две весьма вертлявых личности, смахивавшие на петиметров. На них были роскошные бархатные кафтаны и тончайшее белье, отороченное кружевами. Я вообразил, что это какие-нибудь знатные вельможи, приятели моего барина, которые из уважения к нему зашли меня навестить. Находясь под этим впечатлением, я сделал усилие, чтобы присесть на своем ложе, и почтительно сдернул с себя колпак, но моя сиделка снова уложила меня, сообщив, что эти господа не кто иные, как доктор и аптекарь.
Врач подошел к моей постели, пощупал мне пульс и посмотрел в лицо. Обнаружив все признаки скорого выздоровления, он принял такой победоносный вид, точно был тому причиной, и заявил, что для завершения его трудов остается только прописать мне одно лекарство, после чего он сможет хвастаться весьма успешным случаем исцеления. Затем он приказал аптекарю написать рецепт, который он продиктовал, ему, любуясь на себя в зеркало, поправляя прическу и проделывая такие ужимки, что, несмотря на свое состояние, я не мог удержаться от хохота. Затем, свысока кивнув мне головой, он вышел, более занятый своею внешностью, нежели прописанными лекарствами.
По его уходе аптекарь, заявившийся ко мне не без цели, приготовился к совершению акта, о котором нетрудно догадаться. Опасался ли он, что старуха не выполнит его с надлежащим проворством, или хотел товар лицом показать, но он взялся за дело самолично. Однако не успел он закончить процедуры, как, бог его ведает почему, я, несмотря на всю его ловкость, вернул аптекарю все, что он мне вкатил, и привел его бархатный кафтан в плачевное состояние. Он взглянул на это происшествие, как на несчастье, связанное с аптекарским ремеслом, взял салфетку, вытерся, не говоря ни слова, и удалился, твердо решив, что заставит меня заплатить пятновыводчику, которому он, без сомнения, принужден был послать свой костюм.
На следующий день он явился одетый более скромно, хотя ему не грозило никакой опасности, так как он пришел только принести лекарство, накануне прописанное доктором. Но, помимо того, что мне с каждым мгновением становилось лучше, я испытывал после вчерашнего такое отвращение к лекарям и аптекарям, что проклинал их всех вплоть до университетов, где сии господа получают право безнаказанно отправлять людей на тот свет. Будучи в таком расположении духа, я объявил ему с проклятиями, что не стану принимать его снадобий, и послал ко всем чертям Гиппократа и его присных. Аптекарь, коему было совершенно безразлично, что я сделаю с его микстурой, лишь бы за нее заплатили, оставил ее на столе и вышел, не сказав мне ни слова.
Я приказал тотчас же вышвырнуть за окно это поганое пойло, против которого был так предубежден, что счел бы себя отравленным, если бы его проглотил. К этому акту послушания я присовокупил другой, а именно: нарушил запрет молчания и сказал решительным тоном сиделке, что непременно желаю получить сведения о своем барине. Старуха, боявшаяся удовлетворить мою просьбу, чтобы не вызвать у меня опасного волнения, или, может статься, раздражавшая меня нарочно с целью ухудшить мою болезнь, долго отвечала полусловами, но я так настаивал, что она наконец заявила:
– Сеньор кавальеро, у вас нет теперь другого барина, кроме вас самих. Граф Галиано возвратился в Сицилию.
Я не мог поверить собственным ушам, а между тем это оказалось чистейшей правдой. На второй день моей болезни этот вельможа, убоявшись, как бы я не умер у него в доме, приказал по своей доброте перенести меня с моим скарбом в меблированную комнату, где без дальнейших околичностей поручил своего управителя воле провидения и заботам сиделки. Получив тем временем предписание от двора отправиться в Сицилию, он выехал с такой поспешностью, что забыл обо мне, потому ли, что считал меня уже покойником, или потому, что у высокопоставленных персон вообще короткая память.
Я узнал об этих подробностях от своей сиделки, которая сообщила, что сама надумала послать за доктором и аптекарем, дабы я не преставился без их содействия. Услыхав эти приятные вести, я впал в глубокую задумчивость. Прощай, выгодная должность в Сицилии! Прощайте, сладчайшие надежды! «Когда над вами стрясется какое-нибудь большое несчастье, – сказал один папа, – то покопайтесь хорошенько в самом себе, и вы всякий раз убедитесь, что вина падает на вас». Да простит мне сей святой отец, но я решительно не вижу, чем именно навлек на себя в данном случае постигшую меня невзгоду.
Как только рассеялись заманчивые химеры, которыми тешилось мое сердце, я прежде всего вспомнил о своем чемодане и приказал принести его на постель. Увидав, что он открыт, я испустил тяжелый вздох.
– Увы, любезный мой чемодан! – воскликнул я. – Единственное мое утешение! Ты побывал, сколь я вижу, в чужих руках!
– Нет, нет, сеньор Жиль Блас! Успокойтесь, у вас ничего не украли, – сказала мне тогда старуха. – Я берегла ваш чемодан, как собственную честь.
Я нашел там платье, бывшее на мне при поступлении на графскую службу, но тщетно искал то, которое заказал мессинец. Моему барину не заблагорассудилось оставить мне эту одежду, или, быть может, кто-нибудь ее себе присвоил. Прочие же мои пожитки оказались налицо, и в том числе большой кожаный кошелек, в котором хранились деньги. Я дважды проверил его содержимое, ибо усомнился в своем первом подсчете, при котором обнаружил всего-навсего пятьдесят пистолей из двухсот шестидесяти, бывших там до моей болезни.
– Что бы это значило, матушка? – спросил я сиделку. – Моя казна сильно поубавилась.
– Могу вас заверить, – отвечала старуха, – что никто, кроме меня, до нее не касался, а я берегла ее, сколько могла. Но болезни стоят дорого, и деньги при этом так и плывут. Вот, сеньор, – добавила эта расчетливая хозяйка, вытаскивая из кармана пачку бумаг, – вот счет всех расходов. Он точнее точного. Вы усмотрите из него, что я ни гроша зря не истратила.
Я пробежал глазами памятную записку, состоявшую по меньшей мере из пятнадцати или двадцати страниц. Господи, сколько было накуплено всякой домашней птицы, пока я лежал без сознания! На одни только крепительные похлебки ушло не меньше двенадцати пистолей. Прочие статьи счета соответствовали этой. Трудно поверить, сколько старушка израсходовала на дрова, свечи, воду, метелки и т. п. Но хотя счет и был сильно раздут, все же итог еле составлял тридцать пистолей и, следовательно, не хватало еще ста восьмидесяти. Я поставил это старухе на вид, но она с наивнейшим лицом принялась клясться всеми святыми, что в кошельке было всего восемьдесят пистолей, когда графский дворецкий передал ей мой чемодан.
– Как, любезнейшая? – прервал я ее поспешно. – Вы, значит, получили мои пожитки из рук дворецкого?
– Да, от него, – подтвердила сиделка, – и в доказательство могу привести его собственные слова, которые он сказал мне при этом: «Нате, голубушка; когда сеньор Жиль Блас сыграет в ящик, то не забудьте почтить его хорошими похоронами: в чемодане хватит денег на все расходы».
– Ах, проклятый неаполитанец! – воскликнул я. – Теперь ясно, куда делись недостающие деньги. Ты стащил их, чтобы вознаградить себя за кражи, в которых я тебе помешал.
После этого риторического обращения я возблагодарил небо за то, что мошенник не унес всех денег. Несмотря на имевшиеся у меня основания обвинять в этом хищении дворецкого, я все же не оставлял мысли о том, что меня могла обворовать и сиделка. Мои подозрения падали то на него, то на нее, однако толку от этого не было никакого. Я ничего не сказал старухе и даже не попрекнул ее за сногсшибательный счет. Мне бы это не принесло никакой пользы, да к тому же у всякого свое ремесло. А потому я ограничил свою месть тем, что спустя три дня расплатился с ней и отпустил ее.
Вероятно, старуха прямо от меня отправилась уведомить аптекаря о своем уходе, а также о том, что я уже достаточно здоров, чтобы улепетнуть, не расплатившись с ним, ибо спустя несколько минут он прибежал запыхавшись и подал мне счет. Там перечислялись мнимые лекарства, которыми он якобы снабжал меня, пока я находился без чувств, и названия которых оказались мне не известны, хотя я сам был доктором. Этот счет по всей справедливости можно было назвать аптекарским, а потому при расплате дело не обошлось без ссоры. Я настаивал, чтоб он скинул половину указанной суммы, а он клялся, что не уступит ни обола. Рассудив, однако, что имеет дело с молодым человеком, который мог в тот же день улетучиться из Мадрида, он побоялся потерять все и предпочел удовольствоваться предложенной суммой, превышавшей к тому же втрое стоимость его лекарств. Я с величайшим огорчением отдал ему деньги, и он удалился, считая себя вполне отомщенным за маленькую неприятность, которую я ему причинил, когда он ставил мне клистир.
Лекарь явился почти вслед за ним, ибо эти животные обычно ходят гуськом. Я произвел с ним расчет за визиты, оказавшиеся весьма частыми, и отпустил его удовлетворенным. Перед тем как уйти, он пожелал доказать мне, что недаром получил деньги, и расписал мне подробно смертельные опасности, от которых избавил меня во время моей болезни. Он изложил это в весьма изящных выражениях и с самым обходительным видом, но тем не менее я решительно ничего не понял.
Распростившись с лекарем, я думал, что избавился от всех пособников Парки. Но я ошибся, ибо вскоре ко мне заявился фельдшер, которого я отродясь не видал. Он отвесил мне низкий поклон и выразил свою радость по поводу моего избавления от грозившей мне опасности, что, судя по его словам, он приписывал двум произведенным им обильным кровопусканиям, а также банкам, которые он имел честь мне поставить. Словом, новое перо из моего хвоста. Пришлось кое-что выложить и фельдшеру. После стольких слабительных кошелек мой сильно отощал и походил на высохшее тело – так мало оставалось в нем жизненного сока.
Видя себя в столь жалком положении, я начал терять мужество. У своих последних господ я слишком привык к удобствам жизни и не мог уже, как прежде, смотреть в глаза нужде с невозмутимостью философа-циника. Признаюсь, однако, что я был неправ, предаваясь грусти, ибо судьба, столько раз меня опрокидывавшая, сейчас же снова ставила на ноги. Мне следовало почитать прискорбное свое состояние за один из этапов, после которого должно наступить благополучие.
Книга восьмая
Глава I Жиль Блас заводит хорошее знакомство и находит должность, которая позволяет ему забыть неблагодарность графа Галиано. Похождения Валерио де Луна
Меня весьма удивляло, что за все это время о Нуньесе не было ни слуху, ни духу. Я предположил поэтому, что он уехал куда-нибудь за город. Оправившись от болезни, я пошел к нему и действительно узнал, что он уже три недели как находился в Андалузии вместе с герцогом Медина Седония.
Однажды утром по моем пробуждении я подумал о Мелькиоре де ла Ронда и, вспомнив данное ему в Гренаде обещание навестить его племянника, если когда-либо вернусь в Мадрид, решил сдержать слово в тот же день. Узнав, где находятся палаты дона Балтасара де Суньига, я отправился туда и спросил сеньора Хосе Наварро, который тотчас же вышел ко мне. На мое приветствие он ответил вежливо, но холодно, несмотря на то, что я назвал свое имя. Такое нелюбезное обхождение не вязалось с тем, что говорил мне про своего племянника старый камер-лакей.
Я было хотел удалиться с намерением не повторять своего визита, когда вдруг лицо его приняло любезное и открытое выражение и он сказал мне с величайшим радушием:
– Простите, ради бога, сеньор Жиль Блас, за прием, который я вам оказал. Моя дурная память виной тому, что я не выразил вам своего расположения. Ваше имя выскочило у меня из головы, и я не думал больше о кавалере, о котором упоминалось в письме, полученном мною из Гренады более четырех месяцев тому назад.
– Разрешите обнять вас, – добавил он, с восторгом бросаясь мне на шею. – Дядя Мелькиор, которого я люблю и почитаю, как родного отца, заклинает меня в письме, чтобы я принял вас, как его собственного сына, если мне выпадет честь повидаться с вами, и чтобы в случае надобности использовал в ваших интересах свое влияние, а также влияние моих друзей. Он отзывается о вашем уме и сердце в столь лестных выражениях, что я не преминул бы услужить вам, даже если бы он меня о том не просил. А потому благоволите смотреть на меня, как на человека, проникшегося к вам, благодаря дядиному письму, такими же чувствами, какие он сам питает. Примите мою дружбу и не откажите мне в своей.
Я ответил на учтивость Хосе с той благодарностью, какую он заслуживал, и даже не постеснялся изложить ему положение своих дел. Не успел я это сделать, как он сказал мне:
– Я постараюсь вас пристроить, а в ожидании этого приходите к нам кушать каждый день. У вас будет здесь лучший стол, чем на вашем постоялом дворе.
Для выздоравливающего человека, ощущавшего недостаток в деньгах и привыкшего к вкусной пище, такое предложение было слишком лестным, чтобы от него отказаться. Я согласился и так раздобрел в этом доме, что по прошествии двух недель стал походить лицом на бернардинца [149] . Мне показалось, что племянник Мелькиора не кладет охулки на руку. Да и как ему было класть? Ведь он сразу играл на трех струнах, будучи одновременно ключником, тафельдекером и дворецким. Кроме того, невзирая на нашу дружбу, я позволю себе предположить, что он был заодно с домоуправителем.
Здоровье мое окончательно поправилось, когда однажды, зайдя в палаты дона Суньиги, чтобы пообедать там по своему обыкновению, я повстречал своего друга Хосе, который радостно объявил мне:
– Сеньор Жиль Блас, я могу предложить вам довольно хорошую должность. Вы, быть может, знаете, что герцог Лерма, первый министр испанского королевства, желая всецело посвятить себя государственным делам, возложил бремя своих собственных на двух вельмож. Доходы собирает дон Диего де Монтесер, а расходами ведает дон Родриго Кальдерон. Эти два доверенных лица отправляют каждый свою должность полновластно и независимо друг от друга. При доне Диего обычно состоят два управителя для сбора доходов, и так как я узнал сегодня утром, что он прогнал одного из них, то попросил его предоставить вам это место. Сеньор де Монтесер знает меня и, смею похвастаться, питает ко мне расположение, а потому охотно снизошел к моей просьбе, выслушав лестные отзывы, которые я дал ему о вашем характере и способностях. Пойдемте к нему сегодня после полудня.
Так мы и поступили. Я был принят весьма любезно и назначен на место уволенного управителя. Должность эта заключалась в том, чтобы посещать мызы, распоряжаться починками, собирать деньги с арендаторов. Словом, я ведал герцогскими маетностями и ежемесячно представлял отчет дону Диего, который, несмотря на лестные обо мне отзывы моего приятеля, проверял их с сугубой тщательностью. Этого я и желал. Хотя мой последний барин дурно вознаградил меня за бескорыстие, однако же я решил соблюдать его и впредь.
Однажды нас известили, что в замке Лерма произошел пожар и что большая его половина обращена в пепел. Я немедля отправился на место происшествия, чтобы установить убытки. Расследовав старательно все обстоятельства пожара, я составил подробное донесение, которое Монтесер показал герцогу Лерме. Несмотря на то, что министр был весьма расстроен этим неприятным известием, однако же обратил внимание на донесение и даже спросил, кто его написал. Дон Диего не ограничился тем, что назвал автора, но отозвался обо мне с такой похвалой, что его светлость вспомнил об этом полгода спустя в связи с происшествием, о котором я сейчас расскажу и без которого я, быть может, никогда не попал бы ко двору. Вот что произошло.
Жила в то время на улице Инфант одна старая дама, которую звали Инесильей де Кантарилья. Никто достоверно не знал, какого она происхождения. Одни говорили, что она дочь лютенщика, другие – что ее отец был командором ордена св. Якова. Но так или иначе, а сеньора Кантарилья была необыкновенной особой. Природа наделила ее удивительным даром пленять мужчин на протяжении всей своей жизни, причем надо сказать, что ей уже минуло семьдесят пять лет. Она была кумиром прежнего двора и видела у своих ног весь нынешний. Время, не щадящее красоты, тщетно покушалось на ее прелести: они увядали, но не теряли своей обольстительности. Благодаря благородной осанке, чарующему уму и природной грации она и в старости не переставала покорять мужские сердца.
Один из секретарей герцога Лермы, двадцатипятилетний кавалер дон Валерио де Луна, навещал Инесилью и увлекся ею. Он поведал ей об этом и, отдавшись бешеной страсти, принялся преследовать свою жертву с таким пылом, какой способны разжечь только молодость и любовь. Дама, у которой было достаточно оснований воспротивиться его желаниям, не знала, как их охладить. Наконец ей показалось, что она нашла средство. Приказав однажды проводить молодого человека к себе в кабинет, она указала ему на куранты, стоявшие на столе, и промолвила:
– Взгляните, сеньор, на часы. В этот самый час я увидела свет божий семьдесят пять лет тому назад. Подумайте, под стать ли мне заниматься в моем возрасте любовными делами. Образумьтесь, дитя мое, подавите в себе чувства, которые не пристали ни вам, ни мне.
В ответ на эту рассудительную речь молодой человек, переставший внимать доводам рассудка, возразил даме со всей безудержностью человека, обуреваемого пламенными чувствами:
– Жестокая Инесилья, к чему прибегаете вы к таким пустым отговоркам? Неужели вы думаете, что они заставят меня смотреть на вас иными глазами? Не обольщайтесь ложной надеждой! Такая ли вы, какой мне представляетесь, или какие-либо чары околдовали мои взоры, но я никогда не перестану вас любить.
– Итак, – сказала она, – раз вы продолжаете упорствовать и намерены докучать мне своими ухаживаниями, то дом мой будет впредь для вас закрыт. Я больше вас не приму и запрещаю вам когда-либо показываться мне на глаза.
Вы, может быть, полагаете, что, обескураженный этой отповедью, дон Валерио ретировался с достоинством. Ничуть не бывало: он стал еще назойливее. Любовь производит на влюбленных такое же действие, как вино на пьяниц. Наш кавалер молил, вздыхал и, неожиданно перейдя от просьб к действиям, захотел взять силой то, чего не мог добиться иначе. Но дама, мужественно оттолкнув его от себя, воскликнула с раздражением:
– Остановитесь, дерзновенный, я навсегда положу конец вашей безрассудной страсти! Знайте, что вы мой сын!
Эти слова ошеломили дона Валерио, и он сдержал себя. Но, вообразив, что Инесилья сказала ему это только для того, чтобы уклониться от его посягательств, ответил ей:
– Вы выдумали эту басню, чтобы не уступить моим желаниям.
– Нет, нет, – прервала она его, – я сообщаю вам тайну, которую никогда бы не открыла, если бы вы не принудили меня к этому. Двадцать шесть лет тому назад я любила вашего отца, дона Педро де Луна, который был тогда сеговийским губернатором. Вы – плод этой любви. Он признал вас и позаботился о том, чтобы вы получили тщательное воспитание. Не имея других детей и побуждаемый к тому же вашими достоинствами, он решил отписать вам часть своего состояния. Я со своей стороны также не оставляла вас своими попечениями: как только вы начали выезжать в свет, я стала приглашать вас к себе, дабы вы усвоили те учтивые манеры, которые необходимы всякому галантному человеку и которые одни только женщины умеют привить молодому кавалеру. Помимо этого, я использовала свое влияние, чтобы устроить вас к первому министру. Словом, я сделала для вас все, что обязана была сделать для собственного сына. После этого признания поступайте по своему усмотрению. Если вы можете одухотворить свои чувства и смотреть на меня, только как на мать, то я не стану прогонять вас от себя и буду питать к вам прежнюю нежность. Но если вы не способны сделать над собой это усилие, которого требуют от вас природа и разум, то удалитесь сейчас же и избавьте меня от ужаса, который внушает мне ваше присутствие.
Вот что сказала ему Инесилья [150] . В это время дон Валерио хранил мрачное молчание: казалось, что он взывает к своей добродетели и собирается себя побороть. Но он и не думал об этом. У него зародилось новое намерение, и он готовил матери совсем иное зрелище. Не будучи в состоянии примириться с препятствием, мешавшим его счастью, он безвольно поддался отчаянию. Обнажив шпагу, он пронзил свою грудь и наказал себя сам, подобно Эдипу [151] , с той лишь разницей, что фиванец ослепил себя, побуждаемый раскаянием в содеянном грехе, а кастилец, напротив, покончил с жизнью из-за того, что не смог его совершить.
Несчастный дон Валерио умер не сразу от своей раны. Он успел еще прийти в себя и испросить у бога прощение за то, что лишил себя жизни. Так как с его смертью освободилась должность секретаря при герцоге Лерме, то этот министр, вспомнив мое донесение о пожаре, а также лестные отзывы, полученные им обо мне, назначил меня на место этого молодого человека.
Глава II Жиль Бласа представляют герцогу Лерме, который принимает его в число своих секретарей. Этот министр дает ему поручение и остается доволен его работой
Эту приятную весть я получил от Монтесера, который сказал мне:
– Хотя, друг Жиль Блас, я расстаюсь с вами не без сожаления, однако же слишком люблю вас, чтобы не радоваться вашему назначению на место дона Валерио. Вы не преминете сделать блестящую карьеру, если последуете двум советам, которые я собираюсь вам дать: во-первых, выкажите перед его светлостью такое рвение, чтобы он не сомневался в вашей беззаветной преданности; во-вторых, ходите на поклон к сеньору Родриго Кальдерону, ибо этот человек обращается с душой своего господина, как с воском. Если вам выпадет счастье снискать расположение любимого секретаря, то вы пойдете далеко в самое короткое время, в чем беру на себя смелость вам поручиться.
– Сеньор, – спросил я дона Диего, поблагодарив его за советы, – не будете ли вы столь любезны сказать мне, какой характер у дона Родриго? Я слыхал несколько раз, как люди о нем судачили. Они отзывались о графском любимце, как о довольно дурном человеке. Но я не доверяю тому, что говорит народ о лицах, состоящих при дворе, хотя иной раз он судит вполне здраво. Не откажите сообщить, какого вы мнения о сеньоре Кальдероне.
– Вы задали мне щепетильный вопрос, – возразил управитель с лукавой улыбкой. – Всякому другому я ответил бы, не колеблясь, что он достойнейший идальго и что о нем можно сказать одно только хорошее. Но с вами я буду откровенен. Во-первых, потому, что считаю вас молодым человеком, весьма сдержанным на язык, а во-вторых, полагаю, что обязан говорить с вами чистосердечно о доне Родриго, поскольку сам советовал вам снискать его благоволение; иначе выйдет, что я оказал вам услугу только наполовину. Узнайте же, – продолжал он, – что, будучи сперва простым слугой у его светлости, когда тот назывался еще только доном Франсиско де Сандоваль, он мало-помалу дошел до должности первого секретаря. Нет на свете человека более гордого, чем дон Родриго. Он отвечает на учтивости, которые ему оказывают, только тогда, когда у него имеются на это веские причины. Словом, он почитает себя как бы собратом герцога Лермы и в сущности разделяет с ним власть первого министра, так как раздает должности и губернаторства, как ему заблагорассудится. Народ нередко ропщет, но это его ничуть не беспокоит: лишь бы ему сорвать мзду со всякого дела, а на хулителей он плюет. Вы усмотрите из того, что я вам сказал, – добавил дон Диего, – какого поведения вам держаться со столь надменным смертным.
– Разумеется, – отвечал я. – Было бы особенной невезухой, если бы я не сумел снискать расположение этого сеньора. Когда знаешь недостатки человека, которому хочешь понравиться, то надо быть редким растяпой, чтобы не добиться успеха.
– Если так, – заметил Монтесер, – то я не замедлю представить вас герцогу Лерме.
Мы, не откладывая, отправились к этому министру, которого застали в просторном зале, где он давал аудиенции. Просителей там толпилось больше, чем у самого короля. Я видел командоров и кавалеров орденов св. Якова и Калатравы, выхлопатывавших себе губернаторства и вице-королевства, епископов, которые хворали в своих епархиях и только ради перемены климата хотели стать архиепископами, а также тишайших отцов доминиканцев и францисканцев, смиренно просивших, чтобы их рукоположили в епископы. Были там и отставные офицеры, подвизавшиеся в такой же роли, как незадолго перед тем капитан Чинчилья, т. е. томившиеся в ожидании пенсии. Если герцог и не удовлетворял их желаний, то, по крайней мере, приветливо принимал от них челобитные, и я заметил, что он отвечал весьма учтиво тем, кто с ним разговаривал.
Мы терпеливо дождались, пока он отпустил всех просителей. Тогда дон Диего сказал ему:
– Дозвольте, ваша светлость, представить вам Жиль Бласа из Сантильяны. Это тот молодой человек, которого ваша светлость назначили на место дона Валерио.
При этих словах министр взглянул на меня и любезно заметил, что я уже заслужил это назначение теми услугами, которые ему оказал. Затем он велел мне пройти в его кабинет, чтобы поговорить со мной с глазу на глаз, или, точнее, чтобы из личной беседы составить себе суждение о моих способностях. Прежде всего он пожелал узнать, кто я такой и какую жизнь вел до этого. Он даже потребовал, чтобы я ничего не скрыл от него. Исполнить такое приказание было нелегким делом. Не могло быть речи о том, чтобы солгать первому министру испанского королевства. С другой стороны, мне предстояло повествовать о стольких событиях, тягостных для моего самолюбия, что я был не в силах решиться на полную исповедь. Как выйти из такого затруднения? Я надумал слегка прикрыть истину в тех местах, где она могла испугать его своей наготой. Но он докопался до сути, несмотря на всю мою изворотливость.
– Вижу, господин Сантильяна, что вы до известной степени пикаро [152] , – сказал он улыбаясь, когда я кончил свое повествование.
Это замечание заставило меня покраснеть, и я отвечал ему:
– Ваша светлость сами приказали мне быть искренним: я не смел ослушаться.
– Благодарю тебя за это, дитя мое, – промолвил он. – В общем ты дешево отделался, и я удивляюсь тому, что дурные примеры не сгубили тебя вконец. Найдется немало честных людей, которые превратились бы в отчаянных плутов, если бы судьба послала им такие же испытания. Друг Сантильяна, – продолжал министр, – забудь свое прошлое: помни, что ты служишь теперь королю и будешь впредь трудиться для него. Ступай за мной; я покажу тебе, в чем будут состоять твои занятия.
С этими словами герцог повел меня в маленький кабинет, который помещался рядом с его собственным и где на полках стояло штук двадцать толстенных фолиантов.
– Ты будешь работать здесь, – сказал он. – Эти фолианты представляют собой роспись всех знатных родов [153] , имеющихся в королевствах и княжествах испанской монархии. Каждая книга содержит в алфавитном порядке краткую историю дворян данной области, причем там перечисляются услуги, оказанные ими и их предками государству, равно как и поединки, в которых они участвовали. Упоминается там также об их поместьях, об их нравах и вообще обо всех их хороших и дурных особенностях, так что когда они являются ко двору просить каких-либо милостей, то я сразу вижу, заслуживают ли они их или нет. Для получения точных и подробных сведений я держу везде лиц на жалованье, которые наводят справки и присылают мне свои донесения. Но поскольку эти донесения слишком многословны и полны провинциализмов, то необходимо их отделать и сгладить слог, так как король иногда приказывает, чтобы ему их читали. А потому я и хочу, чтобы ты тотчас же приступил к этой работе, требующей четкого и сжатого стиля.
С этими словами герцог вынул из папки, наполненной бумагами, одно из донесений и вручил его мне. Затем он вышел из моего кабинета, предоставив своему новоиспеченному секретарю приняться без помехи за первый опыт. Я прочел докладную записку и обнаружил, что она была не только нашпигована варварскими выражениями, но к тому же написана с излишней страстностью. А между тем ее составил один сольсонский монах. Его преподобие, притворившись порядочным человеком, поносил в нем без малейшего милосердия один знатный каталанский род, и только богу известно, говорил ли он правду. Я испытывал такое ощущение, точно читаю гнусный пасквиль, и мне сперва показалось зазорным браться за эту работу, так как не хотелось стать соучастником клеветы. Но хотя я был еще новичком при дворе, однако справился со своей совестью, поставив на карту спасение души доброго монаха, и, отнеся за его счет все несправедливости, – если таковые были, – принялся бесчестить изысканным кастильским слогом два или три поколения, быть может, вполне порядочных людей.
Я написал уже четыре или пять страниц, когда герцог, которому не терпелось узнать, как я справился с работой, вернулся в мой кабинет и сказал:
– Покажи-ка, Сантильяна, что ты там написал; мне хочется взглянуть.
При этом он посмотрел на мою работу и, прочтя начало с большим вниманием, остался так доволен ею, что даже удивил меня.
– Сколь я ни был расположен в твою пользу, – промолвил он, – однако же признаюсь тебе, что ты превзошел мои ожидания. Ты не только пишешь со всей ясностью и четкостью, которые мне нужны, но я нахожу также, что у тебя легкий и живой стиль. Остановив свой выбор на тебе, я не ошибся в твоих литературных дарованиях, и это утешает меня в утрате твоего предшественника.
Министр, вероятно, не ограничился бы этой похвалой, если бы не вошел граф Лемос, его племянник, и не помешал ему продолжать. Герцог обнял его несколько раз с большой сердечностью, из чего я заключил, что он питает к нему нежную привязанность. Они заперлись вдвоем, чтобы обсудить по секрету одно важное семейное дело, о котором я расскажу ниже и которое в ту пору занимало министра больше, чем все королевские дела.
Пока они совещались, пробило двенадцать. Зная, что секретари и другие чиновники покидали в этот час присутствие и отправлялись обедать, куда им заблагорассудится, я отложил свой шедевр в сторону и вышел, но не для того, чтобы пойти к Монтесеру, который уплатил мне мое жалованье и с которым я уже простился, а для того, чтобы заглянуть к самому известному кухмистеру в дворцовом квартале. Простой трактир меня уже не удовлетворял. «Помни, что ты теперь служишь королю», – эти слова не выходили у меня из памяти и превращались в семена честолюбия, которые с каждой минутой пускали все больше и больше ростков в моей душе.
Глава III Жиль Блас узнает, что его должность не лишена неприятностей. О тревоге, в которую повергает его это известие, и о том, какого образа действий он решает держаться при таких обстоятельствах
Войдя в кухмистерскую, я не преминул осведомить хозяина о том, что состою секретарем у первого министра, и, чувствуя себя такой важной персоной, даже затруднялся, какой обед себе заказать. Опасаясь потребовать блюда, которые бы отдавали скупостью, я предоставил ему самому выбрать то, что ему заблагорассудится. Он накормил меня отличным обедом, за которым мне прислуживали с превеликим почтением, отчего я получил даже больше удовольствия, нежели от самих кушаний. При расплате я бросил на стол пистоль, добрая четверть которого досталась прислуге, так как я не взял сдачи. Затем я вышел из кухмистерской, выпятив вперед грудь, с видом молодого человека, весьма довольного своей особой.
В двадцати шагах оттуда находилась гостиница, где обычно останавливались иностранные вельможи. Я снял там помещение, состоявшее из пяти или шести меблированных комнат. Можно было подумать, что я уже располагаю доходом в две или три тысячи дукатов. Уплатив за месяц вперед, я вернулся на работу и продолжал весь день трудиться над тем, что начал с утра. В соседнем со мной кабинете сидели два других секретаря; но они только переписывали начисто те бумаги, которые герцог лично им передавал. Я познакомился с ними в тот же вечер, по окончании присутствия, и, чтоб сойтись поближе, затащил их к своему кухмистеру, где заказал лучшие сезонные блюда, а также самые тонкие вина.
Мы уселись за стол и принялись за беседу, которая отличалась скорей веселостью, нежели остроумием, ибо надо сказать, что гости мои, как я вскоре убедился, получили свои должности отнюдь не за умственные способности. Правда, они изрядно писали рондо и полуанглийским шрифтом, но не имели ни малейшего представления о науках, изучающихся в университетах.
Зато они отлично разбирались в своих собственных делишках и, как я заметил, не были настолько ослеплены честью состоять при первом министре, чтобы не жаловаться на свое положение.
– Вот уже шесть месяцев, – сообщил один из них, – как мы живем на собственный счет. Нам не платят жалованья, и всего хуже то, что наш оклад еще не установлен. Мы не знаем, на каком свете находимся.
– Что касается меня, – заявил его товарищ, – то я предпочел бы получить вместо жалованья сто ударов плетьми с тем, чтобы мне позволили сыскать себе другое место, ибо я боюсь не только уйти самовольно, но и просить об увольнении, так как переписывал секретные бумаги. Я легко мог бы угодить в сеговийскую башню или в аликантскую крепость.
– На какие же средства вы живете? – спросил я тогда. – У вас, вероятно, есть какие-нибудь достатки?
Они ответили мне, что богатство их очень невелико, но что, по счастью, они поселились у одной честной вдовы, которая отпускает им в долг и кормит их за сто пистолей в год. Это сообщение, из которого я не упустил ни слова, развеяло в один миг мое горделивое опьянение. Я решил, что со мной могут поступить не лучше, что у меня нет оснований приходить в восторг от своей должности, оказавшейся менее прочной, чем я себе представлял, и что мне не мешало бы обходиться бережливее со своим кошельком. Эти размышления исцелили меня от страсти к безумным тратам. Я начинал раскаиваться в том, что пригласил в кухмистерскую секретарей, и с нетерпением ждал окончания ужина, а когда дело дошло до расплаты, даже поругался с хозяином из-за счета.
Мои сослуживцы расстались со мной в полночь, так как я не настаивал на продолжении попойки. Они отправились к вдове, а я удалился в свои роскошные покои, бесясь на то, что их снял, и давая себе обещания выбраться оттуда к концу месяца. Несмотря на то, что я улегся на превосходную постель, мое беспокойство не позволило мне сомкнуть глаз. Я провел остаток ночи, изыскивая средства не работать даром на его королевское величество. Решив последовать совету Монтесера, я встал с намерением сходить на поклон к дону Родриго. Я был в самом подходящем настроении, чтобы предстать перед этим гордым человеком, ибо чувствовал, что нуждаюсь в нем.
Итак, я отправился к секретарю. Его покои примыкали к апартаментам герцога Лермы и не уступали им в великолепии. По убранству комнат трудно было отличить господина от слуги. Я приказал доложить о себе как о преемнике дона Валерио, невзирая на что меня заставили прождать в прихожей более часа.
«Запаситесь терпением, господин новый секретарь, – говорил я сам себе в это время. – Вам придется долго подежурить в чужих передних, прежде чем другие начнут дежурить в вашей».
Наконец двери покоя раскрылись. Я вошел и направился к дону Родриго в то самое время, когда он, дописав любовную записку своей очаровательной сирене, передал ее Педрильо. Ни мадридскому архиепископу, ни графу Галиано, ни даже самому первому министру не представлялся я с таким почтительным видом, как сеньору Кальдерону. Поклонившись ему до земли, я попросил его покровительства в выражениях, исполненных такого раболепства, что до сих пор не могу вспомнить о них без стыда, так я перед ним пресмыкался. Такое подобострастие сыграло бы мне скверную службу в глазах всякого человека, менее ослепленного гордостью, чем дон Родриго. Но что касается его, то моя угодливость пришлась ему по вкусу, и он ответил, даже довольно учтиво, что не упустит случая оказать мне услугу.
Поблагодарив его с величайшим усердием за проявленное ко мне благоволение, я поклялся ему в вечной преданности. Затем, опасаясь его обеспокоить, я удалился, прося извинить меня, если я помешал ему в его важных занятиях.
После этого недостойного поступка я покинул апартаменты дона Родриго и, преисполненный смущения, пошел в свой кабинет, где довел до конца работу, порученную мне накануне. Герцог не преминул заглянуть туда поутру и, найдя, что я так же хорошо кончил, как начал, сказал мне:
– Очень недурно, Сантильяна. Впиши теперь сам, и как можно чище, это сокращенное донесение в соответствующий том росписи. Затем ты возьмешь из папки другую докладную записку и исправишь ее точно таким же образом.
Я довольно долго беседовал с герцогом, ласковое и обходительное обращение которого меня очаровало. Какая разница между ним и Кальдероном! Это были две натуры, во всем противоположные друг другу.
В этот день я обедал в дешевом трактире и принял намерение ходить туда инкогнито каждый день, пока не выяснится, чего я добился своей угодливостью и подобострастием. Денег у меня хватало самое большое на три месяца. Я наметил этот срок, чтобы ублажить кого следует, и решил, что если по истечении этого времени мне не заплатят жалованья, то покину двор и его обманчивый блеск, ибо короткие безумства – самые лучшие. Таков был мой план. В течение двух месяцев я лез из кожи вон, чтобы понравиться Кальдерону, но он обращал так мало внимания на все мои потуги, что я потерял всякую надежду добиться какого-либо успеха. Тогда я переменил тактику и, перестав ходить к нему на поклон, старался использовать в своих интересах лишь те минуты, когда мне случалось беседовать с герцогом.
Глава IV Жиль Блас входит в милость к герцогу Лерме, который доверяет ему важную тайну
Хотя герцог – если так можно выразиться – только мелькал передо мной ежедневно, однако же мне удалось постепенно расположить его к себе до такой степени, что он сказал как-то после полудня:
– Послушай, Жиль Блас, мне нравится твой характер, и я питаю к тебе расположение. Ты старательный и преданный малый, к тому же умен и не болтлив. Полагаю, что не просчитаюсь, если облеку тебя своим доверием.
Услыхав такие слова, я бросился герцогу в ноги и, почтительно облобызав руку, которую он мне протянул, воскликнул:
– Возможно ли, чтобы ваша светлость почтили меня столь великой милостью? Сколько тайных врагов создаст мне эта благосклонность! Но есть только один человек, мести которого я боюсь: это дон Родриго Кальдерон.
– С этой стороны тебе ничего не грозит, – возразил герцог. – Я знаю Кальдерона; он поступил ко мне еще мальчиком. Наши вкусы настолько сходятся, что он любит все, что я люблю, и ненавидит то, что я ненавижу. Не бойся поэтому, чтобы он отнесся к тебе с неприязнью; напротив, можешь рассчитывать на его дружбу.
Из этого я заключил, что дон Родриго был ловкая шельма, всецело подчинившая герцога своему влиянию, и что мне надлежало соблюдать по отношению к нему величайшую осторожность.
– Первым доказательством моего доверия, – продолжал герцог, – будет то, что я открою тебе свои намерения. Необходимо, чтобы ты знал о них, ибо это поможет тебе справиться с поручениями, которые я собираюсь на тебя возложить. Вот уже давно, как мой авторитет признан всеми, мои постановления слепо выполняются и я раздаю по своему усмотрению должности, места, губернаторства, вице-королевства и бенефиции. Смею сказать, что я царствую в Испании. Более высокого положения не существует, и мне дальше некуда стремиться. Но я хотел бы оградить его от бурь, которые начинают ему угрожать, а потому желаю, чтобы мой племянник, граф Лемос, стал моим преемником на министерском посту.
Заметив в этом месте своей речи мое изумление, герцог продолжал:
– Вижу, Сантильяна, вижу, что именно тебя удивляет. Тебе кажется странным, что я предпочитаю племянника своему родному сыну, герцогу Уседскому. Но мой сын не обладает достаточными способностями, чтобы занять мое место, и, кроме того, мы с ним враги. Он ухитрился заслужить расположение короля, который хочет сделать его своим фаворитом, а этого я не могу допустить. Милость монарха можно уподобить обладанию любимой женщиной: это такое счастье, которое всякий бережет для себя и которым ни за что не поделится с соперником, хотя бы его соединяли с ним узы крови или дружбы.
Ты знаешь теперь тайну моего сердца, – добавил он. – Я уже пытался опорочить перед королем герцога Уседского, но так как мне это не удалось, то приходится выстроить свои батареи по другой линии. Я хочу, чтобы граф Лемос, со своей стороны, заручился доверием инфанта [154] . Состоя при нем камер-юнкером, мой племянник имеет случай говорить с ним во всякое время; он человек неглупый, а кроме того, я знаю надежное средство, которое поможет ему добиться успеха в этом предприятии. Благодаря такой стратегии я противопоставлю племянника сыну. Между двоюродными братьями возникнет разлад, который заставит их искать у меня поддержки, и, нуждаясь во мне, они оба должны будут повиноваться моей воле. Вот в чем состоит мой план, – добавил он, – и твое содействие может мне понадобиться. Я намерен посылать тебя тайно к графу Лемосу [155] , и ты будешь докладывать мне все, что он прикажет тебе передать.
Выслушав это конфиденциальное сообщение, которое было, по моему мнению, равноценно наличным деньгам, я отложил всякую тревогу.
«Наконец-то я добрался до рога изобилия; теперь на меня польется золотой дождь, – сказал я сам себе. – Не может быть, чтобы наперсник человека, управляющего испанской монархией, не приобрел в самое короткое время несметных богатств».
Лелеемый сей сладостной надеждой, я смотрел с равнодушием на то, как таяло содержимое моего бедного кошелька.
Глава V, в которой читатель увидит, как Жиль Блас испытал одновременно радость, почести и нужду
При дворе скоро заметили благоволение, которое оказывал мне первый министр. Он подчеркивал его открыто, поручая мне нести свой портфель, который обычно брал с собой, когда отправлялся в Совет. Это новшество, благодаря которому на меня стали смотреть, как на маленького фаворита, возбудило зависть некоторых лиц и было причиной того, что меня начали осыпать пустыми учтивостями. Оба секретаря из соседнего кабинета также поторопились поздравить меня с предстоящей карьерой и пригласили отужинать к своей вдове не столько в порядке реванша, сколько в расчете на то, что это побудит меня оказать им впоследствии услугу. Меня чествовали со всех сторон. Даже надменный дон Родриго переменил свое отношение ко мне. Теперь он называл меня не иначе, как «сеньор Сантильяна», а прежде говорил мне просто «вы» и никогда не величал «сеньором». Он осыпал меня любезностями, в особенности тогда, когда герцог мог это заметить. Но уверяю вас, он попал не на простофилю. Чем больше я испытывал к нему ненависти, тем вежливее отвечал на его учтивости: даже старый царедворец не смог бы выполнить это ловче меня.
Я также сопровождал своего светлейшего господина, когда он отправлялся к королю, а навещал он его три раза в день. Утром, как только король просыпался, герцог заходил в его опочивальню и, став на колени у изголовья постели, сообщал, что величеству предстояло делать и говорить в этот день. Затем он уходил и возвращался сейчас же после королевского обеда, но уже не для деловых разговоров, а для того, чтобы развлечь его величество. Он рассказывал ему про забавные происшествия, которые приключились в Мадриде и о которых он был всегда осведомлен раньше других через лиц, оплачиваемых им специально для этой цели. Наконец, вечером он в третий раз виделся с королем, отдавал ему, по своему усмотрению, отчет в том, что сделал за день, и ради проформы просил распоряжений на завтра. Пока герцог находился у монарха, я околачивался в антикамере, где встречался с вельможами, которые, лебезя перед фаворитом, искали случая завязать со мной разговор и радовались, когда я снисходил до беседы с ними. Как было тут не возомнить себя влиятельной персоной? При дворе найдется немало людей, думающих о себе то же самое с гораздо меньшим основанием.
Одно обстоятельство послужило для меня особенным поводом к тщеславию. Король, которому герцог расхвалил слог своего секретаря, полюбопытствовал познакомиться с образчиком моего творчества. Министр приказал мне захватить каталонскую роспись, повел меня к монарху и велел прочесть вслух первое исправленное мною донесение. Сперва я смутился перед его величеством, но присутствие министра вскоре меня ободрило; я прочел свое произведение, которое король прослушал не без удовольствия. Государь даже изволил сказать, что он мною весьма доволен, и поручил первому министру позаботиться о моем благополучии. Гордость моя от этого отнюдь не уменьшилась, а разговор, который произошел у меня несколько дней спустя с графом Лемосом, окончательно вскружил мне голову честолюбивыми мечтами.
Я отправился к этому вельможе от имени его дяди и, застав его в апартаментах инфанта, вручил ему верительную грамоту, в которой герцог писал племяннику, что он может быть со мною вполне откровенен, так как я посвящен в его намерения и избран им в качестве их обоюдного посланца. Прочитав эпистолу, граф отвел меня в покой, где мы заперлись, и там этот молодой сеньор держал мне следующую речь:
– Раз вы пользуетесь доверием герцога Лермы, то я не сомневаюсь в том, что вы его заслуживаете, а потому и сам могу вполне на вас положиться. Знайте же, что дела обстоят как нельзя лучше. Инфант отличает меня среди прочих сеньоров, состоящих при его особе и старающихся снискать его благосклонность. Сегодня утром у меня был с ним конфиденциальный разговор, из которого я усмотрел, что принц, по-видимому, огорчен скупостью короля, препятствующей ему следовать великодушным велениям своего сердца и даже поддерживать образ жизни, подобающий его положению. На это я не преминул выразить его высочеству свое сочувствие и, воспользовавшись моментом, обещал принести завтра к утреннему приему тысячу пистолей в ожидании более крупных сумм, которыми обязался снабжать его впредь. Принц весьма обрадовался моему обещанию, и я уверен, что приобрету его расположение, если сдержу свое слово. Передайте, – добавил он, – моему дяде обо всех этих обстоятельствах и приходите сегодня вечером сообщить мне, каково его мнение.
Граф Лемос отпустил меня после этой речи, и я тотчас же отправился к герцогу Лерме, который, выслушав мое донесение, послал к Кальдерону за тысячью пистолями. Получив вечером эти деньги, я понес их к графу и по дороге рассуждал сам с собой:
«Да, да, теперь я понимаю, в чем заключается надежное средство, с помощью которого министр намерен добиться успеха. Он прав, черт подери! И судя по всем данным, эта расточительность его не разорит. Догадываюсь, из чьих сундуков он черпает эти полновесные червонцы; но, в сущности, разве несправедливо, чтобы отец содержал сына?»
Когда я расставался с графом Лемосом, он шепнул мне:
– До свидания, милейший наш наперсник! Должен еще вам сказать, что инфант не совсем равнодушен к прекрасному полу. Необходимо, чтоб при первой же нашей встрече мы побеседовали об этом: предвижу, что мне скоро придется прибегнуть к вашему содействию.
Возвращаясь к себе, я размышлял об этих далеко не двусмысленных словах, наполнивших радостью мое сердце.
– Ax, черт подери, – воскликнул я, – неужели мне суждено стать Меркурием наследника престола!
Я не вдавался в рассуждения о том, хорошо ли это или дурно; высокое положение августейшего сердцееда заглушило во мне нравственные принципы. Какая честь быть министром забав у принца крови!
«Полегче, сеньор Жиль Блас, – скажут мне, – ведь вам предстояло быть только вице-министром».
Готов с этим согласиться: но, по существу, обе должности одинаково почетны; разница только в барышах.
Ах, сколь я был бы счастлив, исполняя эти благородные поручения, с каждым днем входя все больше и больше в милость к первому министру и лаская себя самыми радужными надеждами, если б мог быть сыт одним только тщеславием! Прошло уже более двух месяцев, как я отказался от своей великолепной квартиры и снял крошечную меблированную комнату, из самых скромных. Это меня огорчало, но так как я уходил с раннего утра, а возвращался домой только чтоб переночевать, то терпеливо нес свой крест. Целый день я проводил на сцене, т. е. у герцога, разыгрывая роль важного сеньора. Но как только я попадал в свою конуру, сеньор испарялся, и его место заступал бедный Жиль Блас без гроша денег и, что еще хуже, без всякой возможности их раздобыть. Не говоря о том, что гордость мешала мне признаться в своей нужде, я к тому же не знал никого, кто мог бы мне помочь, кроме дона Наварро, знакомством с которым я так пренебрег, с тех пор как попал ко двору, что не смел теперь к нему обратиться. Мне пришлось продать свои вещи одну за другой и оставить себе только самое необходимое. Я перестал ходить в трактир, так как у меня не было чем заплатить за обед. Как же я поддерживал свое существование? Не скрою этого от вас. Каждое утро нам приносили в присутствие на завтрак крошечный хлебец и наперсток вина: вот и все, что давал нам министр. За весь день я питался только этим, а вечером по большей части ложился без ужина.
Таково было положение человека, блиставшего при дворе, где ему надлежало вызывать не столько зависть, сколько сожаление. Но в конце концов я уже не мог дольше выносить лишений и решил сообщить о них герцогу, как только найду подходящий случай. К счастью, он представился в Эскуриале [156] , куда король и инфант отправились несколько дней спустя.
Глава VI Как Жиль Блас поведал о своей бедности герцогу Лерме и как сей министр поступил с ним после этого
Когда король пребывал в Эскуриале, то все, кто находился в свите, содержались на его счет, а потому я не испытывал в это время никакой нужды. Я спал в гардеробной подле герцогской опочивальни. Однажды утром, встав, по своему обыкновению, на рассвете, этот министр приказал мне взять письменные принадлежности и бумагу и последовать за ним в дворцовый сад. Мы уселись под деревьями, и по приказу герцога я принял позу человека, пользующегося своей шляпой в качестве пюпитра; сам он, держа в руках бумажку, притворялся, будто читает ее. Глядя на нас издали, можно было подумать, что мы заняты весьма важными делами, а на самом деле мы болтали о пустяках, которые его светлость отнюдь не презирал.
Прошло уже более часа, как я развлекал герцога разными шутками, черпая их из своей игривой фантазии, когда две сороки уселись на деревья, бросавшие на нас свою тень. Они принялись так громко стрекотать, что привлекли наше внимание.
– Эти птицы, по-видимому, повздорили, – заметил герцог. – Хотел бы я знать причину их ссоры.
– Желание вашей светлости, – отвечал я, – напомнило мне одну индийскую басню, которую я вычитал у Бидпаи [157] или какого-то другого баснописца.
Министр пожелал узнать ее содержание, и я рассказал ему следующее:
– В Персии некогда царствовал один добрый государь, который не обладал достаточными способностями, чтоб управлять страной, а потому возложил все заботы об этом на великого визиря. Сей министр, по имени Аталмук, был человеком весьма одаренным. Бремя управления столь обширной монархией нисколько его не тяготило, и при нем всегда царил мир. Благодаря его стараниям подданные прониклись любовью и уважением к царской власти и нашли в визире, преданном своему государю, любящего отца. В числе секретарей Аталмука был молодой кашмирец, по имени Зеангир, которого он любил больше других. Он находил удовольствие в беседе с Зеангиром, брал его с собой на охоту и не скрывал от него даже самых тайных мыслей. Однажды, когда они охотились вместе в каком-то лесу, визирь увидал двух воронов, каркавших на дереве, и сказал своему секретарю:
– Мне бы очень хотелось знать, о чем разговаривают эти птицы на своем языке.
– Господин, – отвечал кашмирец, – ваше желание может быть исполнено.
– Каким же образом? – спросил Аталмук.
– А вот как, – возразил Зеангир. – Один дервиш-чернокнижник обучал меня птичьему языку. Если вам угодно, я подслушаю разговор этих птиц и повторю вам слово в слово то, о чем они беседуют.
«Визирь согласился. Тогда кашмирец подошел поближе к воронам и притворился, будто внимательно их слушает, а затем, вернувшись к визирю, сказал:
– Поверите ли вы, господин мой, что их разговор касается нас.
– Быть не может! – вскричал визирь. – И что же они говорят?
– Один из них, – продолжал Зеангир, – сказал: «Вот он сам, этот великий визирь Аталмук, этот орел-покровитель, расстилающий свои крылья над Персией, как над родным гнездом, и пекущийся неустанно об ее неприкосновенности. Он охотится в этом лесу с верным своим Зеангиром, дабы отдохнуть от тягостных трудов. Сколь счастлив этот секретарь, служа господину, осыпающему его милостями!» – «Не торопитесь, – прервал его второй ворон, – не торопитесь превозносить счастье этого кашмирца. Правда, Аталмук беседует с ним запросто, удостаивает его своего доверия, и я не сомневаюсь, что он намеревается доставить ему высокую должность, но до тех пор Зеангир успеет умереть с голоду. Бедняга живет в крохотной меблированной комнатушке и нуждается в самом необходимом. Словом, он ведет самую жалкую жизнь, но никто при дворе этого не замечает. Великому визирю не приходит в голову осведомиться о том, хороши ли или плохи его дела, и, довольствуясь своим благоволением к нему, он оставляет его в когтях бедности».
Тут я остановился, желая узнать, что скажет герцог Лерма по этому поводу. Он спросил меня с улыбкой, какое впечатление произвела притча о птицах на Аталмука и не обиделся ли великий визирь на дерзость своего секретаря.
– Нет, ваша светлость, – отвечал я несколько смущенный вопросом герцога, – басня, напротив, повествует, что он всячески наградил его.
– Зеангиру повезло, – заметил он серьезным тоном, – далеко не всякий министр позволил бы читать себе нравоучения. Однако, – добавил он, прекращая разговор и приподымаясь, – король должен скоро проснуться. Мои обязанности призывают меня к нему.
С этими словами он быстро направился ко дворцу, видимо недовольный моей индусской басней, так как по дороге не сказал мне ни слова.
Я последовал за ним до дверей королевской опочивальни, а затем понес находившиеся при мне бумаги туда, откуда их взял, и зашел в кабинет, где работали оба секретаря-переписчика, которые также сопровождали двор.
– Что с вами, сеньор Сантильяна? – воскликнули они, завидя меня. – Вы так расстроены! Не случилось ли с вами какой неприятности?
Находясь под впечатлением неудачи с притчей, я не смог скрыть от них своего огорчения. Когда я передал им содержание своей беседы с герцогом, они выразили мне сочувствие по поводу глубокой скорби, которую я переживал.
– Ваша печаль, – сказал мне один из них, – действительно не лишена основания. Герцог иной раз способен рассердиться.
– К сожалению, это так, – заметил другой. – Дай бог, чтоб с вами обошлись лучше, чем с секретарем кардинала Спиносы [158] . Этот секретарь прослужил у его высокопреосвященства пятнадцать месяцев, не получая никакого жалованья, и однажды осмелился заговорить о своих нуждах и попросить немного денег на жизнь. «Вполне справедливо, чтоб вам заплатили, – ответил ему кардинал. – Возьмите вот это, – добавил он, передавая ему ассигновку на тысячу дукатов, – и получите деньги в казначействе, но помните, что вы у меня больше не служите». Секретарь не стал бы печалиться по поводу увольнения, если б ему заплатили тысячу дукатов и позволили сыскать себе другое место; но, как только он вышел от кардинала, его задержал альгвасил и отправил раба божьего в сеговийскую крепость, где он долго находился в заключении.
Этот исторический эпизод нагнал на меня еще больше страху. Я счел себя конченым человеком и, не будучи в состоянии утешиться, принялся упрекать себя за свою несдержанность, точно я действительно проявил недостаточно терпения.
«Увы! – говорил я сам себе, – чего ради рискнул я рассказать эту злосчастную басню, вызвавшую неудовольствие его светлости? Быть может, он уже сам намеревался избавить меня от нужды. Возможно даже, что судьба готовила мне одну из тех неожиданных удач, которые удивляют мир. Сколько богатств, сколько почестей упустил я из-за своего легкомыслия! Мне следовало бы подумать о том, что многие высокопоставленные особы не выносят указаний и требуют, чтоб от них принимали, как милость, малейшую награду, которую они и без того обязаны дать. Лучше бы мне поститься по-прежнему, ничего не говоря герцогу, и даже умереть с голоду, чтобы вся вина пала на него».
Если б у меня и оставались еще кой-какие надежды, то герцог, с которым я встретился после полудня, окончательно рассеял их. Против своего обыкновения, он держал себя со мной очень серьезно и не сказал мне ни слова, что заставило меня провести остаток дня в смертельной тревоге. Ночь прошла для меня беспокойно: я не переставал вздыхать и печалиться, сожалея об утрате сладчайших упований и боясь увеличить собой число политических узников.
Следующий день был днем кризиса. Герцог приказал позвать меня с утра. Я вошел в его покой, дрожа сильнее, чем преступник, которого собираются судить.
– Сантильяна, – сказал он, протягивая мне бумажку, которую держал в руках, – возьми эту ассигновку…
При слове «ассигновка» я весь затрепетал и сказал сам себе:
«О боже! Совсем как кардинал Спиноса! А там меня ждет карета, чтоб вести в Сеговию».
Обуявший меня в ту минуту ужас был так силен, что я бросился к ногам министра и, заливаясь слезами, воскликнул:
– Умоляю вас, ваша светлость, простите мою дерзость! Только крайняя нужда могла заставить меня сообщить вам о своем положении.
Видя, что я так растерялся, герцог не смог удержаться от смеха.
– Успокойся, Жиль Блас, и выслушай меня, – сказал он. – Правда, поведав мне о своих нуждах, ты как бы упрекнул меня в том, что я не позаботился о них раньше; но я не сержусь на тебя за это, друг мой. Напротив, я скорее досадую на себя самого за то, что не спросил тебя, как ты живешь. Дабы исправить эту небрежность, я даю тебе для начала ассигновку на полторы тысячи дукатов, каковые тебе отсчитают в казначействе. Но это еще не все: ты будешь получать от меня ежегодно такую же сумму; кроме того, когда богатые и щедрые лица попросят тебя оказать им услугу, то я не запрещаю тебе ходатайствовать за них передо мной. Осчастливленный этими словами, я облобызал ноги министра, который приказал мне встать и продолжал запросто со мной беседовать. Я, со своей стороны, попытался вернуть себе обычную веселость, но мне не удалось так быстро перейти от горя к радости, и я пребывал в полной подавленности, точно приговоренный к казни, которому объявляют помилование в тот самый момент, когда над ним уже занесен топор. Герцог приписал мою тревогу исключительно опасению его прогневить, хотя страх пожизненного заключения сыграл тут не меньшую роль. Он признался мне, что нарочно выказал мне холодность, дабы узнать, насколько я окажусь чувствителен к этой перемене, и что, убедившись в моей искренней преданности его особе, он полюбил меня еще больше, чем прежде.
Глава VII О том, какое хорошее употребление сделал Жиль Блас из своих полутора тысяч дукатов. Первое дело, за которое он взялся, и какой барыш оно ему принесло
Король, как бы идя навстречу моему нетерпению, вернулся на следующий день в Мадрид. Я прежде всего помчался в казначейство, где мне немедленно уплатили сумму, указанную в ассигновке. Редко случается, чтоб у бедняка не закружилась голова при таком внезапном переходе от нищеты к богатству. Я переменился вместе с переменой в своей судьбе и стал внимать только голосу тщеславия и честолюбия. Предоставив свою жалкую каморку секретарям, которые еще не научились птичьему языку, я снял во второй раз то же роскошное помещение, оказавшееся, по счастью, незанятым. Потом я послал за известным портным, который обшивал почти всех петиметров. Сняв с меня мерку, он отправился со мной к купцу и забрал у него пять локтей сукна, которые, по его словам, должны были пойти на мое одеяние. Пять локтей на камзол испанского покроя! Боже праведный!.. Но не стоит на этом останавливаться: модные портные всегда берут больше материи, нежели другие. Затем я купил белья, в котором очень нуждался, шелковые чулки и касторовую шляпу, отороченную испанским кружевом.
После этого мне уже нельзя было, не нарушая приличия, обойтись без лакея, а потому я попросил моего хозяина Висенте Фореро рекомендовать мне такового. Большинство иностранцев, останавливавшихся у него, обычно нанимало по прибытии в Мадрид испанскую прислугу, благодаря чему в его гостиницу стекались все находившиеся без места лакеи. Первым явился ко мне парень с таким смиренным и набожным лицом, что я сразу же ему отказал. Мне почудилось, что я вижу перед собой Амбросио Ламелу, и я заявил Фореро:
– Не выношу лакеев с такой добродетельной наружностью: я уже ожегся на них.
Не успел я спровадить первого слугу, как явился второй. Это был бойкий малый, не уступавший по развязности придворному пажу и к тому же довольно плутоватый. Он мне понравился. Я задал ему несколько вопросов и заключил по его ответам, что он далеко не глуп и даже обладает врожденными способностями к интриге. Решив, что он мне подходит, я нанял его. Мне не пришлось в этом раскаяться: вскоре выяснилось, что я сделал замечательное приобретение. Поскольку герцог позволил мне ходатайствовать за тех, кому я хотел оказать услугу, а я отнюдь не намеревался пренебречь таким разрешением, то мне нужна была ищейка для выслеживания дичи, т. е. тертый парень, который умел бы разыскивать и приводить ко мне лиц, желавших просить о чем-либо первого министра. Сипион, – так звали моего лакея, – оказался большим мастаком по этой части. Он перед тем служил у доньи Анны де Гевара, кормилицы инфанта, где имел случай пустить в ход свои дарования, так как дама сия принадлежала к числу особ, которые, пользуясь влиянием при дворе, любят извлекать из этого выгоду.
Как только я сообщил Сипиону, что могу исходатайствовать королевские милости, так он немедля принялся за розыски и в тот же день сказал мне:
– Сеньор, я раскопал небольшое дельце. Только что прибыл в Мадрид один молодой гренадский дворянин, которого зовут дон Рохерио де Рада. Он участвовал в поединке и, будучи теперь вынужден искать покровительства герцога Лермы, готов щедро заплатить тому, кто его выручит. Я виделся с ним. Он собирался обратиться к дону Родриго Кальдерону, о могуществе которого ему протрубили уши, но я отговорил его, дав понять, что этот секретарь продает свое заступничество на вес золота, тогда как вы удовольствуетесь скромным знаком благодарности и даже оказали бы ему безвозмездно эту услугу, если б ваше положение позволяло вам следовать своим великодушным и бескорыстным наклонностям. Словом, я так его настрочил, что этот дворянин явится к вам завтра поутру.
– Вижу, господин Сипион, – сказал я, – что вы не теряли времени даром. Должно быть, вам такие дела не внове. Удивляюсь только тому, как это вы не разбогатели.
– В этом нет ничего удивительного, – отвечал он, – я люблю, чтоб деньги обращались, и не собираю богатств.
Дон Рохерио де Рада действительно зашел ко мне. Я принял его учтиво, но не без некоторой доли высокомерия.
– Сеньор кавальеро, – сказал я ему, – прежде чем обещать вам содействие, я хотел бы узнать обстоятельства того дела чести, которое привело вас ко двору, ибо они могут быть такого характера, что я не осмелюсь хлопотать за вас перед первым министром. Соблаговолите поэтому подробно осведомить меня обо всем и будьте уверены, что я живо приму к сердцу ваши интересы, если только в этом не будет ничего предосудительного для галантного человека.
– Весьма охотно, – возразил молодой гренадец. – Я расскажу вам чистосердечно историю своей жизни.
И он тут же поведал мне следующее.
Глава VIII История дона Рохерио де Рада
Гренадский дворянин дон Анастасио де Рада счастливо проживал в городе Антекере с доньей Эстеванией, своей супругой, отличавшейся не только безупречной добродетелью, но также кротким нравом и исключительной красотой. Она нежно любила своего супруга, а тот, в свою очередь, обожал ее до безумия. Дон Анастасио был ревнив от природы и не переставал питать подозрений, хотя у него не было никаких оснований сомневаться в верности жены. Тем не менее он боялся, как бы какой-нибудь тайный враг его благополучия не посягнул на его честь. Он не доверял никому из друзей, за исключением дона Уберто де Ордалес, который в качестве двоюродного брата Эстевании имел свободный доступ в его дом и был единственным человеком, коего ему надлежало остерегаться.
Действительно, дон Уберто увлекся своей кузиной и осмелился признаться ей в любви, невзирая ни на соединявшие их узы крови, ни на искреннюю дружбу, которую питал к нему дон Анастасио. Эстевания же, как женщина осторожная, не стала поднимать шума, который, несомненно, повлек бы за собой грустные последствия, а только кротко пожурила своего родственника и, указав ему на то, сколь недостойно с его стороны посягать на ее добродетель и бесчестить ее мужа, сказала ему строго, чтоб он не льстил себя надеждой на успех.
Это мягкое отношение еще больше воспламенило чувства влюбленного кавалера, и, вообразив, что с женщиной такого нрава надо обходиться решительно, он начал вести себя без должного почтения и однажды даже потребовал, чтоб она уступила его страсти. Эстевания сурово оттолкнула его и пригрозила пожаловаться дону Анастасио, дабы он наказал его за такую дерзость. Испугавшись угрозы, поклонник обещал не упоминать больше о своей любви, и, положившись на это обещание, Эстевания простила ему прошлое.
Дон Уберто, будучи от природы злобным человеком, не смог стерпеть такого пренебрежения к своей страсти, а потому возымел гнусное намерение отомстить донье Эстевании. Он знал, что ее супруг очень ревнив и готов поверить всему, что он вздумает ему наговорить. Рассчитывая на это, он замыслил самое черное злодейство, на какое способен низкий человек. Прогуливаясь однажды вечером с этим ревнивым мужем, он притворился весьма опечаленным и сказал ему:
– Любезный друг, я не могу долее терпеть и скрывать от вас тайну, с которой бы я никогда не расстался, если бы ваша честь не была для меня дороже вашего покоя. Но мы оба весьма щепетильны в отношении обид, и я не смею долее утаивать от вас то, что происходит в вашем доме. Приготовьтесь услышать весть, которая доставит вам не меньше горя, чем удивления. Я нанесу вам удар в самое чувствительное место.
– Понимаю, – прервал его уже встревоженный Анастасио, – ваша кузина мне изменила.
– Я больше не признаю ее своей кузиной, – продолжал Ордалес с раздражением. – Я отрекаюсь от нее. Она недостойна быть вашей женой.
– Не мучьте меня дольше! – воскликнул дон Анастасио. – Говорите! Что такое сделала Эстевания?
– Она вам изменила, – возразил дон Уберто. – У вас есть соперник, к которому она благоволит, но которого я не могу вам назвать, ибо, воспользовавшись покровом ночи, прелюбодей скрылся от наблюдавших за ним глаз. Я знаю только, что она вас обманывает, и это не подлежит никакому сомнению. За достоверность моих сообщений вам ручается то обстоятельство, что и моя честь затронута в этом деле. Я не стал бы выступать против Эстевании, если б не был убежден в ее неверности.
Незачем, – продолжал он, заметив, что его слова произвели желаемое действие, – незачем далее распространяться об этом. Я вижу, что вы возмущены неблагодарностью, которою вам отплатили за любовь, и что вы замышляете справедливую месть. Не стану вам препятствовать. Разите жертву, не считаясь с тем, кто она, и докажите всему городу, что в вопросах чести вы не остановитесь ни перед чем.
Этими речами злодей постарался возбудить слишком доверчивого супруга против невинной женщины и описал в таких ярких красках бесчестье, которое ему грозит, если он не смоет обиды, что, наконец, привел его в ярость. Дон Анастасио обезумел; казалось, что в него вселились фурии, и он вернулся домой с намерением заколоть кинжалом свою несчастную супругу. Когда он вошел в опочивальню, она только что собралась лечь в постель. Сперва он сдержался и подождал, пока прислуга удалится. Но затем, не считаясь ни с небесной карой, ни с позором, который он навлекал на благородную семью, ни даже с естественной жалостью к шестимесячному младенцу во чреве матери, он приблизился к своей жертве и крикнул вне себя от бешенства:
– Умри, злосчастная! Тебе осталось жить только одно мгновение, и то я оставляю его тебе по своей доброте, дабы ты испросила прощения у бога за нанесенную мне обиду. Я не хочу, чтоб, погубив свою честь, ты погубила также и душу.
С этими словами дон Анастасио обнажил кинжал. Как его речи, так и поступок повергли в ужас Эстеванию, которая бросилась к его ногам и, ломая руки, вскричала с отчаянием:
– Что с вами, сеньор! Какой повод к неудовольствию могла я вам подать, что вы так на меня разгневались? Почему хотите вы лишить жизни свою супругу? Вы заблуждаетесь, если подозреваете ее в неверности!
– Нет, нет! – резко возразил ревнивец. – Я убежден в вашей измене! Лица, меня уведомившие, достойны полного доверия. Дон Уберто…
– Ах, сеньор! – поспешно прервала она его. – Не полагайтесь на дона Уберто. Он вовсе вам не такой друг, как вы думаете. Не верьте ему, если он опорочил перед вами мою добродетель.
– Молчите, презренная! – воскликнул дон Анастасио. – Предостерегая меня от Ордалеса, вы не рассеиваете, а только подтверждаете мои подозрения. Вы стараетесь очернить своего родственника, потому что он осведомлен о вашем дурном поведении. Вам хотелось бы опорочить его показания, но эта уловка бесполезна и только усиливает мое желание вас покарать.
– О, любезный супруг! – отвечала невинная Эстевания, заливаясь горючими слезами. – Не поддавайтесь слепому гневу. Если вы дадите ему волю, то совершите поступок, в котором будете вечно раскаиваться, когда убедитесь в своей несправедливости. Умоляю вас именем бога, сдержите свою ярость. Подождите, по крайней мере, до тех пор, пока не уверитесь окончательно в своих подозрениях: это будет справедливее по отношению к женщине, которой не в чем себя упрекнуть.
Эти слова и в еще большей мере печаль той особы, от которой они исходили, тронули бы всякого другого, кроме дона Анастасио; но этот жестокий человек не только не умилился, а, вторично сказав Эстевании, чтоб она поспешила поручить свою душу богу, поднял руку, чтоб ее поразить.
– Остановись, бесчеловечный! – крикнула она. – Если твоя прежняя любовь ко мне совершенно угасла и воспоминание о ласках, которыми я тебя дарила, испарилось из твоей памяти, то пощади собственную кровь! Не подымай яростной руки на невинного младенца, еще не узревшего божьего света. Став его палачом, ты возмутишь против себя и небо и землю. Я прощаю тебе свою смерть, но помни, что за его гибель ты ответишь перед господом, как за величайшее злодеяние!
Хотя Дон Анастасио твердо решил не обращать никакого внимания на то, что будет говорить Эстевания, однако же был потрясен ужасными видениями, навеянными последними словами супруги. Опасаясь, как бы эти тревожные мысли не отвратили его от мщения, он поторопился использовать остаток гнева и вонзил кинжал в правый бок Эстевании. Она тут же упала. Считая ее убитой, он поспешно вышел из дому и скрылся из Антекеры.
Между тем несчастная супруга, потеряв сознание от полученной раны, пролежала несколько минут на полу, как безжизненное тело. Затем, очнувшись, она стала стенать и вздыхать, что привлекло внимание прислуживавшей ей старухи. Как только эта добрая женщина увидала свою госпожу в таком жалостном состоянии, она подняла крик, разбудивший остальных слуг и даже ближайших соседей. Вскоре комната наполнилась народом. Позвали лекарей, которые, осмотрев рану, нашли ее не очень опасной. Их предположения оправдались; они вылечили в короткое время Эстеванию, которая спустя три месяца после этого ужасного происшествия произвела на свет сына. Его-то, сеньор Жиль Блас, вы теперь видите перед собой: я плод этого плачевного брака.
Хотя злословие немилосердно по отношению к женской добродетели, однако же оно пощадило мою мать, и вину за это кровавое событие приписали в городе неистовству ревнивого мужа. Правда, мой отец слыл за вспыльчивого и весьма склонного к подозрительности человека. Ордалес отлично понимал, что донья Эстевания считала его виновником наговоров, которые помутили разум ее мужа, и, удовольствовавшись тем, что отомстил хотя бы наполовину, он перестал ее посещать.
Опасаясь наскучить вашей милости, я не стану распространяться насчет полученного мною воспитания; скажу только, что мать моя приказала старательно обучить меня искусству биться на шпагах и что я долгое время упражнялся в самых известных фехтовальных залах Гренады и Севильи. Она с нетерпением ждала, чтоб я достиг того возраста, когда смогу померяться силами с доном Уберто, и собиралась тогда пожаловаться мне на зло, причиненное ей этим человеком. Когда я достиг восемнадцатилетнего возраста, она открыла мне семейную тайну, проливая при этом обильные слезы и не скрывая от меня своей великой печали. Вы, конечно, понимаете, какое впечатление производит мать в таком состоянии на сына, обладающего мужеством и чувствительным сердцем. Я тотчас же разыскал Ордалеса и повел его в уединенное место, где после довольно продолжительного боя трижды пронзил его шпагой, от чего он свалился наземь.
Чувствуя себя смертельно раненным, дон Уберто устремил на меня свой последний взгляд и сказал, что принимает смерть от моей руки, как справедливую кару за оскорбление, нанесенное им чести доньи Эстевании. Он сознался, что решил ее погубить в отместку за то, что она презрела его любовь. Затем он испустил дух, умоляя небо, дона Анастасио, Эстеванию и меня простить ему его прегрешение. Я счел за лучшее не возвращаться домой, чтоб известить мать о поединке, полагая, что слух об этом и без того дойдет до нее. Перевалив через горы, я отправился в город Малагу, где обратился к одному арматору, собиравшемуся выехать из порта для каперства. Я показался ему человеком храброго десятка, и он охотно согласился принять меня в число добровольцев, находившихся на борту.
Нам вскоре представился случай отличиться, так как неподалеку от острова Альборана мы повстречали мелильского корсара, возвращавшегося к африканскому берегу с богато нагруженным испанским судном, которое он захватил против Картахены. Мы настойчиво атаковали африканца и завладели обоими его кораблями, где оказалось восемьдесят христианских невольников, которых везли в Берберию. Воспользовавшись благоприятным ветром, направившим наше судно к андалузскому берегу, мы вскоре добрались до Пунта де Елена.
Прибыв туда, мы расспросили освобожденных нами рабов, откуда они родом, и я задал такой же вопрос очень видному собой человеку, которому, судя по внешности, было лет пятьдесят. Он отвечал мне со вздохом, что происходит из Антекеры. Не знаю почему, но этот ответ взволновал меня. Заметив мое беспокойство, он также смутился, что, в свою очередь, не ускользнуло и от меня.
– Мы с вами земляки, – сказал я. – Позвольте узнать, из какого вы рода?
– Увы, – отвечал он, – вы растравляете старую рану, требуя от меня, чтоб я удовлетворил ваше любопытстоо. Восемнадцать лет тому назад я покинул Антекеру, где обо мне, наверно, вспоминают не иначе, как с ужасом. Вы, конечно, и сами не раз слыхали про меня. Я – дон Анастасио де Рада.
– Праведное небо! – воскликнул я. – Верить ли мне тому, что слышу? Как! Вы дон Анастасио? И я вижу перед собой своего отца?
– Что вы говорите, молодой человек? – вскричал и он, глядя на меня с изумлением. – Возможно ли, чтоб вы оказались тем несчастным младенцем, который был еще во чреве матери, когда я принес ее в жертву своей ярости?
– Да, отец, – отвечал я, – добродетельная Эстевания произвела меня на свет три месяца спустя после той зловещей ночи, когда вы оставили ее лежащей в крови.
Не успел я договорить этих слов, как дон Анастасио бросился мне на шею. Он сжал меня в своих объятиях, и в течение четверти часа мы только то и делали, что вздыхали и заливались слезами. После этих нежных излияний, вполне естественных при такой встрече, отец мой воздел глаза к небу, чтоб поблагодарить его за спасение Эстевании, но затем, как бы опасаясь, что он преждевременно воздал хвалу господу, дон Анастасио обратился ко мне и спросил, каким образом удалось установить невинность его супруги.
– Никто, кроме вас, сеньор, в ней не сомневался, – отвечал я. – Поведение вашей супруги всегда было безукоризненным. Я должен открыть вам глаза на вашего друга: дон Уберто вас обманул.
В то же время я рассказал ему про коварство этого родственника, про то, как я ему отомстил и как он сознался мне во всем перед смертью.
Эта весть обрадовала моего отца, пожалуй, больше, чем даже освобождение из плена. В порыве охватившего его восторга он снова принялся нежно меня обнимать и не переставал твердить, сколь много он мною доволен.
– Теперь, любезный сын, поспешим в Антекеру, – сказал он. – Я горю нетерпением броситься к ногам своей супруги, с которой обошелся столь недостойным образом. С тех пор как я узнал от вас об учиненной мною несправедливости, раскаяние мучительно терзает мое сердце.
Мне самому слишком хотелось соединить этих двух горячо любимых мною лиц, чтоб откладывать столь сладостный момент. Я покинул арматора и на призовые деньги, доставшиеся на мою долю, купил в Адре двух мулов, так как отец не хотел больше подвергать себя опасностям морского путешествия. По дороге у него было достаточно времени, чтоб сообщить мне свои приключения, которые я слушал с таким же жадным вниманием, как итакский царевич [159] рассказы своего царственного родителя. Наконец после нескольких дней пути мы прибыли к подножию горы, ближайшей к Антекере, и сделали привал в этом месте. Так как мы намеревались вернуться домой тайком, то вошли в город только поздно ночью. Можете представить себе удивление моей матери при виде мужа, которого она почитала навеки потерянным. Не меньше изумлялась она и тому, можно сказать, чудесному случаю, которому она была обязана его возвращением. Дон Анастасио попросил у нее прощения за свою жестокость с таким искренним выражением раскаяния, что она невольно смягчилась. Вместо того чтоб отнестись к нему как к убийце, она видела в нем только человека, которому была предназначена небом: столь священно звание супруга для женщины, украшенной добродетелью! Эстевания так тревожилась за меня, что мое возвращение очень ее обрадовало. Радость эта, впрочем, была не совсем безоблачной. Сестра Ордалеса затеяла уголовное дело против убийцы брата; меня разыскивали повсюду, а потому моя мать беспокоилась, считая, что мне опасно оставаться в нашем доме. Это побудило меня в ту же ночь отправиться ко двору, где я намерен просить о помиловании. Надеюсь его добиться, раз вы, сеньор Жиль Блас, любезно согласились замолвить за меня слово первому министру и оказать мне поддержку своим влиянием.
На этом храбрый сын дона Анастасио закончил свое повествование, после чего я сказал ему внушительным тоном:
– Ваше дело мне ясно, сеньор дон Рохерио. Полагаю, что вы достойны помилования, а потому берусь изложить вашу просьбу герцогу и дерзну обещать вам его покровительство.
В ответ на это гренадец рассыпался в благодарностях, которые, наверно, вошли бы у меня в одно ухо, а вышли в другое, если б он не заявил, что непосредственно за оказанной услугой последует нечто более существенное. Как только он коснулся этой струны, я решил приняться за хлопоты. В тот же день я рассказал историю дона Рохерио герцогу, который позволил мне привести этого кавалера и заявил ему:
– Дон Рохерио, я уже знаю о поединке, побудившем вас приехать ко двору: Сантильяна изложил мне все подробности. Не тревожьтесь, вы не совершили ничего такого, чего нельзя было бы извинить. Его высочество особенно охотно милует дворян, мстящих за поруганную честь. Вам придется для проформы отправиться в тюрьму; но будьте спокойны, вы пробудете там недолго. У вас в лице Сантильяны есть добрый друг, который позаботится об остальном и ускорит ваше освобождение.
Дон Рохерио отвесил министру глубокий поклон и, полагаясь на его слова, добровольно пошел под арест. Вскоре благодаря моим стараниям вышел указ о помиловании. Менее чем в десять дней я отправил этого нового Телемака обратно к его Улиссу и Пенелопе, тогда как он едва ли отделался бы одним годом тюрьмы, если б у него не было покровителя и денег. Впрочем, мне досталось за эту услугу всего-навсего сто пистолей. Это был неважный улов, но я ведь и не был еще Кальдероном, а потому не гнушался и малым.
Глава IX Какими способами Жиль Блас нажил в короткое время крупное состояние и как он благодаря этому заважничал
Это дело разлакомило меня, а десять пистолей куртажа, которые я дал Сипиону, побудили его приняться за новые розыски. Я уже прежде превозносил его таланты в этой области и могу сказать, что его по справедливости следовало назвать Сципионом Великим. В качестве второго клиента он привел мне издателя рыцарских романов, который нажился вопреки здравому смыслу. Этот издатель незаконно перепечатал книгу, выпущенную одним из его собратьев, и издание это было конфисковано. За триста дукатов я добился снятия запрещения с его экземпляров и спас владельца от крупного штрафа. Хотя такие дела не входили в компетенцию первого министра, герцог согласился по моей просьбе повлиять на тех, от кого это зависело. После издателя через мои руки прошел один коммерсант, и вот в чем заключалось его дело. Португальский корабль был захвачен берберийским корсаром и снова отбит одним кадикским арматором. Две трети погруженных на него товаров принадлежали моему лиссабонскому купцу, который после тщетных требований о возврате своего имущества приехал к испанскому двору, чтоб найти влиятельного покровителя, способного защитить его интересы. Ему выпало счастье наткнуться на меня. Я вступился за него, и он вернул свои товары с помощью четырехсот пистолей, которые преподнес своему протектору.
Мне чудится, будто я слышу в этом месте возглас читателя:
«Смелей, сеньор Сантильяна! Набивайте карман! Вы теперь на хорошем пути, не выпускайте счастья из рук!»
О, не беспокойтесь; не выпушу. Коли не ошибаюсь, вот уже мой лакей с новой жертвой, которую он подцепил. Действительно, это – Сипион. Послушаем его.
– Сеньор, – сказал он, – дозвольте представить вам знаменитого дрогиста. Он хлопочет о привилегии продавать свои снадобья в течение десяти лет во всех городах Испанского королевства с предоставлением ему на то исключительного права, т. е. чтоб остальным его собратьям по ремеслу было запрещено торговать в тех местах, которые он для себя облюбует. В благодарность за содействие он обязуется отсчитать двести пистолей тому, кто добудет для него такую привилегию.
На это я сказал шарлатану покровительственным тоном:
– Хорошо, друг мой, я устрою ваше дело.
Действительно, спустя несколько дней я отослал его восвояси с патентом на исключительное право обманывать народ во всех королевствах Испании.
Тут я убедился в справедливости поговорки, что аппетит приходит во время еды. Я не только становился жаднее, по мере того как богател, но первые четыре милости, о которых я упомянул, достались мне с такой легкостью, что я не колеблясь обратился к его светлости за пятой. Дело шло о передаче губернаторства города Веры на андалузском побережье одному кавалеру ордена Калатравы, который обещал мне за это тысячу пистолей. Увидя такую алчность к наживе, министр расхохотался.
– Да, друг Жиль Блас, у вас недурной аппетит! Вижу, что вы большой охотник одолжать ближних. Но выслушайте меня; если речь зайдет о мелочах, я в это входить не стану, но когда вы будете хлопотать о губернаторствах или каких-либо крупных милостях, то соблаговолите довольствоваться половиной прибыли; другая принадлежит мне. Вы не можете себе представить, – добавил он, – какие у меня расходы и сколько мне нужно денег, чтоб с достоинством поддерживать свой ранг, ибо, признаюсь вам, что, несмотря на бескорыстие, проявляемое мною перед народом, я достаточно осторожен, чтоб не расстраивать своего состояния. Примите это к руководству.
После этой речи министра я перестал бояться, что надоем ему своими просьбами; напротив, она подстрекла меня еще энергичнее взяться за дело и усилила во мне пуще прежнего жажду к обогащению. В то время я охотно повесил бы объявление, в котором бы говорилось, что все желающие добиться при дворе каких-либо милостей могут обращаться ко мне. Я работал в одном направлении, Сипион – в другом. У меня не было других желаний, как оказывать услуги ближним, но, разумеется, за деньги. Мой кавалер ордена Калатравы получил губернаторство города Веры за тысячу пистолей, и вскоре я выхлопотал другое за такую же сумму кавалеру ордена св. Якова. Не довольствуясь назначением губернаторов, я раздавал кавалерии и с помощью жалованных грамот превращал достойных разночинцев в недостойных дворян. Духовенство тоже было осчастливлено моими благодеяниями. Я жаловал мелкие бенефиции, каноникаты и некоторые церковные должности. Что касается епископств и архиепископств, то они относились к ведению дона Родриго Кальдерона. Он распределял также судейские должности, командорства и вице-королевства, из чего можно заключить, что важные посты замещались столь же мало достойными личностями, как и мелкие, ибо на места, служившие предметом этой честной торговли, мы назначали далеко не самых искусных и беспорочных людей. Нам было известно, что мадридские насмешники издеваются над нами по этому поводу; но мы, подобно скупцам, любовались [160] видом собственного золота, забывая о гиканье толпы.
Исократ [161] прав, называя невоздержанность и безумства неразлучными спутниками богатства. Оказавшись собственником тридцати тысяч дукатов и предвидя возможность заработать, быть может, еще в десять раз больше, я счел нужным изобразить из себя персону, достойную называться наперсником первого министра. Поэтому я снял целый дом, приказав омеблировать его пристойным образом, и купил карету у одного повытчика [162] , который обзавелся таковою из чванства и стремился избавиться от нее по совету своего булочника. Я нанял кучера, а также трех лакеев, и, считая справедливым повышать старых слуг, пожаловал Сипиона тройной честью, сделав его одновременно своим камердинером, секретарем и управителем. Но я совершенно опьянел от тщеславия, когда министр разрешил моим людям носить его ливрею. Тут во мне угасли последние проблески рассудительности. Я стал не меньшим безумцем, чем ученики Порция Латро [163] , которые благодаря употреблению тминного настоя стали такими же бледными, как их учитель, и вообразили, что тем самым могут равняться с ним в учености. Я чуть было не возомнил себя родственником герцога Лермы. Мне хотелось прослыть таковым или хотя бы его побочным сыном, что весьма польстило бы моему самолюбию.
Прибавьте к этому, что, по примеру его светлости, державшей открытый стол, я тоже решил устраивать угощения. Для этой цели я поручил Сипиону сыскать искусного кухаря, и он раскопал мне такого, который, пожалуй, не уступал повару римлянина Номентана [164] , обжорной памяти. Наполнив свой погреб изысканными винами и запасшись разной снедью, я начал принимать гостей. Каждый вечер у меня ужинало несколько человек из числа старших чиновников министерской канцелярии, гордо величавших себя статс-секретарями. Я потчевал их как следует, и они всегда уходили от меня подвыпившими. Сипион, со своей стороны, следуя поговорке «каков барин, таков и слуга», тоже держал открытый стол в людской, где угощал на мой счет своих знакомых. Я очень полюбил этого молодца, а кроме того, он помогал мне наживать богатства, и мне казалось справедливым, чтоб он тратил их вместе со мной. К тому же я смотрел на эти забавы с точки зрения молодого человека и, не замечая зла, которое они мне причиняли, видел лишь почести, выпадавшие на мою долю. Еще другая причина мешала мне обращать на них внимание: благодаря раздаче бенефиций и должностей рука моя никогда не оскудевала, а казна изо дня в день умножалась. Я вообразил, что мне удалось ухватиться за колесо Фортуны.
Моему тщеславию не хватало только одного, а именно, чтоб Фабрисио стал свидетелем той роскошной жизни, которую я вел. По моим расчетам, он должен был уже вернуться из Андалузии, а потому, желая насладиться его удивлением, я послал ему записку без подписи, в которой сообщалось, что один сицилийский сеньор из числа его приятелей просит его к себе. В записке указывались день, час и место, куда ему надлежало пойти. Свидание было назначено у меня. Нуньес явился и был крайне изумлен, узнав, что я тот таинственный вельможа, который пригласил его к вечернему столу.
– Да, друг мой, – сказал я, – ты видишь перед собой хозяина этого дома. Я обзавелся каретой, хорошим поваром и, кроме того, денежным сундуком.
– Возможно ли, что мне довелось встретить тебя среди такой роскоши? – воскликнул он с живостью. – Как я рад, что поместил тебя к графу Галиано. Ведь я говорил тебе, что он щедрый вельможа и не преминет позаботиться о твоем благополучии. Вероятно, – добавил он, – ты последовал моему мудрому совету и немного отпустил дворецкому поводья. Поздравляю тебя. Только благодаря такой разумной тактике управители богатых домов и набивают себе карманы.
Я предоставил Фабрисио вдосталь восторгаться тем, что он определил меня к графу Галиано. Затем, чтоб умерить его радость по поводу того, что он доставил мне столь изрядное место, я сообщил ему, как отблагодарил меня этот сеньор за мое усердие. Но, приметя, что, во время этого рассказа мой поэт внутренне бил отбой, я сказал ему:
– Охотно прощаю сицилийцу его неблагодарность. Между нами будь сказано, мне следует скорее радоваться, нежели негодовать. Если бы граф не поступил со мной так дурно, я последовал бы за ним в Сицилию, где служил бы ему и по сие время в ожидании весьма сомнительных благодеяний. Словом, я не был бы теперь наперсником герцога Лермы. Нуньес был до того поражен моими последними словами, что несколько мгновений не мог проронить ни звука. Наконец, прервав молчание, он сказал:
– Не ослышался ли я? Правда ли, что вы пользуетесь доверием первого министра?
– Я разделяю его с доном Родриго Кальдероном и, судя по всем данным, пойду далеко, – отвечал я.
– Поистине, сеньор де Сантильяна, я восхищаюсь вами – заявил Фабрисио. – Вы в состоянии справиться с любой должностью. Сколько талантов вы соединяете в себе! Словом, говоря языком наших притонов, вы обладаете «универсальной отмычкой», т. е. являетесь мастером на все руки. Во всяком случае, сеньор, – добавил он, – я радуюсь благополучию вашей милости.
– Вот что, господин Нуньес, – прервал я его, – к черту все титулования и величания! Бросим эти церемонии и давай жить по-прежнему на дружеской ноге.
– Ты прав, – возразил он. – Хотя ты и разбогател, но я не должен смотреть на тебя другими глазами. Признаюсь тебе, впрочем, в своей слабости, – добавил он. – Поведав мне о своей блестящей, судьбе, ты меня просто ослепил; к счастью, это ослепление теперь проходит, и я снова вижу в тебе только своего друга Жиль Бласа.
Наш разговор был прерван приходом четырех или пяти чиновников.
– Господа, – сказал я им, указывая на Нуньеса, – вы будете иметь удовольствие ужинать с сеньором доном Фабрисио, который сочиняет стихи, достойные царя Нумы [165] , и пишет прозой так, как не пишет никто.
К несчастью, я обращался к людям, которые так мало ценили поэзию, что мой поэт даже побледнел. Они еле удостоили его взгляда. Тщетно пытался он привлечь их внимание своим острословием; они не понимали соли. Это так его задело, что он позволил себе поэтическую вольность, а именно бросил всю компанию и испарился. Чиновники не заметили его исчезновения и сели за стол, даже не осведомившись о том, что с ним сталось.
Когда я на следующее утро кончил свой туалет и собрался уже уходить, вошел ко мне в спальню астурийский поэт и сказал:
– Прости меня, любезный друг, что я вчера повернулся спиной к твоим чиновникам, но скажу тебе откровенно: мне было в их обществе до того не по себе, что я не вытерпел. Черт знает, что за скучные люди, и к тому же самонадеянные и надутые. Не понимаю, как ты с твоим живым умом можешь довольствоваться такими тяжелыми сотрапезниками. Сегодня же приведу к тебе более удобоваримых.
– Ты меня одолжишь, – отвечал я. – Полагаюсь в этом отношении на твой вкус.
– И не раскаешься, – возразил Фабрисио. – Обещаю тебе людей выдающихся и на редкость интересных. Тотчас же отправлюсь к одному лимонадчику, у которого они вскоре соберутся. Я сговорюсь с ними с утра, а не то как бы они не обещали пойти в какое-нибудь другое место; это такие занимательные люди, что их перехватывают из рук в руки кто на обед, кто на ужин.
С этими словами он покинул меня и вернулся вечером к ужину в сопровождении не более не менее, как шести сочинителей, которых представил мне одного за другим, осыпая каждого безмерными похвалами. Его послушать, эти остромыслы превосходили своих греческих и римских собратьев, а их произведения следовало, по его словам, напечатать золотыми литерами. Я принял этих господ весьма учтиво и даже наговорил им комплиментов, ибо сочинители – народ довольно пустой и тщеславный. Хотя я и не давал Сипиону никаких приказаний, чтобы за этим ужином царило особенное изобилие, однако он сам позаботился увеличить число блюд, так как знал, какого сорта людей я должен был в этот день потчевать.
Наконец мы очень весело уселись за стол. Мои поэты принялись говорить о самих себе и хвастаться. Один с гордым видом перечислял вельмож и знатных дам, наслаждавшихся его музой. Другой, порицая одну академию изящной словесности за выборы двух новых членов, скромно заявил, что ей следовало бы избрать именно его. Речи прочих отличались не меньшей самонадеянностью. В середине ужина они принялись засыпать меня стихами и прозой, и каждый по очереди демонстрировал образчики своего творчества. Один угостил нас сонетом, другой продекламировал сцену из трагедии, третий прочел критику на комедию. Четвертый собрался было познакомить нас с одой Анакреона, переведенной им дрянными испанскими стихами, но один из его собратьев прервал его, указав на какое-то неудачное выражение. Автор перевода с этим не согласился, отчего возник спор, в котором приняли участие все остромыслы. Мнения разделились; спорщики пришли в раж, и дело дошло до брани. Это было бы полбеды, но эти бесноватые вскочили из-за стола и принялись тузить друг друга кулаками. Мне, Фабрисио, Сипиону, кучеру и лакеям стоило немалых трудов их разнять. Не успели мы их растащить, как они ушли из моего дома, точно из кабака, не подумав даже извиниться передо мной за свое непристойное поведение.
Нуньес, обнадеживший меня приятным ужином, был крайне смущен этим происшествием.
– Ну-с, уважаемый, не собираетесь ли вы и сейчас расхваливать своих друзей? – сказал я. – Клянусь честью, вы привели мне гнуснейших людишек. Я остаюсь при своих чиновниках. Не упоминайте мне больше о сочинителях.
– Я и не намерен представлять тебе других: это еще самые рассудительные из всех, – отвечал Фабрисио.
Глава X Придворная жизнь вконец развращает Жиль Бласа. О поручении, которое возлагает на него граф Лемос, и об интриге, в которую он впутывается вместе с этим вельможей
Как скоро узнали, что я пользуюсь расположением герцога Лермы, у меня образовался собственный двор. Каждый день моя передняя была полна народу, и я с утра давал аудиенции. Ко мне приходили двоякого рода люди: одни для того, чтоб я за деньги выпросил им милости у герцога, другие для того, чтоб склонить меня мольбами к безвозмездному выполнению их просьб. Первые могли быть уверены, что я их выслушаю и постараюсь им услужить, от вторых же я сразу отделывался отказом или канителил их так долго, что они теряли терпение. Прежде чем попасть ко двору, я был от природы сострадателен и милосерден, но там человеческие слабости испаряются, и я стал черствее камня. Исцелился я также от сентиментальности по отношению к друзьям и перестал испытывать к ним привязанность. Об этом свидетельствует мой поступок с Хосе Наварро в связи с одним делом, о котором я сейчас расскажу.
Этот Наварро, которому я был столь многим обязан и который, кстати сказать, был первой причиной моего благополучия, зашел однажды ко мне. Выразив мне свои дружеские чувства, что он обычно делал при каждой нашей встрече, Наварро попросил меня выхлопотать у герцога Лермы какую-то должность для своего приятеля, который был, по его словам, весьма любезным и достойным кавалером, но за неимением средств к существованию нуждался в службе.
– Зная вашу доброту и услужливость, – добавил он, – я не сомневаюсь, что вы будете рады посодействовать честному, но небогатому человеку; его стесненные обстоятельства послужат поводом к тому, чтобы вы его поддержали, я уверен, что заслужу ваше расположение, доставив вам возможность проявить свою склонность к благодеяниям.
Этим он дал мне ясно понять, что ждет от меня бесплатной услуги. Хотя это было не в моем вкусе, однако же я притворился, будто весьма склонен исполнить его желание.
– Очень рад случаю, – отвечал я ему, – доказать живейшую благодарность, которую я питаю к вам за все, что вы для меня сделали. Раз вы кем-нибудь интересуетесь, то этого вполне довольно, чтобы я постарался ему услужить. Ваш друг получит должность, о которой вы хлопочете. Можете быть спокойны: это теперь уже не ваша забота, а моя.
Получив такое заверение, Хосе ушел, весьма довольный моими дружескими чувствами. Тем не менее рекомендованное им лицо не получило упомянутой должности. Благодаря моим стараниям она досталась другому человеку за тысячу дукатов, которые попали в мой денежный сундук. Эта сумма оказалась мне милей, чем благодарность моего дворецкого, которому я при встрече заявил тоном величайшей досады:
– Ах, любезнейший Наварро, вы обратились ко мне слишком поздно. Кальдерон опередил меня; он успел выхлопотать это место для другого. Я в отчаянии, что не могу сообщить вам более приятной вести.
Хосе простодушно поверил мне, и мы расстались еще большими друзьями, чем прежде; но полагаю, что он вскоре докопался до истины, так как перестал ко мне ходить. Я не только не испытывал угрызений совести за такой поступок с подлинным другом, которому был столь многим обязан, но, напротив, радовался этому разрыву. Меня тяготили его прежние услуги, а кроме того, будучи в такой милости при дворе, я считал для себя неподходящим водиться с дворецкими.
Я уже давно не упоминал о графе Лемосе. Вернемся теперь к этому сеньору. Мне приходилось навещать его от времени до времени. Я передал графу, как уже было сказано, тысячу пистолей и отнес ему по приказу герцога, его дяди, еще и вторую, которая причиталась с меня его светлости. В этот раз граф Лемос пожелал побеседовать со мной подольше и сообщил, что наконец достиг своей цели и что пользуется безраздельно расположением наследного принца, у которого нет теперь других наперсников, кроме него. Затем он почтил меня весьма достойным поручением, о котором уже раньше предупреждал.
– Друг Сантильяна, – сказал он, – настало время действовать. Приложите все усилия, чтоб приискать какую-нибудь молодую красавицу, достойную развлечь этого галантного принца. Вы человек сметливый, а потому мне незачем давать вам указания. Ступайте, бегите, ищите, а когда попадется вам удачная находка, приходите меня о том уведомить.
Я обещал графу не жалеть сил, лишь бы тщательно выполнить его поручение, которое, вообще говоря, не представляет особенных трудностей, раз столько людей этим занимаются.
У меня не было большого опыта в подобного рода розысках, но я не сомневался, что Сипион и тут окажется на высоте. Вернувшись домой, я позвал его и сказал ему с глазу на глаз:
– Дитя мое, я хочу поговорить с тобой по душам. Представь себе, что, несмотря на все благодеяния фортуны, я чувствую, что мне чего-то не хватает.
– Я уже угадал, – прервал он меня, не дав договорить того, что я хотел ему сказать. – Вам нужна приятная фея, которая бы вас немножко развлекла и повеселила. Действительно, странно, как это вы еще не обзавелись такой особой в цветущих своих летах, в то время как почтенные старцы не могут без этого обойтись.
– Восхищаюсь твоей проницательностью, – промолвил я с улыбкой. – Да, друг мой, мне нужна возлюбленная, и я хочу, чтобы ты сам мне ее нашел. Но предупреждаю тебя, что я в таких делах очень привередлив: эта особа должна отличаться красотой и благонравием.
– Вы требуете от меня вещь довольно редкую, – возразил он, – но, слава богу, мы живем в таком городе, где всякое бывает, и я льщусь вскоре найти что-нибудь подходящее.
Действительно, три дня спустя он сказал мне:
– Я открыл подлинное сокровище, а именно одну молодую даму из хорошей семьи и исключительной красоты. Ее зовут Каталина, она живет под присмотром тетки в маленьком домике. Обе они содержат себя весьма пристойно, пользуясь доходами со скромного имущества. Им прислуживает одна моя знакомая субретка, которая только что заверила меня, что дверь их, хотя и закрытая для всех, могла бы, однако, открыться для богатого и щедрого поклонника, если он обязуется во избежание огласки приходить к ним только по ночам и вести себя осторожно. Я, разумеется, расписал вас, как кавалера, достойного найти замок незапертым, и сказал субретке, чтоб она переговорила с этими дамами. Она обещала исполнить мое поручение и принести завтра утром ответ в условленное место.
– Отлично, – сказал я ему, – но как бы все, что наболтала тебе горничная про свою госпожу, не оказалось сплошной басней.
– Ни-ни, – возразил он, – меня такими штуками не проведешь: я уже спросил соседей и заключил из их отзывов о сеньоре Каталине, что она подходит под ваши требования, словом, что это Даная, у которой вы можете разыгрывать Юпитера [166] , если ниспошлете дождь из пистолей.
Сколь ни был я предубежден против такого рода любовных похождений, однако же на этот раз согласился. Горничная сообщила на следующее утро Сипиону, что я волен проникнуть в тот же вечер в дом ее хозяек, и я пробрался туда между одиннадцатью и двенадцатью. Субретка встретила меня без свечи и, взяв за руку, отвела в недурно убранную залу, где я застал двух изящно одетых сеньор, восседавших на атласных пуфах. Увидя меня, они приподнялись и поклонились с величайшей учтивостью. Мне показалось, что я вижу перед собой благородных дам. Тетка, которую звали сеньорой Менсией, была еще хороша собой, но не привлекла моего внимания, так как я не мог оторвать глаз от племянницы, которая показалась мне настоящей богиней. Впрочем, приглядевшись внимательно, ее нельзя было назвать безупречной красавицей; тем не менее она была очаровательна, а присущая ей пикантность и страстность заслоняли в глазах мужчин ее недостатки.
Внешность Каталины переполошила мои чувства. Я забыл, что явился туда в качестве посредника, и, заговорив от собственного имени, пустился в самые страстные излияния. Юная девица, которой я благодаря ее прелестям приписывал в три раза больше ума, чем у нее было на самом деле, окончательно очаровала меня своими ответами. Я уже начинал терять власть над собой, когда тетка, желая умерить мои порывы, обратилась ко мне и сказала:
– Сеньор де Сантильяна, дозвольте мне объясниться с вами вполне откровенно. Мне так расхвалили вашу милость, что я разрешила вам прийти ко мне, не сочтя нужным ломаться, дабы вы больше ценили эту честь. Но не думайте, чтоб это давало вам какие-либо особые права. Я до сих пор воспитывала свою племянницу в уединении, и вы, так сказать, первый кавалер, которому я ее показала. Если вы считаете ее достойной стать вашей супругой, то я буду очень рада постигшей ее чести. Судите сами, подходит ли она вам этой ценой: дешевле вы ее не получите.
Этот выстрел в упор вспугнул Амура, собиравшегося пустить в меня стрелу. Говоря без метафор, такое неприкрытое предложение брака отрезвило меня; я сразу превратился в верного посланца графа Лемоса и, переменив тон, ответил сеньоре Менсии:
– Сударыня, ваша откровенность мне нравится, и я намерен последовать вашему примеру. Каким бы завидным ни было мое положение при дворе, я не достоин несравненной Каталины; у меня есть для нее более блестящее предложение: я предназначаю ее для инфанта.
– Довольно и того, что вы отказались от руки моей племянницы, – холодно сказала тетка, – этот отказ и сам по себе, кажется, достаточно обиден: незачем сопровождать его насмешками.
– Какие насмешки, сударыня! – воскликнул я. – Все это совершенно серьезно: мне велено найти особу, достойную тайных посещений наследного принца. Я нашел ее у вас и отмечаю ваш дом мелом [167] .
Услыхав такое предложение, сеньора Менсия сильно удивилась, и я заметил, что оно ей понравилось. Тем не менее, считая долгом выдержать характер, она ответила мне следующее:
– Если б я даже поверила вам на слово, то все же знайте, что я не такова, как вы думаете, и что позорная честь видеть свою племянницу любовницей принца меня нисколько не прельщает. Моя добродетель возмущается самой мыслью о том…
– Подождите с вашей добродетелью, – прервал я ее. – Вы рассуждаете, как непросвещенная мещанка. Разве можно смотреть на подобные случаи с моральной точки зрения? Это значит лишить их того очарования, которое им присуще. Нет, их надо окружать неким ореолом. Представьте себе наследника престола у ног счастливой Каталины, вообразите, что он ее боготворит и осыпает подарками, и, наконец, подумайте о том, что она, быть может, родит героя, который обессмертит имя своей матери вместе со своим собственным.
Хотя тетке смертельно хотелось принять мое предложение, она все же притворилась, будто находится в нерешительности, а Каталина, которой уже не терпелось подцепить наследного принца, выказала полнейшее равнодушие. Мне пришлось поэтому возобновить атаку крепости, пока сеньора Менсия, приметя, что я теряю терпение и готов снять осаду, не забила отбоя, после чего мы составили акт о капитуляции, заключавшей следующие два пункта.
Во-первых, в случае если инфант, получив донесение о прелестях Каталины, воспламенится и пожелает посетить ее ночью, то я обязуюсь осведомить о сем обеих дам, равно как и о дне, назначенном для этой цели.
Во-вторых, принц обещает явиться к вышеозначенным дамам под видом обыкновенного поклонника и не брать с собой других провожатых, кроме меня и своего главного меркурия.
По заключении этого соглашения тетка и племянница оказали мне всякие учтивости. Они перешли на фамильярный тон, а я, воспользовавшись этим, позволил себе несколько поцелуев, которые не встретили особого сопротивления. На прощание они даже сами обняли меня и осыпали всяческими ласками. Поразительно, как быстро устанавливаются приятельские отношения между любовными посредниками и женщинами, которые в них нуждаются. Если бы кто-нибудь видел, как нежно меня провожали, то, наверно, подумал бы, что я оказался счастливее в любви, нежели это было на самом деле.
Граф Лемос крайне обрадовался, когда я объявил ему, что сделал такую находку, лучше которой нельзя было желать. Прельстившись моими хвалебными отзывами о Каталине, он пожелал на нее взглянуть. Я повел его к ней на следующий вечер, и он признал, что я попал в точку. Моих дам граф обнадежил, что инфант, несомненно, одобрит выбранную мною для него возлюбленную и что она, со своей стороны, тоже останется довольной таким поклонником, так как этот юный принц щедр, ласков и добр. Наконец, он заверил их, что через несколько дней привезет к ним инфанта, считаясь с их пожеланиями, то есть тайно и без свиты. После этого граф откланялся, и я удалился вместе с ним. Мы вернулись к графскому экипажу, в котором оба приехали и который поджидал нас в конце улицы. Затем граф довез меня до моего дома, поручив уведомить на другой день герцога о затеянном предприятии и просить его для благополучного завершения такового о присылке новой тысячи пистолей.
Я не преминул отправиться на следующий день к герцогу Лерме и отдать ему подробный отчет во всем, что произошло. Одно только я утаил, а именно участие Сипиона, и выдал себя за того, кто открыл Каталину. Мало ли чего не приходится ставить себе в заслугу перед великими мира сего!
За этот подвиг удостоился кисло-сладкого комплимента.
– Господин Жиль Блас, – сказал мне министр насмешливым тоном, – я очень рад слышать, что среди прочих ваших талантов вы обладаете также даром раскапывать уступчивых красавиц. Когда мне таковые понадобятся, я позволю себе обратиться к вам.
– Благодарю вас, ваша светлость, за оказанное предпочтение, – возразил я ему тем же тоном, – позвольте, однако, вам сказать, что совесть не позволяет мне стать вашим поставщиком. Сеньор дон Родриго уже так давно отправляет эту должность, что было бы несправедливостью лишать его такого преимущества.
Услыхав этот ответ, герцог улыбнулся и, переменив тему разговора, спросил меня, не нуждается ли его племянник в деньгах для означенного предприятия.
– Да, – сказал я, – граф просит прислать ему тысячу пистолей.
– Ну что ж, – заметил министр, – отнеси их ему и скажи, чтоб он не жалел денег и потворствовал всем расходам, которые принц пожелает себе позволить.
Глава XI О том, как наследный принц тайно посетил Каталину, и о подарках, которые он ей преподнес
Я тотчас же отправился к графу Лемосу и отнес ему пятьсот дублонов.
– Вы пришли весьма кстати, – сказал мне этот вельможа. – Я говорил с принцем; он клюнул на живца и горит нетерпением увидать Каталину. А поэтому он намерен сегодня ночью украдкой выйти из дворца и отправиться к ней. Это решенное дело, и мы приняли все нужные меры. Известите ваших дам и передайте им деньги, которые вы мне принесли. Пусть знают, что им предстоит принимать незаурядного поклонника. К тому же щедрость высочайших особ должна предшествовать их ухаживаниям. Так как вы будете сопровождать его вместе со мной, – добавил он, – то потрудитесь явиться во дворец к вечернему приему. Кроме того, я считаю благоразумным воспользоваться вашей каретой. Распорядитесь, чтоб она ждала нас к полуночи неподалеку от дворца.
Я поспешил отправиться к сеньоре Менсии. Каталина не вышла, и мне сказали, что она отдыхает, вследствие чего я беседовал только с тетушкой.
– Сударыня, – сказал я ей, – простите, ради бога, что я днем позволил себе зайти к вам. Но я не мог поступить иначе, так как мне необходимо вас предупредить, что наследный принц навестит вас сегодня ночью. Вот, – добавил я, вручая ей мешок с деньгами, – вот жертвоприношение, которое он посылает в храм Киферы, чтоб снискать благоволение богов. Видите, что я не вовлек вас в невыгодную сделку.
– Премного вам благодарна, – отвечала она. – Но скажите мне, сеньор Жиль Блас, любит ли принц музыку?
– До безумия, – возразил я. – Но ничего он так не жалует, как хорошее пение под искусный аккомпанемент лютни.
– Тем лучше, – воскликнула она вне себя от восторга, – вы несказанно меня этим порадовали, ибо моя племянница поет как соловей и упоительно играет на лютне; кроме того, она отлично танцует.
– Боже мой, тетушка, сколько совершенств! – вскричал я в свою очередь. – Девице вовсе не нужно столько талантов, чтоб устроить свое благополучие: и одного из них было бы вполне достаточно.
Наладив таким образом это дело, я стал дожидаться вечернего приема у принца и, когда наступило время идти во дворец, отдал необходимые распоряжения своему кучеру. Затем я пошел к графу Лемосу, который сообщил мне, что инфант, желая пораньше избавиться от придворных, намерен сослаться на легкое недомогание и для вящей убедительности даже лечь в постель, но что он встанет час спустя и через потайную дверь проникнет на лестницу, ведущую во двор.
Сообщив о своем уговоре с принцем, граф отвел меня в такое место, мимо которого они, по его словам, должны были пройти. Я отстоял себе там все ноги и уже начал думать, что наш ферлакур прошел другой дорогой или потерял охоту повидать Каталину, точно августейшие особы когда-либо отказываются от таких замыслов, прежде чем их удовлетворить. Наконец я почти уверился, что меня забыли, как вдруг увидал двух кавалеров, которые быстро подошли ко мне. Признав в них тех, кого мне приказано было поджидать, я повел их к своей карете, в которую они оба уселись. Я поместился подле кучера, чтоб указывать дорогу, и приказал остановить экипаж в пятидесяти шагах от места, где жили наши дамы. Затем я подал руку принцу и его спутнику, чтоб помочь им выйти из кареты, и мы втроем направились к дому, который намеревались посетить. Дверь отворилась при нашем приближении и сейчас же захлопнулась, как только мы вошли.
Сперва мы очутились во мраке, как это было со мной при первом моем посещении, с той лишь разницей, что на этот раз в знак почтения на стене висел крохотный ночник. Он горел так тускло, что еле мерцал перед нами желтой точкой, не освещая окружающих предметов. Все это увеличивало прелесть приключения, и герой его был несказанно поражен при виде обеих дам, принявших его в зале, где после мрака, царившего на дворе, нас ослепил свет многочисленных свечей. Тетка и племянница были в пикантных домашних туалетах, отличавшихся таким утонченным кокетством, что на них нельзя было смотреть безнаказанно. Наш принц вполне удовлетворился бы и сеньорой Менсией, если б ему не пришлось выбирать; но в данном случае прелести Каталины, как и следовало ожидать, одержали верх.
– Ну как, ваше высочество, – спросил граф Лемос. – Трудно было найти более прелестных дам?
– Я нахожу их обеих очаровательными, – отвечал принц, – и мне не унести отсюда своего сердца, которое досталось бы тетушке, если б оно могло ускользнуть от племянницы.
После этого столь лестного для всякой тетки комплимента, он наговорил кучу любезностей Каталине, которая отвечала ему весьма остроумно. Лицам, занимающимся тем почтенным ремеслом, которое я выполнял в данном случае, разрешается вмешиваться в разговор любовников с целью подлить масла в огонь, а потому я сказал принцу, что его нимфа поет и отлично играет на лютне. Он весьма обрадовался, узнав, что она обладает такими талантами, и попросил ее показать образчик своего искусства. Она охотно согласилась на его просьбу и, взяв заранее настроенную лютню, сыграла и спела несколько песенок с таким чувством, что принц, не помня себя от любви и восхищения, упал к ее ногам. Но закончим на этом описание сей картины и скажем только, что наследнику испанского престола, погруженному в сладостное опьянение, часы показались минутами и что, боясь приближения рассвета, мы еле увели его из этого опасного дома. Господа поставщики поспешно отвезли инфанта во дворец, где водворили его в собственных апартаментах. Затем они удалились каждый к себе, столь же довольные тем, что свели принца с авантюристкой, как если б способствовали его браку с какой-нибудь принцессой.
На следующий день поутру я рассказал об этом похождении герцогу Лерме, которому хотелось знать все подробности. В то время как я кончал свое повествование, прибыл граф Лемос и сказал нам:
– Инфант думает только о Каталине и так увлечен ею, что намерен часто навещать ее и превратить это приключение в длительную привязанность. Ему хочется сегодня же послать ей драгоценных камней на две тысячи пистолей, а у него нет ни гроша. Поэтому он обратился ко мне и сказал:
«Дорогой Лемос, пожалуйста, раздобудьте мне сейчас же эту сумму. Я знаю, что затрудняю и разоряю вас, но сердце мое полно признательности, и если я когда-либо буду в состоянии отблагодарить вас не одними только добрыми чувствами за все, что вы для меня сделали, то вы не раскаетесь в оказанном мне одолжении». – «Ваше высочество, – ответил я ему, тотчас же откланявшись, – у меня есть друзья и люди, которые поверят мне в долг; немедленно отправлюсь к ним и раздобуду то, что вы хотели».
– Желание принца нетрудно удовлетворить, – заметил на это герцог своему племяннику. – Сантильяна отнесет вам эти деньги или, если хотите, сам купит камни, так как знает в них толк, в особенности в рубинах. Не правда ли, Жиль Блас? – добавил он, лукаво взглянув на меня.
– Вы очень язвительны, ваша светлость, – ответил я. – Вижу, что вам хочется дать сеньору графу повод посмеяться надо мной.
Так оно и случилось. Племянник не преминул спросить о том, что за этим скрывается.
– Так, пустяки, – сказал дядя смеясь. – Дело в том, что Сантильяна вздумал однажды обменять алмаз на рубин, и эта мена не принесла ему ни чести, ни барыша.
Я был бы счастлив, если б герцог ограничился этим, но он взял на себя труд рассказать про проделку, которую выкинули со мной Камила и дон Рафаэль в меблированных комнатах, и особенно распространился относительно самых неприятных для меня подробностей. Позабавившись в свое удовольствие, его светлость приказал мне сопровождать графа Лемоса, который повел меня к брильянтщику. Выбрав у него драгоценную вещицу, мы показали ее инфанту, после чего мне было поручено передать подарок Каталине. Затем я отправился домой, чтоб взять из герцогских денег две тысячи пистолей и расплатиться с брильянтщиком.
Не стоит спрашивать о том, ласково ли приняли меня дамы, когда я на следующую ночь принес презент от его высочества, который состоял из пары серег с подвесками, предназначавшихся для племянницы. Очарованные этими доказательствами любви и щедрости принца, сеньора Менсия и Каталина принялись стрекотать, как кумушки, и благодарить меня за то, что я доставил им такое галантное знакомство. От избытка радости они проболтались и обронили несколько замечаний, побудивших меня заподозрить, что я подсунул сыну нашего великого монарха отъявленную плутовку. Желая убедиться в том, что меня действительно угораздило совершить этот миленький подвиг, я удалился с намерением объясниться по этому поводу с Сипионом.
Глава XII Кто такая была Каталина. О смущении и тревоге, испытанных Жиль Бласом, и о том, к каким мерам предосторожности он вынужден был прибегнуть для своего успокоения
Придя домой, я услышал страшный шум и осведомился о его причине. Мне сказали, что в этот вечер Сипион угощает с полдюжины своих приятелей. Они распевали во всю глотку и заливались громким смехом, так что ужин этот отнюдь не походил на пир семи мудрецов [168] .
Хозяин пиршества, узнав о моем возвращении, объявил гостям:
– Господа, ничего серьезного; это только барин вернулся. Пожалуйста, не смущайтесь и продолжайте развлекаться. Я сбегаю сказать ему несколько слов и сейчас же приду к вам обратно.
– Что за галдеж? – спросил я у Сипиона. – Кого вы там угощаете? Не поэтов ли?
– Помилуйте, сеньор, – возразил он. – Стал бы я спаивать вашим вином такую шушеру! Я нашел для него лучшее употребление. Среди моих гостей находится один богатый молодой человек, который хочет получить должность с помощью вашего покровительства и своих денег. Для него-то и устроена эта пирушка. За каждый его глоток я прибавляю по десять пистолей к той сумме, которую он должен будет вам уплатить, и намерен поить его до рассвета.
– Коли так, – сказал я, – то ступай к своим гостям и не жалей моего погреба.
Я счел этот момент неподходящим для того, чтобы исповедать Сипиона, но на следующий день за утренним туалетом обратился к нему со следующей речью:
– Любезный Сипион, ты знаешь, на какой ноге мы друг с другом живем. Я обхожусь с тобой скорее как с приятелем, нежели как со слугой, а потому было бы дурно с твоей стороны надувать меня так, как обычно надувают барина. Пусть же между нами не будет тайн. Я поведаю тебе нечто такое, что тебя удивит, а ты, со своей стороны, скажешь мне, какого ты мнения о женщинах, с которыми меня познакомил. Между нами говоря, я подозреваю, что это две продувные бестии, опытность которых особенно сказывается в том, что они прикидываются тихонями. Если я прав, то наследный принц не поблагодарит меня за это, ибо признаюсь, что поручал тебе искать любовницу не для себя, а для него. Я сводил инфанта к Каталине, и он в нее влюбился.
– Сеньор, – ответил Сипион, – вы так добры ко мне, что я посовещусь что-либо от вас утаить. Вчера мне удалось побеседовать наедине с наперсницей этих двух нимф. Она рассказала мне всю их историю, которая поистине весьма забавна. Я вкратце передам вам ее и уверен, что вы не прочь будете ее послушать.
Каталина, – продолжал он, – дочь захудалого арагонского идальго. Очутившись в пятнадцать лет сиротой столь же пригожей, сколь и бедной, она вняла настояниям одного старого командора, который отвез ее в Толедо, обращался с ней скорее как отец, нежели как муж, и умер шесть месяцев спустя. Ей досталось наследство, состоявшее из немногих пожитков и трехсот пистолей наличными. Затем она сошлась с сеньорой Менсией, которая была еще в моде, хотя уже начинала увядать. Обе подруги поселились вместе и стали вести себя так, что правосудие пожелало узнать их поближе. Это пришлось дамам не по вкусу, и они с досады или по другой причине покинули Толедо, чтобы обосноваться в Мадриде, где живут уже около двух лет, не водя знакомства ни с кем из соседок. Но послушайте самое интересное. Они сняли два маленьких домика, отделенных только стеной; из одного в другой можно проникнуть по подвальной лестнице. Сеньора Менсия живет с юной субреткой в одном из этих домов, а вдова командора занимает другой вместе со старой дуэньей, которую выдает за свою бабушку, так что наша арагонка бывает то племянницей, воспитываемой теткой, то сироткой, приютившейся под крылышком бабки. Когда она представляет племянницу, то называет себя Каталиной, а когда обращается во внучку, то ее кличут Сиреной.
Услыхав имя Сирены, я побледнел и прервал Сипиона.
– Что ты говоришь? – воскликнул я. – У меня сердце в пятки уходит. Я боюсь, как бы эта проклятая арагонка не оказалась любовницей Кальдерона.
– Она самая! – подтвердил мой наперсник. – Я думал позабавить вас этой вестью.
– Что ты! – отвечал я. – Тут надо печалиться, а не смеяться. Понимаешь ли ты, чем это нам грозит?
– Нет, не понимаю, – возразил Сипион. – Какое тут может случиться несчастье? Во-первых, сомнительно, чтобы дон Родриго узнал о том, что происходит, а во-вторых, если вы этого боитесь, то вам стоит только предупредить первого министра. Расскажите ему все начистоту: он убедится в вашей искренности, и если Кальдерон задумает после этого оговорить вас перед его светлостью, то герцог поймет, что он вредит вам из мести.
Сипион рассеял этими доводами мои опасения. Последовав его совету, я уведомил герцога Лерму об этом неприятном открытии. Излагая обстоятельства дела, я даже притворился опечаленным, чтобы показать ему, как я огорчен тем, что неумышленно подсунул инфанту любовницу дона Родриго; но министр не только не пожалел своего любимца, но еще принялся над ним подтрунивать. Затем он посоветовал мне не смущаться этим обстоятельством и сказал, что в конечном счете для Кальдерона немалая честь ухаживать за возлюбленной наследного принца и пользоваться у нее такими же милостями. Я не преминул также поставить обо всем в известность графа Лемоса, который обнадежил меня своим покровительством на случай, если первый секретарь проведает про эту интригу и попытается уронить меня в глазах его светлости.
Решив, что благодаря этому маневру мне удалось спасти ладью своего счастья от опасности сесть на мель, я потерял всякий страх и продолжал сопровождать принца к Каталине, сиречь Сирене, изобретавшей разные отговорки, чтобы избавиться от посещений дона Родриго и украсть у него ночи, которые она принуждена была посвящать его августейшему сопернику.
Глава XIII Жиль Блас продолжает корчить из себя вельможу. Он получает вести о своей семье. Какое впечатление они на него производят. Наш герой ссорится с Фабрисио
Как я уже говорил, в моей прихожей обычно толпилось поутру множество народу, приходившего ко мне с просьбами; но я не позволял никому излагать их устно, а, следуя обычаю двора или, вернее, своему тщеславию, говорил каждому просителю: «Подайте челобитную». Я так привык к этому, что однажды ответил теми же словами своему домовладельцу, напомнившему мне о плате за помещение, так как я задолжал ему за год. Что касается до мясника и булочника, то они избавляли меня от труда требовать у них челобитные, ибо исправно подавали мне счета всякий месяц. Сипион, подражавший мне столь искусно, что копия весьма приближалась к оригиналу, поступал точно таким же образом с лицами, обращавшимися к нему за моим содействием.
Я усвоил себе также другое безвкусное обыкновение, которое не утаю, хотя оно и не служит к моей чести, а именно я стал до того хлыщеват, что говорил о самых знатных вельможах таким тоном, точно был с ними из одного теста. Так, например, когда мне приходилось упомянуть о герцоге Альба, герцоге Осунском или герцоге Медина Седония, я называл их без всяких церемоний: Альба, Осуна и Медина Седония. Словом, я превратился в такого гордеца и спесивца, что перестал считать себя сыном своих родителей. Увы, бедная дуэнья и бедный стремянный, я даже не справлялся о том, живете ли вы богато или убого в своей Астурии! Это меня ничуть не волновало, да и о вас самих я никогда не вспоминал. Двор обладает свойством реки Леты: он заставляет нас забывать родных и друзей, находящихся в незавидном положении.
Итак, я совершенно забыл о своей семье, когда однажды утром ко мне явился молодой человек, выразивший желание переговорить со мной наедине. Я повел его в кабинет и, приняв за простолюдина, не предложил ему присесть, а спросил, что ему от меня угодно.
– Разве вы меня не узнаете, сеньор Жиль Блас? – сказал он.
Hо как внимательно я к нему ни приглядывался, все же вынужден был ответить, что черты его лица мне не знакомы.
– Я ваш земляк, и родом из самого Овьедо, – продолжал он. – Мой отец – москательщик Бертран Мускада, сосед вашего дяди каноника. А я сейчас же вас узнал. Ведь мы столько раз играли с вами в qallina cieqa [169] .
– У меня остались весьма смутные воспоминания о забавах моего детства, – отвечал я. – Серьезные дела, которыми мне пришлось с тех пор заниматься, вытеснили их из моей памяти.
– Я приехал в Мадрид, – продолжал он, чтобы рассчитаться с клиентом моего отца, и здесь услыхал про вас. Мне сказали, что вы в силе при дворе и уже стали побогаче иного жида. Поздравляю вас с этим и по возвращении на родину не премину порадовать вашу семью столь приятным известием.
Пришлось приличия ради спросить его, в каком положении он оставил моего отца, мать и дядю; но я так холодно исполнил эту обязанность, что москательщику не пришлось восхищаться моей привязанностью к родственникам. Он мне это и выложил. Возмутившись моим равнодушным отношением к лицам, которые должны были быть мне особенно дороги, и будучи к тому же откровенным и грубым парнем, он сказал мне без обиняков:
– Я полагал, что вы питаете к своим родным больше любви и нежности. Каким ледяным тоном вы о них осведомляетесь! Можно подумать, что вы их совершенно предали забвению. Знаете ли вы, как они теперь живут? Отец ваш и мать все еще в услужении, а наш добрый каноник Хиль Перес, отягченный старостью и болезнями, находится почти при смерти. Надо почитать родителей, – добавил он. – Раз вы в состоянии позаботиться о них, то советую вам, как друг, посылать им ежегодно двести пистолей. Этим вы обеспечите им спокойную и счастливую жизнь, а вас это не разорит.
Вместо того чтобы умилиться при таком грустном известии о своих родных, я только рассердился на дерзость этого человека, позволившего себе давать мне непрошеные советы. Если бы он проявил больше житейской сноровки, то, быть может, уговорил бы меня, но его откровенность только вызвала во мне возмущение. Он заметил это по моему мрачному молчанию, однако продолжал читать мне нравоучения, в которых было больше язвительности, нежели христианского милосердия, что меня окончательно взбесило.
– Вы слишком много себе позволяете, господин Мускада! – ответил я ему с раздражением. – Уходите отсюда и не вмешивайтесь в дела, которые вас не касаются. Отправляйтесь к клиенту вашего отца и сводите с ним счеты. Не вам указывать мне на мои обязанности. Я знаю лучше вас, как мне поступить в данном случае.
С этими словами я вытолкал москательщика из кабинета и отослал его в Овьедо торговать перцем и гвоздикой.
Между тем то, что он сказал, не выходило у меня из памяти, и, упрекая себя за дурные сыновние чувства, я смягчился. Мне вспомнились заботы родных о моем детстве и воспитании, я подумал о том, сколь многим им обязан, эти размышления вызвали во мне порыв признательности, который, однако, не привел ни к чему. Неблагодарность вскоре заглушила его, после чего последовало полное забвение. Найдется немало отцов, у которых есть такие дети.
Корыстолюбие и тщеславие, овладевшие мною, окончательно изменили мой характер. Моя прежняя веселость исчезла; я стал грустен и задумчив – словом, превратился в тупого скота. Фабрисио, видя, что я занят только накоплением богатств и совсем к нему охладел, почти перестал меня навещать. Однажды, не удержавшись, он даже сказал мне:
– Право, Жиль Блас, я тебя не узнаю. Прежде чем попасть ко двору, ты обладал душевным равновесием, а теперь не перестаешь волноваться. Ты строишь план за планом, чтобы обогатиться, и чем ты больше наживаешь, тем ненасытнее становишься. Не знаю даже, стоит ли тебе говорить об этом; но ты не жалуешь меня больше ни теми сердечными излияниями, ни той простотой в обращении, которые составляют прелесть дружбы. Напротив, ты замкнулся в себе и скрываешь от меня тайники своей души. Одним словом, Жиль Блас стал уже не тем Жиль Бласом, которого я знал.
– Ты, конечно, шутишь, – отвечал я довольно сухо. – Я не замечаю никакой перемены.
– Не доверяйся своим глазам: они этого не видят, – возразил Фабрисио. Поверь мне, твоя метаморфоза не подлежит никакому сомнению. Можешь ли ты, положа руку на сердце, сказать, что наши отношения остались прежними? Когда я по утрам стучался в твою дверь, ты отпирал мне сам, по большей части еще заспанный, и я без церемоний входил к тебе в комнату. А теперь, какая разница! У тебя лакеи. Меня заставляют дожидаться в прихожей; прежде чем впустить, обо мне докладывают. А затем, как ты меня принимаешь! С ледяной вежливостью и с величием знатного сеньора. Можно подумать, что мои посещения тебе в тягость. Неужели ты полагаешь, что такой прием может быть приятен человеку, считавшему себя твоим товарищем? Нет, Сантильяна, нет, мне это не подходит. Прощай! Расстанемся по-хорошему. Ты избавишься от судьи своих поступков, а я от новоиспеченного и зазнавшегося богача.
Эти упреки больше меня озлобили, нежели растрогали, и я позволил ему удалиться, не сделав никакой попытки его удержать. При моем тогдашнем душевном состоянии дружба с поэтом казалась мне весьма малоценным благом, о потере коего не стоило жалеть. Я нашел утешение в знакомстве с несколькими мелкими придворными чиновниками, с которыми меня за последнее время тесно связывала общность взглядов. Мои новые знакомцы были людьми, прибывшими по большей части неизвестно откуда и обязанными своей счастливой звезде теми постами, которые они занимали. Все эти прощелыги уже успели опериться и, приписывая только своим достоинствам благодеяния, которыми осыпала их милость монарха, они задирали нос не меньше меня. Мы считали себя весьма почтенными особами. О, Фортуна! Вот как ты чаще всего расточаешь свои дары! Прав стоик Эпиктет [170] , когда сравнивает тебя с девицей знатного происхождения, которая отдается рабам.
Книга девятая
Глава I Сипион собирается женить Жиль Бласа и сватает ему дочь богатого и известного золотаря. О мерах, предпринятых для этой цели
Однажды вечером, проводив гостей, которые у меня ужинали, я остался наедине с Сипионом и спросил, что он успел сделать за день.
– Нечто сногсшибательное, – возразил мой секретарь. – Я собираюсь устроить ваше благополучие и женить вас на единственной дочери одного знакомого мне золотаря.
– На дочери золотаря? – воскликнул я с презрением. – Да ты с ума сошел! Как это взбрело тебе в голову предложить мне мещанку? Человек, не лишенный достоинств и к тому же занимающий известное положение при дворе, может, по-моему, рассчитывать на кое-что повыше.
– Что вы, сеньор! Разве можно так рассуждать? – отвечал Сипион. – Вспомните, что звание идет от мужа, и не будьте щепетильнее многих сотен вельмож, которых я мог бы вам назвать. Знаете ли вы, что наследница, о которой идет речь, принесет вам в приданое по меньшей мере сто тысяч дукатов? Разве это не мастерское произведение ювелирного искусства.
Услыхав о такой крупной сумме, я сделался сговорчивее.
– Сдаюсь, – сказал я своему секретарю. – Приданое меня убедило. Когда же мне его отсчитают?
– Чуточку терпения, сеньор: вы очень торопитесь, – отвечал он. – Я должен сначала повидаться с отцом невесты и добиться его согласия.
– Вот как? – расхохотался я. – Недалеко же ты ушел. Боюсь, что сватовство не скоро сбудется.
– Гораздо скорее, чем вы думаете, – возразил Сипион. – Мне достаточно поговорить часок с золотарем, и я ручаюсь вам за успех. Но прежде чем двигать дело дальше, давайте сговоримся. Предположим, что я раздобыл вам эти сто тысяч дукатов. Сколько же достанется мне?
– Двадцать тысяч, – сказал я.
– Здорово! – воскликнул Сипион. – Я рассчитывал только на десять: вы вдвое щедрее меня. В таком случае я завтра же примусь за хлопоты, и дело будет в шляпе, или я – круглый болван.
Действительно, дня два спустя он заявил мне:
– Я говорил с сеньором Габриэлем Салеро (так звали моего золотаря). Выслушав похвальные отзывы о вашей должности и характере, он отнесся благосклонно к моему предложению и согласен назвать вас своим зятем. Вы получите дочь и сто тысяч дукатов в приданое, если сможете доказать ему воочию, что пользуетесь благоволением первого министра.
– Если дело только за этим, то я вскоре буду женатым человеком, – сказал я Сипиону. – Кстати, видал ли ты невесту? Хороша ли она собой?
– Не так хороша, как приданое. Между нами говоря, трудно назвать ее красавицей. К счастью, эта сторона вас вовсе не занимает.
– Нисколько не занимает, дитя мое, – возразил я. – Мы, придворные, женимся только для того, чтобы жениться. Красоту же мы ищем у жен наших приятелей, а если случайно нам самим попадается хорошенькая супруга, то мы обращаем на нее весьма мало внимания и вполне заслуживаем, чтобы она нас обманывала.
– Это еще не все, – продолжал Сипион. – Сеньор Габриэль угощает вас сегодня ужином. Мы условились, что вы не обмолвитесь ни единым словом о предполагаемом браке. Хозяин пригласит нескольких приятелей-купцов, и вы будете присутствовать в качестве обыкновенного гостя, а назавтра он, тоже неофициально, сам пожалует к вашему вечернему столу. Вы видите, что он хочет вас сперва изучить, прежде чем связаться каким-нибудь обязательством. Не худо будет, если вы немножко понаблюдаете за самим собой.
– Черт подери! – прервал я его самоуверенно. – Пусть изучает меня, сколько его душе будет угодно; я могу только выиграть от такого исследования.
Все произошло так, как было условлено. Я отправился к золотарю, который принял меня запросто, точно мы с ним виделись уже много раз. Этот добрейший мещанин был вежлив, как у нас говорится, hasta porfiar [171] . Он представил меня сеньоре Эухении, своей жене, а также дочери Габриэле. Я pacсыпался перед ними в комплиментах, не нарушая нашего соглашения, и наговорил им всяких придворных фраз и пустяков в самой изысканной форме.
Несмотря на описание моего секретаря, Габриэла показалась мне вовсе не такой некрасивой, потому ли, что она была очень выфранчена, или потому, что я смотрел на нее сквозь приданое. Но что за великолепный дом был у сеньора Салеро! Там нашлось бы, пожалуй, больше серебра, чем во всех перуанских рудниках. Этот металл всюду бросался в глаза и при этом в самых разнообразных видах. Каждая комната, а в особенности та, в которой мы находились, представляла собой сокровищницу. Какое жилище для будущего зятя! Чтобы придать ужину больше пышности, мой тесть пригласил пять или шесть купцов, людей степенных и скучных. Они говорили только о коммерции. Их беседа больше походила на деловое совещание, нежели на разговор приятелей, собравшихся, чтобы вместе поужинать.
На другой день вечером я в свою очередь угостил золотаря. Не будучи в состоянии пустить ему пыль в глаза серебряной посудой, я прибег к другой уловке, а именно созвал тех из своих друзей, которые занимали наиболее видное положение при дворе и которых я знал за честолюбцев, не ведавших предела своим вожделениям. Мои гости говорили только о почестях, только о блестящих и прибыльных должностях, на которые они зарились. Это произвело должное впечатление. Их величественные помыслы ошеломили моего мещанина, и, несмотря на все свое богатство, он чувствовал себя ничтожным смертным по сравнению с этими сенаторами. Что касается меня, то я притворился скромным человеком, который готов удовольствоваться небольшим, доходом в каких-нибудь двадцать тысяч дукатов. На это мои сотрапезники, жадные до почестей и богатств, заявили, что я неправ и что, будучи на столь хорошем счету у первого министра, не должен ограничиваться такими пустяками. Мой тесть намотал себе все это на ус и, как мне показалось при прощании, остался мною вполне доволен.
На следующий день поутру Сипион не преминул к нему наведаться, чтобы узнать, как я ему понравился.
– Я в восторге от него, – ответил Салеро. – Этот молодой человек покорил мое сердце. Но заклинаю вас, господин Сипион, во имя нашего старинного знакомства, будьте со мной вполне откровенны. У каждого из нас, как вы знаете, имеется своя слабость. Скажите мне, чем именно грешен сеньор де Сантильяна. Не игрок ли он? Не падок ли на женский пол? Нет ли у него каких пороков? Пожалуйста, не скрывайте этого от меня.
– Вы меня обижаете этим вопросом, сеньор Габриэль, – возразил сват. – Я принимаю больше к сердцу ваши интересы, чем интересы своего барина. Разве я предложил бы его вам в зятья, если бы он обладал какой-нибудь дурной привычкой, способной сделать вашу дочь несчастной? Нет, черт подери! Для этого я слишком предан вашей милости. Между нами говоря, я нахожу у него только один недостаток: это отсутствие недостатков. Он слишком степенен для молодого человека.
– Тем лучше, – возразил золотарь. – Это меня радует. Ступайте к нему, друг мой, и скажите, что он получит мою дочь и что я выдал бы ее за него даже в том случае, если бы он не располагал милостью министра.
Как только мой секретарь оповестил меня об этом разговоре, я поспешил к Салеро, чтобы поблагодарить его за доброжелательное ко мне отношение. Он успел уже объявить свою волю жене и дочери, которые подчинились ей без неудовольствия, насколько я мог судить по оказанному мне приему. Предупредив герцога Лерму, я повел к нему своего тестя, которого представил его светлости. Министр принял Салеро весьма ласково и выразил свое удовольствие по поводу того, что он выбрал в зятья человека, который пользуется его расположением и которого он намерен повысить по службе. Затем герцог распространился о моих достоинствах и наговорил обо мне много хорошего, из чего добряк Габриэль заключил, что обрел в моем лице такого жениха для своей дочери, лучше которого не сыскать во всей Испании. Это так его обрадовало, что он прослезился. Прощаясь со мной, он сжал меня в своих объятиях и сказал:
– Сын мой, мне так не терпится видеть вас мужем Габриэли, что я намерен устроить свадьбу не позже чем через неделю.
Глава II В силу какой случайности Жиль Блас вспомнил о доне Альфонсо де Лейва. Об услуге, которую он из тщеславия оказал этому сеньору
Оставим на некоторое время мою женитьбу. Порядок повествования требует, чтобы я сперва рассказал об услуге, оказанной мною моему прежнему барину, дону Альфонсо. Я совершенно позабыл об этом кавалере и вспомнил о нем вот по какому случаю.
Около этого времени освободилось в Валенсии место губернатора. Узнав об открывшейся вакансии, я подумал о доне Альфонсо де Лейва. Мне пришло в голову, что такой пост будет для него весьма подходящим, и я решил похлопотать об этом не столько по дружбе, сколько из хвастовства. Мне казалось, что если я добьюсь своего, то заслужу немало чести. А потому я обратился к герцогу Лерме и сказал ему, что служил прежде управителем у дона Сесара де Лейва и его сына и что, имея все основания питать к ним признательность, осмеливаюсь просить о предоставлении одному из них губернаторской должности в Валенсии. Министр ответил мне:
– Весьма охотно, Жиль Блас. Мне приятно видеть, что ты благодарный и великодушный человек. К тому же ты хлопочешь о семействе, которое я уважаю. Все Лейва – добрые слуги королю; они заслуживают этого места. Располагай им по своему усмотрению. Я даю его тебе в качестве свадебного подарка.
Радуясь своему успеху, я поспешил к Кальдерону, чтобы оформить приказ о назначении дона Альфонсо. Множество народа ждало в почтительном молчании аудиенции у дона Родриго. Протискавшись сквозь толпу, я подошел к дверям кабинета, которые раскрылись передо мной. Я застал у него множество всяких кавалеров, командоров и других важных сановников, которых Кальдерон выслушивал по очереди. Поразительно, как менялось его обращение в зависимости от того, с кем он говорил. Одним он просто кивал головой, других удостаивал поклона и провожал до дверей кабинета. Таким образом он вкладывал различные оттенки вежливости в каждое приветствие. Некоторые кавалеры, как я заметил, возмущались его невниманием и проклинали в душе необходимость, заставлявшую их пресмыкаться перед этой личностью. Другие, напротив, смеялись про себя над его напыщенностью и самодовольством. Все эти наблюдения не приносили мне, впрочем, никакой пользы, ибо у себя я поступал так же, как он, и нисколько не заботился о том, одобряют ли или хулят мои надменные ухватки, лишь бы только с ними считались.
Случайно взглянув на меня, дон Родриго поспешно покинул дворянина, который его о чем-то просил, и бросился обнимать меня с изъявлениями дружбы, весьма меня изумившими.
– Ах, любезный собрат, – воскликнул он, – какое обстоятельство доставляет мне удовольствие видеть вас здесь? Чем могу вам служить?
Я объяснил ему причину своего посещения, после чего он заверил меня, что завтра в тот же час бумага будет готова. Он не ограничил этим своей любезности, но проводил меня до дверей прихожей, куда сопровождал только самых высокопоставленных лиц, и тут снова обнял меня.
«Что означают все эти учтивости и что они мне предвещают? – подумал я, уходя от дона Родриго. – Не замышляет ли Кальдерон меня погубить! А может быть, напротив, он добивается моей дружбы или, предчувствуя закат своего фавора, обхаживает меня для того, чтобы я вступился за него перед нашим патроном».
Я не знал, на каком из этих предположений остановиться.
Когда я на другой день вернулся к нему, он обошелся со мной таким же образом и осыпал меня ласками и учтивостями. Правда, он отыгрался в этом отношении на других лицах, явившихся к нему с просьбами. Одних он принял резко, других – холодно, так что почти все остались им недовольны. Но за них отомстило тут же случившееся происшествие, о котором я не считаю нужным умолчать. Пусть оно послужит предостережением для чиновников и секретарей, которые о нем прочтут.
Один посетитель, одетый весьма скромно и выглядевший не тем, кем он был на самом деле, подошел к Кальдерону и заговорил с ним о какой-то челобитной, поданной им герцогу Лерме. Дон Родриго даже не взглянул на него и спросил резким тоном:
– Как вас зовут, любезный?
– В детстве меня звали Франсильо, – хладнокровно ответил кавалер, – затем меня стали называть доном Франсиско де Суньига, а теперь я зовусь графом Педроса.
Этот ответ озадачил Кальдерона, и, видя, что перед ним знатнейший вельможа, он захотел извиниться.
– Сеньор, – сказал он графу, – прошу меня извинить: я вас не знал…
– Мне не нужны твои извинения, – высокомерно прервал его граф. – Я презираю их не меньше, чем твои неучтивости. Знай, что секретарь министра должен быть одинаково вежлив со всеми, кто бы к нему ни пришел. Можешь кичиться сколько угодно, воображая себя заместителем своего господина, но помни, что ты только его лакей.
Великолепный дон Родриго был глубоко уязвлен этим уроком. Тем не менее он нисколько не образумился. Я намотал себе это на ус, решив поосторожнее разговаривать с просителями на своих аудиенциях и обращаться нагло только с немыми. Так как указ оказался готов, то я взял его с собой и отправил с нарочным дону Альфонсо, приложив письмо от герцога Лермы, в котором его светлость извещал этого молодого сеньора, что король соблаговолил назначить его губернатором Валенсии. Я не стал уведомлять дона Альфонсо о своем участии в его назначении и даже не написал ему, рассчитывая на удовольствие известить его об этом устно и доставить ему приятный сюрприз, когда он прибудет ко двору для принесения служебной присяги.
Глава III О приготовлениях к свадьбе Жиль Бласа и о важном событии, сделавшем их излишними
Вернемся к прекрасной Габриэле. Через неделю мне предстояло жениться на ней, а потому обе стороны готовились к этой церемонии. Салеро заказал богатые наряды для невесты, а я нанял для нее камеристку, лакея и старого стремянного, по выбору Сипиона, который еще с большим нетерпением, чем я, дожидался момента, когда мне отсчитают приданое. Накануне этого желанного дня я ужинал у тестя с дядями, тетками, двоюродными братцами и сестрицами и прекрасно исполнял роль лицемерного зятя. Я ублажал золотаря и его жену, разыгрывал влюбленного перед Габриэлой и осыпал учтивостями всех членов семьи, терпеливо выслушивая их плоские разговоры и мещанские рассуждения. В награду за мое терпение я имел счастье понравиться своим будущим свойственникам. Все без исключения радовались чести породниться со мной.
По окончании ужина общество перешло в большую залу, где нас угостили недурным вокальным и инструментальным концертом, хотя в нем участвовали далеко не лучшие мадридские силы. Несколько веселых мотивов, приятно поразивших наш слух, привели нас в такое хорошее настроение, что мы затеяли танцы. Одному богу известно, как мы с этим справились, ибо меня сочли за питомца Терпсихоры, несмотря на то, что все мои познания в этом искусстве сводились к двум или трем урокам, взятым мною у одного неважного танцмейстера, который приходил обучать пажей маркизы Чавес. Повеселившись в свое удовольствие, гости собрались отправиться восвояси. Я не пожалел поклонов и поцелуев.
– Прощайте, любезный зять, – сказал Салеро, обнимая меня. – Я зайду к вам завтра поутру и принесу приданое полновесными червонцами.
– Буду вам рад, дорогой тесть, – отвечал я.
Затем, простившись со всем семейством, я уселся в экипаж, дожидавшийся меня у крыльца, и покатил к своим палатам.
Не успел я отъехать двухсот шагов от дома сеньора Габриэля, как человек пятнадцать или двадцать, вооруженных шпагами и карабинами, одни пешие, другие верхом, окружили мой экипаж и, остановив его, крикнули:
– Именем короля!
Затем они немедленно заставили меня выйти из экипажа и пересесть в дорожную карету, куда уселся вместе со мной начальник всадников, приказав кучеру ехать по сеговийской дороге. Я сразу догадался, что мой спутник – честный альгвасил, и попытался узнать у него причину своего ареста. Но он отвечал мне обычным тоном этих господ, т. е. весьма грубо, что не обязан отдавать мне отчет. Тогда я спросил, не принимает ли он меня за кого-нибудь другого.
– Нет, нет, – возразил он, – я уверен, что не ошибся. Вы сеньор де Сантильяна, и мне приказано доставить вас туда, куда мы едем.
Не зная, что возразить ему на это, я принял намерение больше его не расспрашивать. Мы катили остаток ночи вдоль Мансанареса в полном молчании. В Кольменаре мы переменили лошадей, а к вечеру прибыли в Сеговию, где меня посадили в крепость.
Глава IV Как обходились с Жиль Бласом в Сеговийской крепости и каким образом он узнал о причине своего заточения
Меня сперва отвели в камеру, где я принужден был валяться на соломе, словно преступник, достойный смертной казни. Я провел эту ночь не в сетованиях, ибо еще не знал размеров своего несчастья, но в догадках о том, чем я мог навлечь на себя такую беду. У меня не было сомнений относительно того, что это было делом рук Кальдерона. Но, даже предположив, что Кальдерон проведал обо всем, я не мог понять, каким образом ему удалось убедить герцога Лерму поступить со мной так жестоко. То я представлял себе, что меня заточили без ведома его светлости, то мне казалось, что, побуждаемый какими-нибудь политическими соображениями, он сам приказал меня посадить под стражу, как иной раз поступают министры со своими любимцами.
В то время как я терзался всевозможными догадками, лучи рассвета, проникнув сквозь решетчатое окно, раскрыли передо мной весь ужас того места, в котором я находился. Тогда я безудержно предался отчаянию, и глаза мои превратились в источники слез, которые при воспоминании о моем бывшем благополучии стали неиссякаемыми. Пока я печалился, в камеру вошел тюремщик и принес мне дневной рацион, состоявший из хлебца и кружки воды. Он взглянул на меня и, увидя мое лицо, орошенное слезами, проникся ко мне, хоть и был тюремщиком, чувством сострадания.
– Господин арестант, – сказал он, – не надо сокрушаться. К чему принимать так близко к сердцу невзгоды жизни? Вы еще молоды; пройдут мрачные дни и наступят ясные. А в ожидании их кушайте на здоровье хлеб-соль его величества.
Промолвив эти слова, на которые я ответил одними только сетованиями и вздохами, мой утешитель удалился, а я продолжал проклинать весь день свою судьбу и не думал притрагиваться к пище, которая в тогдашнем моем настроении казалась мне не столько благодеянием его величества, сколько доказательством его немилости, ибо она служила не для смягчения, а для продления мук несчастных арестантов.
Тем временем наступила ночь, и вскоре мое внимание было привлечено громким звоном ключей. Двери камеры отворились, и мгновение спустя туда вошел человек со свечой в руке. Он приблизился ко мне и сказал:
– Сеньор Жиль Блас, вы видите перед собой одного из своих друзей. Я тот самый дон Андрес де Тордесильяс, который жил вместе с вами в Гренаде и состоял в свите архиепископа в то время, когда вы были в милости у этого прелата. Вы попросили, если припоминаете, его высокопреосвященство похлопотать за меня, и он нашел мне должность в Мексике. Но вместо того чтобы отправиться на корабле в Вест-Индию, я задержался в городе Аликанте, где женился на дочери коменданта крепости, и после ряда приключений, о которых вам расскажу, сам стал здешним комендантом. Ваше счастье, – добавил он, – что вы встретили в человеке, предназначенном быть вашим мучителем, друга, который сделает все от него зависящее, чтобы облегчить тяжесть вашего заключения! Строжайше приказано, чтобы вы ни с кем не говорили, спали на соломе и питались только хлебом и водой. Но я слишком гуманный человек, чтобы не сочувствовать вашим страданиям, а кроме того, вы оказали мне услугу, и моя благодарность пересилила королевский приказ. Я не только не намерен способствовать жестокостям, которым хотят вас подвергнуть, но постараюсь всячески смягчить вашу участь. Встаньте и ступайте за мной.
Мне, разумеется, надлежало поблагодарить сеньора коменданта, но я был так подавлен, что не смог вымолвить ни одного слова. Тем не менее я последовал за ним. Он заставил меня пересечь двор и подняться по узкой лестнице в крохотную комнату, помещавшуюся на самом верху башни. Я немало удивился, когда, войдя туда, увидал стол, накрытый весьма пристойно на два куверта, и на нем две зажженных свечи в медных шандалах.
– Вам сейчас принесут покушать, – сказал Тордесильяс. – Мы поужинаем здесь вдвоем. Я предназначил это помещеньице для вашего жилья: вам будет тут удобнее, чем в вашей камере. Из окон открывается вид на цветущие берега Эресмы и на упоительную долину, которая простирается от подножия гор, разделяющих обе Кастилии, до самой Коки. Возможно, что первое время вы не сможете оценить этот прекрасный пейзаж, но, когда время превратит острую печаль в сладостную грусть, вы будете с удовольствием любоваться такой приятной картиной. Кроме того, у вас не будет недостатка ни в белье, ни в прочих вещах, необходимых человеку, привыкшему к опрятности. Вам предоставят также хорошую постель, приличный стол и сколько угодно книг – словом, все удобства, на какие может рассчитывать заключенный.
Это любезное предложение несколько меня успокоило и вернуло мне бодрость духа. Я принялся всячески благодарить доброго тюремщика и сказал ему, что своим великодушным поступком он возвращает меня к жизни и что я искренне хотел бы очутиться в таком положении, чтобы доказать ему свою признательность.
– А почему бы вам не очутиться в таком положении? Неужели вы воображаете, что потеряли свободу навеки? Если вы так думаете, то ошибаетесь. Смею вас заверить, что вы отделаетесь несколькими месяцами тюрьмы.
– Что вы говорите, сеньор дон Андрес! – вскричал я. – Вы, значит, знаете причину моего несчастья?
– Признаюсь вам, – отвечал он, – что она мне действительно известна. Альгвасил, доставивший вас сюда, сообщил мне тайну, которую я могу вам открыть. По его словам, король узнал, что вы и граф Лемос возили по ночам наследного принца к одной подозрительной особе, и в наказание за это распорядился графа выслать, а вас посадить в Сеговийскую крепость и содержать в тех тяжелых условиях, которые вы вчера испытали.
– Как же наша интрига дошла до короля? – спросил я. Мне особенно хотелось знать именно это обстоятельство.
– Альгвасил мне больше ничего не сообщил, да, вероятно, и сам не знал, – ответил дон Андрес.
Наш разговор был прерван появлением нескольких слуг, принесших ужин. Они расставили на столе хлеб, две чашки, столько же бутылок и три больших блюда. На первом из них дымилось рагу из зайца, обильно приправленное луком, маслом и шафраном, на втором возлежала олья подрида [172] , а на третьем красовался индюшонок в баклажанном соусе. Тордесильяс, убедившись, что все необходимое подано, отпустил слуг, так как ему не хотелось, чтобы они слышали наш разговор. Он запер дверь, и мы уселись друг против друга.
– Начнем с самого существенного, – сказал он. – Вы, вероятно, здорово проголодались после двух дней поста.
С этими словами дон Андрес положил мне на тарелку изрядную порцию мяса. Рассчитывая на аппетит голодного человека, он ожидал, что я наброшусь на его рагу. Ожидания моего хозяина, однако, не оправдались. Я был до того угнетен своим положением, что, несмотря на необходимость подкрепиться, не мог проглотить ни куска. Желая рассеять мрачные картины, непрестанно рисовавшиеся моему воображению, комендант настойчиво уговаривал меня отведать вина, качество которого всячески превозносил. Но его усилия пропали втуне; предложи он мне даже нектар, я выпил бы его без всякого удовольствия. Приметя это, он надумал развлечь меня иначе и принялся излагать в шутливом тоне историю своей женитьбы. Но и это не привело ни к чему. Я слушал повествование коменданта с такой рассеянностью, что, когда он умолк, я не смог бы ничего пересказать. Тордесильяс понял, что ему не удастся в этот вечер разогнать мою печаль, и по окончании ужина, встав из-за стола, сказал мне:
– Сеньор де Сантильяна, я ухожу, чтоб дать вам возможность отдохнуть или, вернее, предаться размышлениям о вашем несчастье. Но повторяю вам: оно продлится недолго. Наш король от природы добрый человек. Как только гнев его пройдет и он представит себе то плачевное положение, в котором вы, по его мнению, находитесь, то, наверное, решит, что вы достаточно наказаны.
С этими словами сеньор комендант спустился вниз и прислал слуг для того, чтобы они убрали со стола. Они унесли все, вплоть до подсвечников, а я улегся в постель при тусклом мерцании ночника, подвешенного к стене.
Глава V О чем думал Жиль Блас в эту ночь, перед тем как уснуть, и о шуме, который его разбудил
Я провел по меньшей мере часа два в размышлениях о том, что мне сообщил Тордесильяс.
«Итак, – сказал я сам себе, – меня посадили сюда за то, что я потакал развлечениям наследника престола. Действительно, это ужасная неосторожность оказывать подобные услуги столь юному принцу! Все дело в его молодости; будь он постарше, король, вероятно, посмеялся бы над тем, за что он теперь так сильно разгневался. Но кто б это мог донести государю, не боясь мести ни со стороны принца, ни со стороны герцога Лермы? Ведь министр, несомненно, захочет отплатить за обиду, нанесенную графу Лемосу, его племяннику. Да и как наша проделка могла дойти до короля? Вот чего я не понимаю».
Я не переставал возвращаться к этому вопросу. Но особенно огорчала меня неотступная мысль о том, что мое имущество подверглось разграблению.
«Где ты теперь, мой денежный сундук? – восклицал я. – Куда девались все мои богатства? В чьих вы теперь руках? Увы, я потерял вас еще скорее, чем нажил!»
Я представлял себе разгром, произведенный в моем доме, и одна картина печальнее другой приходила мне на ум. Этот хаос мыслей привел меня в изнеможение, оказавшееся благотворным: сон, убегавший от меня в предыдущую ночь, смежил мои очи, чему также немало способствовали хорошая постель, перенесенная мною усталость, а также дурман, навеянный кушаньями и вином. Я крепко заснул, и, по всей вероятности, день застал бы меня в этом состоянии, если бы внезапно не раздались звуки, для тюрьмы весьма необычные. А именно: мне послышался звон гитары и одновременно с ним голос человека. Прислушиваюсь внимательно, однако не слышу ничего и решаю, что мне это приснилось. Но мгновение спустя до моего слуха снова долетели звуки того же инструмента, и тот же голос пропел следующий куплет:
Ay de mi! un ano felice
Parece un soplo ligero;
Pero sin dicha un instante
Es un siglo de tormento [173] .
Стихи эти, как бы нарочно для меня сочиненные, растравили мою печаль.
«Увы, сколько правды в этих словах! – подумал я. – Мне кажется, что время моего благополучия промчалось в одно мгновение и что я уже целый век сижу в этой тюрьме».
Я снова погрузился в мрачные размышления и принялся мучить себя так, точно это доставляло мне удовольствие. Мои сетования кончились вместе с ночью: первые лучи солнца, озарившие камеру, несколько смягчили терзавшее меня беспокойство. Я встал с постели, чтобы раскрыть окно и проветрить комнату. Взглянув на пейзаж, красоты коего мне так восторженно расписывал сеньор комендант, я не нашел в этом зрелище ничего такого, что подтверждало бы его слова. Эресма, которую я представлял себе по меньшей мере такой же широкой, как Тахо, показалась мне жалким ручейком. Одна только крапива да репейник украшали «цветущие берега», а пресловутая «упоительная долина» состояла из полей, по большей части невозделанных. Видимо, я еще не дошел до той «сладостной грусти», которая должна была заставить меня глядеть на мое окружение иначе, чем я в ту пору смотрел на него.
Я начал одеваться и был уже наполовину готов, когда ко мне вошел Тордесильяс в сопровождении старой служанки, нагруженной бельем и полотенцами.
– Сеньор Жиль Блас, – сказал он, – вот вам белье. Пользуйтесь, им, не жалея: я позабочусь о том чтобы вы не испытывали в этом отношении никакого недостатка. Как вы провели ночь? – добавил он. – Успокоил ли сон вашу печаль хотя бы на короткое время?
– Я, вероятно, спал бы и сейчас, если бы меня не разбудил чей-то голос, певший под аккомпанемент гитары, – возразил я.
– Сеньор из соседней камеры, нарушивший ваш покой, это узник, сидящий здесь по политическому делу, – объяснил комендант. – Он кавалер военного ордена Калатравы и человек, обладающий на редкость красивой наружностью. Его зовут дон Гастон де Когольос. Я ничего не имею против того, чтобы вы виделись с ним и кушали вместе. Ваши беседы доставят вам взаимное утешение, и это знакомство будет весьма приятно для вас обоих.
Я выразил дону Андресу свою глубокую признательность за разрешение соединить свою печаль с печалью этого кавалера, и так как мне нетерпелось познакомиться со своим собратом по несчастью, то наш любезный тюремщик удовлетворил мое желание в тот же день. Он дал мне возможность пообедать с доном Гастоном, который поразил меня своим приятным видом и красотой. Судите сами, каков был этот кавалер, если смог очаровать человека, привыкшего вращаться среди самой блестящей придворной молодежи. Вообразите себе исключительного красавца, одного из тех героев романа, которым стоит только показаться, чтобы нагнать на принцесс бессонницу. Прибавьте к этому, что природа, обычно перемешивающая свои дары, наделила к тому же Когольоса редким умом и храбростью. Словом, это был кавалер, обладавший всеми совершенствами.
Если он пленил меня, то и я, в свою очередь, имел счастье ему понравиться. Боясь причинить мне беспокойство, он перестал петь по ночам, несмотря на мои просьбы не стесняться ради меня. Между лицами, утесненными злым роком, связь быстро налаживается. За нашим знакомством быстро последовала нежная дружба, которая крепла с каждым днем. Мы могли видеться когда угодно, и это принесло нам большую пользу, так как своими беседами мы помогали друг другу терпеливо переносить постигшее нас несчастье.
Как-то после полудня зашел я в камеру сеньора Гастона в тот момент, когда он собрался играть на гитаре. Чтобы слушать его с большим удобством, я сел на единственный находившийся там табурет, а сам он, поместившись в ногах кровати, сыграл весьма приятную арию и спел при этом куплеты, выражавшие отчаяние, в которое повергла поклонника жестокость его дамы. Когда он кончил, я сказал ему с улыбкой:
– Сеньор кавальеро, вот стихи, которыми вам лично никогда не придется воспользоваться в своих похождениях. При вашей наружности вы едва ли встретите много жестоких сердец.
– Вы слишком лестного мнения обо мне, – возразил он. Слышанные вами стихи касаются именно меня: я сочинил их, чтобы смягчить сердце, казавшееся мне твердым, как алмаз, и чтобы снискать любовь дамы, которая обращалась со мной крайне сурово. Я должен рассказать вам эту историю, и тем самым вы узнаете про все мои несчастья.
Глава VI История дона Гастона де Когольос и доньи Елены де Галистео
Скоро уже четыре года, как я отправился из Мадрида в Корию, чтобы повидаться там со своей теткой, доньей Элеонор де Ласарилья, одной из богатейших вдов Старой Кастилии, у которой нет других наследников, кроме меня. Не успел я туда приехать, как любовь смутила мой покой. Донья Элеонор отвела мне помещение, выходившее окнами к противоположному дому. Там жила сеньора, за которой я мог легко наблюдать, так как решетка ставней была редкая, а улица узкая. Я не упустил такого случая. Соседка же моя оказалась писаной красавицей, в которую я тотчас же влюбился. Я выразил ей это столь пламенными взглядами, что не понять было трудно. Она их, разумеется, заметила, однако же была не такой девицей, чтобы трубить победу по поводу подобного открытия, а тем более чтобы отвечать на мои заигрывания. Мне хотелось узнать имя этой опасной особы, которая с такой быстротой ранила сердца. Оказалось, что ее зовут доньей Еленой, что она единственная дочь Хорхе де Галистео, владельца крупного лена в нескольких милях от Кории, приносившего значительный доход, что к ней уже не раз сватались женихи, но что отец ее отказывал всем, так как намеревался выдать дочь за своего племянника, дона Аугустина де Олигера, которому в ожидании бракосочетания разрешалось всякий день видеться и разговаривать со своей кузиной. Это меня не охладило: напротив, я влюбился еще сильнее, а тщеславное удовольствие вытеснить удачливого соперника подстрекало меня, пожалуй, еще больше, чем любовь, настаивать на своем. А потому я продолжал метать в Елену пламенные взоры и с мольбой глядел на ее камеристку Фелисию, как бы прося ее помощи. Я даже делал ей знаки пальцами. Но все эти старания пропадали втуне; мне не удалось добиться ничего ни от субретки, ни от барыни: обе выказали себя жестокими и неприступными.
Убедившись, что они отказываются внять языку взглядов, я прибег к другому маневру и нанял людей, которым поручил разузнать, нет ли у Фелисии знакомых в городе. Они выяснили, что у нее имеется закадычная приятельница, некая старушка, по имени Теодора, и что они видятся очень часто. Обрадованный этим открытием, я сам отправился к Теодоре и с помощью подарков убедил ее оказать мне содействие. Она стала на мою сторону, обещала мне устроить у себя тайное свидание с субреткой и на следующий же день сдержала свое слово.
– Я уже не чувствую себя несчастным, с тех пор как мои терзания возбудили вашу жалость, – сказал я Фелисии. – Не могу даже выразить, сколь многим обязан я вашей подруге за то, что она склонила вас выслушать меня.
– Сеньор, – отвечала камеристка, – я во всем повинуюсь Теодоре. Она внушила мне желание помочь вам, и если бы от меня зависело ваше счастье, то вы вскоре достигли бы своей цели. Но, при всем своем желании, я не могу принести вам большей пользы. Не льстите себя надеждой, ибо вы взялись за неосуществимое предприятие. Вы влюблены в даму, отдавшую свое сердце другому, и к тому же в какую даму! Такую надменную и скрытную, что если бы вы своим постоянством и стараниями даже исторгли у нее вздох, то она из гордости не доставит вам удовольствия его услышать.
– Ах, милая Фелисия, – воскликнул я с горечью, – зачем уведомляете вы меня обо всех препятствиях, которые мне надлежит преодолеть? Такая весть равносильна смерти. Лучше обманывайте меня, но не доводите до отчаяния.
С этими словами я взял ее за руки, сжал их в своих и надел ей на палец перстень с алмазом стоимостью в триста пистолей. Затем я наговорил ей таких трогательных вещей, что Фелисия прослезилась.
Она была слишком умилена моими речами и слишком довольна моей щедростью, чтобы оставить меня без утешения, а потому решила несколько облегчить препятствия.
– Сеньор, – сказала она, – вы не должны окончательно терять надежду, несмотря на то, что я вам сообщила. Правда, донья Елена не питает никакой неприязни к вашему сопернику. Он беспрепятственно навещает ее и беседует с ней, когда ему вздумается, но именно это и является для вас благоприятным обстоятельством. Привычка видеться ежедневно сделала их свидания несколько монотонными. Они как будто расстаются без сожаления и встречаются без восторга. Можно подумать, что они уже век женаты. Словом, я не вижу, чтоб моя госпожа питала сильную страсть к дону Аугустину. Кроме того, есть большая разница между вами и им в отношении личных достоинств, и донья Елена слишком чуткая девица, чтобы этого не заметить. А потому не теряйте мужества и продолжайте ваши ухаживания. Я же, со своей стороны, не упущу ни одного случая указать барышне на ваши старания ей понравиться. Пусть притворяется сколько угодно, я и сквозь притворство разберу ее настоящие чувства.
Мы расстались после этого разговора весьма довольные друг другом. Я продолжал с новым усердием бросать влюбленные взгляды на дочь дона Хорхе и угостил ее серенадой, приказав хорошему певцу спеть те стихи, которые вы слышали. Наперсница, желая выпытать чувства своей госпожи, спросила ее после концерта, доставил ли он ей удовольствие.
– Да, голос мне понравился, – сказала донья Елена.
– А слова? Разве они не трогательны? – осведомилась субретка.
– Я не обратила на них никакого внимания, – ответила барышня. – Меня заинтересовало только пение. Слов я не слушала, и мне совершенно безразлично, от кого исходит эта серенада.
– В таком случае, – воскликнула служанка, – бедняга дон Гастон де Когольос ничего не добьется и напрасно теряет время, заглядывая в ваши окна.
– Быть может, вы ошибаетесь и это вовсе не он, – холодно заметила донья Елена. – Возможно, что какой-нибудь другой кавалер вздумал угостить меня серенадой, чтобы поведать мне свои чувства.
– Простите, – возразила Фелисия, – но это как раз дон Гастон, ибо сегодня утром он остановил меня на улице и попросил передать вам, что обожает вас, несмотря на ваше суровое отношение к его любви. Он говорит, что счел бы себя счастливейшим из смертных, если бы вы позволили ему доказать вам свою страсть ухаживаниями и галантными празднествами. Это поручение, – добавила она, – свидетельствует о том, что я не ошиблась.
Дочь дона Хорхе внезапно изменилась в лице и сказала, строго взглянув на субретку:
– Вы могли бы и не передавать мне этого наглого поручения. Чтобы я впредь ничего подобного от вас не слыхала! А если этот дерзкий молодой человек осмелится еще раз заговорить с вами, то приказываю вам сказать ему, чтобы он обращался со своими ухаживаниями к тем особам, которые расположены их принимать, и нашел себе более пристойное времяпрепровождение, нежели болтаться по целым дням у окна, наблюдая за тем, что я делаю в своих покоях.
Все это было мне точно передано Фелисией при нашем вторичном свидании, причем она утверждала, что слова ее госпожи не следует понимать буквально, и старалась меня убедить, будто дела мои обстоят как нельзя лучше. Что касается меня, то я не понимал этих хитростей и не верил, чтобы ответ доньи Елены можно было истолковать в мою пользу, а потому сомневался в комментариях субретки. Она посмеялась над моей недоверчивостью и, попросив у своей приятельницы бумаги и чернил, сказала мне:
– Сеньор кавальеро, напишите сейчас же донье Елене так, как пишет поклонник, доведенный до отчаяния. Изобразите ей поярче свои мучения и в особенности пожалуйтесь на запрещение показываться у окна. Обещайте послушаться, но заверьте ее, что это будет вам стоить жизни. Составьте письмо так, как вы, господа кавалеры, умеете это делать, а остальное я беру на себя. Надеюсь, что исход этого дела принесет моей проницательности больше чести, чем вы ей оказали.
Я был бы, вероятно, единственным поклонником, который, получив такую блестящую возможность написать даме своего сердца, отказался бы от этого. А потому я смастерил самое патетическое послание, какое можно себе представить. Прежде чем его сложить, я показал свои излияния Фелисии, которая, прочтя их, улыбнулась и сказала, что если женщины владеют искусством влюблять в себя мужчин, то и мужчины, в свою очередь, обладают даром соблазнять женщин. Субретка взяла мою цыдульку, заверив меня, что приложит все старания, чтобы она произвела должное впечатление. Затем она посоветовала мне держать свои ставни закрытыми в течение нескольких дней и вернулась к дону Хорхе.
– Сеньорита, – сказала она, явившись к Елене, – я встретила дона Гастона, который не преминул подойти ко мне и опять попытался меня умаслить. Он спросил дрожащим голосом, точно преступник, ожидающий приговора, передала ли я вам его поручение. Но тут я поспешила исполнить ваш приказ и, не дав ему договорить, напустилась на него. Я так его отчитала, что он остался на улице, совершенно ошеломленный моим неистовством.
– Очень рада, что вы избавили меня от этого назойливого человека, – отвечала донья Елена, – но вам вовсе незачем было говорить с ним так грубо. Девушке всегда следует быть кроткой.
– Сеньорита, – возразила камеристка, – от страстного поклонника не отделаешься кроткими словами. Тут иной раз не помогут ни гнев, ни угрозы. Сеньора Гастона, например, все это нисколько не отпугнуло. Осыпав его бранью, я отправилась к вашей родственнице, к которой вы меня посылали. Эта дама, к сожалению, задержала меня слишком долго. Я говорю «слишком долго», потому что из-за этого я на обратном пути снова наткнулась на нашего красавца, чего вовсе не ожидала. Я так смутилась, что у меня язык отнялся, а вы знаете, что я за словом в карман не полезу. Что же делает в это время сеньор Гастон? Он пользуется моим молчанием или, вернее сказать, смятением и сует мне в руки бумажку, которая, не знаю уж каким образом, но так у меня и осталась. А от него и след простыл.
Рассказав эту басню, она вынула из корсажа мое письмо и с комическим жестом передала его своей госпоже. Донья Елена взяла как бы в шутку эту эпистолу, прочитала ее от начала до конца, а затем разыграла из себя недотрогу.
– Право, Фелисия, это легкомыслие, это сумасбродство принимать такие записки, – сказала она суровым тоном своей камеристке. – Что подумает сеньор Гастон? И что мне самой думать? Вы заставляете меня своим поведением сомневаться в вашей преданности, а ему даете повод подозревать, будто я отвечаю на его страсть. Увы, он, быть может, в эту минуту даже воображает, что я с удовольствием читаю и перечитываю то, что он написал. Вот на какой позор вы обрекаете мое самолюбие!
– Ах нет, сеньорита, – возразила субретка, – ему и в голову не придет такая мысль, а если и появится, то быстро испарится. Я скажу ему при первой же встрече, что показала вам письмо, что вы холодно взглянули на него и, не читая, разорвали с ледяным презрением.
– Можете смело побожиться, что я его не читала, – заявила донья Елена. – Я действительно не могла бы вспомнить из него даже двух слов.
Но дочь дона Хорхе этим не удовлетворилась: она разорвала мою записку и запретила своей наперснице впредь упоминать обо мне.
Итак, я обещал прекратить свои любовные маневры у окна, коль скоро мое появление было неприятно прелестной даме, а потому в течение нескольких дней держал ставни закрытыми, дабы придать своему послушанию больше трогательности. Но, отказавшись от атаки взглядами, я готовился к новым серенадам в честь моей жестокой Елены. Однажды вечером, захватив с собой музыкантов, я отправился под ее балкон. Уже зазвучали переливы гитар, как вдруг наш концерт был прерван появлением какого-то кавалера со шпагой в руке, который, рассыпая удары налево и направо, разогнал исполнителей. Ярость этого смельчака передалась мне. Я бросился к нему, чтобы его наказать, и между нами завязался жаркий бой.
Донья Елена и ее наперсница слышат звон шпаг, подходят к окну и видят сквозь решетку двух сражающихся людей. Их крик будит дона Хорхе и его лакеев, которые быстро вскакивают и в сопровождении соседей выбегают на улицу, чтобы разнять бойцов.
Но они пришли слишком поздно: на поле битвы остался только один кавалер, плававший в крови и почти лишенный признаков жизни. Узнав в этом несчастном вашего покорного слугу, они отнесли меня к донье Элеонор, которая приказала вызвать самых искусных лекарей в городе.
Все жалели меня, а в особенности донья Елена, которая после этого происшествия обнаружила свою сердечную склонность. Притворство прекрасной сеньоры спасовало перед чувством. Поверите ли вы, но эта девушка, почитавшая за долг выказывать нечувствительность к моим ухаживаниям, превратилась в нежную возлюбленную, безудержно предающуюся своему горю. Она провела остаток ночи в обществе камеристки, заливаясь слезами и проклиная своего двоюродного брата дона Аугустииа де Олигера, которого считала виновником своей скорби и который действительно прервал нашу серенаду столь неприятным способом. Такой же скрытный, как и его кузина, дон Аугустин не подал виду, что заметил мои намерения, но, вообразив, будто она отвечает мне взаимностью, он захотел показать своим решительным выступлением, что далеко не так податлив, как о нем думают.
Тем не менее это печальное происшествие вскоре увенчалось радостью, заставившей меня забыть о своей неудаче. Хотя я и был опасно ранен, однако искусство врачей спасло мне жизнь. Я еще не выходил из своих покоев, когда моя тетка, донья Элеонор, отправилась к дону Хорхе и попросила для меня руки его дочери. Он тем охотнее согласился на этот брак, что уже не чаял увидеть когда-либо дона Аугустина. Добрый старик, однако, опасался, как бы донья Елена не воспротивилась моему сватовству, так как кузен Олигера, навещавший ее до этого беспрепятственно, мог покорить ее сердце. Но она охотно подчинилась отцовской воле, из чего можно заключить, что в Испании, как и повсюду, новый поклонник пользуется у женщин значительным преимуществом.
При первом же свидании с Фелисией я узнал, как сильно огорчил ее госпожу неудачный исход моего поединка. Не сомневаясь более в том, что мне удалось стать Парисом этой Прекрасной Елены, я благословлял рану, оказавшуюся столь благодетельной для моей любви. Дон Хорхе позволил мне переговорить с его дочерью в присутствии камеристки. Сколь сладостен был для меня этот разговор! Я умолял и настойчиво упрашивал свою даму поведать мне, не неволит ли отец ее чувства, заставляя уступить моей любви, но она сказала, что я обязан своим счастьем не только ее послушанию. После такого приятного признания я направил все свои усилия на то, чтоб понравиться донье Елене и изобретать галантные празднества в ожидании дня нашей свадьбы, который должен был ознаменоваться великолепной кавалькадой с участием всего дворянства города Кории и окрестностей, собиравшегося блистать на этом торжестве.
Однажды я задал роскошный пир в прекрасном загородном доме своей тетушки, расположенном неподалеку от городских ворот на монройской дороге. Дон Хорхе с дочерью, родственниками и друзьями почтил меня своим присутствием. Я распорядился устроить вокальный и инструментальный концерт, а также пригласить труппу странствующих актеров, которые должны были представить комедию. В самый разгар пиршества мне пришли сказать, что в зале дожидается какой-то человек, желающий переговорить со мной по важному делу. Встав из-за стола, я отправился посмотреть, кто пришел, и увидал незнакомца, смахивавшего на камердинера. Он подал мне письмо, которое я вскрыл, и в нем оказалось написано следующее:
«Если вы дорожите своей честью, как подобает всякому кавалеру вашего ордена, то соблаговолите явиться завтра поутру в Монройскую долину. Вы застанете там человека, готового дать вам удовлетворение за нанесенную обиду и собирающегося, если ему удастся, лишить вас возможности жениться на донье Елене.
Дон Аугустин де Олигера».
Велика над испанцами власть любви, но еще сильнее власть мести.
Прочитав это письмо, я почувствовал сердцебиение. При одном имени дона Аугустина кровь в моих жилах так забурлила, что я чуть было не забыл об обязанностях, которые мне надлежало выполнить в этот день. Меня охватило искушение бросить все общество и тотчас же разыскать своего супостата. Однако же я сдержал себя, чтобы не нарушить празднества, и сказал подателю письма:
– Друг мой, вы можете передать пославшему вас кавалеру, что мне слишком хочется померяться с ним шпагами, чтоб не прийти завтра на рассвете в то место, которое он мне назначил.
Отпустив посланца с этим ответом, я вернулся к гостям и занял свое место за столом. Мне удалось скрыть свои чувства, и никто не угадал по моему лицу того, что происходило у меня в душе. В течение всего дня я притворялся, что увлекаюсь, как и все прочие, забавами празднества, которое затянулось до поздней ночи. Гости простились, и каждый отправился в город тем же способом, каким оттуда приехал. Я же остался в загородном доме под предлогом подышать с утра свежим воздухом, но на самом деле для того, чтоб пораньше прибыть на место свидания. Вместо того чтобы заснуть, я с нетерпением стал дожидаться восхода солнца и, как только забрезжил свет, сел на лучшего своего коня и поскакал без провожатых, объявив, что хочу посмотреть окрестности.
Еду по направлению к Монрою и вижу в долине всадника, мчащегося ко мне во весь опор. Лечу навстречу, чтоб сократить ему расстояние. Мы съезжаемся. Это – мой соперник.
– Кавалеро, – обратился он ко мне дерзким тоном, – мне жаль вызывать вас вторично на поединок, но вы сами виноваты. После происшествия с серенадой вам следовало добровольно отказаться от дочери дона Хорхе или ожидать, что вы дорого заплатите, если будете упорствовать в своем намерении ей понравиться.
– Вы слишком кичитесь победой, которой обязаны, быть может, не столько своему искусству, сколько темноте, – сказал я. – Вы забываете, что счастье в поединках переменчиво.
– Не для меня, – вызывающе возразил он. – Я докажу вам, что умею и днем и ночью наказывать дерзких кавалеров, осмеливающихся соперничать со мной.
На эту надменную речь я ответил только тем, что соскочил с коня. Дон Аугустин последовал моему примеру. Привязав лошадей к дереву, мы принялись биться с одинаковым упорством. Должен, впрочем, сознаться, что мне пришлось померяться силами с человеком, который был опытнее меня, несмотря на то, что я года два упражнялся в фехтовальных залах. Он знал в совершенстве это искусство. Никогда еще не подвергал я своей жизни большей опасности. Все же, как нередко случается, слабый победил сильного: несмотря на всю ловкость моего соперника, я пронзил ему сердце шпагой, и в следующее мгновение он упал мертвым.
Я тотчас же вернулся в загородный дом и передал о случившемся своему камердинеру, в преданности которого был уверен. Затем я сказал ему:
– Друг мой Рамиро, прежде чем правосудие проведает о поединке, возьми доброго коня и скачи к тетушке, чтоб известить ее об этом происшествии. Ты попросишь у нее от моего имени золота и драгоценностей, а затем нагонишь меня в Пласенсии. Я буду ждать тебя на первом постоялом дворе при въезде в город.
Рамиро исполнил мое поручение с такой быстротой, что прибыл в Пласенсию тремя часами позже меня. Он сообщил мне, что донья Элеонор была скорее обрадована, чем огорчена поединком, смывавшим бесчестье, нанесенное мне первой неудачей, и что она посылала своему племяннику все бывшие при ней деньги и драгоценности, дабы я мог путешествовать с приятностью в чужих краях, пока она не уладит моего дела.
Опуская излишние подробности, скажу вам, что я пересек Новую Кастилию и отправился в Валенсийское королевство, чтоб сесть в Дении на корабль. Я прибыл в Италию и стал переезжать от двора ко двору, проводя время в развлечениях.
Но пока я вдали от своей Елены старался таким образом заглушить любовную тоску и печаль, эта девица тайно оплакивала в Кории разлуку со мной. Вместо того чтобы сочувствовать судебному процессу, затеянному против меня ее семьей из-за убийства Олигера, она, напротив, сердечно желала, чтобы быстрое примирение прекратило тяжбу и ускорило мое возвращение на родину. Прошло уже полгода, как мы расстались, и я уверен, что ее постоянство восторжествовало бы над временем, если б ей пришлось бороться только с ним. Но у нее были более могущественные враги. Один дворянин из Западной Галисии, дон Блас де Комбадос, приехал в Корию для получения крупного наследства, которое его двоюродный брат дон Мигель де Копрара тщетно пытался у него оттягать. Он поселился в этом городе, так как ему там больше нравилось, чем в родных местах. Комбадос был хорош собой, походил на человека мягкого и воспитанного и отличался необычайно вкрадчивым характером. Он вскоре перезнакомился со всеми приличными людьми в городе и разузнал всю их подноготную.
Разумеется, он недолго оставался в неведении относительно того, что у дона Хорхе имеется дочь, роковая красота которой воспламеняла мужчин, казалось, только для того, чтоб ввергать их в несчастье. Это разожгло его любопытство, и ему захотелось взглянуть на такую опасную особу. Он постарался для этого снискать дружбу ее отца и так к нему подластился, что старик, считая его уже почти зятем, позволил ему бывать в доме и беседовать в его присутствии с доньей Еленой. Галисиец не преминул влюбиться в нее, ибо этого требовала неизбежная судьба. Он открыл свои чувства дону Хорхе, который отнесся благосклонно к его сватовству, но, не желая принуждать дочь, предоставил ей самой располагать своим сердцем. После этого дон Блас прибег ко всем способам ухаживания, какие мог изобрести, чтоб понравиться этой сеньоре, но она осталась к ним равнодушна, так как думала только обо мне. Фелисия стала на сторону кавалера, убедившего ее с помощью подарков служить его любви, и пустила в ход всю свою ловкость. Отец, со своей стороны, помогал субретке, увещевая дочь, и, хотя они оба в течение целого года мучили донью Елену, им все же не удалось сломить ее верность.
Убедившись, что дон Хорхе и Фелисия не в силах ему помочь, Комбадос предложил им другой способ преодолеть упорство девицы, отличавшейся таким постоянством.
– Послушайте, что я придумал, – сказал он им. – Мы составим письмо от имени итальянского торговца к какому-либо корийскому купцу, где после разных подробностей, касающихся торговли, будет сказано следующее: «Недавно прибыл к Пармскому двору испанский кавалер дон Гостон де Когольос. Он выдает себя за племянника и единственного наследника богатой вдовы, доньи Элеонор де Ласарилья, живущей в Кории. Этот сеньор сватается к дочери одного влиятельного вельможи, но ее дадут за него только после того, как убедятся в достоверности этих сведений. Мне поручено обратиться к вам за справками. Соблаговолите сообщить, знаете ли вы этого дона Когольоса и как велико имущество его тетки. Этот брак зависит от вашего ответа. Парма, такого-то числа» и т. д…
Старик счел такой обман за остроумную выдумку, за хитрость, простительную любовникам, а субретка, еще менее щепетильная, чем ее барин, весьма его одобрила. Затея Комбадоса показалась им очень удачной, так как они знали Елену за девушку гордую и способную сразу принять какое-нибудь твердое решение, если только она не заподозрит подвоха. Дон Хорхе сам взялся сообщить дочери о моей измене и, дабы придать всей истории больше правдоподобности, решил привести к ней купца, якобы получившего из Пармы означенное письмо. План был выполнен так, как они его задумали. Отец с волнением, к которому как будто примешивались гнев и досада, сказал донье Елене:
– Дочь моя, не стану повторять вам того, о чем ежедневно просят меня наши родственники, которые настаивают, чтобы я не допустил в нашу семью убийцы дона Аугустина. Но теперь у меня имеются более веские основания просить вас отказаться от дона Гастона. Стыдитесь того, что хранили ему верность! Он ветреник и изменник. Вот неоспоримое доказательство его вероломства. Прочтите это письмо, полученное одним корийским купцом из Италии.
Елена с трепетом взяла подложное послание, пробежала его глазами и взвесила все его выражения. Известие о моем непостоянстве подействовало на нее подавляюще. Правда, любовь ко мне заставила ее сперва прослезиться, но, призвав всю свою гордость, она отерла слезы и сказала отцу твердым голосом:
– Сеньор, вы были только что свидетелем моей слабости; будьте же свидетелем победы, которую я одержала над собой. Все кончено; я питаю одно только презрение к дону Гастону и считаю его последним из людей. Не будем больше говорить об этом. Ничего больше меня не удерживает, и я готова сопровождать дона Бласа к алтарю. Пусть же моя свадьба предшествует браку изменника, отплатившего мне столь недостойно за мою любовь.
Дон Хорхе, в восторге от этих слов, облобызал дочь, похвалил ее за мужественное решение и, радуясь удачному исходу этой стратагемы, поторопился удовлетворить желание моего соперника.
Таким образом отняли у меня донью Елену. Она отдалась Комбадосу в порыве отчаяния, не желая прислушаться к голосу любви, заступавшемуся за меня в глубине сердца, и ни минуты не сомневаясь в известии, к которому всякая возлюбленная должна была бы отнестись с меньшим доверием. Но гордость одержала верх над всем. Желание отомстить за обиду, которую, как она думала, я нанес ее красоте, пересилило в ней любовь. Впрочем, спустя несколько дней после свадьбы она отчасти раскаялась в своей поспешности: ей пришло на ум, что письмо купца могло быть подложным, и это подозрение встревожило ее. Но влюбленный дон Блас отвлек свою супругу от мыслей, угрожавших его покою; он приложил все старания, чтобы ее развлечь, и это ему удалось благодаря самым разнообразным увеселениям, какие он изобретал с необычайным искусством.
Донья Елена казалась очень довольной своим галантным мужем, и они жили в полном согласии, когда моей тетушке удалось наконец уладить мое дело с родней дона Аугустина. Она тотчас же написала мне об этом в Италию. Я находился тогда в Реджо, в южной Калабрии. Оттуда я переправился в Сицилию, а затем в Испанию и наконец примчался домой на крыльях любви. Донья Элеонор, которая ничего не писала мне о свадьбе дочери дона Хорхе, известила меня об этом только по моем приезде в Корию. Заметив мое огорчение, она сказала:
– Напрасно, любезный племянник, вы сокрушаетесь об утрате невесты, которая не сумела остаться вам верной. Послушайте меня, изгоните из сердца и памяти особу, недостойную вашего внимания.
Не зная о том, каким способом обманули донью Елену, моя тетка рассуждала вполне правильно и дала мне весьма разумный совет. Я решил ему последовать или, по крайней мере, выказать себя равнодушным, если окажусь не в состоянии одолеть свою страсть. Все же мне трудно было сдержать свое любопытство, толкавшее меня узнать, каким образом состоялся этот брак. Желая выяснить подробности, я надумал обратиться к приятельнице Фелисии, то есть к старушке Теодоре, о которой я уже говорил. Придя к ней, я случайно застал там Фелисию. Субретка меньше всего ожидала меня встретить, а потому смутилась и попыталась ускользнуть, чтобы избежать объяснения, которого, как она думала, я не премину у нее потребовать. Но я остановил ее.
– Зачем вы бежите от меня? – спросил я. – Неужели этой клятвопреступнице Елене не довольно того, что она мною пожертвовала? Может быть, она запретила вам слушать мои жалобы? Или вы собирались удрать, чтоб поставить себе в заслугу перед изменницей ваш отказ меня выслушать?
– Сеньор, – ответила мне камеристка, – признаюсь вам чистосердечно, что ваше присутствие меня смущает. Встретившись с вами, я испытала ужасные угрызения совести. Мою госпожу обманули, и я имела несчастье стать соучастницей этого обмана. Мне стыдно после этого показаться на глаза вашей милости.
– О небо! – воскликнул я с удивлением. – Что вы решились мне сказать? Объяснитесь яснее!
Тогда субретка поведала мне во всех подробностях, к какому способу прибег Комбадос, чтоб отнять у меня невесту. Видя, что ее слова пронзили мне сердце, Фелисия попыталась меня утешить. Она предложила мне свое заступничество перед доньей Еленой, обещала рассеять ее заблуждение, описать ей мое отчаяние и не пощадить усилий, чтобы смягчить жестокость постигшей меня судьбы. Словом, она подала мне надежды, несколько облегчившие мою скорбь.
Не стану упоминать о бесчисленных возражениях со стороны доньи Елены, с которыми Фелисии пришлось бороться, чтоб уговорить свою госпожу повидаться со мной. В конце концов это все же ей удалось. Они условились между собой, что впустят меня тайно в дом, как только дон Блас отправится в поместье, куда иногда ездил охотиться и где проводил в таких случаях день или два. Это намерение было приведено в исполнение. Муж уехал за город, а меня не преминули известить об этом и проводить ночью в покои его жены.
Я хотел было начать разговор с упреков, но донья Елена заставила меня умолкнуть.
– Бесцельно вспоминать прошлое, – сказала она. – Мы здесь не для того, чтоб умилять друг друга, и вы заблуждаетесь, если думаете, что я расположена потворствовать вашим чувствам. Объявляю вам, дон Гастон, что вы должны отныне забыть меня. Я согласилась на наше тайное свидание и уступила вашим просьбам лишь для того, чтоб лично вам это сказать. Быть может, я была бы довольнее своей судьбой, если б она соединилась с вашей, но небо расположило иначе, и я намерена повиноваться его велениям.
– Как, сеньора? – отвечал я. – Разве мало того, что я вас потерял и принужден лицезреть, как счастливец дон Блас спокойно обладает единственной особой, которую я могу любить, но необходимо еще изгнать вас из своих мыслей? Вы хотите исторгнуть любовь из моей души, отнять единственное оставшееся у меня благо. Ах, жестокая! Неужели вы думаете, что человек, поддавшийся вашим чарам, может взять назад свое сердце? Вы себя недостаточно знаете, а потому перестаньте тщетно убеждать меня, чтоб я перестал думать о вас.
– Коли так, – возразила она поспешно, – то перестаньте и вы надеяться, чтоб я когда-либо ответила взаимностью на вашу страсть. Мне остается сказать еще только одно: супруга дона Бласа никогда не будет возлюбленной дона Гастона. Примите это к сведению. Оставьте мой дом, – добавила она. – Покончим немедленно разговор, за который я себя упрекаю, несмотря на чистоту своих намерений, и который моя совесть не позволяет мне продолжать.
При этих словах, отнимавших у меня всякую надежду, я упал к ногам своей дамы. Я обратился к ней с трогательными речами и даже прибег к слезам, чтоб ее умилить. Все это, быть может, вызвало в донье Елене чуточку жалости, но она постаралась скрыть свои ощущения, принеся их в жертву долгу. После того как я безрезультатно истощил все ласковые выражения, все мольбы и слезы, мои нежные чувства сменились яростью. Я обнажил шпагу, чтоб проткнуть себя на глазах неумолимой Елены, которая, заметив мой жест, бросилась ко мне с намерением меня удержать.
– Остановитесь, Когольос! – вскричала она. – Вот как вы заботитесь о моем добром имени! Лишая себя жизни, вы навлекаете на меня бесчестье, а на моего мужа подозрение в убийстве!
Охваченный отчаяньем, я не только не придал должного внимания ее словам, но напряг все силы, чтобы воспротивиться стараниям госпожи и служанки, пытавшихся удержать меня от рокового поступка. Я, наверное, успел бы в своем намерении, если бы им быстро не пришел на помощь дон Блас, который, проведав о свидании, не поехал в имение, а спрятался за настенным ковром, чтоб подслушать нашу беседу.
– Дон Гастон, – воскликнул супруг, удерживая меня за руку, – справьтесь со своим возбуждением и не поддавайтесь малодушно охватившему вас яростному порыву!
Но тут я прервал Комбадоса.
– Вам ли отвращать меня от моего намерения? – вскричал я. – Ваш долг – пронзить мне грудь кинжалом. Пусть моя любовь осталась без ответа, все же она для вас оскорбление. Разве недостаточно того, что вы застали меня ночью в покоях своей жены? Неужели этого мало, чтоб побудить вас к мести? Заколите меня, дабы избавиться от человека, который не перестанет обожать донью Елену до самой своей смерти!
– Вы напрасно пытаетесь задеть мою честь и подбить меня на убийство. Ваша дерзость достаточно наказана, и я так признателен своей супруге за ее благонравные чувства, что прощаю ей поступок, при котором она их проявила. Поверьте мне, Когольос, – добавил он, – не предавайтесь отчаянью, как какой-нибудь малодушный любовник, и подчинитесь мужественно неизбежной необходимости.
Такими доводами вкрадчивый галисиец мало-помалу успокоил мою ярость и пробудил во мне чувство долга. Я удалился с намерением навсегда покинуть Елену и тот край, в котором она жила. Два дня спустя я вернулся в Мадрид. Решив посвятить себя всецело заботам о своей карьере, я стал бывать при дворе и заводить там друзей. Но, по несчастью, я близко сошелся с одним знатным португальским вельможей, маркизом де Вильяреаль, который в настоящее время посажен в Аликантскую крепость, так как его заподозрили в намерении освободить Португалию от испанского владычества. Узнав о моей тесной дружбе с маркизом, герцог Лерма приказал взять меня под стражу и отправить сюда. Этот министр считает меня способным стать участником такого заговора. Трудно нанести более чувствительное оскорбление дворянину, и к тому же кастильцу.
На этом дон Гастон прекратил свой рассказ, а я, желая его утешить, сказал:
– Сеньор кавальеро, эта немилость нисколько не задевает вашей чести и впоследствии, несомненно, обратится вам на пользу. Как только герцог Лерма убедится в вашей невинности, он не преминет предоставить вам высокое назначение, дабы восстановить репутацию дворянина, несправедливо заподозренного в измене.
Глава VII Сипион навещает Жиль Бласа в Сеговийской крепости и привозит ему много новостей
Наша беседа была прервана Тордесильясом, который, войдя в камеру, заявил:
– Сеньор Жиль Блас, я только что говорил с молодым человеком, явившимся к воротам тюрьмы. Он спросил меня, не находитесь ли вы здесь в числе заключенных, а на мой отказ удовлетворить его любопытство сказал со слезами на глазах: «Благородный комендант, прошу вас, не отвергайте моей почтительнейшей просьбы и сообщите мне, не содержится ли у вас сеньор де Сантильяна. Я его старший камердинер, и вы совершите милосердный поступок, если дозволите мне с ним повидаться. Вы слывете в Сеговии великодушнейшим идальго: надеюсь поэтому, что вы не откажете мне в этой милости и разрешите переговорить несколько минут с моим дорогим барином, который не столько виновен, сколько несчастлив». Словом, – продолжал дон Андрес, – этот малый проявил такое желание вас видеть, что я обещал ему исполнить его просьбу сегодня вечером.
Я заверил Тордесильяса, что он доставит мне величайшее удовольствие, приведя этого молодого человека, который, вероятно, может сообщить мне нечто для меня весьма важное. С нетерпением ждал я момента, когда предстанет передо мной мои верный Сипион, ибо я не сомневался в том, что это был именно он. Мои предположения оправдались. Под вечер Сипиона впустили в крепость. Увидя меня, он пришел в неописуемый восторг, и радость его могла сравниться разве только с моей. Я был так доволен его приходом, что раскрыл перед ним свои объятия и обнял его, не считаясь ни с какими предрассудками. Барин и слуга так расчувствовались при встрече, что облобызались, как равные.
Когда мы несколько пришли в себя, я спросил Сипиона, в каком состоянии оставил он мой дом.
– У вас больше нет никакого дома, – отвечал он, – а для того чтоб избавить вас от неприятных расспросов, опишу вам в двух словах то, что там произошло. Ваше имущество разграблено дотла как стражниками, так и вашими собственными слугами, которые, считая вас за конченого человека, забрали в счет жалованья все, что смогли унести. К счастью для вас, я ухитрился спасти из их когтей два больших мешка с дублонами, которые вытащил из денежного сундука и отнес в верное место. Салеро, являющийся их хранителем, вернет вам все, когда вы выйдете из крепости, где, как я полагаю, вы недолго пробудете в качестве нахлебника его величества, ибо вас задержали без ведома герцога Лермы.
Я спросил Сипиона, откуда ему известно, что министр не причастен к моей опале.
– Я знаю это доподлинно, – отвечал он. – Один из моих друзей, пользующийся доверием герцога Уседского, поведал мне все подробности вашего ареста. «Кальдерон, – сказал он, – обнаружил через лакея, что Сирена, скрываясь под другим именем, принимает по ночам наследного принца и что эта интрига затеяна графом Лемосом при посредстве сеньора Сантильяны, а потому он решил отомстить как им, так и своей возлюбленной. С этой целью он тайно отправился к герцогу Уседскому и открыл ему все. Герцог, обрадовавшись такому прекрасному случаю погубить своего врага, не преминул им воспользоваться. Он доложил о полученном известии королю и изобразил в самых мрачных красках опасности, которым подвергался инфант. Это донесение так рассердило его величество, что он приказал тут же запереть Сирену в Приют кающихся магдалинок, выслать графа Лемоса, а Жиль Бласа подвергнуть пожизненному тюремному заключению». Вот что сказал мне мой друг, – добавил Сипион. – Из этого вы можете заключить, что постигшая вас невзгода – дело рук герцога Уседского или, лучше сказать, Кальдерона.
Это сообщение навело меня на мысль о том, что дела мои могут со временем поправиться, так как герцог Лерма, уязвленный изгнанием племянника, не остановится ни перед чем, чтоб вернуть его ко двору, и при этом, вероятно, не забудет и обо мне. Что может быть прекраснее надежды! В один миг она меня утешила в потере всего моего имущества и вернула мне веселость, словно для этого были какие-либо основания. Тюрьма не только перестала казаться мне мрачным обиталищем, где меня, быть может, заставят провести остаток дней, но я стал даже смотреть на нее, как на орудие, которым судьба пожелала воспользоваться, чтоб возвести меня на какой-нибудь важный пост. Ибо вот как я рассуждал сам с собой:
«У первого министра есть сторонники в лице дона Фердинанда Борджа, отца Джироламо из Флоренции и в особенности брата Луиса д’Алиага, который обязан ему своим положением при особе короля. С помощью таких могущественных друзей его светлость пустит на дно всех своих врагов. А может статься, вскоре произойдут важные перемены в государстве. Его величество сильно недомогает. Как только король скончается, инфант, его сын, призовет обратно графа Лемоса, а тот сейчас же представит меня новому монарху, который окажет мне всяческие благодеяния, чтобы вознаградить за перенесенные невзгоды».
В предвидении грядущих радостей я почти не замечал своего бедственного положения. Полагаю, что те два мешка с дублонами, которые, по словам Сипиона, хранились у золотаря, способствовали происшедшей во мне перемене не в меньшей степени, нежели окрылявшие меня надежды.
Я был слишком доволен усердием и честностью Сипиона, чтоб не поблагодарить его за это, а потому предложил ему половину денег, спасенных им от разграбления. Но он отказался.
– Я ожидаю от вас, – сказал он, – другого знака благодарности.
Столь же удивленный его словами, сколь и отказом, я спросил своего секретаря, чем могу ему помочь.
– Мне хотелось бы, сеньор, чтобы мы с вами никогда не расставались, – отвечал он. – Позвольте мне соединить свою судьбу с вашей. Я питаю к вам такие дружеские чувства, каких не питал ни к кому из своих господ.
– Ах, дитя мое, могу тебя заверить, – сказал я ему, – что ты не наткнешься на неблагодарность. Ты мне понравился с первого же момента, как пришел наниматься. Видимо, мы рождены друг для друга под знаком Весов или Близнецов, которые, как говорят, сводят людей. Буду весьма рад твоему обществу и для начала намерен попросить сеньора коменданта, чтоб он запер тебя со мной в этой башне.
– Это будет чудесно, – воскликнул он. – Вы меня опередили: я сам собирался просить вас об этой милости. Ваше общество мне дороже свободы. Я только изредка буду ездить в Мадрид, чтоб понюхать воздух и узнать, нет ли при дворе каких-либо благоприятных для вас перемен. Таким образом у вас в моем лице будет одновременно наперсник, гонец и шпион.
Эти выгоды были слишком ощутительны, чтоб я стал от них отказываться. А потому я оставил при себе этого полезного человека, испросив на то разрешение у моего услужливого коменданта, который не захотел отказать мне в столь сладостном утешении.
Глава VIII О первой поездке Сипиона в Мадрид, о ее причинах и успехе. Жиль Блас заболевает. Последствия его болезни
Если принято говорить, что у нас нет худшего врага, чем наша прислуга, то, с другой стороны, надо сказать, что верные и преданные слуги – это наши лучшие друзья. После усердия, проявленного Сипионом, я уже не мог смотреть на него иначе, чем на своего alter eq. Итак, между Жиль Бласом и его секретарем исчезли чинопочитание и церемонность. Они жили в одной комнате, спали на одной постели и ели за одним столом.
Сипион был забавным собеседником: его, по справедливости, можно было назвать весельчаком. К тому же у него была голова на плечах, и его советы оказались мне весьма полезны.
– Друг мой, – сказал я ему однажды, – не написать ли мне герцогу Лерме? Не думаю, чтоб это произвело на него дурное впечатление. Как ты об этом думаешь?
– А бог его ведает, – отвечал он. – Вельможи так переменчивы, что, право, не знаю, как он примет ваше письмо. Тем не менее напишите на всякий случай. Хотя министр вас и любит, однако же едва ли станет о вас вспоминать. Такие покровители легко забывают людей, о которых им не приходится слышать.
– Хотя, к сожалению, это и правда, – возразил я, – но герцог, по-моему, заслуживает лучшего мнения. Мне известна его доброта. Я уверен, что он сочувствует моим несчастьям и постоянно думает о них. Вероятно, он ждет, чтоб король перестал гневаться, и тогда освободит меня из заключения.
– Дай бог, – заметил Сипион. – Желаю вам не ошибиться в его светлости. Напишите ему письмо потрогательнее и попросите о помощи. Я отвезу ваше послание герцогу и обещаю передать его в собственные руки.
Попросив тотчас же бумаги и чернил, я составил по всем правилам красноречия послание, которое Сипион назвал патетическим, а Тордесильяс предпочел проповедям толедского архиепископа.
Я надеялся, что герцог Лерма проникнется ко мне сочувствием, прочитав печальное описание того бедственного состояния, в котором я находился, и, льстя себе этими мечтами, я отпустил своего гонца, который тотчас же по прибытии в Мадрид отправился к первому министру. Ему попался камер-лакей, с которым я был в приятельских отношениях, и тот доставил ему возможность поговорить с герцогом.
– Ваша светлость, – сказал Сипион, подавая министру порученный ему пакет, – один из вернейший слуг ваших, валяющийся сейчас на соломе в мрачной камере Сеговийской крепости, смиреннейше просит вас прочитать это письмо, которое ему удалось написать благодаря милосердию одного тюремщика.
Герцог вскрыл письмо и пробежал его глазами. Несмотря на то, что там была изображена картина, способная смягчить даже самую суровую душу, он не только не был тронут ею, но, возвысив голос, гневно сказал гонцу так, чтоб его слышали присутствовавшие:
– Друг мой, передайте Сантильяне, что я не понимаю, как он осмелился обратиться ко мне после того недостойного поступка, который совершил и за который так справедливо наказан. Пусть этот несчастный не рассчитывает на мою помощь: я не стану спасать его от гнева короля.
Несмотря на все свое нахальство, Сипион опешил от этих слов. Однако, преодолев смущение, он все же попытался вступиться за меня.
– Ваша светлость, – промолвил он, – этот несчастный узник умрет от горя, услыхав такой ответ.
Герцог не стал возражать моему заступнику, а только искоса поглядел на него и повернулся к нему спиной.
Вот как отнесся ко мне этот министр, чтоб искуснее скрыть свое участие в любовной интриге наследного принца, и вот что ожидает всех мелких приспешников, которыми пользуются высокопоставленные лица для выполнения своих тайных и опасных предприятий.
Когда мой секретарь вернулся в Сеговию и передал мне, чем кончилась его миссия, я снова погрузился в такую же бездну отчаяния, как и в первый день моего заключения. Мне казалось, что я стал еще несчастнее, так как лишился покровительства герцога Лермы. Я потерял мужество и, несмотря на все старания окружающих ободрить меня, стал опять жертвою жгучих терзаний, которые постепенно так подточили мое здоровье, что я опасно занемог.
Сеньор комендант, озабоченный моим состоянием, вообразил, что всего лучше призвать на помощь врачей, а потому привел мне двоих, которые сильно смахивали на прожженных служителей богини Либитины [174] .
– Сеньор Жиль Блас, – сказал он, представляя их мне, – вот два Гиппократа, которые пришли вас проведать и которые в короткое время помогут вам стать на ноги.
Я был так предубежден против всяких медиков, что, наверное, принял бы их весьма худо, если б хоть сколько-нибудь дорожил жизнью, но в ту пору я чувствовал к ней величайшее безразличие и был даже благодарен Тордесильясу за то, что он отдал меня в руки эскулапов.
– Сеньор кавальеро, – сказал мне один из них, – прежде всего вы должны питать к нам доверие.
– Разумеется, – отвечал я. – Нисколько не сомневаюсь, что при вашем содействии я скоро избавлюсь от всех своих страданий.
– С божьей помощью, так это и будет, – заявил он. – Во всяком случае, мы сделаем для этого все, что нужно.
Действительно, эти господа так мастерски взялись за дело и так меня обработали, что я на глазах у всех стал приближаться к загробному миру. Уже дон Андрес, отчаявшись в моем выздоровлении, призвал францисканца, чтоб я мог достойно приготовиться к смерти; уже сей добрый отец, исполнив свою обязанность, покинул меня; а я, чувствуя приближение рокового часа, сделал знак Сипиону, чтоб он подошел к моему ложу.
– Любезный друг, – сказал я ему почти угасшим голосом, окончательно ослабев от снадобий и кровопусканий, – оставляю тебе один из тех мешков, что хранятся у Габриэля, и заклинаю тебя отвезти другой в Астурию моему отцу и матери, которые очень нуждаются, если только они живы. Но – увы! – боюсь, что моя неблагодарность их погубила. Возможно, что сообщение Мускады о моей жестокости сократило их жизнь. Но если, несмотря на бездушие, которым я отплатил за их заботы, небо все же сохранило моих родителей, то отдай им мешок с дублонами и попроси их простить меня за то, что я не поступил с ними лучше, а если они уж отошли в иной мир, то поручаю тебе заказать на эти деньги молебствия за упокой их души и моей собственной.
С этими словами я протянул Сипиону руку, которую он омочил своими слезами, не будучи в силах вымолвить ни слова, настолько бедняга был огорчен вечной разлукой со мной. Это доказывает, что плач наследников не всегда является замаскированным смехом.
Итак, я собирался перешагнуть роковую грань. Но ожидания мои не оправдались: доктора покинули меня и, предоставив свободу действий, тем самым спасли мне жизнь. Лихорадка, от которой, согласно их предупреждениям, я должен был отправиться на тот свет, прошла сама собой, как бы для того, чтоб их обличить. Я стал постепенно поправляться, и болезнь оказалась для меня благотворной, ибо я обрел полное душевное спокойствие. В утешениях я уже не нуждался: презрение к богатству и почестям, порожденное мыслями о приближающейся смерти, больше не покидало меня, и, став самим собой, я благословлял свою опалу. Я благодарил за нее небо, как за особую милость, и принял твердое решение не возвращаться более ко двору, даже если б герцогу Лерме вздумалось меня снова призвать. Теперь я мечтал только о том, чтобы купить хижину и вести там жизнь философа, если только мне когда-либо удастся выбраться из тюрьмы.
Мой наперсник одобрил это намерение и сказал, что хочет ускорить его осуществление, а потому думает вернуться в Мадрид и похлопотать о моем освобождении.
– У меня зародилась идея, – добавил он. – Я знаком с одной особой, которая может вам помочь; это очень толковая девица, которая состоит в горничных у кормилицы инфанта и пользуется ее особенным расположением. Постараюсь уговорить ее, чтоб она настроила свою госпожу. Словом, я сделаю все, что возможно, чтобы вытащить вас из этой крепости, которая все же остается тюрьмой, как бы хорошо с вами здесь ни обращались.
– Ты прав, – отвечал я. – Ступай, друг мой, не теряя времени, и принимайся за хлопоты. Дай бог, чтоб мы уже были в нашем убежище!
Глава IX Сипион возвращается в Мадрид. Как и на каких условиях он выхлопотал Жиль Бласу освобождение, куда они вдвоем отправились по выходе из Сеговийской крепости и какой разговор произошел между ними
Итак, Сипион отправился в Мадрид, а я в ожидании его прибытия занялся чтением. Тордесильяс доставлял мне больше книг, чем я мог одолеть. Он одалживал их у одного старика командора, который читать не умел, но тем не менее завел себе прекрасную библиотеку для того, чтоб его принимали за ученого. Особенно нравились мне нравоучительные сочинения, так как я находил в них на каждом шагу места, поощрявшие мое отвращение к двору и пристрастие к уединению.
Прошли три недели, а о моем ходатае не было ни слуху ни духу. Наконец он вернулся и радостно объявил мне:
– На сей раз, сеньор Сантильяна, я призез вам отрадные вести. Госпожа кормилица взялась ходатайствовать за вас. Я уговорил камеристку и обещал ей сто пистолей, если ее барыня упросит наследного принца, чтоб он выхлопотал вам освобождение. Инфант, который, как вам известно, не может ей ни в чем отказать, согласился замолвить за вас слово перед королем. Я поспешил известить вас и немедленно же возвращаюсь в Мадрид, чтоб окончательно наладить дело.
С этими словами он покинул меня и отправился ко двору.
Его третья поездка продолжалась недолго. По прошествии недели мой молодчик вернулся и сообщил, что принц, хотя и не без труда, добился у короля, чтоб меня выпустили. В тот же день сеньор комендант подтвердил мне это известие и, обняв меня, сказал:
– Слава богу, любезный Жиль Блас, вы свободны! Двери этой тюрьмы для вас открыты, однако на двух условиях, которые, быть может, очень вас огорчат, но которые я, к сожалению, принужден довести до вашего сведения. Его величество запрещает вам появляться при дворе и приказывает, чтоб вы в течение месяца покинули пределы обеих Кастилий.
– Напротив, меня это очень радует, – отвечал я. – Одному богу известно, какого я мнения о придворной жизни. Я ждал от короля только одной милости, а он оказал мне целых две.
Удостоверившись, что мне вернули свободу, я приказал нанять двух мулов и на следующий день, простившись с Когольосом и тысячекратно поблагодарив Тордесильяса за проявленные им доказательства дружбы, уехал из Сеговии вместе со своим наперсником. Мы весело направились в Мадрид, чтоб взять у сеньора Габриэля наши два мешка, в каждом из которых хранилось по пятьсот дублонов. По дороге моей сотоварищ сказал мне:
– Если мы недостаточно богаты, чтоб купить роскошное поместье, то все же можем приобрести недурную земельку.
– Я буду вполне доволен своей судьбой, если мы обзаведемся хотя бы хижиной, – отвечал я. – Несмотря на то, что я не прожил и половины своего века, мне так надоела мирская суета, что я намерен жить только для самого себя. Кроме того, скажу тебе, что я составил себе приятнейшее представление о сельском существовании и смакую его заранее. Мне кажется, что я уже вижу цветистый луговой ковер, слышу пение соловья и журчание ручейков; то я развлекаюсь охотой, то рыбной ловлей. Вообрази себе, друг мой, все разнообразные удовольствия, которые ждут нас в уединении, и ты придешь в такой же восторг, как и я. Что касается пищи, то чем проще она будет, тем лучше. Нам довольно и куска хлеба: если нас будет мучить голод, то мы съедим его с таким аппетитом, что он покажется нам лакомством. Наслаждение зависит вовсе не от качества утонченных яств, а от нас самих. Это тем более верно, что наибольшее удовольствие я получал совсем не от тех обедов, где царили изысканность и изобилие. Умеренность – это кладезь наслаждений, великолепный для сохранения здоровья.
– Разрешите сказать, сеньор Жиль Блас, – заметил мой секретарь, – что я не вполне разделяю ваше мнение относительно умеренности, которой вы меня прельщаете. К чему нам довольствоваться пищей Диогена? Наше здоровье нисколько не пострадает, если мы будем хорошо питаться. Поверьте мне: раз, слава богу, у нас есть возможность усладить свое уединение, то нам незачем превращать его в юдоль голода и бедности. Как только мы купим усадьбу, то необходимо будет снабдить ее хорошими винами и всякими другими припасами, приличествующими разумным людям, которые покинули общество не для того, чтоб отказаться от жизненных удобств, а для того, чтоб наслаждаться ими с большим спокойствием. «То, что есть в доме, – сказал Гезиод, – не приносит вреда, но отсутствие чего-либо может оказаться вредным». Лучше, – добавляет он, – обладать необходимыми предметами, нежели только желать, чтоб они у вас были.
– Черт возьми, сеньор Сипион, – прервал я его в свою очередь, – вы читали греческих поэтов! Где это вы изволили познакомиться с Гезиодом?
– У одного ученого, – отвечал он. – Я некоторое время служил в Саламанке у педагога, который был великим комментатором. Ему ничего не стоило состряпать в мгновение ока огромный том. Он составлял его из разных отрывков, которые заимствовал у еврейских, греческих и латинских писателей, имевшихся в его библиотеке, и переводил на испанский язык. Состоя у него в переписчиках, я запомнил множество сентенций, столь же замечательных, сколь и та, которую вы только что от меня слышали.
– В таком случае вы должны были здорово нашпиговать свою память, – заметил я. – Однако вернемся к нашему проекту. В каком же из испанских королевств почитаете вы за лучшее устроить наше философское пристанище?
– Я стою за Арагонию, – возразил мой наперсник. – Там есть дивные уголки, где можно жить с приятностью.
– Ничего не имею против, – заявил я, – пусть будет Арагония. Надеюсь, что нам удастся раскопать там местечко, где я найду все те удовольствия, которые рисуются моему воображению.
Глава X Что сделали они по прибытии в Мадрид. Кто попался Жиль Бласу на улице и какое событие воспоследовало за этой встречей
Приехав в столицу, мы пристали на скромном постоялом дворе, где Сипион останавливался во время своих поездок, и прежде всего отправились к Салеро, чтоб взять назад наши дублоны. Он принял нас с большим радушием и выразил величайшую радость по поводу моего освобождения.
– Уверяю вас, – добавил он, – что ваше несчастье причинило мне немалое огорчение и раз навсегда отбило у меня охоту породниться с кем-либо из придворных. Их положение слишком неустойчиво. Я выдал свою дочь Габриэлу за богатого купца.
– И прекрасно сделали, – сказал я. – Во-первых, это прочнее, а во-вторых, мещанин, который становится тестем знатного кавалера, не всегда бывает доволен господином зятем.
Затем, переменив тему разговора и приступая прямо к делу, я продолжал:
– Будьте так любезны, сеньор Габриэль, верните мне те две тысячи пистолей, которые…
– Ваши деньги лежат наготове, – прервал меня золотарь и, пригласив нас в свой кабинет, указал на два мешка, снабженных ярлыками, на которых было написано: «Сии мешки с дублонами принадлежат сеньору Жиль Бласу де Сантильяна».
– Вот ваши деньги в том виде, в каком я их принял, – присовокупил он.
Я поблагодарил Салеро за оказанное мне одолжение. Нисколько не скорбя о том, что его дочь от нас ускользнула, мы унесли мешки на постоялый двор и принялись пересчитывать свои дублоны. Счет оказался верен; не хватало только тех ста пистолей, которые были истрачены на мое освобождение. После этого мы уже не думали больше ни о чем, как только о приготовлениях к поездке в Арагонию. Мой секретарь взялся купить дорожную карету и двух мулов. Я же, со своей стороны, позаботился о белье и платье для нас обоих. В то время как я прохаживался по улицам, покупая все необходимое, мне попался барон Штейнбах, тот самый офицер немецкой гвардии, у которого воспитывался дон Альфонсо.
Я поклонился этому кавалеру, который, узнав меня, подошел ко мне с распростертыми объятиями.
– Очень, очень рад, – сказал я ему, – встретить вашу милость в добром здравии и воспользоваться заодно случаем получить какие-нибудь известия о моих дорогих господах – сеньоре доне Сесаре и доне Альфонсо де Лейва.
– Могу сообщить вам самые достоверные, – отвечал он, – ибо они сейчас находятся в Мадриде и к тому же живут у меня. Вот уже три месяца, как они приехали сюда, чтоб поблагодарить его величество за милость, которой он удостоил дона Альфонсо в память услуг, оказанных его предками родине. Дон Альфонсо пожалован губернатором Валенсии, несмотря на то, что не хлопотал об этом и даже никого не просил за себя ходатайствовать. Это – верх великодушия, а кроме того, доказывает, что наш монарх любит вознаграждать доблесть.
Хотя я знал лучше барона Штейнбаха подоплеку этого дела, однако же не подал ни малейшего вида, что мне что-либо известно. Я выказал такое нетерпение повидать своих прежних господ, что, желая доставить мне удовольствие, он тут же повел меня к себе. Мне хотелось испытать дона Альфонсо и выяснить по его обращению со мной, чувствует ли он еще ко мне какое-либо расположение. Я застал его в зале, где он играл в шахматы с баронессой Штейнбах. При виде меня он покинул свою партнершу, встал из-за стола и бросился мне навстречу. Прижав мою голову к своей груди, он воскликнул с искренней радостью:
– Наконец-то, Сантильяна, вы опять вернулись ко мне! Очень, очень рад этому! Не моя вина, если мы жили с вами врозь. Я просил вас, если помните, не покидать замка Лейва. Вы не исполнили моей просьбы. Но я не ставлю вам этого в вину и даже вполне одобряю мотивы, побудившие вас удалиться. Все же вы могли бы с тех пор прислать мне весточку о себе и избавить меня от труда тщетно разыскивать вас в Гренаде, где вы проживали, как сообщил мне мой свояк дон Фернандо. А теперь, после этого маленького упрека, – добавил он, – сообщите мне, что вы делаете в Мадриде. Вы, вероятно, отправляете какую-нибудь должность? Будьте уверены, что я более чем когда-либо интересуюсь всем, что вас касается.
– Сеньор, – отвечал я, – нет еще и четырех месяцев, как я занимал довольно видный пост при дворе. Я имел честь быть секретарем и доверенным лицом герцога Лермы.
– Вот как! – воскликнул дои Альфонса с величайшим удивлением. – Неужели вы были в таких отношениях с первым министром?
– Я заслужил его расположение и потерял его при обстоятельствах, о которых вы сейчас узнаете.
Тут я рассказал ему всю историю и под конец сообщил о намерении купить на крохи, оставшиеся от моего прежнего благополучия, хижину, чтоб вести там уединенную жизнь.
Выслушав меня со вниманием, сын дона Сесара промолвил:
– Мой любезный Жиль Блас, вы знаете, что я всегда вас любил. Вы мне сейчас дороже, чем когда-либо, и я хочу доказать вам это, поскольку небо дало мне возможность увеличить ваше благосостояние. Отныне вы перестанете быть игрушкой фортуны. Я намерен освободить вас из-под ее власти, сделав владельцем имущества, которое она не сможет отнять. Раз вы собираетесь жить в деревне, то я подарю вам небольшое именьице близ замка Лириас, в четырех милях от Валенсии. Вы там бывали. Мы можем сделать вам этот подарок, нисколько себя не обременяя. Смею вас заверить, что дон Сесар одобрит мое намерение и что оно доставит искреннее удовольствие Серафине.
Я бросился к ногам дона Альфонсо, который тотчас же поднял меня. Умиленный, его добрым сердцем еще в большей мере, чем его благодеянием, я поцеловал ему руку и сказал:
– Сеньор, ваше отношение меня совершенно очаровало. Этот подарок для меня тем приятнее, что вы сделали его раньше, чем узнали об услуге, которую я вам оказал. Я особенно рад тому, что буду обязан им не вашей признательности, а вашему великодушию.
Губернатор несколько удивился моим речам и не преминул спросить, в чем заключалась эта пресловутая услуга. Я объяснил ему, и мой рассказ еще усилил его удивление. Ни он, ни барон Штейнбах никак не ожидали, что валенсийское губернаторство досталось ему по моей протекции. Тем не менее, убедившись в этом, дон Альфонсо сказал мне:
– Я обязан вам, Жиль Блас, своим назначением, а потому не намерен ограничиться таким незначительным подарком, как поместье Лириас, но буду вам выплачивать еще ежегодную пенсию в две тысячи дукатов.
– Довольно, сеньор Альфонсо! – прервал я его в этом месте. – Не будите во мне жадности. Богатство способно только меня развратить. Увы, я это уже испытал. Охотно принимаю от вас поместье Лириас и заживу там в полном довольстве на те деньги, которые у меня имеются. Этого с меня вполне достаточно, и я не только не жажду большего, но предпочту потерять то, что окажется для меня лишним. Богатство тяготит человека в уединении, ибо он ищет там одного только спокойствия.
В то время как мы об этом беседовали, вошел дон Сесар. Увидя меня, он обрадовался нашей встрече не меньше своего сына. Когда же ему сказали, чем обязана мне его семья, то он тоже стал настаивать, чтобы я согласился принять пенсию, от чего я наотрез отказался. Тогда отец и сын тут же повели меня к нотариусу и, приказав составить дарственную, подписали ее с гораздо большим удовольствием, чем если бы это касалось какого-нибудь акта, сулившего им большие выгоды. По оформлении документа они вручили мне его, сказав, что поместье Лириас им больше уже не принадлежит и что я могу вступить во владение им, когда мне заблагорассудится. Затем они вернулись к барону Штейнбаху, а я помчался на постоялый двор, где привел в полный восторг своего секретаря, сообщив ему, что у нас есть поместье в Валенсийском королевстве, и рассказав, как я сделал это приобретение.
– Сколько может стоить это именьице? – спросил он.
– Оно приносит пятьсот дукатов дохода, – отвечал я, – и могу тебя уверить, что это прекрасное место для уединения. Я знаю его, так как мне пришлось несколько раз бывать там в качестве управителя сеньоров Лейва. Это маленький домик, расположенный в очаровательной местности на берегу Гвадалавиара, близ поселка с пятью или шестью хижинами.
– Больше всего меня прельщает то, – воскликнул Сипион, – что у нас будет там хорошая дичь, беникарлское вино и отличный мускат. А потому, хозяин, покинем поскорее сей суетный мир и поедем в нашу пустынь.
– Мне самому не терпится туда попасть, – возразил я, – однако я хочу сперва завернуть в Астурию. Мои родители живут там в бедности, и я намерен забрать их с собой в Лириас, где они проведут на покое остаток своих дней. Быть может, небо ниспослало мне это убежище только для того, чтобы я их там приютил, и оно накажет меня, если я этого не исполню.
– Не станем терять времени, – сказал Сипион. – Я уже позаботился о карете; поспешим с покупкой мулов и двинемся в Овьедо.
– Да, друг мой, – ответил я, – поедем как можно скорее. Я почитаю своим непременным долгом разделить удовольствия этого уединенного уголка с виновниками моих дней. Недалек уже час, когда мы там очутимся, и я хочу по прибытии написать на дверях своего дома золотыми буквами такое латинское двустишие:
Inveni portum. Spes et Fortuna, valete.
Sat me lusistis; ludite nunc alios [175] .
Книга десятая
Глава I Жиль Блас отбывает в Астурию. Путь его лежит через Вальядолид, где он навещает своего прежнего хозяина, доктора Санградо. Случайная его встреча с сеньором Мануэлем Ордоньесом, смотрителем богадельни
В то время как мы с Сипионом готовились ехать в Астурию, Павел V сделал герцога Лерму кардиналом [176] . Папа этот, желая ввести инквизицию в Неаполитанском королевстве, облачил в пурпур испанского министра, дабы заставить Филиппа одобрить столь похвальное намерение. Все, хорошо знавшие этого нового члена конклава, находили, как и я, что церковь сделала весьма ценное приобретение. Сипион, предпочитавший видеть меня снова в блестящей придворной должности, нежели погребенным в сельском уединении, посоветовал мне показаться на глаза кардиналу.
– Может быть, – говорил он, – его высокопреосвященство, видя вас освобожденным по королевскому приказу, уже не сочтет нужным притворяться рассерженным и сможет принять вас к себе на службу.
– Сеньор Сипион, – возразил я ему, – вы, по-видимому, запамятовали, что я получил свободу лишь с условием немедленного выезда за пределы обеих Кастилий. Неужели вы думаете, что мне уже наскучил мой замок Лириас? Говорю и повторяю: если бы герцог Лерма вернул мне свою милость, если бы даже он предложил мне место дона Родриго Кальдерона, я бы отказался. Мое решение твердо: я хочу поехать в Овьедо, захватить своих родителей и удалиться с ними в окрестности Валенсии. Если же, друг мой, ты раскаиваешься в том, что связал свою судьбу с моей, то тебе стоит только сказать: я готов отдать тебе половину своей наличности; ты останешься в Мадриде и будешь по мере возможности делать карьеру.
– Как можете вы, – отвечал мой секретарь, слегка задетый этими словами, – как можете вы подозревать меня в нежелании последовать за вами в уединение! Это подозрение оскорбляет мое усердие и мою привязанность к вам. Как! Неужели Сипион, этот верный слуга, который, чтобы разделить с барином его невзгоды, готов был провести остаток дней своих в Сеговийской крепости, лишь с сожалением отправится с вами в места, обещающие ему сотни приятностей! Нет, нет, я совсем не хочу отвращать вас от вашего намерения. Я должен вам признаться в своей хитрости: советуя вам показаться на глаза герцогу Лерме, я только хотел испытать, не сохранилось ли у вас в душе еще несколько крупинок честолюбия. Ну что ж! Коль скоро вы совсем отреклись от почестей, то покинем поскорее двор, чтобы отдаться тем невинным и сладостным удовольствиям, о которых мы составили себе столь чарующее представление.
И в самом деле, мы вскоре после этого отбыли вдвоем в дорожной карете, запряженной двумя добрыми мулами; правил ими парень, которого я счел нужным нанять для усиления своей свиты. Первая моя ночевка была в Алькала-де-Энарес, вторая – в Сеговии. Не желая задерживаться, я не навестил великодушного коменданта Тордесильяса и прямо поехал в Пеньяфьель на Дуэро, а на следующий день – в Вальядолид. При виде этого города я не сумел удержать глубокого вздоха. Мой спутник, услыхав его, спросил о причине.
– Дело с том, дитя мое, – сказал я ему, – что я здесь долго занимался медициной; теперь совесть втайне меня упрекает: мне кажется, точно все убитые мною больные выходят из гробов, чтобы растерзать меня в клочья.
– Что за фантазия! – промолвил мой секретарь. – Поистине, сеньор де Сантильяна, вы слишком добры. С чего вам раскаиваться в том, что вы занимались своим ремеслом? Посмотрите на самых старых врачей; разве они мучатся такими угрызениями? Ничуть не бывало! Они продолжают самым спокойным манером делать свое дело, сваливая все скорбные последствия на природу и приписывая себе все счастливые случайности.
– Действительно, – подтвердил я, – доктор Санградо, методу, коего я неукоснительно следовал, был именно такого нрава. Видя, как ежедневно два десятка человек умирают под его рукой, он все-таки настолько был уверен в целительности обильного питья и кровопусканий из руки, которые называл своими панацеями против всякого рода болезней, что, вместо того чтобы обвинять свой способ лечения, он воображал, будто больные умирают только от недостаточного кровопускания и потребления воды.
– Ей-богу! – воскликнул Сипион, разражаясь смехом. – Вот это, действительно, уникум!
– Если тебе любопытно на него посмотреть и слышать его речи, – сказал я ему, – то завтра же сумеешь удовлетворить свое любопытство, лишь бы только Санградо был жив и все еще находился в Вальядолиде. Впрочем, мне не верится, что это так, ибо он был уже стар, когда я с ним расстался, а с тех пор протекло немало годов.
По прибытии на постоялый двор, на котором мы пристали, я первым делом осведомился об упомянутом докторе. Мы узнали, что он еще не умер, но, по старости лет не будучи в состоянии ходить по визитам и много двигаться, уступил поле брани трем-четырем лекарям, прославившимся другим методом, который был ничуть не лучше санградовского. Поэтому мы порешили провести весь следующий день в Вальядолиде как для того, чтобы дать отдых своим мулам, так и с целью повидать доктора Санградо. Мы отправились к нему на другое утро часам к десяти и застали его в кресле с книгою в руках. Увидев нас, он тотчас же поднялся, пошел нам навстречу шагом, довольно бодрым для семидесятилетнего старца, и спросил, что нам угодно.
– Сеньор доктор, – спросил я, – неужели вы меня не узнаете? А между тем я имел честь быть одним из ваших учеников. Разве вы совсем уже позабыли некоего Жиль Бласа, который когда-то был вашим нахлебником и заместителем?
– Как, это вы, Сантильяна! – воскликнул он, обнимая меня. – Я бы никак вас не узнал. Мне очень приятно вновь с вами увидеться. Что же вы делали с тех пор, как мы расстались? Вы, разумеется, не переставали заниматься медициной?
– К этому, – отвечал я, – у меня была большая склонность, но веские причины встали на моем пути.
– Тем хуже, – ответствовал Санградо, – следуя принципам, которые вы от меня переняли, вы могли бы стать искусным врачом при условии, что небо, по своему милосердию, предохранило бы вас от опасной склонности к химии. Ах, сын мой! – продолжал он с пафосом и со скорбью в голосе. – Какие пертурбации произошли в медицине за последние годы! Я удивляюсь и негодую с полным основанием: у нашего искусства хотят отнять и честь и достоинство. Это искусство, во все времена охранявшее человеческую жизнь, ныне стало жертвою дерзости, самомнения и невежества. Ибо говорят, а скоро и камни возопиют о разбойническом промысле новых лекарей: lapides clamabunt. В здешнем городе можно видеть врачей, или так называемых врачей, которые впряглись в триумфальную колесницу антимония [177] , currus triumphalis antimonii. Это – бесноватые, убежавшие из школы Парацельса [178] , поклонники кермеса [179] , лечащие наудачу, полагающие весь смысл медицинской науки в умении изготовлять химические снадобья. Что мне вам сказать? Все решительно в их методе должно быть отвергнуто. Кровопускание из ноги, прежде столь редкое, теперь практикуется почти исключительно. Прежние слабительные, столь мягкие и благодетельные, теперь уступили место рвотным и кермесу. Словом, сплошной хаос, где каждый позволяет себе что хочет и преступает границы порядка и благоразумия, указанные нам древнейшими учителями.
Как ни разбирала меня охота рассмеяться над этим комическим разглагольствованием, я все же нашел в себе силы удержаться. Мало того, я и сам начал ораторствовать против кермеса, о коем не имел ни малейшего понятия, и посылать к чертям тех, кто его выдумал. Сипион, заметив, что эта сцена меня потешает, пожелал внести в нее свою лепту.
– Сеньор доктор, – сказал он, обращаясь к Санградо, – да будет мне, яко внучатному племяннику врача старой школы, дозволено вознегодовать совместно с вами против химических лекарств. Покойный двоюродный дедушка – да смилуется господь над его душой – был таким горячим сторонником Гиппократа, что частенько дрался с эмпириками, недостаточно почтительно отзывавшимися о царе медицины. Яблоко от яблони недалеко падает: я охотно стал бы палачом этих невежественных новаторов, на которых вы столь справедливо и столь красноречиво жалуетесь. Какую конфузию производят эти несчастные в человеческом обществе!
– Эта конфузия, – молвил доктор, – заходит еще дальше, чем вы думаете. Вотще написал я книгу против медицинского разбоя [180] : он растет с каждым днем. Фельдшера, во что бы то ни стало желающие сойти за врачей, мнят себя достойными этого звания, раз дело сводится к прописыванию кермеса или винного камня [181] , к которым они, если вздумается, еще прибавляют ножное кровопускание. Они доходят даже до того, что примешивают кермес в травяные отвары и крепительные напитки, – и вот они уже сравнялись с нынешними медицинскими заправилами. Эта зараза распространяется даже на монастыри. Есть среди монахов такие братцы, которые сразу совмещают в себе фельдшера и аптекаря. Эти обезьяны медицины всецело посвящают себя химии и изготовляют пагубные снадобья, с помощью коих сокращают жизнь преподобных отцов. В Вальядолиде же имеется более шестидесяти монастырей как мужских, так и женских: можете сами судить, какое побоище учиняет там кермес в союзе с винным камнем и ножными кровопусканиями.
– Сеньор Санградо, – сказал я ему, – вы совершенно правы, когда гневаетесь на этих отравителей; я сетую вместе с вами и разделяю ваши опасения за жизнь людей, явно находящуюся под угрозой методов, столь отличных от вашего. Я крепко побаиваюсь, что химия в некий день приведет к уничтожению медицины, подобно тому как фальшивая монета разоряет государства. Дай нам бог, чтобы этот роковой день не скоро наступил!
В этом месте наша беседа была прервана появлением старой служанки, принесшей доктору поднос с мягким хлебом, стаканом и двумя графинами, один из коих был наполнен водой, а другой – вином. Съев кусок хлеба, он выпил стаканчик, наполненный, правда, больше чем на две три водой, но все же не спасший его от упреков, которые он навлек на себя с моей стороны.
– Ого, господин доктор! – сказал я ему. – Ловлю вас на месте преступления. Вы пьете вино, – вы, который всегда высказывались против этого напитка, вы, который в течение трех четвертей своей жизни пили одну воду! С каких это пор вы впали в такое противоречие с самим собой? Вы не можете оправдываться своим возрастом, ибо в одном из своих сочинений называете старость естественной чахоткой, которая сушит и сжигает нас, и в силу этого определения сожалеете о невежестве всех тех, кто называет вино молоком старцев. Что же скажете вы теперь в свое оправдание?
– Вы весьма несправедливо на меня нападаете, – ответствовал престарелый лекарь. – Если бы я пил чистое вино, вы бы имели право рассматривать меня как изменника собственному методу. Но вы видите, что вино мое сильно разбавлено.
– Новое противоречие, дорогой учитель, – возразил я. – Вспомните, как вы порицали каноника Седильо за употребление вина, хотя он и примешивал к нему много воды. Лучше добровольно признайтесь, что вы убедились в своей ошибке и что вино вовсе не гибельная жидкость, как вы утверждаете в своих писаниях, если только пить его с умеренностью.
Эти слова несколько смутили доктора. Он не мог отрицать, что в книгах своих запрещал употребление вина; но так как стыд и самолюбие мешали ему признать справедливость моего упрека, то он не знал, что ответить. Чтобы выручить его из столь великого затруднения, я переменил тему, а немного спустя откланялся, уговаривая его стойко держаться против новых врачей.
– Мужайтесь, сеньор Санградо! – говорил я ему. – Не уставайте порочить кермес и без устали бичуйте ножные кровопускания. Ежели, вопреки вашему рвению и приверженности к «ортодоксальной» медицине, это отродье эмпириков сумеет разрушить науку, то у вас все же будет утешение, что вы приложили все усилия, дабы ее сохранить.
Когда мы с секретарем возвращались на постоялый двор, беседуя о комическом и своеобразном характере старого лекаря, мимо нас прошел человек лет пятидесяти пяти или шестидесяти, с потупленным взором и с большими четками в руках. Я внимательно посмотрел на него и без труда узнал в нем сеньора Мануэля Ордоньеса, доброго смотрителя богадельни, с похвалой упомянутого в первой книге моего повествования. Я подошел к нему с величайшими знаками уважения и сказал:
– Нижайший привет мой досточтимому и разумному сеньору Мануэлю Ордоньесу, лучшему хранителю имущества бедняков.
При этих словах он пристально взглянул на меня и отвечал, что черты мои ему несколько знакомы, но что он не может припомнить, где со мною виделся.
– Я посещал ваш дом в те времена, – отвечал я, – когда в услужении у вас жил один из моих друзей, Фабрисио Нуньес.
– Ага, теперь вспомнил, – подхватил смотритель с лукавой улыбкой, – помню, что оба вы были славные малые. Вы вместе совершили не одну проделку, свойственную юности. Ну как? Что с ним теперь, с этим бедным Фабрисио? Всякий раз как я о нем думаю, меня охватывает беспокойство относительно его делишек.
– Именно для того, чтобы осведомить вас о его делах, я и осмелился остановить вас на улице. Фабрисио находится в Мадриде, где занимается смешанным творчеством.
– Что вы называете смешанным творчеством? – спросил он. – Это какое-то двусмысленное определение.
– Я хочу сказать, – отвечал я, – что он пишет в стихах и прозе, сочиняет комедии и романы; словом, этот малый талантливый и к тому же любезно принимаемый в лучших домах.
– Но скажите мне, – заметил смотритель, – в каких отношениях он состоит со своим булочником?
– Не в таких хороших, как со знатными господами, – ответил я. – Между нами будь сказано, я думаю, что он не очень богат.
– О, я нимало в этом не сомневаюсь, – подхватил Ордоньес. – Пусть сколько душе угодно увивается перед вельможами: его любезности, льстивые слова и низкопоклонство принесут ему еще меньше дохода, чем его сочинения. Я предсказываю вам, что вы еще увидите его в богадельне.
– Это легко может случиться, – отвечал я. – Поэзия уже многих до этого довела. Мой друг Фабрисио гораздо лучше сделал бы, если бы остался при вашей милости: в настоящее время он купался бы в золоте.
– Во всяком случае, он жил бы в полном довольстве, – сказал Мануэль. – Я полюбил его и собирался, повышая из одной должности в другую, наконец доставить ему в нашем богоугодном заведении прочное положение; а ему вдруг вздумалось удариться в литературу. Он сочинил комедию и дал ее сыграть находившимся здесь актерам; пьеса имела успех, и с той поры у автора вскружилась голова: он возомнил себя вторым Лопе де Вега и, предпочтя дым рукоплесканий тем реальным выгодам, которые обещала ему моя дружба, ушел от меня. Тщетно я доказывал ему, что он бросает кость и устремляется за тенью [182] . Я не смог остановить этого безумца, одержимого манией писательства. Он не понимал своего счастья, – добавил Мануэль. – Тот юноша, которого я после него взял в услужение, может это засвидетельствовать: он хотя и не обладает таким умом, как Фабрисио, но, будучи благоразумнее его, посвятил себя исключительно тому, чтобы добросовестно исполнять свои обязанности и угождать мне. Потому-то я и возвысил его по заслугам: в настоящее время он занимает при богадельне две должности, младшей из коих более чем достаточно, чтобы прокормить честного человека, обремененного многочисленной семьей.
Глава II Жиль Блас продолжает путешествие и благополучно прибывает в Овьедо. В каком состоянии застал он своих родителей, смерть его отца и ее последствия
Из Вальядолида мы в четыре дня добрались до Овьедо, нигде не повстречав недобрых людей, вопреки пословице, гласящей, что разбойники издали чуют деньги путников. А между тем они могли бы недурно поживиться, и каких-нибудь два обитателя подземелья без труда сумели бы отнять у нас все дублоны, так как я при дворе не научился храбрости, а Бертран, наш mozo de mulas [183] , не производил такого впечатления, что позволит скорее убить себя, чем отдаст хозяйский кошелек. Один только Сипион был до некоторой степени воякой.
Ночь уже спустилась, когда мы прибыли в город. Пристали мы на постоялом дворе в двух шагах от дома моего дяди, каноника Хиля Переса. Мне очень хотелось осведомиться, в каком положении находятся мои родители, прежде чем показаться им на глаза; а для того чтобы узнать об этом, лучше всего было обратиться к хозяину и хозяйке гостиницы – людям, которые, как мне было известно, не могли не знать всех дел своих соседей.
Действительно, гостиник, узнавший меня после внимательного разглядывания, воскликнул:
– Клянусь св. Антонием Падуанским! Да ведь это сынок добрейшего стремянного, Бласа из Сантильяны!
– И в самом деле так! – сказала хозяйка. – Он и есть. И почти совсем не изменился. Это тот самый шустрый Жиль Блас, у которого ума было больше, чем роста. Мне кажется, я еще вижу его, как он приходит сюда с бутылкой, чтобы купить вина дяде на ужин.
– Сеньора, – сказал я ей, – у вас блестящая память. Но сделайте милость, расскажите мне о моих родных. Отец и мать, наверное, находятся не в очень блестящем положении.
– Это, к сожалению, правда, – отвечала хозяйка. – В каком бы плачевном состоянии вы себе их ни представляли, вам трудно будет вообразить людей, более достойных жалости, чем они. У старичка Хиля Переса разбита параличом половина тела, и, по всей видимости, он долго не протянет; ваш батюшка, с некоторых пор поселившийся у каноника, страдает воспалением легких, или, вернее сказать, он сейчас находится между жизнью и смертью, а матушка ваша, которая тоже не слишком-то здорова, вынуждена служить сиделкой им обоим.
При этих словах, заставивших меня вновь почувствовать себя сыном, я оставил Бертрана с каретой на постоялом дворе и в сопровождении своего секретаря, не пожелавшего меня покинуть, отправился к дяде. Как только я предстал перед матушкой, внезапное волнение известило ее о моем присутствии еще раньше, чем она различила мои черты.
– Сын мой, – сказала она с грустью, после того как обняла меня, – войдите и посмотрите, как ваш отец умирает; вы прибыли как раз вовремя, чтобы присутствовать при этом мучительном зрелище.
С этими словами она ввела меня в горницу, где бедный Блас из Сантильяны приближался к последнему своему часу на кровати, явно изобличавшей нищету бедняги-стремянного. Уже обвеваемый смертною сенью, он все же еще сохранял некоторые проблески сознания.
– Милый друг, – сказала ему матушка, – вот ваш сын, Жиль Блас, который просит вас простить причиненные им горести и испрашивает вашего благословения.
При этих словах отец мой приоткрыл глаза, уже готовые смежиться навеки; он остановил их на мне и, заметив, несмотря на подавленное свое состояние, что я огорчен тяжелой утратой, был тронут моей скорбью. Он хотел что-то сказать, но силы ему изменили. Я взял одну из его рук, и, пока я обливал ее слезами, не будучи в силах произнести ни слова, он скончался, словно только и ждал моего прибытия, чтобы испустить последний вздох.
Мать моя слишком уже привыкла к мысли о его кончине, чтобы предаваться неумеренной горести. Я, казалось, был сильнее потрясен, чем она, хотя отец за всю свою жизнь не выказал мне ни одного знака приязни. Достаточно было быть сыном, чтобы его оплакивать; а кроме того, я упрекал себя в том, что вовремя не пришел ему на помощь. Думая об этой своей черствости, я представлялся сам себе чудовищем неблагодарности, вернее, отцеубийцей.
Дядюшка, которого я затем увидал на другой койке в самом жалостном состоянии, заставил меня испытать новые угрызения совести.
«Презренный выродок, – говорил я сам себе, – терзайся же теперь при виде нужды твоих близких! Если бы ты уделил им частицу тех излишеств, коими пользовался до заточения, то мог бы окружить их удобствами, недоступными им при скудости приходских доходов, и, быть может, продлил бы жизнь своего отца».
Несчастный Хиль Перес впал в детство. Память и рассудок покинули его. Напрасно я прижимал его к груди и всячески выказывал ему свою нежность: он оставался нечувствителен ко всему. Сколько ни твердила ему матушка, что я его племянник Жиль Блас, он смотрел на меня с тупым выражением, ничего не отвечая. Если бы даже голос крови и благодарности не побуждал меня пожалеть дядю, я все равно не мог бы удержаться от жалости, видя его в положении, столь достойном сострадания.
В течение всего этого времени Сипион хранил мрачное молчание, разделяя мою скорбь и из дружбы смешивая свои вздохи с моими. Полагая, что матушка после столь долгой разлуки захочет со мной побеседовать и что присутствие незнакомого человека может ее стеснить, я отвел Сипиона в сторону и сказал ему:
– Пойди, дитя мое, пойди отдохнуть в гостиницу и оставь меня наедине с матерью. У нас будет с ней длинная беседа. Твое присутствие может показаться ей лишним при разговоре, который будет касаться одних только семейных дел.
Сипион, боясь стеснить нас, удалился, а я действительно провел всю ночь в беседе с матушкой. Мы дали друг другу отчет в том, что с нами произошло со времени моего отъезда из Овьедо. Она в точности описала все огорчения, пережитые ею в домах, где она служила дуэньей, и притом поведала множество подробностей, которые мне было бы не особенно приятно услышать в присутствии своего секретаря, хотя я ничего от него не скрывал. При всем уважении, коим я обязан памяти своей матери, должен все же сказать, что добрая старушка была несколько многоречива в рассказах: она облегчила бы мне на три четверти выслушивание своей истории, если бы откинула все излишние детали.
Наконец она закончила свое повествование, и наступил мой черед. Я лишь слегка коснулся приключений, выпавших на мою долю; но, дойдя до визита, нанесенного мне в Мадриде сыном овьедского бакалейщика, Бертраном Мускадой, я подробно остановился на этом происшествии.
– Признаюсь, – сказал я, – что плохо принял этого малого, который в отместку, вероятно, обрисовал меня вам в ужасном виде.
– Он так и сделал, – отвечала она. – Вы, по его словам, якобы так возгордились благорасположением первого министра королевства, что едва соблаговолили его узнать; а когда он изложил вам наше бедственное положение, вы будто бы выслушали его крайне холодно. Но так как отцы и матери, – добавила она, – всегда стараются извинить своих детей, то мы не могли поверить, что у вас такое недоброе сердце. Ваш приезд в Овьедо оправдывает наше хорошее мнение о вас, а горесть, в которой я вас вижу, завершает это оправдание.
– Вы слишком благосклонно обо мне судите, – возразил я. – В рассказе молодого Мускады есть доля правды. Когда он ко мне явился, я был занят только своей карьерой, и честолюбие, мною владевшее, не позволяло мне подумать о родных. Поэтому не следует удивляться, если в таком умонастроении я оказал не особенно любезный прием человеку, который, заговорив со мной грубым тоном, дерзко заявил, что я, как ему известно, богат, как жид, и что потому он советует мне послать вам денег, ибо вы очень в них нуждаетесь; он даже в весьма неумеренных выражениях попрекнул меня равнодушием к родне. Я был задет его бесцеремонностью и, потеряв терпение, схватил его за плечи и вытолкал из кабинета. Признаю, однако, что был не прав в этом деле: мне следовало сообразить, что если у бакалейщика не хватает вежливости, то это не ваша вина, и что надлежит последовать его совету, хотя он и был дан в неучтивой форме. Об этом я и подумал через несколько минут после того, как выставил Мускаду. Голос крови заговорил: я вспомнил обо всех своих обязанностях по отношению к родителям и, краснея от того, что так плохо их выполнял, почувствовал угрызения совести, коими, однако, не смею перед вами хвалиться, ибо вскоре они опять были задушены жадностью и честолюбием. Но впоследствии, будучи заточен по королевскому приказу в Сеговийскую крепость, я опасно там захворал, и эта счастливая болезнь вернула вам сына. Да, болезнь и тюрьма восстановили природу в ее правах и окончательно отвратили меня от придворной жизни. Я мечтаю только об удалении от мира и в Астурию приехал лишь затем, чтобы просить вас разделить со мною приятности уединенной жизни. Если вы не отвергнете моей просьбы, я увезу вас в свое валенсийское поместье, где мы будем жить в полном довольстве. Вы сами понимаете, что я намеревался и батюшку увезти туда же; но, коль скоро небо судило иначе, пусть, по крайней мере, я испытаю удовлетворение, живя вместе со своею матерью и стараясь всеми возможными знаками внимания загладить воспоминание о том времени, когда я не был ей полезен.
– Я очень благодарна вам за похвальные намерения, – сказала мне, тогда матушка, – и уехала бы с вами без колебаний, если бы не видела в том некоторых трудностей. Я не покину вашего дяди и своего брата в том состоянии, в котором он теперь находится; а кроме того, я слишком привыкла к этим местам, чтобы с ними расстаться. Тем не менее я на свободе подумаю об этом, ибо такое дело заслуживает того, чтобы зрело его обсудить. Пока же позаботимся о похоронах вашего отца.
– Поручим это, – сказал я, – тому молодому человеку, который сюда заходил: это – мой секретарь; он умен и предан; мы можем в этом случае всецело на него положиться.
Не успел я произнести эти слова, как Сипион вернулся. Солнце уже взошло. Он спросил, не нуждаемся ли мы в его услугах при настоящих наших затруднениях. Я отвечал, что он приходит как раз вовремя, ибо я хочу возложить на него важное поручение. Узнав, о чем идет речь, он тотчас же сказал мне:
– Этого достаточно: я уже обдумал всю церемонию; можете мне довериться.
– Смотрите, – сказала ему матушка, – не устраивайте похорон хоть сколько-нибудь пышных. Они должны быть возможно скромнее, так как весь город знал моего супруга за одного из самых бедных стремянных.
– Сеньора, – возразил Сипион, – будь он даже еще беднее, я не сбавлю ни одного мараведи. Я в этом деле имею в виду лишь своего хозяина: он был любимцем герцога Лермы; его отец должен быть похоронен по-благородному.
Я одобрил план своего секретаря и даже велел ему не жалеть денег. Остаток тщеславия, еще сохранившийся в моей душе, проявился при этом случае; я льстил себя мыслью, что, затратившись на похороны отца, не оставившего мне никакого наследства, заставлю людей восхищаться моими щедрыми повадками. Матушка, со своей стороны, несмотря на скромность, которую она на себя напускала, была не прочь, чтобы мужа ее похоронили с почетом. Итак, мы предоставили полную свободу Сипиону, который, не теряя времени, принял все необходимые меры, чтобы придать погребению должную пышность. Это удалось ему лучше, чем надо. Он устроил такие роскошные похороны, что возбудил против меня весь город с пригородами: все обитатели Овьедо от мала до велика были возмущены моим чванством.
– У этого наскоро испеченного министра, – говорили одни, – есть деньги, чтобы похоронить отца, но не было денег, чтобы его кормить.
– Лучше было бы с его стороны, – замечали другие, – доставлять удовольствие живому отцу, нежели оказывать почести мертвому.
Словом, не жалея, трепали языками: каждый отливал какую-нибудь пилюлю. Но этим они не удовольствовались: не успел я, Сипион и Бертран выйти из церкви, как они принялись поносить нас, осыпать ругательствами, оглушать гиканьем, а нашего возницу проводили до гостиницы градом камней. Чтобы разогнать чернь, собравшуюся против дядюшкиного дома, моей матери пришлось показаться и публично заявить, что она очень мною довольна. Были и такие, которые побежали на постоялый двор, где стояла моя карета, с намерением ее разбить, что они, без сомнения, и учинили бы, если б хозяин с женой не нашли способа утихомирить этих бесноватых и отклонить от первоначального решения.
Все оскорбления, мне нанесенные и являвшиеся следствием тех пересудов, которые заводил про меня в городе молодой бакалейщик, внушили мне такое отвращение к моим землякам, что я решил возможно скорее покинуть Овьедо, где при других условиях провел бы довольно долгое время. Я прямо заявил о том матери, которая, будучи сама задета приемом, оказанным мне жителями, не возражала против скорого моего отъезда. Теперь речь шла только о том, как я поступлю с нею.
– Матушка, – сказал я, – коль скоро дядя нуждается в вашей помощи, я не буду больше настаивать на том, чтобы вы меня сопровождали, но так как кончина его, по-видимому, уже близится, то обещайте мне приехать в мое поместье, как только он отойдет в другой мир.
– Я не дам такого обещания, ибо его не сдержу, – отвечала, матушка. – Мне хочется провести остаток дней в Астурии и быть совершенно независимой.
– Разве вы не будете, – отвечал я ей, – полной хозяйкой в моем замке?
– Почем я знаю! – возразила она. – Стоит вам только влюбиться в какую-нибудь девчонку: вы на ней женитесь, она станет мне снохой, а я ей – свекровью, и мы не уживемся друг с другом.
– Уж очень издалека вы ждете несчастий, – возразил я ей. – У меня еще нет никакой охоты жениться; но если бы мне даже это вздумалось, я сумею заставить свою жену слепо повиноваться вашим желаниям.
– Не много ли вы на себя берете? – возразила матушка. – Я бы потребовала в том поруки с перепорукою. Боюсь, как бы ваши чувства к жене не одержали верх над голосом крови. Готова, пожалуй, поклясться, что при наших ссорах вы станете скорее на сторону своей жены, нежели на мою, хоть будь она сто раз не права.
– Золотые ваши слова, сеньора, – воскликнул мой секретарь, вмешавшись в разговор, – я думаю, как вы, что покорная сноха – величайшая редкость. Но для того чтобы вам помириться с моим хозяином (раз уж вы обязательно хотите жить в Астурии, а он в Валенсийском королевстве), необходимо, чтобы он назначил вам пенсию в сто пистолей, которую я буду привозить вам сюда ежегодно. Таким образом, мать и сын будут жить в полном довольстве на расстоянии двухсот миль друг от друга.
Обе заинтересованные стороны одобрили предложенное соглашение, после чего я уплатил за первый год вперед и на следующий день выехал из Овьедо еще до света из боязни, что толпа поступит со мной, как со св. Стефаном [184] .
Таков был прием, оказанный мне на родине. Отличный урок для всех простолюдинов, которые, разбогатев в чужих краях, возвращаются домой, чтобы поважничать! Чем больше они будут выставлять напоказ свое богатство, тем ненавистнее станут своим землякам.
Глава III Жиль Блас направляется в Валенсийское королевство и наконец прибывает в Лириас. Описание его замка. О том, как его там приняли и каких людей он там застал
Мы проехали через Леон, а затем через Валенсию и, продолжая свое путешествие быстрыми переходами, под конец десятого дня прибыли в город Сегорбе, откуда на следующее утро направились в мое поместье, расположенное всего в трех милях от города. По мере приближения к нему я заметил, что мой секретарь с большим вниманием разглядывает все замки, открывавшиеся его глазам то справа, то слева. Заметив какой-нибудь величественный дворец, он каждый раз говорил, указывая на него пальцем:
– Хотелось бы мне, чтобы здесь и было наше убежище.
– Не знаю, мой друг, – сказал я ему, – как ты представляешь себе это жилище; но если ты воображаешь, будто у нас будут роскошные палаты, то предупреждаю тебя что ты жестоко заблуждаешься. Если ты не хочешь стать игрушкой собственной фантазии, то представь себе домик Горация в Сабинской земле неподалеку от Тибурта, подаренный ему Меценатом. Дон Альфонсо преподнес мне приблизительно такой же презент.
– Так, значит, мне придется увидать какую-то хижину! – воскликнул Сипион.
– Вспомни, – отвечал я ему, – что я всегда описывал тебе это строение в самых скромных красках, а теперь можешь судить сам, правильна ли была нарисованная мною картина. Брось взгляд в сторону Гвадалавиара и на берегу подле поселка в девять или десять труб ты увидишь дом о четырех башенках: это и есть мой замок.
– Черт возьми! – вскричал мой секретарь восхищенным тоном. – Да ведь это не дом, а жемчужина! Помимо благородного вида, сообщаемого ему башенками, можно сказать, что он прекрасно расположен, отлично построен и окружен местностью, еще более очаровательной, чем окрестности Севильи, которые принято называть земным раем. Если бы мы даже сами выбирали место, то не могли бы найти такого, которое больше пришлось бы мне по вкусу. Поистине я нахожу его очаровательным: река орошает его своими струями, а густой лес предоставляет тень, если захочется прогуляться среди дня. Что за приятное уединение! О, дорогой хозяин, мне сдается, что мы долго здесь проживем.
– Мне чрезвычайно отрадно, – отвечал я, – что тебе понравилось наше убежище, всех приятностей коего ты еще не знаешь.
Беседуя таким образом, мы подкатили к воротам, которые тотчас же открылись перед нами, как только Сипион объявил, что приехал сеньор Жиль Блас де Сантильяна, чтобы вступить во владение своим замком. При звуке этого имени, столь уважаемого теми, кто его услыхал, мою карету впустили на обширный двор, где я из нее вышел. Затем, тяжело опираясь на Сипиона, я с важным видом проследовал в зал. Не успел я туда вступить, как появилось семь или восемь человек прислуги. Они сказали, что пришли засвидетельствовать мне свое почтение как новому хозяину, что дон Сесар и дон Альфонсо де Лейва приставили их ко мне: одного в повара, другого в поварята, третьего в привратники, а прочих в лакеи, с запрещением принимать от меня деньги, так как эти сеньоры брали на себя все расходы по моему хозяйству. Повар, по имени мастер Хоакин, был самым важным из этих слуг и говорил за всех. Он проявил величайшую услужливость и сообщил мне, что заготовил обильный запас самых ценимых в Испании вин, а в отношении стола выразил надежду, что, прослужив шесть лет в поварах у монсеньора архиепископа Валенсии, сумеет изготовить такие рагу, которые приятно пощекочут мое нёбо.
– Я сейчас покажу вам образчик своего умения, – добавил он. – Извольте прогуляться, сударь, в ожидании обеда; обозрите свой замок и взгляните, готов ли он к принятию вашей милости.
Само собой разумеется, что я не отложил этого обхода, а Сипион, которому еще больше, чем мне, не терпелось все высмотреть, потащил меня из комнаты в комнату.
Мы обошли весь дом сверху донизу. Ни один уголок (по крайности, так нам казалось) не ускользнул от нашего разгоревшегося любопытства, и везде я мог видеть доказательства того благоволения, которое питали ко мне дон Сесар и его сын. Между прочим, особенно поразили меня два покоя, обставленные настолько хорошо, насколько это возможно без излишней роскоши. В одной висел голландский настенный ковер; кровать и стулья были покрыты бархатом; все это было очень чисто, хотя и сработано во времена, когда мавры еще владели Валенсийским королевством. Обстановка второго помещения оказалась в том же вкусе: мебель обита старинным желтым генуэзским шелком, а кровать и кресла обтянуты той же материей и оторочены синей шелковой бахромой. Все эти вещи, которые не составили бы особо ценной статьи инвентаря, здесь производили весьма хорошее впечатление.
Подробно осмотрев все, мы с Сипионом вернулись в зал, где уже был накрыт стол на два куверта; мы уселись, и в ту же минуту нам подали такую отменную олью подриду, что мы пожалели архиепископа Валенсии, потерявшего повара, который ее изготовил. Правда, и аппетит у нас был хороший, отчего она казалась нам еще вкуснее. При каждом проглоченном куске мои новоиспеченные лакеи подавали нам большие стаканы, наполненные превосходным ламанчским вином. Сипион, не решавшийся в их присутствии дать волю своему внутреннему удовлетворению, выражал мне оное красноречивыми взглядами, а я тем же способом давал ему знать, что так же доволен, как и он.
Жаркое из зайчонка, распространявшее дивный аромат, с двумя жирными перепелками по бокам заставило нас оторваться от рагу и окончательно насытиться.
Наевшись, как беглецы из голодного края, и выпив соответствующее количество вина, мы вышли из-за стола и пошли в сад, чтобы предаться сладостному отдохновению в каком-нибудь прохладном и приятном месте.
Если мой секретарь до сих пор оставался доволен всем, что видел, то удовлетворение его еще возросло при виде сада. Он сравнивал его с эскуриальским. Правда, дон Сесар, от времени до времени наезжавший в Лириас, находил удовольствие в том, чтобы сад содержался в порядке и украшалcя. Дорожки, тщательно усыпанные песком и окаймленные апельсиновыми деревьями, большой белый бассейн, посреди которого бронзовый лев изрыгал воду широкой струей, прелесть цветов и разнообразие плодов – все это приводило Сипиона в восторг; но в особенности был он очарован длинной аллеей, которая вела, постепенно спускаясь, к дому арендатора и которую развесистые деревья покрывали густой листвой. Расхвалив место, столь удобное, чтобы служить убежищем во время жары, мы остановились там и присели у подножия молодого вяза, где сон без труда овладел двумя здоровыми молодыми людьми, только что плотно пообедавшими.
Пробудились мы внезапно от нескольких пищальных выстрелов, которые прозвучали так близко, что испугали нас. Мы сразу вскочили на ноги и, чтобы спросить, в чем тут дело, направились к дому арендатора, где застали восемь или десять крестьян, обитателей поселка, которые собрались там и теперь разряжали свои ружья, дабы этой пальбой почтить мое прибытие, о коем их только что оповестили. Они по большей части знали меня, так как неоднократно видели в замке еще на положении управителя. Не успели они меня увидеть, как все в один голос закричали:
– Да здравствует наш новый барин! Добро пожаловать в Лириас!
Затем они вновь зарядили ружья и почтили меня другим залпом. Я приветствовал их со всей возможной любезностью, но не без некоторой важности, так как считал неудобным быть с ними слишком запанибрата. Я обещал им свое покровительство и даже отсыпал им десятка два пистолей; причем из всех моих повадок эта последняя вряд ли была для них наименее приятной. После этого я предоставил им палить в воздух сколько заблагорассудится, а сам вместе со своим секретарем удалился в лес, где мы прогуливались до вечера, не уставая любоваться деревьями: так много прелестей являет нам недавно приобретенное имущество!
В это время повар, его помощник и поваренок не сидели сложа руки: они трудились над изготовлением трапезы еще лучшей, чем прежняя, и мы были окончательно поражены, когда, вернувшись в тот же зал, где раньше обедали, увидали, как на стол поставили блюдо с четырьмя жареными куропатками, а по бокам: с одной стороны фрикасе из кролика, а с другой – рагу из каплуна. Перед десертом нам подали свиные уши, цыплят в маринаде и шоколад со сливками. Мы обильно выпили лусенского и отведали еще несколько других сортов великолепных вин, а когда почувствовали, что не можем больше пить без вреда для здоровья, то решили удалиться на покой. Тогда мои лакеи, прихватив светильники, отвели меня в самую роскошную комнату, где принялись раздевать. Однако, как только они подали мне халат и ночной колпак, я отослал их, сказав с барственным видом:
– Идите, господа, больше вы мне сегодня не нужны.
Удалив их всех и удержав одного Сипиона, чтобы некоторое время с ним поболтать, я спросил его, что он думает об отношении, проявленном ко мне сеньорами де Лейва.
– Клянусь честью, – отвечал он, – по-моему, лучшего и быть не может; желаю только, чтоб это продолжалось подольше.
– А я совсем этого не желаю, – возразил я ему, – мне не следует допускать, чтобы мои благодетели так на меня тратились: я не хочу злоупотреблять их щедростью. Кроме того, я никогда не соглашусь иметь лакеев на чужом иждивении; мне вечно будет казаться, что я не у себя дома. Да к тому же я приехал сюда вовсе не для того, чтобы жить здесь с таким треском и блеском. Что за сумасбродство! К чему нам столь многочисленная челядь! Нет, помимо Бертрана, нам нужны только повар, поваренок и один лакей.
Хотя мой секретарь и не прочь был прожить всю жизнь за счет валенсийского губернатора, однако не стал по этому поводу осуждать мою деликатность и, сообразуясь с моими желаниями, одобрил задуманную мною реформу. Когда это было решено, он вышел из моей спальни и удалился в свою.
Глава IV Жиль Блас едет в Валенсию и посещает сеньоров де Лейва. О беседе, которая произошла у него с ними, и о любезном приеме, оказанном ему Серафиною
Окончательно раздевшись, я лег в постель, но, не чувствуя ни малейшего желания спать, предался размышлениям. Я думал о благоволении, которым сеньоры де Лейва платили за мою к ним привязанность, и, глубоко тронутый знаками оказанного мне расположения, решил посетить их на следующий же день, ибо мне не терпелось поскорее выразить им свою признательность. Я также заранее предвкушал удовольствие от свидания с Серафиною; но удовольствие это было слегка омрачено: я не мог без неприятного чувства думать о том, что одновременно мне придется выдержать взгляд госпожи Лоренсы Сефоры, которая, быть может, еще помнила случай с пощечиной и едва ли будет рада снова меня увидать. Наконец разум мой утомился этими противоречивыми мыслями, и я задремал, а на другой день проснулся уже после восхода солнца.
Вскоре я был на ногах и, весь занятый обдумыванием предстоящей поездки, наскоро оделся. Я заканчивал свой туалет, когда мой секретарь вошел в спальню.
– Сипион, – сказал я ему, – перед тобой – человек, собирающийся ехать в Валенсию. Мне не терпится засвидетельствовать почтение сеньорам, коим я обязан всем своим скромным состоянием; каждое мгновение отсрочки при исполнении этого долга как бы упрекает меня в неблагодарности. Тебя, мой друг, я освобождаю от обязанности меня сопровождать: живи здесь в мое отсутствие; я вернусь к тебе через неделю.
– Поезжайте, сеньор, – отвечал он, – старайтесь как можно лучше угодить дону Альфонсо и его отцу: они, по-видимому, чувствительны к преданности и очень благодарны за услуги, которые им оказывают. Знатные особы с таким характером настолько редки, что с ними необходимо обходиться возможно бережнее.
Я приказал оповестить Бертрана, чтобы он приготовился к отъезду, а пока он запрягал мулов, я пил свой шоколад. Затем я сел в карету, предварительно внушив слугам, чтобы они смотрели на моего секретаря, как на меня самого, и исполняли его распоряжения, как мои собственные.
Я добрался до Валенсии меньше чем за четыре часа и вышел из кареты прямо у губернаторских конюшен; там я оставил свой экипаж, а сам велел проводить себя в апартаменты дона Альфонсо, которого застал в обществе его отца, дона Сесара. Я без церемонии отворил дверь, вошел и сказал, обращаясь к ним обоим:
– Слуги входят к господам без доклада; вот один из ваших служителей, явившийся засвидетельствовать вам свое почтение.
С этими словами я собирался преклонить перед ними колени, но они этого не допустили и обняли меня с выражением искренней дружбы.
– Ну что, дорогой Сантильяна, – сказал мне дон Альфонсо, – съездили ли вы в Лириас, чтобы вступить во владение своим поместьем?
– Да, сеньор, – отвечал я ему, – и прошу у вас разрешения вернуть вам обратно эту землю.
– Почему же? – спросил он, – разве она обладает недостатками, которые вам противны?
– Сама по себе нет, – возразил я. – Напротив, я от нее в восторге. Единственное, что мне там не нравится, – это необходимость держать архиепископских поваров и штат прислуги втрое больший, чем мне нужно, который служит лишь для того, чтоб вводить вас в расход, столь же крупный, сколь и бесполезный.
– Если бы вы, – сказал дон Сесар, – согласились принять пенсию в две тысячи дукатов, которую мы вам предлагали в Мадриде, мы удовольствовались бы тем, чтобы предоставить вам один только омеблированный замок. Но вы сами отказались от денег, и мы, в виде возмещения, считали себя обязанными сделать то, что сделали.
– Этого слишком много, – отвечал я ему. – Ваша доброта должна ограничиться дарованием одного только поместья, которое содержит все, чего я могу пожелать. Уверяю вас, что независимо от затрат, причиняемых вам содержанием всей этой челяди на высоких окладах, эти люди для меня неудобны и стеснительны. Одним словом, сеньоры, либо возьмите назад поместье, либо дозвольте мне пользоваться им по своему усмотрению.
Я с такой настойчивостью произнес последние слова, что отец и сын, нисколько не желавшие меня принуждать, наконец разрешили мне поступать в моем замке так, как мне захочется.
Я принялся благодарить их за предоставленную мне свободу действий, без коей я не мог бы быть счастливым, но дон Альфонсо прервал меня:
– Дорогой мой Жиль Блас, я хочу представить вас даме, которой будет чрезвычайно приятно с вами повидаться.
С этими словами он взял меня за руку и повел в апартаменты Серафины, которая при виде меня вскрикнула от радости.
– Сеньора, – сказал ей губернатор, – я полагаю, что прибытие в Валенсию нашего друга Сантильяны приятно вам не менее, чем мне.
– В этом он может быть вполне уверен, – отвечала она. – Время не отняло у меня памяти об оказанной мне услуге; но, помимо признательности за этот поступок, я питаю к нему благодарность за все то, что он сделал для вас.
Я заверил сеньору губернаторшу, что уже сверх меры вознагражден за опасность, которой подвергся вместе с другими ее освободителями, рисковавшими жизнью для ее спасения, и после обмена взаимными любезностями дон Альфонсо увел меня из покоев Серафины. Мы присоединились к дону Сесару, которого застали в зале в обществе нескольких дворян, пришедших к обеду.
Все эти господа преучтиво со мною раскланялись: они относились ко мне с тем большей вежливостью, что дон Сесар рассказал им обо мне, как о человеке, который прежде был одним из главных секретарей герцога Лермы. Может быть, большинство из них даже знало о том, что именно благодаря моему влиянию при дворе дон Альфонсо получил валенсийское губернаторство, ибо все на свете узнается. Как бы то ни было, когда мы сели за стол, разговор шел исключительно о новом кардинале: одни искренне или притворно превозносили его до небес, другие ограничивались, если можно так выразиться, кисло-сладкими похвалами. Я понял, что они этим способом пытались побудить меня пространно рассказать о его высокопреосвященстве и позабавить их за его счет. Я охотно высказал бы свое мнение, но попридержал язык, чем произвел на все общество впечатление весьма осторожного малого.
После обеда гости разошлись по домам, чтобы предаться отдохновению, а дон Сесар с сыном с той же целью заперлись на своей половине. Я же, снедаемый любопытством посмотреть город, красоту коего мне так часто расхваливали, вышел из губернаторского дворца с намерением прогуляться по улицам. У дверей я встретил человека, который подошел ко мне и сказал:
– Позвольте приветствовать вас, сеньор де Сантильяна.
Я спросил, кто он такой.
– Я – камердинер дона Сесара, – отвечал он. – Мне довелось служить у него в лакеях в те времена, когда вы были управителем; каждое утро я приходил свидетельствовать вам свое почтение, и вы очень меня жаловали. Помните ли вы, как я однажды сообщил вам, что деревенский фельдшер из Лейвы тайно пробирается в комнату сеньоры Лоренсы Сефоры?
– Я этого не забыл, – отвечал я. – Но, кстати, об этой дуэнье… Что с ней сталось?
– Увы! – промолвил он. – После вашего отъезда бедная женщина впала в тоску и умерла, оплакиваемая более Серафиной, чем доном Альфонсо, который, по-видимому, был не очень тронут ее смертью.
Сообщив, таким образом, о печальной кончине Сефоры, камердинер дона Сесара извинился, что задержал меня, и предоставил мне продолжать путь. Я не мог удержаться от вздоха при воспоминании о несчастной дуэнье; умиляясь ее участью, я винил себя в ее смерти, позабыв о том, что ее следует скорее приписать раку, нежели моей неотразимости, Я с удовольствием осматривал все, что казалось мне достопримечательным в этом городе. Мой взгляд был приятно поражен как мраморным дворцом архиепископа, так и великолепными портиками биржи; но замеченный мною издали большой дом, куда входило много народа, всецело поглотил мое внимание. Я подошел ближе, чтобы узнать, почему туда стекается такое множество мужчин и женщин. Вскоре я был вполне осведомлен, прочитав следующие слова, начертанные над входом золотыми литерами на черной мраморной доске: «La posada de los representantes» [185] . Комедианты на афише объявляли, что сегодня они в первый раз будут играть новую трагедию дона Габриэля Триакеро. [186]
Глава V Жиль Блас идет в театр, где присутствует при представлении новой комедии. Успех этой пьесы. Вкусы валенсийской публики
Я на несколько минут задержался у дверей, чтобы понаблюдать входящих. Тут я увидал людей всякого звания: от статных и богато одетых кавальеро до фигур столь же бесцветных, сколь и потрепанных. Я заметил титулованных дам, выходивших из карет, чтобы занять заранее заказанные ложи, и искательниц приключений, которые шли туда, чтобы подцеплять простаков. Это беспорядочное стечение зрителей всякого рода вызвало во мне желание увеличить собой их число. Когда я уже собирался брать билет, прибыли губернатор с супругой. Они узнали меня в толпе, послали за мной и пригласили в свою ложу, где я поместился позади них, так что мог свободно разговаривать с ними обоими.
Передо мною был зал, переполненный сверху донизу, с густо набитым партером и авансценой [187] , буквально перегруженной кавалерами всех трех рыцарских орденов. [188]
– Вот поистине, – сказал я дону Альфонсо, – обильное стечение публики.
– Не следует этому удивляться, – ответил он. – Трагедия, которую собираются представлять, принадлежит перу дона Габриэля Триакеро, прозванного «модным поэтом». Как только актерская афиша объявляет о какой-нибудь новинке этого автора, вся Валенсия становится вверх дном. Мужчины и женщины только и говорят, что об этой пьесе; все ложи заказаны заранее, и в день первого представления зрители давят друг друга у входа в театр, хотя цены на все места повышены вдвое, за исключением партера, который слишком уважают, чтобы раздражать его дороговизной.
– Что за столпотворение! – сказал я губернатору. – Однако живой интерес публики, бешеное нетерпение, с которым она встречает всякое новое произведение дона Габриэля, внушают мне высокое мнение о таланте этого поэта.
В этом месте нашего разговора появились актеры. Мы сейчас же прекратили беседу, чтобы слушать их со вниманием. Аплодисменты начались уже с пролога; каждый стих сопровождался настоящим содомом, а под конец каждого акта раздавались такие рукоплескания, что казалось, будто зал вот-вот обвалится. По окончании представления мне показали автора, переходившего из ложи в ложу и скромно подставлявшего голову под лавровые венки, которыми господа и дамы собирались его украсить.
Мы возвратились в губернаторский дворец, куда вскоре прибыло трое или четверо орденских кавалеров. Явились также два пожилых сочинителя, завоевавших себе имя в своей области творчества, и привели с собой мадридского дворянина, обладавшего умом и вкусом. Все они тоже были в театре. За ужином не говорили ни о чем, кроме новой пьесы.
– Господа, – сказал некий кавалер св. Иакова, – что думаете вы об этой трагедии? Разве перед нами не то, что называется законченным произведением? Высокие мысли, нежные чувства, звучный стих – все это там есть. Словом, это – поэма в духе высшего общества.
– Не думаю, чтобы кто-либо мог судить иначе, – сказал кавалер Алькантары. – Эта пьеса полна тирад, которые, казалось, продиктовал сам Аполлон, и ситуаций, переплетающихся с бесконечным искусством. Я в том сошлюсь на вас, сеньор, – добавил он, – обращаясь к кастильскому дворянину, – вы, по-видимому, знаток, и я держу пари, что вы согласны с моим мнением.
– Не держите пари, господин кавалер, – ответил дворянин с лукавой усмешкой. – Я – человек нездешний; мы, мадридцы, не судим столь поспешно; мы далеки от того, чтобы высказывать свое мнение о пьесе, слышанной в первый раз, и не доверяем ее красотам, покуда они звучат из уст актеров: какое бы хорошее впечатление она на нас ни произвела, мы откладываем свой вердикт до тех пор, пока не прочтем ее. И действительно, на бумаге она зачастую не доставляет вам такого удовольствия, как на сцене. Поэтому, – продолжал он, – мы тщательно изучаем всякое сочинение, прежде чем судить о нем; слава автора, как бы ни была она велика, не может нас ослепить. Даже когда Лопе де Вега или Кальдерон [189] выпускали новинки, они среди своих поклонников обретали строгих судей, которые вознесли этих драматургов на вершину славы лишь тогда, когда сочли их достойными этого.
– Нет, клянусь богом! – прервал его кавалер св. Иакова. – У нас больше смелости. Мы не ждем, пока пьесу напечатают, для того чтобы изречь о ней суждение: с первого же представления мы знаем ей цену. Нам даже не нужно очень внимательно в нее вслушиваться: достаточно знать, что это – произведение дона Габриэля, – стало быть, оно безупречно. Труды этого стихотворца знаменуют момент зарождения хорошего вкуса. Все эти Лопе и Кальдероны были лишь учениками по сравнению с таким великим мастером театра.
Дворянин, считавший Лопе и Кальдерона Софоклом и Эврипидом Испании, был задет этими дерзкими речами и вышел из себя.
– Что за драматическое кощунство! – вскричал он. – Уж раз вы, сеньоры, вынуждаете меня, подобно вам, судить по одному представлению, то я скажу, что очень недоволен новой трагедией этого вашего дона Габриэля: это – произведение, нашпигованное более блестящими, нежели глубокими эффектами; три четверти стихов либо плохо построены, либо плохо срифмованы, характеры либо плохо задуманы, либо плохо выдержаны, а мысли зачастую крайне туманны.
Оба присутствовавших за столом сочинителя, которые со столь же похвальной, сколь и редкостной сдержанностью не сказали ни слова из страха быть обвиненными в зависти, не могли устоять, чтобы хоть глазами не выразить своего сочувствия мнению мудреца, из чего я заключил, что их молчание являлось следствием не столько достоинств пьесы, сколько политичности этих писателей.
Что же касается кавалеров, то они продолжали расхваливать дона Габриэля и даже причислили его к сонму богов. Этот сумасбродный апофеоз, это слепое идолопоклонство вывели из терпения кастильца, который, воздев руки к небесам, вдруг воскликнул с энтузиазмом:
– О божественный Лопе де Вега, редкий и возвышенный гений, опередивший на огромное расстояние всевозможных Габриэлей, которые хотели бы за тобой последовать! И ты, нежнейший Кальдерон, чья изящная и чуждая высокопарности сладость осталась неподражаемой! Не бойтесь, что алтари ваши будут разрушены этим новым питомцем муз! Достаточно с него, если потомство (для коего вы, равно как и для нас, всегда будете источниками наслаждений) вообще услышит о нем.
Эта забавная и совершенно неожиданная апострофа рассмешила все общество, которое вскоре затем встало из-за стола и разошлось. Меня, по распоряжению дона Альфонсо, проводили в отведенное мне помещение. Там я нашел прекрасную постель, на которой моя милость улеглась и заснула, сетуя, подобно кастильскому дворянину, на несправедливость, оказываемую невеждами, Лопе и Кальдерону.
Глава VI Жиль Блас, гуляя по улицам Валенсии, встречает монаха, лицо которого кажется ему знакомым. Кто был этот инок
Не сумев осмотреть весь город в первый день, я на следующее утро вышел из дому с намерением еще раз прогуляться. На улице мне повстречался монах-картезианец, который, видимо, направлялся куда-то по делам своей обители. Выступал он потупив глаза, и вид у него был столь благочестивый, что привлекал к себе взоры всех прохожих. Он прошел совсем близко от меня. Я внимательно в него вгляделся, и мне показалось, будто я узнаю в нем дона Рафаэля, того самого авантюриста, которому отведено такое почетное место в начале моего повествования.
Я был так удивлен, так взволнован этой встречей, что, вместо того чтобы заговорить с монахом, несколько мгновений стоял как вкопанный; за это время он уже успел далеко отойти.
«Боже милосердный! – подумал я. – Можно ли представить себе два более схожих лица! Не знаю, что и подумать! Должен ли я поверить, что это дон Рафаэль, или в праве считать, что это не он?»
Я слишком любопытствовал узнать правду, чтобы этим удовольствоваться. Спросив, как пройти к картезианскому монастырю, я немедленно туда отправился в надежде снова встретить своего инока, когда тот вернется, и твердо решил подойти к нему и заговорить. Но мне не пришлось дожидаться, чтобы получить все нужные сведения: как только я подошел к монастырским вратам, другое знакомое лицо превратило мое сомнение в уверенность: я узнал в брате-привратнике Амбросио Ламелу, своего прежнего слугу, что, как вы легко можете себе представить, привело меня в величайшее изумление.
Мы оба равно удивились неожиданной встрече в таком месте.
– Не мираж ли это? – сказал я, поклонившись ему. – Действительно ли глаза мои созерцают друга?
Он сперва не узнал меня или, вернее, сделал вид, будто не узнает, но, сообразив, что притворство бесполезно, принял вид человека, внезапно вспомнившего нечто давно позабытое.
– А, сеньор Жиль Блас! – воскликнул он. – Извините, что не сразу узнал вас. С тех пор как живу в этой святой обители и тщусь выполнять предписания нашего устава, я мало-помалу теряю воспоминания обо всем виденном мною в миру. Мирские образы постепенно испаряются из моей памяти.
– Я испытываю истинную радость, – сказал я ему, – встречая вас вновь, после десятилетней разлуки, в столь почтенном одеянии.
– Ах, – отвечал он, – стыжусь показаться в нем человеку, который был свидетелем моей прежней преступной жизни: это платье непрестанно меня в ней упрекает. Увы! – добавил он, испуская вздох. – Чтоб его носить, надлежало бы иметь за собой непорочную жизнь.
– По этим восхищающим меня речам, дорогой брат, – отвечал я ему, – ясно видно, что перст господень коснулся вас. Повторяю, я в восторге и умираю от жажды узнать, какими чудесными путями вступили вы на стезю добродетели вместе с доном Рафаэлем, ибо убежден, что именно его встретил в городе, одетого в картезианскую рясу. Я раскаялся в том, что не остановил нашего приятеля на улице и не заговорил с ним, и теперь жду его здесь, чтобы поправить свою оплошность, когда он вернется.
– Вы нисколько не ошиблись, – сказал мне Ламела. – Это действительно был дон Рафаэль. Что же касается истории, которой вы интересуетесь, то вот она. Расставшись с вами около Сегорбе, мы с сыном Лусинды направились по дороге в Валенсию с целью учинить там какую-нибудь новую штуку в нашем духе. Случай привел нас однажды в картезианскую церковь в тот момент, когда монахи на клиросе распевали псалмы. Приглядываясь к ним, мы поняли по себе, что и злодеи не могут не преклоняться перед добродетелью. Мы дивились рвению, с которым они молились богу, их смиренному и отрешенному от мирских радостей виду, равно как и просветлению, написанному на их лицах и столь явно обличавшему спокойную совесть. При этих размышлениях мы впали в задумчивость, которая оказалась для нас спасительной. Мы сравнивали свои поступки с жизнью этих добрых иноков, и обнаруженная нами разница привела нас в тревогу и замешательство. «Ламела, – сказал мне дон Рафаэль, когда мы вышли из церкви, – какое впечатление произвело на тебя то, что мы только что видели? Что до меня, то я не могу скрывать: душа моя неспокойна. Не известные мне дотоле волнения тревожат меня, и впервые в жизни я упрекаю себя в своих нечестивых поступках». – «Я в точно таком же настроении, – отвечал я ему. – Злые дела, мною совершенные, встают на меня, и сердце мое, никогда не испытывавшее угрызений, ныне ими раздирается». – «Ах, дорогой Амбросио, – подхватил мой товарищ, – мы – два заблудших ягненка, которых отец небесный из милосердия пожелал вернуть в овчарню. Это он, дитя мое, это он зовет нас; не будем же глухи к его голосу: отречемся от обманов, бросим распутство, в котором мы погрязали, и с нынешнего же дня начнем трудиться над великим делом своего спасения: мы должны провести в этом монастыре остаток дней своих и все их посвятить покаянию». Я согласился с мнением дона Рафаэля, – продолжал брат Амбросио, – и мы приняли благородное решение стать картезианцами. Чтобы оное осуществить, обратились мы к отцу-приору, который, едва услыхав об этом намерении, приказал, для испытания нашего постоянства, запереть нас в келье и обращаться с нами, как с иноками, в течение целого года. Мы точно и стойко выполняли устав, и нас приняли в число послушников. Мы были так довольны своим положением, что мужественно вынесли все искусы послушания. После этого мы постриглись, и дону Рафаэлю, проявившему деловые способности, было предложено снять бремя трудов с одного престарелого инока, который тогда был экономом. Сын Лусинды предпочел бы посвятить все свое время молитве, но был вынужден пожертвовать своим рвением к молитвословию той потребности, которую братья испытывали в его услугах. Он в таком совершенстве изучил все нужды обители, что его сочли достойным занять место старого эконома, когда тот через три года скончался. Итак, в настоящее время дон Рафаэль занимает эту должность, и можно сказать, что он делает свое дело ко всеобщему довольству наших отцов, которые весьма хвалят его труды по удовлетворению наших бренных слабостей. Удивительнее всего то, что, несмотря на падающие на него заботы о сборе монастырских доходов, сам он явно думает только о вечности. Когда дела разрешают ему минуту отдыха, он погружается в глубокие размышления. Одним словом, это один из лучших затворников в нашей обители.
На этом месте я прервал Ламелу радостным возгласом, который вырвался у меня при виде приближающегося дона Рафаэля.
– Вот он, – воскликнул я, – вот он, этот святой отец-эконом, которого я жду с нетерпением!
С этими словами я обнял его. Он не отверг моих объятий и, не выражая ни малейшего изумления по поводу встречи со мною, промолвил медоточивым голосом:
– Благодарение господу, сеньор де Сантильяна, благодарение господу за удовольствие, которое я испытываю, видя вас вновь.
– Поистине, дорогой Рафаэль, – сказал я ему, – я всячески сочувствую вашему спасению: брат Амбросио поведал мне историю вашего обращения, и его рассказ очаровал меня. Какое преимущество для вас, друзья мои! Вы можете похвалиться, что принадлежите к небольшому числу тех избранных, которым предстоит наслаждаться вечным блаженством.
– Двое таких отверженных, как мы, – возразил сын Лусинды с видом величайшего смирения, – не должны были бы льстить себя такой надеждой; но раскаяние грешников может снискать им прощение перед лицом отца милосердия. А вы, сеньор Жиль Блас, – добавил он, – не думаете ли также о том, чтоб заслужить прощение обид, которые вы ему нанесли? Какие дела привели вас в Валенсию? Не занимаетесь ли вы, боже сохрани, каким-нибудь опасным делом?
– Нет, хвала создателю, – отвечал я ему, – с тех пор как мне пришлось покинуть королевский двор, я веду жизнь честного человека: то наслаждаюсь прелестями сельской жизни в своем поместье, лежащем в нескольких милях отсюда, то приезжаю сюда, чтобы развлекаться в обществе валенсийского губернатора, который мне друг и вам обоим тоже хорошо известен.
Тогда я рассказал им историю дона Альфонсо де Лейва. Они выслушали ее со вниманием; а когда я сообщил о том, как от имени этого сеньора отнес Самуэлю Симону те три тысячи дукатов, которые мы у него украли, Ламела прервал меня и обратился к Рафаэлю.
– Отец Иларио, – сказал он, – в таком случае этот добрый купец больше не имеет оснований жаловаться на ограбление, так как похищенное было возвращено ему с лихвою, и наша с вами совесть может быть совершенно спокойна на этот счет.
– В самом деле, – сказал эконом, – перед удалением в монастырь мы с братом Амбросио тайно отослали Самуэлю Симону полторы тысячи дукатов с одним добрым клириком, который согласился взять на себя труд пойти в Хельву для возвращения вышеозначенных денег. Тем хуже для Самуэля, если он способен был принять эту сумму после того, как сеньор де Сантильяна возместил ему все полностью.
– Но ваши полторы тысячи дукатов, – спросил я, – были ли ему доставлены в точности?
– Без сомнения! – воскликнул дон Рафаэль. – Я готов отвечать за честность этого клирика, как за свою собственную.
– Я тоже за него поручусь, – сказал Ламела. – Это – благочестивый священик, наловчившийся в таких поручениях: из-за вверенных ему сумм у него уже было два или три процесса, и все он выиграл с возмещением судебных издержек.
Наш разговор продлился еще некоторое время; затем мы расстались, причем они увещевали меня непрестанно иметь перед глазами суд божий, а я препоручил себя их святым молитвам. После этого я немедленно отправился к дону Альфонсо.
– Вы ни за что не угадаете, – сказал я ему, – с кем мне только что довелось продолжительно побеседовать. Я пришел сюда прямо от двух знакомых вам почтенных картезианцев, один зовется отцом Иларио, другой – братом Амбросио.
– Вы ошибаетесь, – ответил дон Альфонсо, – я не знаю ни одного картезианца.
– Простите, – возразил я, – вы в Хельве видели отца Иларио в роли комиссара инквизиции, а брата Амбросио в должности повытчика.
– О небо! – с изумлением воскликнул губернатор. – Возможно ли, чтобы Рафаэль и Ламела стали картезианцами!
– Воистину так, – отвечал я. – Вот уже несколько лет как они приняли постриг; первый из них – эконом обители, второй – привратник. Один стережет казну, другой – ворота.
Сын дона Сесара задумался на несколько секунд, затем покачал головой.
– Я сильно подозреваю, – сказал он, – что господин комиссар инквизиции и его повытчик разыгрывают здесь какую-то новую комедию.
– Вы судите в силу предубеждения, – отвечал я ему, – но я говорил с ними и вынес более благоприятное впечатление. Правда, человеческая душа – потемки; но, по всей видимости, эти два мошенника действительно обратились на путь истинный.
– Это возможно, – сказал дон Альфонсо, – немало есть забулдыг, которые, возмутив мир своим распутством, затем удаляются в монастыри и предаются там суровому покаянию; от души желаю, чтоб наши два инока принадлежали к их числу.
– А почему бы и не так? – сказал я. – Ведь они добровольно приняли иноческий чин и уже долго ведут жизнь благочестивых монахов.
– Говорите что хотите, – возразил губернатор, – а мне все-таки не нравится, что монастырская казна находится в руках этого отца Иларио, к которому я поневоле чувствую недоверие. Вспоминая то, что он рассказал нам о своих милых похождениях, я дрожу за отцов-картезианцев. Я готов вместе с вами поверить, что рясу он надел совершенно искренне, но вид золота может вновь пробудить корыстолюбие. Пьяницу, отрекшегося от вина, не следует пускать в погреб.
Несколько дней спустя подозрения дона Альфонсо вполне оправдались: отец-эконом и брат-привратник скрылись, захватив монастырскую казну. Эта новость, немедленно распространившаяся по городу, разумеется, развеселила всех насмешников, которые радуются всякой неприятности, постигающей богатых монахов. Мы же с губернатором пожалели картезианцев, но не хвастались знакомством с двумя отступниками.
Глава VII Жиль Блас возвращается в свой замок Лириас. О приятной новости, сообщенной ему Сипионом, и о реформе, которую они произвели в своем штате
Я провел неделю в Валенсии, вращаясь в высшем свете и ведя жизнь графа или маркиза. Спектакли, балы, концерты, пиршества, разговоры с дамами – все эти удовольствия были доставлены мне сеньором губернатором и сеньорой губернаторшей, которым я так угодил, что они с сожалением отпустили меня в Лириас. Перед отъездом они даже заставили меня обещать, что я буду делить время между ними и своим эрмитажем. Было установлено, что зиму я буду проводить в Валенсии, а лето – в своем замке. Заключив со мной такое соглашение, благодетели мои наконец разрешили мне уехать, чтобы насладиться плодами их щедрости, и я отправился в Лириас, весьма довольный своей поездкой. Сипион, с нетерпением дожидавшийся моего возвращения, очень обрадовался при виде меня, а я еще усугубил его радость подробным рассказом о своем путешествии.
– А ты, друг мой, – сказал я ему затем, – приятно ли использовал дни моего отсутствия? Хорошо ли ты развлекался?
– Настолько хорошо, насколько может слуга, которому дороже всего общество своего господина. Я прогуливался вдоль и поперек нашего маленького государства. То, сидя на берегу ручейка, протекающего по нашему лесу, я наслаждался прелестью его струй, таких же чистых, как воды того священного источника, чей шум оглашал обширную рощу Альбунеи [190] ; то, лежа под деревом, внимал пению малиновок и соловьев. Наконец, я удил рыбу, охотился и – что доставило мне большее удовольствие, чем все эти забавы, – прочел несколько книг, столь же полезных, сколь и развлекательных.
Я поспешно перебил своего секретаря, чтобы спросить его, откуда он взял эти книги.
– Я нашел их, – сказал он, – в прекрасной библиотеке, имеющейся здесь в замке и показанной мне мастером Хоакином.
– А в каком же углу, – подхватил я, – может она помещаться, эта так называемая библиотека? Разве мы не обошли всего дома в день нашего приезда?
– Это вам так кажется, – отвечал он мне, – но узнайте, что мы осмотрели только три башенки, а про четвертую забыли. Там-то дон Сесар, наезжая в Лириас, и проводил часть своего досуга за чтением. В этой библиотеке имеются очень хорошие книги, которые оставлены здесь для вас, как надежное лекарство против скуки на то время, когда наши сады лишатся цветов, а леса – листьев и уже не сумеют предохранить вас от тоски. Сеньоры де Лейва не сделали дела наполовину: они позаботились равно о духовной, как и о телесной пище.
Это известие доставило мне истинную радость. Я велел проводить себя в четвертую башню, которая явила глазам моим весьма приятное зрелище. Я увидал комнату, которую в тот же момент решил, по примеру дона Сесара, превратить в свою опочивальню. Там стояла кровать этого сеньора и вся прочая обстановка, а на стене висел фигурный ковер с изображением сабинянок, похищаемых римлянами. Из спальни я прошел в кабинетик, где по всем стенам стояли набитые книгами низкие шкапы, над которыми красовались портреты всех наших королей. Подле окна, из коего открывался вид на веселящую взоры местность, помещалось бюро черного дерева, а за ним большая софа, крытая черным сафьяном. Но я обратил внимание главным образом на библиотеку. Она состояла из сочинений философов, поэтов, историков и большого количества рыцарских романов. Я заключил, что дон Сесар любил этот последний жанр литературы, раз он так основательно им запасся. К стыду своему, признаюсь, что и мне этого рода произведения не были противны, несмотря на все несуразности, из которых они сотканы, потому ли, что я был тогда не очень требовательным читателем, или потому, что чудесное делает испанцев снисходительными ко всему остальному. Скажу, однако, в свое оправдание, что больше удовольствия я находил в весело преподнесенной морали и что Лукиан, Гораций и Эразм стали моими любимыми писателями.
– Друг мой, – сказал я Сипиону, пробежав глазами свою библиотеку, – вот чем мы будем развлекаться; но теперь надлежит произвести реформу нашего штата.
– Могу избавить вас от этой заботы, – отвечал он. – Пока вас не было, я хорошо изучил ваших людей и могу похвастаться, что знаю их насквозь. Начнем с нашего мастера Хоакина; я считаю его законченным жуликом и не сомневаюсь в том, что он был выгнан из архиепископского подворья за кой-какие арифметические ошибки при подсчете расходов. Тем не менее необходимо оставить его по двум причинам: во-первых, он – хороший повар, а во-вторых, я не буду спускать с него глаз; я намерен следить за всеми его поступками, и уж очень он будет хитер, если сумеет меня провести. Я уже сказал ему, что вы намерены отпустить три четверти своей прислуги. Эта новость его огорчила, и он сообщил мне, что, чувствуя склонность служить вам, готов удовольствоваться половинным жалованьем, лишь бы не покидать вас. Это наводит меня на мысль, что в нашем поселке имеется какая-нибудь девчонка, от которой ему не хочется удаляться. Что касается помощника повара, то он – пьяница, а привратник – грубиян, который так же мало нужен нам, как и егерь. С должностью этого последнего я прекрасно управляюсь и завтра же докажу вам это, так как у нас имеются здесь ружья, порох и свинец. Среди лакеев есть один арагонец, который кажется мне добрым малым. Этого мы оставим. Все же остальные такие негодяи, что я не посоветовал бы вам удерживать их, если бы даже вам понадобилась сотня лакеев.
После пространного обсуждения этого вопроса мы порешили удовлетвориться поваром, поваренком и арагонцем, а от остальных отделаться по-хорошему, что и было исполнено в тот же день с помощью нескольких пистолей, которые Сипион извлек из нашего сундука и роздал им от моего имени. Покончив с этим переустройством, мы установили порядок в замке, определили обязанности каждого служителя и зажили на собственный счет. Я бы охотно удовольствовался скромным столом, но мой секретарь, любивший рагу и прочие вкусные кусочки, был не таким человеком, чтобы дать погибнуть втуне талантам мастера Хоакина. Он так хорошо их использовал, что наши обеды и ужины превратились в настоящие бернардинские трапезы.
Глава VIII О любви Жиль Бласа к прелестной Антонии
Два дня спустя после моего возвращения из Валенсии в Лириас явился ко мне поутру, пока я одевался, крестьянин Басилио, мой арендатор, и попросил разрешения представить свою дочку Антонию, которая, по его словам, хотела приветствовать нового хозяина. Я отвечал ему, что это доставит мне удовольствие. Он вышел и вскоре вернулся со своей прелестной Антонией. Кажется, я смело могу применить такой эпитет к шестнадцатилетней девушке, в которой правильные черты сочетались с прекраснейшими в мире глазами и цветом лица. Она была одета в простую саржу; но роскошная фигура, величественная осанка и прелести, не всегда являющиеся спутницами юности, составляли противовес простоте ее наряда. Голова ее была непокрыта, волосы сзади были завязаны узлом и украшены пучком цветов, как у лакедемонянок.
Когда она вошла в мою комнату, я так же был поражен ее красотой, как паладины Карла Великого – прелестями Анджелики [191] , представшей перед ними. Вместо того чтобы принять Антонию с непринужденным видом и сказать ей несколько комплиментов, вместо того чтобы поздравить ее отца с такой обворожительной дочерью, я удивился, смутился, опешил: слова так и застряли у меня в глотке. Сипион, подметивший мое замешательство, взял слово вместо меня и высказал этой любезной девице все похвалы, которыми я должен был ее осыпать. Она же, нимало не ослепленная моей фигурой в халате и ночном колпаке, поклонилась мне без малейшего смущения и произнесла приветствие, которое окончательно меня пленило, хотя и было из самых непритязательных. Однако, пока мой секретарь, Басилио и его дочь обменивались учтивостями, я пришел в себя, и, словно желая искупить глупое молчание, которое хранил до тех пор, ударился из одной крайности в другую, то есть рассыпался в галантных выражениях и притом говорил с такой страстностью, что встревожил Басилио, который, уже видя во мне человека, собиравшегося приложить все силы, чтобы соблазнить Антонию, поспешил выйти с ней из моей комнаты, может быть, с намерением навсегда скрыть ее от моих взоров. Оставшись наедине со мною, Сипион сказал мне улыбаясь:
– Вот вам еще одно средство против скуки, сеньор Сантильяна! Я не знал, что у вашего арендатора такая пригожая дочка: я ее еще не видал, хотя уже дважды был у него. Видно, он тщательно ее прячет, и я считаю это простительным. Вот так лакомый кусочек, черт побери! Но как будто нет необходимости вам это говорить: она сразу ослепила вас, насколько я мог заметить.
– Не стану отрицать, – отвечал я. – Ах, дитя мое! Мне казалось, будто я вижу небесное существо! Она сразу зажгла во мне любовь; молния медлительнее той стрелы, которую она метнула мне в сердце.
– Вы приводите меня в восторг, – подхватил Сипион, – сообщая мне, что наконец влюбились. Вам не хватало только любовницы, чтобы наслаждаться полным счастьем в своем уединении. Но теперь у вас, благодарение небу, имеется все, что нужно! Я знаю, – продолжал он, – что нам придется несколько потрудиться, чтобы обмануть бдительность Басилио; но это – моя забота; и я берусь меньше чем в три дня устроить вам тайный разговор с Антонией.
– Сеньор Сипион, – сказал я ему, – возможно, что вы не сдержите своего слова, и я не любопытствую это проверить. Я не желаю искушать добродетель этой девушки, которая, как мне кажется, достойна более высоких чувств. Поэтому я не только не требую от вашей преданности, чтобы вы помогли мне обеспечить Антонию, но, напротив, намереваюсь жениться на ней при вашем посредничестве, лишь бы только сердце ее не было занято другим.
– Я не ожидал, – ответил он, – чтобы вы так внезапно приняли решение жениться. Не всякий ленный сеньор поступил бы на вашем месте так же честно: он стал бы питать в отношении Антонии законные намерения лишь после того, как незаконные оказались бы бесплодными. Не думайте, однако, будто я осуждаю вашу любовь и собираюсь отклонить вас от принятого намерения: дочь вашего арендатора заслуживает чести, которую вы ей хотите оказать, если может принести вам сердце, нетронутое и чувствительное к вашим благодеяниям. Об этом я узнаю сегодня же из разговора с ее отцом, а может быть, и с ней самой.
Мой наперсник был точен в исполнении данного слова. Он тайно посетил Басилио, а вечером пришел ко мне в кабинет, где я дожидался его, полный нетерпения, смешанного со страхом. Вид у него был веселый, что я счел хорошим признаком.
– Судя по твоему смеющемуся лицу, – сказал я, – ты пришел известить меня, что я скоро достигну предела своих желаний.
– Да, дорогой хозяин, – ответил он, – все нам улыбается. Я говорил с Басилио и с его дочерью; я объявил им о ваших намерениях. Отец в восхищении от того, что вы пожелали стать его зятем, и могу вас уверить, что и Антонии вы пришлись по вкусу.
– О небо! – прервал я его вне себя от радости. – Как! Неужели я так счастлив, что понравился этой любезной девице?
– Не сомневайтесь в том, – подхватил он, – она вас уже любит. Я, правда, не слышал признания из ее уст, но сужу по той радости, которую она проявила, узнав о вашем сватовстве. И, однако, – продолжал он, – у вас есть соперник.
– Соперник? – вскричал я бледнея.
– Пусть это вас не тревожит, – сказал он. – Этот соперник не похитит у вас сердца возлюбленной; это – мастер Хоакин, ваш повар.
– Ах он висельник! – сказал я, разражаясь смехом. – Оттого-то ему так и не хотелось бросать здешнюю службу.
– Вот именно, – отвечал Сипион, – на этих днях он просил руки Антонии, но она вежливо ему отказала.
– Не в обиду тебе будь сказано, – заметил я, – нам пора, мне кажется, избавиться от этого плута прежде, чем он узнает, что я собираюсь жениться на дочери Басилио: повар, как тебе известно, соперник опасный.
– Вы правы, – ответил мой наперсник, – надо очистить от него наш штат. Я уволю его завтра с утра, прежде чем он успеет взяться за дело, и вам уже нечего будет бояться ни его соусов, ни его влюбленности. Все же, – продолжал он, – мне слегка неприятно терять такого хорошего повара; но я жертвую своим чревоугодием ради вашей безопасности.
– Незачем тебе так о нем жалеть, – сказал я. – Эта утрата вряд ли непоправима: я выпишу из Валенсии повара, который ему нисколько не уступит.
И действительно, я тотчас же написал дону Альфонсо, сообщая ему, что нуждаюсь в поваре, и на следующий же день он прислал мне такого, который сразу утешил Сипиона.
Хотя этот ревностный секретарь и уверял меня, будто заметил, что Антония в глубине души радуется победе над сердцем своего сеньора, все же я не решался довериться его свидетельству; я опасался, как бы он не был введен в заблуждение обманчивой видимостью. Чтобы добиться полной уверенности, я решил сам поговорить с прелестной Антонией. Я отправился к Басилио, которому подтвердил все, что сказал ему мой посланец. Добрый сей хлебопашец, человек простой и преисполненный откровенности, заявил мне, что отдаст мне свою дочь с величайшей радостью.
– Не думайте, однако, – добавил он, – будто это ради того, что вы – сеньор нашей деревни. Если бы вы всё еще были только управителем у дона Сесара и дона Альфонсо, я все же предпочел бы вас всем прочим женихам; я всегда чувствовал к вам расположение. Огорчает меня лишь то, что Антония не может принести вам большого приданого.
– Мне никакого приданого не нужно, – сказал я. – Она сама – единственное благо, которого я жажду.
– Слуга покорный! – вскричал он. – На это я не согласен; я не голодранец, чтобы так выдавать свою дочь. Басилио из Буэнтриго, слава богу, может дать своей дочке приданое; по-моему так: ваш обед, а женин ужин. Коротко говоря, доход с замка составляет всего пятьсот дукатов; а я повышу его до тысячи по случаю этой свадьбы.
– Я соглашусь на все, что вам будет угодно, дорогой Басилио, – отвечал я, – у нас с вами не будет спора из-за денег. Итак, мы сговорились; теперь остается только заручиться согласием вашей дочери.
– Вы заручились моим, – сказал он, – этого довольно.
– Не совсем, – возразил я. – Ваше разрешение необходимо, но и ее согласие – тоже.
– Ее согласие зависит от моего, – подхватил он. – Хотел бы я посмотреть, как она осмелится пикнуть при мне!
– Антония, – возразил я, – покорная родительской воле, без сомнения, готова слепо вам повиноваться; но я не знаю, сделает ли она это в данном случае без отвращения. Если она испытывает его хоть в малейшей доле, я никогда не прощу себе, что стал виновником ее несчастья. Словом, недостаточно того, что я от вас получу ее руку; нужно еще, чтобы она это одобрила.
– Ого! – сказал Басилио. – Я ничего не смыслю во всей этой философии; поговорите-ка сами с Антонией, и я сильно ошибаюсь, если она не спит и видит, как бы ей стать вашей женой.
С этими словами он кликнул дочь и на некоторое время оставил нас вдвоем.
Чтобы использовать столь драгоценные минуты, я прямо приступил к делу.
– Прелестная Антония, – сказал я, – решите мою судьбу. Хотя я и добился согласия вашего отца, однако не думайте, что я воспользуюсь им, чтобы насиловать ваши чувства. Сколь ни привлекательно обладание вами, я откажусь от него, если вы мне скажете, что я буду обязан им исключительно вашему послушанию.
– Вот уж чего я вам не скажу! – отвечала она, слегка покраснев. – Ваше предложение мне крайне приятно и не может меня огорчить. Я приветствую выбор, сделаный батюшкой, а не ропщу на него. Не знаю, – продолжала она, – хорошо или дурно я поступаю, говоря с вами таким образом, но, если бы вы мне не нравились, я нашла бы в себе довольно откровенности, чтобы вам это высказать. Так почему же мне не сказать вам обратного столь же свободно?
При сих словах, которые я не мог слышать без восхищения, я опустился на одно колено перед Антонией и, схватив в избытке восторга ее прекрасную руку, нежно и страстно поцеловал ее.
– Милая Антония, – сказал я ей, – ваша откровенность меня очаровала; продолжайте без всякого стеснения: вы говорите со своим супругом; пусть же душа ваша целиком откроется его взорам. Итак, я могу льстить себя тем, что вы не без удовольствия свяжете свою судьбу с моею.
Вошедший в эту минуту Басилио помешал мне продолжать. Горя нетерпением узнать ответ дочери и готовясь разбранить ее, если она примет меня неласково, он поспешил ко мне на помощь.
– Ну что? – спросил он. – Довольны ли вы Антонией?
– Так доволен, – отвечал я, – что сейчас же собираюсь заняться приготовлениями к нашей свадьбе.
При сих словах я покинул отца и дочь, чтобы посоветоваться по этому делу со своим секретарем.
Глава IX Свадьба Жиль Бласа и прелестной Антонии; каким образом была она отпразднована, какие особы на ней присутствовали и какие веселости за ней воспоследовали
Хотя я для женитьбы и не нуждался в разрешении господ де Лейва, однако мы с Сипионом порешили, что по всем правилам приличия мне надлежит известить их о своем намерении жениться на дочке Басилио и даже из вежливости испросить их согласия.
Итак, я немедленно отправился в Валенсию, где все столько же удивились моему появлению, сколько и причине его вызвавшей. Дон Сесар и дон Альфонсо, знавшие и не раз видевшие Антонию, поздравили меня с выбором такой жены. С особенным воодушевлением желал мне счастья дон Сесар, и, если бы я не считал его сеньором, давно отошедшим от известного рода развлечений, я мог бы заподозрить, что его неоднократные поездки в Лириас относились не столько к замку, сколько к арендаторской дочке. Серафина, со своей стороны, заверив меня в своем неизменном интересе ко всему меня касающемуся, заметила, что и до нее дошли весьма благоприятные отзывы об Антонии.
– Но, – добавила она не без лукавства и как бы желая упрекнуть меня в холодности, которою я ответил в свое время на любовь Сефоры, – если бы даже не расхвалили мне красоту вашей невесты, я все равно положилась бы на ваш вкус, тонкость коего мне хорошо известна.
Дон Сесар и его сын не ограничились одним одобрением моего выбора, но сами вызвались нести все расходы по свадьбе.
– Возвращайтесь в Лириас, – сказали они мне, – и сидите смирно, пока не получите от нас вестей; всю эту заботу мы берем на себя.
Следуя их желанию, я вернулся в свой замок. Там я сообщил Басилио и его дочери о намерениях наших добрых покровителей, и мы стали дожидаться вестей из Валенсии со всей терпеливостью, на какую были способны.
Восемь дней от них не было ни слуху ни духу. Зато на девятый мы увидели карету, запряженную четырьмя мулами. В ней сидели портные с дорогими шелковыми тканями для платья новобрачной, а сопровождало ее несколько ливрейных лакеев верхом на прекрасных конях. Один из этих слуг вручил мне письмо от дона Альфонсо. Сеньор этот извещал меня, что наутро прибудет в Лириас вместе с родителями и супругой и что церемония состоится на следующий же день, а венчать нас будет старший викарий Валенсии. И в самом деле дон Сесар с сыном и Серафиною не преминули прибыть в мой замок в шестиконной карете вместе с вышеозначенной духовной особою; впереди ехали четверкой дамы из свиты Серафины, а позади – губернаторский конвой.
Не успела губернаторша прибыть в замок, как выразила желание возможно скорее взглянуть на Антонию, которая, со своей стороны, едва узнав о приезде Серафины, тотчас же прибежала, чтобы приветствовать ее и поцеловать ей руку; все это она проделала с такою приятностью, что вызвала всеобщее восхищение.
– Ну что, сударыня, – сказал дон Сесар, обращаясь к своей невестке, – как нравится вам Антония? Мог ли Сантильяна сделать лучший выбор?
– Нет, – отвечала Серафина, – они достойны друг друга; не сомневаюсь, что союз их будет счастлив.
Словом, все рассыпались в похвалах моей невесте. И если она заслужила одобрение в простеньком саржевом платье, то привела всех в восторг, когда появилась в более пышном наряде. Так благородна была ее внешность, так непринужденны манеры, что казалось, будто она никогда ничего другого не носила.
Когда наступил момент, который должен был навеки соединить ее судьбу с моей, дон Альфонсо взял меня за руку и повел к алтарю, а Серафина оказала ту же честь невесте. В таком сопровождении направились мы к деревенской часовне, где уже поджидал нас главный викарий для совершения обряда. Церемония закончилась при громких кликах лириасского населения и зажиточных земледельцев со всей округи, которых Басилио пригласил на свадьбу Антонии. Они привели с собой дочерей, разукрасившихся цветами и лентами и державших в руках бубны. Затем мы вернулись в замок, где Сипион, главный распорядитель пиршества, уже позаботился накрыть три стола: один для сеньоров, другой для их свиты, а третий, самый большой, для всех приглашенных. За первым, по желанию губернаторши, уселась Антония, за вторым угощал я, а Басилио поместился вместе с поселянами. Что же касается Сипиона, то он не присаживался вовсе: он только ходил от стола к столу, наблюдая за тем, чтобы все было вовремя подано и чтобы все были довольны.
Кушанье было приготовлено губернаторскими поварами, и, стало быть, всего оказалось вдоволь. Добрые вина, заготовленные для меня почтенным Хоакином, лились рекой. Понемногу гости разгорячились; повсюду царило веселье, которое неожиданно было нарушено происшествием, сильно меня испугавшим. Мой секретарь, находившийся в зале, где я пировал вместе с приближенными дона Альфонсо и свитою Серафины, вдруг, потеряв сознание, упал в обморок. Я встал и поспешил ему на помощь; но, пока я старался вернуть его к жизни, одна из присутствовавших женщин тоже лишилась чувств. Все общество решило, что за этим двойным обмороком кроется какая-то тайна, каковая действительно существовала и не замедлила обнаружиться. Ибо Сипион, вскоре пришедший в себя, прошептал мне на ухо:
– И надо же было так случиться, что счастливейший для вас день стал для меня несчастнейшим! Своей недоли, видно, не избежишь: я только что узнал свою жену в одной из наперсниц Серафины.
– Что я слышу? – воскликнул я. – Это невозможно! Как? Ты – супруг той дамы, что одновременно с тобою упала в обморок?
– Да, сеньор, – отвечал он, – я ее муж, и смею вас уверить, что судьба, явившая ее моим глазам, не могла сыграть со мной более злобной шутки.
– Я не знаю, друг мой, – возразил я, – какие у тебя причины жаловаться на свою супругу. Но какие бы поводы для неудовольствия она тебе ни дала, умоляю тебя, сдержи свой гнев. Если я тебе дорог, то не нарушай этого празднества взрывом негодования.
– Вы будете мною довольны, – отвечал Сипион, – и увидите, как я умею скрывать свои чувства.
С этими словами он подошел к своей жене, которую товарки тем временем уже привели в чувство, и воскликнул, обнимая ее с такой горячностью, точно в самом деле был в восторге от встречи.
– О, дорогая Беатрис! Наконец-то небо соединило нас вновь после десятилетней разлуки! О, сладостное мгновение!
– Не знаю, – отвечала ему супруга, – действительно ли встреча со мной вас сколько-нибудь радует. Но, по крайности, я уверена, что не подала вам никакого разумного повода меня покинуть. Как! Вы застаете меня ночью с сеньором Фернандо де Лейва, влюбленным в мою госпожу Хулию, которой я помогала в этом деле; вы воображаете, будто я благосклонна к нему в ущерб своей и вашей чести; затем ревность лишает вас рассудка; вы покидаете Толедо и бежите от меня, как от чудовища, не удостоив даже попросить никаких разъяснений! Кто из двоих, спрошу я вас, имеет больше поводов жаловаться?
– Разумеется вы, – ответил Сипион.
– Конечно я, – продолжала она. – Немного спустя после вашего отъезда из Толедо дон Фернандо женился на Хулии, при которой я оставалась до самой ее смерти; а с тех пор, как преждевременная кончина похитила мою госпожу, я состою на службе у ее милостивейшей сестры, которая вместе со всеми дамами своей свиты может вам поручиться за скромность моего поведения.
При этих словах, которых он не мог опровергнуть, мой секретарь добровольно сдался и сказал своей жене:
– Еще раз признаю свою вину и прошу у вас прощения в присутствии этого почтенного общества.
Тут я, вступившись за него, попросил Беатрис забыть прошлое и уверил ее, что муж впредь будет думать лишь о том, как бы ей угодить. Она сдалась на мои просьбы, и вся компания радостно приветствовала примирение супругов. Чтобы лучше отпраздновать это примирение, их посадили рядом и пили за их здоровье. Все их чествовали, и можно было подумать, что это пиршество было затеяно не столько ради моей свадьбы, сколько ради их воссоединения.
Прежде других опустел третий стол. Молодые парни, предпочтя любовь чревоугодию, покинули его, чтобы пуститься в пляс с юными поселянками, которые звоном своих бубнов вскоре привлекли гостей с других столов и заразили всех желанием последовать их примеру. И вот все пришло в движение. Приближенные губернатора принялись танцевать с прислужницами губернаторши. Даже вельможи очутились среди танцующих: дон Альфонсо прошелся в сарабанде с Серафиной, а дон Сесар с Антонией, которая затем пригласила меня и вышла из этого испытания с честью, если принять во внимание, что она обучалась лишь началам танцевального искусства в Альбарасине у одной своей родственницы, тамошней горожанки.
Я же, получивший, как уже сказано, хореографическое образование в доме маркизы Чавес, показался обществу превеликим танцором. Что касается Беатрис и Сипиона, то они предпочли танцам уединенную беседу, чтобы дать друг другу отчет во всем пережитом ими за время разлуки; но разговор их был прерван Серафиной, которая, только что узнав об этом примирении, велела их позвать, чтобы выразить им свою радость.
– Дети мои, – сказала она, – в этот веселый день я испытываю двойное удовлетворение, видя, что вы возвращены друг другу. Приятель Сипион, – добавила она, – вручаю вам вашу жену с уверением, что поступки ее всегда были безупречны. Живите с нею здесь в добром согласии. А вы, Беатрис, поступите в распоряжение Антонии и будьте ей так же преданы, как ваш муж – сеньору де Сантильяна.
Сипион, который после таких слов мог взирать на жену свою не иначе как на вторую Пенелопу, обещал, что будет оказывать ей все вообразимые знаки внимания.
Поселяне и поселянки, протанцевав целый день, разошлись по домам, но в замке празднество продолжалось. Был подан великолепный ужин, а когда пришло время отойти ко сну, главный викарий благословил брачное ложе, Серафина раздела новобрачную, а сеньоры де Лейва оказали ту же честь мне. Забавнее всего было то, что приближенные губернатора и прислужницы губернаторши придумали для смеха совершить такую же церемонию: они принялись раздевать Беатрис и Сипиона, которые, чтобы придать всей сцене больше комизма, с самой серьезною миною позволили себя разоблачить и уложить в постель.
Глава X Продолжение брачной жизни Жиль Бласа с прелестной Антонией. Начало истории Сипиона
На следующий же день после моего бракосочетания господа де Лейва возвратились в Валенсию, предварительно оказав мне еще множество знаков своего расположения. Таким образом, мой секретарь и я остались в замке одни со своими женами и слугами.
Наши старания понравиться дамам не оказались бесплодными: в краткий срок я сумел внушить своей супруге такую же любовь, какую сам к ней питал, а Сипион заставил свою позабыть о тех огорчениях, которые ей причинил. Беатрис, обладавшая нравом покладистым и общительным, без труда вошла в милость к своей новой госпоже и завоевала ее доверие. Словом, мы прекрасно ужились вчетвером и стали наслаждаться завидной судьбой. Все дни протекали у нас в наиприятнейших увеселениях. Антония отличалась чрезвычайно серьезным характером, а Беатрис и я – очень веселым; но и без того, одного присутствия Сипиона было бы достаточно, чтобы не дать появиться меланхолии. Это был человек совершенно незаменимый в обществе, один из тех комиков, которым стоит только появиться, чтоб сейчас же развеселить всю публику.
Однажды, когда нам после обеда вздумалось предаться отдохновению на упоительной лесной лужайке, мой секретарь пришел в такое хорошее настроение, что разогнал всю нашу сонливость своими забавными речами.
– Замолчи, друг мой, – сказал я ему, – невозможно вздремнуть, пока ты тараторишь. А впрочем, раз уж ты помешал нам погрузиться в сон, то, по крайности, расскажи что-нибудь достойное нашего внимания.
– С превеликой охотой, сеньор, – отвечал он. – Хотите, я расскажу вам историю короля Пелайо?
– Мне приятнее было бы прослушать твою собственную, – возразил я ему. – Но за все то время, что мы живем вместе, ты не удостоил меня этого удовольствия, и, видимо, я уже никогда его не дождусь.
– С чего вы это взяли? – сказал он. – Если я не рассказал вам своей истории, так только потому, что вы ни разу не выразили мне ни малейшего желания ее услышать. Не моя, стало быть, вина, если вы не знаете моих приключений. И если вам сколько-нибудь любопытно с ними ознакомиться, я готов немедленно удовлетворить вашу любознательность.
Все мы – Антония, Беатрис и я – поймали Сипиона на слове и приготовились слушать его рассказ, который мог иметь для нас только хорошие последствия, то есть либо развлечь нас, либо погрузить в сон.
– Я, конечно, был бы, – так начал Сипион, – сыном гранда первого класса [192] или, по меньшей мере, кавалера орденов св. Иакова или Алькантары, если бы это зависело от меня; но поскольку отцов не выбирают, я должен сообщить вам, что мой родитель, по имени Торрибио Сипион, был честным стражником Священного братства. Разъезжая взад и вперед по большим дорогам, к чему постоянно вынуждала его профессия, он однажды между Куэнсой и Толедо случайно повстречал молодую цыганку, которая показалась ему весьма пригожей. Она была одна, шла пешком и все свое имущество несла за плечами в какой-то котомке.
– Куда это вы идете, милочка? – сказал он ей, стараясь смягчить свой обычно весьма суровый голос.
– Сеньор кавалер, – отвечала она, – я иду в Толедо и надеюсь там так или иначе зарабатывать на жизнь честным трудом.
– Похвальное намерение, – заметил он, – и я не сомневаюсь в том, что у вас не одна пуля в патронташе.
– Да, – ответила она, – у меня, слава богу, есть несколько талантов: я изготовляю помады и притирания, весьма полезные для дамского сословия, гадаю на картах, верчу решето для отыскания потерянных вещей и показываю все, что кому угодно, в зеркале или стакане воды.
Торрибио рассудил, что такая женщина является весьма выгодной партией для человека, лишь с трудом живущего от своей профессии, хотя и хорошо исполняющего все связанные с оной обязанности, и предложил ей выйти за него замуж. Цыганка отнюдь не пренебрегла предложением служителя Священной Эрмандады. Напротив, она приняла его с удовольствием. Сговорившись, они поспешили в Толедо, где и поженились, и вы видите во мне достойный плод этого супружества. Поселились они в предместье, где мать моя сперва завела торговлю помадою и притираниями; но, найдя, что это занятие недостаточно прибыльно, она сделалась гадалкой. Тут-то полились дождем эскудо и пистоли; множество простофиль обоего пола вскоре распространили славу Косколины (таково было имя цыганки). Ежедневно приходил к ней кто-нибудь с просьбой применить свое искусство в его пользу: то бедный племянник осведомлялся, когда его дядюшка, коего был он единственным наследником, отойдет в лучший мир; то девица желала узнать, выполнит ли кавалер, ухаживания коего она благосклонно принимала, свое обещание жениться.
Должен вам сказать, что пророчества моей матери были всегда благоприятны для тех, кому она их возвещала. Если они исполнялись – тем лучше; если же к ней являлись с упреками, что произошло нечто совершенно обратное ее предсказанию, то она невозмутимо сваливала всю вину на злого духа, который-де вопреки силе заклинаний, пускаемых ею в ход, чтобы принудить его к обнаружению грядущих судеб, все же иногда коварно ее обманывает.
Когда же, для спасения чести своего ремесла, мать моя почитала нужным вызвать дьявола во время заклинаний, то роль эту исполнял Торрибио Сипион и великолепно справлялся с оною, ибо резкий его голос и безобразная внешность вполне соответствовали изображаемому персонажу. Человек мало-мальски суеверный приходил в ужас от физиономии моего родителя. Но однажды, на его беду, явился какой-то грубый капитан, который пожелал увидеть черта и тут же пронзил его шпагою. Святая инквизиция, проведав о смерти дьявола, послала в дом Косколины своих служителей, которые захватили ее со всем имуществом. Меня же, тогда еще семилетнего мальчика, поместили в убежище де-лос-Ниньос [193] . В этом заведении были жалостливые священники, которые, получая хорошую плату за воспитание бедных сирот, брали на себя труд обучения их грамоте. Я показался им многообещающим ребенком, благодаря чему они, в знак отличия перед другими, избрали меня для выполнения всяких своих поручений. Они посылали меня в город с письмами. Я бегал туда и сюда по их надобностям и помогал им при требах. Из благодарности они вознамерились обучить меня латыни, но, несмотря на оказанные мною мелкие услуги, взялись за это с такою строгостью, что я не вытерпел и в один прекрасный день улизнул, исполняя какое-то поручение. Я не только не вернулся в приют, но даже покинул Толедо и, миновав предместье, пошел по направлению к Севилье.
Хотя мне тогда едва стукнуло девять лет, я уже был рад очутиться на свободе и сознавать себя полным хозяином собственных действий. Не было ни денег, ни хлеба. Но это не беда: зато не надо было ни учить уроков, ни писать сочинений. После того как я прошагал часа два, маленькие мои ноги отказались служить: я ведь еще ни разу не совершал столь длительного путешествия. Пришлось остановиться для отдыха. Я присел под деревом у самого края дороги. Тут я для потехи извлек из кармана латинский учебник и стал шутя просматривать его. Но затем, вспомнив все линьки и розги, которые достались мне из-за этого учебника, я принялся вырывать из него страницы, приговаривая в сердцах:
– Ах ты, свинячья книжонка, довольно мне проливать слезы по твоей милости!
Покуда я услаждал свою месть, усеивая всю землю вокруг себя склонениями и спряжениями, мимо меня проходил седобородый отшельник, чрезвычайно почтенной наружности и с большими очками на носу. Он приблизился ко мне и стал внимательно меня рассматривать, а я ответил ему тем же.
– Слушай, малыш, – сказал он мне с улыбкой, – мне кажется, что мы весьма нежно смотрим друг на друга и что недурно бы нам поселиться вместе в моей келье, расположенной в двухстах шагах отсюда.
– Слуга покорный, – отвечал я ему довольно резко, – не чувствую никакого желания стать отшельником.
При этих словах добрый старик расхохотался и сказал, обнимая меня:
– Пусть это одеяние, сын мой, тебя не пугает. Оно хоть и неприятно, да зато полезно, так как делает меня обладателем прелестнейшего эрмитажа и господином над окрестными деревнями, жители коих меня любят или, вернее, боготворят. Идем со мной, я дам тебе платье, подобное моему. Если тебе понравится, то ты разделишь со мною все прелести моего существования; а если не понравится, то тебе не только будет позволено меня покинуть, но ты даже можешь рассчитывать на то, что при расставании я не премину сделать тебе добро.
Я дал себя уговорить и последовал за старым отшельником. Он задавал мне различные вопросы, а я отвечал на них с наивностью, которую далеко не всегда проявлял в последующей своей жизни. По прибытии в келью он попотчевал меня плодами, которые я жадно проглотил, так как за целый день не съел ничего, кроме куска сухого хлеба, составлявшего мой утренний завтрак в приюте. Видя, как лихо я играю челюстями, анахорет сказал мне:
– Смелей, дитя мое, не жалей этих фруктов: у меня, благодарение господу, немалый запас такого добра. Я не затем привел тебя сюда, чтобы уморить голодом.
Это была сущая правда, ибо через час после нашего прихода он развел огонь, насадил на вертел баранью ногу и, покуда я ее поворачивал, накрыл небольшой столик, застлав его грязноватой скатертью и поставив два прибора – для себя и для меня.
Когда мясо зарумянилось, он снял его с вертела и отрезал несколько кусков нам на ужин, каковой мы съели отнюдь не всухомятку, а запили отменным винцом, тоже припасенным в достаточном количестве.
– Ну что, цыпленочек, – сказал он, когда мы встали из-за стола, – доволен ты моей трапезой? Так я буду угощать тебя каждый день, если ты останешься у меня. Вообще же ты в этом уединении будешь делать все, что тебе угодно. Я требую только, чтобы ты сопровождал меня всякий раз, как я пойду собирать милостыню по соседним деревням; ты поможешь мне вести ишачка, нагруженного двумя корзинами, которые сердобольные поселяне обычно наполняют яйцами, хлебом, мясом и рыбою. Нельзя назвать это непомерными требованиями, не правда ли?
– Я буду делать все, что вам угодно, – отвечал я, – лишь бы вы не принуждали меня зубрить латынь.
Брат Хризостом (таково было имя старца-отшельника) не мог удержаться от смеха при виде такой наивности и вторично заверил меня, что не собирается препятствовать моим склонностям.
На следующий же день мы отправились за подаянием в сопровождении ослика, которого я вел на поводу. Мы собрали обильную жатву, ибо каждый крестьянин почитал за особое удовольствие положить что-нибудь в наши корзины. Один бросал туда целый каравай, другой – увесистый кусок сала, третий – фаршированного гуся, четвертый – куропатку. Короче говоря, принесли мы домой провизии больше чем на неделю, что свидетельствовало о неотменном уважении и любви, которую поселяне питали к братцу-пустыннику. Правда, и он приносил им немалую пользу: помогал советом, когда они к нему обращались, возвращал мир семьям, где царил раздор, и выдавал замуж крестьянских дочерей, тяготившихся безбрачием; узнав, что двое богатых крестьян поругались между собой, он приходил их мирить; кроме того, он держал у себя лекарства против тысячи всяких болезней и обучал особым молитвам женщин, желавших иметь детей.
Из всего мною сказанного вы можете усмотреть, как хорошо я питался в своей пустыни. Но и спал я ничуть не хуже: растянувшись на отличной свежей соломе, подложив под голову сермяжную подушку и натягивая на себя одеяло из той же материи, я всю ночь напролет не размыкал глаз. Брат Хризостом, пожаловавший меня отшельнической ряскою, смастерил оную из старой своей одежи и называл меня братцем Сипионом. Не успел я появиться в деревне в этом форменном платье, как все нашли меня таким милашкой, что ослика нагрузили больше обыкновенного. Всякий старался перещеголять другого, подавая милостыню маленькому братцу, – так приятно было глядеть на его фигурку.
Жизнь, привольная и бездельная, которую вел я у старого пустынника, не могла не прийтись по нраву мальчишке моих лет. И в самом деле, я так вошел во вкус, что никогда не расстался бы с подобным житьем, если бы Парки не напряли мне участи, весьма от сего отличной. Рок, коему должен был я последовать, вскоре оторвал меня от изнеженной жизни и вынудил расстаться с братом Хризостомом в силу одного обстоятельства, о коем я вам сейчас расскажу.
Я часто наблюдал, как старец возился с подушкою, служившей ему изголовьем. Он то и дело распарывал и зашивал ее; однажды я заметил, что он сунул туда деньги. За этим наблюдением последовал приступ любопытства, которое я постановил удовлетворить при ближайшей же поездке старца в Толедо, куда он обычно отправлялся каждую неделю. Я с нетерпением ожидал этого дня, впрочем еще не питая никакого дурного намерения, кроме удовлетворения своего любопытства. Наконец старичок отбыл, а я распорол подушку и нашел среди шерсти, которой она была набита, различные монеты на сумму в пятьдесят с лишним эскудо.
Это сокровище, по-видимому, было плодом благодарности простолюдинов, которых пустынник излечил своими снадобьями, и поселянок, народивших детей по его молитвам.
Как бы то ни было, не успел я убедиться в том, что могу безнаказанно забрать эти деньги, как во мне пробудилась цыганская натура. Мною овладело желание их похитить, которое может быть объяснено только голосом крови, струившейся в моих жилах. Я, не противоборствуя, поддался искушению и спрятал деньги в сермяжный мешок, куда мы клали гребни и ночные колпаки; затем, сбросив отшельническое платье и вновь облачившись в сиротское, я удалился из пустыни, в полном убеждении, что уношу с собою богатства обеих Индий.
Вы только что услышали о моем первом опыте и, без сомнения, ожидаете, что за ним последует целый ряд подвигов в том же духе. Я не обману ваших ожиданий; мне предстоит еще рассказать вам немало таких же проделок, прежде чем я дойду до своих похвальных поступков, но все же я до них дойду, и вы из моего повествования убедитесь, что и мазурик может сделаться честным человеком.
Несмотря на свой детский возраст, я все же не был таким дураком, чтобы вернуться на толедскую дорогу: ведь я рисковал встретиться с братом Хризостомом, который пренеприятным манером заставил бы меня вернуть украденный куш. Поэтому я избрал другой путь, приведший меня в деревню Гальвес, где я остановился у харчевни, хозяйка коей, вдовица лет сорока, обладала всеми необходимыми качествами, чтобы не осрамить своей вывески. Не успела эта женщина окинуть меня взглядом, как тотчас по платью узнала во мне беглеца из сиротского дома и спросила, кто я и куда направляюсь. Я отвечал, что, потеряв отца и мать, ищу работу.
– Дитя мое, – спросила она, – умеешь ли ты читать?
Я отвечал, что умею и даже превосходно пишу. На самом деле я выводил и нанизывал свои каракули так, что получалось некое сходство с письмом; но этого было достаточно для нужд деревенской харчевни.
– Значит, я принимаю тебя на службу, – заключила хозяйка, – ты можешь мне пригодиться, если будешь вести долговую книгу, дебет и кредит. Жалованья я тебе не положу, потому что эта харчевня посещается порядочными людьми, которые и слуг не обходят своими милостями: тебе перепадет немало мелких доходов.
Я принял ее предложения, решив в уме, как вы сами понимаете, переменить климат, когда пребывание в деревне Гальвес перестанет доставлять мне удовольствие. Как только я устроился на службу в эту харчевню, душой моей овладело великое беспокойство, и чем больше я об этом думал, тем оно казалось мне обоснованнее. Мне не хотелось, чтобы узнали о моих деньгах, и я бился над приискиванием укромного уголка, где бы ни одна чужая рука за ними не протянулась. Я еще не достаточно ознакомился с расположением дома, чтобы сразу довериться тем местам, которые казались мне наиболее удобными для утайки краденого. О, сколько забот причиняет богатство! Наконец я все же решился спрятать свой мешок в углу нашего чердака, где была навалена солома, и, по возможности, успокоился, считая, что там он будет в большей безопасности, чем где бы то ни было.
Нас в доме было трое слуг: здоровенный конюх, молодая служанка из Галисии и я. Каждый из нас выуживал у гостей – как пеших, так и конных – все, что было возможно. Мне всегда перепадало от этих господ несколько мелких монет, когда я приносил им счет. Кое-что давали они и конюху, заботившемуся об их лошадях и мулах. Что же касается галисианки, то она была кумиром всех проходящих по дороге погонщиков и зарабатывала больше червонцев, чем мы медяков. Не успевал я получить грош, как тотчас же тащил его на чердак, чтобы увеличить свое сокровище, и по мере роста своего богатства я чувствовал, как юное мое сердечко привязывается к нему все больше и больше. Порой я целовал свои монетки; я созерцал их с восторгом, понятным одним только скрягам.
Любовь, которую я питал к своему кладу, побуждала меня навещать его раз тридцать в день. Часто я встречался на лестнице с хозяйкой, которая, будучи от природы весьма подозрительной, однажды полюбопытствовала узнать, что поминутно влечет меня на чердак. Она поднялась туда и начала рыскать по всем углам в предположении, что я, может быть, прячу в этой мансарде предметы, похищенные у нее в доме. Она не преминула перерыть солому, покрывавшую мой клад, и вскоре его обнаружила. Развязав мешок и увидев, что он полон эскудо и пистолей, она подумала или притворилась, что думает, будто я украл у нее эти деньги.
Она конфисковала их без дальнейших околичностей; затем, назвав меня маленьким негодяем, она велела конюху, во всем ей преданному, отсчитать мне с пятьдесят горячих. А после того как меня по ее приказу так здорово отстегали, она выставила меня вон, приговаривая, что не потерпит жулика в своем доме. Сколько я ни уверял, что не думал обкрадывать хозяйку, она утверждала противное, и ее словам придали больше веры, чем моим. Таким образом, денежки брата Хризостома перекочевали из рук вора в руки воровки.
Я оплакивал пропажу своих денег, как иной оплакивает гибель единственного сына; и если слезы не вернули мне утерянного, то все же вызвали сочувствие у некоторых свидетелей моего горя и в том числе у гельвского священника, который случайно проходил мимо. Он, казалось, был растроган печальным состоянием, в котором я находился, и увел меня с собою в церковный дом. Там, чтобы завоевать мое доверие или, вернее, выведать у меня всю подноготную, он сперва принялся меня жалеть.
– Сколь сей бедный ребенок достоин сострадания! – произнес он. – Нужно ли удивляться, если, предоставленный самому себе в таком нежном возрасте, он совершил дурной поступок? И взрослые в круговороте жизни лишь с трудом этого избегают.
Затем, обращаясь ко мне, он продолжал:
– Сын мой, из какой части Испании ты родом? Кто твои родители? Ты похож на мальчика из хорошей семьи. Говори со мною откровенно и смело рассчитывай, что я тебя не покину.
Этими политичными и сострадательными речами священник мало-помалу довел меня до того, что я с превеликой наивностью осведомил его обо всех своих делах. Я сознался во всем, после чего он заявил мне:
– Хотя, друг мой, отшельникам и не подобает накоплять богатства, ты тем не менее нарушил заповедь, запрещающую покражу. Но я берусь заставить хозяйку выдать деньги и доставлю их брату Хризостому в его келью: отныне твоя совесть может быть спокойна на этот счет.
Это, могу вам поклясться, меньше всего меня тревожило. Священник же, у которого был свой план, этим не ограничился.
– Дитя мое, – продолжал он, – я хочу позаботиться о твоей судьбе и доставить тебе хорошую кондицию. Завтра я отправлю тебя с погонщиком к своему племяннику, канонику толедского собора. По моей просьбе он не откажется принять тебя в число своих лакеев, которые все до единого живут сытно, словно бенефициарии [194] от поступлений с пребенды. Могу тебя уверить, что и тебе там будет превосходно.
Эти заверения так меня утешили, что я позабыл о своем мешке и о полученных плетях: я думал лишь о том, что скоро заживу, как бенефициарии. На другой день, покуда меня кормили завтраком, к церковному дому по распоряжению священника явился погонщик с двумя оседланными и взнузданными мулами. Мне помогли влезть на одного из них, погонщик вскочил на другого, и мы двинулись по дороге в Толедо. Мой спутник оказался человеком веселого нрава, который не прочь был потешиться на счет ближнего.
– Видно, барчук, – сказал он мне, – гельвский священник большой ваш благоприятель. Лучше он не мог доказать вам свою любовь, как поместивши вас у своего племянничка, каноника, которого я имею честь знать и который, безусловно, является украшением своего капитула. Он не принадлежит к сонму тех святош, чьи бледные и изможденные лица говорят об умерщвлении плоти: у него лицо полное, румяное, веселое, это – жуир, не отказывающий себе ни в одном доступном удовольствии, но больше всего любящий хороший стол. Вы заживете у него в доме, как у Христа за пазухой.
Прохвост-погонщик, заметив, что я слушаю его с большим удовлетворением, продолжал выхвалять блаженное житье, ожидающее меня на службе у каноника. Он не переставал говорить об этом, покуда мы не прибыли в деревню Обису, где остановились, чтобы дать отдых мулам. Тут, на свое величайшее счастье, я узнал, что меня обманывают, и вот каким образом мне удалось это обнаружить. Погонщик, расхаживая взад и вперед по харчевне, случайно выронил из кармана записку, каковую я сумел незаметно для него подобрать и умудрился прочесть, пока он находился в конюшне. То было письмо, адресованное священникам сиротского дома и составленное в нижеследующих выражениях:
«Господа! Мне думается, что милосердие обязывает меня отдать вам в руки воришку, убежавшего из вашего приюта. Он показался мне не вовсе лишенным смекалки и заслуживающим, чтобы вы, по доброте своей, держали его у себя взаперти. Не сомневаюсь, что путем исправительных наказаний вы превратите его в благоразумного парня. Да сохранит господь ваши благочестивые и милосердные преподобия! Настоятель гельвского прихода».
Не успел я прочитать письмо, известившее меня о добрых намерениях господина настоятеля, как у меня исчезли всякие колебания по поводу решения, которое мне надлежало принять: выйти из харчевни и пробежать больше мили до берега Тахо оказалось делом одного мгновения. Страх отрастил мне крылья и помог спастись от священников сиротского дома, в который я ни за что не хотел возвращаться, так опротивел мне их метод преподавания латыни. Я весело вступил в Толедо, точно доподлинно знал, куда мне обращаться за пищей и питьем. Правда, Толедо – благословенный город, в котором умный человек, вынужденный жить на чужой счет, никогда не умрет с голоду. Но я был еще слишком молод, а потому не мог надеяться, что мне удастся найти там средства к существованию. Тем не менее судьба оказалась на моей стороне. Едва я вышел на городскую площадь, как хорошо одетый кавалер, мимо которого я проходил, удержал меня за руку и проговорил:
– Эй, мальчишка, хочешь у меня служить? Мне как раз подошел бы такой лакей, как ты.
– А мне – такой барин, как вы.
– Ну, раз так, – возразил он, – ты отныне принадлежишь мне, и тебе остается только следовать за мной, – что я и исполнил без возражения.
Кавалер этот, по имени дон Абель, которому на вид можно было дать лет тридцать, жил в меблированных комнатах, где занимал довольно пристойные покои. Он был профессиональным игроком, и вот какою жизнью зажил я у него. С утра я толок ему табак на пять или шесть трубок, чистил его платье и затем шел за цирюльником, который брил ему бороду и подвивал усы. После этого он отправлялся шататься по притонам и возвращался на квартиру не раньше одиннадцати-двенадцати часов ночи. Но каждое утро, выходя из дому, он вынимал из кармана три реала, которые вручал мне на расходы, с разрешением делать что угодно до десяти часов вечера. Он был мною совершенно доволен, лишь бы только я находился на месте к моменту его возвращения. Он заказал мне ливрейный камзол и штаны, в каковом наряде я больше всего походил на рассыльного какой-нибудь куртизанки. Я хорошо освоился со своей должностью, и, разумеется, невозможно было сыскать другую, которая больше подходила бы к моему характеру.
С месяц уже вел я такую счастливую жизнь, как вдруг мой патрон спросил меня, доволен ли я им, и, услыхав в ответ, что нельзя быть довольнее, сказал:
– Итак, мы с тобой завтра уезжаем в Севилью, куда меня призывают дела. Тебе не мешает посмотреть на столицу Андалузии. «Кто не видал Севильи, тот ничего не видал», – гласит пословица.
Я уверил его, что готов следовать за ним повсюду. В тот же день севильская почтовая карета подкатила к меблированным комнатам и увезла большой сундук, содержавший все пожитки моего барина, а на следующее утро мы сами отбыли в Андалузию.
Сеньор Абель был так счастлив в игре, что проигрывал лишь тогда, когда ему было угодно, а это во избежание гнева простофиль принуждало его к частой перемене мест и послужило также и на сей раз причиной нашего путешествия. По приезде в Севилью мы стали на квартиру неподалеку от Кардовских ворот и возобновили свое толедское житье-бытье. Но хозяин мой быстро ощутил некоторую разницу между этими двумя городами. В севильских притонах он повстречал игроков, столь же удачливых, как и он, в силу чего зачастую возвращался оттуда в весьма печальном настроении. Однажды утром, когда он был еще не в духе из-за проигранной накануне сотни пистолей, он спросил меня, почему я не отнес его белья к некоей особе, взявшей на себя заботы о том, чтобы оно было выстирано и надушено. Я отвечал, что запамятовал, после чего он, рассвирепев, закатил мне полдюжины таких увесистых пощечин, что у меня перед глазами замелькало больше огней, чем было светильников в Соломоновом храме.
– Это научит тебя, постреленок, относиться внимательнее к своим обязанностям, – сказал он. – Неужели же мне ходить за тобой по пятам и напоминать обо всем, что ты должен сделать? Почему ты менее ловок в работе, чем в еде? Ведь ты же не дурак. Так неужели ты не можешь предупреждать мои приказания и знать, что мне нужно?
С этими словами он ушел со двора, оставив меня сильно разобиженным пощечинами, доставшимися мне за столь ничтожную провинность, и готовым отомстить ему, если представится удобный случай.
Не знаю, что за приключение он испытал немного спустя в каком-то притоне, но только однажды вечером он вернулся в весьма взбудораженном состоянии.
– Сипион, – сказал он мне, – я решил уехать в Италию. Послезавтра я должен взойти на корабль, возвращающийся в Геную. У меня есть на то свои причины. Я полагаю, что ты охотно согласишься сопровождать меня и воспользуешься счастливым случаем, чтобы повидать самую очаровательную страну на свете.
Я ответил, что согласен, но в тот же момент твердо решился исчезнуть, когда надо будет садиться на корабль. Воображая, что таким образом ему отомщу, я считал свой план гениальным. Я был от него в таком восторге, что не смог удержаться и сообщил о нем одному присяжному забияке, с которым иногда встречался на улице. Со времени своего приезда в Севилью я завел несколько дурных знакомств, и это было одно из худших. Я рассказал удальцу, как и за что был награжден оплеухами; затем изложил ему свое намерение покинуть дона Абеля перед самой посадкой на корабль и спросил, что он думает о моем решении.
Слушая меня, храбрец сдвинул брови и закрутил усы кверху. Затем, жестоко выбранив моего хозяина, он сказал:
– Молодой человек, вы будете обесчещены навеки, если ограничитесь задуманной вами легковесной местью. Недостаточно – отпустить Дона Абеля одного: это было бы слишком слабой карой; необходимо соразмерить возмездие с оскорблением. Нечего колебаться: давайте утащим у него вещи и деньги и разделим их по-братски после его отъезда.
Хотя у меня была естественная склонность к похищению чужого добра, все же проект столь крупной покражи меня испугал. Между тем архиплут, сделавший мне это предложение, в конце концов уговорил меня, и вот каков был успех нашего предприятия.
Мой удалец, детина, рослый и коренастый, явился на следующий день под вечер ко мне в гостиницу. Я показал ему сундук, в который хозяин мой уже успел запереть свои пожитки, и спросил, сумеет ли он один унести такую тяжесть.
– Такую тяжесть? – сказал он. – Да будет вам ведомо, что когда дело идет о похищении чужого добра, то я унесу и Ноев ковчег.
С этими словами он подошел к сундуку, без труда вскинул его на плечи и легкой поступью спустился по лестнице. Я с такой же быстротой последовал за ним, и мы уже готовы были выйти на улицу, как перед нами неожиданно предстал дон Абель, которого счастливая звезда столь кстати для него привела домой.
– Куда ты идешь с этим сундуком? – сказал он мне.
Я был так ошарашен, что сразу онемел, а храбрец, видя что дело сорвалось, бросил сундук наземь и ударился в бегство, чтобы избежать объяснений.
– Так куда же ты идешь с этим сундуком? – вторично спросил меня хозяин.
– Сеньор, – отвечал я ему ни жив, ни мертв, – я велел отнести его на судно, с которым вы завтра уезжаете в Италию.
– А разве ты знаешь, – возразил он, – с каким кораблем я уезжаю?
– Нет, сударь, – отвечал я, – но язык до Рима доведет: я справился бы в порту, и кто-нибудь, наверное, бы мне указал.
При этом подозрительном ответе он бросил на меня яростный взгляд. Я подумал, что он снова собирается надавать мне затрещин.
– Кто приказал тебе, – вскричал он, – вынести мой чемодан из дому?
– Вы сами, – ответил я. – Возможно ли, чтобы вы позабыли упреки, которыми осыпали меня несколько дней тому назад. Разве вы не сказали, избивая меня, чтобы я предвосхищал ваши приказания и делал по своему почину все, что нужно к вашим услугам? И вот, чтобы последовать этому указанию, я велел отнести сундук на судно.
Тогда игрок, убедившись, что я хитрее, чем он полагал, дал мне отставку, проговорив весьма холодным тоном:
– Ступайте, сеньор Сипион; идите с богом! Я не люблю играть с людьми, у которых то больше одной картой, то меньше. Убирайтесь с глаз моих, – добавил дон Абель, меняя тон, – не то я заставлю вас петь без нот.
Я избавил его от труда повторять свое приглашение, то есть немедленно удалился, дрожа от страха, как бы он не принудил меня снять мою ливрею; но, по счастью, он мне ее оставил. Я слонялся по улицам, размышляя о том, где бы мне найти жилье за два реала, составлявших все мое богатство. Таким образом, я подошел к архиепископскому подворью; а так как в это время готовили ужин для его высокопреосвященства, то из кухни возносился приятнейший аромат, ощущавшийся на целую милю в окружности.
«Черт побери! – сказал я про себя. – Не дурак бы я был полакомиться одним из этих рагу, что так вкусно в нос ударяют; я бы, пожалуй, удовольствовался и тем, чтобы запустить туда пятерню. Да чего там! Неужто же я не в силах, изобрести способ, чтобы отведать этих заманчивых блюд, от которых мне теперь достается один запах? А почему бы не попытаться? Невозможного тут, по-видимому, ничего нет».
Моя фантазия разыгралась, и, по мере того как я предавался мечтаниям, у меня сложился хитрый план, который я тут же и выполнил с полным успехом. Я вскочил во двор архиепископского подворья и бросился бежать по направлению к кухне, крича что было сил:
– На помощь! На помощь! – точно за мной по пятам гнались убийцы.
На мои повторные крики выбежал мастер Диего, архиепископский повар, с тремя-четырьмя поварятами, чтобы узнать, в чем дело. Не видя никого, кроме меня, он спросил, почему я так громко кричу.
– Ах, сеньор, – отвечал я ему с выражением человека, перепуганного насмерть, – умоляю вас ради святого Поликарпия: спасите меня от ярости какого-то головореза, который хочет меня убить.
– Где же он, этот головорез? – вскричал Диего. – Вы тут одни-одинешеньки, и ни одна собака за вами не гонится. Бросьте, дитя мое, успокойтесь. Видно, кто-нибудь хотел напугать вас для потехи; но он хорошо сделал, что не последовал за вами сюда, во дворец, потому что мы, по меньшей мере, обрезали бы ему уши.
– Нет, нет! – сказал я повару. – Он не для смеха меня преследовал. Это здоровенный жулик, который собирался меня ограбить, и я уверен, что он сторожит на улице.
– Ну, так ему долго придется вас дожидаться, – отвечал Диего, – потому что вы останетесь у нас до утра. Здесь вы и поужинаете и переночуете с поварятами, которые попотчуют вас как следует.
Я не помнил себя от радости, услышав его последние слова, и пришел в полный восторг от представившегося мне зрелища, когда мастер Диего провел меня на кухню и я увидал приготовления к ужину его высокопреосвященства. Я насчитал до пятнадцати человек, занятых этими приготовлениями, но не в силах был исчислить всех блюд, представших перед моим взором, – столь щедро провидение позаботилось о снабжении архиепископского подворья. Вот в эти-то минуты, вдыхая ароматы различных рагу, которые я прежде чуял лишь издали, я впервые познал чувственное наслаждение. Затем я имел честь ужинать и спать вместе с поварятами, дружбу которых я так быстро завоевал, что наутро, когда я пошел благодарить мастера Диего за великодушно предоставленное убежище, он сказал мне:
– Все наши кухонные мальчики сообщили мне, что будут очень рады найти в вас товарища, – так ваш характер пришелся им по вкусу. А сами вы хотели бы стать их однокашником?
Я отвечал, что если бы мне выпало на долю такое счастье, то я увидел бы в нем предел своих желаний.
– Если так, мой друг, – возразил он, – то можете с сегодняшнего же дня считать себя в числе архиепископских слуг.
С этими словами он повел меня и представил мажордому, который по моему бойкому виду счел меня достойным принятия в семью ложкомоев.
Не успел я вступить в столь почтенную должность, как мастер Диего, следуя обычаю всех кухарей из больших домов, тайно посылающих провизию своим красоткам, избрал меня, чтоб доставлять некоей жившей по соседству даме то телячье седло, то дичь, то домашнюю птицу. Любезная сия дама была вдовушкой лет тридцати, не более; весьма недурна собой и очень живая, она, казалось, не слишком-то была верна своему повару. Он не довольствовался тем, что поставлял ей мясо, хлеб, сахар и масло, но также снабжал ее запасом вина, – все, разумеется, за счет монсиньора архиепископа.
Во дворце его высокопреосвященства я окончательно обтесался и выкинул там довольно забавную штуку, о которой и по сей час вспоминают в Севилье. Пажи и еще кое-кто из домочадцев решились отпраздновать день рождения его высокопреосвященства комедийным представлением. Они избрали комедию «Бенавида» [195] , а так как им требовался мальчик моих лет, чтобы сыграть роль юного леонского короля, то выбор их пал на меня. Мажордом, считавший себя знатоком декламации, взялся меня натаскать и после нескольких уроков объявил, что я буду не самым худшим из актеров. Так как все расходы шли за счет хозяина, то устроители не пожалели ничего для великолепия празднества. В главном зале дворца соорудили сцену и пышно ее разукрасили. В глубине поместили лужайку, на которой я должен был появиться спящим в том акте, где мавры бросаются на меня и берут в плен. Когда актеры оказались готовыми к представлению, архиепископ назначил день спектакля и не преминул пригласить знатнейших сеньоров и дам со всего города.
Когда этот день наступил, актеры не занимались уже ничем, кроме своих костюмов. Что касается моего, то его принес портной, сопровождаемый нашим мажордомом, который, взяв на себя труд вдолбить мне мою роль, почел теперь своим долгом присутствовать при моем переодевании. Портной надел на меня роскошное облачение из синего бархата, отделанное золотыми позументами и пуговицами, с широкими рукавами, отороченными золотой бахромой; а мажордом собственноручно возложил мне на голову картонную корону, усыпанную множеством чистого жемчуга вперемежку с поддельными алмазами. В довершение всего они опоясали меня розовым кушаком с серебряными цветами. При каждом новом надеваемом на меня украшении мне казалось, будто они привязывают мне крылья, чтобы я улетел и скрылся с глаз. Наконец перед вечером представление началось. Сперва на сцену выходит леонский король и произносит длинную тираду. Так как эта роль была предоставлена мне, то я открыл действие монологом в стихах, который сводился к тому, что я не могу противостать очарованию сна и собираюсь ему отдаться. Вслед за сим я удалился в глубину сцены и бросился на травяное ложе, мне уготованное. Но вместо того чтобы заснуть, я принялся размышлять о способах выбраться на улицу и улизнуть вместе со своими регалиями. Маленькая потайная лестница, которая вела под сцену и в нижнюю залу, показалась мне пригодной для выполнения этого плана.
Итак, я незаметно встал и, видя, что никто не обращает на меня внимания, сбежал по лестнице в залу и понесся к дверям с криком:
– Дорогу! Дорогу! Я иду переодеваться.
Все посторонились, чтобы меня пропустить, так что не прошло и двух минут, как я безнаказанно вышел из дворца и под покровом ночи добрался до дома своего приятеля, вышеупомянутого удальца. Он был вне себя от изумления, увидав меня в таком наряде. Я посвятил его во все, и он от души посмеялся. Затем, обняв меня с большим жаром (поскольку надеялся получить свою долю из риз леонского короля), он принес мне поздравления с ловкой проделкой и заметил, что если я и впредь буду верен себе, то еще заслужу своим умом мировую славу. После того как мы с ним насмеялись и позубоскалили всласть, я сказал храбрецу:
– Что нам делать с этим пышным убором?
– Об этом не беспокойтесь, – отвечал он. – Я знаю честного старьевщика, который, не проявляя излишнего любопытства, покупает все, что ему продают, лишь бы цена была сходная. Завтра с утра я схожу за ним и приведу его сюда к вам.
Действительно, на следующий день мой удалец спозаранку вышел из своей комнаты, оставив меня в постели, и через два часа вернулся со старьевщиком, тащившим узел, обернутый желтой холстиной.
– Друг мой, – сказал он, – позвольте вам представить сеньора Иваньеса из Сеговии, порядочного и добросовестного ветошника, если таковые вообще водятся в природе. Вопреки дурному примеру своих собратьев по ремеслу, он гордится самой безупречной честностью. Сеньор Иваньес точно скажет вам, сколько стоит одеяние, от которого вы хотите отделаться, и вы можете вполне положиться на его оценку.
– Еще бы! – сказал ветошник. – Я был бы величайшим бездельником, если бы оценил вещь ниже стоимости. В этом, слава богу, еще никогда не упрекали и никогда не упрекнут Иваньеса из Сеговии. А ну-ка, – добавил он, – посмотрим на барахло, которое вы продаете. Сейчас я по совести скажу вам, чего оно стоит.
– Вот оно, – сказал удалец, показывая ему костюм, – согласитесь, что нельзя представить себе большего великолепия; обратите внимание на красоту генуэзского бархата и на богатство отделки.
– Я – в восторге, – ответил старьевщик, с большим вниманием осмотрев наряд, – ничего прекраснее этого не существует на свете.
– А что думаете вы о жемчужинах на короне?
– Будь они покрупнее, – возразил Иваньес, – им бы цены не было; все ж и в таком виде я нахожу их превосходными и доволен ими не меньше, чем остальными вещами. Я честно признаю их достоинства, – продолжал он. – Какой-нибудь плут-перекупщик на моем месте поморщил бы нос при виде товара, чтобы заполучить его по ничтожной цене, и не посовестился бы предложить вам двадцать пистолей. Но я знаю честь и даю вам сорок.
Если бы Иваньес сказал «сто», то и то бы он оказался неважным оценщиком, поскольку одни только жемчуг стоил добрых две сотни. Удалец, бывший с ним в стачке, оказал мне:
– Видите, как вам повезло, что вы наткнулись на честного человека. Сеньор Иваньес оценивает вещи, точно на предсмертной исповеди.
– Что верно, то верно, – сказал ветошник. – Уж когда со мной имеешь дело, то ни обола не прибавишь и не убавишь. Ну что ж! – продолжал он. – По рукам! Отсчитать вам денежки?
– Подождите, – возразил ему удалец. – Пусть мой маленький друг сперва примерит туалет, который я велел вам для него принести. Побьюсь об заклад, что костюм придется ему как раз по росту.
Тогда старьевщик, развернув свой узел, показал мне камзол и штаны из добротного коричневого сукна, но сильно потрепанные. Я встал с постели, чтобы примерить это одеяние, и, хотя оно было не в меру широко и длинно, эти господа нашли, что оно сделано, словно по заказу. Иваньес оценил его в десять пистолей, а так как с ним нельзя было торговаться, то и пришлось принять его условия. Итак, он извлек из кошелька тридцать пистолей и выложил их на стол; затем он завязал в узел мое королевское облачение вместе с короною и все унес с собой, вероятно радуясь в душе хорошему почину, который выдался ему в этот день.
После его ухода удалец сказал мне:
– Я чрезвычайно доволен этим ветошником.
И действительно, он мог быть доволен, ибо я уверен, что тот уделил ему не менее сотни пистолей. Но этим он не удовольствовался и без церемонии забрал половину денег, лежавших на столе, оставив мне вторую половину со словами:
– Дорогой Сипион, советую вам взять остающиеся пятнадцать пистолей и неукоснительно покинуть город, где вас, как вы сами понимаете, непременно начнут разыскивать по повелению монсиньора архиепископа. Я был бы в отчаянии, если бы, прославившись здесь подвигом, который впоследствии украсит вашу биографию, вы глупейшим образом попали в тюрьму.
Я ответил ему, что и сам решил удалиться из Севильи. И действительно, приобретя шляпу и несколько рубашек, я вышел на широкую и живописную дорогу, которая мимо виноградников и оливковых рощ вела к древнему городу Кармоне, а через три дня прибыл в Кордову.
Я пристал на постоялом дворе у городской площади, где останавливались купцы. Выдавал я себя за отцовского сынка из Толедо, путешествующего ради собственного удовольствия; мне верили, потому что я был достаточно прилично одет; а несколько пистолей, которые я как бы нечаянно показал гостинику, окончательно его убедили. Впрочем, может быть, моя крайняя юность заставила его предположить во мне шалопая, обокравшего своих родителей и шляющегося по дорогам. Как бы то ни было, он не простирал своего любопытства далее того, что я сам хотел ему сообщить, из боязни, что расспросы заставят меня переменить квартиру. За шесть реалов в день можно было отлично жить в этой гостинице, где обычно набиралось много постояльцев. Вечером за ужином я насчитал до дюжины сотрапезников. Особенно занятно было то, что все ели, не говоря ни слова, за исключением одного человека, который непрерывно тараторил кстати и некстати и своей болтовней компенсировал молчание остальных. Он корчил из себя остряка, рассказывал побасенки и пытался шуточками забавлять общество, которое от времени до времени разражалось хохотом, правда не столько смеясь его остротам, сколько потешаясь над ним самим.
Я лично так мало обращал внимания на разглагольствования этого чудака, что, встав из-за стола, не смог бы пересказать содержания его речей, если бы он случайно не вызвал во мне интереса к своим россказням.
– Господа! – воскликнул он под конец ужина. – Я оставил вам на десерт одну из забавнейших историй, событие, происшедшее на днях во дворце архиепископа севильского.
Я слышал ее от знакомого бакалавра, который, по его словам, сам был очевидцем происшествия.
Эти слова меня несколько взволновали: я не сомневался в том, что речь идет о моем приключении, и не ошибся. Этот человек изложил все, как было, и сообщил мне даже то, чего я не знал, а именно что произошло в зале после моего исчезновения. Об этом я вам теперь расскажу.
Не успел я убежать, как мавры, которые, согласно ходу представляемого действа, должны были похитить короля, вышли на сцену с намерением захватить его врасплох на лужайке, где рассчитывали застать его спящим. Но когда они вздумали броситься на меня, то были до крайности изумлены, не найдя там ни короля, ни ферзи. Представление тотчас же было прервано. Вот все актеры – в смятении: одни зовут меня, другие велят меня искать; один кричит, другой посылает меня ко всем чертям. Архиепископ, заметив, что за кулисами царит кутерьма и смятение, осведомился о причине. На голос прелата выбежал паж, представлявший грасиосо, и сказал его высокопреосвященству:
– О, монсиньор! Не опасайтесь более, что мавры захватят в плен леонского короля; он улизнул, прихватив свои регалии.
– Слава тебе, господи, – воскликнул архиепископ. – Он превосходно поступил, спасаясь от врагов нашей веры и тем избежав цепей, которые они ему готовили. Не сомневаюсь, что он возвратился в Леон, столицу своего государства. Дай ему бог благополучно доехать! Между прочим, я запрещаю его преследовать: я был бы безутешен, если бы его величество потерпело от меня какое-либо неудовольствие.
После этих слов прелат приказал, чтобы роль мою читали с места и продолжали комедию.
Глава XI Продолжение истории Сипиона
Покуда я был при деньгах, хозяин обращался со мной предупредительно; но едва он заметил, что они у меня перевелись, как перешел на более холодный тон, затем грубо со мною поругался и в одно прекрасное утро попросил убираться вон. Я гордо удалился и вошел в доминиканскую церковь. Пока я стоял у обедни, старик-нищий попросил у меня милостыню.
Я вынул из кармана два-три мараведи, которые подал ему со словами:
– Друг мой, помолитесь богу, чтобы он вскорости дал мне какую-нибудь хорошую службу; если ваша молитва будет услышана, то вы в ней не раскаетесь. Можете рассчитывать на мою благодарность.
При этих моих словах оборванец посмотрел на меня внимательно и ответил серьезным тоном:
– Какое место желали бы вы занять?
– Хотелось бы, – отвечал я, – поступить лакеем в какой-нибудь дом, где бы мне хорошо жилось.
Он спросил меня, очень ли это спешно.
– Спешнее быть не может, – сказал я, – ибо если мне в самое ближайшее время не посчастливится найти кондицию, то я буду вынужден либо умереть с голоду, либо присоединиться к вашей братии.
– Если бы вы были доведены до такой крайности, – возразил он, – то для вас это было бы чрезвычайно тягостно, так как вы не приучены к нашим повадкам. Но если бы вы мало-мальски к ним привыкли, то предпочли бы наше положение лакейской службе, которая, без сомнения, унизительнее нищенства. Впрочем, поскольку вам больше нравится услуживать господам, нежели вести, подобно мне, жизнь вольную и независимую, то вы незамедлительно получите хозяина. Каков я ни на есть, я вам могу быть полезен. Сегодня же начну за вас хлопотать. Будьте здесь завтра в эту же пору; я вам сообщу, что мне удалось сделать.
Я не преминул воспользоваться приглашением. На следующий день я возвратился на то же место, где немного спустя увидал нищего, который подошел ко мне и сказал, чтобы я взял на себя труд за ним последовать. Я так и сделал. Он привел меня в подвал, расположенный неподалеку от церкви и служивший ему обиталищем. Мы вошли туда и уселись на длинной скамье, за которой числилось не менее ста лет действительной службы. Тут он обратился ко мне со следующей речью:
– «Доброе дело, – говорит пословица, – без награды не остается»: вы вчера подали мне милостыню, и это побуждает меня доставить вам хорошее место, что вскоре и будет сделано, с божьего соизволения. Я знаю некоего старого доминиканца, отца Алехо. Это – благочестивый монах и великий пастырь душ. Я имею честь состоять у него на посылках и исполняю свои обязанности с такой скромностью и преданностью, что он не отказывается пускать в ход свое влияние в пользу меня и моих друзей. Я замолвил ему словечко и склонил его в вашу пользу. Как только вам будет угодно, я представлю вас его преподобию.
– Нельзя терять ни мгновения, – сказал я старику-нищему, – идем немедля к этому доброму монаху.
Бедняк согласился и тотчас же отвел меня к отцу Алехо, которого мы застали в его келье за составлением назидательных посланий. Он прервал работу, чтобы переговорить со мною, и сообщил, что, по просьбе нищего, готов обо мне позаботиться.
– Узнавши, что сеньор Балтасар Веласкес нуждается в слуге, – продолжал он, – я нынче утром написал ему о вас и только что получил ответ, что из моих рук он готов принять вас с закрытыми глазами. Вы сегодня же можете пойти к нему от моего имени: это мой духовный сын и большой друг.
После этого монах три четверти часа увещевал меня добросовестно выполнять свой долг. Он особенно пространно говорил о моей обязанности ревностно служить Веласкесу, после чего заверил меня, что постарается упрочить мое положение, если только у хозяина не будет повода для недовольства мною.
Поблагодарив монаха за оказанное мне благоволение, я вышел из монастыря вместе с нищим, который сообщил мне, что сеньор Балтасар Веласкес – это старый суконщик, человек богатый, простоватый и добродушный.
– Я не сомневаюсь в том, – добавил он, – что вам будет отлично житься у него в доме.
Я справился о месте жительства купца и немедленно же туда направился, пообещав нищему не забыть о его услуге, как только пущу корни на новом месте. Я вошел в просторную лавку, где двое молодых сидельцев, опрятно одетых, прогуливались взад и вперед и прохлаждались в ожидании покупателей. Я спросил, тут ли хозяин, и добавил, что хочу поговорить с ним от имени отца Алехо. При звуке этого достопочтенного имени меня проводили в заднюю каморку, где сидел купец, перелистывая толстый реестр, лежавший на столе.
Я почтительно ему поклонился и сказал:
– Сеньор, вы видите перед собой молодого человека, которого отец Алехо рекомендует вам в лакеи.
– Добро пожаловать, дитя мое, – отвечал он. – Довольно того, что тебя направил ко мне этот святой муж. Я принимаю тебя на службу предпочтительно перед тремя-четырьмя другими лакеями, которых мне навязывают. Это – дело решенное; твое жалованье исчисляется с сегодняшнего дня.
Мне недолго пришлось прожить у этого купца, чтобы убедиться, что он именно таков, каким мне его описали. Он показался мне даже столь простодушным, что я невольно подумал о том, как трудно мне будет удержаться, чтобы не сыграть с ним какой-нибудь штуки. Он овдовел за четыре года до этого, и у него было двое детей: сын, которому скоро должно было стукнуть двадцать пять, и дочь, которой только что пошел одиннадцатый год. Дочь, воспитываемая старой дуэньей и руководимая отцом Алехо, шествовала по стезе добродетели. Но Гаспар Веласкес, несмотря на все усилия, употребляемые для того, чтобы сделать из него порядочного человека, обладал всеми пороками молодого вертопраха. Случалось, что он исчезал из дому на два-три дня; а если по возвращении отец осмеливался сделать ему выговор, то Гаспар заставлял его замолчать, отвечая ему в еще более повышенном тоне.
– Сипион, – сказал мне однажды старик, – у меня есть сын, который составляет несчастье моей жизни. Он погряз во всякого рода распутстве. Я глубоко удивляюсь этому, так как ничего не жалел для его воспитания. Я дал ему хороших учителей, а мой друг, отец Алехо, приложил все усилия, чтобы поставить его на правильный путь. Но, увы! он не сумел этого добиться: Гаспар предался распущенности. Ты, может быть, скажешь, что я обращался с ним слишком мягко в дни его отрочества и что это его погубило. Ничуть не бывало: его наказывали, когда я почитал за нужное применить строгость, ибо, при всем своем добродушии, я обладаю и твердостью, когда обстоятельства того требуют. Однажды я даже отдал его в исправительный дом, но от этого он еще хуже обозлился. Одним словом, он – один из тех негодяев, которых ни добрый пример, ни уговоры, ни наказания не могут исправить. Одно небо лишь в силах сотворить такое чудо.
Хоть я и не принял близко к сердцу горести несчастного отца, однако же притворился растроганным.
– Как мне жаль вас, сеньор! – сказал я ему. – Такой отменный человек, как вы, заслуживает лучшего сына.
– Что делать, дитя мое! – отвечал он. – Господь пожелал лишить меня этого утешения. Среди всех поводов к жалобам, подаваемых мне Гаспаром, – продолжал он, – есть один, который (скажу тебе по секрету) всего более меня тревожит: это – его попытки меня обкрадывать, которые, увы, часто увенчиваются успехом, несмотря на мою бдительность. Лакей, место которого ты занял, был с ним в стачке; потому-то я его и прогнал. Относительно тебя я питаю надежду, что ты не дашь моему сыну соблазнить себя. Ты будешь служить моим интересам; я не сомневаюсь в том, что отец Алехо увещевал тебя в этом смысле.
– Еще бы! Его преподобие наставляло меня в течение часа, чтобы я не помышлял ни о чем, кроме вашего блага. Но уверяю вас, что для этого мне не нужно его увещаний. Я готов честно служить вам и обещаю, что усердие мое выдержит любое испытание.
Но кто выслушал лишь одну сторону, тот ничего не слышал. Молодой Веласкес, этот дьявольский вертопрах, заключив по моей физиономии, что меня не труднее будет совратить, чем моего предшественника, увлек меня в укромное место и заговорил со мной в таких выражениях:
– Послушай, любезный! Я уверен, что мой родитель поручил тебе за мной шпионить. Берегись! Предупреждаю тебя, что это занятие связано с некоторыми неприятностями. Ежели только я замечу, что ты за мною подглядываешь, ты у меня сдохнешь под палками. Но если ты, напротив, пособишь мне обманывать отца, то можешь широко рассчитывать на мою признательность. Нужно ли говорить яснее? Ты будешь получать свою долю со всего, что нам удастся подтибрить. Выбирай же, что хочешь: выскажись немедленно либо за отца, либо за сына; нейтралитета здесь быть не может.
– Сеньор, – отвечал я, – вы здорово прижали меня к стене. Вижу, что мне волей-неволей придется стать на вашу сторону, хотя в глубине души мне противно обманывать сеньора Веласкеса.
– Тебе тут нечего совеститься, – возразил Гаспар. – Это – старый скряга, который все еще хотел бы водить меня на помочах, злюка, отказывающий мне в самом необходимом, раз он не хочет оплачивать моих развлечений. Ибо в двадцать пять лет развлечения – это необходимость. С этой точки зрения ты и должен смотреть на моего отца.
– Этим все сказано, сударь, – заметил я, – невозможно устоять против столь справедливых жалоб. Я готов помогать вам в ваших похвальных предприятиях. Но будем тщательно скрывать наш уговор из опасения, как бы вашего верного союзника не вытолкали в шею. Вам, мне кажется, недурно было бы притвориться, будто вы меня ненавидите: при людях говорите со мною грубо; не стесняйтесь в выражениях: несколько пощечин или пинков в зад тоже не испортят дела. Напротив, чем больше знаков неприязни вы мне окажете, тем крепче будет доверять мне сеньор Балтасар. Я, со своей стороны, прикинусь, будто избегаю вашего общества. Прислуживая вам за столом, я буду делать вид, что исполняю это неохотно, а вы не обижайтесь, если в разговорах с другими я буду поносить вас на чем свет стоит. Вы увидите, что таким поведением мы обманем всех домочадцев и что нас сочтут за смертельных врагов.
– Черт побери! – воскликнул молодой Веласкес при этих словах. – Я восхищаюсь тобою, мой друг: ты проявляешь поразительный для своих лет талант к интригам. Я извлекаю из этого самые отрадные для себя предзнаменования; надеюсь, что с помощью твоей смекалки я не оставлю своему отцу ни пистоля.
– Вы оказываете мне слишком много чести, – сказал я, – столь твердо рассчитывая на мою ловкость. Я сделаю все возможное, чтобы оправдать ваше доброе мнение, и ежели в том не успею, то, по крайности, это произойдет не по моей вине.
Я не замедлил доказать Гаспару, что был действительно таким человеком, какой ему требовался, и вот в чем заключалась моя первая услуга. Денежный сундук сеньора Балтасара помещался в опочивальне старика, между кроватью и стеной, и во время молитвы служил ему аналоем. Всякий раз как я на него взглядывал, он радовал мой взор, и нередко я мысленно обращался к нему со словами:
«О, сундучок, мой дружок! Неужели ты навсегда для меня заперт? Неужели же мне так и не удастся взглянуть на сокровища, которые ты скрываешь?»
Пользуясь разрешением когда угодно заглядывать в спальню, куда вход был запрещен только одному Гаспару, я однажды увидал, как его отец, думая, что никто за ним не наблюдает, отпер и запер сундук, а затем сунул ключ за шпалеры. Я хорошо заметил место и сообщил о своем открытии молодому барину, который от радости обнял меня и проговорил:
– О, милейший Сипион! Какую весть ты мне приносишь! Теперь, друг мой, мы оба разбогатеем. Сегодня же я дам тебе воску: ты снимешь слепок с ключа и вручишь его мне. Полагаю, что мне нетрудно будет сыскать услужливого слесаря здесь в Кордове, которая среди испанских городов занимает далеко не последнее место по количеству жуликов.
– А для чего, – спросил я Гаспара, – понадобился вам поддельный ключ? Ведь мы же можем пользоваться настоящим?
– Конечно, – отвечал он, – но я боюсь, как бы мой отец из подозрительности или по иной причине не вздумал спрятать его в другое место; всегда вернее – иметь собственный ключ.
Я одобрил такую предосторожность и, согласившись с его мнением, стал выжидать случая, чтобы снять слепок, что и было исполнено в одно прекрасное утро, покамест старый хозяин находился в гостях у отца Алехо, с коим он обычно вел весьма продолжительные беседы. Но этим я не ограничился, а, воспользовавшись ключом, отпер сундук, который, будучи набит множеством мешков и мешочков, вызвал в душе моей сладостное смятение. Я не знал, на каком мешке остановиться, – такое влечение чувствовал я и к большим, и к малым. В конце концов (поскольку опасение быть застигнутым врасплох не позволяло мне произвести длительный осмотр) я наудачу захватил один из самых объемистых. Затем, заперев сундук и снова засунув ключ за шпалеры, я вышел из горницы со своею добычею, которую спрятал в чуланчике в ожидании момента, когда смогу передать ее молодому Веласкесу, ожидавшему меня в условленном для свидания доме, куда я не замедлил отправиться, дабы уведомить его о том, что я проделал. Он так был мною доволен, что осыпал меня ласками и щедро предложил мне половину денег, находившихся в мешке.
– Нет, нет, сеньор, – сказал я, – этот первый мешок предназначается вам одному; воспользуйтесь им для своих надобностей. Я еще неоднократно буду возвращаться к сундучку, где, хвала небу, имеется довольно денег для нас обоих.
В самом деле, через три дня я похитил второй мешок, где, как и в первом, лежало пятьсот эскудо, из коих я согласился принять только четверть, несмотря на все настояния Гаспара, убеждавшего меня поделиться с ним по-братски.
Едва молодой человек увидел себя обладателем такой круглой суммы, а стало быть, и возможности удовлетворить свою страсть к женщинам и картам, как он всецело предался этим наклонностям. Он даже имел несчастье увлечься одной из тех прославленных прелестниц, которые способны в кратчайший срок поглотить самое крупное состояние. Он впал из-за нее в чудовищные расходы, а это поставило меня в необходимость так часто навещать сундук, что Веласкес наконец заметил покражу.
– Сипион, – сказал он мне однажды утром, – я вынужден доверить тебе тайну: меня обкрадывают. Кто-то отпер мой сундук и вытащил оттуда несколько мешков. Это – факт. Кого мне обвинить в этой проделке? Или, вернее, кто, кроме моего сына, мог ее совершить? Вероятно, Гаспар тайком пробрался в мою спальню или же ты сам его туда провел: ибо я весьма склонен подозревать, что ты с ним сговорился, хотя вы как будто не ладите друг с другом. Тем не менее я не хочу давать веры своим подозрениям, поскольку отец Алехо поручился мне за твою честность.
Я отвечал, что, слава богу, чужое добро меня не соблазняет, и сопроводил эту ложь лицемерною ужимкой, которая послужила мне к оправданию.
Действительно, старик больше со мной об этом не заговаривал; но все же он не преминул и на меня распространить свое недоверие: ограждая себя от наших покушений, он заказал новый замок для своего сундука и отныне всегда носил ключ в кармане. Таким путем было прервано всякое сообщение между нами и мешками. Мы очутились в довольно глупом положении, в особенности же Гаспар, который, не будучи в состоянии по-прежнему тратиться на свою нимфу, боялся лишиться ее навсегда. У него все же хватило ума изобрести способ, который позволил ему еще некоторое время продержаться на поверхности; а состоял этот способ в том, что он взаимообразно присвоил себе деньги, которые перепали на мою долю от кровопусканий, учиненных мною на теле сундука. Я отдал ему все до последней монетки, что, как мне кажется, может сойти за возмещение убытков старику, передним числом, в лице его будущего наследника.
Исчерпав этот источник и видя, что никакого другого у него уже нет, молодой человек погрузился в глубокую и черную меланхолию, которая мало-помалу помутила его рассудок. Он стал смотреть на отца не иначе, как на человека, который составляет несчастье всей его жизни. Предавшись глубокому отчаянию и глухой к голосу крови, этот несчастный возымел ужасное намерение отравить родителя. Он не удовольствовался тем, что посвятил меня в свой богомерзкий умысел, но предложил мне даже стать орудием его мести. При этом предложении меня охватил ужас.
– Сеньор! – воскликнул я. – Возможно ли, чтобы небо окончательно отвратилось от вас и позволило вам принять столь гнусное решение? Как! Вы были бы способны лишить жизни того, кто даровал вам жизнь? Здесь, в Испании, в самом лоне христианской веры, мы стали бы свидетелями преступления, одна мысль о коем привела бы в ужас самые варварские народы! Нет, дорогой мой хозяин, – продолжал я, бросаясь к его ногам, – вы не совершите поступка, который возмутил бы против вас весь свет и повлек бы за собою позорное наказание!
Я продолжал увещевать Гаспара многими подобными речами, дабы отвратить его от столь преступного намерения. Сам не знаю, откуда брались у меня аргументы честных людей, которыми я воспользовался в борьбе с его отчаянием. Не подлежит сомнению, что я, мальчишка и сын Косколины, говорил тогда не хуже саламанкского доктора. Но сколько я ни доказывал ему, что он должен образумиться и мужественно отразить отвратительные мысли, обуревавшие его рассудок, все мое красноречие пропало даром. Он опустил голову на грудь и хранил мрачное молчание, что бы я ни говорил и ни делал, из чего я заключил, что он не отказывается от своего замысла.
После этого я без дальнейших колебаний попросил старого хозяина переговорить со мной наедине и, запершись с ним, сказал:
– Дозвольте, мне, сеньор, упасть к вашим ногам и воззвать к вашему милосердию!
С этими словами я в большом волнении и с заплаканным лицом упал перед ним на колени. Купец, пораженный моим поведением и расстроенным видом, спросил меня, что я совершил.
– Преступление, в котором раскаиваюсь, – отвечал я ему, – и о котором буду сожалеть до конца своих дней. Я имел слабость послушаться вашего сына и помог ему вас обокрасть.
И тут же я искренне признался ему во всем, что в связи с этим произошло, после чего изложил старику свой последний разговор с Гаспаром, намерения коего я открыл ему, не пропустив ни малейшей подробности.
Сколь ни дурного мнения был старик Веласкес о своем сыне, все же он лишь с трудом мог поверить моему рассказу.
– Сипион, – сказал он, поднимая меня, так как я все еще лежал у его ног, – я прощаю тебе ради важного признания, которое ты мне только что сделал. Гаспар, – продолжал он, возвысив голос, – Гаспар жаждет моей смерти! О, сын неблагодарный! Чудовище, которое лучше мне было бы задушить при рождении, нежели дать ему вырасти отцеубийцей! Что побуждает тебя покуситься на мою жизнь? Ежегодно я выдаю тебе сумму, достаточную для твоих развлечений, а ты все недоволен. Неужели ты удовлетворишься лишь тогда, когда я позволю тебе расточить все мое добро?
После этого горестного восклицания он приказал мне молчать обо всем и оставить его одного, чтобы он мог поразмыслить над тем, как ему поступить в столь щекотливом положении.
Я ломал себе голову над тем, какое решение примет несчастный отец, когда он в тот же день велел позвать к себе Гаспара и обратился к нему со следующей речью, ничем не выдавая того, что творилось у него в душе:
– Сын мой, я получил письмо из Мериды, откуда мне пишут, что ежели вы хотите жениться, то вам предлагают пятнадцатилетнюю девушку отменной красоты, которая принесет вам богатое приданое. Итак, если вы не питаете отвращения к супружеству, мы завтра на заре выедем в Мериду. Там мы увидим особу, которую за вас сватают: если она придется вам по нраву, вы на ней женитесь, а если нет, то об этой свадьбе больше не будет речи.
Гаспар, услыхав о богатом приданом и уже воображая, что держит его в руках, не задумываясь, выразил свою готовность совершить это путешествие. Итак, они на самом рассвете отправились вдвоем без провожатых на хороших мулах.
Когда они очутились в Фесирских горах, в местности, столь же милой разбойникам, сколь ужасной для путников, Балтасар спешился и велел сыну последовать его примеру. Молодой человек повиновался, но спросил, почему его заставляют слезть с мула именно в этом месте.
– Сейчас узнаешь, – отвечал ему старик, устремив на него взгляд, в котором отражались и горе его, и гнев. – Мы не поедем в Мериду, и брак, о котором я тебе говорил, лишь басня, выдуманная мною для того, чтобы заманить тебя сюда. Мне известно, о, неблагодарный и бесчеловечный сын, мне известно, какое злодеяние ты замышляешь. Я знаю, что мне должны поднести яд, изготовленный твоими стараниями. Но неужели, безумец, льстишь ты себя надеждой, что таким способом сможешь безнаказанно лишить меня жизни? Какое заблуждение! Ведь твое преступление вскоре было бы обнаружено и ты погиб бы от руки палача. Но есть, – продолжал он, – другой, более верный путь, чтобы утолить твою ярость, не подвергая себя позорной казни: мы здесь – без свидетелей, в таком месте, где ежедневно совершаются убийства; раз ты жаждешь моей крови, так вонзи же мне в грудь свой кинжал; мою смерть припишут разбойникам.
С этими, словами Балтасар обнажил свою грудь и, показывая сыну на место, где находилось сердце, добавил:
– Сюда, Гаспар, направь смертельный удар: пусть я буду наказан за то, что породил такого злодея!
Молодой Веласкес, пораженный этими словами, словно громом, даже не пытался оправдываться и внезапно без чувств повалился к ногам отца. Добрый старик, видя его в таком состоянии, которое показалось ему началом раскаяния, не мог противиться родительской слабости: он поспешил к нему на помощь. Но едва Гаспар пришел в себя, как, не будучи в состоянии выносить присутствие столь справедливо разгневанного отца, сделал над собой усилие и поднялся на ноги; затем он сел на своего мула и удалился, не говоря ни слова. Балтасар дал ему уйти и, предоставив его мучениям собственной совести, вернулся в Кордову, где спустя шесть месяцев узнал, что Гаспар укрылся в севильском картезианском монастыре, чтобы там завершить дни свои в покаянии.
Глава XII Окончание истории Сипиона
Дурной пример порой дает хорошие плоды. Поведение молодого Веласкеса привело меня к серьезным размышлениям над своим собственным. Я начал бороться со своими воровскими наклонностями и постепенно становился честным малым. Привычка хватать всякие попадавшиеся мне под руку деньги настолько укоренилась во мне благодаря частому повторению подобного рода действий, что не так-то легко было ее побороть. Тем не менее я надеялся с нею справиться, полагая, что всякий может стать добродетельным, стоит лишь сильно захотеть. Итак, я взялся за это великое дело, и небо, казалось, благословило мои усилия. Я перестал взирать вожделенным оком на сундучок старого торговца. Полагаю даже, что если бы мне была предоставлена свобода таскать оттуда мешки, то я бы ею не воспользовался. Сознаюсь, однако, что было бы довольно неосторожно подвергать такому искушению мою зарождавшуюся честность. И Веласкес действительно воздержался от этого.
Молодой дворянин, дон Манрике де Медрана, кавалер ордена Алькантары, часто заходил к нам. Он был одним из самых знатных, хоть и не самых выгодных покупателей. Я имел счастье понравиться этому кавалеру, который всегда подтрунивал надо мной, чтобы вызвать на разговор, и, казалось, слушал меня с удовольствием.
– Сипион, – сказал он мне однажды, – будь у меня лакей с твоим характером, мне казалось бы, что я нашел клад; и если бы ты не служил у высоко уважаемого мною человека, я бы ничего не пожалел, чтобы тебя отбить.
– Сеньор, – отвечал я ему, – вам нетрудно было бы добиться своего, потому что я по природной склонности люблю благородных людей; это – моя страсть; их непринужденное обхождение восхищает меня.
– Если так, – ответствовал дон Манрике, – то я попрошу сеньора Балтасара, чтобы он согласился отпустить тебя ко мне на службу: не думаю, чтобы он отказал мне в такой любезности.
Веласкес действительно не отказал ему в такой любезности, тем более что не считал уход жулика-лакея незаменимой утратой. Я, со своей стороны, был очень доволен переменой, так как слуга купеческого дома казался мне шушерой по сравнению с лакеем кавалера ордена Алькантары.
Чтобы нарисовать верный портрет моего нового хозяина, скажу вам, что это был кавалер, наделенный самой приятной внешностью и очаровывавший всех своим умом и ласковым обхождением. Кроме того, он отличался большим мужеством и честностью; не хватало у него только состояния. В качестве младшего отпрыска более знатного, нежели богатого рода, он вынужден был пользоваться добротой старой тетки, которая жила в Толедо и, любя его, как сына, посылала ему деньги, необходимые для его содержания. Одет он был всегда чисто, и его охотно принимали повсюду. Он бывал у знатнейших дам в городе и, между прочим, у маркизы де Альменара. То была вдова семидесяти двух лет, которая любезными манерами и прелестью ума привлекала к себе все кордовское дворянство: и мужчины, и дамы находили удовольствие в беседе с нею, а дом ее получил прозвание «хорошее общество».
Мой хозяин был одним из преданнейших поклонников этой дамы. Однажды вечером, возвратясь от нее, он показался мне возбужденным, что для него было весьма необычно.
– Сеньор, – сказал я ему, – вы, видимо, сильно взволнованы. Смеет ли ваш верный слуга осведомиться о причине? Не произошло ли с вами чего-либо необыкновенного?
Кавалер улыбнулся мне в ответ и признался, что мысли его действительно заняты серьезным разговором, который он только что вел с маркизой де Альменара.
– Не хватало еще, – сказал я ему со смехом, – чтобы эта семидесятилетняя крошка объяснилась вам в любви.
– Не вздумай издеваться, – ответил он. – Узнай, мой друг, что маркиза меня любит. «Кавальеро, – сказала она, – мне известно и благородство ваше, и скромное состояние; я чувствую к вам расположение и решилась выйти за вас замуж, дабы обеспечить вам безбедное существование, а другого пристойного средства для вашего обогащения у меня нет. Я, конечно, знаю, что этот брак сделает меня смешной в глазах света, что на мой счет будут злословить и что в конце концов я прослыву сумасшедшей старухой, которой на склоне лет захотелось замуж. Но все равно: я готова пренебречь пересудами, лишь бы обеспечить вам приятную участь. Я опасаюсь лишь одного, – добавила она, – как бы не встретить с вашей стороны противодействия моему намерению». Вот, что говорила мне маркиза, – продолжал кавалер, – и это меня тем более удивляет, что она слывет самой добродетельной и благоразумной женщиной в Кордове. Поэтому я и выразил ей удивление по поводу того, что она почтила меня предложением своей руки, – она, до сих пор упорствовавшая в своем решении вдоветь до смерти. На что маркиза отвечала, что, владея значительными богатствами, она будет очень рада еще при жизни поделиться ими с честным и дорогим ей человеком.
– А вы, – заметил я, – по-видимому, готовы отважиться на этот подвиг?
– Можешь ли ты в этом сомневаться? – отвечал он. – У маркизы – огромное состояние, к коему присоединяются еще ум и высокие душевные качества. Надобно лишиться рассудка, чтобы упустить такое счастье.
Я весьма одобрял решение моего господина воспользоваться этим случаем и устроить свою судьбу и даже присоветовал ему несколько поторопить события, так как боялся неожиданной перемены. К счастью, дама еще больше меня дорожила этим делом. Она так умело распорядилась, что все приготовления к свадьбе были окончены в самый короткий срок. Не успели в Кордове узнать, что старая маркиза де Альменара собирается замуж за молодого дона Манрике де Медрана, как насмешники немедленно принялись зубоскалить насчет вдовы. Но как ни истощали они свой запас плоских шуток, им не удалось отвратить маркизу от ее намерения. Она позволила всему городу чесать языки, а сама пошла к алтарю со своим кавалером. Их свадьба была отпразднована с пышностью, которая опять-таки подала повод к злословию. Поговаривали, что новобрачная должна была бы из стыдливости отказаться, по крайней мере, от треска и блеска, которые вовсе не к лицу старым вдовицам, выходящим замуж за юнцов. Маркиза же вместо того чтобы стыдиться своего супружества с кавалером, без стеснения отдавалась радости, которую это ей доставляло. Она устроила большой ужин с концертом, и все празднество закончилось балом, на который съехались благородные особы обоего пола со всей Кордовы. Под конец бала наши новобрачные ускользнули в особые покои, где они заперлись с одной только горничной и со мной, что подало гостям новый повод позлословить насчет темперамента маркизы. Но эта дама находилась совсем в другом расположении духа, чем они полагали. Очутившись наедине с моим барином, она отнеслась к нему с такими словами:
– Дон Манрике, вот ваша половина, а моя находится на другом конце дома. Мы будем проводить ночь в раздельных опочивальнях, а днем будем жить друг с другом, как мать с сыном.
Кавалер сперва ошибочно истолковал ее слова: ему показалось, что дама говорила так лишь для того, чтобы побудить его к нежной настойчивости; полагая поэтому, что ему следует из вежливости проявить страсть, он приблизился к ней и услужливо предложил заменить ей горничную. Но она не только не позволила ему помочь ей при раздевании, но с серьезным видом отвела его руку и сказала:
– Остановитесь, дон Манрике! Вы заблуждаетесь, принимая меня за одну из тех нежных старушек, что выходят замуж по женской слабости. Я не для того обвенчалась с вами, чтобы заставить вас покупать те преимущества, которые доставляет вам наш брачный контракт. Это – дары от чистого сердца, и от вашей признательности я не требую ничего, кроме дружеских чувств.
С этими словами она покинула нас и удалилась вместе со своей девушкой, настрого запретив кавалеру следовать за ней.
После ее ухода мы с барином долгое время пребывали в изумлении от того, что слышали.
– Сипион, – сказал мне кавалер, – снилось ли тебе когда-нибудь, что маркиза обратится ко мне с подобной речью? Что ты думаешь о такой даме?
– Я думаю, сеньор, – отвечал я ему, – что другой такой женщины нет на свете. Какое счастье для вас быть ее мужем! Это – все едино, что получать с бенефиции доходы, а расходов не нести.
– Что касается меня, – возразил дон Манрике, – то я восхищаюсь столь достойным характером своей супруги и надеюсь вознаградить ее всеми возможными знаками внимания за жертву, которую она принесла деликатности своих чувств.
Мы еще некоторое время поговорили об этой даме, а затем улеглись спать, я – на лежанке в чуланчике, а мой барин – на приготовленной для него великолепной постели, и я подозреваю, что в глубине души он был очень рад, что спит там в одиночестве, хотя и испытывал к этой великодушной особе такую благодарность, что был вполне способен забыть ее возраст.
Увеселения на следующий день возобновились, и новобрачная была в таком прекрасном расположении духа, что опять дала обильную пищу досужим зубоскалам. Маркиза первая смеялась всему, что они говорили; она даже побуждала шутников к веселью, охотно идя навстречу их выпадам. Кавалер, со своей стороны, казался не менее довольным своею супругою; по нежности, с которой он глядел на нее или говорил с нею, его можно было принять за любителя отживших прелестей. Вечером снова произошел разговор между супругами, во время которого было решено, что оба будут жить, не стесняя друг друга, точно так же, как жили до брака. Все же следует отдать справедливость дону Манрике, он из уважения к жене сделал то, что не всякий муж сделал бы на его месте: он порвал с одной мещаночкой, которую любил и чьей взаимностью пользовался, не желая, как он выражался, поддерживать связь, которая так грубо противоречила бы деликатному поведению его супруги по отношению к нему.
В то время как он оказывал этой пожилой даме столь чувствительные знаки благодарности, она платила ему с лихвою, хотя ничего о них не знала. Она сделала его хозяином своего денежного сундука, который стоил дороже, чем сундук Веласкеса. Во время вдовства она произвела некоторые изменения в своем доме; но теперь она снова поставила его на ту же ногу, что и при первом муже: увеличила штат прислуги, наполнила конюшни лошадьми и мулами; словом, самый нищий кавалер ордена Алькантары сразу стал самым богатым. Вы, может быть, спросите меня, что я сам заработал на этом деле. Я получил пятьдесят пистолей от хозяйки и сто от хозяина, который в придачу сделал меня своим секретарем с окладом в четыреста эскудо. Он даже настолько доверял мне, что пожелал назначить своим казначеем.
– Казначеем? – воскликнул я, прерывая Сипиона в этом месте рассказа и разразившись хохотом.
– Да, сеньор, – ответил он холодным и серьезным тоном, именно казначеем. И я осмелюсь даже сказать, что с честью исправлял эту должность. Правда, я, может быть, еще кое-что должен кассе, ибо забирал свое жалование авансом, а затем внезапно бросил службу у дона Манрике. Таким образом, не исключена возможность, что за казначеем кое-что осталось. Во всяком случае, это последний упрек, который можно мне сделать, ибо с тех пор я всегда отличался прямотой и честностью.
– Итак, – продолжал сын Косколины, – я был секретарем и казначеем дона Манрике, который, казалось, был столь же доволен мной, сколь и я – им… как вдруг он получил письмо из Толедо, сообщавшее о том, что его тетушка, донья Теодора Моска, находится при смерти. Он так близко принял к сердцу печальное известие, что немедленно выехал к этой даме, которая с течение многих лет заменяла ему мать. Я сопровождал его в этом путешествии с камердинером и одним только лакеем. Верхом на лучших скакунах нашей конюшни мы вчетвером со всею поспешностью прибыли в Толедо, где застали донью Теодору в состоянии, позволявшем нам надеяться, что она не умрет от своей болезни. И действительно, наш прогноз (хотя и несогласовавшийся с мнением старого лекаря, который ее пользовал) не был опровергнут фактами.
Покамест здоровье нашей доброй тетушки восстанавливалось на глазах у всех, может быть, не столько благодаря лекарствам, которые ей давали, сколько благодаря присутствию любимого племянника, господин казначей проводил время наиприятнейшим образом в обществе молодых людей, знакомство с коими могло доставить ему не один случай растрясти свои денежки. Я не только устраивал по их наущению галантные празднества в честь дам, с которыми знакомился через них, но они, кроме того, увлекали меня в игорные дома и приглашали принять участие в их игре. Не будучи столь же искусным игроком, как мой бывший хозяин дон Абель, я гораздо чаще проигрывал, нежели выигрывал. Я незаметно для себя пристрастился к этому занятию, и если бы целиком отдался своей страсти, то она, без сомнения, заставила бы меня позаимствовать из кассы кой-какие авансы. Но, по счастью, любовь спасла хозяйскую казну и мою добродетель. Однажды, проходя неподалеку от церкви de los Royеs [196] , я заметил за решеткой окна, занавески коего не были спущены, молодую девушку, показавшуюся мне скорее божеством, нежели смертной женщиной. Я воспользовался бы еще более сильным выражением, если бы такое существовало, чтобы вернее описать вам впечатление, которое вид ее на меня произвел. Я стал наводить о ней справки и путем долгих расспросов узнал, что зовут ее Беатрис и что она находится в услужении у доньи Хулии, младшей дочери графа Полана.
Тут Беатрис прервала Сипиона, смеясь во все горло; затем она сказала, обращаясь к моей жене:
– Прелестная Антония, пожалуйста, взгляните на меня пристально: похожа ли я, по-вашему, на божество?
– Вы были им тогда в моих глазах, – сказал ей Сипион, – а с тех пор как я больше не сомневаюсь в вашей верности, вы кажетесь мне еще красивее, чем прежде. После столь галантной реплики мой секретарь продолжал свое повествование:
– Это открытие окончательно меня воспламенило, но, правда, не совсем дозволенным огнем: я воображал, что без труда восторжествую над ее добродетелью, если начну соблазнять ее подарками, способными ее поколебать. Но я неправильно судил о целомудренной Беатрис. Сколько я ни предлагал ей через наемных сводниц свой кошелек и услуги, она гордо отвергала все мои предложения. Ее сопротивление не только не охладило моих желаний, а, напротив, разожгло их. Я прибег к крайнему средству: предложил ей свою руку, которую она приняла, узнавши, что я секретарь и казначей дона Манрике. Так как мы считали нужным скрывать свой брак, то обвенчались тайно в присутствии сеньоры Лоренсы Сефоры, жившей в дуэньях у Серафины, и нескольких служителей графа Полана. Как только я женился на Беатрис, она доставила мне возможность видеться с нею днем и беседовать по ночам в саду, куда я проникал через калитку, ключ от коей она мне вручила. Никогда еще двое супругов не были так довольны друг другом, как мы с Беатрис: с равным нетерпением ожидали мы часа свидания, с равной поспешностью туда бежали, и время, проводимое вдвоем, порою весьма долгое, всегда представлялось нам чересчур коротким.
В некую ночь, оказавшуюся для меня столь же жестокой, сколь сладостны были прежние, я при входе в сад был немало поражен, заставши калитку отворенной. Эта неожиданность меня встревожила: я счел ее дурным знаком. Я побледнел и задрожал, словно предчувствуя то, что со мною случится, и, пробираясь в темноте к зеленой беседке, где обычно встречался со своей женой, услыхал мужской голос. Я сразу остановился, чтобы лучше слышать, и слух мой немедленно был поражен следующими словами:
– Не заставляйте же меня томиться, дорогая Беатрис; сделайте блаженство полным, подумайте о том, что и ваше счастье с этим связано.
Вместо того чтобы терпеливо выслушать продолжение разговора, я решил, что мне незачем дольше ждать. Ревнивое бешенство овладело моим сердцем, и, дыша одной только местью, я выхватил шпагу и неожиданно ворвался в беседку.
– Ах, подлый соблазнитель! – воскликнул я. – Кто бы ты ни был, тебе придется лишить меня жизни, прежде чем ты похитишь мою честь!
С этими словами я напал на кавалера, разговаривавшего с Беатрис. Он быстро стал в позитуру и сражался, как человек, гораздо лучше меня владевший оружием, ибо мне удалось взять лишь несколько уроков фехтования в Кордове. Однако же, хоть и был он искусным бретером, я нанес ему удар, которого он не смог отразить, или, вернее, он оступился… Я увидел, что он упал, и, вообразив, что ранил его насмерть, пустился бежать со всех ног, не пожелав даже ответить звавшей меня жене.
– Так оно и было, – прервала Беатрис Сипиона, обращаясь к нам. – Я звала его, чтобы вывести из заблуждения. Сеньор, с которым я разговаривала в беседке, был дон Фернандо де Лейва. Этот вельможа, влюбленный в мою госпожу Хулию, решил ее похитить, думая, что иным способом не получит ее руки; я сама назначила ему свидание в саду, чтобы обсудить с ним это похищение, от которого, как он говорил, зависело его счастье. Но сколько я ни звала своего мужа, он, ослепленный гневом, покинул меня, как изменницу.
– В том состоянии, в котором я тогда находился, – продолжал Сипион, – я был готов на все. Тот, кто знает по опыту, что такое ревность и на какие сумасбродства толкает она самые ясные головы, нимало не удивится беспорядку, который она производила в моем слабом мозгу. Я поминутно бросался из крайности в крайность. Я почувствовал, как приливы ненависти сменяют нежные чувства, которые я за минуту перед тем питал к своей супруге. Я поклялся ее покинуть, изгнать ее навсегда из своей памяти. Кроме того, я воображал, что убил дворянина. Находясь в таком заблуждении и опасаясь попасть в руки правосудия, я испытывал то зловещее беспокойство, которое, как фурия, преследует повсюду человека, только что совершившего преступление. В столь ужасной ситуации, помышляя только о своем спасении, я не вернулся домой, а в тот же день покинул Толедо без каких-либо пожитков, кроме надетого на мне платья. Правда, в кармане у меня оказалось около шестидесяти пистолей, что все-таки было неплохим подспорьем для молодого человека, рассчитывавшего прожить всю жизнь в услужении.
Я прошагал или, вернее сказать, пробегал всю ночь, ибо образ альгвасилов, непрестанно представлявшихся моему воображению, все время придавал мне новую силу. Заря застала меня между Родильяс и Македой. Дойдя до этого последнего местечка и ощущая некоторую усталость, я вошел в церковь, которую только что отперли. Сотворив краткую молитву, я уселся на скамейку для отдыха. Тут я принялся размышлять над своим положением, дававшим мне достаточно поводов для беспокойства. Но у меня не хватило времени закончить эти размышления. Шум от трех-четырех ударов бича отдался под сводами храма, из чего я заключил, что мимо проезжает какой-нибудь погонщик. Я тотчас же поднялся, чтобы проверить свое предположение, и, дойдя до дверей, действительно увидел погонщика, сидевшего верхом на муле и ведшего двух других на поводу.
– Стойте-ка, приятель, – сказал я ему. – Куда идут ваши мулы?
– В Мадрид, – отвечал он. – Я привез оттуда в Македу двух добрых иноков св. Доминика, а теперь возвращаюсь назад.
Представлявшийся случай пропутешествовать в Мадрид соблазнил меня; я сторговался с погонщиком, сел на одного из мулов, и мы двинулись в Ильескас, где собирались заночевать. Не успели мы выехать из Македы, как погонщик, человек лет тридцати пяти или сорока, во весь голос затянул церковные песнопения. Он начал с молитв, которые каноники поют у заутрени; потом пропел «Верую», как у большой обедни; а затем, перейдя к вечерне, отчитал ее всю до конца, не освободив меня даже от «Magnificat» [197] . Хотя этот дуралей и прожужжал мне уши, я все же не мог удержаться от смеха и даже побуждал его продолжать, когда ему приходилось останавливаться, чтобы перевести дух.
– Смелее, приятель, – говорил я ему, – продолжайте! Если небо наградило вас здоровенными легкими, то вы даете им недурное применение.
– Да, что верно, то верно! – воскликнул он. – Я, слава богу, не похож на большинство ямщиков, которые не поют ничего, кроме непотребных или нечестивых песен; я даже не распеваю романсов о наших войнах с маврами, ибо вы, конечно, согласитесь, что это вещи хоть и не безобразные, но, по меньшей мере, легкомысленные и недостойные доброго христианина.
– Вы обладаете, – отвечал я ему, – чистотою души, чрезвычайно редкой у погонщиков. При вашей крайней щепетильности в выборе песнопений вы, вероятно, дали и обет целомудрия в отношении постоялых дворов, где имеются молодые служанки.
– Разумеется, – ответствовал он, – воздержание тоже одно из правил, которых я крепко держусь во всех подобных местах; я отдаюсь там исключительно заботам о своих мулах.
Я немало изумился, услышав такие речи из уст этого феникса погонщиков, и, поняв, что он человек добродетельный и умный, завязал с ним беседу, после того как он попел в полное свое удовольствие.
Мы прибыли в Ильескас под вечер. Приехав на постоялый двор, я предоставил своему спутнику заботу о мулах, а сам пошел на кухню, где велел хозяину изготовить нам добрый ужин, с чем он и обещал так хорошо управиться, что я, по его выражению, всю жизнь буду помнить о том, как гостил у него в доме.
– Спросите, – добавил он, – спросите у своего погонщика, что я за человек. Черт побери! Пусть-ка мадридские или толедские кухари попробуют состряпать такую олья подрида, чтоб она могла сравниться с моей! Нынче вечером я угощу вас заячьим рагу собственного изготовления. Вы увидите, зря ли я похваляюсь своим искусством.
Засим, указывая мне на кастрюлю, в которой, по его словам, лежал свеженарубленный заяц, он продолжал:
– Вот чем я собираюсь попотчевать вас на ужин, добавив сюда еще жареную баранью лопатку. Когда я приправлю это солью, перцем, вином, щепоткой пахучих трав и еще кой-какими специями, которые употребляю для соусов, то надеюсь подать вам рагу, достойное королевского казначея.
Расхвалив таким образом себя, хозяин принялся готовить ужин. Покуда он с этим возился, я вошел в горницу и, повалившись на стоявшую там койку, уснул от утомления, так как во всю прошлую ночь не знал ни минуты покоя. Часа через два пришел погонщик и разбудил меня.
– Сеньор кавальеро, – сказал он мне, – ваш ужин готов; пожалуйте к столу.
В горнице стоял стол, а на нем два прибора. Мы с погонщиком уселись, и нам подали рагу. Я с жадностью на него набросился и нашел его чрезвычайно вкусным, оттого ли, что голод заставлял меня судить о нем слишком благосклонно или по причине специй, употребленных кухарем. Принесли нам затем кусок жареной баранины, и, заметив, что погонщик сделал честь лишь этому последнему блюду, я спросил его, почему он не прикоснулся к первому. Он отвечал мне с усмешкой, что не любит рагу. Эта реплика или, вернее, сопровождавшая ее усмешка показалась мне подозрительной.
– Вы скрываете от меня, – сказал я ему, – истинную причину, почему вы не едите рагу; сделайте одолжение и поведайте мне ее.
– Коль скоро вы так любопытствуете ее узнать, – отвечал он, – то я вам скажу, что мне противно набивать себе желудок этого рода крошевом с тех пор, как в одной харчевне по дороге из Толедо в Куэнсу меня однажды вечером угостили вместо откормленного кролика рубленой кошкой. Это внушило мне отвращение ко всяческим фрикасе.
Не успел погонщик произнести эти слова, как, несмотря на терзавший меня голод, я сразу потерял аппетит. Мне представилось, что я поел того зайца, который по крышам бегает, и я уже не мог смотреть на свое рагу без гадливой гримасы. Мой спутник не разубеждал меня, а, напротив, сообщил, что испанские гостиники, а равно и пирожники, довольно часто пускают в ход эту «игру слов». Такие речи, как видите, были весьма утешительны: и в самом деле, у меня пропало всякое желание не только вернуться к рагу, но даже прикоснуться к жаркому из опасения, что баран окажется столь же подлинным, как и кролик. Я встал из-за стола, проклиная рагу, хозяина и харчевню, но, улегшись на койку, провел ночь спокойнее, чем ожидал. На следующее утро, расплатившись с хозяином так щедро, словно он и впрямь меня отлично угостил, я спозаранку выехал из местечка Ильескас, преследуемый неотступными мыслями о рагу, так что принимал за котов всех встречавшихся по дороге животных.
Я засветло прибыл в Мадрид, где, рассчитавшись с погонщиком, тотчас же нанял меблированную комнату недалеко от Пуэрта дель Соль. Хотя глаза мои уже привыкли к большому свету, все же я был ослеплен при виде важных персон, обычно съезжающихся в дворцовый квартал. Я изумлялся огромному количеству карет и бесчисленному множеству дворян, пажей и слуг, составлявших свиту вельмож. Мое восхищение удвоилось, когда, посетив однажды утренний прием, я увидел короля, окруженного царедворцами. Я был очарован этим зрелищем и сказал про себя:
«Какой блеск! Какое величие! Я больше не удивляюсь разговорам о том, что надо видеть Мадрид, чтобы постигнуть его великолепие; я в восторге оттого, что сюда приехал; предчувствую, что здесь я чего-нибудь добьюсь».
Однако же я не добился ничего, кроме нескольких бесплодных знакомств. Я мало-помалу истратил все свои деньги и был очень счастлив, когда мне при всех моих талантах удалось поступить в услужение к саламанскому педанту, с которым свел меня случай и которого привело в Мадрид, его родной город, какое-то семейное дело. Я сделался его фактотумом и последовал за ним в саламанкский университет, когда он туда вернулся.
Новый мой хозяин прозывался дон Иньясио де Ипинья. «Дон» он прибавлял к своему имени потому, что был наставником у одного герцога, который назначил ему пожизненную пенсию; вторую пенсию он получал в качестве заслуженного профессора; а сверх того он выколачивал у публики ежегодный доход в две-три сотни пистолей при помощи книг по догматической морали, которые он повадился печатать. Способ, примененный им при составлении своих научных трудов, заслуживает почетного упоминания. Все дни прославленный дон Иньясио проводил в чтении еврейских, греческих и латинских писателей и выносил на бумажные квадратики всякое изречение или блестящую мысль, которую он у них находил, По мере заполнения бумажек он приказывал мне нанизывать их на проволоку в виде гирлянды, и каждая такая гирлянда составляла том. Сколько скверных книжонок мы состряпали! В редкий месяц мы доставляли меньше двух томов, и печатный станок жалобно скрипел, оттискивая их. Всего удивительнее было то, что эти компиляции сходили за новые сочинения, а если критики решались упрекнуть автора в том, что он грабит древних, тот с горделивой наглостью отвечал: «Furto laetamur in ipso» [198] .
Он был также великим комментатором и в комментариях своих проявлял такую эрудицию, что иногда составлял и примечания к вещам, ничем не примечательным. Так как на своих бумажках он часто выписывал (хотя и не всегда кстати) цитаты из Гесиода и других авторов, то я все же получил от этого ученого кое-какую пользу; было бы неблагодарностью с моей стороны не признавать этого. Я усовершенствовал свой почерк, переписывая его работы; и кроме того, обращаясь со мною скорее как с учеником, нежели как со слугой, он заботился не только о моем образовании, но и о нравственном воспитании.
– Сипион, – говорил он мне, услыхав случайно, что кто-нибудь из прислуги попался в воровстве, – остерегись, дитя мое, следовать дурному примеру этого мошенника. Слуга должен служить своему господину с преданностью и рвением и стараться стать добродетельным с помощью собственных усилий, если уже ему выпало несчастье не быть таковым от природы.
Одним словом, дон Иньясио не пропускал ни одного случая, чтобы наставить меня на путь добродетели, и его увещания так хорошо на меня воздействовали, что за все пятнадцать месяцев, что я у него прослужил, я ни разу не испытывал искушения сыграть с ним какую-нибудь штуку.
Я уже говорил, что доктор Ипинья был уроженцем Мадрида. У него была там родственница, по имени Каталина, служившая в девушках у королевской кормилицы. Эта служанка, – та самая, чьей помощью я впоследствии воспользовался, чтоб вызволить из Сеговииской башни сеньора де Сантильяна, – желая оказать услугу дону Иньясио, уговорила свою хозяйку испросить для него бенефиций у герцога Лермы. Министр сделал его архидиаконом Гренады, где (яко на земле, отвоеванной у неприятеля) замещение духовных должностей зависит от короля.
Мы выехали в Мадрид, как только до нас дошла эта весть, так как доктор хотел выразить признательность своим благодетельницам, прежде чем отправиться в Гренаду. Мне представилось множество случаев видеть Каталину и говорить с нею. Мой веселый нрав и непринужденные манеры ей понравились. Мне же она настолько пришлась по вкусу, что я не мог не отвечать тем же на некоторые знаки расположения, которые она мне оказывала. В конце концов мы сильно привязались друг к другу. Простите мне это признание, дорогая Беатрис: я считал вас изменницей, и это заблуждение послужит мне защитой от ваших упреков.
Тем временем доктор дон Иньясио готовился отбыть в Гренаду. Мы с его родственницей, испуганные угрозой скорой разлуки, прибегли к способу, который спас нас от этой беды. Я притворился больным, жаловался на голову, жаловался на грудь и являл все признаки человека, пораженного целой кучей недугов. Хозяин мой пригласил врача, что привело меня в трепет. Я боялся, что этот Гиппократ признает меня совершенно здоровым. Но, на мое счастье, после тщательного осмотра он, точно сговорившись со мной, заявил напрямик, что моя болезнь серьезнее, чем я думаю, и что, по всей видимости, мне еще долго нельзя будет выходить. Дон Иньясио, которому не терпелось увидеть свой собор, не считал нужным отложить отъезд. Он предпочел взять в услужение другого парня и удовольствовался тем, что покинул меня на попечение сиделки, вручив ей некоторую сумму денег, чтоб похоронить меня, если я умру, или вознаградить за услуги, если выздоровею.
Едва только я узнал об отъезде дона Иньясио в Гренаду, как немедленно же излечился от всех своих недугов. Я встал, отпустил проницательного врача и отделался от сиделки, укравшей у меня половину той суммы, которую должна была мне вручить. Покамест я играл роль больного, Каталина представляла перед своей госпожой, доньей Анной де Гевара, другую комедию, уговаривая ее, что я создан для интриги, и внушая ей желание сделать меня одним из своих агентов. Королевская кормилица, которая из страсти к наживе нередко пускалась на разные предприятия и нуждалась в такого рода людях, приняла меня в число своих слуг и не замедлила испытать мою преданность. Она стала давать мне поручения, требовавшие некоторой ловкости, и, скажу без похвальбы, я недурно с ними справлялся. Поэтому она была столь же довольна мною, сколь я был справедливо недоволен ею: эта дама была так скупа, что не предоставляла мне ни малейшей доли от тех плодов, которые она пожинала благодаря моему проворству и моим трудам. Она воображала, что, аккуратно платя мне жалованье, проявляет по отношению ко мне достаточную щедрость. Эта чрезмерная скаредность пришлась мне не по нутру, и я, наверное, вскоре покинул бы донью Анну, если бы меня не удерживали ласки Каталины, которая, изо дня в день все более воспламеняясь любовью, наконец открыто предложила мне на ней жениться.
– Не торопитесь, любезная моя, – сказал я ей, – эта церемония не может так быстро состояться: сперва мне нужно узнать о смерти одной юной особы, которая вас опередила и мужем коей я стал за мои грехи.
– Как бы не так! – отвечала Каталина. – Я не такая простушка, чтоб этому поверить. Вы хотите убедить меня, что уже связаны браком. А для чего? Видимо, для того, чтоб вежливо прикрыть свое нежелание взять меня в жены.
Тщетно я заверял ее, что говорю правду; мое искреннее признание она сочла своим поражением и, почувствовав себя обиженной, переменила обращение со мною. Мы не поссорились, но наши отношения явно становились все холоднее, и мы ограничивались в общении друг с другом лишь требованиями учтивости и благопристойности.
При таких обстоятельствах я узнал, что сеньору Жиль Бласу де Сантильяна, секретарю первого министра испанской короны, требуется лакей, и эта должность тем больше меня прельщала, что мне рассказывали о ней, как о самой приятной из всех, какие я мог бы занять.
– Сеньор де Сантильяна, – говорили мне, – весьма достойный кавалер, очень ценимый герцогом Лермой, который поэтому, наверное, далеко пойдет. Кроме того, сердце у него щедрое: обделывая его дела, вы и свои отлично устроите.
Я не упустил этого случая и представился сеньору Жиль Бласу, к которому сразу же почувствовал расположение и который принял меня на службу по одному моему внешнему виду. Я без колебаний покинул ради него королевскую кормилицу, и он будет, если бог захочет, последним моим хозяином.
На этом месте Сипион закончил свой рассказ, а затем добавил, обращаясь ко мне:
– Сеньор де Сантильяна, окажите мне милость и подтвердите этим дамам, что вы всегда находили во мне слугу, столь же верного, сколь и ревностного. Мне необходимо ваше свидетельство, чтобы убедить их в том, что сын Косколины исправился и добродетельными чувствами заменил порочные наклонности.
– Да, сударыня, – сказал я тогда, – могу вам в этом поручиться. Если в детстве своем Сипион был истинным «пикаро», то с тех пор он совершенно исправился и стал образцом безупречного слуги. Не только я не могу пожаловаться на его поведение в отношении меня, но должен сознаться, что весьма многим ему обязан. В ночь, когда меня схватили и отвезли в Сеговийскую башню, он спас от разграбления и спрятал в надежное место часть моих вещей, которые безнаказанно мог бы себе присвоить. Но он не удовольствовался сохранением моего имущества: из чистой дружбы он заперся вместе со мною в тюрьме, предпочитая прелестям свободы сомнительное удовольствие разделить со мною муки заключения.
Книга одиннадцатая
Глава I О величайшей радости, когда-либо испытанной Жиль Бласом, и о печальном происшествии, ее омрачившем. О переменах, наступивших при дворе и послуживших причиной того, что Жиль Блас туда возвратился
Я уже говорил, что Антония и Беатрис отлично уживались друг с другом, так как одна привыкла к подчиненному положению субретки, а другая охотно приучалась к роли хозяйки. Мы с Сипионом были мужьями столь предупредительными и столь любимыми своими супругами, что вскоре испытали счастье стать отцами. Они забеременели почти одновременно. Первой разрешилась Беатрис и произвела на свет дочку, а через несколько дней Антония преисполнила всех нас радости, подарив мне сына. Я послал своего секретаря в Валенсию, чтобы сообщить эту новость губернатору, который прибыл в Лириас с Серафиною и маркизой де Плиего, чтобы стать воспреемником наших детей, почитая за удовольствие прибавить этот знак своего расположения к прежним благодеяниям, которых я от него удостоился. Моего сына, крестным коего был этот сеньор, а крестной – маркиза, нарекли Альфонсом; а губернаторша, пожелавшая, чтобы я дважды стал ей кумом, держала вместе со мною у купели дочь Сипиона, которой мы дали имя Серафина.
Рождение моего сына обрадовало не только обитателей замка, но и лириасские поселяне ознаменовали его празднествами, показавшими, что вся деревня принимает участие в радостях своего сеньора. Увы! Веселье наше продолжалось недолго, или, вернее, оно внезапно превратилось в сетования, жалобы и причитания вследствие события, которое протекшие с тех пор двадцать лет не смогли заставить меня позабыть и которое до сих пор живет в моей памяти. Сын мой умер, и мать его, хотя роды сошли благополучно, вскоре последовала за ним: летучая лихорадка унесла любезную мою супругу после четырнадцати месяцев замужества. Пусть читатель, если возможно, представит себе горе, меня охватившее! Я впал в тупое уныние. Слишком сильно чувствуя свою утрату, я казался как бы бесчувственным. Пять или шесть дней пробыл я в таком состоянии. Я не хотел принимать никакой пищи, и, не будь Сипиона, я, вероятно, уморил бы себя голодом или помешался. Но этот искусный секретарь сумел обмануть мою скорбь, приспособившись к ней. Он заставлял меня глотать бульон, поднося мне его с таким огорченным лицом, точно он дает его не для того, чтобы сохранить мою жизнь, а чтобы растравить горе.
Тот же преданный слуга написал дону Альфонсо, чтобы известить его о происшедшем несчастье и о жалостном состоянии, в коем я обретался. Этот добрый и сострадательный сеньор, этот великодушный друг вскоре приехал в Лириас. Не могу без слез вспомнить тот момент, когда он предстал моим глазам.
– Дорогой Сантильяна, – проговорил он, обнимая меня, – я не для того приехал сюда, чтобы вас утешать; я приехал, чтобы оплакать вместе с вами Антонию, как вы оплакивали бы со мной Серафину, если бы Парки похитили ее у меня.
И действительно, он проливал слезы и присоединил свои вздохи к моим. Сколь ни был я подавлен печалью, я не мог не чувствовать доброты дона Альфонсо.
Губернатор имел длительный разговор с Сипионом о том, что нужно сделать, чтобы сломить мое горе. Они решили, что хорошо было бы на время удалить меня из замка, где все непрестанно рисовало мне образ Антонии. После этого сын дона Сесара предложил мне отправиться в Валенсию, а мой секретарь так умело поддержал его предложение, что я согласился. Я оставил Сипиона и его жену в замке, пребывание в котором действительно только растравляло мою рану, и уехал с губернатором. Когда я прибыл в Валенсию, дон Сесар и его невестка ничего не пожалели, чтобы ослабить мое горе: они беспрерывно доставляли мне всевозможные развлечения, способные меня рассеять; но несмотря на все заботы, я так и оставался погруженным в меланхолию, из которой они не могли меня извлечь. Сипион тоже не щадил сил, чтобы вернуть мне душевное спокойствие: он часто приезжал из деревни в Валенсию, чтобы справиться обо мне. Возвращался он то веселым, то печальным, в зависимости от того, насколько я поддавался или не поддавался утешениям. Эта черта мне очень понравилась; я был признателен за выказанные им дружеские чувства и радовался тому, что обладаю столь преданным слугой.
Однажды утром он вошел ко мне в комнату.
– Сеньор! – сказал он мне крайне взволнованным голосом. – В городе распространили слух, который интересует все королевство: говорят, что Филиппа III не стало и что принц-наследник вступил на престол. К этому добавляют, что кардинал герцог Лерма лишился своей должности [199] и что ему запрещено даже появляться при дворе, а также что дон Гаспар де Гусман граф Оливарес [200] стал первым министром.
При этом сообщении я, неизвестно отчего, почувствовал себя несколько взволнованным. Сипион это подметил и спросил, откликаюсь ли я как-нибудь на эти крупные перемены.
– А как хочешь ты, друг мой, чтоб я на них откликнулся? – отвечал я ему. – Ведь я покинул двор: все происходящие там пертурбации должны быть для меня безразличны.
– Для человека ваших лет, – возразил мне сын Косколины, – вы уж слишком отрешились от мира сего. Знаете, какое желание мне пришло бы на вашем месте, хотя бы из любопытства?
– Какое же? – прервал я его.
– Я поехал бы в Мадрид, – отвечал он, – и показал бы свою физиономию молодому королю, чтобы проверить, узнает ли он меня. Вот какое удовольствие я бы себе доставил.
– Понимаю, – сказал я ему, – тебе хотелось бы вернуть меня ко двору, чтобы я снова попытал счастья или, вернее, снова стал корыстолюбцем и честолюбцем.
– Почему вы думаете, что снова развратитесь? – возразил Сипион. – Имейте больше доверия к собственной нравственности. Я вам ручаюсь за вас самих. Здоровые взгляды на двор, которыми вы обязаны своей опале, помешают вам впредь бояться превратностей, сопряженных с придворной жизнью. Выходите смелее в море, все рифы коего вам известны.
– Умолкни, искуситель! – прервал я его с улыбкой. – Неужели тебе надоело видеть мое мирное житье? Я думал, что ты больше дорожишь моим покоем.
В этом месте нашей беседы вошли дон Сесар с доном Альфонсо. Они подтвердили известие о смерти короля и о немилости, постигшей герцога Лерму. Кроме того, они сообщили мне, что этот министр просил разрешения удалиться в Рим, но что ему было отказано с предписанием отправиться в свой маркизах, Дению. Затем, точно сговорившись с моим секретарем, они посоветовали мне съездить в Мадрид и показаться на глаза новому монарху, раз он меня знает и раз я даже оказывал ему такого рода услуги, которыми великие мира сего охотно вознаграждают.
– Я лично, – сказал дон Альфонсо, – не сомневаюсь в том, что он признает ваши заслуги. Филипп IV должен уплатить по долгам инфанта испанского.
– У меня такое же предчувствие, – сказал дон Сесар, – и я смотрю на поездку Сантильяны ко двору, как на средство, которое приведет его к высоким должностям.
– Поистине, государи мои, – воскликнул я, – вы не думаете о том, что говорите! Послушать вас, так мне стоит только появиться в Мадриде, как я сейчас же получу золотой ключ [201] или губернаторство. Но вы ошибаетесь. Я, напротив того, убежден, что король не обратит на мое лицо никакого внимания, когда я ему покажусь. Если хотите, я готов сделать опыт, чтобы вывести вас из заблуждения.
Господа де Лейва поймали меня на слове; мне пришлось уступить и пообещать им, что я немедленно выеду в Мадрид. Как только мой секретарь убедился в моем согласии совершить это путешествие, он предался неумеренной радости. Он воображал, что едва я появлюсь перед новым королем, как этот монарх отличит меня в толпе и осыпет почестями и богатством. Ввиду сего он баюкал себя самыми радужными мечтаниями, возносил меня до высших государственных должностей и строил собственную свою карьеру на моем повышении.
Итак, я решился вернуться ко двору, имея в виду не столько служить Фортуне, сколько удовлетворить дона Сесара и его сына, которым казалось, что я вскоре завоюю благосклонность монарха. По правде сказать, я сам ощущал в глубине души некоторое желание испытать, узнает ли меня юный государь. Влекомый этим любопытством, но не питая ни надежды, ни намерения извлечь какую-нибудь выгоду из нового царствования, я направился в Мадрид вместе с Сипионом, оставив свой замок на попечение Беатрис, которая стала превосходной хозяйкой.
Глава II Жиль Блас прибывает в Мадрид. Он появляется при дворе. Король его узнает и препоручает своему первому министру. Последствия этой рекомендации
До Мадрида мы доехали меньше чем за неделю, так как дон Альфонсо для большей скорости дал нам пару лучших своих коней. Мы пристали в меблированных комнатах, где я уже раньше останавливался, у моего прежнего хозяина Висенте Фореро, который с удовольствием меня принял.
Так как он гордился тем, что знал все происходящее как при дворе, так и в городе, то я спросил у него, есть ли какие-нибудь новости.
– Новостей немало, – ответил он. – Со времени смерти Филиппа III друзья и сторонники герцога Лермы лезли из кожи вон, чтобы удержать его на министерском посту; но усилия их оказались тщетными: граф Оливарес их одолел. Поговаривают, что Испания от этой перемены ничего не потеряла: новый министр обладает будто бы таким всеобъемлющим гением, что один мог бы управлять всем миром. Несомненно лишь то, – продолжал он, – что народ составил себе очень высокое мнение о его способностях: будущее покажет, хорошо или плохо заменил он герцога Лерму.
Усевшись на своего конька, Фореро подробно рассказал мне обо всех переменах, происшедших при дворе, с тех пор как граф Оливарес стал у кормила государственной власти.
Через два дня после моего приезда в Мадрид я в послеобеденное время отправился к королю и встал на его пути, когда он проследовал в свой кабинет; но король на меня не взглянул. На следующий день я вернулся на то же место, но и на сей раз мне также не посчастливилось. На третий раз он мимоходом окинул меня взглядом, но, казалось, не обратил никакого внимания на мою особу. После этого я принял твердое решение.
– Вот видишь, – сказал я сопровождавшему меня Сипиону, – король меня не узнает, а если и узнает, то не выражает ни малейшего желания возобновить со мной знакомство. Я думаю, что нам недурно было бы вернуться в Валенсию.
– Не будем торопиться, сеньор, – возразил мой секретарь. – Вы знаете лучше моего, что только терпением можно добиться успеха при дворе. Продолжайте показываться государю: постоянно попадаясь ему на глаза, вы заставите его внимательнее в вас вглядываться и вспомнить черты своего ходатая перед прелестной Каталиной.
Дабы Сипион ни в чем больше не мог меня упрекнуть, я из любезности к нему продолжал тот же маневр в течение трех недель; и наконец настал день, когда монарх, остановив на мне удивленный взор, приказал позвать меня к себе. Я вошел в кабинет, испытывая некоторое волнение от свидания наедине со своим королем.
– Кто вы такой? – спросил он. – Ваше лицо мне несколько знакомо. Где я вас видел?
– Государь, – ответил я ему с дрожью в голосе, – я имел честь однажды ночью провожать ваше величество вместе с графом де Лемосом к…
– А! Помню, – прервал король. – Вы были секретарем герцога Лермы, и, если не ошибаюсь, ваше имя – Сантильяна. Я не забыл, что при этом случае вы служили мне с большим рвением и довольно скверно были вознаграждены за свой труд. Ведь вы, кажется, сидели в тюрьме за это приключение?
– Так точно, ваше величество, – отвечал я. – Мне пришлось просидеть шесть месяцев в Сеговийской крепости; но вы были столь милостивы, что освободили меня.
– Я не считаю, что этим уплатил свой долг Сантильяне, – отвечал он. – Недостаточно того, что я вернул ему свободу; я еще должен вознаградить его за страдания, которые он ради меня претерпел.
При этих последних словах в кабинет вошел граф Оливарес. Фаворитам все внушает опасение: граф изумился, увидев в кабинете незнакомца, а король еще усугубил его изумление, обратившись к нему со словами:
– Граф, я передаю вам из рук в руки этого молодого человека; дайте ему занятие; я возлагаю на вас заботу о его повышении.
Министр принял это предложение с притворно-любезным видом, оглядев меня с головы до пят и изо всех сил стараясь догадаться, кем бы я мог быть.
– Идите, друг мой, – добавил монарх, обращаясь ко мне и подавая мне знак, что я могу удалиться. – Граф не преминет использовать вас в интересах королевской службы и в ваших собственных.
Я немедля вышел из кабинета и присоединился к сыну Косколины, который, горя нетерпением узнать, что сказал мне король, пребывал в неописуемом волнении. Заметив на моем лице выражение удовольствия, он заявил:
– Если верить моим глазам, то мы как будто не возвращаемся в Валенсию, а остаемся при дворе.
– Весьма возможно, – отвечал я и немедленно же привел его в восторг, изложив ему короткий разговор, только что происшедший между мной и монархом.
– Дорогой хозяин, – сказал мне тогда Сипион в преизбытке радости, – будете ли вы впредь верить моим гороскопам? Сознайтесь, что вы теперь на меня не в претензии за то, что я побудил вас к поездке в Мадрид. Я уже вижу вас занимающим высокий пост: вы станете Кальдероном при графе Оливаресе.
– Вот чего мне вовсе не хочется! – прервал я его. – Это место окружено столькими пропастями, что оно ничуть меня не привлекает. Я хотел бы получить хорошую должность, на которой мне не представлялось бы случая совершать несправедливости и вести позорную торговлю королевскими милостями. После того употребления, которое я сделал из первого своего возвышения, я должен пуще всего быть настороже против жадности и честолюбия.
– Поверьте, сеньор, – отвечал мой секретарь, – министр даст вам какую-нибудь хорошую должность, которую вы сможете занимать, не переставая быть честным человеком.
Побуждаемый более Сипионом, нежели собственным любопытством, я на следующий же день еще до зари отправился к графу Оливаресу, ибо узнал, что всякое утро, как зимой, так и летом, он при свете свечи выслушивает всех, у кого есть до него нужда. Я скромно поместился в углу зала и оттуда внимательно рассматривал графа, когда тот появился, так как в кабинете короля я не обратил на него достаточного внимания. Я увидел человека ростом выше среднего, который мог сойти за толстяка в стране, где редко видишь нехудощавых людей. Плечи у него были настолько высокие, что я счел его горбатым, хотя он таковым не был; голова, отличавшаяся величиной необыкновенной, свесилась на грудь; волосы были черные и гладкие, лицо удлиненное оливкового цвета, рот впалый, а подбородок острый и сильно приподнятый.
Все это вместе не создавало впечатления статного вельможи, но, считая его к себе расположенным, я, несмотря на это, смотрел на него сквозь розовые очки и даже находил его лицо приятным. Правда, он выслушивал всех с любезным и добродушным видом и благосклонно принимал подносимые ему челобитные, что, казалось, заменяло ему красивую внешность. Однако, когда до меня дошла очередь поклониться ему и представиться, он бросил на меня суровый и угрожающий взгляд; затем, не удостоив выслушать, повернулся ко мне спиной и возвратился в свой кабинет. Тогда этот сеньор вдруг показался мне еще более безобразным, чем был на самом деле. Я вышел из зала, до крайности озадаченный таким сердитым приемом, и не знал, что и думать об этом.
Встретившись с Сипионом, который дожидался меня у дверей, я сказал ему:
– Знаешь ли ты, какой прием был мне оказан?
– Нет, – отвечал он. – Министр, спеша исполнить монаршую волю, вероятно, предложил вам значительный пост?
– Вот тут-то ты и ошибаешься, – возразил я и немедленно рассказал ему о том, как поступил со мной министр. Он выслушал меня внимательно и сказал:
– Очевидно, граф вас не узнал или принял за другого. Советую вам пойти к нему еще раз: без сомнения, он встретит вас более приветливо.
Я последовал совету своего секретаря и вторично показался на глаза министру, который принял меня еще хуже, чем в первый раз, и при взгляде на меня сдвинул брови, точно мой вид был ему в тягость; затем он отвел глаза и удалился, не сказав мне ни слова.
Я был задет за живое таким обращением и собирался немедленно же возвратиться в Валенсию. Но Сипион не преминул этому воспротивиться, не будучи в состоянии отрешиться от надежд, его окрыливших.
– Разве ты не видишь, – сказал я ему, – что граф хочет удалить меня от двора? Король сообщил ему о своем благорасположении ко мне, и этого довольно, чтобы навлечь на меня неприязнь фаворита. Уступим, друг мой, уступим добровольно силе столь грозного противника.
– Сеньор, – возразил Сипион в гневе на графа Оливареса, – я бы на вашем месте не уступил позиции такой дешевой ценой. Я добился бы удовлетворения за столь обидный прием, пожаловавшись королю на то, как мало ценит министр его рекомендацию.
– Дурной совет, мой друг, – сказал я ему. – Если бы я совершил столь неосторожный шаг, то вскоре бы в нем раскаялся. Я даже не знаю, не рискованно ли мне дольше оставаться в этом городе.
После таких слов секретарь мой образумился и, сообразив, что мы имеем дело с человеком, который мог вновь познакомить нас с Сеговийской крепостью, начал разделять мои опасения. Он перестал бороться с моим желанием покинуть Мадрид, откуда я собирался уехать на следующий же день.
Глава III О том, что воспрепятствовало Жиль Бласу выполнить свое решение и удалиться от двора. О важной услуге, оказанной ему Хосе Наварро
Возвращаясь к себе в гостиницу, я повстречал прежнего своего приятеля, Хосе Наварро, тафельдекера у дона Балтасара де Суньига. Несколько мгновений я колебался, не зная, притвориться ли мне, что я его не заметил, или лучше подойти к нему и попросить прощения за то, что так дурно с ним поступил. Решившись на последнее, я с поклоном остановил Наварро и сказал ему:
– Узнаете ли вы меня и хватит ли у вас великодушия не отказаться от беседы с жалким человеком, отплатившим неблагодарностью за выказанную вами дружбу?
– Итак, вы признаете, – сказал он, – что не очень хорошо поступили со мной?
– Признаю, – отвечал я, – и вы вправе осыпать меня упреками; я этого заслужил, если не считать, что мой поступок искуплен угрызениями совести, которые за ним последовали.
– Раз вы покаялись в своей вине, – отвечал Наварро, обнимая меня, – то я не должен о ней вспоминать.
Я тоже прижал Хосе к своей груди, и прежние наши чувства друг к другу возродились вновь.
Он слышал о моем аресте и крушении моей карьеры, но все дальнейшее было ему не известно. Я осведомил его обо всем, вплоть до недавней моей беседы с королем, и не скрыл от него скверного приема, оказанного мне министром, равно как и намерения вернуться в свое уединение.
– Ни в коем случае не уезжайте, – сказал он мне. – Раз монарх явил к вам благоволение, то вы должны извлечь из этого какую-нибудь пользу. Между нами будь сказано, граф Оливарес обладает несколько странным характером; у этого вельможи – множество всяких причуд: иногда он, как в данном случае, ведет себя возмутительно и никто, кроме него, не может объяснить этих сумасбродных выходок. Во всяком случае, каковы бы ни были причины оказанного вам дурного приема, стойте здесь твердой ногой: граф не помешает вам воспользоваться милостями монарха, в этом я могу вас уверить. Я замолвлю словечко своему господину, дону Балтасару де Суньига, который приходится дядей графу Оливаресу и разделяет с ним заботы управления.
Поговорив со мной таким образом, Наварро спросил, где я живу, и на том мы расстались.
Мне недолго пришлось его дожидаться. На другой же день он явился ко мне.
– Сеньор де Сантильяна, – сказал Наварро, – у вас есть покровитель: мой господин согласен оказать вам поддержку; после того как я рассказал ему о вас много хорошего, он обещал мне поговорить со своим племянником, графом Оливаресом. Я не сомневаюсь, что он расположит его в вашу пользу, и позволю себе даже сказать, что вы можете на это рассчитывать.
Не желая оказать мне лишь половинную услугу, мой друг Наварро через два дня представил меня дону Балтасару, который сказал мне любезным тоном:
– Сеньор де Сантильяна, ваш друг Хосе расхвалил мне вас в таких выражениях, которые заставляют меня действовать в ваших интересах.
Я отвесил сеньору де Суньига глубокий поклон и ответил, что до смерти буду чувствовать признательность к Наварро за то, что он доставил мне покровительство министра, которого справедливо величают «светочем государственного совета». В ответ на эти льстивые слова дон Балтасар рассмеялся, хлопнул меня по плечу и продолжал в следующих выражениях:
– Можете завтра же явиться к графу Оливаресу; вы останетесь им довольны.
Итак, я в третий раз предстал перед первым министром, который узнал меня в толпе и окинул взглядом, сопровождавшимся улыбкой, которую я счел за доброе предзнаменование.
«Дело идет на лад, – сказал я про себя. – Дядя, видно, урезонил племянника».
Я мог ожидать только благожелательного приема, и мои ожидания оправдались. Граф, выслушав всех, пригласил меня в свой кабинет и сказал фамильярным тоном:
– Друг Сантильяна, прости мне беспокойство, которое я причинил тебе, желая позабавиться; я доставил себе удовольствие помучить тебя, дабы испытать твое благоразумие и посмотреть, как ты поступишь с досады. Не сомневаюсь, что ты вообразил, будто мне не нравишься; напротив того, дитя мое, я признаюсь, что особа твоя пришлась мне как нельзя более по душе. Да, Сантильяна, я чувствую к тебе расположение: если бы даже мой государь не приказал мне позаботиться о твоей судьбе, я сделал бы это по собственному почину. Кроме того, мой дядюшка, дон Балтасар де Суньига, которому я ни в чем не могу отказать, просил меня смотреть на тебя, как на человека, в котором он принимает участие. Этого достаточно, чтобы я решился принять тебя на службу.
Это вступление оказало на меня такое действие, что все чувства во мне смутились. Я упал к ногам министра, который, подняв меня, продолжал в следующих выражениях:
– Возвращайся сюда после обеда и спроси моего управителя: он сообщит тебе те распоряжения, которые я ему дам.
С этими словами сиятельный граф вышел из кабинета, чтобы отстоять обедню, что он делал ежедневно после аудиенции, а затем отправился к королю на ранний прием.
Глава IV Жиль Блас завоевывает расположение графа Оливареса
Я не преминул после обеда явиться к первому министру и спросить управителя, который прозывался Рамон Капорис. Не успел я назвать свое имя, как он отвесил мне почтительный поклон и сказал:
– Будьте добры, сеньор, последовать за мной: я провожу вас в апартаменты, отведенные вам в этом дворце.
С этими словами он провел меня по маленькой лестнице к анфиладе в шесть покоев, занимавших второй этаж одного из крыльев дворца и довольно скромно обставленных.
– Вот помещение, – сказал он мне, – которое предоставляет вам его сиятельство. У вас будет стол на шесть персон, оплачиваемый за его счет. Служить вам будут его собственные лакеи; в вашем распоряжении постоянно будет карета. Это не все, – добавил он. – Его сиятельство повелело мне оказывать вам такое же внимание, как если бы вы принадлежали к дому Гусманов.
«Черт подери! Что это означает? – подумал я про себя. – Как мне понимать все эти знаки отличия? Нет ли тут какой-нибудь хитрости, и не вздумало ли его сиятельство опять позабавиться, оказывая мне такой почет? Весьма на это похоже, ибо с какой стати министр испанской монархии станет так обо мне заботиться?»
Пока я пребывал в такой неуверенности, колеблясь между страхом и надеждой, явился паж и сообщил, что граф требует меня к себе. Я немедленно же явился к его сиятельству и застал его одного в кабинете.
– Ну что, Сантильяна, – сказал он мне, – доволен ты своей квартирой и распоряжениями, которые я отдал Рамону?
– Милость вашего сиятельства кажется мне чрезмерной, – сказал я ему, – и я принимаю ее с трепетом.
– Почему? – возразил он. – Могу ли я оказать слишком много чести человеку, которого доверил мне король и о котором он поручил мне заботиться? Конечно нет. Я только исполняю свой долг, обходясь с тобой уважительно. Итак, не удивляйся тому, что я для тебя делаю, и знай, что тебе обеспечено блестящее и прочное положение, если ты будешь мне так же предан, как прежде герцогу Лерме. Говорят, – продолжал он, – что ты стоял с этим сеньором на дружеской ноге. Мне любопытно узнать, как вы познакомились и какие обязанности этот министр на тебя возлагал. Не скрывай от меня ничего: я требую от тебя чистосердечного рассказа.
Тут я вспомнил о затруднении, испытанном мною при подобных же обстоятельствах в разговоре с герцогом Лермою, и каким способом я тогда выпутался. Этот же способ я и теперь применил с большим успехом, то есть смягчил в своем повествовании все опасные места и легко проскользнул мимо обстоятельств, не служивших к моей чести. Я пощадил также герцога Лерму, хотя доставил бы больше удовольствия своему слушателю, если бы отнесся к нему безжалостно. Что же касается дона Родриго Кальдерона, то ему я ничего не простил. Я подробно описал все делишки, которые он обделывал, торгуя командорствами, бенефициями и губернаторствами.
– То, что ты сообщил мне о Кальдероне, – прервал меня министр, – согласуется с некоторыми донесениями о нем, которые были мне поданы и содержали еще более тяжкие пункты обвинения. Против него скоро начнется процесс, и если ты жаждешь его гибели, то я думаю, что твои желания исполнятся.
– Я не желаю его смерти, – сказал я, – хотя и нашел бы свою, будь его воля, в Сеговийской крепости, где пробыл довольно долго.
– Как? – воскликнул его сиятельство. – Так, значит, дон Родриго был причиной твоего ареста? Вот чего я не знал. Дон Балтасар, которому Наварро рассказал твою историю, правда, говорил мне, будто покойный король велел запереть тебя в наказание за то, что ты ночью водил инфанта в какое-то подозрительное место. Но это все, что я знаю, и не могу понять, какую роль играл Кальдерон в этой комедии.
– Роль любовника, мстящего за оскорбление, – отвечал я.
Тут же я подробно рассказал ему все приключение, которое показалось ему таким занятным, что при всей серьезности своего характера он не мог не засмеяться или, вернее, не заплакать от удовольствия. Каталина – то племянница, то внучка – бесконечно его забавляла, равно как и участие, которое принимал во всем этом герцог Лерма.
Когда я закончил свое повествование, граф отослал меня с обещанием, что завтра же не преминет дать мне должность. Я немедленно поспешил во дворец Суньига, чтобы поблагодарить дона Балтасара за его помощь и известить своего друга Хосе о беседе с первым министром и о благорасположении, которое выказал ко мне его сиятельство.
Глава V О тайной беседе Жиль Бласа с Наварро и о первом поручении, возложенном на Жиль Бласа графом Оливаресом
Увидев Хосе, я тут же с большим возбуждением сообщил ему, что о многом должен с ним переговорить. Он отвел меня в укромное место, где, изложив весь ход дела, я спросил его, что он думает обо всем мною сказанном.
– Я думаю, – ответил он, – что вы находитесь на пороге большой карьеры. Все вам улыбается: вы нравитесь первому министру; а кроме того (и это отнюдь не безделица), я могу оказать вам ту же услугу, которую некогда оказал вам мой дядя Мелькиор де ла Ронда, когда вы поступили на службу к гренадскому архиепископу. Он избавил вас от труда изучать прелата и главных его приближенных, раскрыв перед вами их характеры; я же, по его примеру, хочу познакомить вас с графом, с его супругой-графиней и с доньей Марией де Гусман, их единственной дочерью. Начнем с министра, – ум у него живой и проницательный, способный на великие замыслы. Он выдает себя за человека универсального, потому что обмакнул пальцы во все науки; он считает себя способным решить всякое дело, мнит себя глубоким юристом, великим полководцем и тончайшим политиком. Прибавьте к этому, что он постоянно упорствует в своих мнениях и склонен следовать им преимущественно перед чужими, дабы не показалось, будто он уступает другому в осведомленности. Между нами будь сказано, этот недостаток может привести к самым необычайным последствиям, от коих да сохранит господь наше королевство. В Совете он блещет природным красноречием и писал бы так же хорошо, как говорит, если бы, стараясь сообщить своему стилю большую возвышенность, не делал его слишком туманным и изысканным. Рассуждает он своеобразно; мысль у него капризна и причудлива. Таков портрет его ума, а вот – портрет его сердца. Он великодушен и верен в дружбе. Говорят, будто он мстителен. Но какой же испанец не мстителен? Кроме того, его обвиняют в неблагодарности за то, что он отправил в ссылку герцога Уседекого и брата Луиса Алиагу, которым, как говорят, многим был обязан. Но и это следует ему простить; желание стать первым министром избавляет от обязанности быть благодарным.
Донья Агнеса де Суньига де Веласко, графиня Оливарес, – продолжал Хосе, – дама, обладающая, насколько мне известно, лишь одним недостатком: она на вес золота продает те милости, которые выхлопатывает. Что касается доньи Марии де Гусман, которая безусловно является сейчас самой выгодной невестой во всей Испании, то это – особа, совершенная во всех отношениях и боготворимая своими родителями. Примите это к руководству: старайтесь как следует угождать этим дамам и делайте вид, будто вы еще более преданы графу Оливаресу, чем герцогу Лерме до вашего путешествия в Сеговию. Таким образом, вы сделаетесь персоной, осыпанной почестями и богатствами. Кроме того, советую вам, – добавил он, – от времени до времени навещать моего господина, дона Балтасара: хотя для продвижения по службе он вам больше не нужен, все же не забывайте оказывать ему внимание. Он о вас хорошего мнения, старайтесь сохранить его уважение и дружбу; при случае он может быть вам полезен.
– Поскольку дядя и племянник, – спросил я у Наварро, – вместе правят государством, не возникает ли между ними некоторой зависти?
– Напротив, – отвечал он, – они действуют в самом тесном единении. Без дона Балтасара граф Оливарес, может быть, не стал бы первым министром, так как ведь после смерти Филиппа III все друзья и сторонники Сандовальского дома лезли из кожи вон: кто ради кардинала, кто ради его сына; но мой господин, самый ловкий из царедворцев, и граф, тоже не меньший хитрец, разрушили их планы и приняли такие правильные меры, чтобы обеспечить за собой этот пост, что победили всех своих соперников. Сделавшись первым министром, граф Оливарес разделил бремя управления со своим дядей, доном Балтасаром: он оставил ему попечение о делах иностранных, а себе взял внутренние. Таким образом, еще крепче стянув узы, которые, естественно, должны связывать людей одной крови, эти вельможи, не зависящие друг от друга, живут в полном согласии, которое мне представляется нерушимым.
Таков был разговор, который произошел у меня с Хосе и которым я твердо решил воспользоваться себе на благо. После этого я пошел выразить свою признательность сеньору Суньиге за то, что он соблаговолил для меня сделать. Он весьма вежливо отвечал мне, что и впредь намерен пользоваться всяким случаем, чтобы доставить мне удовольствие; он выразил удовлетворение по поводу того, как я поладил с его племянником, и обещал еще поговорить обо мне с этим последним, желая, как он выразился, по крайней мере, показать, что мои интересы ему дороги и что, вместо одного покровителя, у меня их два. Таким образом, дон Балтасар из расположения к Наварро принимал к сердцу мою судьбу.
В тот же вечер я покинул меблированные комнаты и поселился у первого министра, где поужинал в своих апартаментах вдвоем с Сипионом. Стоило взглянуть, как мы себя держали! Прислуживали нам дворцовые лакеи и, глядя, как мы за трапезой напускаем на себя солидность и важность, быть может, смеялись в душе над уважением, которое им велено было нам оказывать. Когда же слуги, убрав со стола, удалились, мой секретарь перестал стесняться и принялся болтать всевозможные пустяки, которые подсказывало ему веселое настроение и окрылившие его надежды. Я же, хотя и довольный блестящим своим положением, которое теперь только начинал осознавать, все же не чувствовал никакой склонности им ослепляться. Поэтому, улегшись в постель, я мирно уснул, не отдаваясь приятным мечтам, которыми мог бы занять свой ум, в то время как честолюбивый Сипион почти не знал покоя: он провел большую половину ночи, мысленно накопляя богатства, чтобы выдать замуж свою дочь Серафину.
Я не успел одеться, как за мною пришли от имени его сиятельства. Вскоре я уже был у графа, который сказал мне:
– Ну-ка, Сантильяна, посмотрим, на что ты пригоден. Ты говорил мне, что герцог Лерма поручал тебе составлять докладные записки; у меня тут есть одна, которую я хочу сделать твоим пробным камнем. Я сейчас познакомлю тебя с ее содержанием; речь идет о составлении акта, который расположил бы широкие круги в пользу моего управления. Я уже распустил слух, что застал дела крайне расстроенными; теперь же необходимо воочию показать двору и городу то бедственное положение, до которого доведено королевство. Нужно нарисовать такую картину, чтобы она поразила народ и помешала ему сожалеть о моем предшественнике. Затем ты превознесешь те мероприятия, к коим я прибег, чтобы сделать царствование короля славным, его владения цветущими, а его подданных совершенно счастливыми.
После этих слов граф вручил мне бумагу, содержавшую точное изложение причин, по коим можно было негодовать на прежнее правительство; в ней, помнится мне, было десять параграфов, и самый маловажный из них мог встревожить любого доброго испанца. Затем, пропустив меня в небольшой кабинет, соседствовавший с его собственным, он предоставил мне работать на свободе. Итак, я принялся составлять свою записку возможно тщательнее. Сперва я излагал тяжелое положение, в котором находилось королевство: финансы расстроены, королевские доходы отданы в руки откупщиков, флот уничтожен. Затем я указывал на ошибки лиц, управлявших государством при прежнем монархе, и на плачевные последствия, к которым это могло привести. Наконец, я изображал королевство в опасности и так резко порицал прежнее управление, что, судя по моему меморандуму, уход герцога Лермы был величайшим счастьем для Испании. Сказать по правде, я, хоть и не испытывал никакой неприязни к павшему сановнику, все же не прочь был отлить ему эту пилюлю. Такова уж человеческая природа.
В заключение, после ужасающей картины бедствий, грозивших Испании, я успокаивал умы, искусно внушая народу блестящие надежды на будущее. Граф Оливарес выглядел у меня поэтому как восстановитель, ниспосланный небесами для спасения нации; я сулил золотые горы. Одним словом, я настолько пошел навстречу пожеланиям нового министра, что он, казалось, был изумлен, когда прочел мою работу до конца.
– Да, Сантильяна, – сказал он мне, – я не считал тебя способным составить такой доклад. Знаешь ли ты, что написал вещь, достойную статс-секретаря? Я уже не удивляюсь тому, что герцог Лерма пользовался твоим пером. Твой стиль сжат и даже элегантен; но я нахожу его, пожалуй, слишком естественным.
Указав мне тут же на места, которые были ему не по вкусу, граф исправил их, и по этим исправлениям я заключил, что он (как уже говорил мне Наварро) любил изысканные и туманные выражения. Тем не менее, хотя он и добивался благородного или, вернее сказать, вычурного стиля, однако же оставил нетронутыми добрых две трети моей записки и, чтобы показать мне, насколько он удовлетворен, к концу моего обеда прислал мне с доном Рамоном триста пистолей.
Глава VI Об употреблении, которое Жиль Блас дал тремстам пистолям, и о поручении, возложенном им на Сипиона. Успех вышеозначенной докладной записки
Графский подарок еще раз доставил Сипиону случай поздравить меня с возвращением ко двору, что он и не преминул сделать.
– Вы видите, – сказал мой секретарь, – что фортуна имеет большие виды на вашу милость. Жалеете ли вы теперь о том, что покинули свое уединение? Да здравствует граф Оливарес! Это совсем другого рода хозяин, чем его предшественник. Ведь герцог Лерма заставил вас промучиться несколько месяцев, не платя вам ни пистоля, несмотря на всю вашу преданность, а граф уже дал вам такое вознаграждение, на которое вы осмелились бы рассчитывать только после длительной службы.
Мне очень хотелось бы, – добавил он, – чтобы сеньоры де Лейва были свидетелями счастья, которое вам выпало, или чтобы они, по крайности, о нем узнали.
– Настало время их осведомить, – отвечал я, – именно об этом я и собирался сейчас с тобой поговорить. Нисколько не сомневаюсь, что они с крайним нетерпением ждут от меня известий, но я откладывал свое сообщение до того времени, пока не увижу себя на прочном месте и не сумею с уверенностью сказать им, остаюсь ли я при дворе или нет. Теперь же, когда я твердо стал на ноги, ты можешь отправляться в Валенсию, как только тебе заблагорассудится, чтобы известить этих сеньоров о моем нынешнем положении, которое я рассматриваю как дело их рук, ибо без них я, безусловно, никогда не решился бы отправиться в Мадрид.
– Раз это так, – воскликнул сын Косколины, – то дон Сесар и дон Альфонсо вскоре узнают о вашем теперешнем положении! Какую радость я им доставлю рассказом о том, что с вами случилось! Ах, почему я уже не у ворот Валенсии? Но скоро я буду там. Оба коня дона Альфонсо готовы. Я пущусь в дорогу с одним из графских лакеев. Прежде всего, мне приятно будет путешествовать вдвоем, а, кроме того, вы сами знаете, что ливрея первого министра пускает пыль в глаза.
Я не мог удержаться от смеха при виде глупого чванства своего секретаря; а между тем сам (быть может, еще более тщеславный, чем он) разрешил Сипиону поступить так, как ему хотелось.
– Поезжай, – сказал я своему секретарю, – и возвращайся поскорей, так как я хочу дать тебе еще одно поручение. Мне нужно послать тебя в Астурию, чтобы отвезти деньги моей матери. Я по забывчивости пропустил срок, в который обещал доставить ей сто пистолей; ты же сам обязался передать их ей в собственные руки. Такого рода обещания должны быть столь святы для всякого сына, что я горько упрекаю себя в этой небрежности.
– Вы правы, сеньор, – отвечал Сипион. – Досадую на себя за то, что сам не напомнил вам об этом. Но погодите, через шесть недель я дам вам отчет в исполнении обоих этих поручений: я успею переговорить с сеньорами де Лейва, завернуть в ваш замок и вновь побывать в городе Овьедо, который не могу вспомнить, чтоб не послать к дьяволу три с половиной четверти его населения.
Итак, я отсчитал сыну Косколины сто пистолей на пенсию моей матери и еще сто для него самого, так как мне хотелось, чтоб он с блеском совершил задуманное путешествие.
Через несколько дней после отъезда Сипиона его сиятельство приказал отпечатать наш меморандум; не успел он появиться в свет, как тотчас же стал предметом всех мадридских разговоров. Народ, охотник до всяких новшеств, был в восторге от этого произведения; истощение казны, нарисованное в ярких красках, возбудило его против герцога Лермы, и если даже не все рукоплескали ударам, которые наносились там бывшему министру, то все же многие их одобряли. Что же касается пышных обещаний графа Оливареса и, между прочим, того, что он посулил путем разумной экономии покрывать государственные расходы, не обременяя подданных, то они ослепили всех граждан без исключения и утвердили их в том высоком мнении о его талантах, которого они уже прежде держались. Словом, весь город огласился славословием в его честь.
Министр, чрезвычайно обрадованный достижением своей цели, заключавшейся лишь в том, чтобы с помощью этого меморандума привлечь к себе народное расположение, пожелал заслужить это последнее каким-нибудь подлинно похвальным и полезным для короля мероприятием. Для этого он воспользовался идеей императора Гальбы, [202] то есть выжал сок из некоторых лиц, темными путями нажившихся на управлении королевскими регалиями. Когда он выкачал из этих пиявок кровь, которой они насосались, и вновь наполнил королевскую казну, то вознамерился сохранить ее в целости, добившись отмены всех пенсий, не исключая и своей собственной, равно как и всех пособий, выдававшихся за счет короля. Чтобы выполнить этот замысел, который невозможно было осуществить, не меняя всего характера управления, он поручил мне составить новую записку, формулу и содержание коей мне указал. Затем он порекомендовал мне, насколько возможно, возвыситься над обычной простотой моего стиля, дабы придать моим фразам больше благородства.
– Постараюсь, – отвечал я ему. – Ваше сиятельство требует подъема и блеска, ваше сиятельство получит требуемое.
Затем я заперся в том самом кабинетике, где работал прежде, и взялся за дело, призвав на помощь красноречивый гений архиепископа гренадского.
Я начал с того, что необходимо обращаться экономно с деньгами, хранящимися в королевской казне, и употреблять их только на нужды королевства, ибо это – священный фонд, который следует беречь, чтобы держать в страхе всех недругов Испании. Затем я разъяснял государю (ибо для него предназначалась записка), что, упраздняя все пенсии и пособия, выдаваемые из регулярных его доходов, он еще не лишал себя этим удовольствия награждать тех из своих подданных, которые заслужат его милость, поскольку он имел возможность, не трогая своей казны, давать им крупные награды: для одних у него есть вице-королевства, губернаторства, рыцарские ордена, воинские звания; для других – командорства и доходы с них, титулы с правом юрисдикции и, наконец, всякого рода бенефиции для лиц, посвятивших себя духовному служению.
Эта записка, которая была гораздо длиннее первой, отняла у меня более трех дней, но, к счастью, я составил ее во вкусе своего господина, который, увидев, что она написана с пафосом и нашпигована метафорами, осыпал меня похвалами.
– Я очень доволен этим, – сказал он, указывая мне на самые напыщенные места, – вот хорошо отчеканенные выражения. Смелее, друг мой! Я предвижу, что ты будешь мне весьма полезен.
Тем не менее, несмотря на расточаемые мне комплименты, он не преминул исправить записку. Он вставил туда многое от себя и превратил ее в образчик красноречия, очаровавший короля и весь двор. Город присоединил к этому свое одобрение, предаваясь радостным упованиям, и льстил себя надеждой, что королевство воссияет прежним блеском под управлением такого великого мужа. Сиятельный граф, видя, что наше писание принесло ему большую честь, пожелал, чтобы и я пожал кое-какие плоды за свое участие в этой работе: он выхлопотал мне пенсию в пятьсот эскудо с доходов кастильского командорства; это казалось мне достаточным вознаграждением за мою работу и было тем приятнее, что могло считаться честно нажитым добром, хотя я и заработал его без большого труда.
Глава VII По какому случаю, в каком месте и в каком состоянии Жиль Блас вновь встретил своего друга Фабрисио и какой разговор произошел между ними
Ничто не доставляло его сиятельству такого удовольствия, как сообщения о том, что думают в Мадриде о его образе действий в делах управления. Он ежедневно спрашивал меня, что говорят о нем в свете. У него были даже шпионы, которые за деньги подробно доносили ему обо всем происходящем в городе. Они передавали ему до мельчайших выражений все пересуды, которые им приходилось слышать; а так как он приказывал им быть правдивыми, то его самолюбие иногда страдало, ибо народ обладает несдержанным языком, который не щадит никого.
Когда я заметил, что граф любит такие донесения, я завел привычку после обеда прогуливаться пешком по людным местам и вмешиваться в разговоры честных людей, когда таковые мне попадались. Если они беседовали о правительстве, я слушал их со вниманием, а если они говорили что-нибудь достойное ушей его сиятельства, то не упускал случая ему об этом докладывать. Но следует заметить, что я пересказывал лишь то, что говорилось в его пользу. Мне казалось, что так и надо было поступать с человеком подобного склада.
Однажды, возвращаясь из такого рода места, я поравнялся с дверями какой-то больницы. Мне захотелось туда войти. Я прошелся по двум-трем палатам, наполненным больными, и обводил глазами все койки. Среди этих несчастных, на которых я смотрел не без жалости, заметил я одного, поразившего меня своим видом; мне показалось, что я узнаю в нем Фабрисио, своего земляка и бывшего товарища. Чтобы взглянуть на него вблизи, я подошел к его койке и, не сомневаясь больше в том, что это действительно поэт Нуньес, несколько секунд созерцал его без слов. Он, со своей стороны, меня узнал и тоже безмолвно на меня уставился. Нарушив наконец молчание, я сказал ему:
– Неужели глаза мои не обманывают меня? Действительно ли я вижу перед собой Фабрисио?
– Это он самый, – холодно отвечал поэт, – и тебе нечего этому удивляться. С тех пор как мы с тобою расстались, я все время занимался сочинительством, писал романы, комедии, всякого рода умотворения. Я свершил свой путь: я – в больнице.
Трудно было не рассмеяться над его словами и в особенности над серьезным тоном, которым он их произнес.
– Как? – воскликнул я. – Твоя муза привела тебя в это место? Это она сыграла с тобой такую скверную штуку?
– Как видишь, – ответствовал он. – Этот дом часто служит последним убежищем талантов. Ты хорошо поступил, друг мой, что пошел по другому пути, чем я. Но мне сдается, что ты уже больше не при дворе и что твоя карьера обернулась другим концом; я как будто даже слыхал, что ты был заключен в тюрьму по королевскому приказу.
– Тебе сказали правду, – отвечал я, – завидные обстоятельства, в которых ты оставил меня при нашем расставании, вскоре сменились превратностями судьбы, отнявшими у меня все мое состояние и свободу. И все же, друг мой, post nubila Phoebus, [203] ты снова видишь меня в положении еще более блестящем, чем прежде.
– Это невозможно! – сказал Нуньес. – Тон у тебя – скромный и благоразумный, и вовсе нет у тебя тех чванливых и наглых повадок, которые обычно придает людям благополучие.
– Неудачи, – отвечал я, – очистили мою душу, и в школе превратностей я научился пользоваться богатством, не становясь его рабом.
– Скажи же мне, – прервал меня Фабрисио, оживленно приподнявшись со своего ложа, – какова твоя должность? Чем ты сейчас занимаешься? Не служишь ли ты управителем у разорившегося вельможи или у состоятельной вдовушки?
– Я занимаю еще лучшее место, – ответил я. – Но уволь меня, пожалуйста, покамест от дальнейших объяснений; в другой раз я удовлетворю твое любопытство. Теперь же ограничусь сообщением, что могу оказать тебе услугу или, вернее, обеспечить тебе безбедное существование до конца твоих дней, если только ты обещаешь, что больше не будешь составлять никаких «умотворений» ни в стихах, ни в прозе. Чувствуешь ли ты себя в силах принести мне такую жертву?
– Я уже принес эту жертву небу во время смертельной болезни, от которой, как ты видишь, я только что оправился. Некий монах-доминиканец убедил меня отречься от поэзии, как от развлечения хотя и не греховного, но все же совращающего с пути премудрости.
– Поздравляю тебя с этим, дорогой Нуньес, – отвечал я. – Ты отлично поступил, но берегись, как бы снова не впасть в грех.
– Вот уж чего я ничуть не боюсь, – возразил он. – Я принял твердое решение расстаться с музами, и, когда ты вошел в палату, я как раз сочинял стихи, в которых прощался с ними навеки.
– Сеньор Фабрисио, – сказал я тогда, покачав головой, – не знаю, можем ли мы с отцом доминиканцем полагаться на ваше отречение: вы представляетесь мне по уши влюбленным в этих ученых девственниц.
– Нет, нет, – возразил он мне, – я порвал все узы, связывавшие меня с ними. Более того: я проникся отвращением к публике. Она не стоит того, чтобы писатели посвящали ей свои труды; я был бы в отчаянии, если бы написал произведение, которое бы ей понравилось. Не подумай, – продолжал он, – что обида внушает мне эти слова; я говорю совершенно хладнокровно. Я равно презираю и рукоплескания публики, и ее свистки. Никогда не знаешь, кто у нее в милости, кто в немилости. Это – капризница, которая нынче думает так, а завтра иначе. Как безумны драматурги, гордящиеся успехом своих пьес! Как бы эти пьесы ни нашумели при появлении, им редко удается упрочить свой успех после напечатания. Попробуй возобновить их через двадцать лет, и большинство из них будет принято весьма холодно. Новое поколение обвиняет предыдущее в дурном вкусе; а его суждения, в свою очередь, опровергаются последующим поколением. Я всегда это замечал и заключаю из этого, что авторы, которым сейчас рукоплещут, должны готовиться быть освистанными впоследствии. То же ждет романы и прочие занимательные книги, выпускаемые в свет. Пользуясь вначале всеобщей хвалой, они затем постепенно скатываются в бездну презрения. Итак, слава, получаемая нами от литературного успеха, есть не что иное, как чистейшая химера, иллюзия ума, минутная вспышка, чей дым немедленно рассеивается в воздухе.
Хотя я ясно понимал, что поэт обеих Астурий говорит так лишь от дурного настроения, однако сделал вид, будто не догадываюсь об этом.
– Мне чрезвычайно отрадно, – сказал я ему, – что тебе опротивели изящные искусства и что ты в корне излечился от мании писательства. Можешь рассчитывать на то, что я вскоре выхлопочу тебе должность, на которой ты сумеешь разбогатеть без излишней затраты умственных сил.
– Тем лучше! – воскликнул он. – Ум мне осточертел, и в настоящее время я смотрю на него, как на самый пагубный дар, который небо может дать человеку.
– Я хотел бы, дорогой мой Фабрисио, – отвечал я ему, чтобы ты навсегда остался при нынешнем своем мнении. Если ты пребудешь тверд в своем желании расстаться с поэзией, то, повторяю, я скоро доставлю тебе честную и прибыльную должность; но прежде чем окажу тебе эту услугу, – добавил я, вручая ему кошелек с шестью десятками пистолей, – прошу тебя принять этот небольшой знак приязни.
– О, великодушный друг! – воскликнул сын цирюльника в порыве радости и благодарности. – Как мне благословлять небо, приведшее тебя в эту больницу, откуда я сегодня же выйду при твоем содействии!
И в самом деле, он велел перенести себя в меблированную комнату. Но прежде чем расстаться с ним, я указал ему свое жилище и просил посетить меня, как только здоровье его поправится. Он проявил крайнее удивление, узнав, что я квартирую у графа Оливареса.
– О, счастливейший Жиль Блас, чье призвание быть любимцем министров! – сказал он мне. – Я радуюсь твоей удаче, раз ты даешь ей такое хорошее применение.
Глава VIII Жиль Блас с каждым днем становится все милее своему начальнику. О возвращении Сипиона в Мадрид и о докладе, сделанном им Сантильяне касательно своего путешествия
Граф Оливарес (коего я отныне буду именовать графом-герцогом, так как в это время королю благоугодно было почтить его этим титулом) обладал слабостью, которую я обнаружил не без пользы для себя, а именно: он хотел быть любимым. Как только он замечал, что кто-нибудь привязывается к нему из сердечной склонности, то начинал дружественно относиться к этому человеку. Я не вздумал пренебречь этим своим открытием; не довольствуясь добросовестным исполнением его приказаний, я повиновался им с такими знаками преданности, которые приводили его в восхищение. Я во всем изучал его вкусы, чтобы сообразоваться с ними, и, по мере сил, предупреждал его желания.
Благодаря такому образу действия, почти всегда приводящему к цели, я постепенно сделался любимцем своего господина, который, со своей стороны, завоевал мое сердце, оказывая мне всякие знаки расположения, ибо я страдал тою же слабостью, что и он. Я настолько повысился в его мнении, что, наконец, стал пользоваться его доверием наравне с сеньором Карнеро, его первым секретарем.
Карнеро в свое время добился расположения его светлости тем же способом, как и я, и достиг такого успеха, что министр делился с ним кабинетскими тайнами. И вот мы двое, секретарь и я, оказались поверенными его тайн, с той только разницей, что он беседовал с Карнеро о делах государственных, а со мною – о своих частных интересах. Этим создавались, так сказать, два отдельных департамента, которыми мы оба были равно удовлетворены. Мы уживались друг с другом без зависти, но и без дружбы. Я имел основание быть довольным своим местом, так как оно, давая мне возможность постоянно находиться при графе-герцоге, позволяло заглядывать в самую глубину его души, которую, несмотря на природное притворство, он перестал от меня скрывать, когда у него окончательно рассеялись сомнения в чистосердечии моей привязанности.
– Сантильяна, – сказал он мне однажды, – ты видел, что герцог Лерма пользовался властью, напоминавшей не столько влияние министра-фаворита, сколько могущество самодержавного монарха. И тем не менее, я еще счастливее, чем был он на самой вершине своего благополучия. У него было два грозных противника в лице его собственного сына, герцога Уседского, и духовника Филиппа III, в то время как я не вижу среди приближенных короля никого, кто пользовался бы достаточным влиянием, чтобы мне повредить, ни даже такого, которого я подозревал бы в злой воле по отношению ко мне.
Правда, – продолжал он, – при своем приходе к власти я сильно заботился о том, чтобы допускать в ближайшее окружение государя только лиц, связанных со мною родством или дружбой. Я отделался, при помощи раздачи вице-королевств и посольских должностей, от всех вельмож, которые в силу своих личных заслуг могли лишить меня известной доли монаршей милости, каковою я желаю владеть безраздельно: таким образом, я в настоящий момент могу утверждать, что ни один сановник не оспаривает у меня влияния. Ты видишь, Жиль Блас, – добавил он, – что я раскрываю перед тобой свое сердце. Так как у меня есть основание думать, что ты мне всецело предан, то я и избрал тебя своим доверенным. Ты обладаешь умом; я считаю тебя благоразумным, осторожным, неболтливым; одним словом, ты кажешься мне способным хорошо справиться с самыми разнородными поручениями.
Я не смог устоять против лестных картин, которые его слова вызвали в моем воображении. Пары корыстолюбия и честолюбия внезапно ударили мне в голову и пробудили во мне такие чувства, которые, казалось, я давно уже преодолел. Я заверил министра, что всеми силами буду содействовать его намерениям, и готов был, без зазрений совести, выполнить любое приказание, которое ему заблагорассудилось бы мне отдать.
Покамест я таким образом готовился воздвигнуть новый алтарь Фортуне, Сипион вернулся из путешествия.
– Рассказ мой будет недолог, – сказал он мне. – Я привел в восторг сеньоров де Лейва, сообщив им о приеме, который оказал вам король, как только вас узнал, и об отношении, проявленном к вам графом Оливаресом.
Тут я прервал Сипиона.
– Друг мой, – сказал я, – ты доставил бы им еще большее удовольствие, если бы мог рассказать, на какой ноге я сейчас нахожусь с министром. Просто чудо, каких успехов я добился в сердце его светлости со времени твоего отъезда.
– Слава богу, дорогой хозяин! – ответил Сипион. – Я предвижу, что нам предстоит блестящая будущность.
– Перейдем к другой теме, – сказал я ему. – Поговорим об Овьедо. Ведь ты побывал в Астурии. В каком положении застал ты мою мать?
– Ах, сеньор, – отвечал он, внезапно приняв грустный вид, – с этой стороны я могу сообщить вам одни лишь печальные вести.
– О боже! – воскликнул я. – Верно, моя мать умерла?
– Полгода тому назад, – сказал мой секретарь, – эта достойная женщина отдала последний долг природе, равно как и ваш дядя, сеньор Хиль Перес.
Смерть матери причинила мне глубокое горе, хотя в детстве я и не получал от нее тех ласк, в которых дети так нуждаются, чтобы впоследствии быть благодарными своим родителям. Я отдал также доброму канонику слезную дань, которую он заслужил своими заботами о моем воспитании. Но по правде сказать, горесть моя продолжалась недолго и скоро выродилась в нежное воспоминание, которое я навсегда сохранил о своих родных.
Глава IX Как и за кого граф-герцог выдал свою дочь и о горьких плодах, которые принесло это супружество
Вскоре после возвращения сына Косколины граф-герцог впал в мечтательное состояние, в коем пребывал в течение недели. Я воображал, что он обсуждает какое-нибудь великое государственное дело, но причины его задумчивости касались только его собственной семьи.
– Жиль Блас, – сказал он мне однажды после обеда, – ты, вероятно, заметил, что ум мой чем-то занят. Да, дитя мое, я думаю об одном деле, от которого зависит спокойствие моей жизни. Я хочу тебе довериться. Моя дочь, донья Мария, – продолжал он, – достигла брачного возраста, и множество знатных сеньоров спорят из-за обладания ею. Граф де Ньеблес, старший сын герцога Медина-Сидония, главы дома Гусманов, и дон Луис де Аро, старший сын маркиза де Карпио и моей старшей сестры, являются кандидатами, по-видимому наиболее заслуживающими предпочтения. В особенности последний далеко превосходит заслугами своих соперников, и весь двор уверен, что я изберу его в зятья. Однако, не вдаваясь в причины, побуждающие меня отказать ему, равно как и графу де Ньеблес, я скажу тебе, что остановил свой выбор на доне Рамиро Нуньесе де Гусман, маркизе де Тораль, главе дома Гусманов д’Абрадос. Этому молодому вельможе и детям, которые родятся от него у моей дочери, я собираюсь оставить все свои владения с возложением на них титула графов Оливарес, к которому я намерен присоединить грандское достоинство; таким путем мои внуки и их потомки, происходя от ветвей Абрадос и Оливарес, будут считаться старшими в роде Гусманов. Ну как, Сантильяна, – добавил он, – одобряешь ты мое намерение?
– Простите меня, ваша светлость, – отвечал я, – этот замысел достоин гения, его создавшего. Но позвольте мне высказать по этому поводу одно опасение: я боюсь, как бы не вознегодовал герцог Медина-Сидония.
– Пусть негодует, если хочет, – возразил министр, – это меня весьма мало тревожит. Я не люблю его ветви, незаконно отнявшей у ветви Абрадос право старшинства и титулы, с этим связанные. Я менее буду чувствителен к его сетованиям, нежели к горю моей сестры, маркизы де Карпио, из-за того, что дочь моя не достанется ее сыну. Но в конце концов я хочу исполнить свое желание, и поэтому дон Рамиро восторжествует над своими соперниками; это – дело решенное.
Сообщив мне свое намерение, граф-герцог приступил к его выполнению, и тут опять-таки показал образчик своей своеобразной политики. Он представил докладную записку королю, в коей умолял его и королеву соблаговолить самолично выдать замуж его дочь, излагая им достоинства сеньоров, которые к ней сватались, и выражая готовность всецело подчиниться выбору их величеств. Но он не преминул, говоря о маркизе де Тораль, намекнуть на то, что предпочел бы этого последнего всем остальным. И в самом деле, король, слепо шедший навстречу желаниям своего министра, дал ему следующий ответ:
«Полагаю, что дон Рамиро Нуньес вполне достоин доньи Марии. Однако же выбирайте сами. Та партия, которая понравится вам больше других, будет и для меня наиболее приятной.
Король»
Министр нарочно показывал всем этот ответ и, притворившись, будто принимает его за королевский приказ, поторопился выдать свею дочь за маркиза де Тораля. Этот поспешный брак глубоко задел маркизу де Карпио, равно как и всех прочих Гусманов, которые льстили себя надеждой жениться на донье Марии. Тем не менее, не будучи в силах помешать этой свадьбе, они сделали вид, будто приветствуют ее изъявлениями самой искренней радости. Можно было подумать, что вся семья в восторге от этого брака. Но вскоре недовольные получили удовлетворение, крайне жестокое для графа-герцога: донья Мария через десять месяцев разрешилась дочерью, умершей при рождении, и сама она через несколько дней стала жертвою этих родов.
Какая утрата для отца, который, как говорится, души не чаял в дочери и, кроме того, переживал крушение своей надежды вырвать право первородства у ветви Медина-Сидония! Он так был потрясен, что заперся на несколько дней, не допуская к себе никого, кроме меня, который, приспособляясь к его горести, казался не менее удрученным, чем он сам. Сказать по правде, я воспользовался этим случаем, чтобы еще раз почтить слезами память Антонии. Сходство между ее смертью и кончиной маркизы де Тораль разбередило плохо заживавшую рану и привело меня в такое горестное состояние, что министр, хотя и подавленный собственной скорбью, был поражен моими страданиями. Он изумился при виде того, как близко я принимаю к сердцу его печали.
– Жиль Блас, – сказал он мне однажды, видя меня как бы погруженным в безысходную грусть, – немалым утешением для меня служит то, что у меня есть наперсник, столь чувствительный к моим несчастьям.
– Ах, сеньор! – отвечал я, приписывая ему все свое огорчение. – Я был бы самым неблагодарным и черствым существом, если бы им не сочувствовал. Могу ли я думать о том, что вы оплакиваете дочь, столь совершенную и столь нежно вами любимую, и не смешать своих слез с вашими? Нет, сеньор, я слишком обласкан вашими благодеяниями, чтобы до самой смерти не разделять всех ваших радостей и невзгод.
Глава X Жиль Блас случайно встречается с поэтом Нуньесом, который сообщает ему, что написал трагедию, имеющую вскоре появиться на сцене Принцева театра. О неудаче, постигшей пьесу, и об изумительном счастье, которое из сего проистекло
Министр начинал уже несколько успокаиваться, а стало быть, и ко мне постепенно возвращалось хорошее расположение духа, когда однажды вечером я вздумал один выехать на прогулку в карете. По дороге мне повстречался поэт обеих Астурий, с которым я не видался со времени его выхода из больницы. Он был чрезвычайно чисто одет. Я подозвал его, пригласил в свою карету, и мы вместе прокатились по лугу Сан-Херонимо.
– Сеньор Нуньес, – сказал я ему, – мне посчастливилось случайно вас повстречать, иначе я никогда не имел бы удовольствия…
– Никаких упреков, Сантильяна, – поспешно перебил он меня. – Я чистосердечно признаюсь, что не хотел посетить тебя, и сейчас объясню тебе причину. Ты обещал мне хорошую должность с условием, что я откажусь от поэзии; а я нашел другую, весьма прочную, с условием, что буду писать стихи. Я принял эту последнюю, как более соответствующую моему характеру. Один из моих друзей пристроил меня к дону Бельтрану Гомесу дель Риверо, казначею королевских галер. Этот дон Бельтран, которому хотелось содержать литератора на жалованье, найдя мою версификацию блестящей, избрал меня преимущественно перед пятью-шестью сочинителями, предлагавшими ему свои услуги в качестве секретарей.
– Я очень рад, дорогой мой Фабрисио, так как этот дон Бельтран, по-видимому, очень состоятелен.
– Состоятелен?! – ответил он. – Да говорят, что он сам не знает, какое у него богатство! Как бы то ни было, вот в чем состоит должность, занимаемая мной в его доме. Так как он считает себя большим ферлакуром и хочет прослыть просвещенным человеком, то состоит в переписке с несколькими весьма остроумными дамами, а я одалживаю ему свое перо для составления записочек, полных соли и приятности. Я пишу от его имени одной в стихах, другой в прозе и порой отношу письма сам, чтобы доказать ему многочисленность своих талантов.
– Но ты не говоришь мне того, что мне больше всего хочется знать, – сказал я. – Жирно ли тебе платят за твои эпистолярные эпиграммы?
– Очень жирно, – отвечал он. – Богатые люди не всегда щедры, и я даже знаю среди них настоящих сквалыг; но дон Бельтран поступает со мною весьма благородно. Помимо двухсот пистолей постоянного оклада, я от времени до времени получаю от него небольшие награждения. Это позволяяет мне жить барином и хорошо проводить время с несколькими писателями, которые, как и я, ненавидят скуку.
– Скажи, между прочим, – спросил я, – хватает ли у твоего казначея вкуса, чтобы оценить красоты художественного произведения и заметить его недостатки?
– О, конечно нет! – отвечал Нуньес. – Хоть дон Бельтран и треплет языком весьма самоуверенно, все же он – не знаток. Он постоянно выдает себя за новейшего Тарпу [204] , высказывает смелые суждения и поддерживает их таким уверенным тоном и с таким упорством, что в спорах ему чаще всего приходится уступать, дабы избежать града обидных замечаний, которыми он имеет обыкновение осыпать своих противников. Ты сам понимаешь, – продолжал он, – что я никогда ему не возражаю, какие бы поводы к этому он мне ни давал; ибо, помимо нелестных эпитетов, которые я не преминул бы на себя навлечь, я легко мог бы оказаться вышвырнутым за дверь. Поэтому я предусмотрительно одобряю все, что он хвалит, и, равным образом, порицаю все, что он хулит. При помощи этой любезности, которая мне ни гроша не стоит (и обладая к тому же даром приспособления к нраву людей, могущих быть мне полезными), я завоевал уважение и дружбу своего покровителя. Он побудил меня сочинить трагедию, тему которой сам предложил. Я написал ее под его наблюдением, и если она будет пользоваться успехом, то я буду обязан его добрым советам частью своей славы.
Я спросил у нашего поэта заглавие трагедии.
– Она называется «Граф Сальданья», – отвечал он мне, – и через три дня пойдет в Принцевом театре.
– Желаю тебе, чтоб она пользовалась большим успехом, – сказал я, – и мое высокое мнение о твоем таланте позволяет мне на это надеяться.
– Я и сам очень на это уповаю, – отвечал он, – но нет на свете надежды более обманчивой, так как авторы никогда не могут быть уверены в успехе драматического произведения: им приходится ежедневно переживать разочарования.
Несколько времени спустя наступил день первого представления. Мне не удалось отправиться в театр, так как я получил от министра поручение, которое меня задержало. Все, что я мог сделать, – это послать туда Сипиона, чтобы, по крайности, в тот же вечер узнать об успехе пьесы, которой я интересовался. После того как я долго прождал его в нетерпении, он явился с видом, не предвещавшим ничего хорошего.
– Ну что? – спросил я. – Как приняла публика «Графа Сальданью»?
– Чрезвычайно грубо, – отвечал он. – Ни с одной пьесой еще не обращались так жестоко; я вышел совершенно возмущенный наглостью партера.
– А я, – возразил я ему, – больше возмущен страстью Нуньеса к сочинению драматических пьес. Что за безрассудный человек! Ну не безумие ли с его стороны предпочитать оскорбительное улюлюкание зрителей той счастливой судьбе, которую я мог бы ему устроить?
Таким образом, я из дружбы ругательски ругал астурийского поэта и сокрушался о провале его пьесы в то самое время, когда он поздравлял себя с этим провалом. В самом деле, через два дня он явился ко мне, не помня себя от радости.
– Сантильяна! – воскликнул он. – Я пришел поделиться с тобой своим восторгом. Я создал себе состояние, сочинив скверную пьесу. Тебе известен странный прием, оказанный «Графу Сальданье». Все зрители наперебой ополчились против него, и вот этой всеобщей ярости я и обязан счастьем своей жизни.
Я немало, был удивлен, услышав от поэта Нуньеса такую речь.
– Как, Фабрисио? – спросил я. – Возможно ли, что провал трагедии является причиной твоей необузданной радости?
– Да, разумеется, – отвечал он. – Я уже говорил тебе, что дон Бельтран вставил в пьесу кое-что от себя; следовательно, он считал ее великолепной. Он был глубоко уязвлен, видя, что зрители держатся противоположного мнения. «Нуньес, – сказал он мне нынче утром, – «Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni» [205] . Если пьеса твоя не нравится публике, так зато она нравится мне, и этого с тебя должно быть довольно. Чтобы вознаградить тебя за дурной вкус нашего века, я даю тебе ренту в две тысячи эскудо, обеспеченную всем принадлежащим мне имуществом; сейчас же пойдем к моему нотариусу, чтобы составить акт». Мы отправились туда немедленно: казначей подписал дарственную запись и уплатил мне за первый год вперед.
Я поздравил Фабрисио с печальной участью «Графа Сальданьи», раз она обернулась к выгоде автора.
– Ты совершенно прав, – продолжал он, – принося мне свои поздравления. Знаешь ли ты, что неприязнь партера оказалась для меня величайшим счастьем. Как я рад, что меня освистали вселенским свистом! Если бы более благосклонная публика почтила меня рукоплесканиями, то к чему бы это меня привело? Ни к чему! Я получил бы за свой труд весьма скудную сумму, в то время как свистки сразу обеспечили мне безбедное существование до конца моих дней.
Глава XI Сантильяна добивается должности для Сипиона, и тот уезжает в Новую Испанию
Мой секретарь не без зависти взирал на неожиданную удачу поэта Нуньеса. Он целую неделю не переставал твердить мне об этом.
– Я поражаюсь, – говорил он, – прихоти Фортуны, которой вдруг заблагорассудится осыпать благами скверного сочинителя, в то время как хороших она оставляет в нищете. Я бы очень хотел, чтобы ей как-нибудь вздумалось обогатить и мою особу в течение одного дня.
– Это легко может случиться, – отвечал я ему, – и гораздо раньше, чем ты думаешь. Ты здесь живешь в ее храме, ибо мне кажется, что можно назвать храмом Фортуны дом первого министра, где часто расточаются милости, немедленно утучняющие тех, кто ими пользуется.
– Это правда, ceньор, – возразил он, – но нужно обладать терпением, чтобы их дождаться.
– Повторяю тебе, Сипион, – отвечал я, – будь покоен: может быть, ты как раз на пути к тому, чтобы получить выгодное поручение.
И в самом деле, через несколько дней представился случай успешно использовать его для надобностей графа-герцога, и я не упустил этой возможности.
Однажды утром я беседовал с доном Рамоном Капорисом, управителем первого министра, и разговор наш коснулся доходов графа-герцога.
– Его светлость, – говорил он, – пользуется доходами с командорств всех рыцарских орденов, что приносит ему сорок тысяч эскудо в год. За это он должен только носить крест Алькантары. Сверх того, его три звания – обер-камергера, обер-штальмейстсра и канцлера Индии – приносят ему двести тысяч эскудо. Но все это – мелочь по сравнению с огромными суммами, которые он извлекает из Вест-Индии. Знаете ли вы, каким способом? Когда королевские корабли отплывают в те края из Севильи или Лиссабона, он грузит их винами, маслом и зерном, которые доставляет ему графство Оливарес; за фрахт он не платит. Притом он в Вест-Индии продает свои товары вчетверо дороже, чем в Испании, и употребляет эти деньги на закупку пряностей, красящих веществ и других предметов, которые в Новом Свете добываются за бесценок, а в Европе перепродаются весьма дорого. Этой торговлей он уже нажил несколько миллионов, не причиняя ни малейшего убытка королю. Вас, конечно, не удивит, – продолжал он, – что лица, которым поручены эти операции, возвращаются нагруженные сокровищами.
Едва сын Косколины, присутствовавший при нашем разговоре, услыхал эти слова дона Рамона, как немедленно прервал его.
– Черт побери, сеньор Капорис! – воскликнул он. – Я был бы счастлив, если бы мог стать одним из этих людей. К тому же я давно мечтаю увидеть Мексику.
– Ваша любознательность скоро будет удовлетворена, – отвечал ему управитель, – если только сеньор де Сантильяна не воспротивится вашему желанию. Сколь ни щепетилен я при выборе людей, которых посылаю в Вест-Индию для этой торговли (ибо я подбираю агентов), вас я без околичностей занесу в свой список, если ваш господин дозволит.
– Вы сделаете мне этим удовольствие, – сказал я дону Рамону. – Окажите же мне этот знак вашего расположения. Сипиона я очень люблю; к тому же он – малый сообразительный, который будет вести себя безупречно. Одним словом, я ручаюсь за него, как за самого себя.
– Этого вполне достаточно, – ответил Капорис, – в таком случае тому остается только немедленно выехать в Севилью. Корабли через месяц должны поднять паруса и отплыть в Индию. При отъезде я снабжу его письмом к одному человеку, и тот даст ему все наставления, необходимые, чтобы разбогатеть без малейшего ущерба для интересов его светлости, которые должны быть для него священны.
Сипион, крайне обрадованный полученной должностью, поспешил отправиться в Севилью с тысячей эскудо, которые я отсчитал ему, дабы он мог накупить в Андалузии вина и масла и был в состоянии торговать за свой счет в Америке. Как ни радовался он путешествию, от которого ожидал такой большой выгоды, все же не мог покинуть меня, не проливая слез, да и я не отнесся хладнокровно к его отъезду.
Глава XII Дон Альфонсо де Лейва прибывает в Мадрид. Мотивы его приезда. Об огорчении, постигшем Жиль Бласа, и о радости, которая после этого выпала на его долю
Не успел я расстаться с Сипионом, как министерский паж принес мне записку следующего содержания:
«Если сеньор Сантильяна даст себе труд явиться в гостиницу под вывеской «Архангела Гавриила» на Толедской улице, он застанет там одного из своих лучших друзей».
«Кто бы мог быть этим другом, не называющим своего имени? – сказал я себе. – Почему он скрывает его от меня? Ему, очевидно, хочется сделать мне приятный сюрприз».
Я немедленно вышел и направился к Толедской улице. Прибыв в назначенное место, я немало удивился, застав там дона Альфонсо де Лейва.
– Что я вижу? – воскликнул я. – Вы – здесь, сеньор?
– Да, дорогой мой Жиль Блас, – ответил он, крепко сжимая меня в объятиях, – дон Альфонсо самолично предстоит перед вами.
– А что привело вас в Мадрид? – спросил я.
– Я удивлю и огорчу вас, сообщив вам цель своего путешествия, – ответил он. – У меня отняли валенсийское губернаторство, и первый министр вызывает меня ко двору, чтобы я дал отчет в своих действиях.
Я с четверть часа пребывал в тупом молчании, а затем, вновь обретя дар речи, сказал ему:
– В чем же вас обвиняют? Вероятно, вы совершили какую-нибудь неосторожность.
– Я приписываю свою опалу, – отвечал он, – визиту, который я три недели тому назад нанес герцогу Лерме, уже с месяц прибывшему в ссылку в свой замок Дению.
– О, разумеется, – прервал я его, – вы совершенно правы, считая этот неосмотрительный визит причиной своего несчастья; не ищите никакой другой и разрешите мне сказать вам, что вы изменили своей обычной осторожности, посетив этого опального министра.
– Ошибка совершена, – сказал он, – и я примирился со своей участью: я собираюсь удалиться со всей семьей в замок Лейва, где проведу в полном покое остаток дней. Единственное, что меня огорчает, – это необходимость предстать перед надменным министром, который может оказать мне весьма неласковый прием. Какое унижение для испанца! Тем не менее это неизбежно. Но прежде чем подвергнуть себя этому, я хотел поговорить с вами.
– Сеньор! – сказал я ему. – Не являйтесь на глаза министру, прежде чем я не разведаю, в чем вас обвиняют; это зло не может быть непоправимым. Как бы то ни было, вы соблаговолите разрешить мне предпринять в вашу пользу все шаги, которых требуют от меня благодарность и дружба.
С этими словами я оставил его в гостинице с заверением, что не замедлю подать о себе весть. Так как со времени двух докладных записок, о коих так пространно упоминалось выше, мне больше не приходилось вмешиваться в дела государственные, то я и отправился к Карнеро, чтобы узнать, действительно ли отняли у дона Альфонсо де Лейва валенсийское губернаторство. Он отвечал мне, что это правда, но что причины ему не известны. После этого я без колебаний решился обратиться к самому министру, чтобы из его собственных уст узнать, какие у него имеются основания быть недовольным сыном дона Сесара.
Я так был расстроен этим досадным событием, что мне нетрудно было принять печальный вид, дабы министр обратил внимание на мое грустное настроение.
– Что с тобой, Сантильяна? – спросил он, как только меня увидал. – Я замечаю на твоем лице следы огорчений; я даже вижу слезы, готовые брызнуть из твоих глаз. Что это означает? Не скрывай от меня ничего. Неужели кто-нибудь тебя обидел? Говори, и ты немедленно будешь отомщен.
– Ваша светлость, – отвечал я со слезами, – я не сумел бы скрыть от вас своего горя, если бы даже хотел. Я – в отчаянии. Только что мне сказали, что дон Альфонсо де Лейва – больше не губернатор Валенсии. Никто не в силах сообщить мне известие, которое повергло бы меня в такую смертельную горесть.
– Что ты говоришь, Жиль Блас? – сказал министр с изумлением. – Какое участие можешь ты принимать в этом доне Альфонсо и его губернаторстве?
Тогда я подробно изложил ему все, чем был обязан сеньорам де Лейва, а затем рассказал, каким образом я выхлопотал у герцога Лермы валенсийское губернаторство для сына дона Сесара. Выслушав меня до конца чрезвычайно благосклонно, министр сказал мне:
– Осуши свои слезы, друг мой. Я не только не знал того, что ты мне сейчас поверил, но, признаюсь, смотрел на дона Альфонсо, как на ставленника кардинала Лермы. Вообрази себя на моем месте. Разве бы он не показался тебе подозрительным после визита, нанесенного им опальному прелату? Тем ме менее я готов поверить, что, получив свою должность от этого министра, он мог совершить такой поступок, движимый одной только признательностью, и я прощаю его. Мне жаль, что я сместил человека, обязанного тебе своим назначением; но если я разрушил твое дело, то могу его починить. Я хочу даже больше сделать для тебя, чем герцог Лерма. Твой друг дон Альфонсо был всего лишь губернатором города Валенсии, а я сделаю его вице-королем Арагонского королевства. Я разрешаю тебе объявить ему об этом; можешь ему написать, чтобы он явился принести присягу.
Услышав эти слова, я перешел от крайней горести к преизбытку радости, помутившей мой разум до такой степени, что это сказалось на форме, в которой я выразил его светлости свою благодарность. Но беспорядочность моей речи не вызвала у него неудовольствия, а когда я сообщил ему, что дон Альфонсо находится в Мадриде, он велел мне представить его в тот же день. Я побежал в гостиницу «Архангела Гавриила», где привел в восторг сына дона Сесара известием о его новом назначении. Он не мог поверить моим словам, настолько трудно было ему представить себе, чтобы первый министр (какую бы симпатию он ко мне ни питал) стал раздавать вице-королевства по моему указанию. Я отправился с ним к графу-герцогу, который принял его весьма любезно и сказал ему:
– Дон Альфонсо, вы так хорошо справлялись с управлением городом Валенсией, что король считает вас способным занять более высокий пост и назначает вице-королем Арагона. К тому же, – добавил он, – эта должность вполне соответствует знатности вашего рода, и арагонское дворянство не имеет оснований роптать на королевский выбор.
Его светлость ни словом не упомянул обо мне, и в обществе не узнали ничего о моей роли в этом деле, что уберегло дона Альфонсо и министра от неблагоприятных пересудов, которые могли бы начаться в высшем свете относительно вице-короля моего изделия.
Как только сын дона Сесара приобрел полную уверенность в своем новом положении, он отправил нарочного в Валенсию, чтобы известить отца и Серафину, каковые вскоре затем прибыли в Мадрид. Первым делом они посетили меня и осыпали выражениями признательности. Какое трогательное и почетное для меня зрелище! Три особы, которые были мне дороже всего на свете, наперебой обнимали меня. Столь же живо чувствуя преданность и приязнь, как и честь, которую должно было принести их роду вице-королевское звание, они не переставали обращаться ко мне с речами, полными благодарности. Они даже говорили со мной как с человеком, равным им по положению, и как будто совершенно не помнили, что некогда были моими хозяевами; никакие выражения дружбы не казались им достаточными.
Чтобы не вдаваться в излишние подробности, скажу, что дон Альфонсо, получив свой патент, поблагодарив короля и его министра и принеся обычную в таких случаях присягу, покинул Мадрид вместе со своею семьей и переселился в Сарагосу. Он обставил свой въезд туда всем вообразимым великолепием, и арагонцы восторженными кликами подтвердили, что я дал им вице-короля, который был им по душе.
Глава XIII Жиль Блас встречает у короля дона Гастона де Когольос и дона Андреса де Тордесильяс. Куда они отправились втроем. Окончание истории дона Гастона и доньи Елены де Галистео. Какую услугу Сантильяна оказал Тордесильясу
Я плавал в блаженстве, оттого что так благополучно превратил смещенного губернатора в вице-короля; даже господа де Лейва были в меньшем восторге, чем я. Вскоре мне представился еще один случай воспользоваться своим влиянием в пользу друга, о чем я считаю нужным сообщить, чтобы показать читателю, что я не был больше тем Жиль Бласом, который при прошлом министре торговал милостями двора. Однажды я был в королевской антикамере, где беседовал с сановниками, которые, видя во мне человека, пользовавшегося расположением первого министра, не пренебрегали разговором со мною. В толпе я заметил дона Гастона де Когольос, того самого политического узника, которого я в свое время оставил в Сеговийской крепости. Он был здесь вместе с комендантом, доном Андресом де Тордесильяс. Я охотно покинул своих собеседников, чтобы обнять обоих друзей.
Если они удивились, видя меня во дворце, то еще более изумился я тому, что их там встретил. После восторженных объятий с той и другой стороны дон Гастон сказал мне:
– Сеньор де Сантильяна, мы должны задать друг другу немало вопросов, но сейчас мы находимся в неудобном для этого месте: разрешите же нам отвезти вас в такое помещение, где сеньор де Тордесильяс и я будем рады завязать с вами длительную беседу.
Я согласился. Мы протолкались сквозь толпу и вышли из дворца. Карета дона Гастона ждала его на улице. Мы уселись в нее все трое и проехали на большую базарную площадь, где происходят бои быков. Там жил Когольос в очень хорошем доме.
– Сеньор Жиль Блас, – сказал мне дон Андрес, когда мы очутились в великолепно обставленном зале, – мне казалось, что, уезжая из Сеговии, вы ненавидели двор и приняли решение удалиться от него навсегда.
– Таково действительно было мое намерение, – отвечал я ему, – и, пока был жив покойный король, я не отступал от своего решения; но когда я услыхал, что сын его, инфант, вступил на престол, мне захотелось проверить, узнает ли он меня. Он меня узнал, и я имел счастье быть благосклонно принятым; он сам препоручил меня первому министру, который отнесся ко мне дружески и с которым я нахожусь в гораздо лучших отношениях, чем когда-либо был с герцогом Лермою. Вот и все, сеньор дон Андрес, что я имею вам рассказать. А сами вы все еще состоите комендантом Сеговийской крепости?
– О нет, – отвечал он, – граф-герцог назначил другого на мое место. Он, по-видимому, считал меня глубоко преданным его предшественнику.
– А я, – сказал тогда дон Гастон, – был освобожден по обратной причине: едва только первый министр узнал, что я сижу в Сеговийской тюрьме по приказу герцога Лермы, как велел меня оттуда выпустить. Теперь, сеньор Жиль Блас, я должен вам рассказать, что произошло со мной с тех пор, как я очутился на свободе.
Прежде всего, – продолжал он, – поблагодарив дона Андреса за любезность, проявленную ко мне во время моего заключения, я отправился в Мадрид. Там я предстал перед графом-герцогом Оливаресом, который сказал мне:
– Не опасайтесь, что случившееся с вами несчастье сколько-нибудь повредит вашему доброму имени; вы совершенно оправданы; я тем более убежден в вашей незапятнанности, что и маркиз де Вильяреаль, в соучастии с коим вас подозревали, оказался невиновным. Хоть он и португалец и даже родственник герцога Браганцского, все же он меньше предан ему, нежели интересам короля, нашего государя. Итак, вам совершенно напрасно вменили в преступление дружбу с этим маркизом, и, дабы вознаградить вас за несправедливое обвинение в измене, король делает вас поручиком своей испанской гвардии.
Я принял это назначение, но просил его светлость разрешить мне до вступления в должность съездить в Корию, чтобы навестить свою тетушку, донью Элеонор де Ласарилья. Министр дал мне месяц на это путешествие, и я выехал в сопровождении одного только лакея.
Мы уже миновали Кольменар и углубились в лощину между двумя горами, как вдруг увидели всадника, храбро оборонявшегося от трех людей, которые все сразу на него нападали. Я, не колеблясь, решил прийти ему на помощь, подскакал к этому сеньору и стал на его сторону. Во время боя я заметил, что наши противники в масках и что мы имеем дело с опытными бретерами. Однако, несмотря на их силу и ловкость, мы остались победителями: я пронзил одного, он свалился с лошади, а остальные двое немедленно обратились в бегство. Правда, победа была для нас почти столь же роковой, как и для того несчастного, которого я убил, так как после боя мой соратник и я оказались тяжело раненными. Но представьте себе, каково было мое изумление, когда я в этом всаднике узнал Комбадоса, мужа доньи Елены. Он не менее моего удивился, увидев во мне своего защитника.
– О, дон Гастон! – воскликнул он. – Возможно ли? Вы ли это поспешили мне на помощь? Но, столь великодушно вступаясь за меня, вы, конечно, не знали, что помогаете человеку, который похитил у вас возлюбленную.
– Я действительно не знал этого, – отвечал я ему, – но если бы даже знал, то неужели, по вашему мнению, поступил бы иначе? Неужели вы так дурно обо мне судите, что приписываете мне столь низкую душу?
– Нет, нет, – возразил он, – я о вас более высокого мнения, и если умру от клинка злодеев, то хотел бы, чтобы ваши раны не помешали вам воспользоваться моей смертью.
– Комбадос, – сказал я ему, – хоть донья Елена мною еще не забыта, все же узнайте, что я не хотел бы овладеть ею ценой вашей жизни; я даже рад, что спас вас от ударов этих трех убийц, поскольку совершил этим деяние, приятное вашей супруге.
Пока мы говорили таким образом, мой лакей сошел с лошади, приблизился к всаднику, распростертому в пыли, и, сняв с него маску, показал нам черты, которые Комбадос тут же узнал.
– Это Капрала, – воскликнул он, – коварный родственник, который с досады, что лишился незаконно оспариваемого у меня богатого наследства, давно уже питал намерение покончить со мной и избрал нынешний день для осуществления своего замысла; но небо дозволило, чтобы он пал жертвой собственного покушения.
Тем временем кровь наша текла в изобилии, и оба мы явственно слабели. Все же, несмотря на раны, у нас хватило силы добраться до местечка Вильярехо, которое находилось не далее двух ружейных выстрелов от поля битвы. Заехав в первую попавшуюся гостиницу, мы потребовали фельдшеров. Явился один, умение коего нам очень хвалили. Осмотрев наши раны, фельдшер нашел их весьма опасными. Он перевязал нас, а на следующий день, снявши повязки, объявил, что раны дона Бласа смертельны. О моих он высказался более благоприятно, и его прогноз не оказался ложным. Комбадос, видя себя приговоренным к смерти, думал только о том, чтобы к ней приготовиться. Он отправил нарочного к жене, дабы известить ее обо всем происшедшем и о плачевном состоянии, в котором находился. Донья Елена вскоре прибыла в Вильярехо. Она приехала туда, мучимая беспокойством, проистекавшим от двух весьма различных причин: опасности, угрожавшей жизни ее мужа, и боязни, как бы при виде меня не вспыхнуло вновь плохо притушенное пламя. И то и другое жестоко ее волновало.
– Сеньора, – сказал ей дон Блас, когда она явилась перед ним, – вы приехали как раз вовремя, чтобы принять мой прощальный привет. Я умру, и на смерть свою смотрю, как на небесную кару за то, что обманом вырвал вас у дона Гастона; я не только не ропщу, но сам призываю вас вернуть ему сердце, которое я у него похитил.
Донья Елена отвечала ему одними слезами. И в самом деле, это был лучший ответ, какой она могла ему дать, так как в душе не достаточно еще отреклась от меня, чтобы позабыть хитрость, при помощи которой он заставил ее мне изменить.
Случилось так, как предсказал фельдшер: менее чем через три дня Комбадос умер от ран, в то время как состояние моих предвещало скорое выздоровление. Молодая вдова, занятая исключительно заботами о перенесении в Корию тела своего мужа, чтобы воздать ему все почести, которые она была обязана оказать его праху, покинула Вильярехо и пустилась в обратный путь, предварительно справившись, как бы из чистой вежливости, о состоянии моего здоровья. Как только я смог за нею последовать, я выехал в Корию, где окончательно восстановил свои силы. Тогда тетушка моя, донья Элеонор, и дон Хорхе де Галистео решили как можно скорее обвенчать меня с Еленою, дабы судьба путем какой-нибудь неожиданной превратности не разлучила нас вновь. Наша свадьба состоялась без большой огласки ввиду слишком недавней смерти дона Бласа; а через несколько дней я возвратился в Мадрид вместе с доньей Еленой. Так как я пропустил срок, назначенный мне графом-герцогом, то опасался, как бы министр не отдал другому обещанной мне должности; но оказалось, что он ею еще не распорядился и соблаговолил принять извинения, которые я принес ему за свое опоздание. Итак, – продолжал Когольос, – я теперь поручик испанской гвардии и чувствую себя хорошо в своей должности. Я приобрел друзей приятного обхождения и провожу с ними время в довольстве.
– Я был бы рад, если бы мог сказать то же про себя, – воскликнул дон Андрес, – но я очень далек от довольства своею судьбою: я лишился должности, которая как-никак сильно меня поддерживала, и у меня нет друзей, достаточно влиятельных, чтобы доставить мне прочное положение.
– Простите, сеньор дон Андрес, – прервал я его с улыбкой, – в моем лице вы обладаете другом, который может вам кое на что пригодиться. Сейчас только я говорил вам, что теперь еще больше любим графом-герцогом, чем прежде герцогом Лермой; а вы осмеливаетесь утверждать мне в лицо, будто у вас нет никого, кто бы мог доставить нам надежную должность. Разве я уже раз не оказал вам подобной услуги? Вспомните, что, пользуясь влиянием архиепископа гренадского, я добился вашего назначения в Мексику на пост, на котором вы бы разбогатели, если бы любовь не удержала вас в городе Аликанте. Теперь же я еще больше в состоянии услужить вам, поскольку уши первого министра всегда открыты для меня.
– Итак, я вручаю вам свою судьбу, – отвечал Тордесильяс. – Но, пожалуйста, – добавил он улыбаясь, в свою очередь, – не отсылайте меня в Новую Испанию; я не хотел бы туда отправиться, хотя бы меня сделали председателем мексиканского суда.
Наш разговор был прерван доньей Еленой, появившейся в зале и прелестью всей своей особы вполне оправдавшей то очаровательное представление, которое я себе о ней составил.
– Сударыня, – сказал ей Когольос, – представляю вам сеньора де Сантильяна, о коем как-то говорил вам и чье приятное общество часто разгоняло мою скуку в дни заключения.
– Да, сеньора, – сказал я донье Елене, – разговор со мной ему нравился, потому что его предметом всегда были вы.
Дочь дона Хорхе со скромностью ответила на мою учтивость, после чего я простился с супругами, уверив их в своей радости по поводу того, что брак наконец увенчал их давнишнюю любовь. Обратившись затем к Тордесильясу, я попросил его сообщить мне свое место жительства и, получив от него требуемое указание, сказал:
– Я не прощаюсь с вами, дон Андрес: надеюсь, вы не позже чем через неделю убедитесь, что я сочетаю власть с доброй волей.
Ему не пришлось уличить меня во лжи. На следующий же день граф-герцог сам дал мне повод оказать услугу коменданту.
– Сантильяна, – сказал мне министр, – освободилось место начальника королевской тюрьмы в Вальядолиде: оно приносит больше трехсот пистолей в год; мне хочется отдать его тебе.
– Я не приму его, ваша светлость, – отвечал я ему, – хоть бы оно давало десять тысяч дукатов годовой ренты; я отказываюсь от всех мест, которые могут разлучить меня с вами.
– Но ты отлично можешь занимать это место, не покидая Мадрида, – возразил министр, – тебе только придется время от времени ездить в Вальядолид, чтобы посещать тюрьму.
– Говорите что хотите, – возразил я ему, – эту должность я приму только при условии, что мне позволено будет отказаться от нее в пользу честного дворянина, по имени дон Андрее де Тордесильяс, бывшего коменданта Сеговийской крепости: мне бы хотелось преподнести ему этот подарок в благодарность за хорошее обращение со мною во время моего пребывания в тюрьме.
– Ты, Жиль Блас, я вижу, хочешь смастерить начальника королевской тюрьмы так же, как недавно сделал вице-короля. Ну что же, мой друг! Хорошо, я предоставляю тебе эту вакансию для Тордесильяса; но скажи мне откровенно, сколько тебе за это перепадет, ибо я не считаю тебя таким глупцом, чтоб безвозмездно пускать в ход свое влияние.
– Ваша светлость, – отвечал я, – разве мы не должны платить свои долги? Дон Андрес безвозмездно доставлял мне всевозможные одолжения. Не должен ли и я воздать ему тем же?
– Вы стали необыкновенным бессребреником, сеньор де Сантильяна, – возразил герцог. – Мне кажется, что вы были значительно менее бескорыстны при прошлом министерстве.
– Не отрицаю, – ответил я. – Дурной пример развратил меня; так как все тогда продавалось, то и я сообразовывался с обычаем; теперь же, когда все дается даром, и ко мне вернулось бескорыстие.
Итак, я выхлопотал дону Андресу де Тордесильяс место начальника королевской тюрьмы в Вальядолиде и вскоре отправил его в этот город. Он был столь же доволен своим новым положением, сколь и я – исполнением своего обязательства по отношению к нему.
Глава XIV Сантильяна посещает поэта Нуньеса. Каких особ он там встретил и какого рода речи там говорились
Однажды после обеда мне пришла охота навестить поэта обеих Астурий, так как я весьма любопытствовал узнать, как он живет. Я направился в дом сеньора Бельтрана Гомеса дель Риверо и спросил Нуньеса.
– Он больше здесь не квартирует, – ответил мне лакей, стоявший у входа, и прибавил, указывая на один из соседних домов:
– Вот где он теперь живет; он занимает флигель во дворе.
Я направился туда и, пройдя по двору, вступил в покои с совершенно голыми стенами, где еще застал своего друга Фабрисио за столом с пятью-шестью собратьями, которых он в тот день угощал обедом.
Они уже заканчивали трапезу, а потому находились в самом разгаре диспута. Но едва они меня заметили, как шумный разговор их сменился глубоким молчанием. Нуньес с любезным видом бросился меня встречать и воскликнул:
– Вот сеньор де Сантильяна, соблаговоливший почтить меня своим посещением! Окажите же вместе со мною уважение фавориту первого министра.
При этих словах все сотрапезники также встали, чтобы меня приветствовать, и во внимание к титулу, данному мне Нуньесом, очень почтительно со мною раскланялись. Хотя мне не хотелось ни пить, ни есть, я не мог не усесться за стол вместе с ними и не отвечать на здравицу, провозглашенную в мою честь. Так как мне показалось, что мое присутствие мешает им продолжать непринужденную беседу, то я сказал им:
– Сеньоры, мне сдается, будто я прервал ваш разговор; пожалуйста, продолжайте, а не то я уйду.
– Эти господа, – сказал тогда Фабрисио, – говорили об «Ифигении» Еврипида. Бакалавр Мелькиор де Вильегас, перворазрядный ученый, спрашивал у сеньора дона Хасинто де Ромарате, что его более всего захватило в этой трагедии.
– Да, – подтвердил дон Хасинто, – и я отвечал, что это опасность, в которой находится Ифигения.
– А я, – сказал бакалавр, – возразил ему (и готов это доказать), что вовсе не в этой опасности – истинный интерес пьесы.
– Так в чем же? – воскликнул старый лиценциат Габриель де Леон.
– В ветре, – возразил бакалавр.
Вся компания разразилась смехом при этой реплике, которую и я не принял всерьез. Мне казалось, что Мелькиор сказал это только затем, чтобы повеселить собеседников. Но я не знал этого ученого мужа: то был человек, не понимавший никаких шуток.
– Смейтесь, сколько вам будет угодно, сеньоры, – холодно отвечал он, – я утверждаю, что только ветер должен интересовать, потрясать, волновать зрителя, а вовсе не опасность, угрожающая Ифигении. Представьте себе, – продолжал он, – многочисленную армию, собравшуюся для осады Трои, поймите все нетерпение, переживаемое вождями, желающими поскорее довести свое предприятие до конца и вернуться в Грецию, где они оставили все самое дорогое, богов своего очага, жен и детей. Между тем злобный, противный ветер задерживает их в Авлиде, словно гвоздями прибивает их к гавани, и если он не переменится, то они не сумеют осадить Приамов город. Итак, ветер составляет весь интерес этой трагедии. Я становлюсь на сторону греков, я присоединяюсь к их замыслу. Я хочу только одного: отбытия их флота – и безразличным взглядом смотрю на Ифигению в опасности, ибо ее смерть – это средство, чтобы добиться от богов попутного ветра.
Не успел Вильегас окончить свою речь, как все снова стали потешаться на его счет. У Нуньеса хватило коварства поддержать его мнение, чтобы дать лишнюю пищу насмешникам, которые принялись наперебой отпускать плоские шутки по поводу ветров. Но бакалавр, окинув их всех флегматичным и высокомерным взглядом, назвал их невеждами и вульгарными умами. Я все время ждал, что эти господа вот-вот рассердятся и вцепятся друг другу в гривы, – обычный финал таких дискуссий. Однако на сей раз мои ожидания не оправдались: они удовольствовались тем, что обменялись бранными словами и удалились, наевшись и напившись до отвала.
После их ухода я спросил Фабрисио, почему он больше не живет у своего казначея и не поссорился ли он с ним.
– Поссорился? – отвечал он. – Боже меня упаси! Я теперь больше прежнего дружу с сеньором доном Бельтраном, который разрешил мне поселиться отдельно. Поэтому я нанял этот флигель, чтобы принимать своих друзей и на свободе с ними развлекаться, что мне случается делать очень часто, ибо ты знаешь, что не в моем характере копить несметные богатства для своих наследников. Мое счастье, что я теперь в состоянии каждый день устраивать себе развлечения.
– Я искренне рад, милый мой Нуньес, – ответил я, – и не могу удержаться, чтобы не поздравить тебя вновь с успехом твоей последней трагедии: все восемьсот драм великого Лопе не принесли ему и четверти того, что дал тебе твой «Граф де Сальданья».
Книга двенадцатая
Глава I Министр посылает Жиль Бласа в Толедо. Цель и успех его путешествия
Уже около месяца его светлость повторял мне изо дня в день:
– Сантильяна! Приближается время, когда я пущу в ход всю твою ловкость.
Но время это все не приходило. Однако же наконец оно пришло, и министр заговорил со мной в таких выражениях:
– Говорят, что в труппе толедских комедиантов имеется молодая актриса, которая славится своим талантом. Утверждают, что она божественно поет и танцует и восхищает зрителей своей декламацией; уверяют даже, будто она красива. Такой перл, конечно, достоин появиться при дворе. Король любит комедию, музыку и танцы; не следует лишать его удовольствия видеть и слышать особу, обладающую столь редкими достоинствами. Поэтому я решил отправить тебя в Толедо, чтобы ты сам мог судить, действительно ли она – такая замечательная артистка. Я буду сообразовываться с тем впечатлением, которое она на тебя произведет, и вполне полагаюсь на твое суждение.
Я отвечал министру, что представлю ему подробный ответ об этом деле, и собрался в дорогу с одним слугой, которого заставил снять министерскую ливрею, дабы проделать все с меньшей оглаской; это очень понравилось его светлости.
Итак, я направился в Толедо и, прибыв туда, пристал на постоялом дворе неподалеку от замка. Не успел я сойти с коня, как гостиник, очевидно принимая меня за какого-нибудь местного дворянина, сказал мне:
– Сеньор кавальеро, вы, по-видимому, приехали в наш город, чтобы присутствовать при величественной церемонии ауто-да-фе, которая состоится завтра?
Я ответил ему утвердительно, предпочитая оставить его при этом мнении, нежели подать ему повод для расспросов относительно причин, приведших меня в Толедо.
– Вы увидите, – продолжал он, – прекраснейшую процессию, какой еще никогда не бывало: будет, говорят, свыше сотни преступников, а среди них насчитывают более десяти присужденных к сожжению.
В самом деле, на следующее утро, еще до восхода солнца, я услыхал звон всех городских колоколов: этим благовестом давали знать народу, что ауто-да-фе сейчас начнется. Любопытствуя увидеть это торжество, я наскоро оделся и направился к зданию инквизиции. Неподалеку оттуда, а также вдоль всех улиц, по коим должна была пройти процессия, воздвигнуты были помосты, и я за свои деньги поместился на одном из них. Вскоре я увидал знамена инквизиции, а позади них – доминиканцев, возглавлявших шествие. Непосредственно за этими добрыми иноками выступали жертвы, которых святая инквизиция сегодня собиралась заклать. Несчастные шли гуськом, с непокрытой головой и босыми ногами; каждый держал в руке свечу, а его восприемник [206] шагал рядом с ним. На некоторых преступниках были широкие нарамники из желтого холста, испещренные красными андреевскими крестами и называемые «сан-бенито»; другие носили «карочи», то есть высокие бумажные колпаки в форме сахарных голов, расписанные языками пламени и фигурами дьяволов.
Смотря во все глаза на этих несчастных и всячески стараясь скрыть свое сострадание к ним, дабы мне не вменили этого в преступление, я вдруг узнал среди увенчанных «карочею» преподобного брата Иларио и его сотоварища, брата Амбросио. Они прошли так близко от меня, что я не мог ошибиться.
«Что я вижу? – воскликнул я про себя. – Итак, небо, которому надоела распутная жизнь этих двух негодяев, отдало их в руки инквизиционного суда!»
При этой мысли меня охватило чувство ужаса. Я затрясся всем телом, в голове у меня помутилось, так что я едва не упал в обморок. Моя связь с этими мошенниками, приключение в Хельве – словом, все, что мы вместе проделали, предстало в то мгновение перед моим мысленным взором, и я не знал, как мне благодарить бога за то, что он уберег меня от нарамника и «карочи».
По окончании церемонии я вернулся на постоялый двор, весь дрожа от ужасного зрелища, которое мне пришлось увидать. Но тягостные образы, заполнявшие мое воображение, незаметно рассеялись, и я стал думать только о том, как бы удачнее исполнить поручение, возложенное на меня моим начальником. Я с нетерпением дожидался момента, когда можно будет отправиться в театр, считая, что с этого мне надлежало начать. Как только наступил назначенный час, я пошел в комедийный дом и уселся там рядом с каким-то кавалером ордена Алькантары. Вскоре я завязал с ним разговор.
– Сеньор, – сказал я ему, – дозволено ли будет приезжему обратиться к вам с вопросом?
– Сеньор кавальеро, – ответил он мне крайне вежливо, – я почту это за особую честь.
– Мне очень хвалили толедских комедиантов, – продолжал я. – Не напрасно ли так хорошо о них отзываются?
– Нет, – ответствовал кавалер, – труппа у них не плохая: есть даже крупные дарования. Между прочим, вы увидите прекрасную Лукресию, четырнадцатилетнюю актрису, которая вас поразит. Когда она появится на сцене, мне не придется вам на нее указывать: вы сами легко ее узнаете.
Я спросил у кавалера, будет ли она играть сегодня вечером. Он отвечал, что будет и что ей даже предстоит исполнить блестящую роль в нынешней пьесе.
Представление началось. Появились две актрисы, которые не пренебрегли ничем, что могло сделать их очаровательными; но, несмотря на блеск их брильянтов, я не признал ни в одной из них той, которой дожидался. Кавалер ордена Алькантары так превознес Лукресию, что я не мог себе ее представить, не увидав воочию. Наконец сама прекрасная Лукресия вышла из-за кулис, и ее появление на сцене было возвещено длительными и всеобщими рукоплесканиями.
– Ага! Вот она! – сказал я про себя. – Какая благородная осанка! Сколько прелести! Что за прекрасные глаза! Какое пленительное создание!
Действительно, я остался ею чрезвычайно доволен, вернее, ее внешность сильно меня потрясла. При первой же произнесенной ею тираде я нашел в ней естественность выражения, огонь и ум не по возрасту и охотно присоединил свои аплодисменты к тем, которыми все присутствовавшие награждали ее во время представления.
– Ну что? – сказал мне кавалер. – Видите, как публика принимает Лукресию.
– Я этому не удивляюсь, – отвечал я.
– Вы удивились бы еще меньше, – возразил он, – если бы слышали, как она поет. Это – сирена: горе тем, кто слушает ее, не приняв предосторожности Улисса [207] . Танцы ее не менее гибельны: ее па столь же опасные, как и голос, чаруют взор и принуждают сдаться любое сердце.
– Если так, – воскликнул я, – то следует признать, что это чудо. Какой счастливец имеет удовольствие разоряться из-за столь любезной красавицы?
– У нее нет признанного любовника, – сказал он, – и даже злословие не приписывает ей никакой секретной интриги. Тем не менее, – продолжал кавалер, – возможно, что таковая имеется, ибо Лукресия находится под надзором своей тетки Эстрельи, несомненно самой ловкой из всех комедианток.
Услышав имя Эстрельи, я поспешно прервал кавалера и спросил, принадлежит ли эта Эстрелья к толедской труппе.
– Это одна из лучших актрис, – сказал он. – Сегодня она не выступает, и мы, право, можем пожалеть об этом. Обычно она играет наперсницу и превосходно справляется с этой ролью. Сколько остроумия вкладывает она в свою игру! Может быть, даже слишком много. Но это приятный недостаток, который нетрудно извинить.
И тут кавалер наговорил мне всяких чудес про Эстрелью, и по нарисованному им портрету я больше не сомневался в том, что это – Лаура, та самая Лаура, о которой я столько раз упоминал в своей повести и которую покинул в Гренаде.
Чтобы в этом удостовериться, я после представления прошел за кулисы. Там я спросил Эстрелью и, повсюду ища ее глазами, обнаружил в артистической, где она беседовала с несколькими сеньорами, которые, быть может, интересовались ею только как теткой Лукресии. Я подошел, чтобы поздороваться с Лаурой; но не то из прихоти, не то в наказание за мой внезапный отъезд из Гренады, она притворилась, будто не узнает меня, и приняла мой поклон так сухо, что я был несколько озадачен. Вместо того чтобы со смехом упрекнуть ее за такой ледяной прием, я был так глуп, что рассердился. Я даже резко повернулся и покинул артистическую, в гневе решив на следующий день возвратиться в Мадрид.
«Чтобы отомстить Лауре, – говорил я себе, – я не доставлю ее племяннице чести выступить перед королем; для этого стоит только описать Лукресию перед министром так, как мне будет угодно. Нужно лишь сказать ему, что танцует она неграциозно, что в голосе ее слышится резкость и, наконец, что вся ее прелесть – в молодости. Я уверен, что у его светлости пройдет желание привлечь ее ко двору».
Таков был способ, которым я намеревался отомстить Лауре за ее обращение со мной; но гнев мой продолжался недолго. На следующий день, когда я уже собрался уезжать, мальчик-лакей вошел в мою комнату и сказал мне:
– Вот записка, которую я должен передать сеньору де Сантильяна.
– Это я, дитя мое, – ответил я ему, принимая письмо, и, распечатав его, тут же прочитал следующие слова:
«Позабудьте о приеме, оказанном вам вчера в артистической, и дайте отвести себя туда, куда проводит вас податель сего».
Я немедленно последовал за маленьким лакеем, который привел меня в прекрасный дом поблизости от театра, и застал Лауру в отличном помещении, в то время как она занималась своим туалетом. Она встала, чтобы обнять меня и сказала:
– Сеньор Жиль Блас, я знаю, что у вас есть основание быть недовольным тем приемом, который я вам оказала, когда вы посетили меня в нашей артистической: такой старый друг, как вы, мог рассчитывать на более любезное обхождение с моей стороны. Но в оправдание себе скажу, что я была в самом скверном расположении духа. Когда вы появились передо мной, я вся была поглощена сплетней, распространяемой одним из здешних господ про мою племянницу, честью коей я дорожу больше, нежели своей собственной. Ваш резкий уход сразу заставил меня заметить свою рассеянность, и я тут же приказала мальчику следовать за вами, чтобы узнать, где вы живете, и сегодня же исправить эту оплошность.
– Она уже исправлена, милая Лаура, – сказал я. – Не будем больше говорить об этом. Лучше расскажем друг другу, что с нами случилось с того рокового дня, когда страх перед заслуженным наказанием заставил меня спешно покинуть Гренаду. Я, если помните, оставил вас в довольно большом затруднении. Как же вы из него вышли? Признайтесь, что, несмотря на вашу сообразительность, это было далеко не легким делом. Вам, вероятно, пришлось использовать всю свою ловкость, чтобы успокоить португальского поклонника?
– Ничуть не бывало, – ответствовала Лаура. – Ведь в таких случаях мужчины часто бывают до того слабохарактерны, что избавляют женщину даже от необходимости оправдываться. Неужели вы этого еще не знаете? Итак, – продолжала она, – я подтвердила маркизу де Мариальва, что ты мой брат. Простите, сеньор де Сантильяна, что я обращаюсь с вами так же просто, как в прежние времена; но я никак не могу отучиться от старых привычек. Одним словом, скажу тебе, что я взяла нахальством. «Разве вы не видите, – сказала я португальскому вельможе, – что все это – дело ревности и злобы? Нарсиса, моя товарка и соперница, взбешенная тем, что я спокойно владею сердцем, ею упущенным, сыграла со мной эту штуку, которую я ей охотно прощаю, ибо ревнивой женщине свойственно мстить. Она подкупила подсчикателя свечей, который, служа ее злобным целям, имел наглость заявить, будто видел меня в Мадриде в горничных у Арсении. Это чистейшее вранье: вдова дона Антонио Коэльо всегда обладала слишком высокими чувствами, чтобы пойти в услужение к театральной девке. Кроме того, лживость этого обвинения и заговор моих обвинителей доказываются внезапным отъездом моего брата: если бы он был здесь, то мог бы сокрушить клевету; но Нарсиса, вероятно, пустила в ход какую-нибудь проделку, чтобы его удалить».
– Хотя эти доводы, – продолжала Лаура, – не очень хорошо меня оправдывали, все же маркиз был так любезен, что удовлетворился ими. Этот добродушный сеньор продолжал любить меня до самого того дня, когда покинул Гренаду, чтобы вернуться в Португалию. Правда, его отъезд последовал вскоре за твоим, и жена Сапаты с удовольствием увидала, как я лишилась похищенного у нее любовника. После этого я еще несколько лет оставалась в Гренаде; затем в нашей труппе произошел раскол (как это иной раз у нас бывает), и все актеры разъехались: одни – в Севилью, другие – в Кордову; я же отправилась в Толедо, где вот уже десять лет живу со своей племянницей Лукресией, игру которой ты вчера видел, раз ты был в театре.
В этом месте я не мог удержаться от смеха. Лаура спросила, почему я смеюсь.
– Неужели вы не угадываете? – сказал я. – Ведь у вас нет ни брата, ни сестры, – значит, вы не можете быть теткой Лукресии. Кроме того, мысленно вычислив время, протекшее со дня нашей разлуки, и сличив его с возрастом вашей племянницы, я прихожу к заключению, что вы обе легко могли бы оказаться еще более близкими родственницами.
– Я вас поняла, сеньор Жиль Блас, – ответила вдова дона Антонио, слегка краснея. – Какая у вас память на годы! Вас ничем не проведешь. Ну да, друг мой, Лукресия – дочь маркиза де Мариальва и моя: она – плод нашего союза; я не могу дольше скрывать этого от тебя.
– Подумаешь, как трудно вам открыть этот секрет, принцесса, – сказал я, – после того как вы поведали мне свои похождения с экономом саморского приюта! К тому же могу вам сказать, что Лукресия – особа с необычайными талантами и что зрители не могут быть достаточно признательны вам за этот дар. Можно было бы только пожелать, чтобы ни одна из ваших товарок по ремеслу не дарила публике худших подарков.
Если какой-нибудь коварный читатель, вспомнив о тех интимных разговорах, которые происходили у меня с Лаурой в Гренаде в бытность мою секретарем маркиза де Мариальва, вздумает заподозрить, будто я могу оспаривать у вышеозначенного вельможи честь родства с Лукресией, то я, к стыду своему, готов признаться, что эти подозрения неосновательны.
Я, в свою очередь, дал Лауре отчет о главнейших своих приключениях и нынешнем положении дел. Она выслушала мой рассказ с величайшим вниманием, убедившим меня в том, что я ей не безразличен.
– Друг Сантильяна, – сказала она, когда я кончил, – вы, как я вижу, играете весьма приятную роль на сцене жизни; вы не поверите, до какой степени я этому рада. Когда я повезу Лукресию в Мадрид, чтобы устроить ее в труппу Принцева театра, то льщу себя надеждой, что она найдет влиятельного покровителя в лице сеньора де Сантильяна.
– Не извольте сомневаться, – отвечал я. – Можете на меня рассчитывать: я помещу вас и вашу дочь в эту труппу, когда вам будет угодно. Я могу вам это обещать, не преувеличивая своего влияния.
– Я бы поймала вас на слове, – подхватила Лаура, – и завтра же уехала бы в Мадрид, если бы не была связана контрактом со своей труппой.
– Королевский приказ может порвать ваши узы, – возразил я. – Это дело я беру на себя. Вы получите приказ меньше чем через неделю. Я доставлю себе удовольствие похитить Лукресию у толедцев. Такая прелестная актриса создана только для придворных. Она принадлежит нам по праву.
Лукресия вошла в комнату, когда я заканчивал эту речь. Мне показалось, что я увидал богиню Гебу: так была она мила и изящна. Она только что встала, и естественная красота ее, сияя без помощи искусственных средств, являла взорам очаровательное зрелище.
– Подойдите, племянница, – сказала ей мать, – подойдите и поблагодарите этого сеньора за его доброжелательство по отношению к нам. Это один из моих старых друзей, который пользуется большим влиянием при дворе и берется перевести нас обеих в Принцев театр.
Эти слова, видимо, доставили девочке удовольствие, потому что она сделала мне глубокий реверанс и сказала с обворожительной улыбкой:
– Я приношу вам нижайшую благодарность за ваше любезное намерение. Но, желая похитить у меня зрителей, относящихся ко мне с любовью, уверены ли вы, что я понравлюсь мадридской публике? Я, может быть, проиграю при обмене. Помнится, я слышала от тетушки, будто ей случалось видеть актеров, блиставших в одном городе и вызывавших возмущение в другом. Это меня пугает. Страшитесь же подвергнуть меня презрению двора, а себя его упрекам.
– Прелестная Лукресия, – отвечал я, – ни вам, ни мне незачем этого бояться. Я скорее опасаюсь, что, зажигая все сердца, вы вызовете раздор среди наших грандов.
– Опасения моей племянницы, – промолвила Лаура, – более обоснованны, чем ваши; но я надеюсь, что и те, и другие окажутся напрасными: если Лукресия и не прогремит своими прелестями, зато она не такая уж плохая актриса, чтобы заслужить презрение.
Мы еще некоторое время продолжали этот разговор, и по той лепте, которую внесла в него Лукресия, я смог заключить, что это девушка выдающегося ума. Засим я распрощался с обеими дамами, заверив их, что они незамедлительно получат приказание отправиться в Мадрид.
Глава II Сантильяна дает отчет о своей поздке министру, который поручает ему устроить приезд Лукресии в Мадрид. О прибытии этой актрисы и ее первом выступлении при дворе
По возвращении в Мадрид я застал графа-герцога в нетерпеливом ожидании известий относительно успеха моей поездки.
– Жиль Блас, – сказал он мне, – видел ли ты эту актрису? Стоит ли она того, чтобы выписать ее ко двору?
– Ваша светлость, – отвечал я ему, – молва, которая обычно больше, чем нужно, хвалит красивых женщин, еще недостаточно хорошо отзывается о юной Лукрессии: это существо изумительное как по красоте своей, так и по талантам.
– Возможно ли, – воскликнул министр с чувством внутреннего удовлетворения, которое я прочел в его глазах и которое внушило мне мысль, что он послал меня в Толедо в своих собственных интересах, – возможно ли, чтобы она была так прелестна, как ты, говоришь?
– Увидев Лукресию, – отвечал я, – вы согласитесь, что расхваливать ее можно, только преуменьшая ее прелести.
– Сантильяна, – сказал министр, – расскажи мне подробнее о твоем путешествии; мне будет очень приятно о нем услышать.
Желая удовлетворить своего начальника, я принялся за рассказ и изложил ему все, вплоть до истории Лауры. Я сообщил, что эта актриса родила Лукресию от маркиза де Мариальва, португальского вельможи, который, проездом остановившись в Гренаде, влюбился в Лауру. Когда я, наконец, подробно описал ему все, что произошло между актрисами и мною, он сказал мне:
– Я чрезвычайно рад тому, что Лукресия – дочь дворянина; это еще повышает мой интерес к ней. Необходимо привлечь ее сюда. Но продолжай, как начал, – добавил он, – не вмешивай меня в это дело; пусть все исходит от Жиль Бласа де Сантильяны.
Я отправился к Карнеро и сказал ему, что его светлость желает, чтобы он послал приказ, коим король принимает в придворную труппу Эстрелью и Лукресию, артисток толедского комедийного театра.
– Разумеется, сеньор де Сантильяна, – ответил Карнеро с хитрой улыбкой, – ваше желание будет немедленно исполнено, ибо, по всей видимости, вы интересуетесь этими двумя дамами.
Тут же он собственноручно написал приказ и поручил мне самому его отправить, а я немедленно переслал его Эстрелье с тем же лакеем, который сопровождал меня в Толедо. Неделю спустя мать и дочь прибыли в Мадрид. Они остановились в меблированных комнатах в двух шагах от Принцева театра, и первою их заботою было послать мне записку с извещением. Я тотчас же отправился в эту гостиницу, где (после тысячи предложений услуг с моей и стольких же выражений благодарности с их стороны) предоставил им готовиться к дебюту, пожелав, чтобы он сошел удачно и с блеском.
Они велели известить публику о себе, как о двух новых актрисах, которых придворная труппа приняла по королевскому приказу. Для первого раза они выбрали комедию, в которой обычно выступали в Толедо при общих рукоплесканиях.
В каком уголке мира не любят новостей в области театра? В тот день в комедийном доме наблюдался необыкновенный наплыв зрителей. Легко понять, что и я не пропустил этого представления. Я немного волновался, пока не началось действие. Как ни был я убежден в талантах матери и дочери, я все же дрожал за них: такое живое участие принимал я в их судьбе. Но едва они раскрыли рты, как рукоплескания, которыми их встретили, сняли с меня всякий страх. Все оценили Эстрелью как законченную комическую артистку, а Лукресию – как чудо на ролях любовниц. Эта последняя завоевала все сердца. Одни восхищались красотой глаз, другие были тронуты сладостью голоса, и все, потрясенные ее прелестью и живым блеском молодости, вышли из театра очарованные ею.
Граф-герцог, который еще больше, чем я думал, интересовался дебютом этой актрисы, был в тот вечер в театре. Я видел, как по окончании пьесы он вышел, по-видимому чрезвычайно довольный двумя комедиантками.
Любопытствуя узнать, действительно ли они произвели на него впечатление, я последовал за ним на его половину и, проникнув в кабинет, куда он только что успел войти, спросил:
– Ну как, ваша светлость? Довольны ли вы маленькой Мариальвой?
– Моя светлость, – отвечал он с улыбкой, – была бы крайне привередлива, если бы она отказалась присоединиться к голосу публики. Да, дитя мое, твое путешествие в Толедо было удачным. Я восхищен твоей Лукресией и не сомневаюсь в том, что король посмотрит на нее с удовольствием.
Глава III Лукресия производит при дворе большой фурор и играет перед королем, который в нее влюбляется. Последствия этой любви
Дебют двух новых актрис вскоре нашумел при дворе; на следующий же день о нем заговорили на утреннем приеме у короля. Некоторые сеньоры в особенности превозносили юную Лукресию; они так привлекательно нарисовали ее портрет, что он пленил монарха. Однако король, не показывая вида, будто слова их произвели на него впечатление, хранил молчание и, казалось, не обращал на них никакого внимания.
Но едва очутившись наедине с графом-герцогом, он спросил, что это за актриса, которую так расхваливают. Министр отвечал ему, что это молодая комедиантка из Толедо, которая в прошедший вечер дебютировала с большим успехом.
– Эта актриса, – добавил он, – зовется Лукресией (имя весьма подходящее для особ ее ремесла); она – знакомая Сантильяны, который так хорошо отзывался о ней, что я счел желательным принять ее в труппу вашего величества.
Король улыбнулся, когда услыхал мое имя, припомнив, может быть, в эту минуту, как я в свое время познакомил его с Каталиной, и предчувствуя, что при данной оказии я окажу ему ту же услугу.
– Граф, – сказал он министру, – я хочу завтра посмотреть на игру этой артистки; я поручаю вам поставить ее в известность.
Граф-герцог, пересказав мне этот разговор и передав волю короля, отправил меня к нашим актрисам, чтобы их предупредить. Это повеление было немедленно исполнено.
– Я прихожу, – сказал я Лауре, которая первой вышла ко мне, – сообщить вам великую весть: завтра среди ваших зрителей будет властелин королевства; министр приказал оповестить вас об этом. Я не сомневаюсь, что вы с вашей дочерью приложите все усилия, дабы оправдать ту честь, которую государь собирается вам оказать; но я советую вам выбрать пьесу, в которой имеются музыка и танцы, дабы показать все таланты, какими обладает Лукресия.
– Мы последуем вашему совету, – отвечала Лаура, – и сделаем все возможное; не наша будет вина, если король останется недоволен.
– Он безусловно останется доволен, – сказал я, увидев Лукресию, вошедшую в утреннем туалете, который придавал ей еще больше очарования, чем самые роскошные из ее театральных костюмов. – Он тем более будет доволен вашей любезной племянницей, что больше всего прочего любит танцы и пение; он, может быть, даже почувствует искушение бросить ей платок.
– Я нисколько не желаю, – возразила Лаура, – чтобы он испытал такое искушение; несмотря на свое королевское всемогущество, он может тут натолкнуться на некоторое препятствие к исполнению своих желаний; Лукресия, хоть и воспитана за кулисами театра, обладает добродетелью, и, какое бы удовольствие ей ни доставляли рукоплескания, она все же предпочитает слыть честной девушкой, нежели хорошей актрисой.
– Тетушка, – сказала тогда маленькая Мариальва, вмешавшись в наш разговор, – зачем создавать химеры и самим же с ними бороться? Мне никогда не придется быть в таком затруднительном положении, чтоб отвергать вздохи короля: изящество его вкуса спасет его от упреков, которые он заслужил бы, опустив свой взор до меня.
– Но, обворожительная Лукресия, – сказал я ей, – если бы случилось так, что государь увлекся вами и избрал вас своей возлюбленной, неужели у вас хватило бы жестокости заставить его томиться в ваших сетях, как обычного поклонника?
– Почему нет? – отвечала она. – Да, конечно! И, не говоря уже о добродетели, самолюбие мое было бы больше польщено, если бы я противостояла его страсти, чем если бы ей уступила.
Я немало был удивлен, услыхав такие речи из уст воспитанницы Лауры, и, поздравив эту последнюю с прекрасными нравственными правилами, которые она внушила Лукресии, откланялся дамам.
На следующий день король, которому не терпелось увидать Лукресию, поехал в театр. Сыграли пьесу, пересыпанную пляской и пением, в которой наша юная актриса явилась в полном блеске. Я от начала до конца не спускал глаз с государя и старался прочитать в его взгляде, что он думает. Но король посрамил мою проницательность величественным видом, который он все время сохранял перед людьми. Я лишь на следующий день узнал то, что жаждал услышать.
– Сантильяна, – сказал мне министр, – я только что от короля, который говорил со мной о Лукресии так оживленно, что я не сомневаюсь в его увлечении этой юной актрисой; а так как я сообщил ему, что это ты выписал ее из Толедо, то он выразил желание поговорить с тобою наедине. Иди немедленно к дверям его опочивальни; там уже отдано приказание тебя впустить. Беги же и возвращайся поскорее, чтобы дать мне отчет об этом разговоре.
Я прежде всего полетел к королю и застал его одного. В ожидании меня он ходил взад и вперед большими шагами, и казалось, что мысли его сильно заняты. Он задал мне несколько вопросов о Лукресии, историю коей заставил меня рассказать. Затем он спросил, не было ли уже у этой маленькой особы каких-нибудь галантных приключений, Я смело утверждал, что нет, несмотря на рискованность подобных утверждений; это, как мне показалось, доставило королю большое удовольствие.
– Если так, – подхватил он, – то я выбираю тебя своим ходатаем перед Лукресией; я хочу, чтобы она при твоем посредстве узнала о своей победе. Пойди, извести ее об этом, – прибавил он, вручая мне шкатулку, в которой было драгоценных камней больше чем на пятьдесят тысяч эскудо, – и скажи, что я прошу ее принять этот подарок в ожидании более прочных знаков моей страсти.
Прежде чем исполнить это поручение, я зашел к графу-герцогу, которому в точности передал все, что говорил мне король. Я ожидал увидеть министра скорее огорченным, нежели обрадованным, ибо воображал, как уже сказано, будто он сам имеет сердечные виды на Лукресию и с горестью узнает, что государь стал его соперником. Но я ошибался. Он не только не казался обиженным, но, напротив, проникся такой радостью, что, не будучи в силах ее скрыть, обронил несколько слов, которые я немедленно принял к сведению.
– О, клянусь богом, Филипп! – воскликнул он. – Теперь я вас держу крепко! Вот когда дела начнут вас пугать!
Эта апострофа раскрыла передо мной весь маневр графа-герцога: я понял, что сановник, опасаясь, как бы государь не вздумал заняться серьезными делами, пытался отвлечь его удовольствиями, более подходящими к его характеру.
– Сантильяна, – сказал он затем, – не теряй времени; спеши, друг мой, исполнить данное тебе важное повеление, в котором многие придворные вельможи усмотрели бы для себя честь и славу. Вспомни, – продолжал он, – что теперь у тебя нет никакого графа Лемоса, который забрал бы себе лучшую часть почестей за такую услугу; ты один пожнешь и всю честь, и все плоды.
Таким образом, министр позолотил пилюлю, которую я кротко проглотил, не преминув почувствовать всю ее горечь. Ибо со времени моего заточения я приучился рассматривать вещи под углом зрения морали и, стало быть, не считал должность обер-меркурия столь почетной, как мне ее расписывали. Однако же, хотя я не был настолько порочен, чтобы исполнять ее без зазрения совести, я все же не обладал и такой добродетелью, чтобы совсем от нее отказаться. Итак, я тем охотнее повиновался королю, что видел, какое удовольствие мое повиновение доставляет министру, которому я всегда старался угодить.
Я счел нужным сперва обратиться к Лауре и побеседовать с нею наедине. Я изложил ей свою миссию в умеренных выражениях и под конец речи показал шкатулку. При виде таких драгоценностей эта дама не смогла сдержать радости и дала ей полную волю.
– Сеньор Жиль Блас, – воскликнула она, – не стесняться же мне перед лучшим и первейшим из своих друзей. Мне не к лицу было бы рядиться в личину притворной строгости нравов и кривляться перед вами. О да, не сомневайтесь, – продолжала она, – я в восторге от того, что дочь моя одержала такую неоценимую победу; я понимаю все выгоды, которые она может принести. Но между нами будь сказано, я побаиваюсь, как бы Лукресия не взглянула на дело иными глазами: будучи дочерью подмостков, она тем не менее так привержена к добродетели, что уже отказала двум молодым дворянам, очень богатым и достойным любви. Вы скажете, – продолжала она, – что эти два сеньора – не короли. С этим я согласна, и весьма вероятно, что любовь коронованного поклонника сломит добродетель Лукресии; тем не менее я вынуждена сказать вам, что дело еще не решено, и заявляю, что не стану принуждать свою дочь. Если она, вовсе не почувствовав себя польщенной мимолетным увлечением короля, почтет эту честь за бесчестье, то пусть наш великий монарх не прогневается на нее за отказ. Приходите завтра, – добавила она, – и я скажу вам, должны ли вы отнести ему благоприятный ответ или же вернуть эти драгоценности.
Я не сомневался в том, что Лаура скорее будет убеждать Лукресию уклониться от пути долга, нежели на нем оставаться, и сильно рассчитывал на эти убеждения. Однако же на следующий день я с удивлением узнал, что Лауре труднее оказалось склонить свою дочь ко злу, чем другим матерям наставить своих на путь добра. И что всего удивительнее, Лукресия, после нескольких тайных собеседований уступившая желаниям монарха, так раскаялась, что внезапно ушла от мира и постриглась в монастырь Воплощения господня, где вскоре заболела и умерла с горя. Лаура, со своей стороны, не будучи в силах утешиться после утраты дочери и упрекая себя в ее смерти, удалилась в обитель Кающихся грешниц, чтобы оплакать там наслаждения своей юности. Король был тронут неожиданным пострижением Лукресии; но так как длительная печаль была не в характере этого молодого властителя, он постепенно утешился. Что же касается графа-герцога, то хотя он и не проявил своих чувств в отношении этого происшествия, однако же был сильно им огорчен, чему читатель без труда поверит.
Глава IV О новом назначении, которое министр дал Жиль Бласу
Я тоже очень тяжело перенес гибель Лукресии, и так мучила меня совесть за мое соучастие в этом деле, что, считая себя обесчещенным (несмотря на высокий ранг любовника, чьей страсти мне пришлось содействовать), я решил навсегда отказаться от роли меркурия. Я даже сообщил министру о своем отвращении к ношению кадуцея и просил его употреблять меня на другие дела.
– Сантильяна, – сказал он мне, – деликатность твоих чувств меня радует, и если ты такой честный малый, то я дам тебе занятие, более подходящее для твоего благонравия. Вот в чем дело: выслушай внимательно тайну, которую я собираюсь тебе доверить. За несколько лет до моего возвышения, – продолжал он, – случай однажды привел мне на глаза даму, которая показалась мне такой статной и красивой, что я приказал лакею последовать за ней. Я узнал, что она – генуэзка, по имени донья Маргарита Спинола, которая живет в Мадриде с доходов от своей красоты; мне даже донесли, что Франсиско де Валеакар, алькальд королевского двора, человек состоятельный, старый и женатый, сильно тратится на эту прелестницу. Это донесение, которое должно было бы внушить лишь презрение к ней, напротив, пробудило во мне мощное желание разделить ее милости с Валеакаром. Мне пришла эта прихоть, и, чтобы ее удовлетворить, я прибег к посреднице в любовных делах, у которой хватило ловкости вскоре устроить мне тайное свидание с генуэзкой, за каковым последовало еще несколько, так что мой соперник и я за свои подарки пользовались одинаково радушным приемом. Возможно, что был у нее еще какой-нибудь поклонник, столь же счастливый, как и мы. Как бы то ни было, Маргарита, принимая столь сложно переплетающиеся ухаживания, неожиданно сделалась матерью и произвела на свет мальчика, честь рождения коего она приписывала каждому из своих любовников в отдельности. Однако ни тот, ни другой, не имея возможности похвастаться тем, что он отец этого ребенка, не пожелали его признать. Таким образом, генуэзка была вынуждена кормить его плодами своих любовных похождений, что она и делала в течение восемнадцати лет, а затем, скончавшись, оставила своего сына без денег и, что хуже всего, безо всякого образования. Вот эту тайну, – продолжал министр, – я и хотел тебе открыть, а сейчас сообщу тебе о великом замысле, который я выносил в душе. Я хочу извлечь из неизвестности этого бедного ребенка и, перебросив из одной крайности в другую, признать его своим сыном и вознести на вершину почестей.
Услышав этот сумасбродный проект, я не мог молчать.
– Как, сеньор, – вскричал я, – возможно ли, чтобы ваша светлость возымела столь странное намерение? Простите мне этот эпитет; он вырвался у меня из преданности к вам.
– Ты найдешь, что оно вполне благоразумно, – поспешно подхватил он, – когда я изложу причины, меня к сему побудившие: я вовсе не хочу, чтобы мои родичи по боковым линиям стали моими наследниками. Ты скажешь, что я еще не в таком возрасте, чтобы потерять всякую надежду иметь детей от графини Оливарес. Но всякий сам себя лучше знает. Скажу тебе только, что у химии нет таких средств, к которым бы я не обращался, чтобы вновь стать отцом, – и все тщетно. Итак, если судьба, возмещая природный недостаток, дарит мне ребенка, чьим отцом я, может быть, являюсь на самом деле, то я и усыновляю его. Это – дело решенное.
Увидев, что министр крепко забрал себе в голову это усыновление, я перестал противодействовать, зная, что он человек, способный скорее сделать глупость, чем отступиться от своего мнения.
– Теперь все дело только в том, – добавил он, – чтобы дать воспитание дону Энрике-Филиппу де Гусман, ибо это имя он, по моему желанию, должен носить перед всем светом, прежде чем получит ожидающие его титулы [208] . Тебя же, дорогой Сантильяна, я избрал, чтобы руководить этим воспитанием; я полагаюсь на твой ум, на твою привязанность ко мне: ты позаботишься о его штате, о приискании ему различных учителей – словом, о превращении его в законченного кавальеро.
Я попытался было уклониться от занятия этой должности, указав графу-герцогу на то, что мне не пристало воспитывать молодых дворян, поскольку я никогда не занимался таким делом, требующим больших знаний и нравственных качеств, чем я могу предъявить. Но он прервал меня и зажал мне рот, сказавши, что во что бы то ни стало желает видеть меня гувернером этого приемыша, которого он предназначает для отправления высших государственных должностей. Итак, я приготовился занять это место, чтобы угодить светлейшему сеньору; а он, в награду за такую любезность, увеличил мой маленький доход рентою в тысячу эскудо с командорства Мамбра, которую он мне выхлопотал или, вернее, пожаловал сам.
Глава V Сын генуэзки усыновлен законным актом и назван доном Энрике-Филиппом де Гусман. Сантильяна набирает штат для юного вельможи и нанимает ему всякого рода учителей
В самом деле, граф-герцог не замедлил узаконить сына доньи Маргариты Спинолы, и акт усыновления был составлен с разрешения и одобрения короля.
Дон Энрике-Филппп де Гусман (таково было имя, данное этому отпрыску нескольких отцов) вышеозначенным актом объявлялся единственным наследником графства Оливарес и герцогства Сан-Лукар. Дабы всем была известна эта декларация, министр приказал Карнеро сообщить ее послам и испанским грандам, которые пришли в немалое удивление. Мадридские зубоскалы долго забавлялись по этому поводу, а поэты-сатирики не упустили такого прекрасного случая, чтобы обмакнуть свои перья в желчь.
Я спросил у rpaфа-герцога, где находится молодой человек, коего он собирается поручить моей заботливости.
– Он живет в здешнем городе, – отвечал министр, – под надзором своей тетки, у которой я его заберу, как только ты управишься с устройством его дома.
Это вскоре было исполнено. Я нанял дом и великолепно его обставил. Я принял на службу пажей, привратника, гайдуков и с помощью Капориса составил штат прислуги. Набрав всю челядь, я доложил об этом графу-герцогу, который тут же велел послать за новым и сомнительным отпрыском фамилии Гусманов. Я увидел высокого юношу с довольно приятным лицом.
– Дон Энрике, – сказал министр, указывая на меня пальцем, – вот кавалер, которого я избрал вашим руководителем на жизненном пути; я вполне ему доверяю и даю ему над вами неограниченную власть. Да, Сантильяна, – добавил он, обращаясь ко мне, – я поручаю его вам и не сомневаюсь, что ваши отзывы о нем будут благоприятны.
Эту речь министр еще дополнил увещаниями, побуждавшими молодого человека подчиняться моему руководству, после чего я увез дона Энрике в его дом.
Как только мы туда прибыли, я устроил смотр всем его слугам, объяснив ему обязанности, которые каждый из них нес в его доме. Он, казалось, совершенно не был ошеломлен переменой своего положения и, охотно принимая знаки уважения и почтительности, которые ему выказывались, держал себя так, точно всю жизнь был тем, чем стал случайно. Дон Энрике был неглуп, но грубо невежествен, еле умел читать и писать. Я приставил к нему наставника, чтобы тот преподал ему начатки латыни, и нанял учителей географии, истории и фехтования.
Легко понять, что, я не позабыл и учителя танцев, но тут я весьма затруднялся в выборе: было в те времена в Мадриде великое множество славных танцмейстеров, и я не знал, которому отдать предпочтение.
Находясь в такой нерешительности, я однажды увидел, что во двор нашего дома входит богато одетый человек. Мне доложили, что он желает говорить со мною. Я пошел ему навстречу, воображая, будто это по меньшей мере кавалер ордена св. Иакова или Алькантары, и спросил, чем могу ему служить.
– Сеньор де Сантильяна, – ответил он, предварительно отвесив мне несколько поклонов, которые выдавали его ремесло, – так как мне сказали, что ваша милость выбирает наставников для сеньора дона Энрике, то я пришел предложить вам свои услуги. Зовут меня Мартин Лихеро, и я, слава богу, пользуюсь некоторой известностью. Не в моих привычках ходить и выклянчивать себе учеников (это пристало только мелким учителям танцев); я обычно жду, чтоб за мною прислали, но, преподавая у герцога Медина Сидония, у дона Луиса де Аро и у некоторых других господ из дома Гусманов, прирожденным служителем коего я в некотором смысле состою, я счел долгом опередить ваше приглашение.
– Из этих слов я усматриваю, – ответил я ему, – что вы как раз тот человек, который нам нужен. Сколько вы берете в месяц?
– Четыре двойных пистоли, – отвечал он, – это обычная цена, но я даю не более двух уроков в неделю.
– Четыре дублона в месяц?! – воскликнул я. – Это много!
– Много? – спросил он изумленным тоном. – Ведь даете же вы пистоль в месяц учителю философии!
Против столь забавной реплики невозможно было устоять; я от души рассмеялся и спросил у сеньора Лихеро, думает ли он в самом деле, что человек его ремесла стоит дороже, чем преподаватель философии.
– Разумеется думаю, – сказал он. – Мы приносим больше пользы, чем эти господа. Что такое человек, прежде чем он прошел через наши руки? Чурбан, увалень. Но наши уроки постепенно развивают его и незаметно придают ему форму. Короче говоря, мы обучаем его двигаться грациозно, мы придаем ему важную и благородную осанку.
Я сдался на доводы этого учителя и пригласил его давать уроки дону Энрике из расчета по четыре дублона в месяц, коль скоро такова была цена, установленная гроссмейстерами этого искусства.
Глава VI Сипион возвращается из Новой Испании. Жиль Блас приставляет его к дону Энрике. О занятиях этого юного сеньора. О том, какие ему были оказаны почести и на какой даме женил его граф-герцог. Как Жиль Блас против своей воли получил дворянство
Мне не удалось набрать еще и половины штата дона Энрике, как Сипион возвратился из Мексики. Я спросил его, доволен ли он своим путешествием.
– Поневоле будешь доволен, – отвечал он, – раз я за три тысячи дукатов наличными закупил там товаров на сумму, вдвое большую по здешней рыночной цене.
– Поздравляю тебя, дитя мое, – отвечал я, – основа твоего благополучия заложена. От тебя одного будет зависеть завершить дело, еще раз съездивши в Индию в будущем году. Или же если ты не хочешь так далеко ходить за богатством и предпочитаешь какую-нибудь приятную должность в Мадриде, то я могу предложить тебе таковую.
– Клянусь богом, – воскликнул сын Косколины, – тут не может быть колебаний: я предпочитаю занимать какое-нибудь хорошее место при вашей милости, нежели снова подвергать себя опасностям долгого плавания, какие бы выгоды оно мне ни принесло. Объясните, хозяин, какое занятие вы собираетесь дать вашему покорному слуге.
Чтобы ввести его в курс дела, я рассказал ему историю юного вельможи, которого граф-герцог только что ввел в фамилию Гусманов. Изложив ему подробности этого любопытного происшествия и сообщив, что министр назначил меня гувернером дона Энрике, я сказал ему о своем намерении сделать его камердинером этого приемыша. Сипион ничего лучшего и не желал, охотно принял эту должность и так хорошо справился с нею, что в течение трех-четырех дней завоевал доверие и дружбу своего нового хозяина.
Я полагал, что педагоги, избранные мною для обучения сына генуэзки, собьются с панталыку, так как в его возрасте, думалось мне, трудно подчиняться дисциплине. Однако же дон Энрике обманул мои ожидания. Он легко понимал и усваивал все, что ему преподавали. Учителя были им чрезвычайно довольны. Я поспешил сообщить эту весть графу-герцогу, который принял ее с непомерной радостью.
– Сантильяна, – воскликнул он с воодушевлением, – ты приводишь меня в восторг, сообщая мне, что дон Энрике обладает хорошей памятью и сообразительностью: я узнаю в нем свою кровь. Но больше всего убеждает меня в нашем родстве то обстоятельство, что я испытываю к нему такую же нежность, как если бы он родился от графини Оливарес. Из этого, друг мой, ты можешь заключить, что природа сама себя обнаруживает.
Я поостерегся высказать его светлости свое мнение и, щадя его слабость, предоставил ему наслаждаться уверенностью в том, что он отец дона Энрике.
Хотя все Гусманы питали смертельную ненависть к новоиспеченному вельможе, однако же политично скрывали это. Оказались среди них и такие, которые притворно искали его дружбы. Послы и гранды, находившиеся тогда в Мадриде, нанесли ему визиты со всеми знаками почтения, которые они оказали бы законному сыну графа-герцога. Министр, радуясь, что другие кадят его кумиру, не замедлил и сам украсить его почестями. Начал он с того, что выхлопотал для него у короля крест Алькантары и командорство с доходом в десять тысяч эскудо. Немного спустя он заставил пожаловать его камер-юнкером. Затем, возымев намерение его женить [209] и желая дать ему в жены дочь какого-нибудь из знатнейших вельмож Испании, он остановил свой выбор на донье Хуане де Веласко, дочери герцога Кастильского, и у него хватило влияния, чтобы устроить этот брак против воли герцога и всей его родни.
За несколько дней до свадьбы граф-герцог, послав за мною и вручая мне какие-то бумаги, сказал:
– Вот, Сантильяна, дворянская грамота, которую я приказал для тебя составить.
– Ваша светлость, – отвечал я, немало удивленный этими словами, – вам известно, что я сын дуэньи и стремянного: мне кажется, что это будет профанацией дворянства, если меня причислят к нему. Из всех милостей, которые его величество может мне оказать, это наименее заслуженная и наименее для меня желанная.
– Твое рождение, – ответил министр, – препятствие, легко устранимое. Ведь ты занимался государственными делами при герцоге Лерме и при мне. Кроме того, – прибавил он с улыбкой, – разве ты не оказывал монарху услуг, требующих вознаграждения? Одним словом, Сантильяна, ты вполне достоин той чести, которую мне хотелось тебе оказать. Да и то место, которое ты занимаешь при моем сыне, требует дворянского достоинства; вот почему я даровал тебе дворянскую грамоту.
– Я сдаюсь, сеньор, – отвечал я ему, – коль скоро ваша светлость на этом настаивает.
С этими словами я ушел, унося свою грамоту в кармане.
«Итак, – сказал я себе, очутившись на улице, – я теперь благородный сеньор. Я дворянин, и притом ничем не обязан своим родителям. Я могу, если мне заблагорассудится, приказать, чтобы меня величали доном Жиль Бласом, и если кто-нибудь из моих знакомых, называя меня так, вздумает рассмеяться мне в лицо, я предъявлю ему свою грамоту. Но прочитаем ее, – продолжал я, вынимая бумагу из кармана, – посмотрим, каким образом в ней обмывают смерда».
Итак, я прочитал свой патент, основное содержание коего заключалось в том, что король в награду за преданность, неоднократно проявленную мною на службе у него и на пользу государству, почел за благо пожаловать меня дворянской грамотой. В похвалу себе смею сказать, что она не внушила мне никакой гордости. Всегда памятуя о своем низком происхождении, я видел в этой новой почести скорее унижение, чем повод для чванства. Поэтому я твердо решил запереть свою грамоту в ящик и не хвастаться тем, что ее получил.
Глава VII Жиль Блас снова случайно встречается с Фабрисио. О разговоре, происшедшем между ними, и о важном совете, который Нуньес дал Сантильяне
Поэт обеих Астурий, как читатель уже мог заметить, не жаловал меня своим вниманием. Я же, со своей стороны, слишком был занят, чтобы его посещать. Я не видел его со времени диспута об «Ифигении» Еврипида, как вдруг случай свел меня с ним неподалеку от Пуэрта дель Соль. Он выходил из типографии. Я подошел к нему со словами:
– О, о, сеньор Нуньес, вы выходите от печатника? Это как будто грозит публике новым произведением вашего таланта.
– Да, она действительно должна к этому готовиться, – отвечал он. – Я сейчас печатаю брошюру, которая, наверное, произведет много шуму в республике пера.
– Я не сомневаюсь в достоинствах твоего произведения, – сказал я ему, – но дивлюсь, что ты забавляешься писанием брошюр: мне кажется, что это – безделушки, не приносящие большой чести таланту.
– Это я знаю, – возразил Нуньес. – Мне также небезызвестно, что чтением брошюр забавляются только те, которые читают все. И тем не менее я только что испек брошюру и признаюсь тебе, что она – дитя нужды. Голод, как ты знаешь, гонит волка из лесу.
– Как? – воскликнул я. – Неужели автор «Графа Сальданьи» произносит такие слова? Может ли так говорить человек с рентою в две тысячи эскудо?
– Потише, друг мой, – прервал меня Нуньес, – я уже больше не тот счастливый поэт, который пользовался аккуратно выплачиваемой пенсией. Дела казначея дона Бельтрана внезапно пришли в расстройство. Он роздал, растратил казенные деньги; все его имущество конфисковано, и мой пенсион пошел ко всем чертям.
– Весьма печально, – сказал я ему. – Но не осталось ли у тебя какой-нибудь надежды поправить это дело?
– Ни малейшей, – ответил он. – Сеньор Гомес дель Риверо – такой же нищий, как и его поэт; он – конченный человек и, говорят, никогда уже не выплывет на поверхность.
– В таком случае, дружище, – заметил я, – придется мне приискать тебе какое-нибудь место, которое утешило бы тебя в утрате пенсии.
– Я освобождаю тебя от этой заботы, – ответил он. – Если бы ты даже предложил мне в канцелярии министерства место с окладом в три тысячи эскудо, я бы отказался. Ремесло конторщика не по нутру питомцу муз; мне необходимо наслаждение творчеством. Одним словом, я рожден, чтобы жить и умереть поэтом, и выполню свое предназначение. К тому же не воображай, что мы так несчастны: не говоря уже о том, что мы живем в полной независимости, мы – беззаботные птички. Некоторые полагают, что мы частенько довольствуемся трапезой Демокрита, но они ошибаются. Среди моих собратьев (не исключая даже авторов календарей) нет ни одного, который бы не был нахлебником в каком-нибудь хорошем доме. У меня лично есть два таких дома, где меня с удовольствием принимают. Два прибора всегда ждут меня: один – у толстосума-откупщика, которому я посвятил роман, другой – у богатого мадридского купца, страдающего манией всегда приглашать к столу литераторов; к счастью, он не очень разборчив, и город поставляет их ему сколько угодно.
– Итак, я перестаю тебя жалеть, коль скоро ты доволен своей участью, – сказал я астурийскому поэту. – Как бы то ни было, повторяю тебе, что в лице Жиль Бласа у тебя есть друг, несмотря на твое невнимание к нему. Если ты нуждаешься в моем кошельке, то смело приходи ко мне. Пусть ложный стыд не лишит тебя надежной помощи, а меня – удовольствия тебе услужить.
– По этим великодушным чувствам я узнаю Сантильяну, – воскликнул Нуньес, – и тысячу раз благодарю тебя за твое ко мне благорасположение. В благодарность я должен дать тебе важный совет. Пока граф-герцог еще всемогущ, а ты пользуешься его милостями, не теряй времени и спеши обогатиться. Ибо этот министр, как говорят, начинает шататься на своем пьедестале.
Я спросил Фабрисио, узнал ли он об этом из верного источника, а он отвечал:
– Я слыхал эту новость от одного старого кавалера ордена Калатравы, который обладает неподражаемым талантом разнюхивать самые секретные дела. Этому человеку внимают, как оракулу, и вот что я вчера от него слышал. У графа-герцога, говорил он, великое множество врагов, которые все объединяются, чтобы его погубить; он слишком рассчитывает на свою власть над королем: монарх, говорят, уже начинает склонять свой слух к жалобам, которые до него доходят.
Я поблагодарил Нуньеса за его предупреждение, но не обратил на оное большого внимания и вернулся домой в убеждении, что власть моего господина несокрушима, ибо я смотрел на него, как на один из тех старых дубов, которые крепко пустили корни в лесу и которых никакие бури не в силах сломить.
Глава VIII Как Жиль Блас удостоверился в том, что предупреждение Фабрисио не было ложным. О путешествии короля в Сарагосу
А между тем то, что сказал мне астурийский поэт, было не лишено основания. Во дворце составился тайный заговор против графа-герцога, главою которого, как говорили, была королева; и все же в общество не просачивалось никаких слухов о мерах, принимаемых заговорщиками с целью свалить министра. Протекло даже больше года с того времени, и я не замечал, чтобы его положение хоть сколько-нибудь поколебалось.
Но восстание каталонцев [210] , поддержанное Францией, и безуспешная война с мятежниками вызвали в народе ропот и жалобы на правительство. Эти жалобы стали предметом обсуждения в Совете под председательством короля, который потребовал присутствия маркиза де Грана, имперского посла при испанском дворе. Обсуждался вопрос о том, лучше ли королю оставаться в Кастилии или проследовать в Арагон, чтобы показаться войскам. Граф-герцог, которому хотелось, чтобы государь не ехал в армию, заговорил первым. Он указал на то, что его королевскому величеству будет пристойнее не удаляться из центра своего государства, и поддерживал свое рассуждение всеми доводами, какие могло доставить ему его красноречие. Не успел он закончить речь, как его мнение получило одобрение всех членов Совета, за исключением маркиза де Грана, который, движимый только своей преданностью австрийской династии и дав увлечь себя обычной для его нации откровенности, начал возражать против предложения первого министра и поддерживать противоположное мнение с такой силой, что король, пораженный ясностью аргументов, согласился с его суждением, хотя оно противоречило голосу всего Совета, и назначил день своего отбытия в армию.
То был первый случай в жизни этого монарха, когда он осмелился думать иначе, чем его любимец, который, приняв это новшество за кровное оскорбление, был чрезвычайно обижен. Удаляясь в кабинет, чтобы на свободе пережевывать свою досаду, министр заметил меня, подозвал и, взяв с собой, рассказал мне взволнованным голосом все, что произошло в Совете. Затем он продолжал тоном человека, который не может оправиться от удивления:
– Да, Сантильяна, король, который вот уже двадцать лет говорит только моими устами, видит только моими глазами, предпочел мнение Граны моему. И еще в какой форме! Осыпая похвалами этого посла и расхваливая его преданность австрийскому дому, как будто этот немец преданнее меня! Из этого легко заключить, – продолжал министр, – что против меня образовалась партия и что во главе ее стоит королева [211] .
– О, сеньор, – сказал я ему, – о чем вы беспокоитесь? Разве королева за двадцать лет не привыкла видеть в вас хозяина положения? И разве вы не отучили короля советоваться с нею? Что же касается маркиза де Грана, то король мог стать на его сторону из желания увидеть свою армию и участвовать в походе.
– Ты не попал в точку, – прервал меня граф-герцог. – Вернее, мои противники надеются, что король, находясь при войске, всегда будет окружен вельможами, которые туда за ним последуют. А среди этих последних найдется не один недовольный, который осмелится держать перед ним речи, порицающие мое управление. Но они ошибаются, – добавил он, – я сумею во время поездки сделать государя недоступным для грандов.
Так он и сделал, применив способ, заслуживающий подробного описания.
Когда наступил день отъезда, король, поручив королеве заботу о государстве на время своего отсутствия, направился в Сарагосу. Но по дороге туда он проехал через Аранхуэс, пребывание в коем так пленило его, что он провел там около трех недель. Из Аранхуэса министр направил его в Куэнсу, где он забавлял короля еще дольше при помощи устроенных для него увеселений. Затем прелести охоты удержали монарха в Молина д’Арагон, и только после этого его отвезли в Сарагосу. Армия его стояла недалеко оттуда, и он уже собирался к ней отправиться; но граф-герцог убил в нем это желание, заверив его, что он подвергается риску быть взятым в плен французами, которые занимали Монсонскую равнину; поэтому король, испуганный опасностью, вовсе ему не грозившею, счел за лучшее запереться у себя, словно в тюрьме. Министр воспользовался его страхом и под предлогом, будто охраняет его безопасность, можно сказать, не спускал с него глаз, так что вельможи, которые основательно потратились, чтобы иметь возможность сопровождать своего государя, не получили за это даже приватной аудиенции. Филипп же, которому наскучила наконец Сарагоса дурным помещением, еще более дурным времяпрепровождением и, если хотите, затворничеством, вскоре возвратился в Мадрид. Так этот монарх закончил свой военный поход, возложив на командующего армией, маркиза де лос Велес, заботу о поддержании чести испанского оружия.
Глава IX О португальской революции и об опале графа-герцога
Несколько дней спустя после возвращения короля распространился в Мадриде прискорбный слух: стало известно, что португальцы, увидевшие в восстании каталонцев прекрасный случай, предоставленный им судьбою для того, чтоб сбросить с себя испанское иго, взялись за оружие и избрали своим королем герцога Браганцского [212] , что они решили удержать его на троне и твердо рассчитывают не встретить препятствий в этом деле, поскольку в данный момент на Испанию наседают враги из Германии, Италии, Фландрии и Каталонии. Они действительно не могли бы выбрать более благоприятного стечения обстоятельств, чтобы избавиться от ненавистного им владычества.
Наиболее странным было то, что в то время, когда двор и город, казалось, были озадачены этой новостью, граф-герцог вздумал в присутствии короля пошутить насчет герцога Браганцского. Но неуместные насмешки обращаются обычно против самих насмешников. Филипп не только не присоединился к неудачной шутке, но принял весьма серьезный вид, который обескуражил министра и заставил его почувствовать приближение немилости. Он окончательно уверился в своем падении, когда узнал, что королева открыто высказалась против него и громко обвиняет его в плохом управлении, вызвавшем протугальскую революцию. Большая часть вельмож, и в особенности те, которые побывали в Сарагосе, присоединились к королеве, едва только заметили, что над головой графа-герцога сгущаются тучи. Но окончательный удар его положению был нанесен приездом в Мадрид вдовствующей герцогини Мантуанской, бывшей правительницы Португалии, которая ясно доказала монарху, что революция в этом королевстве произошла исключительно по вине его первого министра.
Убеждения герцогини оказали сильнейшее влияние на мысли короля, который, отрешившись от прежней слепой любви к фавориту, окончательно лишил его своего расположения. Как только министр узнал, что король прислушивается к речам его врагов, он написал королю письмо с просьбой разрешить ему оставить свой пост и удалиться от двора, коль скоро ему несправедливо приписывают все несчастья, разразившиеся над королевством во время его управления. Он рассчитывал, что это письмо произведет большое впечатление и что государь все еще питает к нему слишком большую дружбу, чтобы согласиться на его удаление. Но его величество ответил только, что дает ему испрашиваемое разрешение и что он волен удалиться, куда ему будет угодно.
Эти слова, написанные рукою короля, словно громом поразили графа-герцога, который никак не ожидал такого результата. Однако, хотя и сильно ошеломленный, он принял это с видимой стойкостью и спросил меня, как бы я поступил на его месте.
– Я бы легко примирился со своей судьбой, – сказал я ему, – покинул бы двор и уехал в какое-нибудь из своих поместий, чтобы доживать свои дни в спокойствии.
– Ты рассуждаешь здраво, – ответствовал мой начальник, – и я действительно намерен завершить свою жизнь в Лоэчес, но только сперва еще раз поговорю с государем: мне очень хочется доказать ему, что я сделал все доступное человеческим силам, чтобы с успехом нести возложенное на меня тяжелое бремя, и что не от меня зависело предотвратить печальные события, которые теперь вменяются мне в преступление. Я виноват в этом не более, чем искусный кормчий, который, несмотря на все усилия, видит, как его корабль уносится ветром и волнами.
Министр еще льстил себя надеждой, что, поговорив с королем, сумеет поправить дело и отвоевать обратно утерянную территорию. Но он не смог добиться аудиенции и к нему даже прислали с требованием вернуть ключ, которым он пользовался, чтобы когда угодно входить на половину его величества.
Решив тогда, что уже не осталось никакой надежды, он серьезно начал готовиться к уходу. Прежде всего он произвел смотр своим бумагам, большое количество коих из предосторожности сжег; затем он отобрал тех служащих и лакеев своего дома, которые должны были его сопровождать, отдал распоряжение относительно отъезда и назначил оный на следующий день. Боясь подвергнуться оскорблениям со стороны черни при выезде из дворца, он рано утром убежал через черный ход, сел вместе со своим духовником и со мною в дрянную карету и без злоключений выехал на дорогу в Лоэчес, подвластную ему деревню, где графиня, его супруга, выстроила великолепную женскую обитель ордена св. Доминика. Мы добрались туда меньше чем через четыре часа, а немного спустя прибыла и вся его свита.
Глава X О треволнениях и заботах, кои на первых порах нарушали покой графа-герцога, и о благополучной и мирной жизни, которая затем наступила. О занятиях этого министра в своем уединении
Госпожа Оливарес отпустила супруга в Лоэчес, а сама осталась еще на несколько дней при дворе, чтобы попытаться, не удастся ли ей при помощи слез и мольбы добиться его возвращения. Но сколько ни припадала она к стопам их величеств, король не склонил своего слуха к ее доводам, хотя они и были искусно построены, а королева, смертельно ее ненавидевшая, с удовольствием взирала на ее слезы. Супруга министра, однако, и после этого не отступилась: она унизилась до того, что стала искать заступничества у фрейлин королевы; но в результате этих унижений она убедилась, что пожинает скорее презрение, нежели сочувствие. Огорченная тем, что напрасно предприняла все эти оскорбительные для ее чести шаги, она последовала за своим мужем, чтобы совместно с ним оплакивать потерю поста, который при таком короле, как Филипп IV, был едва ли не первым во всем королевстве.
Рассказ этой дамы о том, в каком состоянии оставила она Мадрид, усугубил печаль графа-герцога.
– Ваши враги, – говорила она ему со слезами, – герцог Медина Сели и другие гранды, которые вас ненавидят, не перестают восхвалять короля за то, что он удалил вас с министерского поста, а народ празднует вашу опалу с наглым весельем, точно конец вашего управления знаменует окончание всех государственных невзгод.
– Сеньора, – сказал мой господин, – последуйте моему примеру: пересильте свое огорчение. Нужно подчиниться грозе, которую нельзя отвратить. Я, правда, мечтал сохранить королевскую милость до конца своих дней, – обычная иллюзия министров и фаворитов, забывающих, что участь их зависит от монарха. Разве герцог Лерма не ошибся точно так же, как я, хотя и воображал, будто пурпур, в который он был облачен, является надежной гарантией вечной нерушимости его власти?
Такими словами граф-герцог увещевал свою супругу вооружиться терпением, в то время как сам пребывал в волнении, возобновлявшемся ежедневно благодаря спешным письмам, прибывавшим от дона Энрике, который, оставаясь при дворе, чтобы следить за событиями, тщательно обо всем его осведомлял. Письма этого молодого сеньора привозил Сипион, который еще оставался при нем, между тем как я уже не жил с ним со времени его женитьбы на донье Хуане. Письма приемного сына всегда были полны прискорбных известий, и, к сожалению, других не предвиделось. Порой сообщал он, что вельможи, не довольствуясь публичными выражениями радости по поводу отставки графа-герцога, объединились, чтобы вытеснять его ставленников со всех мест и должностей, которые они занимали, и заменить их врагами графа. В другой раз он написал, что дон Луис де Аро [213] начинает входить в милость и, по всей видимости, станет первым министром. Из всех сообщенных ему вестей больше всего, казалось, огорчила моего господина перемена в Неаполитанском вице-королевстве; король, только для того чтобы оскорбить графа-герцога, отнял это последнее у герцога Медина де лас Торрес, которого граф любил, и передал генерал-адмиралу Кастильи, которого тот всегда ненавидел.
Можно сказать, что в течение трех месяцев граф-герцог в своем уединении не переживал ничего, кроме треволнений и горестей, но духовник, монах ордена св. Доминика, соединявший твердое благочестие с мужественным красноречием, нашел в себе силы утешить графа. Все время энергично указывая ему, что он должен думать исключительно о спасении души, монах сумел с помощью небесной благодати отвлечь его помыслы от придворных дел. Мой господин не пожелал больше получать известия из Мадрида и отложил все попечения, кроме приготовлений к достойной кончине. Госпожа Оливарес, со своей стороны, хорошо использовала свое уединение и обрела в монастыре, коего она была основательницей, утешение, приуготованное ей божьим промыслом: среди инокинь оказалось несколько благочестивых дев, которые своими медоточивыми речами постепенно обратили в сладость горечь ее существования. По мере того как господин мой отвращал свои мысли от мирских забот, он становился спокойнее. Вот каким образом он распределял свой день. Почти все утро он проводил в монастырском храме, внимая церковной службе; к обеду он возвращался, а затем в течение двух часов тешился разными играми со мною и кое-кем из наиболее любимых домочадцев; после этого он обычно уединялся у себя в кабинете и никуда не выходил до захода солнца. Затем он либо прохаживался по саду, либо выезжал на прогулку в карете то со своим духовником, то со мною.
Однажды, оставшись с ним наедине и удивляясь безмятежности, озарявшей его лицо, я взял на себя смелость сказать ему:
– О, сеньор, дозвольте мне дать волю своей радости: по удовлетворенности, отражающейся на вашем лице, я сужу, что ваша светлость начинает привыкать к своему уединению.
– Я уже совсем к нему привык, – отвечал он мне, – и, хотя издавна приучил себя заниматься делами, уверяю тебя, дитя мое, что с каждым днем нахожу все больше наслаждения в приятной и мирной жизни, которую здесь веду.
Глава XI Граф-герцог неожиданно становится печальным и задумчивым. Об удивительной причине его грусти и о плачевных ее последствиях
Граф-герцог, чтобы разнообразить свои занятия, иногда забавлялся садоводством. Однажды, когда я наблюдал за его работой, он сказал мне шутя:
– Ты видишь, Сантильяна, как удаленный от двора министр сделался садовником в Лоэчес.
– Ваша светлость, – отвечал я ему тем же тоном, – мне кажется, будто я вижу Дионисия Сиракузского [214] на положении школьного учителя в Коринфе.
Господин мой улыбнулся этому ответу и не прогневался на меня за сравнение.
Все мы, обитатели замка, радовались, видя, как наш хозяин вознесся над своим несчастьем и находит прелесть в существовании, столь отличном от того, которое вел прежде, как вдруг заметили, что он меняется у нас на глазах. Он стал мрачным, задумчивым, снова впал в глубокую меланхолию, перестал с нами играть и казался равнодушным ко всему, что мы ни измышляли, дабы его развлечь.
Сейчас же после обеда он запирался у себя в кабинете и оставался там один до самого вечера. Мы думали, что его грусть происходит от воспоминаний о прошедшем величии, и ввиду этого напустили на него отца-доминиканца, чье красноречие, однако, не сумело восторжествовать над меланхолией его светлости, каковая, вместо того чтобы идти на убыль, казалось, все возрастала.
Мне пришло в голову, что грусть министра может происходить от какой-нибудь особой причины, которую он не желает нам доверить, ввиду чего я возымел намерение выведать его тайну. Чтобы добиться своей цели, я выискивал минуту, когда бы мог поговорить с ним без свидетелей, и, улучив таковую, сказал ему тоном, в котором почтительность сочеталась с любовью:
– Ваша светлость, дозволено ли будет Жиль Бласу задать своему господину вопрос?
– Говори, – ответил он, – я тебе разрешаю.
– Куда девалось, – сказал я ему, – довольство, отражавшееся на вашем лице? Или вы потеряли свое прежнее превосходство над роком? Неужели вновь пробудилось в вас сожаление об утерянных милостях? Неужели вы вновь погрузились в бездну скорби, над которой вознесла вас ваша стойкость?
– Нет, слава богу! – возразил министр. – Память моя не занята больше той ролью, которую я играл при дворе, и я навсегда позабыл о почестях, которые мне там оказывались.
– Но если у вас хватило силы отогнать воспоминания об этом, – подхватил я, – то почему же вы имели слабость поддаться меланхолии, которая всем нам внушает тревогу? Что с вами, дорогой мой господин? – продолжал я, падая к его ногам. – Без сомнения, вас гложет какая-нибудь тайная печаль. Можете ли вы скрывать ее от Сантильяны, скромность, преданность и верность коего вам не безызвестны? За какие грехи лишился я вашего доверия?
– Ты по-прежнему им пользуешься, – сказал мне граф-герцог, – но я признаюсь, что мне неприятно открыть тебе причину той грусти, которая, как ты заметил, охватила меня. Однако я не могу противиться настояниям такого слуги и друга, как ты. Узнай же, что причиняет мне горе: одному, только Сантильяне способен я доверить эту тайну. Да, – продолжал он, – я стал жертвой черной меланхолии, которая понемногу подтачивает мою жизнь: почти ежеминутно вижу я ужасающее привидение, стоящее передо мной. Сколько я ни уверяю себя, что это только иллюзия, призрак без всякой реальности, однако его постоянные появления поражают мой взор и тревожат меня. Хотя голова моя достаточно сильна, чтоб понять, что, видя его, я ничего не вижу, все же я настолько слаб, что не могу не огорчиться при этом видении. Вот что ты заставил меня поведать, – добавил он, – суди сам, прав ли я был, стараясь скрыть от всех причину своей меланхолии.
Я с грустью и удивлением узнал столь необычайный факт, заставлявший предполагать какое-то расстройство механизма.
– Ваша светлость, – сказал я ему, – не происходит ли это от малого количества пищи, которую вы принимаете? Ибо воздержание ваше чрезмерно.
– Я и сам сначала так думал, – возразил он, – и, чтобы испытать, действительно ли тому виною диета, я в последние дни ем больше обыкновенного. Но все тщетно: призрак не исчезает.
– Он исчезнет, – возразил я, чтобы его утешить, – и, если бы ваша светлость согласился снова развлечься, играя со своими верными слугами, я думаю, что вы скоро освободились бы от этих черных фантазий.
Немного спустя после этого разговора граф-герцог занемог и, чувствуя, что дело становится серьезным, послал за двумя мадридскими нотариусами для составления завещания. Он выписал также трех знаменитых врачей, о которых ходили слухи, будто они иногда вылечивают своих пациентов. Едва лишь по замку распространилась весть о приезде этих последних, как уже не слышно было ничего, кроме плача и воздыханий. Все уверились в близости кончины хозяина: такое предубеждение царило там против этого рода господ. Они привезли с собой двух аптекарей и одного цирюльника – обычных исполнителей их предписаний. Сперва они предоставили нотариусам сделать свое дело, после чего принялись за свое собственное. Так как все они следовали принципам доктора Санградо, то после первой же консультации стали прописывать кровопускание за кровопусканием, так что в каких-нибудь шесть дней привели графа-герцога на край могилы, а на седьмой совсем избавили его от видений.
После смерти министра в замке Лоэчес [215] воцарилась тяжкая и искренняя скорбь. Все домочадцы горько его оплакивали. Не только никто не утешался в своей утрате уверенностью в том, что упомянут в завещании, но всякий охотно отказался бы от своей доли наследства, лишь бы вернуть его к жизни. Что же касается меня, более всех им любимого и привязавшегося к нему из искреннего расположения, то я и огорчен был сильнее других.
Сомневаюсь даже, пролил ли я по Антонии столько же слез, сколько по графу-герцогу.
Глава XII О том, что произошло в замке после кончины графа-герцога, и о решении, принятом Сантильяною
Министр, согласно своему распоряжению, был похоронен в женской обители, без пышности и блеска, сопровождаемый нашими сетованиями. После похорон графиня Оливарес приказала прочитать в нашем присутствии завещание, которым все домочадцы остались довольны. Каждый получил дар в соответствии с занимаемым им местом, и наименьшая доля составляла две тысячи эскудо. Моя оказалась крупнее всех: граф-герцог завещал мне десять тысяч пистолей в знак особого расположения, которое он ко мне питал. Он не позабыл о богоугодных заведениях и установил ежегодные поминания в нескольких монастырях.
Госпожа Оливарес отпустила всех слуг в Мадрид для получения завещанных им сумм от дона Рамона Капориса, которому было приказано их выплатить, но я не мог уехать вместе с ними: сильнейшая горячка, плод моей печали, удержала меня в замке на семь-восемь дней. В течение всего этого времени доминиканец не покидал меня. Я полюбился этому доброму монаху, и, заботясь о спасении моей души, он спросил, когда заметил у меня признаки выздоровления, что я собираюсь делать.
– Ничего не знаю, святой отец, – отвечал я ему. – Я еще не решил этого в своей душе; в иные мгновения мне хочется удалиться в келейку и предаться там покаянию.
– Драгоценные мгновения! – воскликнул доминиканец. – Сеньор де Сантильяна, вы хорошо сделаете, если воспользуетесь ими. Как друг советую вам, оставаясь мирянином, удалиться хотя бы в нашу мадридскую обитель, стать благодетелем этого монастыря, передав ему все ваше состояние, и умереть там в одежде св. Доминика. Есть немало людей, которые искупили свою мирскую жизнь подобной кончиной.
При том умонастроении, в котором я тогда обретался, совет чернеца нисколько меня не возмутил, и я почтительно отвечал, что постараюсь его обдумать. Но когда я посоветовался об этом с Сипионом, явившимся ко мне вслед за монахом, он восстал против этого намерения, называя его не иначе, как причудами больного.
– Стыдитесь, сеньор де Сантильяна, – сказал он мне, – может ли такой уход от мира прельщать вас? Разве вам замок Лириас не даст более приятного уединения? Если и в прежние времена вы восторгались им, то тем более оцените его прелесть теперь, когда находитесь в возрасте, более доступном наслаждению красотами природы.
Сыну Косколины было не очень трудно переубедить меня.
– Друг мой, – сказал я, – ты восторжествовал над отцом-доминиканцем. Я вижу, что мне в самом деле лучше будет вернуться в свой замок. Останавливаюсь на этом решении. Мы отправимся в Лириас, как только я буду в состоянии пуститься в путь.
Это случилось очень скоро, так как, избавившись от лихорадки, я в короткий срок почувствовал себя достаточно сильным, чтобы осуществить свое намерение. Мы с Сипионом направились в Мадрид. Вид этого города уже не доставил мне такого удовольствия, как прежде. Зная, что почти все его жители ненавидят память министра, о коем я хранил самое нежное воспоминание, я не мог смотреть на Мадрид дружественным оком. И в самом деле, я пробыл там не более пяти-шести дней, которые Сипион употребил на приготовления к нашему отъезду в Лириас. Покамест он заботился о потребном нам снаряжении, я пошел к Капорису, который выплатил мне завещанную сумму в дублонах. Я посетил также сборщиков тех командорств, с которых получал доходы, и сговорился с ними относительно уплаты денег; словом, привел в порядок все свои дела.
Накануне нашего отъезда я спросил у сына Косколины, простился ли он с доном Энрике.
– Да, – отвечал он, – нынче мы дружески с ним расстались. Все же он выразил мне свое недовольство тем, что я его покидаю. Но если он и был доволен мною, то я совсем не был доволен им. Недостаточно того, чтобы слуга нравился господину: нужно еще, чтобы господин нравился слуге; иначе они плохо уживутся друг с другом. Кроме того, дон Энрике представляет теперь при дворе весьма жалкую фигуру; его там обливают величайшим презрением; на улицах на него указывают пальцами и называют не иначе, как сыном генуэзки. Судите сами, пристало ли честному малому служить у опозоренного человека.
Наконец в один прекрасный день мы на заре покинули Мадрид и выехали по направлению к Куэнсе. Двигались мы в следующем порядке и со следующей свитой. Мой наперсник и я сидели в дорожной карете, запряженной двумя мулами, коими правил форейтор; непосредственно за нами следовали три лошака, нагруженные нашими вещами и казной и ведомые двумя конюхами; а шествие замыкали верхом на мулах два рослых лакея, нанятых Сипионом и вооруженных до зубов. Конюхи тоже носили сабли, а у форейтора было два добрых пистолета в седельных кобурах. Так как нас было семь человек, из коих шестеро весьма решительных, то я весело пустился в путь, не опасаясь за свое наследство. В деревнях, через которые мы проезжали, наши лошадки гордо гремели бубенцами; крестьяне выбегали к дверям, чтобы посмотреть на процессию, которая казалась им, по меньшей мере, выездом вельможи, отправляющегося в свое вице-королевство.
Глава XIII О возвращении Жиль Бласа в замок. О радости, которую он испытал, застав крестницу свою, Серафину, в брачном возрасте, и о том, в какую даму он влюбился
Я убил две недели на поездку в Лириас, так как ничто не вынуждало меня двигаться большими переходами. Мне только хотелось прибыть туда благополучно, и мое желание было услышано. Вид замка сперва навел меня на печальные мысли, вызвав воспоминания об Антонии. Но я вскоре от них отвлекся, решив думать лишь о том, что может доставить мне удовольствие; а кроме того, истекшие с тех пор двадцать два года очень ослабили мое чувство.
Как только я вступил в замок, Беатрис и Серафина поспешили мне навстречу с приветствием; а затем отец, мать и дочь стали сжимать друг друга в объятиях с бурными выражениями радости, которые меня очаровали.
После всех этих поцелуев я сказал, внимательно взглянув на свою крестницу:
– Возможно ли, что это та самая Серафина, которую я оставил в колыбели, уезжая из замка? Я рад, что застаю ее такой большой и красивой. Надо нам подумать об устройстве ее судьбы.
– Как, дорогой крестный! – воскликнула Серафина, слегка покраснев при моих последних словах. – Всего минута, как вы меня увидали, и уже стремитесь от меня избавиться?
– Что вы, дочь моя! – возразил я. – Выдавая вас замуж, мы вовсе не собираемся потерять вас; нам нужен муж, который будет обладать вами, не похищая вас у родителей, иными словами, такой, который будет жить у нас.
– Как раз имеется жених в этом роде, – сказала Беатрис. – Один местный дворянин как-то увидал Серафину во время обедни в нашей деревенской часовне и влюбился в нее. Он пришел ко мне, сделал предложение и просил моего согласия. Вы сами понимаете, что я ему ответила. «Мое согласие, – сказала я, – не приблизит вас к цели, Серафина зависит от своего отца и крестного, которые одни властны распоряжаться ее судьбой. Все, что я могу для вас сделать, – это написать им, извещая их о вашем сватовстве, которое делает честь моей дочери». В самом деле, – продолжала она, – я незамедлительно собиралась вас об этом осведомить, но вот вы сами тут и распорядитесь так, как сочтете нужным.
– Скажите, – спросил Сипион, – какого нрава этот идальго? Не похож ли он на большинство ему подобных, то есть кичится ли он своим дворянством и держит ли себя нагло по отношению к простолюдинам?
– О, что до этого, то ни в коем случае, – отвечала Беатрис. – Это молодой человек приятнейшего и учтивейшего обхождения; к тому же он хорош собой и ему еще не исполнилось тридцати лет.
– Вы нарисовали нам довольно привлекательный портрет этого кавалера, – сказал я, обращаясь к Беатрис. – А как его звать?
– Дон Хуан де Хутелья, – ответила жена Сипиона. – Он недавно наследовал отцу и живет в своем замке на расстоянии одной мили отсюда с младшей сестрою, которая находится на его попечении.
– Я в свое время слыхал о семействе этого идальго, – заметил я. – Это одно из самых знатных в Валенсийском королевстве.
– Я меньше ценю знатность, чем душевные и умственные качества, – возразил Сипион, – и этот дон Хуан подойдет нам только в том случае, если он честный человек.
– Он таковым и слывет, – сказала Серафина, вмешавшись в наш разговор. – Жители деревни Лириас, которые его знают, дают о нем самые лучшие отзывы.
При этих словах моей крестницы я с улыбкой взглянул на ее отца, который, поняв их так же, как и я, заключил, что поклонник приглянулся его дочери.
Этот кавалер, по-видимому, сразу узнал о нашем прибытии в Лириас, так как через два дня мы увидели его перед своим замком. Он учтиво нас приветствовал и не только не опроверг своим поведением того, что Беатрис нам о нем сказала, но даже внушил нам высокое мнение о своих достоинствах. Он сказал, что в качестве соседа приехал поздравить нас с благополучным возвращением.
Мы приняли его со всей возможной обходительностью, но это посещение было только официальным визитом: оно протекло во взаимных учтивостях, и дон Хуан удалился, не сказав нам ни слова о своей любви к Серафине, попросив только разрешения снова к нам наведаться и воспользоваться соседством, которое сулит ему много приятностей.
Когда он нас покинул, Беатрис спросила, что мы думаем об этом дворянине. Мы отвечали, что он расположил нас в свою пользу и что, по нашему мнению, судьба не могла найти для Серафины более подходящей партии.
На следующий же день я вышел из дому вместе с сыном Косколины, чтобы отдать визит дону Хуану. Мы направились к его замку в обществе проводника, который после трех четвертей часа ходьбы сказал нам:
– Вот замок сеньора дона Хуана де Хутелья!
Но сколь пристально ни оглядывали мы местность, нам долго не удавалось его обнаружить. Мы увидели замок лишь тогда, когда подошли вплотную, так как он был расположен у подножия горы, посреди леса, высокие деревья которого скрывали его от наших глаз. Вид у него был старинный и запущенный, доказывавший знатность его обладателя, но отнюдь не зажиточность. Однако, вступив в дом, мы увидели, что ветхость здания искупается изяществом обстановки.
Дон Хуан принял нас в красиво убранном зале, где представил даме, которую назвал своей сестрой Доротеей и которой на вид было девятнадцать-двадцать лет. Она тщательно принарядилась, так как ожидала нашего визита и хотела показаться привлекательной. Появившись передо мной во всей своей прелести, она произвела на меня такое же впечатление, как некогда Антония, то есть повергла меня в смущение. Но я так хорошо скрыл это, что даже Сипион ничего не приметил. Наша беседа, так же как и накануне, вращалась вокруг обоюдного удовольствия, которое мы будем получать, посещая иногда друг друга и поддерживая добрососедские отношения. Дон Хуан еще не заговаривал с нами о Серафине, и мы тоже не сказали ему ничего, что побудило бы его сообщить о своей любви. Нам хотелось, чтобы он сам до этого дошел. Во время нашей беседы я частенько поглядывал на Доротею, хотя делал вид, что лишь изредка обращаю на нее свой взор. Но каждый раз, как наши взгляды встречались, она вонзала мне в сердце новую стрелу. Скажу, однако, чтобы отдать справедливость предмету своей любви, что она не была совершенной красавицей. Правда, кожа у нее была ослепительной белизны и губы скорее пурпурные, чем розовые, зато нос был несколько длиннее и глаза несколько меньше, чем нужно. Однако же общий вид приводил меня в восторг.
Словом, я вышел из замка Хутелья не таким, каким туда вошел, и, возвращаясь в Лириас с мыслями, всецело занятыми Доротеей, я видел только ее, говорил только о ней.
– Вот так, так, хозяин! – сказал Сипион, рассматривая меня с удивленным видом. – Вы что-то очень интересуетесь сестрицей дона Хуана! Не заразила ли она вас любовью?
– Да, друг мой, – отвечал я ему, – и это заставляет меня краснеть от стыда. О боже, неужели мне, который после смерти Антонии смотрел на тысячи пригожих особ совершенно равнодушно, суждено в мои годы встретить такую, которая неотразимо зажгла мое сердце!
– Ну что же, сеньор, – подхватил сын Косколины, – вам следует поздравить себя с таким происшествием, а не жаловаться на него. Вы в таких летах, когда еще можно пылать любовным огнем, не будучи смешным, а время еще не настолько сморщило ваше чело, чтобы лишить вас надежды нравиться женщинам. Поверьте мне, когда вы вновь увидитесь с доном Хуаном, смело сватайтесь к его сестре: он не сможет отказать такому человеку, как вы. А кроме того, если во что бы то ни стало надо быть дворянином, чтобы жениться на Доротее, так разве вы не дворянин? У вас есть дворянский патент, и этого достаточно для вашего потомства. После того как время подернет эту грамоту густою фатой, прикрывающей происхождение всех благородных семейств, то есть через четыре или пять поколений, род Сантильяна будет одним из знатнейших.
Глава XIV О двойной свадьбе, сыгранной в замке Лириас, которой завершается наконец история Жиль Бласа из Сантильяны
Этой речью Сипион побудил меня открыто признаться в своей любви к Доротее, не подумав о том, что подвергает меня опасности получить отказ. Все же я решился на это не без трепета. Хотя я казался моложе своих лет и мог свободно сбавить себе годов десять, однако же считал, что имею достаточно оснований сомневаться в том, понравлюсь ли я юной красавице. Тем не менее я решил отважиться на предложение, как только увижусь с ее братом, который, со своей стороны, не будучи уверен, что получит мою крестницу, сильно тревожился.
Он снова пришел в мой замок на следующий день, в то время когда я завершал свой туалет.
– Сеньор де Сантильяна, – сказал он мне, – я сегодня являюсь в Лириас, чтобы побеседовать с вами о серьезном деле.
Я провел его к себе в кабинет, и он продолжал, прямо приступая к делу:
– Я полагаю, что вам небезызвестна цель моего посещения. Я люблю Серафину. Вы же имеете большое влияние на ее отца; я прошу вас склонить его в мою пользу. Помогите мне овладеть предметом моей любви, и пусть я буду обязан вам счастьем всей своей жизни.
– Сеньор дон Хуан, – отвечал я ему, – так как вы прямо приступаете к делу, то, вероятно, не примете во зло, если и я последую вашему примеру и, обещав вам свое заступничество перед отцом моей крестницы, попрошу у вас того же в отношении вашей сестры.
При сих последних словах дон Хуан проявил приятное удивление, которое я принял за доброе предзнаменование.
– Возможно ли, – воскликнул он, – чтобы Доротея вчера покорила ваше сердце?
– Она обворожила меня, – сказал я ему, – и я почитал бы себя счастливейшим из смертных, если бы мое домогательство было приятно ей и вам.
– В этом вы можете быть уверены, – отвечал он. – Хоть мы и дворяне, но не вздумаем пренебречь союзом с вами.
– Мне очень отрадно, – ответил я, – что вы не видите никаких препятствий к тому, чтоб породниться с разночинцем. От этого я вас еще больше уважаю, ибо вы таким образом проявляете свой здравый смысл. Но если бы вы были даже настолько суетны, что пожелали бы отдать руку своей сестры только дворянину, то и тогда у меня нашлось бы чем удовлетворить ваше тщеславие; знайте, что я двадцать лет проработал в канцеляриях министерства и король в награду за услуги, оказанные государству, пожаловал меня дворянской грамотой, которую я сейчас вам покажу.
Произнося эти слова, я вынул свой патент из ящика, куда я его запрятал, и предъявил его этому идальго, который внимательно прочитал его от доски до доски с чрезвычайным удовлетворением.
– Вот это хорошо, – ответил он, возвращая мне бумагу. – Доротея ваша.
– А вы, – воскликнул я, – рассчитывайте на Серафину.
Таким образом, эти две свадьбы были решены между нами. Оставалось только узнать, с охотой ли согласятся на это обе невесты, ибо дон Хуан и я, равно деликатные, не хотели получить их путем принуждения. Итак, дон Хуан вернулся в замок Хутелья, чтобы передать мое предложение своей сестре, а я созвал Сипиона, Беатрис и свою крестницу, чтобы сообщить о разговоре, происшедшем у меня с этим кавалером. Беатрис высказалась за то, что следует принять его в родню без колебаний, а Серафина своим безмолвием показала, что согласна с решением матери. Что касается отца, то и он, конечно, не держался обратного мнения, но выразил некоторое беспокойство относительно приданого, которое придется дать дворянину, чей замок так настоятельно требовал ремонта. Я заткнул рот Сипиону, сказав, что дело касается только меня и что я даю своей крестнице в приданое четыре тысячи пистолей.
Я свиделся с доном Хуаном в тот же вечер.
– Ваши дела, – сказал я ему, – идут отлично. Я хотел бы, чтобы мои не были в худшем положении.
– Они тоже обстоят как нельзя лучше, – отвечал он, – мне не пришлось воспользоваться своим авторитетом, чтобы добиться согласия Доротеи. Ваша внешность ей по душе и ваше обхождение ей нравится. Вы боялись, что окажетесь не в ее вкусе, а она с большим основанием опасается, что, не будучи в состоянии предложить вам ничего, кроме своей руки и сердца…
– А чего мне еще нужно! – прервал я его, не помня себя от радости. – Если прелестной Доротее не противно связать свою судьбу с моей, то я ничего большего и не требую: я достаточно богат, чтобы жениться на ней без приданого, и обладание ею составит предел всех моих желаний.
Дон Хуан и я, весьма довольные тем, что довели дело до такого результата, порешили, дабы ускорить свадьбу, устранить все излишние церемонии. Я свел его с родителями Серафины, и, после того как они сговорились об условиях брачного контракта, он откланялся, пообещав нам вернуться на следующий день с Доротеей. Желание понравиться этой даме заставило меня потратить не менее трех битых часов на то, чтобы одеться и прифрантиться, и все же я еще не был доволен своей внешностью. Для юнца, готовящегося увидеться со своей милой, это удовольствие, но для человека начинающего стареть, это работа. Однако же я оказался счастливее, чем заслуживал: я вновь встретился с сестрою дона Хуана, которая взглянула на меня таким благожелательным взором, что я вообразил, будто еще кое-чего стою. У меня с нею завязался длительный разговор. Я был очарован ее образом мыслей и пришел к выводу, что с помощью хорошего обхождения и большой предупредительности смогу стать любимым супругом. Преисполненный столь сладостной надежды, я послал в Валенсию за двумя нотариусами, которые составили брачный контракт. Затем мы прибегли к услугам священника из Патерны, который приехал в Лириас и обвенчал дона Хуана и меня с нашими возлюбленными.
Итак, я вторично возжег факел Гименея и не имел повода в этом раскаяться. Доротея как женщина добродетельная нашла удовольствие в исполнении своего долга и, чувствительная к моим попыткам идти навстречу ее желаниям, вскоре привязалась ко мне так, как если бы я был молодым. С другой стороны, дон Хуан и моя крестница воспылали огнем взаимной любви, и, что всего удивительнее, обе невестки прониклись друг к другу живой и искренней дружбой. Я же нашел в своем шурине столько достоинств, что почувствовал к нему подлинное расположение, на которое и он не ответил неблагодарностью. Словом, между нами воцарилось такое единение душ, что, когда по вечерам приходилось расставаться, чтобы наутро встретиться, разлука всякий раз доставляла нам огорчение. Это послужило причиной тому, что мы порешили превратить два семейства в одно, которое будет жить то в замке Лириас, то в замке Хутелья, каковой для этой цели был подвергнут основательному ремонту на деньги его светлости графа-герцога.
Вот уже три года, друг-читатель, как я веду усладительную жизнь в кругу дорогих мне людей. В довершение блаженства небо соизволило наградить меня двумя детьми, чье воспитание станет развлечением моей старости и чьим отцом я доверчиво себя почитаю.
Примечания
1
. …говоря словами Федра… – Федр Юлий (около 15 до н. э. – около 70 н. э.), римский баснописец, автор 5 книг «Эзоповских басен».
2
«Stulte nudabit animi conscientiam» — «Он глупо обнажит свою душевную сущность» – цитата из эпилога книги 2-й, 41, стих 21–23.
3
… выслушай, друг читатель, притчу, которую я тебе поведаю. – Сюжет притчи заимствован из Пролога к роману Висенте Эспинеля (1550–1624) «Жизнь стремянного Маркоса де Обрегона» (1618).
4
…как говорит Гораций… – Гораций Флакк Квинт (65–8 до н. э.), римский поэт. Цитата из трактата «Наука поэзии»: «…мешает приятное с полезным, одновременно услаждая и поучая читателя» (ст. 343).
5
Стремянный — ( исп. эскудеро) оруженосец, слуга, сопровождавший рыцаря или знатную даму.
6
Пребенда — ( фp . prebende) доход с церковного имущества.
7
… словопрений ирландского пошиба … – Ирландцы, эмигрировавшие во Францию вместе с королем Яковом II (1633–1701), низложенным в результате «Славной революции» (1688–1689), снискали в Париже репутацию заядлых спорщиков. Поселив их в Овьедо, Лесаж демонстрирует рассеянность, свидетельствующую о том, что, если место действия его романа – Испания, населяющие ее типы – нередко французского происхождения.
8
… дядя не поручил меня погонщику мулов … – В Испании XVII века еще не было дилижансов, и путешественники вверяли себя попечению погонщиков мулов, не отличавшихся, впрочем, вежливостью и предупредительностью: слова погонщик и грубиян употреблялись как синонимы.
9
Он подошел ко мне с восторженным видом . – Эпизод с гостиничным прихлебателем также восходит к роману В. Эспинеля «Жизнь стремянного Маркоса де Обрегона» (I, 9).
10
… подвергнуться участи Антея . – Антей (греч. миф.) – сын Посейдона и богини земли Геи, великан, славившийся своей неуязвимостью до тех пор, пока прикасался к матери-земле. Геракл оторвал его от земли и задушил в воздухе.
11
… как некий новый Эней … – В соответствии с версией мифа, получившей окончательную обработку у Вергилия, в последнюю ночь Трои Эней потерял свою жену Креусу («Энеида», II, 736–744).
12
Лукреция — жена римского консула Тарквиния Коллатина, обесчещенная сыном царя Тарквиния Гордого (VI в. до н. э.), покончила собой ударом кинжала.
13
… стражники Священного братства … – Священное братство, или «Санта Эрмандад», – военное учреждение, созданное для борьбы с ворами и грабителями. Отражая интересы инквизиции, Священное братство нередко выступало против городской магистратуры и даже самого короля.
14
… христиане… обратились в бегство … – В начале Конкисты, арабского вторжения в Испанию (711 г.), часть вестготов бежала в горы Астурии. Объединившись под предводительством короля Пелайо (?–737), они нанесли арабам поражение в долине Ковадонга (718 г.), положившее начало Реконкисте.
15
Коррехидор — должностное лицо, глава судебно-административного округа.
16
… и сотня Орфеев не могла бы очаровать этого Цербера. – Орфей (греч. миф.) – певец и музыкант. Отправившись за своей умершей женой Эвридикой в царство мертвых, Орфей усмирил своим искусством трехглавого пса Цербера (Кербера), охранявшего вход в Аид.
17
Багинет — острое колющее оружие наподобие штыка.
18
Агнусдеи — (Agnus Dei) агнец божий. Здесь – овальные дощечки из воска, на одной стороне которых изображен агнец с крестом, а на другой – лик какого-нибудь святого.
19
… мы забрали с собой даму, мулов и лошадей . – Сюжет следующей главы представляет собой переработку соответствующих эпизодов из «Золотого осла» Апулея (г. IV и VII), «Золотого осла» А. Фиренцуолы (изд. 1550) и «Жизнь стремянного Маркоса де Обрегона» В. Эспинеля.
20
Альгвасил — полицейский.
21
Фец (Фес) – государство с одноименной столицей, вошедшее в состав современного Марокко.
22
Кабинет — небольшая комната, служившая будуаром.
23
Сенека Луций Анней (около 4 до н. э. – 65 н. э.) – римский политический деятель, философ и писатель, представитель стоицизма.
24
Сутанелла — разновидность редингота со стоячим воротником, в некоторых случаях заменяющая сутану.
25
Он освещал путь даме … – Последующий эпизод восходит к роману В. Эспинеля «Жизнь стремянного Маркоса де Обрегона» (III, 8 и 9), а также к 25-й новелле «Декамерона» Бокаччо.
26
Он освещал путь даме … – Последующий эпизод восходит к роману В. Эспинеля «Жизнь стремянного Маркоса де Обрегона» (III, 8 и 9), а также к 25-й новелле «Декамерона» Бокаччо.
27
Сероливрейные лакеи — привлекались обычно для тайных поручений, чтобы по цвету их ливреи нельзя было определить, какому дому они служат.
28
… беседовать со мной об этой диковинной рекомендательной конторе… – В эпоху Лесажа рекомендательные конторы едва начинали входить в моду. В этих конторах составлялись списки имен н адресов знатных парижан.
29
Торбельино — ( исп . «вихрь»). В романе Лесажа немало героев носит столь же выразительные имена. В издании «Жиль Бласа» 1977 года (Гарнье Фламарион) французский литературовед Роже Лофер поместил своеобразный словарь шутливых имен собственных:
Астута – лукавый
Буена Гарра – мертвая хватка
Буенотриго – добрая пшеница
Вентолерия – бахвальство
Дескомульгадо – отлученный от церкви
Десленгуадо – злоречивый
де ла Фуэнте – фонтанирующий
Кампанарио – звонница
Кардел – веревка
Кучильо – нож
Лигеро – легкомысленный
Лана – простак
Мембрильо – айва
Мускада – мускатный орех
Олоросо – благоуханный
Саледо – солонка
Санградо – выпущенная кровь
Сапата – домашняя туфля
Сирена – сирена
Тонто – простофиля
Триакеро – шарлатан
Талего – мешок
30
… заткнула бы за пояс даже кухаря толедского архиепископа . – Толедское архиепископство – одна из богатейших бенефиций Испании. По мнению Жиль Бласа, повар этого прелатства должен был быть на голову выше всех остальных поваров королевства.
31
Фонтанель — способ лечения, применявшийся в старинной медицине и состоявший в том, чтобы, вызвав искусственное нагноение, вывести из организма «дурные соки».
32
Санградо — по мнению биографов, в образе доктора Санградо осмеян врач Филипп Экке (1661–1737).
33
Парки (рим. миф.) – богини судьбы: Нона, Децима и Морта.
34
Тазик — употреблялся при кровопускании и вмещал 4 унции, то есть около 109 гр.
35
Пинта — мера жидкости, равнявшаяся 0,93 литра.
36
Цельс Авл Корнелий (I век до н. э.) – древнеримский ученый, последователь Гиппократа, автор трактата «О медицине» (кн. 1–8), содержащего сведения о гигиене, хирургии, дерматологии.
37
… придать себе обличие врача … – В Испании, как и во всей средневековой Европе, врачи носили парики и длинные черные тоги – атрибуты одежды, высмеянные в комедиях Мольера.
38
Кучильо — вероятно, под этим именем Лесаж вывел парижского врача Прокопия Куто (Procope Couteau).
39
Термополии — у древних греков места продажи теплых напитков.
40
… пошлют косить соленую ниву. – То есть отправят грести на галеры.
41
«Sic vos non vobis» — начало стихотворения, приписываемого Вергилию Тиверием Клавдием Донатом («Жизнеописание Вергилия», гл. 17):
Так вы не для себя строите, птицы, гнездо,
Так вы не для себя носите, овцы, руно,
Так вы не для себя, пчелы, сбираете мед,
Так вы не для себя плуг волочите, волы.
42
Кермес — лекарство, применяемое в малых дозах для отхаркивания, а в больших – в качестве рвотного.
43
Жёдепом — ( фp . jeu de paume) – место для игры в мяч.
44
… называл себя доном Родриго де Мондрагон. – Дон Родриго – Руй Диас де Бивар (? – 1099) по прозванию Сид – национальный герой Испании, покровитель смельчаков.
45
Хуан де Савалета — историограф Филиппа IV, комедиограф.
46
Луис Велес де Геварра (1570–1644) – испанский драматург и романист, автор «Хромого беса».
47
Педро де ла Фуэнте — в образе Педро де ла Фуэнте выведен французский писатель, поэт и драматург Бернар Ле Бовье де Фонтенель (1657–1757), живший одно время во дворце регента и ничего не тративший из своих доходов.
48
Герцог Медина Сели — Медина Сидония, испанский дворянин, потомок Альфонсо Переса де Гусмана, прославленного деятеля Реконкисты (XIII в.).
49
Señor escudero — сеньор стремянный.
50
Гистрион — бродячий актер.
51
«Albo dies notanda lapillo» — «День, который следует отметить белым камнем». Скифы в удачные дни бросали в колчан белый, а в неудачные – черный камень.
52
«Argenti pallebat amore» — «Бледнел от сребролюбия» – видоизмененная цитата из Горация – «Сатиры» (II, 3, 78).
53
Аристипп (2-я половина V – начало IV в. до н. э.) – греческий философ, ученик Сократа, основатель киренской школы, родоначальник гедонизма.
54
Алькальд ( араб . аль-кади – судья) – в средневековой Испании чиновник, выполняющий судебные и административные функции.
55
«Connobio junxit siabili…» — несколько измененный стих Вергилия («Энеида», кн. I, с. 72): «Connubio jungam stabili, propriamque dicabo» – «(Деиопею) соединю (с тобой) прочным браком и отдам тебе в собственность».
56
… видимо, пастораль отжила свой век . – Ни одна из многочисленных пасторалей, поставленных на сцене театра Комеди Франсез, не имела успеха, включая и инсценировку романа Оноре д’Юрфе «Астрея», сделанную Лафонтеном.
57
«Finis coronabit opus» — конец венчает дело.
58
«Ut ita dicam» — так сказать.
59
… мне нравится только ужасное … – намек на кровавые трагедии французского драматурга Проспера Жолио Кребийона-отца (1674–1762), пользовавшиеся в эпоху Лесажа большой популярностью.
60
Такой финал был весьма эффектен … – В 1746 году Французский театр поставил спектакль, в котором всемирный потоп изображался с помощью фейерверка.
61
… празднество… чуть было не окончилось столь же печально, как пир лапифов . – Лапифы («каменные», «дерзкие») пригласили на свадьбу лапифского царя Пирифоя кентавров, которые, оскорбив женщин, вызвали ссору и были уничтожены в результате побоища. Сюжет разрабатывался Гесиодом и Овидием.
62
… они почитают вас здесь за шпиона португальскою короля . – Один из анахронизмов Лесажа, поскольку Бернальдо де Кастиль Бласо мог находиться на службе только у Генриха I, коронованного 20 августа 1578 года и умершего 26 января 1580 года, после чего Португалия перешла в подчинение Испании. Между тем действие романа происходит в царствование Филиппа III, взошедшего на престол в 1598 году, то есть через 18 лет после заключения испано-португальской унии. По мнению французского литературоведа Нёфшато, эта и подобные ей хронологические ошибки не могли быть допущены испанским писателем, что служит лишним доказательством оригинального происхождения романа Лесажа.
63
… глядел на хозяина так же испытующе, как Александр на своего врача… – Накануне сражения с персидским царем Дарием Александр Македонский заболел и вынужден был прибегнуть к услугам своего врача Филиппа. Парменион, один из военачальников Александра, послал ему письмо, в котором призывал остерегаться Филиппа, будто бы подкупленного Дарием. Когда врач пришел с лекарством, Александр передал ему письмо. «В то время как Филипп читал письмо, Александр пил лекарство», доверчиво глядя на своего врача (Плутарх. «Жизнеописание знаменитых мужей»).
64
… огромная шайка, состоящая преимущественно из каталонцев… – В борьбе е королевской властью Каталония долгое время отстаивала свои особые права. Исключительная храбрость каталонцев вошла в поговорку.
65
Петиметр — щеголь (фр.).
66
… растирал на терке нюхательный табак. – В пору работы Лесажа над романом еще сохранялась мода растирать свертки табачных листьев на особых плоских терках.
67
Мараведи — медная монета, равнявшаяся одной тридцать четвертой реала.
68
Тратта — переводной вексель.
69
Фактотум — доверенное лицо.
70
Кадриль — группа из четырех всадников, участвующих с турнире или карусели.
71
… актриса, исполнявшая роль Дидоны … – По-видимому, Лесаж имел в виду знаменитую трагическую актрису мадемуазель МариАнну Дюкло (1670–1748).
72
… актрисы, игравшей наперсницу в интермедиях . – Возможно, Лесаж имел в виду актрису мадемуазель Демар (1682–1753).
73
… толстяк, который играл роль первого министра Дидоны . – В газете Меркюр де Франс, откликнувшейся в 1715 году на первое издание романа Лесажа, высказывается предположение, что в образе толстяка Лесаж изобразил актера Никола – Этьенна Лефрана (1674–1718).
74
… Федр в одной остроумной басне . – Федр, кн. V, 5.
75
… я отправился в Польшу … – В первом издании «Жиль Бласа» (1715–1735) приключения Дона Помпейо де Кастро происходили в Лиссабоне, причем Португалия все еще оставалась самостоятельным государством. Между тем, как уже отмечалось в примеч. к с. 154, события романа разворачиваются в царствование Филиппа III (1598–1621). В предисловии к III тому первого издания Лесаж обещал исправить все обнаруженные хронологические погрешности: «В этом третьем томе речь идет об эпохе, которая не совпадает с историей дона Помпейо де Кастро, помещенной в первом томе. Там говорится, что Филипп II еще не завоевал Португалии, а тут она вдруг оказывается под властью Филиппа III, причем это никак не отражается на возрасте Жиль Бласа. Это – хронологическая ошибка, которую автор заметил слишком поздно, но которую он обещает впоследствии исправить, равно как и всякие другие погрешности, если его произведение будет переиздано». В издании 1747 года Лесаж перенес действие из Португалии в Польшу, а герцога д’Алмейда заменил князем Радзивиллом.
76
… я отличился на карусели с кольцами, а также на предшествовавшем ей бое быков… – Исправляя анахронизмы, Лесаж упустил, что карусель и бой быков – развлечение испанцев и португальцев, а не поляков.
77
… поклялся в том самим Стиксом … – Стикс (греч. миф.) – божество реки в царстве мертвых. Во время раздоров боги по приказу Зевса (Юпитера) произносят клятву над водой Стикса. Бог, нарушивший клятву, год лежит бездыханным, девять лет живет вдали от Олимпа и лишь на десятый год возвращается в сонм олимпийцев.
78
… отправят в Америку. – В целях колонизации в Америку отправляли преступников и женщин легкого поведения.
79
… одна египетская принцесса … – Египетский фараон Хеопс, нуждаясь в деньгах, отправил свою дочь на заработки в лупанар (публичный дом). Исполняя приказание отца, дочь потребовала, чтобы каждый посетитель приносил ей по камню. Из этих камней она воздвигла пирамиду, каждая сторона которой равнялась 150 футам,
80
… следует говорить «общество актеров». – Ирония в адрес актеров, требовавших, чтобы их труппы именовались «обществами».
81
Я опишу тебе его таким, каков он есть . – Насмешка над Мишелем Бароном (1653–1729), актером, пользовавшимся большой популярностью. Оставив театр в 1691 году, он возвратился на сцену шестидесятилетним стариком, продолжая играть роли юношей. Париж был наводнен анекдотами о его самонадеянности и бахвальстве.
82
… в пьесе много острот, которых мы не поняли . – Аналогия с постановкой одной из пьec французского драматурга Шарля Ривьера Дюфрени (1648–1724), неожиданный успех которой вызвал изумление актеров Французского театра.
83
… превосходила численностью потомство царя Приама. – Приам (греч. миф.) – последний царь Трои, глава многочисленного семейства, насчитывающего пятьдесят сыновей и двенадцать дочерей.
84
Кондиция — временная должность в частном доме.
85
Гарпократ (Гор-па-херд) – в египетской мифологии одна из ипостасей Гора. Изображался мальчиком, держащим палец у рта. Древние греки истолковывали этот жест как призыв к молчанию.
86
Доктор Андрос — вероятно, парижский врач Никола Андри (1658–1742), декан медицинского факультета.
87
Филипп Экке (1661–1737).
88
Под словом «оргазм» Гиппократ имеет в виду … – Никола Андри и Филипп Экке вели между собой ожесточенные споры о том, как трактовать термин «оргазм».
89
Ферлакур — волокита (фр.).
90
Чилиндрон — карточная игра.
91
Новый перевод Горация… – Перевод, сделанный иезуитом Тартероном в 1710 году, быстро раскупался в коллежах, но был почти неизвестен в свете.
92
… какой-то сочинитель . – Вероятно, эрудит, литератор и драматург Никола Буанден (1676–1751).
93
Гюомар — неточная анаграмма Гийома Дагумера (умер 1745), профессора философии коллежа д’Аркур, затем ректора Парижского университета.
94
Чапины — обувь, которую испанские женщины надевали поверх ботинок.
95
Нестор (греч. миф.) – царь Пилоса, изображенный в «Илиаде» Гомера мудрым старцем, дающим советы вождям.
96
… к комическим же произведениям относились с презрением . – По-видимому, намек на литературный салон Анны-Терезы Маргена де Курсель, маркизы де Ламбер (1647–1733), в котором комедии и романы Лесажа не пользовались успехом.
97
Паженмейстер — глава пажей.
98
… учил вертеть решето … – Решето вращалось на острие ножниц и, останавливаясь, указывало на того, кто спрятал или похитил пропавшую вещь.
99
Св. Пахомий (292–348) – знаменитый пустынник, населивший, по преданию, Фиваиды (территорию Верхнего Египта) отшельниками.
100
… офицер немецкой гвардии … – После того как в 1520 году испанский король Карл I (1500–1558) был провозглашен германским императором под именем Карла V, испанские короли австрийской династии стали держать при себе немецкую гвардию.
101
Прима — карточная игра, по правилам которой участникам раздается по четыре карты; выигрывает тот, кому дастаются четыре разных масти.
102
… правила Аристотеля . – Классицистические правила трех единств: места, времени и действия. В «Поэтике» Аристотеля указывается лишь на единство действия и времени.
103
Фарукназ — имя, составленное из двух персидских слов: «Фарук» – красивый и «наз» – кокетка.
104
Марабут — мусульманский аскет.
105
Сиди — господин (араб.).
106
Кади — в мусульманских странах духовное лицо, исполнявшее обязанности судьи и осуществлявшее судопроизводство на основе шариата.
107
… уважение к порядочным людям . – Сюжет о животном, оставляющем наследство взяточнику, разрабатывался в фаблио «Завещание осла», в сборниках: «Сто ноаых новелл» (нов. 96), «Двести новелл» Малеспини (нов. 59), «Фацетии» Поджо (нов. 36), «Аркадия на Бренте» и др.
108
… не найдется более удачного «узнавания» … – «Узнавание» (анагноресис) – термин аристотелевской поэтики, обозначающий момент перехода персонажа от незнания к знанию. Аристотель отмечает «узнавание по приметам», «узнавание, присочиненное самим поэтом», «узнавание через воспоминание», «через умозаключение», «через ложное умозаключение собеседника» и «то, которое вытекает из самих событий» («Поэтика», гл. 16).
109
Таблички — в описываемую эпоху вместо записных книжек пользовались табличками из слоновой кости и др. материалов.
110
… находят опасных соперников в лице своих Меркуриев . – Меркурий (рим. миф.) – покровитель торговли, путешественников, вестник и прислужник богов.
111
… отнести четки и сандалии епископу куэнсскому. – Согласно первоначальному замыслу, в сандалиях брата отшельника должны были быть зашиты его мемуары, которые Лесаж намеревался опубликовать в виде отдельного романа.
112
Дублон — золотая испанская монета, содержавшая около 7,5 г. чистого золота – вдвое больше, чем в ранее обращавшейся кастильской монете.
113
«Клянусь св. Яковом!» — Весьма почитаемый в Испании святой, останки которого покоятся в церкви святого Якова Компостельского.
114
Св. Косьма — покровитель лекарей.
115
… ухо у тебя не беотийское! – Беотия – провинция в Древней Греции, населенная, по преданию, глупыми, неотесанными мужланами.
116
Я почитаю вас за второго кардинала Хименеса … – Франсиско Хименес де Сиснерос (1463–1517) – монах-францисканец, затем кардинал, архиепископ толедский, проповеди которого пользовались большим успехом у прихожан.
117
… чистая капуцинада. – Проповедь капуцина, речь, лишенная красноречия.
118
Аристарх — знаменитый александрийский филолог эпохи Птолемея VII Филопатра, прославившийся чрезвычайно строгим разбором произведений Гомера и других древнегреческих писателей.
119
Балтасар де Суньига — воспитатель короля Филиппа IV, впоследствии – министр иностранных дел.
120
Грасиосо — комический персонаж испанской комедии, здесь: любимец публики.
121
… под испанским владычеством. – С 1581 по 1640 год Португалия находилась в зависимости от испанской короны.
122
Ариадна (греч. миф.) – дочь критского царя Миноса и Пасифаи спасла Тесея из лабиринта на Крите, подарив ему клубок нити. Не желая брать Ариадну с собой в Афины, Тесей покинул ее спящей на острове Наксос.
123
… другие не надели еще гражданской тоги … – По достижении совершеннолетия римские юноши патрицианских родов меняли претексту на гражданскую тогу.
124
«La famosa – comedia e` l Embaxador de si mismo» — комедия испанского поэта, драматурга и прозаика Лопе де Вега Карпио (1562–1635) «Сам себя пославший».
125
Алькасер — незрелый ячмень (исп.) .
126
Список абонементов — знатные и состоятельные зрители снимали ложи на длительный срок, что являлось для театра ощутимой финансовой поддержкой.
127
… сыграть богиню Котитто . – Котитто или Котис – фракийская богиня распутства.
128
… входных и выходных ярлыков … – То есть театральных билетов, одни из которых служили для входа, а другие для выхода.
129
Метопоскопия — способность определять характер и предсказывать будущее по чертам лица.
130
Демокрит (около 470 или 460 до н. э. – умер в глубокой старости) – греческий философ-материалист, один из основателей античной атомистики.
131
Пифагор Самосский (6 в. до н. э.) – греческий философ, математик. Приведенный здесь совет Пифагора приписывается ему римским поэтом Авзонием (Авсонием) (310 – около 394) в идиллии «О порядочном человеке».
132
Сеять семя при дороге — Евангелие от Матфея, гл. 13.
133
Герцог Лерма — Франсиско Гомес де Сандовальи-и-Рохас (1552–1623) – герцог, будучи первым министром и фаворитом Филиппа III, фактически самовластно управлял Испанией, торговал государственными должностями, участвовал в подавлении Нидерландской буржуазной революции, способствовал изгнанию из Испании морисков, наживаясь на их имуществе. Смещен в результате дворцового заговора (1618). После смерти Филиппа III (1621) приговорен к штрафу и выслан из Мадрида.
134
Родриго Кальдерон, впоследствии граф д’Олива – сын простого солдата, поступил на службу к герцогу Лерме, когда тот был еще маркизом Дения, сделался его фаворитом, продавал должности и нажил большое состояние. После падения Лермы заключен в тюрьму и казнен в 1621 году.
135
Командорство — имение или доход с него жаловались командору.
136
Плавт Тит Макций (сер. 3 в. до н. э. – ок. 184 до н. э.) – римский комедиограф. В молодости, разорившись на неудачных коммерческих операциях, нанялся на мельницу. Побуждаемый нуждой, стал сочинять комедии, обессмертившие его имя.
137
Луис де Гонгора-и-Арготе (1561–1627) – испанский поэт, автор лирического сборника «Уединения» (1613), написанного темным, усложненным стилем культеранизма.
138
Гай Луцилий (ок. 180–102 до н. э.) – римский поэт-сатирик, автор стихотворных «Сатур» в 30-и книгах – смешанного жанра, в котором затрагиваются вопросы политики, литературы, нравов и т. п.
139
Салии ( лат . salii от salio – прыгаю, пляшу) – в Древнем Риме жреческая коллегия, состоявшая из 12 жрецов бога Марса и 12 жрецов бога Квирина. Получила свое название от ритуального танца, сопровождавшегося песнями на архаичном латинском языке, непонятном самим жрецам.
140
Децимы — десятистишные стансы.
141
Летрилии — короткие стихотворные послания.
142
Елеазар — маг эпохи римского императора Васпасиана (I в. н. э.).
143
Новий — ростовщик, упоминаемый у Горация.
144
Кофейные политики — При Филиппе III в Испании еще не было кофеен. Первая кофейня («кофейный дом») была открыта в Венеции в 1645 году.
145
Диана (рим. миф.) – богиня растительности, родовспомогательница, а также олицетворение Луны, отождествлявшаяся с Селеной и Гекатой, богиней мрака и ночных видений, способной насылать безумие.
146
… родившийся под созвездием Сатурна … – В астрологии планета Сатурн считалась холодной и мрачной, наделявшей соответствующими качествами людей.
147
… хочет, чтобы ты носил кадуцей . – Кадуцей – жезл Меркурия, вестника Зевса. «Носить кадуцей» – посредничать в любовных делах.
148
… сомневаться в сообщении Светония … – Гай Светоний Транквилл (ок. 70 – ок. 140) – римский историк, сообщает о коне Гая Калигулы. «Он не только сделал ему конюшню из мрамора и ясли из слоновой кости… но даже отвел ему дворец с прислугой и утварью, куда от его имени приглашал и охотно принимал гостей; говорят, он даже собирался сделать его консулом» («Жизнь двенадцати цезарей», кн, IV, 55).
149
… стал походить лицом на бернардинца . – Бернардинцы (цистерцианцы) – члены католического монашеского ордена, основанного в 1098 году. Первый монастырь ордена – Цистерциум. С XII века, после реорганизации ордена Бернаром Клервоским, стали называться бернардинцами. В эпоху Лесажа члены ордена отличались чревоугодием.
150
Вот что сказала ему Инесилья . – История Валерио и Инесильи воссоздает апокриф из биографин Анны Нинон де Ланкло (1620–1705). У Нинон был сын от некоего Жерсе, носивший фамилию де Вилье. Подобно многим молодым людям, которых родители посылали в салон к Нинон набраться светского лоска, Нилье влюбился в нее и стал домогаться взаимности. Желая умерить его настойчивость, Нинон, которой к тому времени было уже шестьдесят лет, открыла молодому человеку тайну его рождения. Потрясенный полученным известием, Вилье закололся шпагой у нее на глазах.
151
… наказал себя сам, подобно Эдипу… – В греческой мифологии сын фиванского царя Лая и Иокасты, осуществляя пророчество Аполлона, убил по неведению своего отца и женился на собственной матери. Выяснив обстоятельства преступления, Эдип выколол себе глаза золотой застежкой, снятой с платья повесившейся Иокасты.
152
Пикаро — плут, герой плутовского романа.
153
Роспись всех знатных родов — была составлена во Франции в 1648 году по распоряжению герцога Бургундского.
154
… заручился доверием инфанта . – То есть Филиппа IV, будущего короля Испании.
155
… посылать тебя тайно к графу Лемосу … – Желая укрепить свое положение, герцог Лерма приставил к инфанту сына своей сестры, графа Лемоса, а к королю – духовника Луиса д’Алиага, который встал, однако, на сторону сына Лермы, Герцога Уседского, занявшего, после свержения премьер-министра, место своего отца.
156
Эскуриал — монастырь-дворец в 50 км от Мадрида, построенный в 1563–1584 годах.
157
Бидпаи — легендарный индийский философ, которому приписывается сочинение басен Панчатантры (Пятикнижия). Тикнор, автор «Истории испанской литературы», не нашел у Бидпаи приведенной здесь басни. Возможно, Лесаж заимствовал ее содержание из сборника назидательных рассказов, апологов, изречений и афоризмов «Граф Луканор, или Мудрость Патронио» (1342), принадлежащего перу испанского писателя Хуана Мануэля (1282–1349).
158
Кардинал Спиноса – вероятно, кардинал Эспиноса (1502–1572), глава Государственного совета при Филиппе II.
159
Итакский царевич — Телемак, сын итакского царя Одиссея.
160
… мы, подобно скупцам, любовались … – Ср. Гораций, «Сатиры», I, 66–67:
«Так уж давно я привык: освистан толпою, я дома
Сам себе рукоплещу, созерцая в шкатулке монеты».
161
Исократ (436–338 до н. э.) – афинский оратор, публицист.
162
Повытчик — здесь: должностное лицо, ведающее судопроизводством.
163
Латро Марк Порций (50 до н. э.–4 н. э.) – римский ритор.
164
Номентан Луций Касий – гурман эпохи римского императора Августа (I в. до н. э.), будто бы выкупивший за огромную сумму повара у римского историка Саллюстия (86–34 до н. э.).
165
… стихи, достойные царя Нумы … – Нуме Помпилию (715–672), второму царю Древнего Рима приписывается создание коллегии салийских жрецов (салии – «плясуны», «прыгуны»), распевавших во время процессий гимны, сочиненные Нумою.
166
Даная, у которой вы можете разыгрывать Юпитера… – Даная (греч. миф.) – дочь аргосского царя Акрисия и Аганиппы. Узнав от оракула, что ему суждена смерть от руки внука, Акрисий заключил дочь в подземный терем. Однако Зевс проник к ней золотым дождем, и Даная родила сына Персея, которому суждено было исполнить пророчество оракула.
167
… отмечаю ваш дом мелом . – При переездах двора гоффурьеры (представители гофмаршальской части, ведающей путешествиями двора) выезжали вперед и отмечали мелом дома, в которых предстояло расположиться королю и его свите.
168
… пир семи мудрецов . – Средневековый сборник рассказов восточного происхождения «Сказание о семи мудрецах», появившийся в Европе около VII века.
169
Qallina cieqa — «слепая курица» – игра в жгуты или пятнашки.
170
Эпиктет (около 50 – около 140) – римский философ-стоик.
171
Hasta porfiar — до приторности (исп.).
172
Олья подрида (olla podrida) – рагу из мяса, национальное испанское блюдо.
173
Ay de mi! un ano felice –
Горе мне, год счастья мчится
Ветерочком легковейным,
А мгновенье без удачи –
Это целый век мучений.
174
Либитина (рим. миф.) – богиня похорон.
175
Invent portum –
Тихий приют я обрел. Прощайте, мечты и удачи!
Мной вы потешились всласть; тешьтесь другими теперь.
176
… Павел V сделал герцога Лерму кардиналом . – В 1618 году герцог Лерма выхлопотал себе у папы сан кардинала, однако это не упрочило его положения, и в том же году он был отстранен от должности.
177
Антимоний — сурьма, употреблявшаяся как отхаркивающее средство.
178
Парацельс — настоящее имя – Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм (1493–1541), врач и естествоиспытатель, долгое время считавшийся чернокнижником.
179
Кермес — отхаркивающее средство.
180
… написал я книгу против медицинского разбоя … – В 1732 году доктор Ф. Экке выпустил книгу под названием «Разбой в медицине».
181
Винный камень — применялся в медицине в качестве легкого слабительного.
182
… он бросает кость и устремляется за тенью . – Фрагмент из 339-й басни Эзопа, переделанной Лафонтеном (Басни, кн. VI, 17).
183
mozo de mulas — погонщик мулов.
184
… толпа поступит со мной, как со св. Стефаном . – Согласно христианскому преданию, св. Стефан был побит камнями у стен Иерусалима (33 г. н. э.).
185
La posada de los representantes — дом актеров, театр.
186
Триакеро — торговец универсальным целебным средством, шарлатан.
187
… густо набитым партером и авансценой … – На авансцене располагались лучшие зрительские места.
188
… трех рыцарских орденов. – Св. Якова, Калатравы, Алькантары.
189
Педро Кальдерон де ла Барка (1600–1681) – прославленный драматург испанского «золотого века».
190
Альбунея — мифическая пророчица, прорицавшая под шум потока Аниена.
191
Анджелика — героиня поэмы Ариосто «Неистовый Роланд».
192
… гранда первого класса … – Проводя политику централизации, Карл V (1500–1558) привлекал независимых феодалов ко двору, разделяя их на три класса.
193
… убежище де-лос-Ниньос . – Детский приют.
194
Бенефициарий — церковная должность и связанные с ней статьи дохода,
195
«Бенавида» — комедия Лопе де Вега на сюжет из испанской истории.
196
De los Royes — церковь черноризцев.
197
«Magnificat» — песнь на сюжет евангельской легенды о посещении девой Марией св. Елизаветы; исполняется в конце католической вечерни.
198
«Furto laetamur in ipso» — «И в краже (заимствовании) видим мы радость» – цитата из стихотворения, адресованного Академии изящной словесности французским поэтом Жаном Батистом де Сантейлем (1630–1697), которому городские власти поручили украсить парижские памятники изречениями латинских авторов.
199
… герцог Лерма лишился своей должности … – Герцог Лерма был смещен в октябре 1618 года, тогда как Филипп III скончался 31 марта 1621 года.
200
Дон Гаспар де Гусман, граф Оливарес (1587–1645) – граф, затем герцог, первый министр Испании (1621–1643), фаворит Филиппа IV.
201
Золотой ключ — некоторые испанские вельможи носили на поясе золотой ключ в знак особой привилегии входить в личные покои короля.
202
… воспользовался идеей императора Гальбы … – Римский император Гальба (правил в 68–69 гг.) издал приказ о конфискации девяти десятых имущества у лиц, нажившихся при его предшественнике, императоре Нероне.
203
«Post nubila Phoebus» — «После туч – Феб» – цитата из аллегорической поэмы английского поэта Вильяма Ленгленда (около 1332 – около 1377) «Видение о Петре-Пахаре» (V, 12, 903).
204
… выдает себя за новейшего Тарпу … – Спурий Меций Тарпа (I в. н. э.) – римский критик, упоминаемый Горацием в «Сатирах» (I, 10, 38).
205
«Victrix causa diis placuit…» — «Победившая сторона угодна богам, но побежденная – Катону» (Лукан, «Фарсалии», 1, 128). Марк Порций Катон Утический (95–46 до н. э.), римский республиканец, сторонник Гнея Помпея. После победы Цезаря над Помпеем покончил с собой.
206
Восприемник — богатое и влиятельное лицо, сопровождавшее осужденного на казнь.
207
… приняв предосторожности Улисса . – Проплывая мимо острова сирен, Улисс (Одиссей) заткнул своим спутникам уши воском, а себя приказал привязать к мачте.
208
… ожидающие его титулы . – Хулиан, внебрачный сын графа-герцога Оливареса, был узаконен им под именем Энрике де Гусман, представлен ко двору и пользовался всеми преимуществами своего нового положения.
209
… возымев намерение его женить … – Оливарес женил своего приемного сына на донье Хуане де Веласко, дочери герцога Фриасского, коннетабля Кастилии.
210
… восстание каталонцев … – Восстание 1640 года, в результате которого Каталония сделала попытку отделиться от Испании и присоединиться к Франции.
211
… во главе ее стоит королева . – То есть Исабела, сестра французского короля Людовика XIII, на которой Филипп IV был женат первым браком.
212
Герцог Браганцский (1604–1656) возглавил восстание 1640 года и, освободив Португалию от испанского владычества, был провозглашен королем под именем Хуана IV.
213
Дон Луис де Аро — племянник герцога Оливареса.
214
Дионисий Младший – тиран сиракузский; изгнанный в 343 г. до н. э. коринфским полководцем Тимоленом из Сиракуз, был вывезен в Коринф, где зарабатывал на жизнь обучением юношества.
215
После смерти министра в замке Лоэчес… – Герцог Оливарес скончался в Торо 22 июля 1645 года.