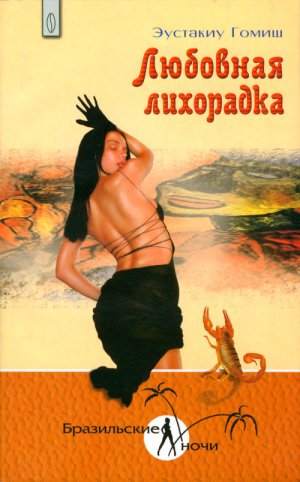
События
Эта хроника опирается на четыре основных источника. Перечислим их: это акты Муниципального совета города Кампинас за март-апрель 1889 года; устное свидетельство хрониста и историка Ж. Б. Канастры, справлявшего свой день рождения раз в четыре года 29 февраля; газеты той эпохи, главным образом «Диариу де Кампинас», полная подшивка которой — предмет особой гордости Центра науки, литературы и искусств; и, наконец, моя незаурядная способность к логическим построениям, которую Канастра злонамеренно называл воображением.
А теперь перейдем к самой истории.
В те черные дни углы пустынных улиц освещались кострами, и по городу проезжали иногда две-три коляски — не больше. В них сонно возлежали врачи, окутанные клубами сигарного дыма. Врачи перемещались из одного конца города в другой, ведя учет мертвецов. Они вели также учет отвращения, которое накапливалось внутри города, как навоз копится внутри дворика.
Перед отелем «Европа», между колодцами с гнилой, цветущей водой, днем стояли телеги водовозов. Луис Алвин высунул голову наружу, увидел их и окончательно проснулся. Когда коляска, набирая скорость, свернула на улицу Дирейта, Алвин закрыл окно.
Недалеко от этого места некий старик изнемогал, придавленный грудями нимфы. Барон Да Мата, пахнущий жженой веревкой, с грязными ногтями и желтыми усами, перевел дух, застонал и откинулся в сторону. Вот черт, опять приступ. Он знал, что ревматичен и бессилен — совсем как монархия. Неважно, главное — держать девушку за семью замками. Сдерживая отвращение, прекрасная и недоступная Анжелика подчинилась его воле, прежде чем преклонить колени в часовне. А затем, чтобы не думать об этом, погрузилась в домашние задания своих учеников.
Завернувшись в шелковые простыни, барон начал выискивать причины своей очередной неудачи. Если хорошо поискать, то причины обязательно найдутся, пусть даже и сомнительного свойства. Во-первых, накануне был праздник — свадьба свояченицы, — на котором он выпил изрядное количество мускателя. Затем, он так и не отошел от ссоры с женой, чья необъяснимая неприветливость по отношению к приглашенным — она исчезла через сорок минут после начала — еще ждет того, чтобы за нее отмстить. И наконец, барон не переставал готовиться в уме к завтрашней деловой поездке — предстояло преодолеть пятнадцать лиг. В этот момент единственное, что приносило ему удовольствие — это мысль, что он отправил свояченицу на месяц в Париж. Кроме того, это дорогое удовольствие производило нужное впечатление, от него еще веяло модным по тем временам фальшивым либерализмом. Свояченица запоем читала Жорж Санд.
В конце концов, это любовная история, в которой нет места жалости. Есть место лишь безумной страсти, часто вспыхивающей в тропиках между мужчиной и женщиной. И, говоря о несчастной женщине, павшей жертвой какого-нибудь распутника в красном галстуке (эмблеме республиканцев), которых немало встречается в барах, злые языки тут же заключали: Республика поимела Империю.
Люди читали Золя в подлиннике, и Жулиу Рибейру[1] царил ко всеобщему удовольствию, но литература — это одно, а жизнь — это другое. У жизни всегда трагический конец, что мы вскоре и увидим. Вторая мировая война, казалось, окончательно сдала эту историю в архив. Однако в 1975 году безымянный историк вырыл ее из пыльных папок и сделал всеобщим достоянием, слегка сдобрив собственной фантазией. Этот историк утверждал, что встречался с Алвином в год его смерти в клинике для больных лейкемией и лично почерпнул от него подробности.
Фантазия лучше действительности, но мы будем строго придерживаться фактов, иначе какая же это хроника? Не стоит увлекаться. Вопреки утверждению того самого историка, Алвин был не романтиком, а неутомимым постельным бойцом. И благодаря этому — редкому в мужчинах — качеству он заполучил нежную Анжелику. Та, регулярно испытывая удовольствие, раздалась немного в бедрах. Да Мата отметил это, когда перед ним развернули простыню с обнаженным трупом.
Что за ностальгическая грусть реет в воздухе над этими землями, которые некогда, в туманные доисторические времена, покрывали океанские волны? Грусть по жару человеческих тел, как же иначе. В 1889-м это был обычный субтропический район страны, где процветали болезни и всяческие злоупотребления. Еще хуже: все гостиницы были битком набиты всяким сбродом. Но в городе, именовавшем себя сельскохозяйственной столицей штата, все полагали, что лихорадка — зараза, занесенная откуда-нибудь из Сан-Паулу. Наши горожане были настолько высокомерны и горды, что на улицах вели себя так, будто незнакомы друг с другом: делали вид, что живут в большом городе. За границей, если их спросишь: «Откуда вы?», то сначала говорили: «Из Кампинаса», потом нехотя уточняли: «Из провинции Сан-Паулу», и далеко не сразу признавались, что они… из Бразилии. А когда республиканская зараза разрослась бурно, как сорная трава, кто-то выдвинул лозунг Республики Кампинасских Соединенных Штатов.
Светает. Да Мата приказывает подтянуть подпруги у лошадей. До Сан-Паулу еще далеко, но как истинный монархист Да Мата не получает никакого удовольствия от путешествия на поезде. А если отправляешься в срочную деловую поездку, то ничего не стоит потерять голову и наделать глупостей. Он встает с трудом из-за огромной грыжи. Когда он отправляется в путь вместе с Лусио, бывшим рабом, Анжелика выходит на веранду и машет им рукой. Воздух прозрачен настолько, что на расстоянии оба кажутся нарисованными акварелью.
Зависть — могучее чувство. Бесчисленные кокотки барона, его изысканные манеры дали полную волю злоязычию санпаульцев. Кое-кто с научным рвением доказывает, что мужское население нашего города всегда склонялось к гомосексуализму. На самом деле это пришло позднее. Но неважно, к черту историческую достоверность. Так или иначе, был еще один город, на Юге, название которого лучше сохранить в тайне. Говорили, что санпаульцы толпами устремлялись как туда, так и в Кампинас.
Да Мата ехал неспешно, наслаждаясь окрестным пейзажем.
Годом раньше
Еще не высохли чернила на бумаге с Золотым Законом, еще негры весело плясали на площади перед церковью Матрис, как на двери гостиницы «Униан» была укреплена табличка из металла. Ни один негр не пожелал больше прислуживать, так что хозяину гостиницы пришлось делать все самому, из опасения потерять клиентов. «Газета» отметила этот факт, сообщив также, что в городе поселился доктор Луис Алвин, выпускник Медицинской школы Рио-де-Жанейро, специалист по общим заболеваниям. Временно принимает в гостинице «Униан» с 9 утра до 4 дня. Является по вызову в любое время суток. Холост.
Последнее лукавое слово породило в некоторых зависть и возбудило среди медиков корпоративный дух. И так как почти все они были республиканцами, Да Мата в очередном приступе печеночных колик воспользовался моментом, чтобы выказать нерасположение доктору Анжелу Симоенсу, ставшему его политическим противником. Он послал за Алвином. Так что всего через неделю после выхода Алвина на вокзальную платформу весь город уже относился к нему недружелюбно.
Двумя месяцами позже, когда Алвин прекратил приемы в гостинице и спешно вернулся в Рио, все эти события казались публике вполне логичными и объяснимыми. «Газета» порассуждала на эту тему в разделе светской хроники, но ошиблась. Статья заканчивалась иронической фразой: «Пусть врачи нашего города успокоятся — господину барону больше не на что рассчитывать».
Если бы «Газета» знала о том, как все было на самом деле! Но об этом знала только Анжелика да еще ласточка, однажды вечером присевшая на веранду баронского дома.
Преподобный Менделл, заядлый натуралист, исчислял количество ласточек, летавших над Кампинасом в 1889 году, двумя миллионами. Однако ни одна из них не умела говорить.
Безразличный к ласточкам, что выписывали у него над головой диковинные фигуры, Энрике де Барселос закрыл за собой дверь редакции «Диариу» (ни одна другая газета с ней не сравнится!) и направился к бару «Элой». Сегодня в промежутке между бильярдными партиями он со своими друзьями опять будет мечтать о республике без налогов и о счастье нации. Там, попивая херес и пильзенское, его уже ждали Шико Глисерио, Перейра Лима, Леополдо Амарал, Кампос Салес, а может, и Жулио Мескита. До утра Бразилия будет сто раз построена и перестроена, словно пазл из кубиков. И как жаль, что днем надо возвращаться к своим прямым обязанностям!
Пресса сообщала, что в Минас-Жерайсе женщина понесла наказание, поскольку сообщила судье, что соблазнила освобожденного негра. Барселос полагал, что революция не может считаться полноценной без эмансипации женщин. Алберто Фариа, молодой человек двадцати лет с длинными ногтями, опирался в своих выводах на «18 брюмера Луи Бонапарта»[2]. Перейра Лима — на «Подражание Христу»[3].
Фариа: — Это возможно только после победы коммунизма.
Барселос: — Он еще нигде не победил.
Перейра: — И никогда не победит. Коммунизм нежизнеспособен, что подтверждает опыт Парижской коммуны. Только благодаря христианству установится равенство между мужчинами и женщинами. Но не раньше чем в 2000 году.
Беззаботная анонимная колонка в одной газете на следующий день высмеяла исторические рассуждения Перейры: «Кем станут женщины в 2000 году? Ха-ха! Капитанами, адвокатами, министрами и астрономами? И как с такими людьми делать революцию?»
Бурное разрастание кофейных плантаций вызвало приток разного народа из Европы. Среди них была и швейцарка Роза Бек. Она собиралась давать частные уроки, а также выйти замуж. Жара и тучи красной пыли, влетавшие в окна, вызывали у нее удивление. Хозяин булочной, у которого Роза остановилась, объяснил, что не припомнит такого жаркого февраля. Он также заметил, что, видимо, у нее начинается лихорадка: щеки порозовели, обложенный язык плясал во рту. Скоро у Розы началась рвота. Через два дня ее не стало.
Тут же заразился и девятилетний мальчик, покупавший в булочной хлеб для своей семьи. Он тоже умер от лихорадки: пожелтевшая кожа, рвота, белок в моче. Несколько дней спустя слег хозяин булочной. Затем — итальянец с улицы Бон Жезус. Однако город взволновался лишь тогда, когда оборвалась жизнь любимой дочери доктора Симоенса.
«И я заканчиваю, любимый мой, не надеясь получить ответ. Ты знаешь, я не могу пойти на риск открытой дружбы с тобой. Мне снятся дурные сны, я просыпаюсь вся в слезах, обессиленная. Непонятно, что это: грустные мысли или начало лихорадки. Иногда мне кажется: хорошо, если бы несчастье охватило весь город, чтобы император прислал сюда всех врачей страны. Твоя Анжелика».
Обстоятельства возвращения Алвина в Кампинас остаются туманными. Известно лишь, что в апреле 1889 года его включили в состав группы медиков, посланной в город императором вследствие газетной кампании, организованной Руй Барбозой. Безымянный персонаж, видевший Алвина в 1937-м на смертном одре, рассказывал об этом от первого лица, будто видел все своими глазами. Алвин говорил так: «Мое тело словно было пронизано железными иглами и спицами, так что гигантское магнитное поле притянуло меня». Он прибыл в город с письмами от Анжелики в кармане, в которых та описывала свои эротические фантазии (или сны — это не вполне ясно), а также жаловалась на одиночество и страх перед старостью.
«Мое тело словно было пронизано железными иглами и спицами, так что гигантское магнитное поле притянуло меня. Я не испытывал к ней любви, а хотел лишь столкнуть с действительностью, вырвать ее из мечтательной задумчивости, окунуть с головой в океан свободы и наслаждения, чтобы жизнь наконец-то завертелась. Еще я, возможно, хотел отомстить городу, который отверг меня, овладеть его самым мощным укреплением, а по сути — всего лишь униженной, одинокой женщиной. И вот жарким и пыльным вечером я вновь увидел фасад гостиницы „Европа“, перед которым скучились телеги водовозов. Утомленные врачи из нашей комиссии должны были собраться на следующий день и оценить положение в городе. Надвинулась душная ночь, мною овладела бессонница. С улицы доносился запах горячего гудрона, кровь закипала в жилах. И я почувствовал, как у меня встает».
В день, когда члены комиссии получали прощальную аудиенцию у императора, Алвин явился в красном галстуке. «О чем думает это отродье хромой кобылы?» — пробормотал сквозь зубы лейб-медик. В зале для приемов повеяло холодком. Алвин, чувствуя себя неловко, потянулся снять галстук. Дон Педро II — само добродушие — сказал, чтобы тот не беспокоился. Император готов был до конца отстаивать право своих подданных носить галстук любимого цвета.
И, подмигнув, он сказал, что у него самого есть пара красных галстуков, на случай, если придется перекраситься в республиканца.
Фантазия
Анжелика идет обнаженной по полю, усеянному цветами. К ней приближается всадник, подстегивающий коня. Это бандит из города. При виде Анжелики у коня начинается эрекция. Всадник изо всей силы стегает его. Конь падает и превращается в ангела. Человек говорит: «Как известно, ангелы бесполы».
Некий д-р Флоренсе написал в рио-де-жанейрской газете, что эпидемия проявляет центробежные тенденции, расползаясь из одного места, как пятно чернил на промокашке.
Да Мата двигался небыстро, наслаждаясь окрестным пейзажем и картинками собственного воображения. Лошади, священники, газовые рожки. Страховые агенты, телеги, извозчики. Итальянцы, собаки. Ласточки, лужи, возницы, фотографы. Нищие, могильщики, колокола, ласточки. Поезда, скрипки, бродяги. Кафтаны, виконты, бароны. Трамваи, конторы, банкиры. Мухи, республиканцы, социалисты. Поэты, пальмы, ласточки. Ласточки. Ласточки.
Одни говорили — малярия, другие — излияние желчи. При Дворе доктор Домингос Фрейре после экспериментов с птицами и водяными парами, что содержатся в воздухе, пришел к заключению: недуг вызывается ядовитым веществом, распыленным в воздухе, — возможно, какими-то солями синильной кислоты. Он сумел выделить это вещество и дал ему имя «ксантогенический криптококк». Но советник Торрес Омень утверждал, что криптококк на самом деле находится внутри птиц.
Это ничего не прояснило. Газеты полны издевок. И, чтобы окончательно все запутать, группа лиц утверждала, что речь идет о желтой лихорадке. Другие же, наоборот, говорили: все, что угодно, только не желтая лихорадка. Зеленая, желтая, синяя — неважно: народ повалил в бары в поисках забвения. Дни были жаркими и прозрачными, ночи прохладными и звездными.
И вот настал момент, когда все традиционные средства оказались бессильными: коньяк, белый ром, он же с лимоном, он же с лимоном и порохом. Торрес Омень рекомендовал сульфат хинина, Домингос Фрейре — салицилат натрия. Осторожное большинство ставило свечку и богу, и дьяволу, прописывая одновременно салицилат с хинином.
Там, где собирались три врача, нельзя было встретить двух совпадающих мнений. Из этих споров рождалась порой смертельная вражда. Доктор Гимараенс публично обвинил доктора Мельхерта в ложно поставленном диагнозе. Мельхерт исступленно кричал: «Этот болван полагает, будто он — последний представитель аристократии талантов». Анжело Симоенс попытался вмешаться, но неудачно, и задел муниципального чиновника, который вообще был ни при чем. Однажды Симоенс с чиновником столкнулись во дворе Санта-Каза.
Симоенс: Чего вы хотите?
Чиновник: Ударить вас.
И наносит Симоенсу удар тростью по голове. Тот уклоняется, удар приходится по запястью. Симоенс замахивается хлыстом. Однако из-за поврежденной руки хлыст падает на пол. Видя, что дело проиграно, Симоенс вскакивает на коня и удаляется прочь, но в воротах вываливается из седла. Прежде чем он вновь забирается в седло, чиновник успевает нанести ему еще два-три сильных удара.
Инструкции доктора Симоенса, председателя муниципальной комиссии по гигиене:
1. Умершие от лихорадки должны быть похоронены сразу после вскрытия.
2. Необходимо сжечь все их личные вещи, мебель, инструменты.
3. У всех домов, где проявилась инфекция, необходимо засыпать канавы, колодцы, отхожие места.
4. Водостоки следует обработать хлорной известью.
5. Все извозчики в течение пяти дней должны переместиться из центра города на окраины.
Да Мата. Быки, мойщицы белья, лужи, заборы. Ордена, кофейные плантации, плотины. Мосты, векселя, коровий навоз. Термитники, лачуги, козлята. Банановые деревья, бродячие торговцы, махинации. Малярия и дворянские титулы.
Как будто вони от хлористой извести было недостаточно, комиссия по гигиене открыла неизвестные до того профилактические свойства гудрона и дегтя, которые стали разбрасывать и лить прямо на улицах. На углах поставили бочки, в которых днем и ночью жгли угольную пыль, распространявшую сильнейший запах гнилой рыбы. Каждый, кто вступал в это море черной грязи, вскоре отравлялся испарениями и выглядел возбужденным. В воздухе витало что-то похожее на желание. Энрике де Барселос, до последнего сражавшийся со странными способами дезинфекции, сделал вполне научный вывод о том, что деготь обладает свойствами афродизиака.
Из окна своего номера в отеле «Европа» Алвин наблюдал, как нищий бродит от дома к дому, нигде не встречая сочувствия. Помои в лицо, дверь, захлопнутая перед носом. Он просил немного молока или сульфонового раствора, чтобы облегчить свои страдания. Несчастный прошел так, шатаясь, по всей улице, наконец, прибрел к церкви Матрис Велья и вошел в нее. Там служили мессу, церковь была переполнена.
Сцена, последовавшая затем, была достойна пера писателя. Тот, кто остался снаружи и не знал, что происходит внутри, увидев, как народ выскакивает из двери и бежит по улице со всех ног, мог подумать, что храм через секунду взорвется.
Отец Менделл отказался служить мессу за упокой души масона. Жара усилилась; Менделл стоял, как приклеенный, у двери Республиканского клуба, поскольку договорился перекинуться в карты с Энрике де Барселосом. Кто-то приподнял его сутану сзади. Менделл отреагировал как мужчина, нанеся удар кулаком прямо в лицо кроткому Максимиано де Камарго. Последовала безобразная потасовка, из которой священник вышел целым и невредимым, но с сутаной, разорванной надвое. Первым антимасоном, оказавшимся поблизости, был депутат муниципального совета Риккардо Даунт. Истинный ирландец, Даунт просто остолбенел от увиденного. Потом обратился к священнику: «Святой отец, вы оказали огромную услугу императору, избив этого козла». И хлопнул его по спине. Падре, засмеявшись, ответил, что император тут ни при чем.
Даунт, рассуждая о политике:
«Поскольку республиканская зараза хуже любой другой, падре Менделл доказал, что с республиканцами невозможно прийти к соглашению».
Этот самый падре Менделл время от времени упоминается в школьных пособиях как автор изобретений столь же необычных, сколь и прочно забытых, как то: калефон, эдифон, телетирон и геофон. Он успешно работал над изучением магнетических явлений, однако не имел никакой склонности к популяризации своих открытий. Поэтому Менделл остался в лучшем случае одним из отдаленных предшественников Маркони, не получив, разумеется, никакого признания со стороны историков. Как известно, в 1885 году Маркони впервые продемонстрировал беспроволочный телеграф в действии. Но по меньшей мере тремя годами раньше Менделл публично доказал, что человеческий голос может передаваться на расстояние до двенадцати километров без помощи проводов. Он провозгласил принцип: «Обеспечьте мне вибрацию, соответствующую по интенсивности расстоянию от нас до других галактик, и звук вашего голоса дойдет до них». Менделл умер, не успев закончить свои исследования звука, света и электричества. Ему приписывают изобретение не только радио, но также микрофона и трехэлектродной лампы.
Народ несправедливо считал его чудаком и называл сумасшедшим. «Отступник», — говорили о нем и клеймили «пособником дьявола». Правительство подпевало недоверчивой публике, замалчивая труды Менделла. В то же время за границей гремели имена Маркони, Брэнли и Элиши Грея. Единственной заслугой Менделла в глазах общественности было открытое признание своим сыном рыжего негритенка, который в 1936 году погиб от лап гориллы.
Преподобный Менделл не относил плотский грех к подлинным грехам и вообще уверял, будто ад — изобретение теологов. Он даже считал, что сам оказывает дурное влияние на общество, живя без женщины, которую он мог бы оплодотворить.
Алвин должен был рано с утра прийти в холл отеля «Европа», где была расквартирована врачебная комиссия. То было первое рабочее совещание, и Алвин на него опоздал. Это не понравилось главному медику, который наговорил Алвину всяких гадостей. Тот, не сказав ни слова, принес шприцы, вещества для прижигания и склянки с йодом. Его послали работать в Санта-Каза, где больные сотнями лежали на помостах, но Алвин туда не добрался. В девять часов, потный и сонный, он проник во двор Храма науки, где увидел Анжелику, окруженную детьми. Говорили они мало. Она повела его в класс, где Алвин два часа подряд выслушивал чтение Овидия в оригинале. Потом потащила к себе домой и послала за бутылкой портвейна. «Да Мата говорит, что любовь к вину — мой единственный недостаток», — произнесла она, смеясь. «In vino veritas» — философски заметил Алвин; этой фразе Анжелика научила его в прошлом году. Та была счастлива, что Алвин все запомнил. В окно влетела ласточка.
День клонился к вечеру, и Алвин предложил куда-нибудь пойти. Даже такой разговор, как у них, не может продолжаться бесконечно. Но от вина веки отяжелели, да и с палящим солнцем шутить не стоило. Делалось противно при мысли о том, что придется объясняться с главным медиком. Полусонного Алвина чем-то накрыли, положили под голову подушку. Он уснул почти мгновенно. А когда проснулся, была уже глубокая ночь, и внизу на улице блестели фонари.
Зал был неосвещен. Кто-то пробирался через горшки с папоротниками. Анжелика. Алвин, притворившись спящим, наблюдал за ней. Он был обескуражен, увидев сигару у нее в зубах. Позже, когда он сидел у ее ног между бархатных подушек, Анжелика призналась, что курит тайком с двенадцати лет.
Ничего удивительного, сказала она, это наследственное. Моя тетка была первой женщиной в Португалии, начавшей курить.
Они переместились на диван, и колокол церкви Матрис томно зазвонил, когда Анжелика принялась рассказывать о зимнем визите в город Жулиу Рибейру. Почти везде во владениях барона на полках стояла «Плоть»; девушки читали ее украдкой, и на это смотрели сквозь пальцы. Но наличие в доме возмутительной книги еще не означало, что автор будет в нем желанным гостем. Даже напротив. Только Рибейру приехал, как женщины перестали выходить на улицу. Все занавески были плотно задернуты. Да Мата, ничего не знавший, увидел, как тот поднимается на веранду, спрашивает, есть ли кто-то в доме. Затем Рибейру вошел, снял шляпу, попросил воды. Анжелика нашла его манеры безупречными. Если бы не осуждающий взгляд барона, она пригласила бы его на обед. В нескромной заметке, помещенной в «Газете», утверждалось, что неподражаемая Анжелика заставила писателя позабыть о своей прежней беспорядочной жизни. И вместо очередного натуралистического романа он намеревается создать жизнеописание святого Франциска Ассизского. Жулиу послал туда письмо с сообщением о том, что всевозможные достоинства госпожи баронессы впечатлили его, но замысел нового романа от этого никак не пострадал. Насчет святого Франциска никаких уточнений не последовало.
Во вторую неделю апреля наблюдался настоящий всплеск заболевания. В три больницы поступило двести человек, а еще ста другим пришлось заменить уколы шприца на укусы могильного червя. Как-то в воскресенье изможденные могильщики заснули при свете луны среди трупов, терпеливо ждавших, когда же наконец они сойдут под землю. Луна бросала блики на днища гробов.
Родственники рыдали у ворот дома или же агонизировали в тошнотворно пахнущих кроватях в присутствии медбратьев, не знавших, что делать, и вливавших им в рот сульфоновый раствор. Из семи аптек только две еще работали. Отель «Кампинейра», первоклассное заведение, закрылся в мгновение ока. На улицах выстроились ряды конок — их водители теперь управляли облаками. На четвертой неделе закрылись три из восьми мясных лавок, на пятой — половина школ, на шестой прекратились судебные заседания. Четверых почтальонов свалила болезнь, и почтовые услуги больше не оказывались.
Из города бежали — верхом, пешком, в каретах, в тильбюри и на простых телегах. Поезда останавливались в Кампинасе на какую-нибудь минуту, в них садились только люди с состоянием.
Но напрасно: эпидемия быстро распространялась по всей провинции. Больного продавца прикончили выстрелом из поезда в окрестностях Жундиаим.
Жулиу Рибейру писал, что некогда гордая столица процветающего края стала Ниобеей, распятой на кофейном дереве, гигантским кладбищем, городом мертвых. Натурализм местного разлива крепко стоял ногами на греческой почве. Ничего удивительного, ведь Патмос омывают воды Атибайи.
Перейра Лима находил в лихорадке нечто расистское: она пренебрегает неграми и поражает только носителей европейской крови! Чем больше европейской крови в венах, тем скорее вы сойдете в могилу. Гаити, негритянская страна, обязана своей независимостью желтой лихорадке: из тридцатипятитысячного войска, посланного Наполеоном для восстановления порядка на острове, двадцать три тысячи погибли еще до того, как хоть один гаитянский солдат взялся за оружие.
Барселос иронически предлагал Перейре бросить вызов Двору и провозгласить Республику Кампинасских Соединенных Штатов. Возможно, императорская армия, еще не оправившаяся после парагвайской войны, натолкнется на стену эпидемии, как это случилось на Гаити. Перейра соберет народ на главной площади и поднимет трехцветный флаг — желтый, зеленый, черный. Так он отблагодарит желтуху, кровоизлияния в мозг и черную рвоту.
Мелхерт находил подозрительными с точки зрения гигиены итальянских коммерсантов, которые присылали с побережья рыбу, фрукты, сыры. Бацилла — или что там еще — вполне могла прятаться в этой скоропортящейся продукции. Итальянцы протестовали, обвиняя во всем негров и бродячих собак, наводнявших город. С неграми ничего было не поделать: отныне их как свободных граждан защищала конституция. И потому за все расплачивались собаки.
Всего лишь за две недели восемьсот собак погибли насильственной смертью. Их бросали в бассейн с соленой водой, покрытый брезентом. Собаки плавали, пока у них не иссякали силы, после чего тонули.
Барселос, Перейра и падре Менделл идут по улице Формоза, избегая лужиц с гнилой водой. Из двух двориков сильно воняет испражнениями. Из открытых баров тянет зловещим запахом.
Перейра: Я слышал, что один из членов врачебной комиссии сбежал.
Менделл: Это не доктор Алвин, который практиковал здесь в прошлом году?
Перейра: Он самый.
Барселос: Кажется, я знаю, где он.
Они проходят мимо вывески:
Антонио Эшел
Изготовление катафалков
Урны 1, 2,3-го классов
Продажа, прокат, транспортные услуги
Затем они видят Эшела, стругающего сосновую доску. Это старик. Количество заказов удваивается ежечасно. Говорят, будто он наживается на чужой беде, но это неправда. Эшел обслуживает лишь тех, кто способен платить, а таких немного.
Похороны по первому разряду включают музыку и катафалк, убранный цветами. По второму — благословение священника, но без музыки. Единственная роскошь при похоронах по третьему разряду — кусок черной ткани, которой обивают гроб изнутри. Во всех случаях бесплатно прилагается деревянный крест.
Умирали в домах, на улицах, в больницах. Едва человек испускал последний вздох, как его вытаскивали на тротуар, а там уже поджидала телега, посланная муниципалитетом. Часто внутри ее друг на друге уже громоздилось несколько тел. Их отвозили на кладбище и сбрасывали в общую могилу, в последний путь их провожали извозчик и лошадь. Одежда, простыни, личные вещи выбрасывались в окно, обливались гудроном или дегтем и сжигались. Потом в воздухе часами стоял едкий чад.
Барселосу надоело видеть в зеркале одно и то же лицо, и он начал отращивать бороду. Несчастный — ему от всего становилось скучно. И даже смертоносный спектакль с его бесчисленными вариациями уже утомлял его. Чтобы развлечься, он начал на страницах «Диариу» дискуссию по вопросам грамматики с безбородым Фариа.
Барселос предложил Перейре пари. Каждый ставит тысячу рейсов. Выиграет тот, кто первым протянет ноги. Таким образом победитель получит заупокойную мессу на седьмой день. Эшел и падре Менделл присоединились к пари и также внесли по сто тысяч. Менделл заявил, что в случае выигрыша жертвует эти деньги на науку.
Барселос: Но, святой отец, как же Матерь Божья?
Менделл: У нее денег хватает. И кроме того, она в долгу перед наукой.
Уже рассвело. Алвин нащупал ногой домашнюю туфлю из Туниса и вдохнул полной грудью воздух комнаты, пропитанный ароматами. Портрет Да Маты смотрел на него с укоризной. Скривившись, Алвин повернул барона лицом к стене. Анжелика расхохоталась. Они долго говорили про Да Мату, и Анжелика объяснила, не смущаясь интимными подробностями, почему зараза ее не коснулась.
Но девственницей она не была.
«Дорогая сестра!
Наконец-то! Избежав лихорадки, я беззащитна теперь перед молодцами графа Фальяубера. Их столько, а я одна! И еще вот что: моя душа никак не освободится от нежного плена майора Бретеля, француза-южанина и мужчины из мужчин. Вместе с ним я беззаботно пересекла Атлантику на борту такого ненадежного судна, как „Ориноко“. Он сказал мне, как называются созвездия, мы вместе прощались с Южным Крестом и приветствовали Полярную звезду.
О, ностальгия!
Я пролила слезы в воды Гаронны, когда узнала, что майор намерен со мной расстаться. Я зашла в его каюту и — о да! — подарила ему последний поцелуй… я подарила бы ему тысячу, будь у меня время.
Вся в слезах, я пересела на другой корабль, идущий в Бордо. На нем я беспрестанно мерзла. И все же я посетила церковь Сен-Мишель и помолилась там за Бретеля. У него больная дочь в Лионе. Вечером я села на скорый поезд до Парижа и в пять часов уже была на Орлеанском вокзале, где меня ждал — угадай кто? Педриньо Кавако. Я вспомнила, что мы ведь двоюродные. Ах, эти кровные узы!
Счастливо,
Твоя Билота».
Алвин прижался к овальному зеркалу: «Открой мне тайну! Если она — не девственница, а Да Мата — импотент, значит, в эту комнату входил еще кто-то. Слуга? Родственник? Жулиу Рибейру?» Она сладострастно изгибалась, смеялась в ответ на его слова, кусала его губы: остроклювая ласточка.
Когда один из двух слуг заболел и напуганная кухарка сказала, что уйдет, Алвину пришла в голову идея. После некоторых колебаний второй слуга тоже объявил, что не собирается оставаться. На самом деле его склонила к этому хозяйка по наущению Алвина. Остался лишь дурачок-садовник, годами сражавшийся с сорняками, но неизменно терпевший поражение.
Кухарка зашла наверх, чтобы попрощаться, и нашла госпожу в постели. Дыхание было прерывистым. Кухарка побежала за доктором. Тот явился демонстративно, и через час весь город уже знал, что несчастье коснулось и дома Да Маты.
Но город знал также, что доктор Алвин, друг семьи, полностью посвятил себя делам этого дома, за что и был исключен из состава императорской врачебной комиссии.
Барселос узнал эту историю, когда писал очередную редакционную колонку. Он нашел ее странной: об исключении Алвина все болтали уже со вчерашнего дня. Что это за басни в таком случае? Он послал за кухаркой, которая все подтвердила, но прибавила, что доктор Алвин спит в доме. Барселос закусил губу и с силой ударил по подлокотнику кресла.
Узловатый указательный палец перемещался от лопаток к ребрам, от ребер к лопаткам, бороздя нежную персиковую спину.
Алвин: Признайся, ведь был еще один мужчина. Был?
Анжелика: Да, но только одну ночь.
Алвин: Кто?
Анжелика: Ах, я не знаю. Не спрашивай.
Педро А. Андерсон на площади Матрис предлагал «Дезинфектин противоболотный», тысяча рейсов за пузырек. Это мощное средство состояло из лошадиных доз фенола, хлорной извести, хлористой соды, фенола и купоросной камфары. После распрыскивания в воздухе оно приближало смерть, как удар копытом мула ускоряет кончину паралитика. Так говорили. Но продавалось оно «на ура».
«Газета» сообщала, что в город прибыл сеньор Урбано Азеведо, достойнейший агент нью-йоркской страховой компании.
С утра до ночи он продавал сотни страховок на улице Каракол.
Перейра поддерживал свой дух, ежедневно читая в «Диариу» «Воспоминания дьявола» Фредерика Сулье. Повествование было явно затянутым, но оно не отягощало мозги и помогало забыть о творившемся вокруг несчастье. Как-то после завтрака Перейра зашел в Шале-ду-Пинту купить лотерейный билет. Там он произнес пламенную республиканскую речь и собрал немного пожертвований на строительство Монумента Независимости.
Поздно вечером Барселос в одиночестве бродил вокруг усадьбы Да Маты. Спрятавшись в кустах, он курил, подняв воротник дождевого плаща, и наблюдал за освещенными окнами. Щенок, проходивший мимо, поглядел на него. Барселос в ответ кинул ему кусочек хлеба, который носил в кармане. «Это для тебя, дружок», — сказал он, и в этот миг в доме погас свет.
Может, и к лучшему, что в детстве Барселос оглох на левое ухо, стоя рядом с пушкой в момент выстрела. Так он не слышал недвусмысленных звуков и смеха Анжелики, когда на верху лестницы ее преследовал доктор Алвин с орудием, взметнувшимся высоко, словно республиканское знамя.
В этом и заключалась тайна Анжелики: за неделю до свадебного торжества, обильно приправленного мускателем, она позволила «бедненькому Энрике» (да-да, Барселосу) поднять свое знамя, пусть только на сорок минут. Но с тех пор оно вздымалось над мягким монархическим животом со страстностью конкистадора.
Днем и ночью реяло оно гордо.
Не вдаваясь в объяснения, Алвин забрал свои вещи из гостиницы и расплатился по счету. Служащий не выказал никакого удивления. Он протянул Алвину письмо, пришедшее явно не издалека: оно было не запечатано, а клапан конверта был загнут внутрь. В конверте содержалось уведомление главного медика о том, что Алвин уволен. Плюс — просьба явиться к нему, главному медику, для подписания нужных бумаг. В получении денег Алвину категорически отказывалось. Алвин прикинул в уме, что если он будет питаться в доме Да Маты, то протянет несколько месяцев на те гроши, что у него остались. Но решил все же зайти в банк для верности — и там чуть не подпрыгнул. Кто-то неизвестный положил на его счет почти полтысячи рейсов.
Бродячий цирк кружил по окрестностям, не решаясь въехать в город. Наконец он расположился неподалеку от борделя. Звездами цирка были два акробата, виртуозы трапеции. Но они объявили забастовку, считая что хозяин, г-н Ла Табль, из-за простого каприза подвергает всю труппу риску заразиться. Г-н Ла Табль принес обет перед иконой Богородицы, непорочно зачавшей, и теперь желал его выполнить. Богородица вылечила от артроза прекрасную Жанну, его лучшую балерину и по совместительству — жену. История была по-человечески интересна и тронула Барселоса. Он был так впечатлен икрами жены Ла Табля, что написал в газете: «Богородица сделала больше, чем от нее просили».
Тем утром Республиканский клуб гудел как улей. Телеграмма от Двора гласила, что граф Эу, обладатель кругленького капитала, от имени императора объедет все города, пострадавшие от заразы. В данное время он инспектировал побережье близ Сан-Паулу на броненосце. Либералы и консерваторы втайне готовились дать ему роскошный ужин на четыреста приглашенных. По их мнению, это могло поспособствовать поднятию престижа империи. Граф мечтал о Третьей империи и даже не отвечал на обвинения в том, что его поездка имеет политический подтекст.
Алвин перешел через улицу, все еще в потрясении от чудесного пополнения счета, и натолкнулся на Барселоса собственной персоной. Они знали друг друга и раскланивались, но более тесных отношений Алвин завязывать не хотел. Он прозревал в беспокойной душе журналиста неведомые пропасти. Барселос схватил его за руку. Он был подвыпивши и потащил Алвина, словно старого приятеля, в Республиканский клуб. Там они поиграли в бильярд. Когда ввалилась группа людей с острыми бородками, Барселос объявил: «Господа, вот человек, который отказался быть на содержании Империи». А Алвин добавил про себя: «Чтобы жить за счет барона Да Мата».
Что касается острых бородок, то республиканская партия могли похвастаться немалым их количеством. Как и красный галстук, такая бородка сделалась символом республиканца, и многие монархисты сочли своим долгом побрить лицо.
Работы в городе больше не было, народ начал голодать. Объяснялось это просто: все торговцы и ремесленники сбежали из Кампинаса. По прикидкам Барселоса, население сократилось на две трети, то есть до десяти тысяч человек. Напротив театра Ринка был открыт пункт по выдаче съестных припасов. В первый же день его осадила орущая толпа. Провиант исчез за каких-нибудь полчаса, не обошлось без потасовки.
Граф Эу сошел с экстренного поезда и проследовал в отель «Кампинейро», прошедший дезинфекцию и открытый специально по такому случаю. Графу уже доложили о недовольстве жителей. На стенах — оскорбления в адрес империи, графа и даже наследника Педро Аугусто! Пресса утверждала, что поездка графа — прямое издевательство над населением города. Анонимный памфлетист молил Господа опустошить город до конца, чтобы ни у кого не возникало желания подбирать объедки с императорского стола. Возмущение еще больше усилилось, когда граф поднял тост за горожан и бросил на украшенный цветами стол мешок с деньгами: подачка ценой в шестьсот тысяч рейсов. Лестницы, забитые республиканцами, чуть не рухнули вниз.
Барселос делал подсчеты. Государственной казне визит графа обошелся в тридцать тысяч. Все это — ради удовольствия небрежно швырнуть на стол жалкие шестьсот тысяч! И графу не пришлось ничего платить за обед, который обошелся в четыреста тысяч.
Граф оценил архитектуру и внутреннее убранство собора; особенно же понравилось ему густое, глубокое мощное звучание колокола «Байя».
О славный собор Кампинаса, самое величественное глинобитное сооружение в мире!
В день, когда два акробата решили прекратить забастовку, г-н Ла Табль дал небольшой ужин для избранных под куполом цирка. Он послал за Барселосом и позвал, кроме того, полдюжины проституток. Поскольку бордель находился в двух шагах, те даже не дали себе труда переменить одежду. Самой большой трудностью было преодолеть забор, отделявший их от цирка. Девицы были очарованы, когда Жанна принялась танцевать полуголая при тусклом свете двух фонарей. С трогательной простотой они сказали Жанне, что она может разбогатеть года за два, если предоставит свои ноги в распоряжение мадам Зила, хозяйки борделя. Жанна со смехом ответила, что любит покувыркаться в постели, но презирает деньги.
Поздно ночью несколько клиентов мадам Зилы, не стерпев, перепрыгнули забор в поисках двух беглых овечек. С приятным удивлением они обнаружили на новом месте весьма располагающую обстановку, не слишком отличную от только что виденной. Правда, здесь было побольше живости. Играла музыка, а манеж превратился в танцевальную площадку. Пьяный Ла Табль расслаблялся на груди у двух проституток. Жанна и Барселос убежали, укрывшись под кровом безутешной Зилы. Только эти трое и нарушали наутро мертвую тишину борделя.
Утром шум праздника окончательно затих, и приглашенные побрели вместе в направлении города. Шлюхи решили, что после ночи, изобильной на любовь, но скудной на деньги, самое лучшее — это посетить шестичасовую мессу. Кто знает — может, Богоматерь непорочного зачатия пошлет им мужа.
Полковник Деусдедит, чья безупречная репутация могла продаваться на вес золота, был застигнут неподалеку от собора с женщиной, в малопочтенной позе. Падре Менделл спросил полковника, сошел ли тот с ума или просто паясничает. Тот ответил, что это неважно, но что он не умрет, прежде чем не наверстает упущенное за годы католической юности. В задумчивости непризнанный изобретатель побрел к себе, уселся там за письменный стол и принялся разглядывать блестящий тротуар улицы Конститусан.
Город превратился в кладбище. Залитые гудроном улицы оживлялись только телегами водовозов да катафалками. Алвин бродил по центру, размышляя о полумиллионе рейсов, оставленных на его счету неизвестным. Здесь чувствовалась рука баронессы. Алвин улыбнулся и ускорил шаг, хотя никуда не торопился. В их любовной связи денежные дела были необходимой частью наслаждения.
В окрестностях улицы Формоза слышались крики. Алвин поспешил туда и обнаружил скопление людей вокруг телеги. Рядом дрались мужчина и женщина, нанося друг другу удары головой и руками. Одна только лошадь оставалась безучастной к происходящему. В телеге неподвижно лежал мальчик лет восьми, светловолосый, хорошенький и мертвый. Женщина громко рыдала, пытаясь приблизиться к телеге и одновременно помешать ей уехать. Наконец, женщину оттащили прочь, кучер вспрыгнул на козлы и хлестнул лошадь. Колеса заскрипели по гудрону, и телега последовала дальше.
Кто-то пришпилил к двери монархиста Даунта молитву следующего содержания: «Император наш, сущий во дворце! Да будет имя твое упоминаться с уважением, да прольются на нас твои милости, да будет воля твоя и в провинциях, как в парламенте. Государственные ассигнования дай нам днесь, прости наше воровство, как и мы прощаем единоверцам нашим. Ниспошли нам умеренность в чаевых и избавь нас от республиканцев. Аминь».
Жозе ду Патросинио: «В Кампинасе всего шестьсот избирателей-республиканцев. Но ведь и спартанцев при Фермопилах было только триста человек!»
Именем республики друг друга приветствовали студенты, масоны и позитивисты. Скоро к ним примкнули и плантаторы, недовольные про себя тем, что их обобрали 13 мая. Ну а народ… что народ?
Придворный хронист, устроивший свой наблюдательный пункт на улице Увидор, в иронических выражениях описывал короткую прогулку императора под руку с императрицей. От него не укрылись ввалившиеся щеки, свисающая клочьями борода, сплюснутый в висках череп, тусклый, рассеянный взгляд. «Наш государь — старик лет шестидесяти», — так писал хронист.
Роясь в старом чемодане, стоявшем в гостиной, Алвин обнаружил, что Анжелика ведет дневник. Место было малоподходящим для хранения такого предмета, и Алвин заподозрил, что его положили туда нарочно. То была тетрадь пепельного цвета, в твердом переплете, с эпиграфом из Бенжамена Констана на первой странице: «Отвергай сколько угодно вещи и живых существ — ты не сможешь отвергнуть себя самого».
Что это могло значить? Алвин почувствовал ревность к тому, кто разделял с Анжеликой тонкость переживаний. Просидев несколько часов над записями, он ночью, с остекленевшим взглядом, появился перед Анжеликой и без единого слова накинулся на нее. Потом швырнул тетрадь ей в лицо. Анжелика разрыдалась.
«Дорогая сестра!
Наши родственники здесь, во Франции, — очень милые люди, кроме Кавако: он жесткий в обращении, как наждак. Я сняла удобную комнатку над конторой „Креди Лионнэ“, несмотря на протесты дяди Теодорико и Конде: дорогая, я открыла настоящую золотую жилу! Золото здесь, надо сказать, замечательное. Кавако подарил мне луидор в прелестной коробочке из металла, обтянутой золоченой кожей. Мне так хотелось расстаться с этим беднягой, но я все же дошла с ним до рынка у церкви Мадлен. Там какой-то парень с бельгийским акцентом, не обращая внимания на Кавако, всучил мне букет астр. Что за день!
Прощай,
Твоя Билота».
Ясно, что речь не шла о временном помутнении рассудка. Последние записи Анжелики были недвусмысленны: Алвину отводилась роль сексуального орудия, не более того. Вот запись от 12 апреля: «Жаль, что он ничего не дает уму, как давал Э. Б. Но зато если говорить об ощущениях, — это что-то необыкновенное. И это уже немало». И чуть подальше: «Вчера он был просто великолепен. Он извергал из себя республиканские убеждения с пеной на губах, словно конь маршала Деодору». Прочитав это, Алвин покраснел. Действительно, было нелепо обращать Анжелику в свою веру, ведь ей это сулило сплошную невыгоду. И он почувствовал себя тем самым конем — глупым, но полезным.
Встав на дыбы и обхватив за бока передними ногами лучшую кобылу империи, конь маршала Деодору весело покрыл ее. Это могло продолжаться не одну ночь. Отличный конь, превосходный для такого дела — и для того, чтобы нести на спине статного военачальника. Непревзойден в случке, незаменим в политике.
Алвин: Посмотри на своего коника.
Анжелика: Смотрю.
Алвин: Ну и как? Хорош собой?
Анжелика: Могучий.
Алвин: Хм, вот подожди, я сейчас тебе как вставлю.
Анжелика: Постой…. а-а-а!
Алвин: А-а-а! А-а-а!
Хотя Барселосу хватало забот с женой Ла Табля, которая вела себя как мартовская кошка, он пристально следил за всеми движениями Алвина. Жанна вновь пробудила в нем чувственность, и воспоминания об Анжелике уже не так ранили его. В остальном Барселос был убежден, что Жанна безумна, а Ла Табль — редкостный болван. Единственными разумными людьми в цирке были два жонглера. Но они оказались закоренелыми гомосексуалистами, что было довольно неприятно.
Барселос заплатил пятьдесят рейсов мальчишке, чтобы тот исполнил одно «репортерское поручение». Среди городских журналистов это было обычным делом, сам Барселос раскрыл таким путем два-три значительных политических заговора. Сегодня поручение чуть отличалось — впрочем, мальчишке было все равно. Ему предстояло проникнуть в имение Да Маты и выяснить, что же там происходит на самом деле.
Слуховое окно, как правило, оставалось открытым; Барселос точно знал, что оно ведет в спальню.
Алвин: Цок-цок-цок, а-а-а.
Анжелика: Цок-цок-цок, а-а-а.
Цок-цок-цок по комнате. Конь, неодетый, скачет под слуховым окошком и видит голову мальчишки. Поколебавшись мгновение-другое, конь натягивает кальсоны, выбегает на лестницу, но на веранде обнаруживает, что парня и след простыл.
В тот же день один из агентов Барселоса сел в поезд, получив задание отыскать Да Мату. Барон остановился в Жундиаи, чтобы навестить родственницу — строго говоря, не совсем родственницу, а молочную сестру. Да Мата спокойно выслушал агента, а затем, сняв шляпу и вытерев пот со лба, продолжил свою поездку. «Всему свое время», — так выразился он.
Анонимный хронист обвинял санитарную комиссию в некомпетентности и моральном разложении. Главе комиссии это не понравилось, и он пригрозил газете судебным процессом. Газета замолчала, однако на другой день вышел анонимный памфлет, прибавивший к обвинениям непристойные стишки: история слабого духом монархиста, который согласился разделить ложе с республиканцем. Едкая издевка! В завуалированной форме утверждалось, что все это было подстроено Двором, а республиканец подослан самим императорским величеством.
Барселос, борец за чистоту нравов, требовал, чтобы его величество был обследован психиатром. Что же касается торжествующего республиканца, то хорошо бы все же ему слезть с монархического тигра. Даже этот безобидный зверь может взять и укусить.
Но он не укусил.
Император писал стихи по-гречески и по-французски, посвящая их выродившимся европейским принцессам. Когда конь маршала поднялся по лестнице, как бы приглашая императора проехаться, ящики стола в кабинете его величества были набиты стихами, письмами, женскими портретами.
В Бразилии тогда насчитывалось восемь миллионов квадратных километров девственного леса.
По утверждению все того же придворного историка даже цветочницы с улицы Увидор задавали себе вопросы насчет душевного здоровья и твердой памяти императора. Они питали к нему безграничную жалость, но никак не уважение. Ходили слухи, что Его Величество уже не управляет, что от него скрывают государственные бумаги, что ему не показывают даже газет. Запершись во дворце Сан-Кристован, император посвящал все свое время переводам великого Виктора Гюго.
Императорская комиссия рекомендовала держать все окна и двери открытыми для лучшей вентиляции. Ночью легкие тени крались вдоль стен, пугая какое-нибудь семейство, мирно спящее или склоненное над постелью больного. Благопристойность была изгнана из обихода, и уголовные дела против воров в те дни не возбуждались. Члена комиссии Алберто Миллера гораздо больше заботили проститутки, наводнившие город.
Проституток действительно стало больше чем, скажем, девушек, состоящих в обществе «Дочери Марии». Так заявил Миллер падре Менделлу в присутствии Барселоса. Они обследовали сначала улицу Конститусан, потом Дирейта и, наконец, старую площадь Матрис. С сожалением глядели они на немногочисленных женщин, выходивших на улицу и флиртовавших с чужими мужьями у входа в церковь. Барселос согласился, что для небольшого, пострадавшего от заразы города их многовато, но заметил, что отец Менделл мог бы основать Легион Дочерей Евы и учредить специальный орден на ярко-красной ленте.
Миллер, потеряв терпение, отправил на порку двух козочек, мывшихся полуголыми в фонтане на улице Дирейта. Барселос пробился сквозь толпу и посреди всеобщего замешательства оттащил прочь двух полицейских, работавших плеткой. Те, познав на себе власть прессы, посчитали свою работу законченной. Барселос посадил заплаканных женщин в фиакр и всю ночь поил их коньяком и пильзенским. Утром они захотели отблагодарить Барселоса известным всем способом, но тот сказал, что ему пора зарабатывать на жизнь.
Целый день Барселос выжидал удобного момента, чтобы предстать перед комиссией. Ему хотелось устроить драку с врачами и быть задержанным полицией за неуважение к официальным лицам. Но вечером пришла новость, что Миллер заболел. Он подцепил лихорадку.
На площади Матрис это известие было встречено громким «ура» и пожеланием здоровья… Барселосу.
Несчастный воришка едва не сломал себе хребет, упав с крыши. Шум был такой, что на место происшествия тут же сбежались люди и в их числе — четыре проститутки. Неожиданно пострадавшему стало хуже, его затошнило. Проститутки, вооруженные дубинками, забили бы его на месте, не появись отец Менделл. Женщины столпились вокруг него, начав целовать священнику руку.
В это время бедняга сообщил прерывистым голосом, что падение — это пустяк, хуже то, что он подхватил заразу пару дней назад. В считанные секунды на улице никого не осталось.
Миллер испустил дух, окруженный дочерьми Марии. Смерть наступила быстро, и падре Менделл счел это наградой за достойную жизнь.
В борделе устроили праздник, и мадам Зила повела себя снисходительно. Ей не нравились столкновения с законом, а комиссия, в конце концов, кое-как, но боролась с параллельным рынком любовных услуг. Однако энтузиазма девочек было не сдержать. «Я старею», — пожаловалась мадам Барселосу. Тот сказал в утешение, что напишет для нее эпитафию.
Но ничего не написал.
Неизвестно откуда пришедший табун лошадей расположился на площади Матрис. Лошади съели всю траву, прораставшую между булыжников мостовой, а затем разбежались по окрестностям города. Похоже, это не были цыганские лошади; хозяина их не обнаружилось.
Кое-кого животные напугали своим необычным поведением. Они поднимались по лестницам, а однажды даже забрались в кафедральный собор. Им нравилось прижиматься мордой к стеклу и смотреть, что делается внутри домов.
Белый конь забрался в сад Да Маты и съел куст герани. Безутешный садовник пытался выгнать его, но конь все равно расположился на веранде. Анжелика сказала, что это конь из ее видений и приказала вволю кормить его люцерной и поить водой.
Устав, написанный Барселосом и переданный им падре Меделлу тайком в Республиканском клубе, под столом для покера:
* Учреждается Легион дочерей Евы.
* Принимаются женщины любого возраста, цвета, объема груди, вероисповедания и гражданского состояния, испытывающие потребность в нравственном очищении.
* Легион проповедует не радость плоти, которая является божественным даром, а, напротив, дисциплину.
* Дочери Евы вольны действовать по своему усмотрению, если все происходит за закрытыми дверями.
* При этом из политических и религиозных соображений, а также сообразуясь с текущей ситуацией, приветствуется сдержанность, дабы не размывался уже и без того размытый нравственный фундамент нашего несчастного общества.
* По четвергам и субботам устраиваются собрания в помещении церковного прихода, причем женщинам следует появляться чистыми и пристойно одетыми.
* За свои многочисленные добродетели и безупречный моральный облик господин Энрике Барселос назначается гражданским советником при Легионе.
Толпа школьников высыпала из дверей Храма науки, крича на все лады. Скоро Алвин узнал, что Муниципальный совет закрыл последние еще действовавшие школы. Стоя в центре пустого класса, слегка сбитая с толку Анжелика увидела, как он слезает с извозчика и входит в гимназию. Он нашел ее очаровательной, а тишину пустых аудиторий — восхитительной. Они закрыли окна и собирались уже выйти из зала, когда Алвин обнял Анжелику за бедра. Сорок парт вокруг снисходительно молчали, святой Фома Аквинский в черной рамке словно говорил: «этому природа учит все живые существа», оба катались по столу, и Алвин сполна наслаждался ее телом, когда в дверь постучали.
Но оба ничего не слышали, пока, трепеща, как обезьяна на трибуне, Алвин исторг в нее свою влагу и свалился с небес. «Ты с ума сошел», — сказала она, поправляя подол платья, и тут они расслышали снаружи голос директора. Тот не переставая стучал и стучал в дверь.
Объявление от Ассоциации итальянцев, вывешенное на стене (на итальянском):
«Санитарное состояние города внушает опасения. Прошу всех заболевших не искать меня, не пытаться связаться со мной и не искать никакого выхода из положения. Председатель».
Алвин перечел объявление трижды, прежде чем вернуться к действительности.
Из дневника Анжелики:
«Никаких сомнений: он хочет моей погибели. Он говорит, что я выгляжу, как святая, и это невыносимо. Он говорит, что хочет вывалять меня в самых грязных местах, например, в курятнике, чтобы выпачкать мои белые бедра. Если бы он мог, то сдал бы меня в бордель».
Выпрыгнув из окна, они, по счастью, наткнулись на все того же извозчика. В планы Анжелики не входило публичное появление вместе с Алвином. Она пыталась изображать из себя выздоравливающую. Но это было нелегко при ее совершенно здоровом облике.
Улицы были запружены народом: Менделл организовал процессию, чтобы молить Господа о дожде. Менделл не верил в действенность таких молитв, но считал, что и особого вреда от них нет. Раньше в городе устраивались великолепные процессии, но теперь на заседаниях Республиканского клуба собиралось куда больше народу.
Небольшая прямоугольная старая площадь Матрис изобиловала резкими контрастами.
В Республиканском клубе гремели речи о французской революции.
В двух шагах располагалось прибежище кроткого назарянина: Святой Августин напротив Вольтера.
А посередине втиснулось ветхое уродливое строение, где обитала власть: суд, тюрьма и муниципалитет.
С прибытием сюда нескольких проституток и бесхозных лошадей местность вполне могла соперничать с бульваром Сен-Мишель в самом Париже.
Кинтино Бокайюва:
«Так же, как мусульмане совершают паломничество в Мекку, чтобы просить пророка о поддержке, каждый республиканец должен ехать в Кампинас, но не за поддержкой, а чтобы видеть вблизи, как растет и ширится живительное республиканское учение».
Алвин все еще был взволнован после приключения в классе. Одна лишь мысль об этом воспламеняла его, и он не мог сосредоточиться больше ни на чем. Ему хотелось осквернить еще какое-нибудь место: он подумывал о том, чтобы застигнуть Анжелику в часовне. Но вместо этого застал ее на лестнице в доме, согнул пополам, задрал на ней платье и овладел ею.
Из дневника Анжелики:
«Он обошелся со мной как с самкой, как с животным, и назвал меня императорской кобылой. Покрытая и униженная».
Вечером заявился директор с дурацким выражением на лице. Алвин скрылся в комнате для гостей и не слышал ничего, но Анжелика оказалась на высоте. Да, извозчик увез ее сразу после уроков. Да, она оставила дверь открытой. Да, дверь закрылась сама. Такое случается. Разве господин директор не читал трудов выдающихся оккультистов, например, Аллан-Кардека? А кроме того, увы, двери теперь не те, что прежде. «И двери, и гимназии», — вздохнул директор.
Явно получив удовольствие от того, что случилось, Анжелика захотела повторить сцену на лестнице. С одной только разницей: теперь она возьмет инициативу в свои руки. Но Алвин, не будучи сторонником теории дежа-вю, идею отверг. Кроме того, как истинный сибарит он хотел этим ранить ее самолюбие.
Той ночью Алвин почувствовал отвращение в душе, выскользнул на улицу, где его подхватила веселая компания, направлявшаяся в бордель. Ночь была прохладной и звездной, жизнь ничего не стоила. Философия Барселоса.
Алвин был поражен обилием газовых рожков в заведении мадам Зилы. Даже на главной улице Кампинаса не было столько.
Убегая от яркого света, он зашел в какой-то тупичок с белеными стенами. Толстый и яркий, словно апельсиновая корка, матрас. Длинноногая девушка покачивала бедрами. Под юбкой ничего не было. Звали ее Пурезинья.
Алвин открыл окно и вновь испытал удивление: цирк придвинулся вплотную к владениям мадам. Брезентовый купол его парил над бордельными комнатками навозного цвета. Вероятно, Ла Табль хотел исподтишка воспользоваться светом газа. Музыка в обоих заведениях играла одинаковая, и посетители свободно переходили из одного в другое.
По этой причине зрителей в цирке было всегда много, и настроение у них было на редкость веселое. Мадам же, с ее природной коммерческой жилкой, могла временно усилить свои кадры за счет кордебалета. Выручку она делила честно пополам с Ла Таблем, за вычетом налогов и расходов на содержание заведения.
Похоронщик Антонио Эшел сокрушался, сидя в баре «Элой» за бокалом пива. Никто никогда не видел его пьющим. «Я прожил скверную жизнь, — объявил он с высоты своих семидесяти четырех лет. — Надо было заняться продажей колыбелей. Так тяжело провожать в последний путь своих приятелей! С каждым гробом я хороню частицу самого себя».
Перейра: Значит, изготовление гробов действует вам на нервы?
Эшел: Мне никогда не нравилось наживаться на смерти.
Затем он поведал, что один из членов санитарной комиссии обнаружил в его моче белок.
Но Эшела беспокоило не это, а поведение Круга, его приятеля из немецкого общества, который вот уже восемь лет не появлялся на людях, поскольку рак мог в любой момент свести его в могилу. Несколько месяцев назад он стал хиреть прямо на глазах и заказал Эшелу урну первого разряда. Но за время эпидемии его болезнь отступила, а теперь, на фоне всеобщего мора, он поправлялся буквально с каждым днем. И громко хохотал, когда мимо его окна проезжал катафалк.
Он подвесил свою изумительную урну на балконе, вне досягаемости солнца и дождя, но у всех на виду.
Эшел опасался, что вечно будет слышать раскатистый хохот Круга.
Алвин поднялся на второй этаж: шея испачканная, губы красные от помады. Анжелика испугала его своей минутной вспышкой — столь же сильной, сколь и непредсказуемой. Она расколотила посуду, стоявшую на столе, разбила овальное зеркало, порвала на Алвине рубашку и угрожала выброситься в слуховое окно. А еще она поранила любовнику голову бронзовым распятием.
Когда кровь стала стекать Алвину на грудь, Анжелика бросилась к нему в объятия и закричала, вложив в этот крик всю силу своих легких, свою душу и свой рассудок, — что она любит его, любит, любит.
Кто-то видел, как по улице Бон Жезус проскакал белый конь с ласточкой на спине.
Эшел умер на следующий день, извергая черную рвоту и повторяя, что наживаться на смерти плохо. В его лавке не нашлось ни одного гроба. Прежде чем Барселос успел обратиться к конкурентам Эшела с улицы Розарио, Круг спустил свой гроб с балкона. Никогда еще не было гроба, так идеально подходящего покойнику по размерам.
Эшела похоронили под звуки шопеновского марша, с чувством исполненного муниципальным оркестром. Дирижировал Сантана Гомес, брат известного Антонио Карлоса, чья опера «Гуарани» в 1870-м произвела фурор в миланском Ла Скала. Ничего больше для старика Эшела сделать было нельзя.
Смерть обычно подчеркивает не лучшие из человеческих качеств. Но в случае Эшела она оказалась снисходительной. Гробовщик похоронил сотни горожан своими собственными руками, вид которых наводил ужас даже на кучеров катафалков.
Случайно или из-за огорчения Барселос приплелся на кладбище пьяным. Он выступил с зажигательной речью, стоя перед желтым трупом, и цитировал Ницше. Барселос оперся на никелированный борт урны, сработанной самим Эшелом, и в особенно драматический момент речи едва не свалился вместе с ней в яму. Его поддержал репортер. Выпрямившись, Барселос издал громкий пук, сопроводив его забористым словцом. Даже гипсовые ангелы покачнулись от всеобщего хохота.
Закончив речь, взволнованный Барселос направился к плачущей вдове. Он вручил ей пакет новеньких, хрустящих банкнот. То были четыреста тысяч рейсов — Эшел выиграл пари, заключенное некогда им, Барселосом, Перейрой Лимой и Менделлом. Вдова зарыдала еще сильнее, и деньги оказались в кармане Круга, который таким образом компенсировал свои затраты на урну и теперь был просто обязан воздвигнуть памятник старине Эшелу.
Изречение.
«Великий человек кричит от боли, и к нему тут же спешит человек незаметный, высунув язык, исходя слюной от радости. И это называют состраданием».
Перейра: Что это за Ницше, которого он без удержу цитировал?
Фариа: Реакционер на содержании у немецких правых политиканов.
Перейра: В первый раз слышу.
Фариа: Он очень моден в Европе, с тех пор как закатилась звезда Эмерсона. Но это бенгальский огонь, он сгорит быстро.
Сгорит быстро.
Из дневника Анжелики:
«Я положила еще тысячу двести мильрейсов на счет моего жеребчика. Это неосторожно и наносит ущерб финансам бедного барона, но я ведь сошла с ума и за себя не отвечаю. Довольный, мой жеребчик провел со мной три ночи подряд и не ходил к проституткам. Он ласкал меня так, как никогда раньше».
Кто платит, тот покупает. Кто платит и покупает, тот порабощает.
Таков закон капитализма.
Отчет о забое скота на городских бойнях с 10 по 15 апреля 1889 года:
10 апреля — 25 животных
11 апреля — 20
12 апреля — 17
13 апреля — 14
14 апреля — 8
15 апреля — 2
Последняя мясная лавка закрылась 17 апреля.
«Диариу» сообщал, что казна покрыла плавающий долг в семь миллионов мильрейсов, и в Бразильском банке остается еще двадцать в ценных бумагах. «В не слишком славной истории наших финансов, — отмечала газета, — это первый подобный случай. Плавающий долг погашен».
Сан-Паулу каждый год приносил в казну двадцать миллионов мильрейсов — шестую часть национального дохода, — получая взамен каких-то два миллиона. В парламенте от города заседали восемь молчаливых представителей. Провинция Амазонас приносила восемьсот тысяч, и два депутата от нее шумели в парламенте, словно базарные торговки.
Славные наши санпаульцы: незаменимые у станка, жалкие в политике.
Число жертв лихорадки не волновало Барселоса, а бюджет страны был слишком скучной материей. Он бросил на стол надоевшие бумаги и погрузился в грамматику профессора Хелбута. Пусть город хоть совсем исчезнет с карты, но полемика с Алберто Фариа насчет положения местоимений в предложении должна быть продолжена. Барселос боялся, что может умереть прежде, чем диспут дойдет до относительных местоимений, знатоком которых он считался.
Даунт выступил на заседании муниципалитета по вопросу о пагубном влиянии эпидемии на молодежь. Он не упомянул проституток, зато много рассуждал о безработных, которые толпами шатаются по барам и улицам, пренебрегая опасностью заражения. Среди них было и несколько девушек. Даунт находил это чудовищным и приписывал растлевающему влиянию республиканской пропаганды.
Одно из окон в квартире Даунта разбили камнем. «Если кто и достоин читать мораль нашей молодежи, — писалось в газете, — то пусть это будет чистокровный бразилец».
Молодежь.
Сбежав от полиции и безутешных вдов, часть ее обосновалась в бараках за чертой города, там, где улица Бон Жезус переходила в поле. Это служило как бы противовесом цирку на другом конце города. Они убивали время, играя на гитаре и сочиняя томные песенки. И вывесили, к огорчению Даунта, транспарант: «Ни республиканцы, ни монархисты».
Покуривая сигару на веранде дома Да Маты, Алвин с неудовольствием наблюдал за всей этой суматохой. Песни, шум, гам, хохот. И так целую ночь. Почему они выбрали именно это место, рядом с усадьбой? И вообще, этой территорией распоряжаются городские власти. Он дошел до бараков и обнаружил там знакомые ему лица. Завязался разговор. Алвина повели к рыжебородому здоровяку с северо-восточным выговором, который пощипывал гитарные струны. Прозвище его было — Буффало Билл.
Билл: Если тебе не нравится вид с веранды, дружище, присоединяйся к нам.
Алвин: Это почему?
Билл: Многие ушли сюда. Они что, хуже тебя?
Алвин: Нужно, чтобы все вернулись домой.
Билл: Здесь куда лучше, дружище. Садись и попробуй нашего гашиша.
В бараках жили человек сто, включая лошадей и проституток. Лошади явно соскучились по человеческому теплу, а проститутки — по деньгам. Они слонялись между бараками. В одной Алвин узнал Пурезинью. Ему пришла в голову мысль, и он подозвал девушку к себе.
Дрожа от возбуждения, Алвин поднялся с ней на веранду, открыл дверь, представил девицу Анжелике. При неярком свете она читала письмо из Парижа.
Из дневника.
«Итак, он поимел меня в зад. Его радует мой позор. И он заставил меня принять столько же денег, сколько заплатил шлюхе».
Анжелика сидела голая на кровати, перемежая рыдания с упреками в адрес Алвина. Тот, удовлетворив свою похоть, молча слушал. Пурезинья курила, накинув пеньюар, копчик ее отражался в зеркале венецианского стекла.
На веранде, ночью, после примирения. Сверху — луна и старый Южный Крест.
Пурезинья: Очень приятно с вами обоими познакомиться.
Анжелика: Такие люди, как мы, рождаются раз в сто лет.
Алвин: Ну, как сказать. Вспомни старину маркиза. И древних римлян, они-то были таким же извращенцами. По-моему, в 1989 или 2000 году все станут как мы. Хочешь пари?
Анжелика: Какой смысл? Мертвые не возвращают долгов.
Алвин: Мертвые — нет, природа возвращает. Представь: все те же звезды, все та же луна в том же небе. Разве это не чудесно? Хм, у меня сегодня что-то романтическое настроение.
Пурезинья: Если честно, говорите вы как-то непонятно. Можно, я пойду?
«Chérie[4],
Моя поездка превращается в настоящий приключенческий роман. Я начала вчера дневник с описания прелестной вещицы, которую мне купил Кавако. Но он ревнует к тому парню с рынка, чье имя, если не путаю, Ален. Счастливо.
Твоя Билота».
Пианисту Каэтану Витту, лучшему в Кампинасе, стало плохо на концерте в театре «Сан-Карлос». После водопада диезов он, уронив голову на клавиши, испустил дух. В две минуты театр почти полностью опустел. Посмертное утешение для д-ра Симоенса, умершего при входе в Санта-Каза: его хоронили под звуки банджо и песенки компаньонов Буффало Билла. У кладбища кортеж пополнился группой шлюх. Три белых коня наблюдали издалека.
В баре «Элой» Перейра, прижимая к груди «О подражании Христу», утверждал, что удивительный кортеж и запах гашиша — это приметы конца всех времен. Близится Армагеддон.
Падре Менделл, смеясь, заявил, что не видит никакой приметы, посланной свыше, в банджо, песенках и бородатых парнях. И курение гашиша не говорит о том, что небеса решили наказать этого человека. Он, Менделл, экспериментировал с этой травой в научных целях. Правда, он не рекомендует ее никому, но после курения он не стал хуже Перейры Лимы.
Перейра ответил ему, что не спорит с нарушителями закона.
Если возможно передавать звук на расстоянии, то почему нельзя передать и картинку, пользуясь тем же принципом? Менделл целыми днями работал над новым изобретением. И вправду конец времен. Он говорил так, будто знал наперед, что случится в двадцатом веке, и в двадцать первом тоже, и в двадцать втором. Когда над ним смеялись на улице, он советовал обидчикам пожить еще лет двести — и тогда они увидят разницу между безумцем и болваном.
Кстати, о масонах: Менделл мистификатор и психопат. Непонятно, как только епископ терпит его.
Круг не вынес смерти Эшела. У него стали случаться нервные приступы, появления которых были слышны на другом конце города. Затем он перешел к продолжительным рыданиям, перемежая их обрывками немецких слов. Барселос уловил в них стихи Гете: одинокая молитва застигнутого бурей.
В день кончины Круга — перед смертью тот сделался необыкновенно кротким — Барселос выявил ошибку в употреблении местоимений, допущенную Фариа. Он посвятил целую газетную страницу этому казусу, и для некролога места не осталось. Оскорбленный Фариа накинулся на Барселоса прямо у гроба Круга. Его знаменитые ногти в тот день насчитывали два с половиной сантиметра.
Барселос: Он бросился на меня, как женщина.
Паровозный кочегар привез весть о том, что барон Да Мата собрался в обратный путь. Он запряг в карету еще пару лошадей и не намеревался вновь останавливаться в Жундиаи. Воздух Сан-Паулу пошел ему на пользу, а его внушительные рога задевали за ветки деревьев. Единственной проблемой барона было пищеварение.
Да Мата двигался небыстро, наслаждаясь окрестным пейзажем и картинками собственного воображения.
Дворянские титулы и малярия. Махинации, бродячие торговцы, банановые деревья. Козлята, лачуги, термитники. Коровий навоз, векселя, соты. Плотины, кофейные плантации, ордена. Заборы, лужи, мойщицы белья, быки.
Из дневника Анжелики:
«Я жила так беззаботно и счастливо, как в далеком детстве, в Ламбари, где предавалась невинным занятиям. Но о них я никогда не рассказывала священникам, чтобы те не сочли меня порочной от природы. Сейчас я понимаю, что они были бы правы и совершенно законно не дали бы мне отпущения грехов. Но, как и вчера, я не испытываю — честное слово — никакого раскаяния.
Почта снова заработала, и мне пришло письмо от барона. Он пишет, что приедет не позже чем через неделю. Алвин подпрыгнул на месте и захотел тут же покинуть дом. Я успокоила его поцелуями, и он отнес меня в постель».
Карета Да Маты медленно катится, рога задевают за ветки деревьев. Одна из лошадей прогибается под благочестивым грузом: распятия, иконки, жития святых. Все по заказу Анжелики.
На третьей неделе желтая лихорадка стала отступать. Мелкий дождик прибил пыль, катафалки с изможденными возницами вновь скопились у отеля «Европа». Город понемногу начинал возвращаться к прежней жизни. В шесть вечера на улицы опять выходил фонарщик. Но это был другой человек — или же прежний сильно изменился.
Восстанавливалась торговля. В какой-то день двенадцать городских ворот заскрипели — но от облегчения. Они устали пропускать через себя катафалки. Около тысячи горожан пропутешествовали за месяц на этом виде транспорта.
Из Рио приходили слезные письма, наполняя тоской членов санитарной комиссии. На столе главного медика все еще множились свидетельства о смерти, но 21-го, прозрачным утром, со стороны моря повеяло бодрящей свежестью. Главный медик приказал паковать чемоданы. «Эпидемия под контролем», — заявил он. Но женщины города под контролем пока не были.
Из дневника:
«Он схватил меня в ванной, помешанный, и потащил в сад. Я не сопротивлялась. Когда у него начинает работать воображение, его не остановить. Он заставил меня залезть на ветку и забрался туда сам. Надо оживить детские воспоминания, сказал он: полезно для сосудов. Так мы сидели на дереве, словно две бесстыжие обезьяны, когда нас заметил проходивший мимо фонарщик».
Фонарщик был настолько ошеломлен увиденным, что не зажег на улице фонари и лег спать раньше времени, проведя, впрочем, бессонную ночь. На следующий день о происшествии стало известно. Историю повторяли на каждом углу, расцвечивая такими подробностями, которые были просто немыслимы, учитывая, где и когда все происходило.
В газете анонимный автор заклеймил Кампинас как бразильскую Гоморру, обвинив Алвина в упадке общественной нравственности. Анжелика выставлялась жертвой, и выражалось самое искреннее сочувствие барону. «Для таких растлителей, как Алвин, существует только одно: смертная казнь!» — говорилось в листке. Население призывали творить расправу своими руками, если правосудие бессильно. Но тут подоспело божественное правосудие.
Несколько всадников, посланных Барселосом, встретили барона недалеко от Жундиаи, торжественно вручив ему экземпляр пресловутой газеты. Они приехали утренним поездом и наняли лошадей в Жундиаи. Да Мата прочел статейку от начала до конца. Ни один мускул на его лице не дрогнул. «Не верю», — сказал он. Один из всадников заявил: «Бог свидетель, что я не хочу выказать неуважения к вам, господин барон, но позвольте мне утверждать, что этот тип — настоящая скотина и закоренелый развратник». Барон покраснел и пообещал болтуну высечь его по приезде в Кампинас.
Ла Табль свернул шатер цирка и засобирался в дорогу. Он проклинал последними словами Барселоса: Жанне явно не хотелось садиться в телегу. Две балерины решили остаться у мадам Зила и заняться постельной гимнастикой. Два виртуоза трапеции предлагали себя в качестве скульптур у входа в бордель, но мадам запретила им соваться в почтенное заведение. Надо придерживаться естественного порядка вещей, считала она. Ни в географии, ни где угодно еще север и юг никогда не сходились.
Когда первая кокотка появилась на улице, помахивая широкой юбкой и шелковым веером, стало понятно, что теперь все пойдет как раньше. Народ высыпал на улицы, просто радуясь солнцу и покупая лотерейные билеты. Ласточки летали взад-вперед между дымящихся труб. В разделе светской хроники объявили о предстоящем бале. Город пробуждался от тяжелого сна.
Алвин: Сколько денег еще осталось?
Анжелика: Две тысячи.
Алвин: Давай уедем. Он нас не простит.
Анжелика: Надо не простить, а понять. Барон честен с самим собой.
Алвин: Не знаю. Ему может взбрести в голову что угодно. Пошли.
Анжелика: Хорошо, но только в кровать. Я вся разомлела от ожидания. Открой бутылку вина. Напьемся. А потом ты будешь употреблять меня. И злоупотреблять мною тоже.
Три телеги выехали со стороны улицы Дирейта, запряженные тощими лошадьми. Их преследовала свора дворняг. На первой сидел оскорбленный в своем самолюбии Ла Табль собственной персоной, выставив подбородок. Возле дома Да Маты у последней телеги отвалилось колесо. Ла Табль соскочил на мостовую, изрыгая французские ругательства в адрес неуклюжих акробатов. Те возражали ему, но напрасно. В конце концов оба они спустили брюки и показали хозяину две пары белоснежных ягодиц. Со стороны бараков послышались бурные аплодисменты.
Когда взбешенный Ла Табль вернулся к своей телеге, то не нашел в ней Жанны. Пользуясь неразберихой, та незаметно сбежала. Но Ла Табль не слишком-то обеспокоился. За два дня он рассчитывал починить телегу и найти беглянку.
Барселос грыз перо, когда Жанна с горящим лицом предстала на пороге и бросилась ему на шею. «Милый, — взмолилась она, — спаси меня от этого чудовища и от этого цирка! Я создана не для этого. Если бы не ты, я продала бы себя мадам Зила, только чтобы остаться в городе. Но тебе я отдаю мое тело бесплатно».
— Закрой дверь, — сказал ей Барселос, не поднимая глаз от листа.
Статья Барселоса.
«Так или иначе, мы приветствуем восстановление порядка в городе. Главная опасность миновала. Жизнь — это не цирковая арена. Пора заняться делом восстановления. В этот час нам так необходима старая, проверенная мораль…»
Струя шампанского вырвалась из бутылки золотым фонтаном, оросив спину, рот, груди, пупок.
Анжелика: Как хорошо!
Алвин: Только одна вещь лучше этого.
Анжелика: Еще раз, мой жеребчик? Давай!
Алвин: Я еще не начал по-настоящему.
В семь вечера редакцию предупредили, что барон вернулся в город. Барселос вскочил с импровизированного ложа из листков бумаги, оставив Жанну в одиночестве, и поспешил вниз по лестнице. Вокруг баронского экипажа увивались зеваки. Голова Да Маты была освещена неверным сиянием уличных фонарей, лицо было высохшим, как у мумии. У барона разболелась грыжа, и он мечтал только о мягкой постели.
Барон так устал, что не проявил никакого интереса к лагерю Билла, приняв его за цыганский табор. «Это потом», — пробурчал он себе под нос.
Алвин открыл очередную бутылку. Хлопок пробки, смех Анжелики — и в комнате внезапно стемнело.
Алвин: А эту давай выпьем на балконе.
Анжелика: Если доберемся туда.
Алвин: Надо посмотреть на звезды.
Анжелика: Ну ладно.
Подойдя к окну, они увидели экипажи, притаившиеся в темноте. А за ними — лагерь, сверкающий красными огнями под брезентовыми навесами. Между лагерем и экипажами медленно двигалась толпа народу. Толпа остановилась у экипажей и глядела наверх — на балкон. Холодок пробежал по спине Алвина. Он захлопнул окно.
Места действия
Руа Дирейта
Первое движение, которое наблюдается на Руа Дирейта — это сумасшедшее хлопанье крыльями: в десять утра возле отеля «Европа» тысячи ласточек взлетают с задворок кафе, задевая за краснокирпичные стены, устремляясь в теплое, сухое, лазурное небо.
Воздух настолько чист, что можно разглядеть лошадь за несколько километров. Если смотреть издали, город похож на женщину, которая улеглась на склоне холма, расположенного между двумя равнинами. Деревья. Множество деревьев. Но преобладает каштановый цвет.
Бар
Барселос: У Жулиу Рибейру вышла в Сан-Паулу превосходная заметка о лихорадке.
Менделл: И что же он говорит?
Перейра: Что люди мало совокупляются, отсюда эпидемия. Что еще он может сказать?
Менделл: Или что они совокупляются слишком часто. А правда, что он пишет новый натуралистический роман?
Перейра: Да, ведь век подходит к концу. А роман должен умереть до начала нового столетия.
Менделл: Уже умер. Все сказано.
Перейра: И все познано. Последние крупные темы окончательно закрыты Толстым, Золя и Бальзаком.
Барселос: Ну тогда — за смерть романа! Вы убиваете людей, которые еще не родились. Наконец-то он идет… Элой, еще рюмку в кредит!
Бордель
Барселос падает в кресло и требует рома. Мадам Зила удивлена.
Зила: Рома? Напиться хочешь, маленький?
Барселос: Я в ужасном настроении. Был бы яд, выпил бы его.
Вокруг его шеи обвиваются жирные руки.
Зила: Ты прав, мальчик мой. Это город не для достойных людей. И жизнь наша тоже недостойная.
Барселос: Достойным людям везде плохо, мамаша. Везде одно и то же. Равнины, реки, моря. Однообразие, скука, мерзость.
Руки начинают поглаживать его.
Зила: Все становится хуже, мальчик мой. Посмотри на правительство. Или на мое заведение.
Париж
«Милая сестра!
Не показывай никому это письмо, ладно? Я провела несколько приятнейших часов в обществе Алена, в книжной лавке г-на Ашиля, где он служит. Г-н Ашиль нам нисколько не мешал. Он слеп на один глаз и не видит, что делается слева от него: потому-то его все время обворовывают. Ален отважно затащил меня за полку с многотомным „Ларуссом“, и мы поцеловались. А потом слегка прижал меня к груди. Но в этом ведь нет ничего плохого? Позже случилось непредвиденное: вошел Кавако и купил кулинарную книгу. Меня он не видел. Кулинарную книгу, представляешь! Я кое-что зарифмовала по этому случаю… на французском, разумеется. Не показывай никому это письмо, ладно?
Счастливо, Билота».
Дом Да Маты
Войдя на веранду, большой белый конь принес с собой приятный запах влажной земли. Он понюхал бумажные цветы, потоптал их и наконец съел. Анжелика, распознав в нем коня из своих видений, успокоила его при помощи люцерны и повела в гостиную. Сердце ее гулко билось. Погружая копыта в персидский ковер, конь, прекрасный видом, подошел к пианино и остановился. От его дыхания тихо зашевелились листы партитуры веберовского «Концерта». Чтобы фантазия была совершенной, Анжелика мгновенно разделась и, взяв коня за шелковистую гриву, увлекла его на лестницу, а потом на второй этаж.
Алвин лежал в постели и перелистывал «Иллюстрасьон», когда перед ним возникло послушное животное. Он вскочил на ноги, застыв в изумлении перед полной желания Анжеликой — казалось, она близка к безумию. Глаза были заведены под лоб, рука медленно погладила живот коня, затем его член.
Конь не испытывал смущения в этом царстве зеркал и мрамора, взгляд его выражал почти человеческое любопытство.
Лагерь
В присутствии Буффало Билла репортер Котрин испытал внезапную робость. Он колебался.
Котрин: Вас обвиняют в том, что вы украли этих лошадей. Может быть, это случайность?
Котрин не предполагал, что Билл — такой могучий здоровяк. Дело могло принять опасный оборот. Почему Барселос не предупредил?
Билл: Дружище, я не воровал никаких коней. При чем тут воровство? Просто табун коней живет одной жизнью с нами, пьет ту же воду, что и мы, ходит за нами везде. Вы ведь вольны передвигаться где хотите, никто вам не мешает, так?
Бар
Перейра: Бальзак и Золя создают не романы, а соборы. Соборы же стоят веками.
Фариа: Что вы имеет в виду? Что другие не могут создать соборы, похожие на эти?
Перейра: Наоборот. Несколько десятилетий, а может, и веков, человечество только и будет заниматься возведением подобных соборов.
Фариа: Вот как. Видно, что вы не читали манифеста Мореаса.
Бордель
Зила: Взгляни на мое положение. Я не могу оплачивать счета за газ.
Барселос: Думаешь, я жалуюсь, что денег нет? Ах, если бы все было так просто.
Зила: Что ты хочешь сказать? Пройдись по комнатам. Тихо, как в монастыре.
Барселос: Эпидемия пройдет, и все наладится.
Зила: Дело не в эпидемии. А в том, как люди друг к другу стали относиться. На этом городе лежит проклятие. Улицы полны разбойников. Все, что уважалось раньше, перестало уважаться. Даже хозяйки домов ведут себя как шлюхи. И как ты хочешь, чтобы здесь процветало почтенное заведение? Погляди на эту баронессу, о которой судачит весь город. Еще что-нибудь такое — и придется все закрыть.
Барселос: А ведь все, что нам нужно, матушка, — это чуточку воображения.
Париж
«Милая сестра!
Вчера мы были в Тулузе, на свадьбе нашей троюродной сестры Марии Бертран, урожденной Коштейра. Я не хотела ехать, но в конце концов уступила настояниям Фальяубера и дяди Теодорико, а также почтенных тетушек, которых возмущает моя вольная жизнь в Париже. Два дня я не появлялась у Ашиля, а Кавако все время придерживал меня за локоть, точно боялся, что я вдруг улетучусь. Сестра Мария некрасива, но зато приглашенные на свадьбу мужчины!.. Я почти что согласилась выйти замуж за одного из них. Там было человек шестьдесят — смотри и выбирай. На следующий день я встретила новобрачных на пути к церкви. Не понимаю, почему они медлят отправиться в свадебное путешествие. У Марии были темные круги под глазами.
Твоя Билота».
Дом Да Маты
Возбужденный конь решил облегчить задачу, раздвинув задние ноги. Голый Алвин, вернувшийся в кровать, удовлетворенно наблюдал, как Анжелика работает руками. Ему нравился этот приступ внезапной похоти. «Какой все же у нее здоровый вид», — отметил он, трепеща при виде ритмично дергающихся ягодиц. Орган коня заметно прибавился в размерах. В зеркалах отражалась вся сцена, нежная и жестокая одновременно. Алвин подумал, что скоро прыгнет на Анжелику и, ввиду тупости коня, преподаст ей урок настоящего животного обращения. Но вместо этого принялся рассказывать ей об одном старинном обычае польских крестьян.
Лагерь
Рыжая борода медленно шевелилась в такт движениям челюсти.
Котрин почувствовал, насколько здесь уважают Билла. «Вот первый из отверженных, который принуждает всех к молчанию», — отметил он про себя.
Котрин: Почему вы с вашими друзьями выбрали именно наш город?
Билл: Это не мои друзья, это мои последователи. Я даже не всех знаю в лицо. Кое-кто присоединился ко мне только вчера, сбежав от ваших горожан. Придут еще и другие, я уверен. Места хватит всем. Надо только оставить в городе свое прошлое, и их примут с радостью.
Дорога
Лошади неспешно двигались в сумерках, и Лусио увидел, как барон подносит к глазам шелковый платок. Чтобы отвлечься, он откинулся назад, следя за низким полетом козодоев, но не мог прогнать мысли о том, что барон губит себя. Новость, пришедшая от Барселоса, подкосила его. «А сколько такого было в прошлом», — подумал Лусио. Помолвка Билоты, например: все понимали, что происходит, даже он, глупый негр. Баронесса танцевала с Барселосом, а потом оба украдкой выскользнули прочь. А барон в подпитии провозглашал тосты за Третью империю. С тех пор Лусио каждый раз тер глаза, вспоминая, как Барселос тянулся рукой к юбкам баронессы, как падали брюки, обнажая его худые ноги, — а музыка наверху стала совершенно неистовой. Лусио пришлось отойти на некоторое время, и он поклялся, что будет до гроба хранить молчание. Он боялся, что ему отрежут язык. Но все же вернулся, чтобы досмотреть.
Редакция
Входит Котрин, размахивая руками. Барселос выпускает дым в потолок.
Барселос: Отлично, приятель. Давай, выкладывай новости.
Котрин: Новости? Какие новости? Ничего нового, все по-прежнему. Даже лихорадка уже никому неинтересна.
Барселос: Кто говорит о лихорадке? Публике не нужна лихорадка. Публике нужен хороший скандальчик. Что-то затевается. Все чуют: что-то затевается.
Котрин: Честное слово, шеф, ничего. Все по-прежнему.
Барселос: А Глисеро? Симоенс? Жулио Мескита?
Котрин: Все они у Элоя. Ничего нового.
Барселос: Так не бывает. Если бы ничего не было, они не собрались бы вместе. Зачем они собрались? О чем говорят?
Котрин: О чем и все остальные. Все та же история. Алвин исписывает свой карандаш. Баронессе нравится, как он пишет. Могу и я написать об этом, если хотите. Газета ваша.
Барселос: Ладно, оставим это.
Париж
«Милая сестра!
Мне сшили — спасибо дяде Теодорико — новые платья, все из гренадина со вставками алого шелка. Я в них такая красивая! Так что я позволила себе прокатиться с Аленом в Версаль на могилу Людовика XIV. О, какие там залы, приемные, будуары! Но ни следа уборных: говорят, Мария Антуанетта и прочие делали это прямо на пол. Что, это правда? Потом мы взяли фиакр и перекусили посреди Боскета Аполлона: прелесть, да и только! И ужинали мы тоже на воздухе, с канделябрами на столе. Ален очень деликатен со мной, но когда он отвозил меня обратно, то сделал не слишком приличный жест. Представь себе, он… Но в этом ведь нет ничего плохого? Я поклялась больше с ним не встречаться. Но от судьбы не уйдешь. Сейчас он взял отпуск, и мы решили вместе съездить в Швейцарию. Завтра мы уезжаем. Интересно, пустится ли Кавако по нашим следам.
Счастливо,
Билота».
Дом Да Маты
«Польские крестьяне устраивали оргии с проститутками и животными, сами при этом оставаясь наблюдателями. Конечно, кое-кто при этом мастурбировал. Животных возбуждали до предела, а проституток привязывали к их брюху в нужной позе. Не всегда женщина способна выдержать вес животного, к примеру, жеребца, но вообще это задача выполнимая. Часто женщина не испытывала никакого удовольствия, а только невыносимую боль.
Крестьяне, почти всегда пьяные, катались от хохота и заключали пари. На члене животного оставляли метки, чтобы видеть, на какую глубину ему удалось проникнуть».
Анжелика прервала рассказ Алвина, вскрикнув от ужаса, и потрогала орудие коня: «Смотри, какой огромный!» Алвин: «Ложись под него, моя полячка». Конь заржал и повернулся, положив задние ноги на кровать. «Он сейчас кончит!» — испугалась Анжелика. Алвин повалился на ковер. Жеребец, тяжело дыша, извергся на покрывало с вышитым гербом — так, что можно было заполнить до краев глубокую тарелку. Алвин, потеряв голову, набросился на Анжелику и покрыл ее грубо, по-звериному. После чего она кротко произнесла: «Из меня хорошая полячка, да?»
Лагерь
Котрин: Что значит «оставить свое прошлое»?
Билл: Ваши горожане привыкли жить прошлым. Книги по философии, религии, политике. Позитивизм, марксизм, католицизм, трабальизм и прочие измы. Чувствуете, что все это — в прошлом? Концентрированное знание, испорченная мысль. Они живут не тем, что есть, а тем, что было.
Котрин: Но как можно не считаться с прошлым? Как республиканцу остаться республиканцем, не считаясь с республиканскими идеями?
Билл: Это связано с идеей свободы. Если тебя не принуждают быть кем-то, ты вряд ли будешь знать, кто ты такой. Никто не ждет, что ты станешь поступать как националист, марксист или католик, ведь ты не приверженец ни одной из этих доктрин. Ты свободен. Улавливаешь? Ты решаешь сам за себя — именно то, что тебе нужно решить. Если внутренний голос говорит «Нет», ты говоришь «Нет». Если твое желание подсказывает: «Да», ты говоришь «Да».
Дорога
Да Мата придерживает лошадь, оказываясь бок о бок со своим слугой.
Да Мата: Лусио, друг мой, ты слышал, что говорят люди?
Негр (качает головой): Нет, сеньор, ничего не слышал, нет.
Да Мата: Ты же не глухой. Слышал, конечно. И лучше меня. Мы всю жизнь все слышим вместе, так ведь, Лусио?
Негр смотрит прямо перед собой. «Он не может меня упрекать за то, что я стал ни к чему не годным. Упрекать за то, что я стал старым и бессильным».
Барон смеется. Молчание.
Да Мата: Ты считаешь, это очень плохо для богатого и дряхлого барона — оказаться в таком положении? Эй, Лусио, что, по-твоему, мне делать?
Негр не знает. Он знает, что лучше быть нищим дурачком, просящим милостыню, чем оказаться в таком положении. Он искоса смотрит на барона. Тот перестает смеяться, лицо его корчится в темноте.
Да Мата: Остановись и возьми поводья моего коня. Мне надо по-большому.
Комиссия
Солдат: Читали газету, доктор?
Миллер: Не говори мне про газеты, Осирес.
Солдат: Они требуют посадить в тюрьму какого-то Билла.
Миллер: Так поезжай и арестуй его.
Солдат: Но у нас нет никаких улик, доктор.
Миллер: Зачем улики? Ты ведь читал уже газету.
Республиканский клуб
Барселос и Даунт, стоя в дверях, видят, как группа негров беспорядочно шатается по площади. У них нет работы или желания работать, и они живут за счет милосердия ближних. Для Даунта это невыносимо. Барселос замечает, что только в Бразилии таких около миллиона. Еще столетие или больше для стольких человек не найдется работы.
Даунт: Ведь у них к тому же народятся дети.
Бар
Перейра заходит в туалет, расстегивает штаны, глядит вниз, мочится. Выпускает газы.
Символизм, психологизм… — этот тип выведет из себя кого угодно.
Замечание доктора Канастры на полях: «Зачем такая злобная карикатура на Перейру? А кроме того, откуда вам все это известно? Вы что, вошли вместе с ним? Возмутительно!»
Ниже — моя приписка карандашом: «Канастра, пошел в задницу!»
Страсбург
«Сестра!
Пишу, сидя в Восточном экспрессе. Мы проглотили целую коробку конфет „Гуашь“. Объедение! Я сегодня узнала, что Ален на три года моложе меня. Но в этом ведь нет ничего плохого? Вот откуда его розовые щеки: он краснеет из-за каждого пустяка. Но когда молчит, то выглядит, как заправский злодей. Представляешь, он тайком заказал номер в гостинице по телеграфу. Оказывается, мы будем жить в одном номере, с видом на Блауфолькенгассе. Но в этом ведь нет ничего плохого?
Билота
P. S. Пока вы гибнете от желтой лихорадки, Париж готовится вспыхнуть электрическими огнями. У меня тоже лихорадка, только любовная».
Дом Да Маты
Люк в винный погреб в полу коридора: железный замок, охватывающий две посеребренные дужки. Они спускаются по простой деревянной лестнице в поисках какой-нибудь провизии и со смехом теряются в закоулках погреба. Тепло, повсюду лежат тени. Жидкий свет проникает лишь через крошечное слуховое окно, выходящее в сад: он зеленого цвета, с оттенками белого и желтого. Когда он дробится на части, рассеиваясь по стенам, по днищам бочек с вином и пивом, проходя через ромбики оконной занавески, то напоминает стайку девиц легкого поведения, вспугнутых епископом.
Лагерь
Котрин: Понял. Кажется, вы — из тех, кто зовется пацифистами.
Билл: Нет, я не пацифист. За последние пять тысяч лет люди развязали примерно пятнадцать тысяч войн. И еще пятнадцать тысяч состоятся за куда меньший промежуток времени. Не забывай, что учение Мальтуса скоро восторжествует лет на двести. А наши людские муравейники напитаны насилием, ненавистью и страхом. Ни одному пацифисту пока не удалось предотвратить ни одной войны.
Котрин: А какова причина войн? Человеческая природа?
Билл: Старый вопрос, брат мой. Но я дам на него новый ответ. Причина войн — в нетерпении, алчности и существующих религиях.
Котрин: А хорошая политика и хорошая религия разве не ведут к миру?
Билл: Ни в коем случае. Эти бредни благоприятствуют идеям ненасилия. Как можно сражаться с насилием при помощи ненасилия? Я не люблю драки, но держу свое ружье наготове. Когда я слышу толки о пацифизме, то берусь за него. Когда не станет ни политики, ни религии, может, тогда насилие исчезнет или его смогут обуздать. Но прежде чем такое случится, полетят короны, многие народы будут истреблены, и целые государства исчезнут с карты.
Редакция
Барселос зажег сигару, вставил ее в правый угол рта и начал писать:
«Странные времена! Смерть сопутствует плотскому греху и даже благоприятствует ему».
Тут он прервался, покачал головой. «Это никуда не годится, это детский лепет. Какую смерть я имею в виду? И что, я когда-нибудь верил в плотский грех?» Он зачеркнул, взял другой листок, начал заново:
«Удивительные времена! Смерть, посещая столько очагов, парализует и даже умерщвляет нравственность».
Барселос перечитал вновь, по-прежнему недовольный. «Черт, я удаляюсь от темы. Это все Зила с ее ромом, не иначе. Если не удается сразу перейти к сути, лучше сменить мотив». Он зачеркнул и это.
«Необычайные времена! Мы наблюдаем не только смерть людей от заразы, но и смерть нравственности».
И Барселос прибавил: «в постели баронессы Да Мата». Затем, пораженный, остановился, поймав себя на том, что повторяется. Где-то он уже такое писал. Он зачеркнул снова и принялся яростно дымить в потолок. Потом, чуть отойдя, написал на одном дыхании длинную, головоломную статью об отношении политиков из кафе к Святой Неделе и об упадке праздника Святой Недели из-за упадка самой сахарной отрасли.
Комиссия
Все еще взволнованный и смущенный, со следами усталости на лице по причине бессонной ночи, фонарщик по имени Жозе ду Эжито рассказал новому главному медику следующее:
* он проходил по улице Бон Жезус около половины седьмого, зажигая газовые фонари, и когда в его поле зрения попала часть баронского сада, он заметил, что на одной из нижних веток мангового дерева происходит нечто необычное;
* несмотря на плохую видимость из-за позднего времени и дефект зрения, приобретенный еще в детстве, он смог разглядеть, что на дереве сидели два человеческих существа, совершенно голые;
* услышав смех обоих и приглядевшись, он обнаружил, что это были не кто иные, как сеньора баронесса и врач, следящий за ее здоровьем;
* чтó именно они делали на дереве, выяснить не представлялось возможным, однако ветка качалась, словно налетела буря, и оба рисковали упасть в любую секунду;
* в какой-то момент, очевидно, заметив его, они спрятались в листве и долгое время хранили полное молчание, дабы не обнаруживать своего присутствия;
* после четверти часа ожидания он, Жозе, устав стоять, удалился в задумчивом и даже в угнетенном настроении, и направился домой, будучи потрясен до такой степени, что оставил без освещения три с половиной улицы;
* поэтому он был призван к порядку своим начальником, едва не потеряв работу;
* а чтобы не потерять ее, он счел должным обратиться к комиссии, что не входило в его планы, так как по роду занятий ему приходится видеть многое, и если обо всем рассказывать…
Республиканский клуб
Падре Менделл рассуждал скептически: если даже установят республику, это не будет означать общественного переустройства. Барселос оптимистически полагал, что в новом веке появится развитое гражданское общество, способное породить крепкую власть и сильную армию. Перейра выступал за правление военных.
Перейра: Знаете что? Только военные способны вдохнуть жизнь в нашу банановую республику.
Менделл: В таком случае я предпочитаю монархию. Даже нежизнеспособную.
Перейра: Это из-за недостаточного знакомства с историей. Нас ждет столетие покоя. Военные, когда хотят, могут уважать штатских. А штатские не уважают даже самих себя.
Менделл: Идиотизм.
Перейра: Значит, я идиот? Вы так сказали?
Менделл: Ну, если вы предпочитаете вылизывать армейские сапоги, я не могу быть о вас иного мнения.
Перейра: Вы меня оскорбляете.
Менделл: Вы правы. Я вас оскорбляю.
Барселос: Спокойно, господа. Революция еще не свершилась. Общество наше здоровее, чем о нем думают. Посмотрите на Руя Барбозу.
Бордель
Буйство воображения? Мадам Зила любила, когда в ней признавали наличие воображения, но не любила буйства. Нет, ничего подобного, господин член комиссии. И кроме того, как конкурировать с параллельным рынком и вернуть заведению утраченный престиж?
Новый член врачебной комиссии рассмеялся. Нет, он никогда не станет, подобно Миллеру, изображать сотрудника полиции нравов.
Врач: Но к нам поступили жалобы, мадам. Понимаете? Произошло нечто, выходящее за рамки.
Зила: Жалобы от кого? От моих девушек я не слышала.
Врач: Откуда вы знаете? Есть грешники закоренелые и грешники раскаявшиеся. И потом, вы командуете девицами, как полковник вверенным ему полком. Это не всем по душе. Так или иначе, я оставляю за собой право не называть имен.
Зила: Они ведь знали правила, грязные сучки. Их ни к чему не принуждали. Послушайте, господин член комиссии, я крупно вложилась в это дело. Перестройка здания, четыре новые девушки из Рио. Сервис первого класса, вы не находите? Такого нет ни в Сан-Паулу, ни даже в Париже.
Четверо упомянутых мадам Зила созданий ввели в моду оральный и анальный секс, а также другие подзабытые с древности приемы, к которым городской обыватель быстро привык.
Член комиссии курил, не переставая смеяться. Барселос не отрывал от него иронического взгляда. Прежде чем разрешить (и даже поощрить) эти новшества, мадам Зила ввела некие правила — примерно те же, что при игре в фанты, только с еще более неизбежными последствиями и полнейшим подчинением. Барселос считал, что тем самым она воскрешала групповые сношения, не практиковавшиеся с римских времен. Новый член комиссии — читал ли он «Сатирикон»? Нет, признался тот; но ему нетрудно представить, как там все обстояло.
Берлин
«Сестричка!
Три дня в Страсбурге: незабываемо! Но двинемся дальше: я сейчас в Потсдаме, недалеко от Большого дворца и Сан-Суси. Не понимаю, отчего столько народу толпится в комнате Вольтера, если гробница Фридриха-Вильгельма — зрелище куда более эффектное. Я утомилась так, что едва не свалилась на кровать — королевскую, разумеется. Ален не желает ничего слышать о дворцах, предпочитая им наш номер. Я вся просто измучена от такого пыла — и речь не только о теле! По-моему, меня пора помещать в клинику.
Билота
P. S. Мы долго смеялись над историей о вюртембергском короле, который носится с идеей, будто Луна обитаема. Он поместил на этот счет статью в газете. Король приказал сделать сотни снимков Луны и уверяет, что нашел точные доказательства существования там домов, по-видимому, заселенных. Разве такое возможно? Ах, мы никогда не узнаем.»
Дом Да Маты
Анжелика сидит в погребе напротив Алвина. В этом неярком, приглушенном свете к ней вернулось достоинство. Там, наверху, тусклый день, но здесь время будто остановилось. Алвин с интересом выслушивает три ее последние видения.
1. Анжелика идет по рынку Мадлен с подругой (Жулией Лопес де Альмейда). Там к ним привязывается молодой человек, сын герцога (по крайней мере, он так уверяет). Прекрасно образованный. Они погружаются в цветочные клумбы: лилии, цикламены, резеда. Когда всплывают, пейзаж вокруг стал другим: они в болотистой местности близ Виши, окруженные отвратительными свиньями и утками. Молодой человек оказывается рядом с Анжеликой, весь забрызганный грязью, и показывает ей колом стоящий член. С согласия подруги, он кладет Анжелику и берет ее. К ним приближается свинья.
2. Да Мата утром превращается в устрашающую капибару[5]. Анжелика достает дубинку и прибивает его. Затем несет его, поджаренного, Барселосу. Вокруг куски лосося, из заднего прохода торчит императорское знамя. Барселос вынимает знамя, берет в руки нож и вилку и начинает поедать барона сзади. Между тем Анжелика под столом отдается щенку.
3. Воображаемым вечером в воображаемой стране воображаемый кавалер, прежде чем улечься с Анжеликой, пускает к ней двух кур орпингтонской породы, чтобы те клевали ее соски. Две леггорнские похлопывают ее крыльями по копчику, а одна плимутская методично пощипывает нижние губы.
Лагерь
Котрин: Что нужно, чтобы стать свободным, поступать правильно и не испытывать страха?
Билл: Нужно не быть никем. Не быть человеком. Быть или не быть человеком — единственное, что важно. Если хочешь стать богом, то приготовься быть несчастливым. Быть несчастливым — быть бесчеловечным.
Котрин: Извините, но я не понимаю.
Билл: Чтобы понять, нужно хранить молчание. А все ведут себя, точно попугаи на птичьем рынке. Повторяют одно и то же, повторяют без остановки. Если бы все больше смотрели и меньше думали, возможно, понимания стало бы больше. Только молчащий ум может наблюдать и оценивать. Молчащий ум — это свободный ум. Хочешь гашиша?
Котрин: Гашиш учит молчать?
Билл: Я тебе скажу, что такое гашиш. Видишь эту жаровню? Между тобой и огнем нет ничего, кроме твоих мыслей об огне, да, огонь — он ласковый, светлый и приятный. Больше ничего. И все же нужно забыть это и самому стать огнем, убрать прочь время и пространство, расстояние между тобой и огнем. Ты — это вселенная, понимаешь? И существуешь, лишь когда не отделен от нее.
Бар
Зайдя выпить пива, ибо гора свидетельских показаний пробудила в нем жажду — «этому дерьмовому миру настанет конец в 1899-м, или я не Эллой», — солдат Осирес рассказал следующее:
* фонарщик застал голыми под деревом авокадо, в откровенно неприличных позах, баронессу и доктора Алвина;
* оскорбленный и возмущенный их видом, фонарщик подошел к стене, окружающей усадьбу, и сделал им суровое предупреждение; однако те только посмеялись и направились к дому, приглашая фонарщика пойти с ними, на что он не согласился;
* так как они настаивали, а Жозе не соглашался (ссылаясь на страх перед Господом и утверждая, что согласился бы скорее на потерю глаза, чем на столь постыдное падение), то оба начали отпускать насмешки и непристойности в адрес фонарщика, а затем предались разврату под авокадным деревом;
* после чего влезли на нижнюю ветку и сидели там до полной темноты, раскачиваясь на дереве.
Бордель
Барселос: Духу нравится дисциплина, телу — беспорядок. Мадам Зила изучила психологию желания, доктор.
Новый член комиссии прыснул от смеха.
Он вообразил мадам, командующую войском, заставляющую упражнять мускулы: кругом, налево, направо, стой, раз-два, раз-два, раз-два.
Люцерн
«Анжи!
Я рыдала, сидя на берегу Озера четырех кантонов. Не из-за озера, а из-за себя: я совсем истощена. Ален уверяет, что главное — не останавливаться, что надо закончить начатое. Он все еще расхваливает пуловер, который купил мне в Шафхаузене, и не говорит ни о чем больше. Завтра мы возвращаемся в Париж через Монтре.
Счастливо, Билота».
Дом Да Маты
Алвин: Фантазия номер два мне не понравилась. При чем тут Барселос?
Анжелика: А при чем тут капибара? Или почему знамя воткнуто в зад, а не в пупок?
Алвин: Да, но почему Барселос начинает с зада? И почему ты отдаешься щенку?
Анжелика: Фантазия есть фантазия.
Алвин: Так, но фантазии выдумываешь ты. Это ведь не сны.
Анжелика: Моя мысль бродит сама по себе. Я здесь и везде одновременно. Это чудесно.
Алвин: Особенно орпингтонские куры.
Анжелика: Мне больше нравятся плимутские. У них клевки злее.
Алвин: Давай спустимся. Здесь жарко.
Анжелика: Это я горячая. Иди же скорей ко мне.
Необходимое примечание: здесь начинаются наши серьезные расхождения с хронистом. На его взгляд, Анжелика, хрупкий цветок рио-де-жанейрской гимназии, могла предаваться разврату, но до известных пределов. Например, она никогда бы не произнесла слова «задница». Ж. Б. Канистар ошибается. Есть твердые доказательства (можно даже сказать: доказательства по Фрейду) того, что утонченное благородство прекрасно сочетается со скатологическими темами. Но в любом случае, это не имеет значения. Как говорил Монтень, даже забравшись на высочайший в мире трон, все равно сидишь на собственном заду.
Лагерь
Мысли, идеи, аксиомы Мастера Билла, в просторечии Буффало, сказанные по разным случаям и собранные воедино Луишем Игнасиу Котрином, коммерсантом и репортером.
О наблюдателе. Наблюдатель — тот, кого наблюдают. Можно ли что-нибудь понять, если наблюдать глазами совести, глазами прошлого? Наблюдают лишь тогда, когда ум остановлен. В противном случае это все равно что смотреться в зеркало.
О прошлом. Можно уничтожить прошлое, освободившись от него. Если собираешься предаваться удовольствию без упреков совести и без боли, прошлое должно исчезнуть. Удовольствию глядеть на цветок, например. Смотреть на него, вооружившись всем предшествующим запасом знаний о цветах, — значит убить удовольствие. Если похоронить эти знания, удовольствие предстанет в новом свете и в первозданной чистоте.
О дисциплине. Глупо говорить: я должен научить себя любви, ненасилию и прочему. В этом и есть подлинное насилие. Мы не созданы для дисциплины. Животное начало в нас требует другого.
Об отечестве. Знамена, гимны, национализм. Можно ли изобрести большее оскорбление для людского разума? Если подумать об этом серьезно, то уже невозможно быть бразильцем или аргентинцем, русским или поляком. Надо признать, что мало кто серьезно интересуется этой областью истины: для этого человек должен оставаться наедине с собой, вне всяческих групп.
Об истине. Найти правду можно, только если не искать. Любое усилие в этом направлении отдаляет истину: действие есть рассеяние, раздробление жизни. Истина, если она существует, может быть познана только через тончайшее созерцание сущего. А для этого достаточно вслушиваться.
Об удовольствии. Удовольствие — это действие во всей его полноте, возможное только благодаря полноте внимания. Предаваясь удовольствию, надо отказаться от всего другого: анализа, вопросов, размышлений. Если размышлять и спрашивать, растрачиваешь всю энергию. А без энергии действие нельзя считать законченным.
Республиканский клуб
Вот что можно было услышать тем вечером под звучные удары кия:
* фонарщик Жозе ду Эжито застал парочку, предающуюся разврату, под деревом жамбейру, в самый горячий момент;
* заметив, что за ними наблюдают, те двое подползли к стене (не меняя позы) и предложили Жозе перелезть через ограду, на что тот немедленно согласился;
* оказавшись в саду, Жозе и доктор попеременно использовали баронессу, причем та проявила редкое искусство удовлетворять двух мужчин одновременно в разных позах;
* устав развлекаться под деревом, все трое залезли на ветви и с риском для жизни продолжили свои занятия там;
* солдат Осирес, проходя мимо, обнаружил их сидящими на дереве, в райских костюмах, о чем и сообщил.
Дом Да Маты
Счастье, что Барселос повредил в детстве левое ухо, — благодаря этому он не слышал смеха, что доносился из дома, утонувшего в потемках. Вот что он не увидел и не услышал:
а) скачки вверх-вниз, вверх-вниз, оба при этом накачались вином, голые, держали в руках зажженные свечи и хохотали, как сумасшедшие;
б) Алвин съехал по перилам и лег внизу, зажав в руке член, с криками: «Да здравствует Республика!»;
в) Анжелика исполняла Волленгаупта на фортепьяно, Алвин при этом ласкал ее клитор;
г) ржание на веранде, стук копыт в главную дверь (Алвин, подойдя к окну, увидел коня через занавеску и испугался);
д) громкость музыки нарастала, Алвин тем временем вместо пальцев стал использовать банан;
е) я тебя поимею, сказал он ей, очищая банан и съедая его;
ж) Алвин поставил ее на лестнице так, что розовый зад вздымался кверху, черный треугольник оказался почти весь сзади, а самая сочная часть посредине, и погрузился в нее.
Цирк
В разгар праздника, на котором обильно текло пиво — вот что Ла Табль считал «истинно бразильским праздником», — двое акробатов решили проявить чудеса креативности, скинув одежду и кувыркаясь в костюмах Адама. Для пущего интереса они в какой-то момент намеренно свалились и по-дурацки полетели в сетку. Смех в партере, восторженные аплодисменты шлюх. В довершение этого у обоих кое-что встало; акробаты вскочили на ноги, вытащили двух девиц и поволокли на арену. Те покорно подчинились, дав себя раздеть, и улегшись вместе с братьями на сетку, так что публике все было видно. Парочки сплетались воедино, кусали друг друга, совокуплялись, являя редкостное зрелище отличной пластики и высокого мастерства. Возбуждение в цирке достигло предела, когда одна из девиц, постанывавшая под тяжестью горы мускулов, вытянулась и кончила, не скрывая величайшего наслаждения. Запах секса, как известно, заразителен. Все полезли на сетку, кто уже голый, кто раздеваясь по дороге, и вскоре она опасно прогнулась под весом стольких тел. «Кто здесь кто?» — прорычал взбешенный Ла Табль, полезший разбираться, куда же делась Жанна.
Дом Да Маты
з) погружается и выходит наружу, погружается и выходит, при четвертом погружении Анжелика опирается на перила, перегибается и впускает Алвина в зад.
Редакция
Барселос: Надеюсь, ты не думаешь, что я это опубликую?
Котрин: Воля ваша, шеф. Делайте с этим, что хотите. Человек — это загадка.
Барселос: Загадка, да? Пять часов убито. А вышло полное дерьмо.
Котрин: Делайте с этим, что хотите. А вообще чего вы хотите, шеф?
Барселос: Чего я хочу? Я посылаю тебя к конокраду и получаю анархистский манифест. Садись и пиши нормальную заметку. Одну чертову заметку про конокрада. Что непонятно?
Котрин безнадежно глядит в окно. На подоконнике — ласточкино гнездо.
Дорога
Километрах в пяти от Кампинаса барон пожелал омочить ноги в реке Капибари. Лусио испытывал почтение и насмешку одновременно: можно ведь и погибнуть, заразившись от воды, почти стоячей, — настолько мелкой была речка. Барон был на этот раз побрит. Вид голого барона, с опаской вступающего в холодную воду — омыть свои струпья — был зрелищем настолько тягостным, что Лусио отвернулся. Мимо пролетела, галдя, стайка зеленых попугайчиков. Барон повернулся к негру и приказал принести хлыст. Затем начал хлестать себя, но не больно. Все это напоминало игру. Закрыв глаза и скривив губы, барон попробовал наконец ударить посильнее, но у него не получилось: не хватало размаха. Тогда он обратился к Лусио, чтобы тот взялся за дело. И — о такой сцене двести лет мечтали миллионы негров — Лусио нанес барону десять звучных ударов. Избитый старик заплакал и обнял древесный ствол.
Дом Да Маты
Два оленя перепрыгивают через ручей, убегая от собаки провансальца. Тот, с луком и стрелами, спешит следом. На собачьей голове — сколы фарфора. Алвин, взвесив вещицу в руке, подносит ее к глазам.
Алвин: А старик капризный.
Анжелика: Ревнивый. Не надо было сюда входить.
Алвин: Зачем ему библиотека? Ты же говорила, что он ненавидит книги.
Анжелика: Но обожает всякую писанину. Ему нравится, когда все сохраняется на бумаге. Смотри, вот его дневник.
Алвин: Дай взглянуть.
Он открывает наугад и читает: «2 мая 1888. Завтракал хорошо, сделал 1200 шагов по веранде». Чуть подальше: «4 мая 1888. Завтракал просто отлично; гулял по саду; 2100 шагов». Через две страницы: «После ужина баронесса уткнулась в книгу; воспользовался этим и сделал еще 1600 шагов; 3500 в день — наполеоновская победа!». Алвин, заинтригованный, медленно пролистал тетрадь и обнаружил в ней только это: шаги, шаги и еще раз шаги. Если бы барон ходил по прямой, то уже обогнул бы всю землю. Вот идиот!
Анжелика (смеясь): Прелестно, правда?
Алвин (обхватывая ее за бедра): Знаешь что? Твой старик заслужил все, что мы ему уже сделали, делаем сейчас и еще только собираемся делать.
Лагерь
Котрин с поникшей головой крадется вдоль бараков, стараясь не шуметь. Он знает, что за ним наблюдают. Если в него засадят пулю, может, это и успокоит его больную совесть. Когда Билл в темноте приглашает его сесть, Котрин колеблется. Билл выглядит спокойным, посасывает трубку. В ней гашиш. Прежде чем Котрин приступает к оправданиям (шеф, заметка, давление сверху), Билл шумно вздыхает и говорит: ничего страшного. «Ничего страшного, и не надо терять из-за этого уважение к себе». Самое большее — охране лагеря придется усилить бдительность. Это пустяки по сравнению с дружбой — дружбой Котрина. Хочешь гашиша?
Дом Да Маты
Темная, душная комната с деревянной лошадкой посредине. Запах старой кожи. На лошадке — четыре комплекта конской упряжи: ремни, стремена, седла, шпоры. Анжелика раскрывает объятия.
Анжелика: Это убежище барона, когда он в мрачном настроении.
Алвин: Вот как? А что же делает барона настолько мрачным, что он ищет убежища в таком жутком месте?
Анжелика: Политика. Разговоры в кафе. Старость. Тогда он проводит здесь часы, иногда целые дни: одевает на лошадку упряжь и садится в седло. Снимает с себя одежду и скачет, словно это настоящий конь. Смешно, правда? Даже поесть не выходит. Время от времени зовет меня.
Алвин: Зачем?
Анжелика: Чтобы я похлестала его.
Алвин: О нет! Старик ко всему еще и мазохист?
Анжелика: Он говорит, что это полезно для кровообращения. Я бью сильно, но он просит еще сильнее. Я прохожусь по бокам, по ногам, по заду, а как-то раз хлестнула по лицу. После этого он обычно мастурбирует. Имей в виду, что я презираю его за это.
Париж
«АННА
ФАЛЬЯУБЕР НЕНАВИДИТ МЕНЯ ТЧК ТЕОДОРИКО НЕРВНЫЙ ПРИПАДОК ТЧК КАВАКО БОЛЕН ТЧК АЛЕН ТЮРЬМЕ ТЧК БИЛОТА»
Дом Да Маты
Пурезинья в гостиной ласкает подушку, пока в соседней комнате обсуждают, что с ней делать. Чтобы привлечь внимание, она громко кричит и хнычет: есть хочу! Алвин взывает к гуманизму Анжелики: «Разве ты не видишь, что ей негде спокойно умереть?»
Пурезинья выбрала сладкое. Когда-то она попробовала лимонного варенья. Алвин привел ее в кладовую, где лежали груды сластей на гигантских блюдах: зефир, печенье, сухофрукты, лимоны в сиропе. А наверху, на полках, еще и еще — запасы на год вперед.
Когда Пурезинья встала на цыпочки и потянулась к банке с вареньем, Алвин обхватил ее сзади и просунул руку в разрез плиссированной юбки.
Лагерь
Котрин крадется вдоль бараков с неспокойной совестью. Здесь царство Билла, думает он. Он теперь знает, что такое гашиш, и Бог свидетель, он на грани того, чтобы потерять уважение к себе. Наблюдатель — тот, кого наблюдают. Бесполезно глядеть на цветок, вооружившись знанием о нем. Мы не рождены для дисциплины, но нужно хранить молчание. Я гляжу на ту лошадь в темноте и понимаю смысл гашиша. Я — не пацифист, и это прекрасно. Только идиоты проповедуют ненасилие. Сколько народов необходимо стереть с лица земли? Все народы — как попугаи на базаре. Надо стать для себя целой вселенной, но прежде всего надо стать огнем. Для этого достаточно посмотреться в зеркало.
Имена
Перечислены имена основных персонажей, упомянутых на страницах хроники. Цифры после каждого имени означают номер главы (из первой части), к которой относится данный эпизод.
Алвин11
Справочник Леммерта за 1887 год на странице, отведенной выпускникам Медицинской школы в Рио-де-Жанейро, вскользь упоминает Андре Луиса Алвина. Пресса заинтересовалась им только полвека спустя, после некролога в «Журнал ду Бразил». О том, что происходило между этими двумя датами, мы почти ничего не знаем, исключая данные хроники. Известно, что он имел практику в штате Минас-Жерайс, — возможно, в Барбасене или Диамантине, — и вел жизнь, далекую от публичной. Умер он в больнице Катете, бедным и одиноким. Алвин никогда не был женат и под конец жизни сожалел об этом.
Да Mama4
Он гордился тем, что происходил из рода бразильских сепаратистов, но это не так. Маркиз Винченца, который, в сущности, настоящим сепаратистом не был, приходился ему седьмой водой на киселе. В политических кругах его ценили, ибо маркиз являлся неиссякаемым источником портвейна и мяса с собственной скотобойни. Собутыльников он заставлял выслушивать воспоминания о парижских годах, когда он пил джин пополам с вином. Маркиз действительно прослушал курс права во Франции, но это не оказало на него никакого долговременного воздействия. Вернувшись из Парижа на свою фазенду, он за год сделался заправским плантатором.
Анжелика3
Сохранился словесный портрет Анжелики, датированный 1886 годом, приписываемый ее весьма наблюдательной компаньонке — писательнице Жулии Лопес де Алмейда:
«Тонкие губы превосходно сочетаются с плавными очертаниями лица, озаренного сиянием зеленых глаз; зубы небольшие и ровные. Голова изящна, словно сидящая голубка; от этого — общий вид невинной жертвы судьбы, что, возможно, только добавляет ей очарования. Лицо грустное и выразительное. Говорит робко, хотя и откровенно, смеется нехотя, но замечательным серебристым смехом. Облик скрытный, сумеречный, эти черты еще усугубляются тяготами брака по расчету. Она проводит много времени в часовне; читает по-французски, не признавая местного языка. У нее собрано немало всякой всячины: марки, стихи, безделушки, шарады, партитуры, оперные либретто. Но я думаю, что после замужества, оставившего на ее лице следы разочарования и страха постареть, так и не познав любви, она все больше внимания уделяет не коллекциям, а личному дневнику. Несчастная баронесса. Несчастный барон».
Отец Менделл14
На следующий день после помолвки Билоты, когда баронесса танцевала с Барселосом (а этот танец, как мы знаем, был лишь слабым предвестием того, что случится впоследствии), Анжелике захотелось исповедаться. Кокетство, раскаяние? Скорее первое, чем второе. Так или иначе, она отправилась к Менделлу, который выслушал грешницу с простотой естествоиспытателя. При этом он не прекращал возиться со своим аппаратом по передаче звуков. Менделл отпустил ей прегрешение в счет трех молитв Богородице, но был преисполнен решимости получить дань с Барселоса. Тот, выждав, пока Анжелика покинет дом священника, вошел и принялся атаковать его вопросами: достопочтенный Менделл, не очень-то красиво принимать замужних дам при свете дня, на глазах у всех. Ревность? Менделл погрозил ему кулаком, натянуто засмеявшись.
Золя6
Видный французский инвентаризатор XIX века.
Лусио9
Вот что случилось на помолвке Билоты.
Спрятавшись в кустах, Лусио видел, как двое выскочили из освещенного зала. Кажется, никто больше этого не заметил. Они спустились по лестнице на веранду и оставались там продолжительное время, пока наверху затягивали «Синюю бороду», а Да Мата вслед за этим пытался напеть «Герцогиню Герольштейн». Чтобы лучше все видеть, Лусио был вынужден переменить позу. Этого не удалось сделать беззвучно, но те были не в состоянии что-нибудь услышать. Лусио показалось, что Барселос просунул руку ей под юбки — и тут он совершенно определенно увидел член, взметнувшийся, подобно пружине. Баронесса вела себя робко, но подлец властно распоряжался ею, добиваясь покорности. То ли юбок было много, то ли место не располагало к размашистым движениям, но все произошло не так, как задумывалось. Поэтому до того момента, когда кое-кто наверху вышел из зала проветриться, последовали только поцелуи украдкой и прикосновения. Ничего больше. Барселос поднялся первым и, будучи в отличной форме, вошел в зал, напевая «Корневильские колокола».
Билота57
Албина Оливарес — единственная сестра Анжелики — младше ее на три года, самый близкий ей человек. Во время лихорадки она была помолвлена с неким сан-паульским денди, чье имя нам неизвестно. Мы знаем лишь, что на помолвке он напился, а кроме того, приставал к мужчинам, не исключая и Да Маты. Барон все же торопил с женитьбой, желая сплавить Албину с рук. Он выписал приданое из Парижа (легенда гласит, что потраченных денег хватило бы на сорок невест):
15 разноцветных гладких юбок
3 юбки с оборками из тонкого хлопка
3 юбки с оборками, вышитыми по краям
3 юбки с оборками
4 круглые плиссированные юбки
4 юбки со шлейфом
3 юбки со шлейфом и с оборками
6 круглых юбок с оборками
6 пар туфель из белого и голубого бархата
3 пары лаковых туфель.
К сожалению, свадьба не состоялась, и Албина умерла в статусе старой девы в 1918 году, хотя и делила ложе с немалым числом сахарных, кофейных, стальных и прочих королей. В сорок лет, когда ноги ее все еще были безупречны, на Албину упал кирпич со строительных лесов. Она скончалась на месте.
Хозяин гостиницы11
Он был свидетелем случая, значение которого оценил лишь впоследствии. Приехав из Рио, доктор Алвин поселился в соседней гостинице «Униан» и принимал там клиентов: мелкие торговцы, гостиничные служащие — обычная публика для начинающего врача. Но в субботу на прием к Алвину явилась не кто иная, как супруга барона Да Маты. Больной она не выглядела. Потом она приходила еще три-четыре раза, оставалась недолго, но вид после этого у нее был намного более довольный.
Всадник25
Почему он появился в фантазиях Анжелики? Все просто. Этот господин дурного нрава и с ужасающей репутацией возник перед баронессой прямо посреди собора и сунул ей в руку записку. То было послание Барселос — на грани бреда, ибо тем утром он напился в борделе, громко повторяя имя Анжелики каждому встречному-поперечному. Записка дерзко сочетала имя Христа с названием известной каждому женской эрогенной зоны, которая накануне, под лестницей, оказалась у Анжелики на редкость чувствительной.
Пурезинья127
Он повел ее наверх, в комнату, держа в руках круглую банку лимонного варенья. Приказал снять платье — правда, перед этим они успели договориться о цене. Он предложил в три раза больше, чем просила она, так как собирался потребовать от нее в три раза больше того, что она обычно делала. Тело ее было великолепным, и Алвин сделал ей комплимент. Пурезинья ограничилась профессиональной улыбкой. Тем лучше, подумал он.
Затем спустился за Анжеликой и нашел ее в гостиной с бокалом в руке: она пила, чтобы утихомирить мысли. Поэтому сопротивления она не оказала, но психологически явно не была готова к тому, что последовало. В комнате повисло некоторое напряжение, когда голая Пурезинья подошла к Анжелике и осторожно просунула руку ей под платье, введя мизинец между влажными складками плоти. Проститутку было не смутить: ей заплатили именно за это, она это и делала. Анжелика и бровью не повела. Алвин пошел в уборную, а вернувшись, обнаружил обеих женщин на кровати, сплетенных в объятии. Он склонился над проституткой и принялся вымазывать ее вареньем с головы до ног. Потом заставил Анжелику лизать, а сам, подбираясь то к одной, то к другой, овладевал ими в разных позах. Сильный запах варенья смешивался с ароматом табака.
Карлос Гомес136
Антонио Карлос Гомес, или «Тонико», когда ему было тридцать шесть, убедил директора JIa-Скала поставить свою оперу «Гуарани». До того он был безвестным выпускником консерватории, и судьба его брака с прекрасной Аделиной из Болоньи зависела от кассового сбора. В день премьеры по всему городу висели афиши в рост человека, а сам Тонико спокойно ужинал в отеле «Биссони» и чокался с друзьями, щедро раздавая сигары с виргинским табаком. Спектакль был назначен на восемь, но уже в шесть театр осаждала толпа жаждущих добыть билет.
В зале яблоку негде было упасть, когда зазвучала музыка, поднялся занавес и на сцену выпорхнул хор охотников. Волна рукоплесканий прокатилась по галерке, ложам и партеру. Потом она не раз возвращалась во время хоровых и сольных партий.
Тонико вдруг испытал страх: никто еще не прибежал к нему с поздравлениями. Итальянцы, завзятые театралы, любят поступать нелогично, и в тот вечер все именно так и было. Выпивший Тонико выскочил на улицу, вбежал в театр и замер: грянули финальные аккорды, а за ними — буря оваций, похожая на шум паровой молотилки. Тишина, снова овации. Стали вызывать автора, искать его в ложах и партере. Тут Тонико побежал по какому-то грязному закоулку и наконец увидел уличные фонари.
Посыпал мелкий дождик. Тонико поднял ворот плаща и решил укрыться под каким-нибудь портиком, следуя инстинкту самосохранения: он легко простужался. Но вместо этого зажег сигару и сунул руки в карманы. Его охватило необъяснимое, бессмысленное чувство облегчения. Переходя канал по небольшому мостику (что еще за каналы в Милане?..), он подумал, что был в этой части города, с мрачными и совсем узкими улочками, всего два-три раза, да и то давно. Но освещение здесь было даже лучше, и, несмотря на поздний час, какие-то люди шли по мокрым тротуарам. У стены с анонсом премьеры мочился, задрав лапу, щенок. Утомленный, Тонико остановился у ящика с какими-то тюками; оказалось, он едва не забрел внутрь склада, откуда пахло мокрыми опилками.
У входа было темно, но в конце здание ярко освещалось, в промежутке тянулись тени. Может быть, Тонико привлек запах опилок, напомнивший ему Кампинас; он двинулся вперед и очутился под превосходным старинным сводом из кирпича, опиравшимся на колонны. Удивительно, но это оказался навес, лишенный стен, а огни вдалеке были уличными фонарями по ту сторону канала. Перед каналом — даже перед улицей, шедшей параллельно ему, простирался дворик, где происходил некий бал-маскарад под звуки духовых. Тонико поспешил туда; на выходе ему показалось, что он только сейчас услышал эти громкие звуки.
Танцующие, похоже, не заметили его, даже когда Тонико вклинился в толпу. Ему хотелось узнать, что это за праздник. «Ма che festa?»[6] — спросил он. Никто не ответил. Некоторые из женщин, выряженных полишинелями, поглядели на Тонико с любопытством, но быстро утратили к нему интерес. Их больше занимали попрошайки, что двигались на цыпочках, делая глубокие поклоны и прыжки. Тонико засмеялся вместе со всеми, и тут его кто-то тронул за плечо. Это была женщина-полишинель, весьма соблазнительная.
— Dimmi, amore: cosa с’è dietro questa maschera?[7]
— Quale maschera? Non sono masherano[8], — ответил Тонико.
— Non mi dire! Sono sicura che tu sei il Conte. Non sei il Conte?[9]
— No, non sono il Conte[10].
Маска задумалась на мгновение.
— Beh, non importa. Conte о no, mi puoi pagare un caffè?[11]
Тонико улыбнулся: да, конечно. Они пошли на поиски кафе, но те уже закрылись. Тогда женщина сказала, что можно устроить кое-что получше. Тонико объяснил про Аделину. Маска разразилась хохотом — таким бурным, что ей пришлось сесть на тротуар. Иначе, по ее словам, она обмочила бы свой костюм.
А он иностранец, это сразу видно. Турок? Серб? Румын? Тонико сделал паузу и сказал: уругваец. Женщина возвела к небу прекрасные туманные глаза, точно услышала нечто шокирующее. «Так бы и сказал, что негр». Возмущенная, она встала и повернулась к Тонико спиной.
Да Mama3
Он отправлялся в Ламбари для покупки скота и по дороге остановился напоить лошадей. Воздух потрескивал от сухости; откуда-то из тени возникла девушка с прозрачным смехом и лицом святой. Чистая, ледяная колодезная вода, поданная ею в эмалированном ведре, укрепила в Да Мате ощущение непоправимого контраста. Он, с окаменевшими от однообразной жизни чувствами, подобный пустыне, встретил на своем пути оазис, маленький зеленый оазис. Он был высохшим стариком шестидесяти двух лет, но совершенно не думал об этом, разговаривая с отцом девушки. И кроме того, Да Мата верил в то, что новый корм может помочь пищеварению старого коня, как он сообщил судье в день свадьбы. Увы, на практике это не подтвердилось. В первую ночь (и во вторую, и в третью, и во все прочие) его железы отказывались работать нормально, невзирая на ослепительное зрелище упругого, юного, гибкого тела. По мере того как формы этого тела приобретали все более дивные очертания — девушка превращалась в женщину, желающую мужчину, повелителя, — Да Мата в безнадежности перепробовал все доступные средства: рукоять хлыста, банан, язык, пальцы рук. Он сделался истинным волшебником по этой части с молчаливого согласия (или неведения) жены, чье пламя еще только предстояло разжечь. Затем начался новый акт представления: он хотел не только содомировать и издеваться, но и чтобы то же самое проделывали с ним. Запуганная, смущенная Анжелика соглашалась на все. Кто может сказать, что не все браки одинаковы? Вот несчастье. Все же она вошла во вкус: бананы и прочее были не так страшны, как казалось, а порка представала довольно-таки интересным занятием. Один раз во время этих бесчинств она даже кончила.
Жулиу Рибейру44
Ближайший родственник видного французского инвентаризатора XIX века.
Алвин, мастер совокупления7
Для совокупления главное — не способность к неутомимой работе и не длина орудия, а терпение. В Алвине все эти три качества соединялись вместе, и потому ему были доступны глубокие и романтические чувства.
Достаточно сказать, что история завоевания Анжелики длилась год: продвижение медленное, но верное, и давшее блестящие результаты. В годичной разлуке Алвин вел умелую игру, и даже долгое молчание его, наступавшее временами, было плодом тщательного расчета. Вернувшись в Кампинас как член санитарной комиссии — хотя и не верил в ее способность сделать что-либо — он предстал перед Анжеликой признанным врачом, который возвратился из долгого путешествия и жаждет отдыха. Дом приобрел вид отдаленной дорожной гостиницы, благоприятствующей разным приключениям, — и приключения действительно начались. Он целовал ее не в губы, а в мочку уха. Трогал не за грудь, а за бедра. Относил не в постель, а на траву. Говорил не о сексе, а о путешествиях. Показывал не член, а кончик языка. Раздевал не сразу, а постепенно. Проникал в нее не целиком, а наполовину. И когда она вздыхала и клала голову ему на грудь, горячая, со вспухшими губами, то готова была отдать ему всю себя, с должным пылом. Потеряв над собой всякий контроль, она оказалась во власти некоего пугливого, исступленного счастья. Что с ней случилось? Алвин пытался подобрать спокойные, понятные слова, чтобы объяснить Анжелике ее преображение. И эти слова обещали, что рай будет найден и исследован. Благодарная Анжелика приближала к нему губы, влажные от желания, полная решимости и какого-то внутреннего веселья: она стала другой женщиной, и ей это нравилось.
Слуга58
Никаких сомнений: Алвин говорил о Лусио, единственном из освобожденных негров, кому позволялось ходить по дому. Он был кем-то вроде сторожевого пса и порой ночевал в комнате для гостей. Сдержанный и скрытный, но не дурак: у него были любовницы и дети. Он мог рассчитывать на снисходительность барона, смотревшего на похождения слуги сквозь пальцы. А негры — это негры, что уж тут. Принимая соляные ванны, Анжелика обычно звала его — потереть себе спинку.
Садовник112
Когда бесхозные кони появились в городе, пустившись на лужайки, в сады и огороды, садовник решил возвести укрепления вокруг вверенной ему территории. Но однажды он забыл запереть дверь в оранжерею, туда зашел белый конь и начал жевать гортензии. Садовник попытался прогнать его кнутом, но конь повернулся к нему мордой и встал на задние ноги. Казалось, он не только умеет думать, но и постоянно увеличивается в размерах. Иначе как он мог подняться по лестнице на веранду и постучать в дверь передними копытами? К сожалению, садовник имел привычку пить, и его высмеяли. Возможно, несправедливо, — другие садовники города рассказывали (или держали про себя) похожие случаи. Бывший раб барона Итапура в предсмертном бреду пытался отогнать от себя двенадцать коней, причем один из них, огненного цвета, был Иудой Искариотом.
Ж. Б. Канастра1
Несмотря на его выпады против меня и моего неизлечимого провинциализма, он — необходимое звено этой хроники. Он обеспечивает связь времен, он — единственный из наших современников, кто знал Луиса Алвина; я познакомился с ним в исключительно благоприятный момент, когда Канастра был готов рассказать все, что знал. Я не очень-то полагался на его память, однако думаю, что основу истории он помнил хорошо, к тому же образ Анжелики оживил его память. В конце 70-х мы с ним делили на двоих квартирку в Кампинасе, но почти не виделись: «мумия» (так его звали из-за возраста и высохшей кожи) работал по ночам — не знаю, где, — и возвращался домой через полчаса после моего ухода. Что он пользовался моими тетрадями, это ладно; проблема встала, когда в нескольких газетах он высмеял мои труды. (Я опубликовал тогда несколько заметок в разделе «Смесь», не обратившись к бесценному носителю исторических сведений.) К счастью, эти насмешки прошли незамеченными. Кроме того, он не платил за квартиру в срок, считая, что я — его должник из-за историй, которые он мне рассказывал. Когда я приходил, квартира была перевернута вверх дном: везде сигарный пепел, книги, газеты. Терпение мое окончательно лопнуло, когда он притащил своего брата, примерно в том же жанре, и тоже члена Кампинасской Литературной Академии. Я едва не спустил этого персонажа с лестницы.
Узнав, что Канастру задавили насмерть, я испытал известное облегчение, смешанное с горечью, но несильной. Переходя улицу, он выронил книгу, а когда пытался ее подобрать, был сбит фургоном. На похороны я не пошел.
Анжелика, самка122
«Он обошелся со мной как с самкой», — написала Анжелика и улыбнулась. Громадное расстояние между плаксивым тоном дневника («покрытая и униженная») и ее истинными чувствами говорило о таланте Анжелики к драматизации. Если чего не происходило, это следовало выдумать. Конечно же, она всячески способствовала тому, чтобы все происходило так, как оно происходило на самом деле. Во-первых, выйдя из ванной, Анжелика накинула лишь прозрачный пеньюар; во-вторых, она вышла на лестницу расчесать волосы перед зеркалом, зная, похоже, что Алвин в нетерпении; и в-третьих, она попыталась скрыться на четвереньках, когда Алвин прижал ее у перил. Так она выставляла напоказ розовую попку; Алвин пустился догонять, настиг ее на седьмом прыжке, схватил за плечи, — и пеньюар сполз наполовину. Анжелика содействовала Алвину и дальше, включая сцену, описанную в дневнике, когда он, ввинтившись в нее сзади, погнал ее наверх.
Алвин115
Отчетливые воспоминания о том приключении в гимназии всегда преследовали Алвина перед сном — так, что он не мог думать ни о чем больше:
Лицо Анжелики, повернутое в сторону стены с объявлением, полузакрытые глаза, говорившие о капитуляции тела, Алвин, работающий внутри нее, между тем как объявление грозило: «Санитарное состояние города внушает опасения».
Он вошел в нее сзади — Анжелика наклонилась над письменным столом, — белизна церковных стен за окном бросала отсвет на ее бедра, придавая им туманную, сонную нежность. И тогда в дверь постучали.
Анжелика, в юбке, задранной кверху, выпрямилась и укусила Алвина за ухо, словно желая сказать тому, за дверью: «Мы целуемся». Рот ее раскрылся, впуская воздух, в то время как Алвин яростно, будто дровосек, сделал еще несколько толчков и кончил в нее. «Ты с ума сошел», — произнесла она, высвобождаясь, с головой, мокрой от пота. Это была уже другая Анжелика, готовая прыгнуть в окно. И они прыгнули. Стук в дверь не прекращался.
Кочегар167
Алвин видел его только один раз, мельком, но потом никогда не забывал его и ненавидел всю жизнь. То был необыкновенный добряк и весельчак, любивший приукрашивать истории, которые ему приходилось слышать в дороге.
Тем утром он услышал, что некая баронесса из Кампинаса запятнала собственную честь и, вместо того чтобы брать за это деньги, платила их. И платила в той мере, в какой получала требуемое.
Как человек невежественный, он спросил у своего начитанного товарища, правда ли, что это есть признак конца времен, как сказано в Библии.
Круг165
Вот что Круг беспрестанно повторял во время приступов своей болезни: «Kennst du das Land, wo die Citronen blühen, im dunken laub die Gold-Orangen glühen, kennst du es wohl?»[12]
Патросинио84
Почему этот пылкий негр, разбивший оковы миллиона бразильцев, проиграл выборы 1890 года? Да, негры не голосовали, но имелась и другая причина. Как человек с единственной целью в жизни, он, достигнув ее, мгновенно ее потерял. После издания Золотого закона звездный час Патросинио, когда им восхищались толпы людей, навсегда прошел.
На рубеже веков он пробовал построить аэростат, но ему явно недоставало для этого необходимых познаний.
Барселос96
«Досточтимый г-н барон.
Стоило Вашей Светлости покинуть этот нечестивый город в обществе верного слуги, как поползли странные сплетни, затрагивающие Ваши сугубо личные интересы.
Касаться этого предмета для меня нелегко, но поскольку речь идет о столь светлом и возвышенном уме, как Ваш, разъяснения на этот счет представляются тем более необходимыми.
Предположите, что некто уезжает по делам, будучи предаваем в своем собственном доме теми, кому всемерно доверяет. Существует ли большая несправедливость? Человек оставляет свой семейный очаг с верой в незыблемость нравственных устоев, — и с первым же его шагом эти устои повергаются в прах.
К сожалению, именно так обстоят дела, г-н барон. Обычно я недоверчив по отношению к нашептываниям и рассчитываю, что в конце концов все сведется к обычным слухам (которые в нашем городе, как Вам известно, играют не меньшую роль, чем муниципальное учреждение), но тем не менее я решил устроить тщательную проверку.
Во имя Вашей чести я отправил к Вашему дому доверенного человека, и увиденное им таково, что не может быть доверено бумаге.
Таким образом, г-н барон, слухи эти небезосновательны, и при нынешнем положении дел, когда охваченный эпидемией город остался без блюстителей порядка и без всяческих моральных принципов, я ничего больше не могу сделать для Вас, не рискуя запятнать Ваше имя.
Поэтому надеюсь на Ваше возможно более скорое возвращение, которое позволит восстановить Вашу честь.
Искренне Ваш, Э. де Б.»
Нестойкий монархист97
Стихи звучали так:
Руй Барбоза21
Почему этот неоспоримый гений ораторского искусства не был избран президентом Республики? Потому что в 1913 году атмосфера была перенасыщена словами. Было абсолютно необходимо действовать, а не говорить. А кроме того, в 1913 году его превосходные цветистые речи уже не производили того впечатления, что раньше.
Миллер102
Примерно восемьдесят женщин, одетых в красное, во фригийских колпаках, прижали Алберто Миллера к стене во дворе гостиницы, где расположилась комиссия: или он покончит с бесстыдством, которое творится в городе, или ему не жить. Речи, желто-зеленое знамя, национальный гимн.
Бледный (первые признаки лихорадки?) Миллер ответил: «Уважаемые дамы, я веду борьбу с проституцией всеми возможными средствами, но она — гидра о семи головах. Отрубите ей щупальце — вырастут два». Одна из женщин поглядела на него холодно и сказала: «Не притворяйтесь, что не поняли». Когда Миллер двумя днями позже сыграл в ящик, эта женщина сожалела, что его постигла такая судьба.
Барселос60
Вот чего Алвин не знал: когда в воскресенье он был занят Пурезиньей, Барселос выследил Анжелику на веранде и проник туда. Она испугалась, сложила письмо, которое читала в тот момент. «Уходите», — сказала она.
Барселос: Почему? Почему вы прогоняете меня, а не его?
Анжелика: Уходите. Я вас не звала.
Барселос: Меня — никогда. Только его. Почему?
Анжелика: Оставьте меня в покое. У вас своя жизнь, у меня своя. Уходите.
Барселос: Я хочу знать только одно: чем он лучше меня? Ответьте, и я уйду.
Анжелика: Нет. Не отвечу. Прошу вас уйти.
Она скрылась в доме, но Барселоса все равно было слышно.
Барселос: Отлично. Ты будешь ждать его, да? Так вот слушай: он в борделе со шлюхами. Со шлюхами! Со шлюхами!
Отец Менделл39
Однажды холодной ночью 1879-го его позвали к умирающей — как сказали — женщине. Он взял с собой священный елей и, подстегиваемый ветром и пылью, встретил по дороге врача, который пришпоривал коня. Врач поприветствовал его и посоветовал поторопиться. Женщина лежала неподвижно: кожа и кости. Освобожденная негритянка, когда-то, видимо, редкой красоты. Она была еще не старой, но болезнь явно застигла ее в трудный момент: у женщины не было ни близких, ни работы. Ее навещала только одна старая португалка. Менделл свершил соборование, но негритянка не умерла. Через два дня, когда Менделл вернулся, она все еще лежала в постели, между жизнью и смертью. Португалка вливала жидкий суп ей в рот. На третий раз Менделл кое-что заподозрил и при помощи старухи перевез больную в чулан своей квартиры. Там было немногим удобнее, чем в хижине, но суп был получше. Он мог отвезти ее в больницу, но не сделал этого из-за внезапного приступа ответственности за ее судьбу. Через две недели женщина — «Меридиана, я священник» — уже могла ходить и говорить. Через месяц она поправилась на пять кило. Тут в ней заговорила совесть, она занялась готовкой и уборкой. Ей было тридцать шесть; она оказалась чрезвычайно аккуратной, мылась дважды в день и душилась. Менделл, заинтригованный, спросил, откуда, черт возьми, она берет духи. Тогда негритянка открыла сумочку и показала три флакончика с тончайшим французским ароматом: подарок последней хозяйки, объяснила она, подарок в день освобождения. Конечно же, духи были украдены. Даже умирая, она хранила флакончики под подушкой, словно талисман, дающий надежду на выздоровление. Менделл испытал к ней жалость, которая переросла в привязанность, породившую, в свою очередь, щедрость: священник усаживал ее за стол вместе с собой, покупал экзотические ароматы в изящных бутылочках. Однажды он лично испробовал на ней изобретенную им самим туалетную воду — розмарин плюс апельсиновые цветы, — деликатно помазав мочку уха. Негритянка воспринимала все это эмоционально, как верующая: она, беспутная, не заслужила такого обращения со стороны доброго падре.
«Беспутная?» — Менделл рассмеялся, преодолевая искушение коснуться ее. Он погружался в молитвенник, а иногда, чтобы убежать от себя самого, перелистывал его ночами напролет. Однажды утром она пробралась в его комнату, сняла платье через голову и легла рядом. Тело ее было настолько горячим, что священник не мог не подумать об адском огне, а также о том, что это — испытание свыше: он должен вновь уверовать в плотский грех и наказание за него. Но эта мысль мелькнула и исчезла. Отец Менделл провел в постели все утро, благо ему не приходилось рано вставать. Он уже собрался уходить из дома, когда Меридиана дотронулась до него и прошептала: «Разве я не говорила святому отцу, что я страшно беспутная?»
Педро Аугусто74
Недруги — многочисленные — графа Эу видели во внуке монарха возможного наследника трона. Их мечты улетучились вместе с республикой, но это произошло бы в любом случае, ибо шизофрения Педро Аугусто мало способствовала поднятию престижа Империи. Приглаживая золотистую бородку, он убивал время, разнося по коридорам дворца всякий вздор. В припадках он то видел себя в императорской короне, то боялся, что подданные разорвут его на части. В изгнание его отправили на пароходе, крепко привязанного, чтобы он не свалился в море.
Вольтер119
Упоминается в разговоре Менделлы с Барселосом, когда первый, связавшись с негритянкой, пересмотрел свой идеал красоты.
Вот цитата из него: «Посмотрите на жабу. Для нее идеал красоты — выпученные глаза, желтое брюхо и пятнистая спина». Для Менделла идеалом тогда был черный цвет кожи.
Кухарка59
Ей сообщили, что если она не расскажет все, то ее снова обратят в рабство. Кухарка поверила и рассказала даже больше того, что видела. Например, что уже в первую ночь после отъезда барона доктор перебрался из комнаты для гостей в супружескую постель.
Секретарь: В первую ночь? Каков ловкач!
Солдат: Ничего удивительного. Старо, как мир.
Член комиссии: В супружескую постель. Запишите.
Еще она рассказала, что наутро следующего дня, в обычное время, она пришла в спальню для уборки (дверь почему-то не была закрыта), и увидела голую баронессу в объятиях Алвина, «и оба словно ввинчивались друг в друга».
Общий смех. («Во черномазая дает!»)
Секретарь: Вот это сцена!
Солдат: Не отказался бы посмотреть.
Секретарь: Волосы становятся дыбом!
Кухарка поведала также, что они провели целый день, закрывшись в спальне, к возмущению всех слуг, которые шептались по углам. И только поздно вечером Анжелика, бледная, спустилась поужинать.
Солдат: И она еще могла ходить!
Секретарь: Сколько сил!
Член комиссии: Бледная, спустилась поужинать. Запишите и это тоже.
Эшел129
Две молодые девушки во фригийских колпаках предложили подписать петицию, требовавшую от Миллера решительных мер по восстановлению нравственности. Перейра подписал, поставив после имени три сухие точки. Всего подписей было с дюжину, но, по словам девушек, они намеревались довести это число до двух тысяч. Эшел — через неделю с ним приключилась беда — извинился, но подписывать отказался. Девушки переглянулись, с ужасом посмотрели на него, обратились за помощью к Перейре.
Девушка: Почему вы не подписываете, сеньор Эшел?
Эшел: Это мое личное дело, дорогая.
Другая девушка: Это плохой ответ, сеньор Эшел.
Эшел: Но и вопрос тоже не слишком хорош.
Девушки мигом исчезли. Перейра был озадачен.
Перейра: Я тоже не понял, честное слово.
Эшел: Да и не надо. Думаете, я буду вмешиваться в чужие дела?
Перейра: Это не чужие дела, Эшел. Это наша общая проблема, покушение на славные традиции нашего города. Если сидеть сложа руки, ничто не вернется на свои места.
Эшел: А как все должно вернуться на свои места? И где, черт побери, эти места? Оставьте меня в покое. Хуже стариков — только лицемерные старики.
Граф Эу70
Представленный Анжелике в 1886-м, граф проявил столько любезности, что у той вырвалось: «Je ne peux croire que l'on parle si mal d’un gentilhomme tel que votre altesse»[13]. Да Мата побледнел, принцесса улыбнулась. Граф добродушно ответил: «Peu importe que l'on parle mal de moi, chère baronne, je ne suis qu’un français»[14]. Другие же утверждают, что он не сказал ничего. Так или иначе, этот разговор, пусть даже вымышленный, много сообщает о человеке. Граф жил на вулкане, не ощущая этого. Его обвиняли в непомерных амбициях, в желании управлять страной через подставных лиц после смерти монарха. «Француз готовит нам Третью Империю». Но он ничего не готовил. Он пытался заглушить политическую агитацию громкими звуками оркестра. В день падения монархии он спокойно гулял с детьми по берегу моря, даже не заглянув в газеты. За неделю до того, он писал одной французской маркизе: «Обстановка у нас совершенно спокойная». Письма тогда доходили в Париж через несколько недель.
Кампос Салес15
Кто в баре «Элой» и Республиканском клубе поверил бы, что он заберется в президентское кресло, набрав 90 % голосов (для того времени — около полумиллиона)? Он составлял самые причудливые бюджеты, из-за чего был вынужден утроить налоги и свести к минимуму государственные расходы. Ненависть народа не замедлила излиться на него.
Рыжий негритенок38
Жозе де Ариматейя и не пытался делать секрета из имени своего отца и относился к этому необычайно спокойно. Он был гордостью Военной школы и в 1926 году вызвал всеобщее замешательство, когда сбежал с парада в маршировавшую по городу колонну оппозиции. Менделлы уже не было в живых, но, по мнению сына, он одобрил бы подобный поступок. Когда революция 30-го года потерпела поражение и Престес укрылся в Боливии, имея с собой четыреста искалеченных, голодных сторонников, Жозе отступил в Куайяба и обосновался там, пока в 36-м не был схвачен и перевезен в Рио под плотной охраной. Там он восемь часов подвергался допросу, потом его бросили в камеру и пытали. Ему наносили удары по почкам со словами: «Получай, сын шлюхи, сын священника, коммунист!», жгли ступни паяльной лампой, выворачивали член плоскогубцами. Сержант пытался овладеть им сзади, но Жозе дал отпор из последних сил, и начались новые пытки: к телу прикладывали зажженные сигареты, загоняли иголки под ногти. После этого его, залитого кровью и потом, охранник заставил целую ночь маршировать по камере, из угла в угол. Каждый раз, когда он был готов упасть, его кололи штыком. В два часа утра он попытался разоружить охранника и получил пулю в рот.
Педро А. Андерсон62
В моде были пилюли Тевно, но от боли в груди, как считалось, помогали пилюли Буржо. Во время эпидемии бутылка «Дезинфектина противоболотного» доходила до тысячи рейсов, «Фенола Бебеф» — до двух тысяч. А поскольку таинственные бактерии или вирусы могли проникать и через рот, и через кожу — если они вообще не попадали через дыхательные пути, — то было разумной мерой предосторожности держать дома пепсин «Будане» и эликсир «Дюшан», бензоат и нафталин, пастилки Патерсона. Сплин лечился шариками Дюрана от доктора Клертана.
Фредерик Сулъе64
Для Перейры этот гений пламенного листка-однодневки должен был остаться в веках — по крайней мере, на ближайшие пять столетий. Ему возражал Фариа, находивший Сулье в сто раз хуже, чем жалкий Поль Бурже — другой излюбленный герой Перейры. Они подготовили вдвоем нечто вроде литературной лотереи — прогноза, чье имя сохранится в ближайшие сто лет, и мнения их почти ни разу не совпали.
Славный маркиз158
В день своего тридцатилетия — а это случилось больше двухсот лет назад — Донасьен-Альфонс-Франсуа послал Армана, слугу, найти трех проституток, чтобы устроить праздник в отеле, где он жил по приезде в Париж. Состоявшийся впоследствии судебный процесс установил, что все три добровольно пошли на встречу, зная, кто такой Сад. Дело в том, что за пять лет до того он избил и содомировал служанку в комнате, полной священных изображений. Изменился ли человек, который в тот день угощал их конфетами? Женщины поедали их одну за другой, даже не спросив, из чего все это сделано. А в конфеты была положена настойка кантариды, мушки, вызывающей прилив желания и по счастливому совпадению — скопление газов. Маркиз раздел Марианну и проник ей в зад, заставляя ее вести себя, как разнузданная кобыла. Одной рукой он хлестал ее, другой же возбуждал слугу. Затем приказал, чтобы избивали его самого дубинкой из папье-маше с шипами, а потом — ручкой от метлы. Когда порка закончилась, Сад аккуратно пометил ножичком на дымовой трубе, сколько ударов получил сегодня. После этого он вступил с Марианной в обычное сношение, лежа под ней, чтобы Арман мог иметь ее в зад. И наконец, сам проник ей туда же, Арман в это время содомировал маркиза. Весь этот ритуал был повторен с Розой и Марианеттой, разве что дубинка с каждым разом была все больше залита кровью. Когда полиция обыскивала гостиницу в поисках доказательств, то обнаружила на трубе четыре числа: 215, 179, 225 и 240.
Алберто Фариа54
В 1918 году он добился своего избрания в Бразильскую литературную академию, вырыв тем самым яму под могилу Барселоса.
Наполеон47
Считал, что кровопускание — необходимое средство в политической медицине.
Неизвестный хронист6
Через месяц после смерти Канастры, разбирая его старые бумаги, которыми никто не поинтересовался, я нашел там яростную статью с обвинениями в мой адрес — хотя в первоначальном варианте то было простое письмо-предупреждение. Широкий лист бумаги содержал следующие записи:
«Вот история — невероятная, такого рода, что для придания ей убедительности нужны три рассказчика: врач Луис Алвин, историк (я сам) и собственно рассказчик (это ты, идиот). Число рассказчиков — не внушает ли оно тебе подозрений?
Я сужу о романе по его правдоподобности, его сходству с действительностью. Этот как раз то, чего ты не предлагаешь читателю.
Но хуже всего то, что твое необузданное воображение очерняет достойных людей прошлого, как, например, барона и его прекрасную, несчастную супругу. Конечно, она его предала — но не в том банальном смысле, в каком это понимаешь ты. Так что твой роман — просто мазня, и ничего больше.
Давай начистоту. Давай оценим истинный масштаб происходящего. Твое произведение — это что-то вроде собрания очерков сомнительного свойства, не имеющих ничего общего ни с историческим романом, ни с плутовской повестью. Ради бога, не публикуй! Найди время прочесть главнейшие труды, созданные в нашей стране, в том числе непременно „Улицу горечи“ меланхоличного Жозе де Каштро Нери и „Сон императорского пекаря“ моего брата, заслуженного академика Педро Пашеко Канастра. С них и начни.
Что касается самоубийства соседки… Несравненный Толстой (рядом с которым можно поставить только не оцененного по достоинству Бенедито Валадареса) дал в „Анне Карениной“ широкую панораму эпохи, но что делаешь ты, рассказывая о любви благородной госпожи и неистового придворного медика? Сколько неловкости, сколько злонамеренности, и в итого великолепная эпоха с ее пышными сценами сведена к карикатуре. Лучше было бы вовсе оставить в покое политику и ограничиться тяжелым и незатейливым семейным бытом тех времен».
Даунт150
Даунт терпеливо переносил все — но вскипал, когда его называли иностранцем. Только по случайности он родился в Ирландии, учился в Эдинбурге, Париже и Вене, где познакомился со многими знаменитостями. Здесь он говорил правду. В Бразилии он жил уже тридцать восемь лет и, несмотря на отсутствие признания, он не прекращал свои исследования проказы, туберкулеза, малярии, оспы, бешенства, тифа, сифилиса и даже рака. Кроме того, бедные приходили к нему на консультацию, не платя ни гроша.
Унаследовав от свекра поместье, где он проводил выходные, Даунт в первую очередь снес позорный столб. Потом закопал цепи, уволил надсмотрщика и отпустил рабов. И все это — задолго до того, как о подобных вещах задумалась принцесса.
Император Педро II100
Он находился на водах в Петрополисе, когда до него дошли смутные слухи о заговоре в придворных кругах. Он удивился, услышав имена Деодору и Патросинио, «осыпанных его милостями». Ведь именно он произвел Деодору сначала в бригадиры, а затем в маршалы! Однако император спокойно закончил водные процедуры, и только тогда медленно пошел выяснять, идут ли еще в этот день поезда до Рио. Поезда были.
Все произошло довольно-таки беспорядочно. В десять часов стало известно, что по кварталу Лапа марширует целый батальон, к которому присоединились курсанты. Но прошло целое утро, а о батальоне и курсантах больше не поступало никаких сведений. Подойдя к окну, принцесса увидела все то же солнце, тихие улицы, обычную публику. Поэтому она осталась рядом с мужем, графом Эу, таким же нерешительным, как и она. Император вернулся из Петрополиса — поездка до дворца обошлась без всяких происшествий, — и вся императорская фамилия решила, что Вторая империя прочна, как пятьдесят лет назад.
Но это было обманчивое впечатление.
Вечером стали поступать противоречивые новости.
Одна — что кабинет министров осажден в здании Генерального штаба, а морской министр убит; другая — что телеграф в руках мятежников и что они желают только смены кабинета; третья — что Деодору провозгласил республику, назначил себя президентом и не желает вступать в переговоры.
Последний слух подтвердился ночью, когда государственные советники с опущенной головой начали входить в императорские покои, высказывая глубокое сожаление. Все потеряно, говорили они, армия перекинулась к мятежникам, Деодору не желает вступать в переговоры. Но Педро сказал, что все это неважно. Ему было только жаль дворцовых слуг, которые не смогут приспособиться к новому порядку. Лакайос и советники сидели с ним до двух ночи, когда монарх наконец устал и отправился спать, при этом поблагодарив всех и пожав каждому руку, а некоторых обняв. А еще прихватил из библиотеки труд по египтологии.
Наутро из дворца еще можно было свободно выбраться, но вечером было запрещено собираться группами как внутри дворца, так и за его пределами. То и дело слышался топот копыт: это кавалерия разгоняла народ. Даже по двое не разрешалось выходить на улицу.
Тогда-то и нагрянула делегация во главе с майором Солоном с посланием императору от имени временного правительства. Они требовали, чтобы тот покинул страну. Майор удивился, увидев в руках у монарха книгу по египтологии (он читал ее с 1850 года). К тому же вид у него был абсолютно спокойным. Майор Солон, подойдя ближе, утратил всю свою уверенность. Вручая послание, он запутался в титуловании, сказав сначала «Ваше превосходительство», затем «Ваша светлость» и, наконец, «Ваше величество». На губах императора играла снисходительная улыбка.
Майор Солон: Временное правительство желает знать, каким будет ответ, Ваше величество.
Педро II: Пока что никакого.
Майор Солон: Следовательно, я свободен?
Педро II: Разумеется.
Ночь прошла не так бурно, как предыдущая, и, казалось, у Империи есть еще шанс, отдохнув, встать от сна посвежевшей… но утром в дверь постучали с грубыми и неумолимыми словами. Неумолимыми для старика, который рассчитывал на спокойное изгнание в Петрополисе, между цветов, рядом с обширным парком. Но нет: от него требовали покинуть страну еще до рассвета. Корабль уже ждал.
Сонный старик выплыл в рио-де-жанейрский туман вместе с семьей и кое с кем из слуг. Корабль возвышался мрачным обломком скалы. Прежде чем взойти на борт, император подал руку своим гонителям и сказал: «Господа, вы с ума сошли». Эту фразу передали Деодору, который выслушал ее молча.
Да Мата188
Да Мата не был готов к тому, что увидел. В окне — полное бесстыдство: обнаженная женщина в обществе чужого мужчины, тоже обнаженного и с бокалом в руке, рассеянно созерцающего звезды. На улице — свора бездельников, балерин, клоунов, нищих, зевак орет, требуя расправы. Здесь сведения расходятся. Монархисты утверждают, что, когда толпа затихла, Да Мата с величественно-библейским видом проклял обоих и приказал поджечь дом. Республиканцы утверждают, что толпа ни к чему не призывала, да и в судорожных всхлипываниях барона, вцепившегося в конскую гриву, не было ничего библейского. Неважно — главное, что толпа подошла к дому и сделала то, чего делать не следовало.
Если барон и не приказал, то, во всяком случае, высказал это вслух. Канистра с керосином, найденная у Лa Табля, разожгла воображение людского сброда. Керосин горит быстро, с клубами дыма. Двое отверженных, скрывшись за плотными желтыми шторами, сумели убежать через задний ход. Но им не удалось одеться.
Прежде чем выбраться за город, они пересекли две оживленные торговые улицы; при их приближении окна раскрывались, а затем захлопывались. Беглецы пересекли процессию благочестивых женщин, даже не поглядев на них, прокладывая себе путь между крестными знамениями и испуганным шепотом. Потом они брели по острой гальке, пробирались сквозь густые заросли, раня себе ноги о камни на дне оврагов, едва не натыкаясь на колючую проволоку, обозначавшую границы владений. Наконец, они очутились в каком-то болотце, полном москитов, с солоноватой водой, доходившей до колен. «Черт», — сказал Алвин, неся Анжелику на руках; ноги ее ударялись о его бок.
А там, сзади, клубы дыма свивались в причудливые спирали на фоне кровавых отблесков. Поджигатели шумели, словно индейское племя на охоте.
Репортер138
Уже смеркалось, когда он покинул лагерь и поднялся по косогору, направляясь на улицу Бон Жезус. Мы уже знаем, что сознание его было затуманено гашишем. Город внизу мерцал газовыми фонарями. Внутри него мерцала огнями другая местность — долина его собственной жизни, куда вход посторонним был запрещен.
Спускаясь, Котрин увидел идущих куда-то людей — там, где стояли телеги Ла Табля. «Наблюдатель — тот, кого наблюдают», — пробормотал он себе под нос. Народ, собравшийся в большом количестве, шумел. «Попугаи на базаре», — произнес Котрин сквозь зубы. Можно обойтись без дисциплины, но без тишины нельзя.
«Бесстыдники», — послышался чей-то крик.
«Подонки», — мужской голос.
«Приспешники Сатаны», — женский.
Котрин взобрался на телегу и уселся в ней, решив не смешиваться с разъяренной толпой. Бог не окружает себя людьми. Котрин говорил сам с собой, глядя на окружающий мир как бы через тусклое стекло. Пятнадцать тысяч войн за пять тысяч лет; еще одна погоды не сделает. Поэтому он не задал вопроса, когда некий тип с решительным лицом скинул его на землю и вручил ему канистру с керосином. «Лей, — сказал Котрину тип, — здесь, вокруг дома». Только идиоты проповедуют ненасилие. Пятнадцать тысяч войн за пять тысяч лет. Надо стать огнем. Котрин стал поливать траву керосином, испачкав руки и одежду. В полутьме никто его не заметил. «В воздухе что-то витает, — сказал Барселос, — и это — именно то, что нам нужно». На миг сознание Котрина прояснилось, и он отпрыгнул назад: кто-то зажег спичку в воздухе, насыщенном парами керосина. Огонь моментально разгорелся; треск его напоминал поскрипывание закрытого окна под напором ветра.
(Кое-что о дальнейшей судьбе Котрина. Он открыл, что занимает подчиненное положение, и все его несчастья происходят от незнания того, кто и зачем издает приказы и почему их нужно выполнять. Но привычка к выполнению въелась в него, и Котрин глубоко разочаровался в себе. В 1915 году он повесился, устав плыть против течения жизни и своих плохо понятых желаний.)
Урбано Азеведо63
Страховой агент Урбано Азеведо (Нью-Йоркская страховая компания), присоединившийся к толпе больше из любопытства чем из желания защитить чистоту городских нравов, был первым обнаружившим бегство любовников через заднюю дверь дома. Именно он изумленным «о-о!» вновь разжег людскую ярость. Азеведо был человеком строгих правил, и его смущение в тот день выглядело вполне искренним. Но после огненного смерча его целыми днями преследовало видение темного треугольника внизу живота баронессы, пьяной и почти неземной в момент бегства.
Агент Барселоса96
Это был тот самый тип с решительным лицом, — вспоминал позднее Котрин, — кто сунул ему в руки канистру и приказавший лить керосин. Тот самый, кто поднес спичку и разжигал ненависть толпы призывами отомстить за честь барона и всего города. Тот самый, кто — во имя все той же чести, узнав, что те двое бежали, убедил Ла Табля одолжить ему пару дрессированных псов. Один из них прославился тем, что откусил ухо цирковому служителю.
Деодору90
У него был политический проект на двадцатый век, который остался нереализованным. Политический проект, достойный этого названия, не вырастает из военного мятежа.
Барселос187
Он спустился по лестнице, глухой к мольбам Жанны вернуться и закончить то, что он начал. (Это был уже третий раз, и Барселос больше не мог.) Наспех одетый, он шел с развязанными шнурками, расстегнутая рубашка только что не взлетала на ветру. Когда сотрудники газеты пришли готовить воскресный выпуск, они не без основания подумали, что наверху происходит что-то странное, поспешили туда и нашли Жанну голой на кипе газет. (Позже она жаловалась, что с ней плохо обошлись, но газетчики все отрицали.) Между тем на улице Бон Жезус занялась пламенем усадьба Да Маты. Увидев огненный купол над крышами, Барселос сжался от неминуемого предчувствия. Люди вокруг него бежали во все стороны. Барселос побежал тоже. Возле дома — на лугу, на улице, в поле — собралось множество народу. Среди них — барон с видом мертвеца. Он все еще не слез с коня, на котором приехал из Сан-Паулу. Морщинистое лицо, освещенное отблесками пламени, выглядело совсем постаревшим и каким-то величественным. Барон и бровью не повел, когда занялся фасад его великолепного дома, затем — перила веранды (где несколько минут назад стояла обнаженной его жена), занавески на мансарде, наружная облицовка и, наконец, все здание целиком. Каким-то чудом сама веранда осталась нетронутой. В отличие от погреба, где банки с вареньем взрывались, подобно бомбам.
Билл188
Их выручил Билл. Выслеженные собаками Ла Табля, они случайно очутились вблизи лагеря и остановились со смущенными лицами прямо посреди пастбища. Билл не задал им ни одного вопроса, отвел место в собственной палатке, дал сухую одежду и поставил на входе в лагерь троих вооруженных людей. С приказом стрелять в случае необходимости.
Отец Менделл39
Охранявшие лагерь выстрелили, увидев очертания человека в темной шляпе. То был Менделл. Он вошел, отстранив от себя собак, лающих с пеной у рта, и посоветовал часовым вернуться на свои посты. И пусть стреляют, если надо. Билл принял его как главу дружественного государства, процитировав «Бхагават-Гиту»: «Кто покорил ум, достиг дальних областей души и пребывает в спокойствии».
Алвин подошел ближе.
Менделл: Итак, вы упорствовали до последнего?
Алвин: И вы тоже, святой отец. Забыли?
Менделл: Как можно. Вы думаете, я вас осуждаю?
Алвин: Тогда я пошлю вас к черту. Так осуждаете или нет?
Менделл: Да.
Алвин: Идите к черту, отец Менделл.
Анжелика5
Билл стоял на часах до рассвета, опершись на свой винчестер. Анжелика металась и бредила всю ночь напролет, горячая, искусанная москитами. Пожелтевшая кожа и рвота не оставляли сомнения: она подхватила лихорадку.
Да Мата7
Даже безудержное воображение — каким она не обладала — не натолкнуло бы Анжелику на мысль, что она умрет на походной постели, под перебор струн, втягивая в себя запах жареного лука-порея. Был час ужина; заходящее солнце освещало плечи Анжелики, откинувшейся на импровизированную подушку из тряпок, умело приготовленную Биллом. Она скончалась под звуки банджо и ржание лошадей; солнце было красным, словно отсвет пожара в пороховом погребе. Ночью тело ее, завернутое в простыню, отвезли к барону.
Да Мата, прибывший из отеля в халате, со следами бессонницы на лице, бросил полный сомнения взгляд и приказал вернуть тело: «Я не знаю, кто это такая».
Анжелика25
Ее похоронили в неглубокой яме, вырытой под дождем. Вода заливала землю, банджо в руках музыкантов разбухли и издавали глухие, неподражаемые звуки.
Билл: Оставайтесь с нами, доктор.
Алвин: Нет, мне надо уехать.
Билл: Нам тоже надо. Вы куда?
Алвин: В Португалию, может быть, в Терезополис… Может, куплю домишко в Пакетам. Или хижину где-нибудь в Африке.
Билл: Глупости. Нельзя убежать от самого себя.
Алвин уехал в сопровождении четырех людей Билла, которые, дабы чем-то себя занять, распевали песенки до самого Жундиаи, где вверили Алвина попечению Бразильских железных дорог. Он залез в вагон второго класса и спокойно уселся среди простого люда; спутники его пускали дым к потолку и разражались грубым смехом.
Мадам Зила109
Мадам умерла в преклонном возрасте, после соборования, с освященными четками в руках. Деятельность ее окончилась в 1912-м приступом внезапного благочестия, который возник из соединенных усилий церкви, полиции и налоговых органов. В этом же году в городе наблюдался расцвет свободной проституции, захватившей кварталы вдоль улицы Бон Жезус.
Жанна69
Ла Табль уже собирался уезжать, но вернулся из-за Жанны. Труппа уже была погружена на телеги, лошади кусали уздечки в нетерпении, и ничто не оправдывало излишне мягкого с ней обращения. Ла Табль застал жену, когда та исполняла танец для газетчиков, и вытащил ее на улицу под хор протестующих голосов. С помощью кулаков он довел ее до телег, дав пару раз кнутом по заду. Под свит и издевательские замечания цирк наконец уехал. Новость о самоубийстве Жанны в богатом горном районе вызвала в городе неописуемое волнение и жалость к несчастной.
Билл152
Ничуть не лучшей оказалась и судьба Буффало Билла — Родолфо Безерра де Сантаны, уроженца штата Сеара, читавшего Торо в оригинале задолго до любого другого образованного бразильца. Лагерь был разогнан полицией через месяц после описываемых событий, а Билл арестован по обвинению в конокрадстве. В 1890-е годы он снова заставил о себе говорить, но к этому времени уже лишился уха и, говорят, правой руки. Он умер в конце 1914 года, а может быть, и раньше — но это тема для другого повествования. Его товарищи по лагерю, прозванному «Республика Билла», сделались торговцами, помещиками или политиками, не признавшись ни разу, что жизнь свела их когда-то с этим изгоем. Билл оказался вычеркнутым из их памяти.
В день, когда Билла заключили в тюрьму, ничьи лошади ушли из города в сторону озер Иту, где начала свирепствовать лихорадка. Месяц спустя их видели в Сорокабе, позже — в Порту-Фелиш. Но когда за ними были посланы погонщики скота с путами и упряжью, то лошадей не нашли.
Кампинас XIX века мало изменился по сути, хотя и притаился в тени другого города. Читатель с душой исследователя может без труда пройти по тем же старым улочкам, воображая, что попал в прошлое. Правда, некоторые из них поменяли названия, поскольку все в этом мире непостоянно.