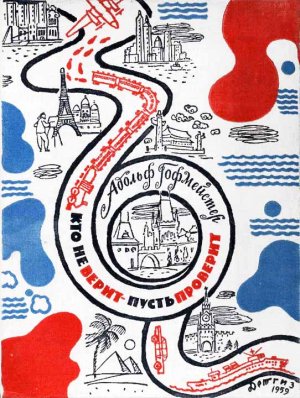
О ТОМ, КТО НАПИСАЛ ЭТУ КНИГУ
Эту книгу, ребята, написал чехословацкий писатель-коммунист, большой друг Советского Союза — Адольф Гофмейстер.
Он удивительно талантливый человек.
Адольф Гофмейстер не только писатель и журналист, пишущий очерки и фельетоны для газет и журналов, — он еще и художник-карикатурист, рисующий острые, смешные карикатуры и шаржи, а также занимательные иллюстрации к своим книгам. Он еще и поэт, пишущий стихи; он и драматург, сочиняющий пьесы. Он историк и дипломат, критик и искусствовед, написавший большой и серьезный труд «Сто лет чешской карикатуры».
Но и это не все. Адольф Гофмейстер обладает еще одним замечательным и ценнейшим качеством: он неутомимый и страстный путешественник, исколесивший почти весь земной шар.
Надо сказать, что не всегда эти путешествия были для него приятны. Так, в 1939 году, когда немецкие фашисты захватили Чехословакию, Гофмейстеру пришлось покинуть родную страну. У гитлеровцев были с ним особые счеты: ведь он был автором многочисленных карикатур, метко разоблачавших и зло высмеивавших Гитлера со всей его бандой. Карикатуры печатались в издававшемся в Праге сатирическом еженедельнике «Симпликус». И Гофмейстер был редактором этого боевого антифашистского журнала.
Расставшись с родной землей, Гофмейстер много скитался по разным странам, пережил немало лишений и невзгод, в том числе и заключение в концлагере оккупированной гитлеровцами Франции, затем в Марокко и Португалии. Это были тяжелые, трудные времена, но испытания и опасности не сломили духа мужественного писателя-антифашиста, не лишили его бодрости, а еще больше закалили его характер и волю, укрепили веру в победу над врагом, которой он и дождался в 1945 году, когда советские войска освободили Чехословакию.
Вернувшись на родину, Гофмейстер становится активным борцом за новую жизнь в народно-демократической Чехословакии. Перо журналиста и карандаш художника-сатирика помогают ему в этом.
Он много разъезжает в эти годы по белу свету и как корреспондент, и как турист, и как дипломатический работник. Гофмейстер посещает интереснейшие места нашей планеты, видит далекие, незнакомые страны, знакомится с жизнью, трудом и нравами разных народов, изучает их культуру, искусство и историю, искренне разделяет их горести и радости. Как говорит сам Гофмейстер, он «старался вжиться в их быт, ощутить тепло и аромат этих стран».
У Адольфа Гофмейстера есть сын, мальчик, по имени Мартин Давид, или, как ласково называет его отец, Кнопка. (Это прозвище очень не нравится Мартину Давиду.) Отец любит беседовать с сыном и рассказывать о своих путешествиях и приключениях.
Счастливый Кнопка! О чем только не довелось ему услышать и узнать из интересных, занимательных и веселых рассказов своего отца!
И о том, как четыре французских мальчика открыли пещеру, на стенах которой оказались картины, нарисованные двадцать пять тысяч лет назад;
и о том, как знаменитый детский писатель Жюль Верн в двенадцатилетнем возрасте пытался убежать из дому в Индию на почтовой шхуне «Корали»;
и о том, как была придумана игра в шахматы и какую награду потребовал себе изобретатель шахмат — индийский ученый Сисса;
и о прославленном художнике Пабло Пикассо, нарисовавшем голубя мира;
и о легендарном крейсере «Аврора»;
и о том, как отец Кнопки был в гостях у великого писателя Максима Горького;
и о героической борьбе Китайской Красной армии;
и о римском фонтане с монетами на дне, и о самых больших в мире домах, и о великом итальянском художнике Леонардо да Винчи, и о поездке в пустыню Сахару, и о многом, многом другом…
Видите, ребята, как повезло Кнопке, что его отец увидел и узнал столько интересных вещей, о которых может рассказать своему сыну! Но нельзя ли сделать так, чтобы и другие ребята смогли познакомиться с этими чудесными историями?
Конечно, можно! И вот Адольф Гофмейстер записал все свои беседы с Кнопкой, нарисовал прекрасные иллюстрации — и получилась интересная, увлекательная книжка. Прочитав эту книгу, вы узнаете, ребята, много для себя нового, любопытного и поучительного. Вы поймете, как велик и прекрасен мир, манящий своими неведомыми, таинственными далями, рождающий у человека любовь к путешествиям, стремление к познанию сил и красот природы. Вы узнаете также, как человек изменяет лицо планеты, подчиняя себе природу, для того чтобы она служила на благо человеческому обществу, как много умного, полезного и доброго сделали и продолжают делать на земле простые, обыкновенные люди.
Книга Адольфа Гофмейстера проникнута благородным духом дружбы и солидарности всех народов, она учит любви и уважению к культуре, обычаям и искусству всех наций, независимо от языка, верований и цвета кожи.
Но не случайно Гофмейстер заканчивает свою книгу словами, что как ни хорошо в гостях, а дома лучше, как ни прекрасен мир, прекраснее и дороже всего для человека Родина.
Но почему книга Гофмейстера носит такое задорное и немного лукавое название: «Кто не верит — пусть проверит»? Неужели автор и в самом деле опасается, что юные читатели не поверят в правдивость его рассказов?
Я думаю, что это не так. А дело в том, что многим любознательным и пытливым ребятам, наверное, захочется дополнить и «проверить» рассказы Гофмейстера по другим, историческим и географическим, книгам, повествующим о тех же событиях и явлениях. «Проверяя» Гофмейстера, вы прочтете, ребята, еще ряд интересных книг, узнаете немало занимательного и полезного. И вы с еще большим удовольствием будете вспоминать и перечитывать эту книгу, которую написал и нарисовал для вас талантливый, веселый и умный человек, друг нашей страны — Адольф Гофмейстер.
Ребята! Вам, может быть, интересно знать, как выглядит писатель, сочинивший эту книгу? Его портрет здесь не помещен, но скажу вам по секрету: на одной из иллюстраций Адольф Гофмейстер сам себя нарисовал. У него темные волосы и густые усы. В руке — сигара. Изображен он рядом с одним очень старым и очень знаменитым художником.
Сможете ли вы его найти?
Бор. Ефимов
ВЫБОР ПРОФЕССИИ,
или
ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ ТОЖЕ БЫЛИ ДЕТЬМИ
Мне кажется вполне естественным, что книжка, в которой рассказывается о разных странах, начинается и кончается у самой восточной границы Чехии, в Орлицких горах, в поселке Ржички, в моем домике под номером семьдесят один. Летом я здесь работаю и больше чем когда-либо уделяю времени своим детям. В Ржичках нет ни заседаний, ни телефона, правда, здесь нет также электричества, водопровода и даже, представьте себе, громоотвода, но зато во время прогулок по окрестностям, за колкой дров или вечером, сидя на крылечке, можно вести долгие философские и политические беседы с Кнопкой.
Однажды этим летом мы шли от лесной сторожки Вотроубека вниз, к «Мельнице с привидениями». Кнопка, спускаясь по крутой каменистой дороге, упал и разбил колено. Он мужественно сдерживал слезы, хотя колено было разбито в кровь. Когда я промывал ему ранку в ручье у мельницы, мальчик сразу посерьезнел и устремил свой взгляд куда-то в пустоту, а это, насколько мне известно, означает, что он задумался над чем-то чрезвычайно важным. Результатом этих размышлений явился целый ряд очень сложных вопросов, которыми он засыпал меня, когда мы, продолжая свой путь, поднимались к домику Богачовица.
— Папа, а знаменитые люди тоже сначала были маленькими мальчиками и девочками, да?
— Конечно, Кнопка. Никто не явился на свет с бородой или уже знаменитым.
— Значит, и Ян Жижка из Троцнова тоже был маленьким мальчиком… и… плакал, когда разбивал коленку?
— Хотя в «Истории чешского народа» Палацкого об этом ничего не сказано, но несомненно, что и Ян Жижка из Троцнова тоже, был когда-то маленьким мальчиком и часто разбивал себе колени. А дома мама, вероятно, говорила ему: «Еник, мне уже надоело чинить твои штанишки. И коленку ты опять разбил. Неужели нельзя быть поосторожнее?» Но Еник никак не мог быть осторожнее — ведь он играл в разбойников с деревенскими ребятишками. Нельзя же винить человека, если, преследуя разбойников, он споткнется о самострел и растянется на дороге. Ведь никто не разбивает колени нарочно. Это только мамам так кажется. Правда, Кнопка?
— Правда, папа.
— А вот плакал ли маленький Еник, разбив колено, это совсем другой вопрос. Возможно, что он уже в детстве был героем и не ревел из-за таких пустяков.
— Неужели все герои, полководцы, изобретатели и путешественники были маленькими мальчиками? И Ленин?
— И Ленин когда-то был маленьким русским мальчиком. И Эдисон сначала был просто маленьким американцем и, лишь когда вырос, стал знаменитым изобретателем.
— И пан президент? И пан Трнка? И дядя Верих? И дядя Сыхра?[1] (Кнопка всегда очень обстоятелен).
— Да, все они были такими же малышами, как наш Адам, прежде чем пан президент стал президентом, а дядя Верих — актером.
— И все великие путешественники тоже были маленькими и вначале только читали о неведомых странах, а потом уже поехали их открывать, правда, папа? Путешественник Голуб…
— …Ганзелка и Зикмунд.
— Но Ганзелка и Зикмунд путешествуют вдвоем. Вдвоем легче ехать по песчаной пустыне. Скажи, папа, еще маленькими мальчиками они уже знали, что когда вырастут, то станут знаменитыми полководцами — Яном Жижкой и Прокопом Голым, или великими путешественниками — Ганзелкой и Зикмундом?
— Нет, Кнопка. Один из них знал, что будет Ганзелкой, другой — Зикмундом, один — что он Ян, а другой — Прокоп, потому что так их назвали, а имя дается человеку на всю жизнь. Но никто из них тогда еще не знал, кем он станет. И тем более не знал, что будет знаменитым. И уж никак не предполагал, что в 1956/57 учебном году тебе будут рассказывать о нем на уроках истории.
— Значит, каждый сначала должен быть самым обыкновенным ребенком?
— Да. Ребенок рождается голым, беззубым, беспомощным; он не умеет говорить, не знает, как вести себя, ничего не понимает и только через несколько месяцев начинает кое-что соображать, через год-другой уже становится человечком, как твой братик Адам; и не успеешь оглянуться — он уже начал ходить в школу.
— Малыши смешные, — критически заметил Кнопка.
— Я бы этого не сказал. Они еще не умеют говорить, а уже понимают друг друга. Это кажется невероятным, однако это так.
Как-то я видел маленького китайчонка и маленькую чешку; им вместе не было и трех лет, а они так хорошо играли и объяснялись друг с другом, словно знали некий язык, неведомый взрослым, но известный самым маленьким детям. Но, как только люди начинают говорить на разных языках, им уже нелегко понять друг друга, им приходится учиться тому, что было доступно малышам, совсем не умеющим разговаривать.
— А жаль, что люди не остаются детьми навсегда. Они могли бы все время играть.
— Жизнь не игра, иногда она бывает очень трудной. И все-таки жизнь прекрасна. Знаешь, Кнопка, все люди появляются на свет, ничего не имея, и каждому приходится начинать жизнь «с ничего» — и белому, и желтому, и черному, и краснокожему. В этом великая идея равенства. Всех одинаково окружает огромный мир, полный великих возможностей. Каждый может стать тем, к чему у него есть склонности и способности, к чему он стремится.
— Папа, а у нас каждый мальчик может стать знаменитым путешественником?
Этот вопрос привел меня в замешательство. Но я понял, что именно он-то и был главным и мучил Кнопку больше всего.
— Строго говоря, Кнопка, каждый мальчик может стать знаменитым путешественником. Но тогда мы превратились бы в народ путешественников. Представь себе, в один прекрасный день все разъедутся по свету. А кто же останется дома? Если все станут путешественниками, кто будет пекарем, мясником, художником, музыкантом или министром? Ты действительно думаешь, что все мальчики хотят стать путешественниками?
— Я думаю, что в этом году — все.
— Почему именно в этом году?
— Потому что в прошлом году все мальчики из второго «Б» хотели быть шоферами или хоккеистами, но нынче и Зденечек, и Пепик, и Ярда, и Мартин, даже Наташа и Маркета хотят стать мореплавателями и путешествовать по дальним странам.
— А в будущем году это пройдет и все захотят быть еще кем-нибудь. Видишь ли, Кнопка, каждый человек раз в жизни переживает такое чудесное время, когда его влекут дали и приключения, когда его манит таинственный, прекрасный, неведомый мир. Это бывает в детстве…
И для детей пишу я эту книжку.
ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПОЗНАНИЙ,
или
ОХОТА НА ТАРАНТУЛОВ
— У нас, чехов, в крови желание поездить по свету, повидать другой мир, других людей, чужие обычаи. Во время войны и после нее мы долго не могли путешествовать по чужим странам. Но люди жаждут видеть все новое, все, что творится вокруг них, собственными глазами. Из газет о настоящих приключениях не много узнаешь. Люди же очень любопытны, они хотят сравнивать, познавать и, глотнув свежего ветра чужбины, поскорее вернуться домой.
В этом нет ничего непатриотичного, наоборот — это наша национальная черта. В силу исторических судеб наша страна уже с X века являлась перекрестком торговых путей, центром культурных связей и мировым рынком редкостных товаров. Путешествия в дальние страны и отважные экспедиции, заманчивые поездки, паломничества, плавания и полеты по неведомым путям стали у нас национальной традицией. Это определяется географическим положением нашей страны. Чехословакия расположена в центре Европы, словно крепость, окруженная со всех сторон горами и реками. Это отразилось и в литературе, нашло отзвук во всех произведениях чешских писателей. Нашу родину называли островом, отмелью, скалой, сторожевой вышкой, крепостью, замком, сердцем Европы, средоточием передовых идей. И от этих слов всегда веяло непреодолимым желанием вырваться из замкнутого круга. Вот почему чехи ездили в Россию и в Америку, в крайнем случае — в Вену и Будапешт. Вот почему в истории нашей культуры столько путешественников, хотя у нас и нет моря. Поэтому-то мы, небольшой континентальный народ, давший свету великие идеи и способный на славные деяния, стремимся завязать связи с большим миром. Не только вы, мальчики, но и мы, взрослые, мечтаем об этом. По натуре мы бродяги и мысленно все время путешествуем, понимаешь?
— Конечно, папа. Ведь ты все время разъезжаешь. Знаешь что: я принесу глобус, ты мне покажешь места, где побывал, и мы вместе проедемся по ним.
— Хорошо, Кнопка, давай проедемся по карте — нас ждет немало приключений.
Кнопка принес глобус, и я с изумлением увидел, что он знает, где находится Австралия, где расположена Индия и где высится гора Килиманджаро. Но он не мог найти ни Грецию, ни Румынию, ни Португалию. Его географические познания были сумбурны и бесспорно почерпнуты не из карты или атласа, и глобус он явно не часто держал в руках. Кое-что осталось у него в памяти от приключенческих романов, кое-что он узнал в пражском зоопарке в Трое, но большую часть своих географических познаний Кнопка приобрел окольными путями, из источников до некоторой степени случайных.
Я постарался выяснить, откуда он черпает свои сведения, и узнал, что ребята изучают сейчас географию главным образом вне стен школы и притом способами весьма различными и своеобразными.
Как-то по приглашению Кнопки я присутствовал на собрании ребят, созванном на тротуаре перед педагогическим факультетом, в тупичке улицы Магдалены Добромилы Реттиговой, и у меня сложилось весьма высокое мнение о географических познаниях школьников, правда отрывочных, но весьма разнообразных. Увы, когда я показал им расположение стран на карте, они растерялись и рассматривали карту, словно непонятную аллегорию.
Мальчик — назову первого попавшегося, ну, скажем, Карлик, — собирает марки. По маркам он знает все страны света, даже такие, о которых рядовой гражданин Чехословацкой республики не имеет никакого представления. Но раз страна выпускает собственные марки, значит, она есть на самом деле. Например, есть страна Стрейтс-Сетлментс[2] или, скажем, Саравак,[3] или Реюньон.[4] На марках часто изображены пейзажи, замки и дворцы, города и мосты этих стран или их известные исторические деятели. Иногда на марках портрет государя или президента республики. Марки бывают всех цветов радуги, а красота некоторых марок созвучна романтическому названию этих далеких краев. Марки имеют семнадцать или шестнадцать с половиной зубцов; края иных обрезаны, на некоторых есть водяные знаки. И, наконец, есть марки с небольшими опечатками, эти ценятся больше всего, уж не говоря о tête-bêche.[5] Вообще марки рассказывают о многом… Вы знакомитесь не только с валютой страны и определяете ее курс по стоимости марки, но с культурой, спортом, уровнем науки, с местной Академией наук, с фауной и флорой, транспортом и аэролиниями, а иногда по маркам можно определить, является ли данная страна активным сторонником лагеря мира или наоборот. Карличек придерживается такого мнения, что на международной выставке марок повторение географии — сплошное удовольствие и вовсе ни к чему зубрить ее по карте.
Иржик — крупный знаток государственных флагов. У него над кроватью развешана великолепная коллекция флагов, включая сигнальные морские флажки. Как-то Иржика даже отметили на Доске почета местной партийной организации за лучшее оформление окна в день 9 мая. На его окне висели флаги почти всех стран мира, так что в комнате стало совсем темно. Иржик может назвать и нарисовать флаги всех стран, знает их национальные цвета и даже может описать флаги всех союзных советских социалистических республик. С ироническим педантизмом он различает флаги военного и торгового флота. Изучив штандарты глав государств, он еще в прошлом году перешел к геральдике — науке о гербах и знаках, и теперь как пулемет сыплет наизусть все государственные гербы. Однажды, сопровождая с отцом какого-то иностранца, Иржик был в гостинице «Алькрон» и назвал все государственные гербы, которые в обилии украшали две стены главного зала. Служащие гостиницы, иностранцы и чехи, были поражены. Они сочли Иржика вундеркиндом, чего никак о нем не скажешь.
Эдитка коллекционирует чемоданные наклейки. Ей привозит их отец. Папа Эдитки разъезжает по всему миру как агент по продаже чешского граненого и дутого стекла. Он останавливался во всех гостиницах столиц и больших портов, какие только есть на земном шаре. Эдитка вначале собирала все «Гранд-отели», затем все «Сплендиды» и «Эспланады», а сейчас уже систематизирует наклейки по странам. Мальчики, конечно, уверяют, что она все выдумывает и не знает, например, что мюнхенский «Hotel zu vier Jahreszeiten»[6] находится, собственно, в Мнихове, а Мнихов[7] — в Германии. Вот какая она, эта Эдитка. Сами понимаете — девчонка!
Но самый крупный специалист — подписчик «Молодого техника» товарищ Франтик. Он знает географию по маркам автомобилей и по табличкам, удостоверяющим государственную принадлежность автотранспорта. Франтик знает, что ДК говорит о принадлежности машины дипломатическому корпусу, или дипломатическому персоналу, или какому-нибудь посольству. Франтик даже знает, что «СН» читается не как «х» в слове «хохолок», а как «КГ», так как это начальные буквы слов «Confédération Helvétique» — «Конфедерасьон Гельветик», — что означает «Швейцарская конфедерация».
Не всякий мальчишка с Владиславской улицы сумеет в этом разобраться! Стоит только Франтику издали увидеть радиатор, как он сразу распознает ситроены, паккарды, «Победы», ЗИСы и ЗИМы! А на каком расстоянии он отличает «Ягуара» от машины Бугати! Франтик — настоящий профессор автомобильной номенклатуры: он отличает шевроле от форда не хуже пана Шмейкала. А уж пан-то Шмейкал кое в чем разбирается! Ведь он шофер Министерства культуры. Да и Франтик культурный человек. Образованный!
Зденек, сын академика, распознаёт страны по их письменности. Например, он умеет отличить санскрит от китайских иероглифов и знает, что по-арабски пишут справа налево. Он переписал в свой блокнот тексты вывесок всех посольств и консульств Праги. Ему известны латинские буквы, которых нет в нашей азбуке, как, например, ё, ô или ï и т. п. Он усвоил их произношение, но мальчики утверждают, что он произносит эти буквы слишком в нос, и, если его послушать, так можно подумать, что у всех иностранцев насморк.
Его двоюродный брат Петр решил его перещеголять и выучил имена числительные всех известных ему языков мира. Но так запутался, что в третьем классе писал 1 и 5 вверх ногами, за что и получил по арифметике неудовлетворительную отметку.
А Здислав — его отец работает в «Прамене»[8] — различает страны по консервам и чужеземным фруктам. Он легко отличит испанские апельсины от кипрских, греческие мандарины — от советских, кокосовые африканские орехи и американские бананы, китайские орешки и какао с Суматры, чай грузинский и чай цейлонский. Как разнообразны, осязаемы и вкусны представления о далеких странах! Мир предстает не только в красках, неизвестные края имеют также аромат. И каждая страна — свой.
Я разложил перед группкой ученых мальчишек с нашей улицы все карты, какие у меня только были: старые карты, гравюры и новые — русские, американские и китайские атласы. Карты исторические. Карты сражений. Карты звездного небосвода и даже карту Луны. Планы городов. Старые автомобильные карты и подробные карты Союза чешских туристов. Словом, все карты, какие только нашлись в моих шкафах. И вот мы отправились в путь, уменьшили масштаб до 1: 500 000 и проделали совместное путешествие вокруг света за сорок пять минут. Интерес моих слушателей все возрастал. Перед ними на бумаге представал весь мир.
— Видите, ребята, как мы без особого труда познакомились с целым светом. Кто умеет читать карты, тот и дома, за своим столом, увидит немало. Немного фантазии — и сразу представишь себе любую страну. Карты нагляднее путевых дневников. По склонам гор можно легко взбираться к самым неприступным ледникам. По цветным звездочкам, квадратикам и треугольникам ты узнаешь, где люди добывают железную руду, где буровые вышки черпают нефть, где находятся месторождения цветных металлов, меди, ртути, где люди разводят каучуконосы, где выращивают чай и хлопок, где шахтеры рубят уголь. По сетке параллелей и меридианов можно узнать, какой климат в горах и низинах и где бывает ночь, когда у нас светит солнце. А чего не прочтешь по карте, то можно довообразить. Чтение карты — это школа фантазии. Есть в этом что-то от поэзии и всегда чуточка жажды приключений. Учитесь, мальчики, читать карты, и вы никогда не заблудитесь, отовсюду найдете дорогу домой.
— Папа, а карты трудно чертить?
— И да и нет. Когда работа валится у меня из рук, когда не получается статья или рисунок, я усаживаюсь чертить карту какой-нибудь прекрасной страны.
— Какой страны, папа?
— Любой. Может быть, даже несуществующей. Я расскажу вам об одной такой карте. Во время войны мы с Иржиком и Яном были в Америке — в Голливуде; у нас частенько не хватало денег на обед, и мы не могли вовремя заплатить за квартиру. Работу найти было очень трудно. Иржик и Ян записывали на пластинки антифашистские песенки, а я с доном Парисом переводил на английский язык свою книгу «Турист поневоле». Но нельзя же работать беспрерывно, и потому в свободные минуты я чертил карты. Но не той страны, где я жил, а от начала до конца вымышленной.
— Такой, которая вообще не существует, папа?
— Понимаешь, Кнопка, я чертил карту страны, которая ни на какую другую на свете не похожа. Там были горы и долины, ручьи и полноводные реки, дремучие леса и степи, богатые месторождения и разные звери. А когда карта бывала готова, по моей воле там появились и жители. В самых удобных местах я поместил города и села, потом возникли государства и границы между ними, расцвела цивилизация. От города к городу протянулись шоссейные и железные дороги. И, наконец, разразились войны.
— И эта страна не походила ни на какую другую страну?
— Да, то была целиком вымышленная страна.
— Папа, а существует ли на свете что-нибудь ни на что не похожее?
— Гм! Ты прав, Кнопка. Каждая вещь хоть на что-то да похожа. Люди ведь тоже походят друг на друга. И страны тоже похожи одна на другую. Мои карты были совсем как обычные географические, и не только по форме и внешнему виду — они имели все особенности, свойственные картам. С одной картой мне особенно повезло. Я считал ее исключительно важной и вычертил во всех деталях. Когда мы возвращались из Голливуда в Нью-Йорк, я подарил эту карту Саше Гакеншмидту. Не знаю, что потом с ней случилось. Эта карта была больше стола, ярко раскрашена, с красивыми надписями, совсем как настоящая. Иржик и Ян приходили смотреть, как подвигается моя работа, а поскольку они такие же любители игр, как и твой отец, то каждый раз что-нибудь советовали и вносили рационализаторские предложения — у них ежедневно возникали новые идеи. Так выросли на карте богатые приморские страны, прельщающие завоевателей, и бедные страны, большие и малые. Но удивительно, Кнопка, что на всех картах обязательно была одна небольшая, но плодородная и богатая страна, со всех сторон окруженная лесистыми вершинами, прекрасная страна…
— Это была Чехия, правда?
— И да и нет, Кнопка. Когда я чертил эту карту, Чехия была оккупирована жестоким и мстительным врагом, и мы постоянно вспоминали нашу родину и наш народ…
— …и бабушку.
— …и бабушку, и друзей. Вот почему эта прекрасная страна так напоминала нашу родину. Она всегда получалась похожей на Чехию, ну и я уже перестал этому удивляться.
Когда Иржик и Ян уехали в Нью-Йорк, а я остался ненадолго в Калифорнии, мы переписывались так, словно каждый из нас и вправду жил в одном из городов выдуманной мной страны. Мы рассказывали друг другу, какова там жизнь. Ян сообщал, куда он ездит на рыбную ловлю и какую рыбу он ловит. А я отвечал, что в городе Переполох вспыхнула революция или что на склонах Синих гор, в долине реки Ио, необычайный урожай винограда. Ирка извещал: в городе Хохол в государстве Кордаков женщина родила сразу пятерых и одного из них назвали в его честь. Я отвечал, что еду по торговым делам на север, туда, где кончается карта, к Лунному морю, покупать кршел и морту.
— А что такое кршел и морта, папа?
— Ничего, чепуха. Мы дофантазировались до того, что стали выдумывать названия несуществующих деревьев, плодов, минералов и зверей. Я вспоминаю благородный, культурный, прекрасный народ — дурутов, который жил в горах, и миролюбивых крестьян Плахы, их соседей. Но однажды весь этот нарисованный материк и особенно страна дурутов подверглись страшной опасности.
— Что случилось, папа?
— Был чудесный жаркий день. Через окна, закрытые сеткой, в комнату доносилось непрерывное щебетание калифорнийской птички — я не знаю, как она называется, — напоминавшее стук старой пишущей машинки. Я дочерчивал условные обозначения в правом углу карты, как вдруг напротив меня на столе появилось отвратительное чудовище: черный мохнатый паук. Огромный, как черные очки… нет, больше ладони взрослого человека. Чудовище взобралось на карту и уселось примерно на двадцатом градусе западной долготы и пятьдесят третьем градусе северной широты — на самых высоких хребтах пограничных гор государства дурутов. Я пулей вылетел из комнаты и поднял в доме тревогу. Через минуту, вооруженные ножами, одурманивающими средствами и сачком для бабочек, мы с сильно бьющимися сердцами приоткрыли дверь. Огромный паук сидел на том же самом месте…
— Ой, а что было дальше, папа?
— Я представил себе, каково же приходится бедным дурутам, если на их стране восседает такой огромный паук. Как жители бегут с гор в долины. Дурутское правительство объявляет мобилизацию и устанавливает военное положение в пограничных областях, которым угрожает непосредственная опасность. Как это обычно происходит в сказках, объявляется награда тому артиллерийскому полку либо той эскадрилье бомбардировщиков, которые одолеют чудовище. Известие о неожиданном событии мгновенно облетело весь материк на нашей карте. В некоторых городах поднялась паника, и дело дошло даже до беспорядков и демонстраций.
— Как ты узнал об этом, папа?
— Я все выдумал, Кнопка! Но, взглянув на карту, к своему ужасу понял, что чудовище было большое и если бы оно уселось на карту Чехословакии того же масштаба, то закрыло бы Крконоши, Орлицкие горы, Есеники и Бескиды. Где-то над Ржичками колыхалось бы его косматое брюхо, над всей страной опустилась бы черная тень, и днем стало бы темно, как ночью. Под каждой из восьми ног чудовища находился город, теперь превратившийся в руины. Это был ядовитый калифорнийский паук — тарантул. Его укус смертелен.
— А ты не преувеличиваешь, папа?
— Нет, Кнопка, в самом деле! Это сущая правда, и мы сильно испугались. Женщины убежали на бульвар Сансет, а мы плясали вокруг стола и отскакивали от него, как только паук поднимал ногу. Мы налетали друг на друга — в общем, как в комической постановке в «Освобожденном театре».[9] Ты не представляешь, как быстро бегает этот паук и как тесна была комната для трех неуклюжих горе-охотников за ядовитыми пауками. Наконец мы уже решили отказаться от борьбы, запереть комнату на ключ и уморить чудовище голодом. Но в последнюю минуту Иржика осенила блестящая идея: «Поймаем его в коробку из-под сигар!» Ян держал у края стола открытую коробку, а я рейсшиной подталкивал туда паука. Вон он уже на самом краю стола. Перед ним разверзлась пропасть — коробка. Паук понял, какая опасность угрожает ему, и побежал. Но коробка всюду следовала за ним. Наконец мне удалось столкнуть паука. Иржик тут же захлопнул крышку коробки. Чудовище попало в плен. Но мы обливались потом. Коробку сразу заклеили и сделали на ней надпись на чешском и английском языках: «Осторожно, внутри живой ядовитый паук!» Затем, собрав наши последние центы, мы отправились на рынок в северном Голливуде купить галлон калифорнийского, отнюдь не первосортного вина. Страна дурутов уцелела. Мы избавили ее от чудовища не менее страшного, чем бич человечества — война.
— И за это вам присвоили звание почетных граждан столицы дурутов или по меньшей мере народных художников, да?
— Но, Кнопка, ведь страны дурутов на самом деле не существует. Нам не повезло: мы освободили несуществующий народ и благодарить нас было некому.
— А на глобусе все страны настоящие, правда, папа?
— Да, там только те страны, которые есть на самом деле.
— А ты во всех побывал, да? И не меньше чем по два раза?
— Что ты, Кнопка! Правда, кое-где я был, по собственному желанию или в силу обстоятельств, но не объехал и полмира. Мне незнакомо все Южное полушарие от экватора на юг к Антарктиде. Там я никогда не был, хотя именно в Южной Америке находятся страны, о которых я мечтал с детства. Северное полушарие я знаю лучше, но и здесь далеко не всё. И вообще, Кнопка, недостаточно повидать какой-нибудь уголок земли, чтобы заявить: я его знаю. Нынче все так быстро меняется, что человек не успевал бы ездить туда и обратно. Приедешь куда-нибудь, где лет десять — двадцать назад были скалы и леса у реки, и поразишься: сейчас здесь раскинулся город, в скалах проложен туннель, через реку перекинут мост, да не один, а два, три, четыре моста. Как муравьи, взбираются на гору электрические мачты, затопленную долину преградила плотина. Совсем иной пейзаж. Это особенно бросается в глаза в странах, строящих социализм, и главным образом в Советском Союзе. Вот взгляни хотя бы на поля у нас в Ржичках. Примерно лет десять назад вокруг, словно заплатки, пестрели небольшие пашни. А сегодня здесь до самого горизонта раскинулись сплошные поля. Спроси художников-пейзажистов, они тебе скажут, насколько теперь стало труднее разыскать живописные уголки.
— Но, папа, ведь мосты, туннели, дома — не природа.
— Почему ты так думаешь?
— Потому что дома, мосты не растут, у них нет детей — они не цветут и не приносят плодов!
— Это, конечно, так, но они слились с природой, вросли в нее, окружили ее со всех сторон. Это дело рук человека. Результат человеческого труда, Кнопка. Человек меняет лицо мира. Он покоряет природу, чтобы она служила на благо человечества.
— И природа поддается человеку?
— Сопротивляется, но человек сильнее ее. Теперь планетой управляют люди. У них есть разум и сила. Люди мыслят. Ты мыслишь. Это великое дело, Кнопка! Люди борются с природой организованно. У них в руках технические приборы, машины, электричество, атомная энергия. Человек неуклонно идет в наступление и покоряет стихию. Это называется цивилизацией, или, если хочешь, прогрессом, а прогресс нельзя остановить. Пусть природа сопротивляется, но, несмотря на бури, наводнения, смерчи, морозы и жару, люди в конце концов победят. И ты когда-нибудь побываешь всюду, Кнопка, но мир уже будет не таким, каким его видел я. Ты станешь путешествовать в новом, преображенном мире. Полетишь в реактивных авиапоездах, стратосферных экспрессах, поплывешь в подводных ракетных лодках или отправишься пешком с рюкзаком и палкой, но пойдешь уже через совсем иные края и страны, да и люди, которых встретишь, будут совсем другими людьми.
Тогда будут не нужны ни визы, ни паспорта, ибо исчезнут границы между государствами и людьми, не будет ни врагов, ни общественных классов и даже не придется заполнять анкеты!
— А почему вдруг всего этого не будет, если сейчас это есть?
— Придет время — и люди поймут, что все могут жить в дружбе и согласии, потому что к этому стремится мир от глубокой древности.
ПРОГУЛКА ПО ПЕРВОБЫТНОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ,
или
ЛАСКО
Однажды, это было во вторник после полудня, на пути из Комара к Черной воде мы с Кнопкой обнаружили в лесу пещеру. Из нее поверх трех огромных дубов, росших в долине, открывался вид прямо на Польшу. Мы с трудом пробрались внутрь. Пещера могла бы служить хорошей защитой от непогоды, но сегодня, как нарочно, небо было ясное, хотя последние три недели дождь лил ежедневно.
— Ты когда-нибудь жил в пещере, папа?
— Нет. Правда, еще и теперь есть места, где люди обитают в пещерных городах, но до того, как человек научился строить дома и хижины, в пещерах жили все.
— В таких пещерах, как эта?
— В больших, гораздо больших. Помнишь, мы были в сталактитовых пещерах на Мацохе и в ледяной пещере в Добшине?
— В Добшине люди замерзли бы.
— Гм, пожалуй…
Значит, там они не жили, но, возможно, хранили на льду мясо кабанов, медведей, серн и оленей. Холодильников тогда еще не было. Но ты прав: в наших пещерах очень сыро, со сводов все время капает, и спящему лило бы прямо на нос. Нет, они непригодны для жилья. И в первобытные времена, вероятно, был жилищный кризис. Не хватало сухих, гигиеничных, комфортабельных, хорошо проветриваемых, удобно расположенных пещер. Но я видел пещеру, где когда-то обитали люди. Там был очаг, зал заседаний и даже картинная галерея. Да, милый мой, первобытная Национальная галерея! И какая!
— Где ты это видел, папа?
— Во Франции, в пойме реки Дордонь. В долинах рек Везер и Бен есть множество обширных пещер и катакомб. Очень давно в этих пещерах жили дикие звери, ну, скажем, медведи, а позже там поселились пражители этого края. В те далекие времена и возникло первобытное искусство. Первая картинная галерея.
— Там жили французы?
— Нет. Тогда вообще еще не было никаких наций и человеческая речь только начинала развиваться. Это было давно.
— А когда было это «давно»?
— Это «давно» действительно было очень давно. Вот представь себе. Тебе десять лет…
— Скоро будет.
— Ну хорошо, допустим, что тебе уже десять. Представь себе две тысячи пятьсот десятилетних мальчиков, стоящих рядом, или, вернее, один на другом, и ты должен сосчитать сверху вниз так, чтобы…
— Но это ерунда, папа! Если бы я и пересчитал две тысячи пятьсот десятилетних мальчиков, стоящих рядом или один на другом, то все равно было бы две тысячи пятьсот десятилетних мальчиков, а не один мальчик двадцати пяти тысяч лет.
— Гм! Да, это в самом деле ерунда. Пожалуй, ты прав. Я всегда был слаб в арифметике. Но ты уж представляешь себе, как давно это было?
— Да, ужасно давно…
— Вот именно. Это было ужасно давно. Так давно, что это даже трудно вообразить. Уже сто тысяч лет назад в этих пещерах, вероятно, обитали наши предки. Это были скорее человекообразные обезьяны. Они только начали действовать руками, но я знаю наверняка, что двадцать пять тысяч лет назад здесь жили люди, которые уже умели рисовать.
— А откуда ты это знаешь, папа? Ведь тебя тогда еще не было на свете.
— Конечно, меня тогда на свете еще не было. Но я побывал в этих пещерах и видел картины из жизни прапредков человечества, которые они нарисовали на стенах.
— Ты был там? Ты первый обнаружил те пещеры, как мы с тобой вот эту?
— Был, но пещеры нашел не я. Их нашла собачка.
— Ну, папа, не загибай!
— Нельзя ли повежливей? С отцом так не разговаривают. Я тебе говорю, те пещеры обнаружил рыжий песик.
— Папа, расскажи, пожалуйста!
— Дело было так. В одном французском городке, по названию Монтиньяк, в центре Франции, в области Перигор, где готовят отличные паштеты, жили четыре мальчика. Они частенько бродили по окрестностям вместе со своим неразлучным другом, маленьким рыжим песиком.
— Как его звали?
— Этого я не знаю, Кнопка, в «Истории мировой культуры» об этом забыли упомянуть. Да и в книге записей муниципалитета Монтиньяка не указано, что этот песик был рыжий. Но я думаю, что он непременно был рыжий.
— Определенно рыжий! Ну, дальше.
— Обычно мальчики играли в индейцев, но в ту осень, когда произошло это событие, они играли в партизан, потому что нацисты оккупировали Францию и французские патриоты и коммунисты объединились для сопротивления оккупантам. Итак, четыре мальчика ползли среди густого кустарника графского поместья, расположенного на холме над городом. Эти земли принадлежали замку Ласко, который стоял здесь с пятнадцатого столетия. Владелицу замка мальчики знали. Она иногда ездила на машине в город за покупками. У нее была машина «Рено» и очень длинное имя: графиня де ля Рошфуко-Монбель, урожденная Дарбле-Лабрусс де Ласко.
— Если она посылала кому-нибудь открытку, то, наверно, целиком заполняла ее одной своей подписью. Ну, рассказывай о мальчиках.
— Да… Итак, скрываясь от врагов, мальчики ползли среди густого кустарника в графских владениях.
— Это ты уже говорил.
— И вот они подползли к вывороченному дереву. Незадолго до этого буря выворотила старую ель. Под ее корнями зияла глубокая черная яма; наш рыжий песик свалился туда и стал отчаянно выть и лаять. Видимо, ему там было очень страшно. Тогда мальчики — двое из них были постарше — спустились за песиком вниз, в темноту. Они зажгли спичку и обнаружили, что находятся в огромной пещере, конца которой не видно. Опасаясь куда-нибудь провалиться, мальчики вылезли, старший из них — он был командиром партизан, — созвал…
— …пленум!
— Какой там пленум!..
— …собрание!
— Нет, никакое не собрание. Тогда не было никаких собраний. Он созвал совет. Военный совет. На совете обсуждался один вопрос: должны ли они объявить о том, что обнаружили пещеру, или сохранить свое открытие в тайне.
— Это должно было остаться их тайной.
— Не тут-то было, промахнулся, Кнопка! Хорош пионер! О таком открытии нужно обязательно рассказать тому, кому доверяешь и кто знает, что предпринять дальше. Первый мальчик сказал: «Заявим в полицию». А другой возразил: «Это не дело. Полиция теперь фашистская, а мы партизаны. Доверимся леснику». — «Ни в коем случае! — вмешался третий. — Лесник напустится на нас: как, мол, вы сюда попали, ведь известно, что на территорию имения вход строго воспрещен». Четвертый мальчик, который обычно был их командиром, рассудил так: «Скажем об этом учителю Лавалю». Учителя Лаваля они все любили. Он еще в прошлом году преподавал у них. Лаваль был патриотом, и поэтому предательское правительство Петэна уволило его на пенсию. Новому учителю наши партизаны не могли довериться: это был фашист, он сотрудничал с оккупантами.
Мальчики обнаружили пещеру двенадцатого сентября 1940 года, днем, после уроков. Листья уже пожелтели. На следующий день, тринадцатого, а может быть, и четырнадцатого сентября, точно не знаю, из города на холм тайком отправилась довольно странная экспедиция. В первый раз учитель Лаваль нарушил приказ, запрещающий вход в графские владения. Он полз среди кустов, зазеленил себе брюки на коленях, но не повернул обратно. Мальчики были в восторге от своего открытия, а учитель Лаваль любил молодых энтузиастов. «Из таких выйдет толк», — говаривал он. Ну, короче, учитель Лаваль убедился, что эта пещера необыкновенная. На ее стенах были изображены различные животные, гораздо больше натуральной величины, да и пещера была самой большой в их крае. А пещер там очень много…
— Ты уже об этом говорил.
— Учитель Лаваль написал письмо в Париж известному ученому, знатоку пещерной живописи, аббату Брейлю, и пригласил его приехать посмотреть пещеру. Аббат Брейль примчался мигом. Двадцать первого сентября он был уже на месте и, даже не отдохнув с дороги, принялся исследовать, насколько важно это открытие. Ученый сразу понял, что это самое крупное открытие доисторической живописи в мире. Подобные изображения были найдены и в других местах: в пещерах Альтамиры в Испании, в Южной Африке, в Австралии, во всем мире, всюду, где жил человек, но рисунки в пещере около замка Ласко были наиболее совершенны и прекрасно сохранились. Они выглядели так, словно их рисовали только вчера. Четыре мальчика и их песик даже не подозревали, как они прославились своим открытием. Не исключена возможность, что все они получили орден Почетного легиона.
— И песик?
— Песик, конечно, нет, самое большее — ему дали какую-нибудь кость, хотя именно он упал в пещеру и этим первый обратил на нее внимание мальчиков. Все равно он знаменитый песик… Могу тебе сказать, Кнопка, что живопись в Ласко — самый древний из всех известных до сих пор памятников изобразительного искусства на земле. Я стоял перед рисунками как вкопанный. По спине у меня бегали мурашки, сердце радостно билось, а на глаза навернулись слезы.
— Почему, папа?
— Я убедился, что искусство переживает все эпохи, войны и бедствия. Искусство вечно. Если люди смогли нарисовать такое двадцать пять тысяч лет назад, значит, чувство прекрасного присуще человеку всегда. Искусство живет в каждом. Оно как пламя, как огонь, его никто и никогда не сможет загасить. Искусство бессмертно.
— Чего ты так разволновался, папа?
— Ничего. Я всегда волнуюсь, когда речь заходит об искусстве. Если бы ты, сынок, сейчас нарисовал такого быка, как в пещере Ласко, и так же живописно, так же выразительно, просто и достоверно, то стал бы одним из величайших художников нашего времени.
— А что же там нарисовано?
— Быки, шестиметровые быки, коровы, кони — серые в яблоках, буланые, гнедые, сивые, вороные, — жеребые кобылицы, зубры, олени, лани, северные олени; они стоят, бегут, лежат, сраженные стрелами и копьями… Есть там и трехрогий носорог.
— Носорогов во Франции нет.
— Верно, сейчас нет, но тогда еще были. Водились раньше там и слоны, и львы, и мамонты. Мамонты уже вообще вымерли, не только во Франции. Но в то время, когда первобытные охотники рисовали животных на стенах пещеры, во Франции еще встречались породы степных зверей, которые до сих пор живут в сибирской тундре. Охотники рисовали только то, что видели, знали. И как знали, мальчик! Им было известно, где какая кость, где сустав, где мышца и как расположено копыто, где у коровы рога, где уши, где начинается хвост и какой длины должно быть туловище, если они изображают ее двухметрового роста. Они хорошо знали природу и животных. Понимаешь, Кнопка, в искусстве главное — наблюдать, познавать, знать обо всем, почему, что и как, и лишь тогда приниматься рисовать. Но это умеют только истинные художники.
— А все первобытные люди были художниками?
— Ну, что ты! Тогда бы им есть было нечего! Ясно, что они не все были художниками, лишь некоторые из них обладали особым художественным даром, умели изобразить, нарисовать или высечь в скале точное изображение зверей. Главным занятием этих племен была охота. Ею они жили и кормились. Они не умели ни пахать, ни сеять, не умели ни читать, ни писать.
— А рисовать умели?
— Да, Кнопка, рисовать они умели. Рисование вообще основа основ. Сначала люди, вместо того чтобы писать, просто рисовали. Возможно — я подчеркиваю: возможно, ибо не знаю наверняка, как и никто точно не знает, — что, прежде чем люди научились объясняться друг с другом, они уже рисовали. Живопись — это божественная профессия, прекрасная, трудная, не терпящая принуждения. Ты не хочешь быть художником?
— Нет, папа, я хочу быть моряком.
— Ну, тогда ничего не поделаешь, надо вылезать из первобытной пещеры и спускаться с горы. Морякам в горах нечего делать. Пошли, ведь нам нужно преодолеть всего лишь двести семьдесят столетий и не менее шести километров, чтобы попасть домой к ужину.
ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ ВОЕННЫЙ ФЛОТ В ОРЛИЦКИХ ГОРАХ,
или
ЗОВ МОРЯ
Одно время Кнопка совершенно серьезно решил стать моряком. В моей комнате в Ржичках находился его флот, искусно вырезанный и сколоченный из дерева. Что правда, то правда — флотилия была действительно очень хороша: башни одеты в броню из жестяных консервных банок, испорченные карманные фонарики пошли на прожекторы, пробки — на трубы или орудийные щиты, из проволоки сделаны мачты, из всевозможных гвоздей — орудия разного калибра. Так возникли новые типы морских орудий: кровельные, шурупные, литые, заклепочные. Суда были изумрудного цвета. Не потому, что эта окраска была защитной и корабли могли незамеченными пробраться в зелени лесов и лугов сквозь овес или крапиву, а просто потому, что с прошлого года после ремонта у нас осталась зеленая краска, которой мы покрывали рамы. Кнопка и Лойза Фишарек были адмиралами.
А какие прекрасные названия носили эти суда! Адмиральское — «Аврора». Авианосцы с побеленной взлетной площадкой и катапультой, выбрасывающей самолеты-истребители, получили гордые имена «Прага» и «Горымир». Броненосцы первого класса — «Стальной», «Отважный», а также «Радецкий».[10] Уговорить ребят, что теперь это имя не годится, не удалось. Кнопка унаследовал от меня игрушечный крейсер, на корме которого стояло имя «Radetzky». Когда-то я получил его в подарок от своей тетки из Вены. Итак, в память о моем детстве «Радецкий» занял надлежащее место в чехословацком военном флоте. Торпедным катерам повезло больше: они торжественно именовались «Ленин» и «Фучик». Зато подводные лодки получили женские имена — ведь лодка женского рода. Они назывались: «Шарка»[11] и «Либуша».[12] И, наконец, один броненосец звался «Ржички», хотя Ржички так далеко от моря!
Впрочем, наткнуться в Орлицких горах на лугу за малинником на эскадру дредноутов было столь же странно, как встретить в открытом море, скажем в Индийском океане, судно, которое носило бы имя чешской горной деревушки «Ржички».
Этот флот нельзя было спустить на воду, потому что кили не уравновешивали суда, а в трюмах было полно гвоздей и металлических частей. Как только мы спустили лодки в ручей, они накренились… Ну, вот я и попался. Иногда сболтнешь что-нибудь и попадешь в глупое положение. Ну что ж, признаюсь, я тоже участвовал в этих морских битвах, правда, лишь как наблюдатель и корреспондент местных жамберецких газет. Признаюсь, некоторые рационализаторские предложения при постройке этих судов внес я, иные были взяты из старого австро-венгерского морского альманаха.
Занятное зрелище: с холма, от дома Подземных, по лужайке среди цветов и колышущейся травы навстречу неприятельской флотилии, построенной в боевом порядке перед нашим домом, на всех парах мчится чехословацкий военный флот. Неприятель трусливо укрывается за дымовой завесой. Начинается пальба. Подсчитываются прямые попадания. В этих битвах участвуют все дети с Альмы — холма вблизи Ржичек. Вот с левой стороны появляются торпедные катера. Внимание! Мины! Мама давно зовет «адмирала» обедать, но битва не прекращается. Мы уже доедаем кнедлики со сливами, когда запыхавшийся «адмирал» появляется у окна с криком:
— Папа, телеграфируй в свою газету: «Чехословацкий флот разбил неприятеля наголову, потопил три броненосца, два торпедных катера, один авианосец, а остальные разогнал! Остатки неприятельского флота удирают по склону вниз, на пасеку. Догнала… Точка».
Я телеграфировал в газету, но все же отчитал «адмирала» за опоздание к обеду:
— Когда суп на столе, битва должна быть прекращена. Сражение можно прервать и возобновить после обеда!
— Да, чтоб неприятель в это время занял выгодные позиции и перегруппировал войска! Этого только не хватало!
Так окончились мои тщетные педагогические начинания. Я сдался и, оставив адмирала за кнедликами со сливами, пошел по грибы. В этом году грибов так много, что искать их не приходится. Я шел лесом и говорил себе: «Отдам Кнопку в морское училище в Ленинграде или в Щецине. Там принимают с четырнадцати лет. Может быть, его возьмут. Но ведь четырнадцать лет не за горами. И тогда я не увижу его целых пять лет! Он будет скучать. Впрочем, есть еще время подумать. Возможно, это увлечение у него пройдет».
Размышляя таким образом, я дошел до самой Плахты, откуда открывается прекрасный вид на наш край и неведомые синие дали. Что там? Быть может, горы, возможно, и облака или… море. Стою, смотрю… В такие минуты люди охотно рассуждают сами с собой. Я говорю себе: «Море прекрасно. Кто хоть раз увидит море, того неудержимо влечет к нему. Странствия по далеким морям — это чудесная страница из чудесной книги, в ней — мечта народов, у которых нет своего моря. В сущности, Кнопка унаследовал это влечение от отца».
Впрочем, Кнопка уже видел море. Правда, тогда ему едва минуло четыре года, но он часто слышит о море от меня и нередко сам рассказывает о нем. Однажды я услышал, как Кнопка говорил о море Адаму. Адаму еще нет двух лет, но Кнопка усиленно просвещает его.
— Адам, а ты вообще знаешь, что такое море? Море — это вода. Например, когда играют и что-нибудь прячут, то приговаривают: вода, вода.[13] И в море кругом вода, со всех сторон, насколько хватает глаз. Одна вода. Но там она не прозрачная, как в стакане, и не зеленая, как в тазу под черешней. Морская вода темная. Иногда синяя. Иногда даже стального цвета. Порой она словно из жести. А к вечеру как ртуть. Знаешь, такая серебристая, которая в термометре, понимаешь, Адам?
Адам никак не может уловить связи между морем и термометром, который ему ставит доктор, когда он нездоров. Поэтому Адам встает и отправляется строить из кубиков новую вавилонскую башню.
— Адам, когда я рассказываю о море, ты слушай, а не играй кубиками! У моря вообще нет берегов. Конечно, они есть, но так далеко, что их не видно. На берегу — песок или просто скалы. В Нормандии — песок. В Бретани — скалы. В Дьепе и Берневале — белые круглые камешки. Миллиарды миллионов камешков. Во время отлива песчаная полоса расширяется и вдается в море. Она гладкая или волнистая — это волны оставили на ней полосы. Иногда во время прилива вода совсем закрывает песок. Прилив и отлив бывают по очереди. По песку можно ходить босиком и собирать ракушки. Там живут крабы; они пятятся назад, и еще каракатицы, их скелетом кормят канареек и очищают пальцы от чернил. Моллюски бывают разные, и все их можно есть. Наш папа их очень любит. А еще он любит морских ежей, омаров и лангустов — это большие раки. У моря они дешевле говядины. У омаров клещи, а у лангустов щупальца. Раковины очень трудно открывать: ведь моллюски, которые живут в них, не хотят, чтобы люди их съели. И достать их нелегко, потому что они лежат на самом дне моря. Море очень глубокое, и каждый, кто заплывет дальше веревки, утонет. Поэтому по берегу ходит матрос, босиком, в панаме, с вытатуированным на плече якорем. Если кто-нибудь заплывет слишком далеко, он свистит в свисток, который висит у него на шее на красном шнуре. Плавать далеко можно только на лодке. Зато лодкам, особенно парусным, нельзя подходить близко к берегу — киль может завязнуть в песке или руль запутаться в морских водорослях. Водоросли после прилива лежат на берегу и сильно пахнут. Вернее, не пахнут, а воняют. Запах у них — как в приемной врача. Море, которое не имеет конца, называется открытым морем, или океаном. В открытом море водятся рыбы разных пород и размеров. Рыбаки рано утром выходят в море и ловят рыбу для консервов. Вечером они возвращаются домой с уловом. В море не ловят удочкой с удилищем, катушкой, леской и поплавком, как папа в Орлице, в Здобнице или на Малше, не наживляют, как при ловле форели, мушек, кнедлики, вишни или дождевых червей. В море рыбу ловят темно-коричневыми сетями и вытаскивают ее целыми ведрами. Если рыбаку повезло, он возвращается с большим уловом. Раков ловят корзинами, похожими на крысоловки, а приманкой служит тухлое мясо. В открытом море или океане плавают пароходы с тремя трубами. Во время тумана, чтобы не столкнуться, они гудят. Гудят так страшно, словно мычат коровы.
Адам явно не находит ничего страшного в мычании коровы Фидлеров и начинает сам: «Му-му-му!» Кнопка озадачен. Он усомнился, достаточно ли понятен его рассказ о том, как идут пароходы в бурю. Но он тут же обретает уверенность. Ему приходит идея наглядно показать Адаму все трудности, с которыми сталкиваются мореплаватели:
— Смотри, Адам! На берегу стоит высокий белый маяк. Я буду маяком, а мои руки — лучами света, который маяк посылает в темноту. Ты будешь кораблем, попавшим в беду. Качайся возле меня, будто не знаешь, где берег и коварные подводные камни. Сторож маяка, увидев, что стемнело и разразилась буря, поднимается по винтовой лестнице в сто пять ступенек на самый верх и зажигает лампу. Видишь, мои руки — это свет. Ты чуть было не разбился о камни, но при свете маяка вовремя заметил опасный утес. Остановись, Адам! Ты спасен. Жаль, что ты еще не умеешь говорить. Тебе следует со слезами на глазах благодарить героического сторожа маяка!
Адам явно задет этим бестактным намеком на свое неумение изъясняться и начинает с восторгом горланить: «Ла, ла, ла!» — в доказательство того, что все-таки обладает даром речи.
— Адам, замолчи! Ты даже не знаешь, какой опасности избежал! Морской прибой мог вдребезги разбить тебя о скалы, и весь экипаж погиб бы. Волны очень сильны… Папа, Адам не знает, что такое волны. Он думает, что это нечто теплое, вроде его курточки,[14] а я не знаю, как ему объяснить.
— Ну, волны — это вечное движение моря. Это ветер…
— Для Адама это слишком учено! Волны — это маленькие холмики из воды, которые появляются и опять исчезают. Во время сильного ветра волны надевают белые чепчики из пены. Волны гонятся одна за другой и на берегу расползаются…
— Говорят: волны разбиваются…
— Нет, папа, они не разбиваются, волны волнятся. Бьют в спину, с шумом налетают на берег, расползаются и откатываются обратно в воду. Они соленые. Такие соленые, что и воздух у моря соленый. Да, Адам, ведь я тебе еще не сказал, что морская вода соленая. По вкусу она напоминает минеральную воду, только без пузырьков.
Кнопка замечтался и неожиданно закончил:
— Море огромное. Это стихия. Море очень сильное. Потому что оно стихия. Оно может разбить и железо и скалы. На морском дне полно обломков затонувших кораблей. Но у нашей республики нет моря. Море — это стихия.
Слово «стихия» Кнопке понравилось. Он повторил его несколько раз. Затем оставил Адама в покое и обратился ко мне:
— Папа, за морем находятся одни лишь неизвестные страны?
— Нет, Кнопка. Теперь уже все страны известны. Разведана почти вся суша. Люди побывали повсюду.
— А там, за морем, прекрасные страны, да?
— Конечно. Но и наша страна тоже прекрасна.
— Я знаю. Но у нас нет тигров и дикарей, как в приключенческих книжках. Я бы хотел повидать все страны на свете.
— Может быть, когда-нибудь увидишь.
— А мне хочется уже сейчас. Если бы я добрался до какого-нибудь порта, то, возможно, меня взяли бы на судно.
— И ты оставил бы папу, маму, бабушку, Адама и уехал от нас?
— Что ты, папа! Я ведь не навсегда оставил бы вас, я бы вернулся знаменитым путешественником и написал книгу о своих приключениях. Дядя Дрда[15] издал бы ее, а я получил бы много денег и стал писателем, как Жюлес Верне.
— Пишется Jules Verne, а произносится Жюль Верн. Знаешь, Кнопка, а ведь в детстве знаменитый писатель Жюль Верн так же, как и ты, представлял себе, что все это очень просто, и из этого ничего хорошего не вышло.
— Но ведь он стал знаменитым писателем!
— Не в таком возрасте, как ты. Все не так легко, как тебе кажется сейчас. Чтобы твои мечты сбылись, нужно много учиться и работать. Со временем ты это поймешь. А сейчас садись, и я расскажу тебе, что случилось с Жюлем Верном.
— Пожалуйста, папа, начинай поскорей!
— Подожди, вот только набью трубку… Итак, Жюль Верн родился восьмого февраля 1829 года в Нанте. Его отец, Пьер Верн, был то ли нотариусом, то ли адвокатом. Мать Жюля происходила из семьи нантских судовладельцев. В бывшей комнате дедушки на коричневых бамбуковых палках все еще висели тяжелые зеленые плюшевые гардины с коричневыми помпончиками, люстра с кораллами, стоял шкаф, наполненный открытками с иностранными марками. У Жюля был младший брат, Поль. Мальчикам больше всего нравились красивые, воспроизведенные вплоть до мельчайших деталей модели парусных лодок, фрегатов и бригов, медная бусоль, глобус, карты и старые судовые журналы плаваний в Индию или на острова Тринидад, Мартинику, Гаити и Кубу. Когда старый Пьер Верн закуривал гаванскую сигару, мать Жюля всегда вспоминала отца, деда и прадеда. Они тоже курили сигары, но не покупали их на углу улицы, в табачной лавке мадам Боннепье, а привозили прямо из Гаваны завернутыми в ароматные пальмовые листья, в ящиках из кедрового дерева. Мать столько рассказывала Жюлю об этих поездках, словно сама объехала с дедушкой весь свет, хотя в действительности никогда не плавала по морю и даже ни разу не ездила в поезде.
У Жюля Верна, как я уже сказал, был младший братишка, Поль. Ребята часами торчали у окна своего дома на кривой улице Карвеган, ожидая, пока появится первая мачта парусника, возвращавшегося во время вечернего прилива в порт. Из дома Вернов можно было видеть только верхушку мачты, но мальчики и этим были довольны.
А дальше, на горизонте, виднелось море. Говорят, что в порту море видно из любого окна, однако это не так. Но из окна дома Вернов море было видно. Соленый морской ветер приносил с собой запахи порта: мокрых канатов, рыболовных сетей, устриц, моллюсков и морских звезд, свернутых парусов и заманчивый аромат приключений. Если конец улицы тонул в тумане или прилив начинался поздно ночью, маленький Жюль брал с дедушкиного письменного стола большую розовую раковину, прикладывал ее к уху и слушал, как в ней шумит море. Жюль Верн верил, что в раковине заключен вечный шум морского прибоя, как музыка в граммофоне.
Когда мальчикам исполнилось примерно столько же лет, сколько тебе, десять или одиннадцать, родители отдали их на воспитание в лицей святого Доната.
Поль уже в первом классе обнаружил способности к арифметике, физике, географии; он разбирался в звездах и умел пятью способами определить север, юг, восток и запад. В табеле у него были сплошь пятерки, и вел он себя примерно. Еще в школе было ясно, что из Поля выйдет морской капитан.
Жюль учился не так хорошо. У него бывали четверки, а иногда и тройки. То он был сверх меры предприимчив и самостоятелен, то зевал, ничего не слышал, не видел и все мечтал о чем-то. Но, когда воспитанники лицея затевали игру, они обращались к Жюлю за советом. На это Жюль был мастер. Он всегда предлагал что-нибудь новое, интересное и умел вовлечь весь класс в такую увлекательную игру, что даже старшеклассники им завидовали.
— Во что они играли, папа?
— Не знаю, Кнопка, но наверняка играли в лоцманов, китоловов, в мужественных капитанов, в героических водолазов, сражались с пиратами, поднявшими на захваченном корабле черный флаг, в общем — в морские игры.
— И Жюль Верн всегда был капитаном, да, папа?
— Нет, Кнопка, маленький Жюль Верн не был таким тщеславным, как ты, хотя очень хотел стать капитаном и бороздить моря всего света. Но он хорошо понимал, что это не так-то просто. Ни с того ни с сего стать первым на корабле — так не бывает. Прежде всего нужны знания. Чтобы быть капитаном, надо сперва учиться. Старый капитан Кермадес, который жил на улице Карвеган, как раз напротив Вернов, тоже начинал юнгой на рыбацкой шаланде, а потом стал капитаном корабля дальнего плавания.
И однажды маленький Жюль Верн совершил глупость. Это случается даже со знаменитыми людьми. Огромную глупость. Она могла ему дорого обойтись. В феврале Жюлю исполнилось двенадцать лет. Он получил в подарок от отца и бабушки деньги, кое-что скопил раньше, и вот тогда-то Жюль разработал тайный план. Учительница заметила, что мальчик стал часто задумываться, словно все время о чем-то размышлял. Она спрашивала, что с ним. Он отвечал, что ничего, просто так. Ты тоже иногда отвечаешь в таком духе.
— А что с ним было, папа?
— Не буду тебя долго мучить. Просто двенадцатилетний Жюль Верн отправился в «Компанию заокеанских плаваний», которая набирала экипаж для шхун, идущих в дальние плавания. Эти суда возвращались в Нант с грузом чая, кофе, сахарного тростника, редких пород древесины и масла. Жюль был красивый, статный и сильный мальчик, потому что хорошо ел, всегда все доедал, в том числе суп, не привередничал и по гимнастике имел пятерку, пожалуй единственную в табеле, которой мог похвастать. Он даже знал немного английский язык. Жюль подошел к конторке и заявил, что хотел бы наняться юнгой на почтовую шхуну «Корали», которая на следующий день должна была сняться с якоря и отплыть в Индию. Тогда не нужно было ни особых разрешений, ни выездных виз или паспортов. Чиновника в очках не интересовало, разрешил ли отец пуститься в плавание этому приятному, серьезному мальчику. Его занимал лишь один вопрос: хватит ли у мальчика денег для взноса, обязательного для каждого члена экипажа. Деньги нужны были как гарантия того, что по дороге он не сбежит, не набедокурит, а если на чужбине с ним что-нибудь стрясется, то эти деньги пойдут на похороны. Жюль Верн выложил на стол нужную сумму, франк за франком, но разрешения от отца у него не было.
Жюль знал, что отец считает его еще маленьким и не пустит в такую поездку, знал, что мама будет плакать, но он так мечтал о далеких морях и неведомых странах, что решил уехать. Бежать. В случае, если его не возьмут юнгой, он собирался тайно проникнуть на судно и плыть зайцем. Жюль был захвачен своей мечтой, и, хотя я понимаю, что он не мог устоять перед этим соблазном и заранее радовался первому плаванию, все же это была глупость, бессмыслица, озорная выходка непослушного мальчишки. Он не представлял себе, как тяжела и опасна работа юнги, и не подумал, какое огорчение и обиду нанесет своим родителям. Его пожитки были с ним, и, выйдя из «Заокеанской компании» с документом юнги, он направился прямо на шхуну. Дело было к вечеру. На судне зажгли красные и зеленые фонари. Лучи маяка то и дело скользили по морской глади. Жюль не явился к ужину. Вместо него у двери позвонил старый моряк Мариус, знакомый отца, южанин, уроженец Тулона. Он мял в руках синюю морскую шапку с красным помпоном. Мариус был смущен и походил на фискала в школе. А ябедничать стыдно! Но другого выхода не было. Дело шло о счастье семьи его приятеля Пьера Верна, а возможно, и о жизни их маленького озорника Жюля. В конце концов он выложил все: Жюль нанялся юнгой на шхуну «Корали», которая вот-вот снимается с якоря. Вместе с месье Пьером они побежали в порт. «Корали» уже плыла по широкому устью Луары к морю.
— И он в самом деле убежал?
— Да. Убежал. Убежал из дому. Но его отец, месье Пьер Верн, с моряком Мариусом сели в лодку и нагнали их в Пембефе, где, на счастье, судно брало какой-то груз. Отец Верна зашел к капитану, и через четверть часа юнга Жюль Верн, плача, выходил на берег. Так закончилось первое приключение знаменитого автора приключенческих романов для юношества.
— Бедняга! А ему досталось?
— Сам понимаешь, что за такую глупость похвалить его не могли. Месье Пьер Верн был строг, и, конечно, без наказания дело не обошлось. Жюлю пришлось пообещать никогда больше не отправляться в путешествия, разве что в мечтах.
АЛИСА РАССУЖДАЕТ О ПОЛИТИКЕ,
или
НЕВОЗМУТИМОСТЬ АНГЛИЧАНИНА
В Ржичках некоторые вещи кажутся невероятными и невыполнимыми, потому что они нарушают нормы поведения, которых хотя никто и не устанавливал, но придерживается каждый. Например, просить мужа бриться ежедневно может только супруга, которая живет здесь недавно. Поэтому не только моя жена, но и Кнопка удивились, когда в ответ на ее просьбу надеть галстук я не разразился гомерическим хохотом, а открыл шкаф, достал галстук-бабочку в крапинку и сказал:
— Пожалуйста, я невозмутим, как англичанин.
Кнопку, конечно, заинтересовала не моя психология, а почему именно я «невозмутим, как англичанин».
Как вы уже заметили, Кнопка в этих вопросах весьма обстоятелен.
— Потому что англичане, жители островов, существенно отличаются от жителей материка многими хорошими и плохими чертами характера. Одна из них — невозмутимость, которую англичанин сохраняет или делает вид, что сохраняет — а это, кстати, очень трудно в минуту раздражения — даже в ситуациях крайне сложных и перед лицом самых неожиданных и потрясающих событий. Англичанин, встретив, скажем, ночью тигра на самой оживленной лондонской улице Пиккадилли, и бровью не поведет, а сделает вид, будто нет ничего необычного в том, что в три четверти двенадцатого наряду с идущими из театров зрителями и лондонскими полисменами двухметрового роста, которых называют «Бобби», по улице расхаживают и тигры. Ты помнишь Филеаса Фогга, члена Реформ-клуба, проживавшего в Лондоне на Сэвиль-Роу, номер семь, который в 1872 году, точнее двадцать первого декабря в восемь часов сорок пять минут вечера, закончил путешествие вокруг света за восемьдесят дней?
— Да, это написано у Жюля Верна. Но что в этом особенного? Теперь советский или английский реактивный самолет шутя облетит земной шар за сорок восемь часов даже там, где он шире всего, — по экватору.
— Но Филеас Фогг совершил свой путь, преодолев бесчисленные препятствия, непредвиденные случайности, превратности судьбы и страшные опасности с такой чисто английской невозмутимостью, что об этом стоило написать.
— А что, папа, разве все англичане путешествуют с английской невозмутимостью?
— Нет, этого не скажешь. Некоторые из них полнокровны, как бифштекс, и вспыльчивы, как порох. Одни из них нервные, другие флегматичные, но можно без преувеличения сказать, что все они путешествуют. Куда бы ты ни приехал, всюду встретишь англичанина. Причем узнаешь его за тысячу шагов. Про англичан говорят, что они, путешествуя, носят свой дом в чемодане. Дело в том, что они никогда не приспосабливаются к чужим условиям. У англичан характерные, энергичные лица, они сдержанны, вежливы, нелегко сходятся с людьми. Чтобы подружиться с англичанином, надо выпить с ним по меньшей мере бочонок виски и пережить множество приключений. Но и после этого вы не перейдете на «ты», потому что в повседневной английской речи вообще нет обращения «ты». Отец бабушке, сын маме, ты Адаму — все говорят друг другу «вы». Утром при встрече обязательно нужно сказать: «Доброе утро! Как вы спали? Не правда ли, прекрасная погода?» И это говорят даже в том случае, если на улице сыро, туман и холод.
— Они точны?
— Да, точны, даже пунктуальны и всё принимают всерьез. Охотно держат пари. Курят трубки. Любят спорт и лошадей. Пьют виски и портер. До сих пор живут своим далеким прошлым, теми временами, когда Великобритания была самой мощной и самой великой державой, владычицей морей, Лондон — самым большим городом земного шара, а Вильям Шекспир — величайшим драматургом мира. С тех пор многое изменилось, и лишь Шекспир по-прежнему остался вершиной мировой драматургии.
— А ты был в лондонском Реформ-клубе, там, где «на пятьдесят седьмой секунде двери салона открылись и маятник часов не успел еще качнуться в шестидесятый раз, как на пороге показался Филеас Фогг в сопровождении обезумевшей толпы, которая насильно ворвалась в клуб. „Вот и я, господа!“ — произнес он спокойным голосом».
— Верно, Мартин Давид. Я был в Реформ-клубе на улице Пэль-Мэль, в доме, который несколько напоминает городскую сберкассу или этнографический музей, и обедал там с английским писателем Франком Суинертоном за столом, где, вероятно, сиживал сам Филеас Фогг. Но из-за тумана я едва нашел этот особняк. В Лондоне туман или дождь — обычное явление.
В тот день дождя не было, но стоял густой, как молоко, туман, и видно было не дальше собственного носа. Автомобили ползли, как черепахи, и днем горели фонари. Чувствуешь себя словно на дне пруда из гороховой похлебки. Лондонские туманы, которые стоят всю осень и зиму, парализуют жизнь города. Люди сидят дома, топят камины, ногам тепло, а в спину дует. Они кутаются в пледы и пьют чай. Поэтому у лорда Фаунтлероя[16] в старости была подагра — большинство истинных англичан и англичанок страдают подагрой и ревматизмом.
— А что дальше?
— Что дальше? Дальше пойдет рассказ о самой Англии. Английская природа напоминает культурный парк, где среди пологих холмов разбросаны трехсотлетние дубы, пятисотлетние замки и тысячелетние крепости — а поскольку англичане неохотно свыкаются с чем-нибудь новым, то и живут они в этих замках и крепостях, как живали встарь, даже с призраками и привидениями. В Англии до сих пор существуют графы, князья, рыцари и лорды. Судьи носят белые парики, а мэр ездит в золотой карете, запряженной четверкой лошадей. Но и англичане уже начинают понимать, что время нельзя остановить, оно неуклонно идет вперед. В городах вырастают огромные кварталы, населенные беднотой, почти нищими, — целые улицы домов, дьявольски похожих один на другой, где живут потомственные рабочие: металлурги, шахтеры, ткачи, строители, и их куда больше, чем лордов. А если к ним еще добавить портовых рабочих и матросов дальнего плавания, из которых почти каждый — морской волк, не раз ходивший вокруг света, то это и есть та самая новая Англия, которая обгоняет старую. Уже и теперь она на голову, а то и на две выше той, старой.
— Это англичане носят клетчатые юбки?
— Нет, их носят шотландцы, да и в Шотландии сейчас такие юбки увидишь только по праздникам и в дни народных торжеств. Наоборот, англичане стараются одеваться как можно проще и скромнее. Таков их взгляд на моду. Если бы меня спросили, как я представляю себе штатского человека, то мне сразу представился бы англичанин в кепке и непромокаемом плаще. Чаще всего, держа в руке мокрый раскрытый зонт и читая газету, он покорно стоит в очереди на автобус. Он убежден, что все законы писаны для граждан, а не против них, и в этом частенько заблуждается.
— Но ведь не все англичане — штатские, среди них есть военные и даже кирасиры на конях и гренадеры в больших мохнатых шапках.
— Да, но все эти кирасиры и гренадеры нужны только для парадов. Армия и флот у англичан всегда были на высоте, но в последней войне именно гражданское население своим бесстрашным поведением доказало, что британцы — мужественный народ. В битве за Англию летчики защищали страну от фашистских налетов, и жители изо дня в день стойко переносили бомбардировки городов; героическое население скромно приносило страшные жертвы. А английские моряки, с огромными потерями прорывая подводную блокаду, снабжали голодающий остров оружием и продовольствием. Перед таким выполнением гражданского долга почтительно снимают шапку. Одно время казалось, что этот дорого обошедшийся народу опыт до основания потрясет Британскую империю. И правда, очень многое изменилось. Основы империи были действительно потрясены, но перемены никак не коснулись характера англичан.
Кнопка задумался над тем, что же такое «штатский человек». Он полагал, что штатский — это «тот, кто не носит мундира, потому что он не военный». Теперь же мальчик услыхал, что и штатский может быть героем, хотя раньше считал, что герой — это непременно человек в мундире.
— Англичане знают толк в хороших товарах и ремеслах. Шотландская домотканая материя очень прочна, а их национальный напиток — шотландское домашнее виски, которое не менее восьми лет выдерживают в деревянных бочках, — с удовольствием пьют во всем мире. Со сталью ножей из Шеффилда мало кто может соперничать. Англичане любят животных и растения, любовно и преданно ухаживают за ними. В каждом доме есть кошка или собака и хотя бы небольшой садик с подстриженным газончиком. Англичане приветливы и обладают редким качеством: не вмешиваться в чужие семейные дела.
— У каждого англичанина свой домик?
— Нет, но мечтает об этом каждый. Лондон раскинулся так широко именно потому, что там целые кварталы вилл, домов и домиков. В Лондоне множество улиц, проездов, площадей, проспектов, построек, мостов, гостиниц, музеев и домов. Дом подле дома. Но особого внимания заслуживают из них два, хотя это совсем обычные дома и ничего, абсолютно ничего примечательного в них нет. Один на Даунинг-стрит, другой — на Бекер-стрит. На Даунинг-стрит в доме номер одиннадцать с показной скромностью живет премьер-министр Великобритании. Я видел, как из этого дома выходил и седовласый Ллойд-Джордж, и Болдуин, и Макдональд с трубкой, и Черчилль с сигарой. Бекер-стрит, где стоит дом номер девять, — тихая улочка в центре столицы Британии, но тут же, за углом, бурлит суетливая торговая артерия столицы — Оксфорд-стрит. Над входной дверью дома номер девять — балкон, который поддерживают две белые колонны, в домике зеленые ставни и садик метра в полтора шириной, обнесенный решеткой, на дверях медная девятка.
— А кто там живет?
— Там нет ни таблички, ни мемориальной доски: здесь, мол, жил и умер такой-то. Но тут жил и у этого самого окна играл на скрипке грустные мелодии своему другу Ватсону…
— …Шерлок Холмс?
— Да, величайший детектив Шерлок Холмс, которого придумал Конан-Дойль, отец всех детективных книжек и фильмов. Конечно, теперь методы Шерлока Холмса устарели, но классическое литературное произведение «Собака Баскервилей» — одно из лучших в этом роде. Это ты поймешь, когда станешь постарше и пресытишься американскими уголовными романами, где все время стреляют. Каждый мальчик в свое время увлекается ими, каждому они в конце концов приедаются, но в более позднем возрасте все с удовольствием вспоминают о них. Эти хотя и явно преувеличенные и неправдоподобные приключения имеют свою притягательную силу, не так ли?
— Конечно, папа!
Величайший детектив Шерлок Холмс, которого придумал Конан-Дойль, отец всех детективных книжек и фильмов…
— И тем более трудно поверить, что в таком тихом, невзрачном доме, на малолюдной улице жил детектив, который по оставленному пеплу сигары отыскивал крупнейших международных преступников. На другом конце этой боковой улицы, как раз у вокзала Бекер-стрит-стейшен, находится музей мадам Тюссо — самый интересный и большой паноптикум на свете, где восковые фигуры воссоздают реальный облик и самого Шерлока Холмса и преступников, которых он разоблачал и передавал в руки правосудия. Рядом с преступниками, преобладающими среди экспонатов музея, находятся английская королевская семья, премьер-министры, знаменитые актеры, кинозвезды, генералы и мировые рекордсмены. Теперь там наверняка есть и Эмиль Затопек. Но король или королева — сейчас в Англии молодая королева — сохранились не только в музее. Хотя почти всюду короли и королевы остались лишь в сказках да на страницах истории, в Англии есть настоящая королева. Ее можно видеть с короной на голове, в пурпурной мантии с горностаем, с державой и скипетром в руке. Раньше короля нередко встречали на улице, когда он шел в табачную лавку за сигаретами. В Англии это называют демократией. Но в действительности все это похоже на восковые фигуры в музее мадам Тюссо. Восковые фигуры одеты в настоящие платья, раскрашены, и позы их так естественны, что у одной, стоявшей на лестнице у перил, я даже спросил, который час, потому что спешил на поезд.
— А куда ты ехал, папа?
— За город. Спешил вырваться из города. Там это необходимо. Без этого трудно выдержать. Лондон слишком велик, в нем нельзя находиться все время, без перерыва. В конце недели — по-английски конец недели «уик энд» — половина семимиллионного населения выезжает за город. В поездах, автобусах, машинах, на мотоциклах, на велосипедах, «голосуя» на дорогах, сотни тысяч лондонцев выбираются из Лондона. Впечатление такое, будто переселяется весь Лондон. Люди хотят переменить обстановку и видеть что-то не похожее на то, что видели и делали всю неделю. Горожане располагаются на траве и обедают без удобств, на скатерти, расстеленной прямо на земле, обливают чаем штаны, катаются на лодках, причем не всегда умеют грести, купаются там, где это запрещено, и с давних времен по сей день являются объектом английских карикатуристов.
— А что вы делали в тот раз?
— То же, что и все остальные. Но в один из уик эндов мы плыли на лодках по реке Кем из города Кембридж к мосту Байрона. Здесь когда-то якобы катался великий поэт лорд Байрон, и поэтому мост носит его имя. Нас было двое мужчин, и с нами катались три девушки-англичанки. Были мы тогда еще студентами, и нам не хотелось ударить лицом в грязь перед нашими спутницами. Девушек звали Сивилла, Юдифь и Эсфирь. Англичанкам часто дают библейские имена, но находиться в компании трех девушек с такими именами было уже забавно. Это были очень красивые и веселые барышни. Мы наняли пант — плоскодонную лодку с площадками на носу и на корме, где стоит гребец и длинным шестом отталкивается от дна. Заставить такую лодку плыть прямо очень трудно. Мы были неопытными гребцами, и лодка юлой крутилась и вертелась на воде. Когда же мы наконец сдвинулись с места и поплыли меж берегов, поросших вербой, откуда доносились громкие звуки бесчисленных граммофонов, играющих каждый свое, то решили недостаток умения восполнить силой, короче — развить темп. Так всегда рассуждают молодые и неопытные люди, но жизнь показывает, что это неверно. Мы перемигнулись и сильнее налегли на шесты, чтобы оттолкнуться от дна реки. Но, как говорится, человек предполагает, а шест располагает. Шесты застряли в илистом дне, лодка медленно уплыла из-под ног, и мы остались висеть на шестах над рекой, как кузнечики или червяки, а скорей всего — как две обезьяны, потому что мы кричали, взывая о помощи, совсем не в английском духе. Наши прелестные спутницы Сивилла, Юдифь и Эсфирь покатывались со смеху, а нам было вовсе не до шуток.
— И чем это кончилось? Вам помогли?
— Один, это был я, упал в воду как был, в костюме: шест не выдержал моей тяжести. Другой торжественно висел до конца. Но наша репутация галантных кавалеров была сильно подмочена. Я уверен, что еще и по сей день в древней готической столовой королевского колледжа на Сильвер-стрит — этот университетский колледж был основан в 1448 году английской королевой Маргаритой Анжуйской, и с тех пор там все сохраняется в неприкосновенном виде — в средневековом зале сухопарые профессора, деканы и услужливые доценты по крайней мере раз в месяц рассказывают ректору, как два молодых человека из Средней Европы висели на шестах посреди реки, а лодка уплыла у них из-под ног. И ректор всегда смеется, словно слышит об этом впервые, потому что обидит рассказчика, если даст ему понять, что эта история, которую он сейчас выслушал в триста семидесятый раз, ему страшно надоела.
— Но, может, это и вправду смешно, папа?
— Возможно, Кнопка. Все зависит от того, как и кто рассказывает. Англичане умеют рассказывать, это правда. У них особая язвительная манера шутить и отпускать остроты. Сухо и деловито, без улыбки, словно бессмыслица столь же серьезна, как и аксиома о том, что дважды два четыре! Остроумие — неотъемлемая черта характера англичанина. Оно проникает и в народные сказки, и в известные изречения крупных государственных деятелей и прославленных ораторов. Англичане любят шутку. Они ненавидят напыщенные, пустые фразы и пустопорожнюю болтовню.
— А слушатели тоже не смеются?
— Лишь в пределах строгих правил хорошего тона. Я и сам пробовал поступать так же и, к удивлению, всегда с успехом. Если ты не знаешь, как сказать кому-нибудь правду в глаза, то лучше всего расскажи какой-нибудь забавный случай, который остроумнее и убедительнее тебя покажет все, что надо.
— Значит, если ты не хотел назвать кого-нибудь дураком, ты рассказывал ему анекдоты, а он должен был понять, что, собственно, он и есть этот дурак?
— Не совсем так. Однажды, не желая задеть взгляды определенных лиц, я привел им пример, где фигурировали точно такие же люди, как они, и стало ясно, что взгляды эти смешны и те, кто их придерживается, далеки от истины. Это называется дипломатией.
— А кому ты это рассказал?
— На пленарном заседании Организации Объединенных Наций — свыше семидесяти более или менее объединенных или разъединенных наций, представленных достопочтенными, уважаемыми лицами, бородатыми и безбородыми, — а пример я привел из книги англичанина Льюиса Кэролла.
— Расскажи! Это шутка?
— Это загадка. Это типичная английская загадка. Но я начну с самого начала. В Англии есть два известных университета: Оксфорд и Кембридж. Два университетских города, которые соперничают между собой. Их древние колледжи гордятся старинными обычаями и прославленными именами. Это называется старой университетской традицией. В Оксфорде есть колледж, основанный в 1525 году Генрихом VIII, которого люди знают больше по кинофильмам, чем из истории, и известный под именем колледжа Christ Church — Христовой Церкви. Здесь в течение сорока лет преподавал математику один чудаковатый профессор. Чудак — это мягко сказано, он был в известной мере даже эксцентричен, а в царствование английской королевы Викторий прослыть чудаком было не так-то легко. Известный математик страдал бессонницей и в долгие бессонные ночи придумывал всевозможные математические шутки, загадки и фокусы. Кроме того, он был страстным фотографом-любителем. Фотография в то время была только изобретена. Квартира профессора была увешана и уставлена часами, курантами и ходиками; полочки над камином заполнены чучелами птиц, нетопырей, мышей и лягушек; на письменном столе находилась картотека писем, которую он аккуратно вел, и стопки дневников. Когда он приглашал гостей, то в дневнике чертил план, куда кого посадить, и тут же начинал кипятить воду для чая. Затем вливал кипяток в чайник, тщательно отмеривая количество заварки — чайную ложку на стакан воды и еще одну добавочную, — и молча в течение десяти минут прохаживался взад и вперед по комнате с чайником в руке, после чего, по его мнению, чай был готов. Отличительной особенностью профессора, которая, впрочем, никак не вязалась с его отшельническим образом жизни, была любовь к детям. Он понимал, что дети любят конкретность и точность, и не сомневался, что как математик он ближе детям, чем сентиментальные и слезливые воспитательницы.
— А он писал книги для детей?
— Да. Однажды — это было четвертого июля 1862 года — достопочтенный Чарльз Доджсон, тогда еще совсем молодой, тридцатилетний профессор математики, взял покататься на лодке трех маленьких дочерей досточтимого декана Лиделла. «Мы проплыли три километра вверх по течению реки Темзы, к „Трактиру форелей“, и лишь в половине восьмого вернулись домой», — добросовестно и педантично отметил в своем дневнике профессор. Во время прогулки Доджсон рассказал самой старшей и самой милой девочке, Алисе Лиделл, сказку. Эту сказку он потом основательно обработал, придал ей логичность и математическую точность, красиво переписал, украсил рукопись несколькими отличными рисунками и послал в подарок маленькой Алисе. Сказка называлась «Алиса в стране чудес». В 1928 году оригинал этой рукописи был продан на аукционе в Лондоне за пятнадцать тысяч четыреста английских фунтов. Это весьма значительная сумма, милый Кнопка.
— Эту книжку ты однажды мне читал?
— Да. В 1865 году Доджсон издал эту сказку отдельной книжкой под псевдонимом Льюис Кэролл, с иллюстрациями знаменитого английского художника сэра Джона Тенниела. Позже он написал еще одну сказку об Алисе, она называется «Алиса в зазеркалье». Эту книжку я тебе тоже читал.
— Там есть стихотворение, которое ничего не значит.
— А почему оно тебе все-таки понравилось, если ничего не значит?
— Потому что сначала кажется, будто оно что-то значит, а на самом деле оно ничего не значит.
К моему удивлению, Кнопка без приглашения стал, как в школе, на ступеньку, поклонился и начал декламировать:
— По-чешски я это понимаю, только не знаю, о чем в этом стихе говорится, — сказал Кнопка.
— В живописи, музыке и в поэзии так иногда бывает. Но, собственно, я собирался рассказать не об этих книжках, посвященных Алисе, а о маленькой загадке, которую Льюис Кэролл выдумал, вероятно чтобы позабавить и поставить в тупик людей. Ее-то я и загадал на пленарном заседании Организации Объединенных Наций на Лэйк-Саксес в Нью-Йорке. Загадка гласит: «Какие часы лучше — те, что показывают точное время один раз в два года, или те, что показывают точное время дважды в день?»
— Часы, показывающие правильное время два раза в день.
— Ошибка, товарищ сын. У меня двое часов. Одни вообще стоят, а другие каждый день убегают на одну минуту. Которые из них лучше?
— Понятно, что те, которые убегают на одну минуту в день.
— Видишь ли, часы, которые не идут вообще, показывают точное время дважды в сутки, а те, которые убегают на одну минуту в день, должны убежать на двенадцать часов, то есть на семьсот двадцать минут, прежде чем покажут точное время, — это и будет один раз в два года…
— Ну, а когда…
— Вот именно. Да. Уважаемые делегаты, зачем нам часы, которые дважды в день показывают точное время, если мы не знаем, сколько времени сейчас? Зачем, нам часы, которые показывают лишь одно и то же время и не идут? Нам всем приятнее часы, которые хотя и показывают время лишь приблизительно, но, если их приложить к уху, тикают, и я спокоен, что время идет, история движется вперед. Это часы прогресса.
ИГРА В ИНДЕЙЦЕВ,
или
НАРОД ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Одно лето в Ржичках Кнопка утверждал, что он индеец. В этом частично виновата бабушка, которая сделала ему головной убор из перьев, и отчасти я, потому что эти перья раскрасил. Кнопка ходил по дому, скрестив руки на груди, за поясом у него было лассо из веревки и томагавк — наш топорик для колки дров. К счастью, все наши топоры тупые. Кнопка называл себя Ункас, по имени героя Фенимора Купера, и всех нас явно презирал. Особенно он не любил, когда я по утрам спрашивал его:
— Ты уже чистил зубы, краснокожий брат мой?
— Ункас зубы не чистил, потому что у него не было зубной пасты и щетки.
— Прошу краснокожего брата не возражать и немедленно пойти чистить зубы к веселой реке Минне-гага, которая течет с Синей горы. Да будет так. Я кончил! Гук!
Кнопка шел, но был уверен, что с Ункасом поступают несправедливо, ибо он индеец и чистить зубы не должен. Я разрисовал ему щит, скопировав его с настоящего индейского. В то лето мне пришлось нарисовать их по крайней мере еще три — для Радана, для Лойзы, для Гонзика Мыслевечка, — заказчиков хватало. Родители больше всего воевали с индейцами, чтобы те не пускали друг в друга стрелы. Когда ребята наконец заключили международную конвенцию, то стрелять стали в соседских кур. Тут я уже не возражал, потому что эти куры клевали наши ягоды. Почему курица должна есть наши ягоды? Пусть она лучше погибнет от стрелы краснокожего брата. Однажды ребята решили устроить потлач, либо потлах, — это слово индейского происхождения и означает «празднество». Они натаскали из леса хвороста и попросили у моей жены котелок, чтобы сварить мясо бизона. Они утверждали, что у индейцев эмалированных котелков не было, и категорически требовали наш единственный фаянсовый. Я быстро освежил в памяти свои скудные сведения об индейцах и вышел на крыльцо.
— Бледнолицая женщина — это моя жена — не может одолжить краснокожим братьям фаянсовый котелок, потому что в нем хранится мясо для краснокожего вождя на воскресенье. А кроме того, позвольте обратить внимание краснокожих братьев на то, что североамериканские индейцы вообще не знали, что такое котелок. Они варили пищу в посуде, сплетенной из кожи и прутьев.
— Но, папа, ведь она загорелась бы над огнем.
— Индейцы над огнем не варили. Над огнем они только жарили мясо на вертеле, как ты колбасу. Над огнем, вернее в огне, они раскаляли докрасна камни, а затем опускали их в посудину, сплетенную из прутьев или лыка, а то и кожи. Представь себе, что первый котелок привез в Америку Христофор Колумб.
— Неужели только Христофор Колумб?
— А ты знаешь, кто это?
— Точно не знаю. Знаю только, что он был капитаном какого-то судна. Однажды ты мне показал, как поставить яйцо на острый конец, и сказал, что Христофор Колумб держал пари, будто сумеет сделать это, а я не смог. — Кнопка обратился к своим индейским соплеменникам и пояснил им — видимо, они не знали этой истории, — что «Колумб просто разбил яйцо с острого конца и оно смогло стоять». Но вопрос о том, кем был Христофор Колумб, был уже затронут, и я победил.
О Колумбе можно рассказывать долго. Я хорошо знал его биографию, потому что читал ее в тюремной библиотеке, когда во время войны был арестован в Париже. Пока мы будем говорить о Колумбе, индейцы позабудут о празднестве. Это была военная хитрость, как раз в стиле игры в индейцев.
— Христофор Колумб был очень знаменитый и честолюбивый адмирал испанского флота. Король Фердинанд и королева Изабелла уже заранее присвоили ему звание вице-короля всех тех индейских земель, которые он захватит на своем пути. Христофор Колумб должен был под испанским флагом плыть на запад, пока не достигнет сказочных стран, где, по слухам, находились бесчисленные клады и сокровища. Он отправился искать западный путь в страны с удивительными названиями — Индия и Катай. В действительности под Индией понимали собственно Индостан, а под Катаем — Китай. От слова «Катай» позднее произошло русское название Китай. Но на самом деле экспедиция Колумба была снаряжена за золотом. Настоящее имя Христофора Колумба — Кристобаль Колон. Происходил он якобы из семьи испанских евреев, отец его, ткач, когда-то переселился из Испании в Италию и обосновался в Генуе.
— А когда это точно было, дядя? — поинтересовался один из краснокожих братьев. — Кто в это время царствовал в Чехии?
— Не торопись, я все скажу. Это было очень давно. У нас в Чехии тогда правил король Владислав II Ягеллон. В Пражском замке начали возводить Владиславский зал, где потом устраивались спортивные празднества, турниры, а позднее — первые пражские ярмарки. Короче, это было в 1492 году, в пятницу третьего августа, в шесть часов утра. Достаточно точно? Хватит с тебя?
— Хватит.
— Итак, из испанского города Палоса вниз по реке Рио Тинто мимо монастыря Ля Рабидо плыли три каравеллы — «Санта Мария», «Нинья» и «Пинта». Они направлялись в Кадикский залив и оттуда — в открытое море. По сравнению с современными океанскими кораблями это были просто шлюпки, но по тем временам — вполне приличные суда. Прочные и красивые. На всех судах вместе не было и ста человек команды. Среди них — лекарь, писарь и специальный человек, который должен был записывать все, что произойдет с экспедицией в пути. Был с ними и переводчик, который знал много языков — латинский, греческий, армянский, древнееврейский, арабский, халдейский, — но он так и не понадобился знаменитому адмиралу Христофору Колумбу, потому что люди в тех странах, куда они приплыли, не знали ни одного из этих языков.
Каравеллы плыли целый месяц, но земли не было видно. Океан был неспокойный, и волны грозно бились о борта. На экваторе стояла жара, и людей мучила жажда. Пресная вода была на исходе, кончались и запасы продовольствия. Команду охватили страх и недовольство. Матросы стали роптать. Они требовали, чтобы адмирал приказал повернуть каравеллы домой. Люди не верили, что достигнут намеченной цели. Напряжение на судах нарастало, грозил бунт, когда в ночь на двенадцатое октября матросам показалось, что вдали виднеются огоньки. Уже стало светать, как вдруг из корзины наблюдателя, висевшей на средней мачте «Пинты», раздался ликующий возглас юнги Родриго де Триани: «Земля!» Возбуждение и гнев команды сменились радостью. Все кинулись к борту. На горизонте тянулась синеющая полоса холмов. А на волнах качалась смытая прибоем зеленая ветка — посланец материка.
— Где это было? А Христофор Колумб? Что он делал?
— Христофор Колумб в эту минуту уже стоял перед зеркалом в своей каюте и облачался в пурпурный плащ вице-короля, чтобы торжественно приступить к управлению страной, хотя Колумб даже не знал, что перед ними — пустынный остров или материк, обитаем он или нет, — и не мог предвидеть, как его встретят. Когда суда приблизились к берегу, он сошел в лодку со своими двумя помощниками, Мартином Алонсо и Венсентом Янесом. Один из них нес богато расшитый флаг с крестом и инициалами короля и королевы — Ф. и И. На берегу Колумба встретила толпа темнокожих людей с раскрашенными лицами и с черными прямыми волосами, спадающими на шею, с копьями и луками в руках. Не выказывая ни вражды, ни дружелюбия, они спокойно, с любопытством смотрели, как странное бледнолицее существо, закутанное в красную материю, с золотым крестом на шее сходит на берег. Они не знали ни одного из тех языков, которыми владел переводчик Колумба. Из их слов и жестов можно было понять, что земля, к которой пристал Колумб, — остров и называется Гуанахани. Колумб пренебрег этим и дал острову новое имя — Сан Сальвадор. Он не сомневался, что достиг своей цели и находится в Индии. Темнокожих туземцев, которые вышли их встречать, он поэтому назвал индейцами, и это имя осталось за ними. Сохранили его и позднее, когда обнаружилось, что произошла роковая ошибка, что это была вовсе не Индия, ибо по пути в Индию он случайно открыл Америку. Открытие Америки — или, как еще говорят, Нового Света — совершено по ошибке, и эта ошибка имела потом большие последствия для мировой истории.
— А Христофор Колумб стал первым индейским королем?
— Нет, нет. Индейцы на это ни за что не согласились бы. Колумб провозгласил открытую им землю владением испанского короля, от имени которого он прибыл. Он даже не спросил индейцев, хотят ли они признать его своим правителем. Он еще два раза приплывал на новую, открытую им землю, и каждый раз его суда приставали к разным островам. Только первого августа 1498 года Колумб впервые попал в устье реки Ориноко и вступил наконец на материк — на территорию современной Южной Америки.
— Значит, Христофор Колумб был первым человеком, который своими глазами увидел индейцев, да, папа?
— Вряд ли. Точно неизвестно. Собственно, Христофор Колумб не первый открыл Америку. Примерно за пятьсот лет до него, около 1000 года, северный народ викингов снарядил далекую морскую экспедицию с острова Исландия на запад. Один из их князей, Эрик Торвальдсен, в 982 году открыл Гренландию. Его сын, знаменитый мореплаватель Лейф Эриксон, проплыл еще дальше и открыл новую плодородную и чудесную землю. Неизвестно, встретил ли он индейцев, но там вызревал виноград, и он назвал эту землю Винеланд — страна вина. Это было побережье Северной Америки. Назвать эту землю страной вина — тоже историческая ошибка, потому что американское вино и по сей день считается далеко не лучшим. Скорее даже наоборот. В мировой истории немало ошибок, которые обнаружились позднее, но это ничуть не умаляет заслуг великих путешественников.
— Но, дядя, если этот Колумб плыл в Индию из Испании на запад, то он обязательно должен был открыть Америку!
— Он должен был наткнуться на нее, потому что она была у него на дороге, папа!
— Невелика заслуга наткнуться на берег, потому что дальше море кончается, да еще при этом считать, что находишься в Индии, когда ты в Америке!
— Ведь Америка даже не названа его именем.
— Его именем названа Колумбия.
— Ты хочешь сказать — только Колумбия.
— Америка получила свое имя тоже по какому-то недоразумению. После Христофора Колумба, то есть после 1492 года, открыватели новых земель посыпались как из мешка. Один из них, Америго Веспуччи из Флоренции, служил в испанском, а затем в португальском флоте. Он обогнул побережье нынешней Бразилии и подробно описал свой путь в письмах. Немецкий картограф — гравер карт Мартин Вальдесмюллер назвал вновь открытую землю «Государство Америго», по имени путешественника. На первой карте, изданной в 1510 году в Кельне на Рейне, берега вновь открытой земли ясно названы «Терра Америка» — «Земля Америка». Америку, собственно, окрестил, никого не спросив, немецкий гравер географических карт. И с тех пор Америка стала для всего мира Америкой. И только ее коренные жители не приняли это во внимание. Индейцы до сих пор Америку Америкой не называют.
— Индейцы жили там испокон века?
— Видишь ли, Кнопка, появись Лейф Эриксон, или Христофор Колумб, или Америго Веспуччи в Америке раньше, они там никого бы не встретили. Предполагают, что десять тысяч лет назад Америка была необитаема.
— А где тогда жили индейцы?
— Индейцы и сами переселились в Америку. Возможно, на десять тысяч лет раньше, чем белокожие, но, в общем, они тоже туда переселились. Американцы пытались найти доказательства, что в Америке уже перед приходом индейцев жили первобытные люди, но доказать этого не смогли.
— Значит, Америка вначале была пустая пустыня?
— Не пустыня и не пустая, наоборот — прекрасная земля, покрытая буйной растительностью, но безлюдная. Земля без людей. Это вам трудно себе представить, мальчики. В Америке жил большой ученый, занимавшийся вопросами происхождения жизни, один из крупнейших исследователей в этой области. Это был чешский профессор Алеш Грдличка. Он умер в 1944 году. Алеш Грдличка — отец молодого офицера, могилу которого на Ольшанском кладбище, слева от входа, украшает большой памятник из белого мрамора. И вот великий исследователь Алеш Грдличка изучал все известные так называемые доисторические погребения в Куско в Перу, в ранчо ля Бреох, около Лос-Анжелоса, в Веро во Флориде и пришел к убеждению, что до прихода индейцев в Америку людей там, вероятно, не было.
— Но там, где не живет человек, вообще ничего нет.
— Извини, это не так! Здесь было все, кроме человека и плодов человеческого труда. Представь себе, что весь этот огромный материк, растянутый от полюса к полюсу, как огромная кожа у кожевника, перевязанный в талии Панамским перешейком, вся эта земля по обе стороны Скалистых гор, Сьерра Мадре и Кордильер не слышала звука человеческого голоса до той поры, пока первые монгольские охотники не вступили на ее берег где-то в непроходимых дебрях Аляски. Они складывали руки рупором у рта и кричали. Они звали человека, но им никто не отвечал, потому что на этой равнине, тянувшейся на десятки тысяч километров на юг и на восток, никто никогда не жил. Можешь себе представить, какими одинокими и заброшенными должны были чувствовать себя первые американские люди в этом огромном безлюдном крае. Человек повсюду ищет человека.
— А где жили индейцы до своего прихода в Америку?
— Ведь индейцы вначале не были индейцами.
— Они только в Америке обындеились?
— Этого, мальчики, никто точно не знает. Вероятно, дело было так: там, где сейчас простираются пустыни Гоби или Шамо, в Китае и Монголии, когда-то был плодородный зеленый край с лесами и лугами. Но ветер, который из года в год непрерывно, ежедневно, ежечасно дул с севера, приносил с собой песок и пыль. Леса долго задерживали губительный ветер, но, когда неразумные монголы начали вырубать деревья, леса стали редеть, сохнуть, и наконец ветер и песок победили. Они с корнем выворачивали оставшиеся деревья, прокладывая себе свободный путь. И там, где раньше люди жили в мире и счастье, за короткое время образовалась бесплодная песчаная пустыня, которая с каждым годом увеличивалась. Людям пришлось покинуть обжитые места. Предполагают, что целые племена пустились в путь на восток — навстречу солнцу. Они шли, шли и наконец зимой, в морозный день, подошли к замерзшему морю и по льду перешли из Азии в Америку, сами того не зная. Или, может быть, построили лодки и паромы и переплыли Берингов пролив. Есть предположение, что это не были целые племена и роды, а лишь отдельные группы охотников, которые, охотясь за мамонтами, перебрались на американский берег. С кремневыми наконечниками на копьях и стрелами с костяными наконечниками эти первые жители Америки за какие-нибудь несколько тысяч лет прошли с севера на юг к мысу Горн на Огненной Земле. Они жили охотой на зверей, главным образом на бизонов.
Разрастаясь, эти первые группы со временем расселялись по всей стране. Постепенно из них образовались роды, племена и, наконец, народы. Развились язык и культура. Каждое племя приняло какое-нибудь название. У одних племен кожа была светлее, у других темнее, с красноватым оттенком. Поэтому их назвали краснокожими. В северных областях Америки, в травянистых прериях, где сейчас простираются Соединенные Штаты Америки, поселились охотники, в Центральной Америке выросли большие города, могучие государства с высокой культурой. То же произошло и на западном побережье Южной Америки, где на территории современных государств Перу и Эквадор возникла Великая империя инков.
— Но почему их называют индейцами, если они вовсе не индейцы? Ведь Америка оказалась не Индией, как думал Христофор Колумб.
— Они приняли разные названия. Это произошло еще в те времена, когда из переселенцев возникали отдельные народы. В ходе истории, по мере развития общества, у каждого народа формировался свой язык, определялась территория, свой хозяйственный уклад, и у всех у них было нечто общее: более или менее развитая культура и высокий жизненный уровень. Эти народы назывались: ирокезы, сиу, апачи, команчи, шошоны, навахи, тлинкиты, квакиутль, ольмеки, тольтеки, ацтеки, майя, инки.
— Они все прекрасно ездили на лошадях, носили шапки из разноцветных перьев и могли на полном скаку попасть врагу прямо в лоб, правда?
— Должен тебя сильно разочаровать, мальчик. До прихода в Америку европейцев индейцы вообще не знали лошадей. В Америке лошадей не было. Индейцы ходили пешком. У них не было ни пороха, ни огнестрельного оружия. Они не имели представления о колесах и даже летом перевозили свое имущество по травянистым дорогам на санях. И выглядели совсем иначе, чем ты себе представляешь. Посмотри, в маленьком ящике у меня лежит пара американских мелких монет. Найди там пятицентовик. Покажи!
Кнопка нашел пятицентовик.
— Вот. На одной стороне монеты изображен бизон, на другой — голова индейского вождя. Это индеец из племени дакотов, народа сиу. Одежда дакотов — длинные кожаные штаны с бахромой, мягкие мокасины, голова богато украшена разноцветными перьями. Их оружие и обычаи стали настолько известны, что, когда сегодня произносят слово «индеец», каждый представляет себе индейского вождя из племени дакотов, изображенного на американском пятицентовике.
Буффало Биль[18] был другом дакотов. Народ сиу и особенно племя дакотов имеют славную историю. В течение двухсот лет, с 1650 по 1850 год, они воевали с оджибуэями и вели ожесточенную борьбу с белыми, которая окончилась страшной резней.
— Что такое «резня», дядя?
— Резня — это кровопролитие. Сиу находились в состоянии войны с белыми. Их черные горы на берегу большого мыса наводняли чужеземцы, для охраны которых были посланы американские войска. Знаменитый вождь сиу, Сидящий Бык, который прославился тем, что за всю жизнь сказал только несколько фраз, возглавил индейские племена. Американский седьмой кавалерийский полк полковника Джорджа А. Кэстера атаковал с двух сторон индейский лагерь. На южном фланге командовали майор Рено и капитан Бентин, на северном — сам полковник Кэстер. Сидящему Быку удалось хитростью оттеснить отряды майора Рено и капитана Бентина обратно за реку, где они окопались. Этим маневром Сидящий Бык освободил все свои силы для атаки на полковника Кэстера. Пять тысяч мужественных индейских воинов окружили солдат Кэстера и вечером двадцать пятого июня 1876 года всех до одного перебили. Когда через два дня на поле боя прибыл генерал Терри, он нашел только трупы солдат и лошадей. Лишь одно существо бродило в прериях — конь полковника Кэстера, жеребец Команчо. Позднее в полковом приказе о нем сказано по-английски, но в чисто американском стиле: «Построить ему самую удобную и просторную конюшню. Никогда ни для кого не седлать и ни в коем случае не использовать в упряжке для какой бы то ни было работы».
— И тот конь умер от тоски, да, дядя?
— Он умер в возрасте двадцати восьми лет, в 1891 году.
— А что стало с Сидящим Быком?
— После уничтожения полка Кэстера значительно усиленные американские федеральные войска принудили сдаться нескольких вождей сиу. Сдались Буйный Конь, Дождь в Лицо, Галл, Пятнистый Орел — им были отведены места для поселения в индейских резервациях. Но Сидящий Бык ушел. Он отступил в Канаду и с группой преданных людей скрывался от преследований в горах и лесах. Свыше пяти лет он отстаивал свою свободу. Но все-таки и он был арестован. Его гордость была сломлена.
Другим, не менее известным вождем сиу был Ванета Красная Туча, или Вороненок.
Вначале белые всячески шли навстречу индейцам. Однажды американцы пригласили их, преподнесли подарки и договорились, что индейцы не будут покупать товары у англичан. Это было в 1815 году.
Через год британцы, в свою очередь, созвали конференцию на острове Драммонд, находящемся на озере Гурон, и там объявили индейским племенам, которым, пока те были их союзниками, сулили золотые горы, что теперь индейцы уже не могут рассчитывать на их поддержку и должны сами заботиться о себе. Тогда от имени всех созванных племен встал вождь Вороненок и произнес речь, в которой несколькими фразами определил отношение индейцев к белым. Вороненок повернулся к белым хозяевам и сказал:
«Мы сражались, терпели и страдали за вас, мы потеряли в бою лучших мужей нашего племени, мы возбудили жажду мести у своих сильных соседей, а вы заключаете с ними мир и бросаете нас на произвол судьбы. Наши услуги вам больше не нужны, и потому, оставляя нас, вы взамен предлагаете свои ничтожные дары. Но мы их не примем. Мы презираем и вас и ваши дары».
— Коротко сказано.
— Речь индейца всегда сжата, содержательна и конкретна. Коротка, но очень красива. Индейцы пользуются образами, взятыми из природы и жизни охотников. Говорят они только в случае необходимости. Видите, ребята, этому мы также могли, вернее, должны были бы, у них поучиться. Некоторым ораторам не мешало бы знать это.
— Чтобы много не трепались?
— Ну-ну, повежливей! Вы же не знаете, кого я имею в виду. Когда-то я записал речь одного известного индейского вождя, к сожалению, я не знаю ни его имени, ни к какому племени он принадлежал. Но эта речь — поэтическое произведение. Послушайте, ребята!
Мальчики навострили уши. Они уже опять играли в индейцев, вновь чувствовали себя краснокожими, выкапывающими топор войны.
— «Война близилась, я знал это. Небо на севере полыхало ярким заревом, появилось много сов, исчезли голуби. Я видел странные явления, слышал странные звуки».
— Это могли быть самолеты, дядя.
— Тогда еще не было никаких самолетов. Это речь столетней давности. И не перебивайте меня… «Волки не едят траву. Должно погибнуть живое существо, чтоб у них была пища. У гремучей змеи есть яд и зубы. У орла есть когти и сильный клюв. Война попирает все права. Можем ли мы здесь жить в мире?»
— Мы точно так же говорим на заседании нашего совета.
— Вы говорите языком дешевых книжек об индейцах, а у индейцев язык сдержанный и возвышенный. Например, в одной известной речи вождя Васаха из племени шайенов содержится вся история североамериканских индейцев.
Для пущей важности я поднялся и стал с выражением читать каждое слово из своего блокнота, который называл индейским; читал так, словно обращался к бледнолицым братьям из Белого дома. Был уже вечер. На луга опустились сумерки. Красноватые облака, плывущие над Рысы, в направлении Соувластни, предвещали ветер.
— «Белый человек, владеющий всей этой обширной землей, что тянется от моря и до моря, бродит и живет на ней всюду, где ему захочется; он не знает судорог, от которых мы корчимся в своем тесном гнезде, вспоминая бессмертную истину, известную вам не хуже, чем нам: каждая пядь земли, той, что вы гордо называете Америкой, еще недавно принадлежала краснокожему. Здесь хватало места для всех племен, и все были счастливы и свободны. Но белый человек научился, мы не знаем где и как, многим вещам, которые нам не были известны. Он научился делать страшное оружие, которое в бою служит лучше, чем луки и стрелы. И не видно конца толпам людей, которые идут с ним сюда из заморских стран. Отцов наших постоянно преследовали и убивали, а мы, их сыновья, горестные потомки некогда сильных племен, загнаны на жалкие клочки той земли, которая по праву целиком принадлежит нам, — загнаны, как преступники; нас сторожат люди, вооруженные винтовками, они с удовольствием расправились бы с нами. И, слыша это, джентльмены, вы удивляетесь, что мы приходим в отчаяние и помышляем о мести!»
Мои «чешские индейцы» сидели затаив дыхание и думали о мести.
— Но индейцы не кровожадны. Среди них были люди возвышенного духа, как в каждом народе. Как в нашем народе. Они хотели мира и счастья людям. Гайавата, знаменитый ирокез, проповедовал братство и мир между людьми и против воли своего племени основал Лигу американских индейских племен. Текумсе был мудрый и миролюбивый вождь племени шавни; Кеокук, тоже шавни, был глашатаем вечного мира, Красная Куртка, вождь племени сенека, был сатириком — он сочинял насмешливые песенки, пословицы и веселые шутки. Вождь черокиу Секвойя изобрел индейскую азбуку и издавал первую индейскую газету в Бостоне, он, кажется, был единственным, кто дольше остальных пользовался свободой. А Васхахи, вождь шошонов, умер лишь в 1900 году. Его речи пользуются такой известностью потому, что он всегда говорил только правду.
Мальчики стали расходиться по домам.
— Папа, — начал Кнопка за ужином, — пожалуйста, не называй меня Кнопкой. Меня зовут Мартин Давид.
— Знаю, но я так привык к твоему милому имени, Кнопка, что мне трудно называть тебя иначе. Послушай, у индейцев, на первый взгляд, тоже были смешные имена, и все же они гордились ими. Например, Сидящий Бык, Буйный Конь или Вороненок. В этом нет ничего плохого.
— Конечно, нет, но ребята этого не понимают. Они думают не так, как ты.
— Ладно, Мартин Давид. Когда я забуду, ты мне напоминай.
Пришло время набивать трубку. Адам отправился спать. Воцарилась торжественная тишина горного вечера.
— Как ты думаешь, Мартин Давид, чему мы, бледнолицые, научились у индейцев?
Кнопка наблюдал за дымом трубки и не знал что ответить.
— Курить. В частности, курить трубку. Христофор Колумб был первым бледнолицым на свете, который увидел, как курят. Его суеверные матросы боялись курильщиков, и, когда у краснокожих изо рта и носа шел дым, они думали, что это чары и волшебство.
— А почему индейцы курили?
— Потому что им это нравилось. Индейцы очень скупы на слова и склонны к размышлению. А когда куришь, хорошо думается.
— А ты думаешь, когда куришь?
— Иногда думаю. Когда остаешься один, вокруг тишина и только трубка дымится, сразу сосредоточиваешься, успокаиваешься, и так хорошо думается о всевозможных обычных и необычных вещах!
— А индейцы курили трубки?
— Сначала индейцы верили, что курение очищает от скверных мыслей, табачный дым изгоняет из человека всю нечисть. Но говорят, что трубки они курили в знак дружбы. Вероятно, в этом есть доля истины. Когда в индейское поселение приходили чужеземцы или индейцы другого племени, то в знак миролюбивых намерений вожди по очереди выкуривали глиняную трубку мира. Она переходила от одного к другому. Называли ее калумет. Предание говорит, что индейцы никогда не предлагали Колумбу калумет мира. Видимо, они предчувствовали, что приезд первого бледнолицего в их страну принесет им разорение и горе.
— А что они курили, папа?
— Табак. Табак рос по всей Америке. Еще сейчас от Виргинии до Кубы, Порто-Рико и Бразилии табак является самой распространенной культурой. А во времена Колумба табак был диким растением. Индейцы в Мексике курили табак, делая трубки из стебля сахарного тростника. На островах Караибского моря и в Южной Америке табак заворачивали в кукурузные листья или курили сигары. В Северной Америке индейцы курили трубки. Табак, сигары, сигареты, трубки — это все изобретение индейцев… А теперь тебе пора спать. Ляг спокойно, закрой глаза, и чтоб я больше тебя не слышал.
— Папа, расскажи мне перед сном сказку.
— Ну, ты уже большой, а я не знаю ни одной сказки.
— Знаешь, не говори. Я как будто стану маленький, а ты мне рассказывай.
— Давным-давно жило одно растение, называлось оно табак. Во всем Старом Свете о нем никто не знал, потому что рос он только в Америке, а Америка еще не была открыта. Индейцы срывали листья табака, сушили их на солнце, морили, мочили и, когда листья становились мягкими и ароматными, скатывали их на бедре в тугие трубки, которые называли сигарами. Дым от сигар бледно-синий и очень душистый. У него прекрасный аромат.
— Мама говорит, что сигары воняют.
— Мама не курит сигары и потому не может их оценить. Мама нежное создание, ей и запах крепкого табака неприятен. Но нам, мужчинам, табак не кажется вонючим, правда?
— Сигары пахнут хорошо.
— Вот видишь. От индейцев научились курить мореплаватели. Но, вероятно, вначале им это не очень нравилось. Они глотали дым и чувствовали себя плохо. Очень плохо. Страшно плохо. Хуже чем плохо. Так плохо, как почувствовал бы себя ты, если бы попробовал закурить. Ну, а когда они вернулись домой, то привезли в Испанию и Португалию целые пачки табака. Они предложили табак королю, кардиналам, министрам, старостам своих деревень. Не прошло и года, как при королевском дворе Испании курение табака стало последним криком моды. Это было примерно в 1518 году, когда Испания являлась законодательницей мод. Но еще не скоро курение из моды превратилось в повседневную привычку. Понадобилось сорок лет, чтобы табак проложил дорогу из Испании в Париж. В Париже люди более легкомысленны и легко поддаются соблазнам. Курение здесь распространилось очень быстро. Кто хотел быть салонным львом и прослыть светским человеком, должен был курить независимо от того, нравилось ему это или нет. Эта прихоть в Европе в те времена обходилась дорого. А табак играл на человеческой слабости, зная, что, чем он недоступнее, тем желаннее. Таковы уж люди. Вводить новшества в Англии дьявольски трудно. Но табак не сдавался. Он не спешил. В Англии торопливость была бы неуместной. Англичане любят все, что существует веками. То, к чему они привыкли. В Англии табак появился примерно в 1565 году. Его привозили из Португалии поставщики портвейна, а из Франции — королевские послы. Английский король Иаков очень разгневался на это глупое новшество и приказал заточить первых курильщиков в башню Тауэра. Но если короли выступают против какого-нибудь новшества, то всегда находятся люди, которые стоят за него, именно потому, что против него выступают короли. В этом проявляется прогресс. Табак знал, что если он пойдет путем прогресса, то в конце концов победит. Так оно и вышло. Постепенно табак преодолел сопротивление англичан, и курение стало их национальной или, вернее, вредной привычкой, кто как понимает. Табаку это было безразлично. В трактирах и клубах Англии и Шотландии появились салоны для курения, где постоянные посетители и члены клуба держали свои глиняные трубки на полочке. Сейчас в Англии все курят трубки. Если я рисую англичанина, то обязательно с трубкой и в клетчатом костюме. У мистера Альфреда Данхилла на Дюк-стрит в Лондоне магазин трубок, равных которым нет на целом свете. Их называют данхилками, и они действительно превосходны.
— Я знаю. У тебя две данхилки с белыми крапинками на мундштуке.
— Правильно. Табак одержал в Англии огромную победу. А поскольку англичане много путешествуют и каждый из них возит в кармане свою трубку, то табак стал распространяться уже по всему свету. В первую очередь он попытался утвердиться в Турции. Османская империя была тогда очень сильна. Шел 1605 год. Турецкому султану продемонстрировали курение табака, но султан так разгневался, что сбежался весь османский «Высокий Диван»,[19] визири и великие визири успокаивали его, а табак только удивлялся, чего это султан так взбесился, и говорил про себя: «Погоди, я тебя проучу!» И проучил. Турецкий султан объявил, что каждый, кого застанут за курением табака, станет на голову короче, и действительно приказал обезглавить первых курильщиков. Но все напрасно. Табак решил, что именно Турция станет его второй родиной. Так и случилось. На Балканах и по всей Османской империи со временем стали выращивать табак, и он здесь прекрасно прижился. В Сербии, Македонии, Болгарии, во Фракии, в Леванте, Сирии — там растет замечательный табак латаккия — и в далеком Египте очень скоро табак стал неизменным спутником жизни турок, арабов и всего населения Ближнего Востока. Турецкие и египетские сигареты прославились на весь мир. Лучшие наши чехословацкие, а до этого австрийские сигары носили турецкие названия. Из Царьграда по Черному морю в 1634 году турецкие купцы привезли табак в Россию. Там сначала попы тоже возмущались, предавали в церквах курильщиков анафеме, объявляли табак затеей дьявола, подзадоривали царицу, чтобы она не разрешала царю курить. И это было ошибкой. Царь наперекор, назло всем попробовал первую папироску, и вся страна закурила. С караванами верующих табак из Турции попал в арабскую Мекку, место паломничества магометан, и оттуда на верблюдах пустился через песчаные пустыни, горы и реки в Иран и дальше большим караванным путем в Китай. Из России купцы завезли табак через Сибирь даже на Камчатку. И вот однажды охотники с Чукотки вышли в море в кожаных каюках. Они пристали к Аляске и здесь встретились с эскимосами. Североамериканские эскимосы предложили им прекрасные медвежьи, волчьи, лисьи шкуры и мех выдры, а сибиряки заплатили за это табаком. Так табак попал обратно в Америку. А потом эскимосы, попав на юг, предложили индейцам из прерии сигары или щепотку табаку для трубки как последнюю новинку, но индейцы отмахнулись и сказали: «Табак мы знаем уже тысячу лет». Вот как закончил табак свой первый большой путь вокруг света.
Табак радовался — ведь он не только объехал, но даже покорил мир. Красивыми голубоватыми колечками и облачками дыма он возносился ввысь. Всюду против табака выступали, повсюду людям запрещали курить…
— Курить строго запрещается, — промычал полусонный Кнопка.
— …но людей не переделаешь. Запретный плод сладок. Если ты к чему-нибудь привыкнешь, то отвыкать очень трудно. Дело зашло так далеко, что во время первой мировой войны, когда не было табака, курили картофельную шелуху.
Тут я понял, что сказку надо закончить, как положено, нравоучением, хотя бы потому, что Кнопка пробормотал:
— Я буду курить трубку, как ты и пан Эренбург.
— Знаешь ли, Кнопка, этому ты от нас не должен учиться. Курение — скверная привычка. Курить не надо. Кто не умеет курить — ничего не теряет. Это вредно для легких и для кармана. Если бы деньги, что твои папа и мама прокурили за всю жизнь, выложить вот сюда на стол, то, скажу тебе, их было бы порядочно. На них мы могли бы купить прекрасный «Седан» или «Фаворит», а возможно, и восьмицилиндровую «Татру».
Я закончил, как полагал, весьма убедительно, но до Мартина Давида это поучение уже не дошло — он мирно спал.
Через несколько дней после того, как я рассказал Кнопке сказку о табаке, мой сын, он же краснокожий брат, вспомнил о своих индейских наклонностях и явился ко мне выяснить, является ли курение единственным, чему мы научились от индейцев.
— Что ты! Мы научились от них и многому другому. Например, выращивать кукурузу. Кукуруза, как и табак, — культура американских индейцев. От них мы научились разводить индюков и индюшек. Русские называют их индейками — по имени индейцев. Когда в 1620 году судно «Мейфлауэр» пристало к мысу Код в Северной Америке и на берег вышли первые переселенцы, их встретил индейский вождь Массасоит и предложил им индюков и кукурузу. Годовщина переселения на американскую землю ежегодно отмечается праздником Благодарения, и в этот день на праздничном столе обязательно должна быть жареная индейка. Американцы до сих пор едят индейку в день Благодарения.
Фармацевты также многому научились от индейцев, знакомых со всевозможными смертельными ядами, которые в малых дозах являются основой различных лекарств. Ипекакуана — против кашля, маниготи и кураре — от чего, не знаю, наконец кока и кола, из которых приготовляют освежающий американский напиток «кока-кола», пользующийся таким же спросом, как у нас содовая вода. От индейцев мы научились извлекать йод из морских водорослей. Тот самый йод, которым мама мажет тебе коленки, когда ты их разбиваешь.
— Йод жжет.
— Но ведь индейские вожди мазали раны йодом и терпели, может быть, и ты потерпишь?
— Выдержу и не заплачу.
— Индейцы — этому мы от них не научились — стыдились показать, что им больно. Они сжимали зубы и молчали как убитые. Стона от них не услышишь. Плакать от боли у них считается позором.
— Папа, я больше никогда не буду плакать…
— Не обещай, Кнопка, того, чего не сможешь выполнить. Ты не индеец. И, наконец, слезы не чужды человеку, они не считаются у нас позором.
— А что еще изобрели индейцы?
— Много вещей, например гамак — висячее ложе из веревок. Или темные очки против яркого света, особенно ослепительного на снегу. Изобрели лыжи, чтобы ходить по сугробам, а также окарину — глиняную дудочку. Или салазки — тобоган. Они умели обрабатывать платину, а у майя, замечательного индейского народа Центральной Америки, очень давно, еще в начале первого тысячелетия, был более точный календарь, чем наш, так называемый грегорианский. У них была своя цифровая система. Они ввели нули. У ацтеков в Мексике был первый зоопарк на свете. Но самый замечательный подарок сделали индейцы детям.
— Какой, папа? Скажи!
— Мяч. Резиновый мяч. Надутый упругий мяч. Только благодаря индейцам дети всего света играют в мячик, а взрослые в теннис и в футбол.
— А ты был среди индейцев, папа?
— Был. Я был в таборе индейцев гопи и в индейских резервациях, например в Таосе. Мы поехали туда на старом автомобиле Вериха, и по дороге нас остановил индеец с перьями на голове и попросил подвезти его. Он сел рядом с Верихом и с достоинством молчал. По-индейски. А маленькая Яна Верихова так и застыла на месте. Она впервые видела настоящего индейца. Когда кто-нибудь из нас заговаривал по-чешски, она сердилась, что мы говорим на языке, которого индеец не понимает, боясь, как бы он не обиделся. А затем я встретился с индейцами во время войны, в радиостудии.
Когда разразилась война между фашистской Германией и США, индейские вожди собрались и выпустили следующее воззвание:
«Пусть будет так: мы, вожди индейского племени каенов из штата Оклахома, говорим вам, что мы и наши соплеменники находимся в состоянии войны со странами Оси, которые именуем Треугольником безбожников».
В то время я познакомился с одним индейцем, сварщиком на верфях. Его звали Дорсей Любимец, по-индейски — Дорсей Астедайси. Позднее он отличился где-то в американской армии у Гвадалканала, где спокойно вывел из джунглей целый отряд, окруженный японцами. Это врожденная особенность индейцев. Во время войны в Северной Африке американская армия для передачи приказов по радио использовала индейцев, и они вместо условного кода говорили на своем языке, которого нацисты не понимали.
Я расскажу тебе еще одну историю. Во время войны в США был организован сбор старого железа. Как вы в школе собираете бумагу, кости, бутылки и металл, так и в индейских поселках собирали старый металл. В одном маленьком забытом индейском селении школьники собрали два полных воза старого железа. Они хотели взвесить его и отвезти, но во всем поселке не нашлось таких огромных весов и гирь. Как быть? Вождь созвал совет старейшин, закурил калумет, и все стали молча размышлять. Потом вождь встал и среди напряженной тишины произнес следующую речь: «В нашем поселке живет старая женщина, которая вчера вернулась из городской больницы; перед уходом ее там взвесили и сказали, что она весит семьдесят три килограмма. Сколько раз мы взвесим старую женщину, столько раз мы отвезем на пункт по семьдесят три килограмма железа. Гук! Я кончил». Они уравновесили доску, как вы делаете на качелях: на один конец посадили старуху, а на другой накладывали железо, пока оно не начинало перетягивать, и качали бабку до тех пор, пока не взвесили все железо.
Но Кнопка не смеялся. Он думал о судьбе индейцев:
— Папа, будут ли когда-нибудь индейцы освобождены и вернут ли им их родину?
— Сейчас было бы бессмысленно, Мартин Давид, предлагать, чтобы Америку — особенно США — вернули индейцам. В США индейских народов и племен вместе взятых немногим более полумиллиона человек, а общее число переселенцев достигает ста шестидесяти миллионов. В индейских резервациях живет едва ли четыреста тысяч человек. Остальные переселились в города, носят шляпы и башмаки, как и мы, так же работают на фабриках и постепенно, но неудержимо сливаются со всеми национальностями в одно целое — в американский народ. Но об Америке и американцах я расскажу в другой раз. А теперь не мешай мне, пожалуйста, писать статью для журнала. Гук! Я кончил.
САМЫЙ, САМЫЙ, САМЫЙ,
или
НЕБОСКРЕБ
Мартин Давид любит преувеличивать. Он немножко стесняется, когда я слышу, как он хвастает, но среди детей это проходит незамеченным. Они все так делают.
Однажды я писал за столом у нашей горной хижины, подле грядки лесной клубники. Отсюда виден веероподобный красивый клен с мелкими листьями, растущий у разрушенного дома на склоне горы. Я писал и слушал, как дети хвастают.
— У меня самый лучший свитер, какой только продали в магазине «Тепа» в Рокитнице.
— А у меня самые упругие тапочки, какие только были в Жамберке в Ясе. Я прыгнула в них так, как никто не сможет прыгнуть.
— А мне папа дал самую лучшую китайскую марку, полученную прямо из Китая.
— Зато у нас на чердаке живет барсук.
— Подумаешь! А у нас в часах жила ласочка.
— А мой папа был в Америке больше всех других людей из Чехословакии.
— Хватит! Ну, знаете, ребята, вас больше невозможно слушать! Хвастаетесь, как американцы! И притом это глупое «самый, самый, самый». Неужели у вас нет более интересной игры? Что подумают читатели? Во всем этом нет ни слова правды. А мне в конце концов придется писать об этом в анкете.
— Но, папа…
— Никакого папы! Я был в Америке с твоим крестным, дядей Фрагнером, один раз перед войной. В тот год, когда умер твой дедушка — мой отец. Тогда я дал себе слово больше никогда туда не ездить. Но обстоятельства сложились так, что во время войны мне пришлось эмигрировать в Америку, а после войны я еще раз пять побывал там по служебным делам.
— Но, папа…
— Никакого папы! Хвастаетесь один перед другим, просто стыдно!
— Но, папа, почему ты говоришь, что мы хвастаемся, как американцы?
— Потому что они — как вы. Американцы — большие дети. Они думают, что все американское — самое лучшее и самое большое на свете. Они хвалятся, что в Америке живут самые богатые люди, забывая при этом, что там, где есть самые богатые, есть и самые бедные. Где есть самые образованные, есть и самые невежественные люди. Где есть самое лучшее, там бывает и самое худшее, и где бывает самое большое, имеется и самое маленькое, ведь противоположности особенно характерны для Америки.
— Но почему американцы как дети, папа?
— Потому что они всюду хотят быть первыми, иметь больше всех, быть самыми большими и самыми высокими, ну совсем как вы.
— Но ведь в Америке самые высокие небоскребы и самые богатые миллиардеры?
— Верно. И хотя небоскребы есть и в других местах — в СССР, в Китае, в Аргентине, — но самые высокие все же в Америке. Я вам кое-что расскажу об Америке. Идите сюда, садитесь на ступеньки. Возможно, это будет сказка.
— Да, да, сказка об Америке!
— Жил да был в Америке один человек. Как его звали, не знаю, но он там жил. Он был американец с головы до пят и начал свою жизнь, ничего не имея. Жил он на случайные заработки и даже не помнил, где работал, кем был, пока не разбогател. А разбогатев, хотел только одного: быть богаче, еще богаче и стать самым богатым. Самым богатым в городе, самым богатым в США, самым богатым на всем свете. И, чтобы доказать самому себе, что он уже стал самым богатым человеком в мире, он приказал выстроить в Нью-Йорке самый высокий дом.
В этом самом высоком доме, на самом верхнем этаже он устроил себе самую роскошную квартиру. Когда дом достроили, он поднялся на электрическом лифте, который был самым быстрым лифтом в городе, на самый верхний этаж. Он поднялся бы еще выше, но выше уже было некуда. Выше был только воздух, облака и изредка пролетала какая-нибудь пташка. Воробей или чайка. Самый богатый человек подошел к самому большому окну самой большой квартиры на самом верхнем этаже самого высокого дома в Нью-Йорке и усмехнулся с самым самодовольным видом, на какой только был способен. Затем он посмотрел вниз на самый большой город Америки, бесчисленные трубы которого дымились под ним. Город был гораздо ниже его достоинства. И богач свысока посмотрел на него.
Обычно говорят — «посмотреть свысока», но это было с высоты сто пятого этажа, с самого верхнего этажа из всех этажей вообще, с самого «свысока», с какого в то время мог кто-либо на что-нибудь посмотреть.
— Но это какая-то новая сказка, дядя!
— Да. Это современная сказка. Настолько современная, насколько современна была квартира этого самого богатого человека на свете на самом верхнем этаже самого высокого дома в Нью-Йорке. Это была полностью механизированная квартира, обставленная по самой последней американской моде, летом прохладная и зимой теплая. В квартире была одна светонепроницаемая, другая звуконепроницаемая спальня. Один бассейн с пресной водой и второй — с соленой и три водонепроницаемые ванные комнаты.
— Почему три?
— Потому что двух для такого богатого человека слишком мало. У него было девять входов и девять выходов. И, хотя никакая опасность ему не угрожала, он имел два запасных выхода.
— Говори серьезно, папа! Ты превращаешь сказку в шутку!
— Вовсе нет. В этой сказке все правда, и эта правда смешна. Ну, и этот самый богатый человек на свете, что жил на самом верхнем этаже самого высокого дома в Нью-Йорке, имел в своем кабинете — кабинет вообще был ему не нужен, ведь этот человек был так богат, что никогда не работал, — телеграф, фонограф, кинематограф, проекционный фонарь, радиопередатчик, приемник, диктофон, граммофон, микрофон и телефон. Собственно, телефонов на столе было двадцать два, но, поскольку звонили все сразу, он вообще ни одну трубку не снимал. Да, чтобы не забыть: куда ни взглянешь, везде стояли телевизоры. Были в квартире также планетарий, дендрарий, террарий и солярий. Само собой разумеется, что были тут термометры, электрометры, барометры, гигрометры, манометры, шагомеры, газомеры — в общем, всего не перечтешь. В салонах находились: бар крепких напитков, пивная, винный погребок, увлажнитель для сигар, аквариумы, операционный зал, рентгеновский кабинет, кафе, зубоврачебная амбулатория, горное солнце, солнечные часы, каток, сцена, зрительный зал и танцплощадка. В кухне имелся комплект электрических холодильников, электрических и газовых плит, мешалок, пылесосов, стиральных и утиральных приборов и роботов. От сушилок, холодильников и пекарен, кондитерских, уксусных и дрожжевых складов маленькая железная дорога с вагонами вела прямо к залам перед столовой. В самом дальнем зале, где ради безопасности вообще не было дверей, стоял стальной несгораемый недоступный сейф с сигнализацией. Короче, Кнопка, эта квартира старого холостяка походила на клетку. Только библиотеки там не было.
— Почему?
— Она была ему не нужна. Он не читал. Теперь, когда вы знаете, как выглядела самая американская, самая механизированная квартира, вернемся к ее владельцу — самому богатому человеку на свете. Как я уже говорил, он стоял у окна и свысока смотрел на весь мир. Вдруг в комнату влетел секретарь с выпученными глазами и, не сознавая, что отрывает своего хозяина от созерцания лежащего под ним мира, не переводя дыхания и заикаясь выпалил ужасную весть.
— Какую?
— Какую? Ужасную! Представь себе, что другой старый господин, тоже страшно богатый, но все же не так страшно богатый, как этот самый богатый человек на свете, осмелился выстроить на другом конце города дом на десять этажей выше, чем был самый высокий дом в Нью-Йорке, который принадлежал самому богатому человеку на свете. И вышло так, что самый высокий дом в Нью-Йорке уже перестал быть самым высоким домом в Нью-Йорке и самым высоким стал теперь тот дом, который был на десять этажей выше самого высокого до этого дома в Нью-Йорке. Самый богатый человек на свете перестал смотреть свысока на мир и побледнел. Он тяжело опустился в самое мягкое кресло в своем кабинете, где никогда не работал, потому что был так богат, что мог не работать, и сказал: «Выстройте для меня в самое кратчайшее время дом на десять этажей выше того дома, который теперь на десять этажей выше дома, до сих пор бывшего самым высоким домом в Нью-Йорке, чтобы мой дом был опять самым высоким домом в Нью-Йорке». И так каждые два года самый богатый человек на свете строил новый дом, самый высокий в городе, потому что всегда находился кто-нибудь, кто наперекор ему строил дом хотя бы этажом выше, чем тот его последний самый высокий дом в Нью-Йорке. Каждые два года переселялся самый богатый человек на свете в новую самую роскошную квартиру на самом верхнем этаже самого высокого дома в Нью-Йорке, и, когда он впервые подходил к самому большому окну и начинал свысока смотреть на мир, прибегал запыхавшийся секретарь с известием, что кто-то позволил себе выстроить где-то на другой стороне города дом по крайней мере на этаж выше.
И вот возникла игра богатых, называемая «самый высокий», и город рос в высоту, становился все выше, выше, так что богатые жильцы самых высоких этажей утратили всякую связь с более бедными жильцами нижних этажей; и каждый, кто жил наверху, уже не знал, что делается внизу, потому что между ним и тротуарами улиц простирались туманы и тучи. Эти дома стали называться небоскребами. И вот однажды, когда самый богатый человек на свете переселился в самый новый и самый высокий дом в Нью-Йорке и подошел к самому большому окну, произошла необыкновенная вещь. Его секретарь не прибежал запыхавшись, потому что в этот день никто не выстроил небоскреба на десять или даже на один этаж выше. Самый богатый человек на свете был сам не свой, он не знал, что ему сегодня делать, и решил пойти прогуляться. Он спустился на самом скором лифте со своего сто шестьдесят пятого этажа, вышел из дома и направился через улицу в Центральный парк кормить голубей. Он шел пешком, потому что считал себя демократом. Было так чудесно! Непрерывный поток машин, фырча, несся по асфальту. Воздух благоухал бензином, резиной и дегтем. «Нет ничего лучше прогулки на лоне природы!» — сказал себе самый богатый человек на свете. Ему приходилось быть в одиночестве, потому что самому богатому человеку на свете, который не имеет себе равных по богатству, не с кем было встречаться, и, если ему хотелось с кем-нибудь поговорить, он должен был разговаривать сам с собой.
Освеженный, он вернулся в свой самый высокий дом на свете и нажал кнопку самого быстрого лифта. Никакого результата. Дверь лифта не открывалась. Молчание. Он пошел к другому лифту. То же самое. И двери следующих лифтов и двери шестьдесят шестого лифта — столько лифтов было в этом самом высоком доме — не открывались. «Что происходит?» — растерянно спросил он привратника. «Служащие лифтов бастуют, господин. Все лифты в городе бездействуют». — «А как я попаду в свою квартиру на самом верхнем этаже?» — «По лестнице, пешком», — ответил привратник и пошел по своим делам. Самый богатый человек на свете был уже не молод. Пожилой, с пороком сердца, глуховатый, он страдал одышкой, у него было плохое пищеварение и подагра. Он вышел на улицу и посмотрел вверх, туда, где в облаках скрылся самый верхний этаж самого высокого дома. Всюду на улицах толпились люди и с завистью и тоской смотрели на окна своих квартир, находившихся где-то высоко в небоскребах. И чем богаче был человек, тем безнадежнее смотрел он вверх, потому что тем выше он жил. Люди не могли попасть домой в свои квартиры, служащие — в канцелярии, продавцы — в магазины, почтальоны не могли доставить почту, торговые агенты были лишены возможности предлагать пылесосы, врачи не могли попасть к больным, больные — к врачам. Никто не мог ничего ни купить, ни продать, ничего устроить, потому что лифты упрямо стояли и не поднимались. Хуже всего пришлось тем людям, которые забыли деньги дома и теперь бродили тут с детьми, и у них от голода сосало под ложечкой, и тем, у которых были назначены важные заседания, деловые встречи, свидания, свадьбы и совещания. Даже на собрания нельзя было поехать, потому что лифты упрямо стояли и не поднимались. Словом, все население города, если оно не застряло в своих квартирах, стояло перед домами. Улицы были полны людей.
Самый богатый человек на свете не знал, что ему делать. Денег у него были полны карманы, но они ему были совсем ни к чему. Он не мог попасть домой. Его охватил гнев, и он в бешенстве топал ногами. Но и это не помогло.
А тут навстречу ему идет веселый парнишка и посвистывает. Это вывело из себя самого богатого человека. «Как ты осмелился быть в таком хорошем настроении, когда я, самый богатый человек на свете, живущий на самом верхнем этаже самого высокого дома в Нью-Йорке, не могу попасть домой?» — «А я настолько беден, ваша милость, что живу в первом этаже», — ответил веселый парнишка. И тут самый богатый человек на свете понял, что нет смысла жить на самом верхнем этаже самого высокого дома, что мало быть самым богатым человеком на свете, потому что есть вещи, которых нельзя купить за все деньги мира.
— Папа, а какой самый высокий дом на свете? Ты видел его?
— Дядя, вы были на самом верхнем этаже самого высокого дома в Нью-Йорке?
— Был. Теперь самый высокий дом — Эмпайр Стэйт Билдинг. У него сто два этажа. Каменщики выстроили его из десяти миллионов кирпичей. В доме действительно шестьдесят восемь лифтов. Скоростные лифты останавливаются только на некоторых этажах, обычные — всюду. В доме шесть тысяч четыреста окон, в нем помещаются восемьдесят тысяч человек.
— Это больше, чем население большого города.
— В этот дом вошел бы весь Пльзень с окрестностями.
— И пльзенский пивоваренный завод?
— И пльзенский пивоваренный завод. Но не думай, что очень удобно жить так, прямо под облаками. Можешь себе представить, Кнопка, какая давка происходит на улице перед домом примерно в пять часов вечера, когда кончается работа и все люди, выйдя из канцелярий и магазинов, спешат домой?
— Вот, должно быть, толчея!
— Народу — как на хоккейном матче!
— А теперь представь, что в Америке каждый пятый человек имеет автомобиль. Вот и подсчитай.
— Что?
— Условия задачи: каждый пятый американец имеет автомобиль, сколько автомобилей имеют восемьдесят тысяч человек, которые живут в самом высоком доме Нью-Йорка?
— То есть восемьдесят тысяч разделить на пять. Пять в восьми содержится один раз. Остается три. Сносим ноль. Пять в тридцати — шесть раз. Ничего не остается. Теперь только остается снести нули. Шестнадцать тысяч машин, папа. Это целая Вацлавская площадь!
Эти дома называются небоскребами.
— И учти, что перед домами нет стоянки такой величины, как Вацлавская площадь. Нью-Йорк город тесный, каждый квадратный метр застроен домами. И такими небоскребами, как Эмпайр Стэйт Билдинг, застроена целая улица по обе стороны справа и слева, куда ни глянь. И в соседних улицах точно так же. В часы пик утром, во время обеда, после работы и перед началом сеанса в кино и в театрах в центре города вообще не сдвинешься с места. Однажды мы с мамой спешили с 59-й улицы — в Америке большинство улиц обозначаются числами — на какой-то вечер. Мы были приглашены на восемь часов, а если тебя приглашают на восемь, то полагается прийти чуть-чуть после восьми, но не позднее. Шел дождь, мама надела вечернее платье и легкие туфельки. Ты ведь знаешь, что она никогда не бывает вовремя готова. Одним словом, когда мы вышли из дому, было без четверти восемь. На счастье, нам сразу попалось свободное такси. Мы уселись и поехали. Трр! Остановка! Красный свет. Со всех сторон тесными рядами подъезжают машины. Расстояние от одной машины до другой — пять сантиметров. Бедные сцепления! Бедные тормоза! Бедные шоферы! Но самые несчастные те, кто куда-либо спешит и сел в такси, чтобы добраться поскорее. Машины продвигались вперед по метру. Бац! Опять красный свет!
Мы проехали Шестое авеню и приближались к отелю Плаза на Пятой авеню. Но до него было еще порядочно. Собственно, за все время мы больше стояли, чем ехали. Взбешенные шоферы начали сигналить, более нетерпеливые пытались пробраться между двумя машинами. Поток остановился, крылья терлись друг о друга, давка усилилась, все спуталось, и образовалась пробка. Конные и пешие полицейские пытались разредить эту толчею, но куда там! Было двадцать пять минут девятого, когда на Мадисон-Авеню мы опять остановились. И, очевидно, надолго. Среди моросящего дождя машины нервно хрипели. Шоферы ругались. А те, кто ехал в машинах, начали клевать носом. Трр! Машину рванулась, как заяц, на метр и снова остановилась. Наш шофер обернулся к нам: «Эй, друзья, идите лучше пешком, будете на месте на полчаса раньше. Отсюда всего несколько шагов». Мы вышли из машины, заплатили за проезд и под дождем прошлепали с мамой по лужам в отель Вальдорф-Астория. Мы обогнали по крайней мере две тысячи автомобилей и явились к ужину далеко не последними. Дядя Верих может подтвердить, что я не преувеличиваю. Он это знает лучше, потому что, когда сам сидишь за рулем, нельзя выйти и пойти дальше пешком.
— Значит, в Америке быстрее ходить пешком, чем ездить на машине?
— Нет, нет. Ты такой вульгаризатор, что просто ужас! В часы пик и особенно в плохую погоду на улицах в центре города образуется такой затор, что лучше выйти из машины и идти пешком. Но вообще в Америке без машины ты погибший человек. Вся жизнь там устроена так, словно на свете одни автомобилисты.
— А что делают остальные?
— Сто двадцать миллионов американцев не имеет машин, а тридцать миллионов — владельцы машин, и надо сказать, что эти тридцать миллионов далеко не всегда возят те сто двадцать миллионов, если им куда-нибудь потребуется ехать. У нас гораздо меньше людей имеют машины, и все же контраст между пешеходами и владельцами автомобилей не так велик, потому что общество у нас заботится о пешеходах. У нас жизнь устроена не для автомобилистов, скорее наоборот. Мы передвигаемся пешком или стоя, да?
— Как это — стоя?
— В трамвае, в автобусе, в троллейбусе или в поезде ты стоишь, так ведь? Но пока ты вырастешь, Мартин Давид, и у нас жизнь будет моторизована и механизирована. К счастью, я до этого не доживу.
— Почему к счастью, папа?
— Потому что я пять лет прожил в этом механизированном, моторизованном, стандартизованном американском раю. Я там жил и работал. Был я тогда бедным, как церковная мышь, да к тому же еще иностранцем. Я видел американский образ жизни. Поверь, что ты можешь не завидовать американцам. Честное слово, нет! Прогресс, машины, электрификация, атомная энергия, реактивные самолеты — это все прекрасно, но нельзя забывать о человеке. А о человеке в Америке часто забывают.
14 ИЮЛЯ,
или
ДА ЗДРАВСТВУЕТ СПАСИТЕЛЬ КИТАЙСКИХ ФОНАРИКОВ!
Было утро. Раннее утро. У Фидлеров кричал петух. Я выглянул в окно — вся трава покрыта росой. Луга словно посеребрило.
— Какое сегодня число? — спросил Кнопка, который пятнадцатого ждал гостей.
Я посмотрел на небо и на далекие синие вершины гор, будто там это было написано, и ответил:
— Сегодня четырнадцатое июля.
— Значит, будет праздник, — сказал Кнопка.
В этом можно было не сомневаться. Мы всегда отмечали 14 июля — ведь мы столько лет праздновали этот день во Франции, потому что это один из прекраснейших праздников человечества, настоящий народный праздник. Мы тут же принялись составлять план. У нас дома без плана ничего не делается.
— Мама отправится с Адамом на прогулку и по пути зайдет в лавку купить три бутылки вина.
— Лучше четыре, — откликается мама.
— Или десять, — замечает скептически сын.
— Значит, четыре, — объявляет хозяйка дома.
Ее слово решающее. Она укладывает пустые бутылки в коляску к Адаму, и они выезжают.
Но тут же возвращаются.
— А что французское у нас будет к обеду?
Мартин Давид знает, что французская кухня — одна из лучших на свете, значит, будут готовить что-то вкусное.
— Мяса нет и не будет. От ужина осталась ветчина, но ее хватит только на одного человека. Видимо, придется открыть какие-нибудь консервы.
Но мы не любим консервы, потому что очень долго жили в Америке, где сплошные консервы, и человеку этот «консервный» консерватизм уже не лезет в глотку.
— Приготовь что-нибудь из грибов!
Я вытащил все имеющиеся дома руководства по кулинарии: «Повариху» Помиана Tante gracieuse[20] и Эскофье и принялся искать, что бы такое приготовить из грибов.
— Вот это, видимо, подойдет. Внимание! «Потушить грибы в масле до готовности, прибавить к ним мелко нарубленную ветчину. Охладить портвейном, заправить сметаной и размешивать, пока не загустеет. Потом вылить всю массу в фаянсовую посуду. Растопить 125 граммов масла, сбить его с двумя желтками, влить пол-ложки уксуса и лимонный сок. Этим соусом полить грибы, посыпать густо сыром и запечь в духовке».
— И поставить на стол! Будем варить! — ликовал Кнопка.
Мы оба — отец и сын — любим готовить и любим поесть, в чем охотно признаемся, ибо мы люди не скрытные.
— Это все потому, Мартин Давид, что в молодости я прилежно учился любить жизнь и искусство. Во Франции я учился мыслить как истинный коммунист у выдающегося учителя и замечательного человека, художника, поэта, гражданина и мужественного рабочего-трибуна — у Поля Вайяна-Кутюрье. Это был незаурядный человек. Образованный. Философ. Борец. Притом охотник. Стрелок. Кулинар. Такой кулинар, что ему могли позавидовать в Тур д'Аржан — Серебряной башне. Он любил вспоминать, как маленьким мальчиком ходил с отцом в Лувр. Собственно, это он первый рассказал мне о китайском искусстве, о его подлинном величии и поэтической простоте. Еще учась в средней школе, он открыл для себя китайское искусство и восхищался им в Музее Гиме. Как это было давно, мой мальчик! Тогда еще никто не знал, что Мао Цзэ-дун приведет китайский народ к победе. В то время в Китае господствовала маньчжурская династия. Однажды я узнал Вайяна-Кутюрье еще с одной стороны. Мы возвращались с какой-то манифестации из Vel d'hiv — Зимнего стадиона, — и он предложил: «Зайдемте к нам!» Мы пошли. Дома он надел фартук и принялся жарить омлеты. Он подбрасывал их на сковородке, и, когда они перевертывались в воздухе, подхватывал с ловкостью жонглера. Какой это был веселый и ловкий жонглер! «Знаешь, — говорил он, — кто любит хорошо поесть, понимает толк в вине, весел, любит людей, красивых девушек и прекрасное искусство, тот хороший человек, и из него выйдет настоящий коммунист. — И, смеясь, продолжал: — Обрати внимание на трезвенников, некурящих и вегетарианцев…» Кутюрье рассуждал, как Юлиус Фучик. Он слегка напоминал мне Шмераля, доктора Богумира Шмераля, — это был замечательный человек, крупный политический деятель, основатель нашей коммунистической партии. Он тоже был из мяса и крови, из смеха и гнева… Ах, я всегда углубляюсь в воспоминания и забываю об обеде! Все ли есть, что нужно? Грибы? Ветчина? Сметана? Ну, и так обойдемся. Масло? Яйца? Уксус? Лимон прибавим мысленно, а сыру есть добрых полкило. Можно приступать.
Стряпня всегда немного похожа на математическое уравнение. Вместо неизвестного берем известное, и получается что-то совсем новое. Вместо специй, которых у нас недостает, прибавим что-нибудь из того, что имеем дома, и будем считать, что дело пойдет на лад, и оно идет!
— А где мы возьмем портвейн? — спросил опытный поваренок Кнопка.
— Подумаешь, портвейн! В продовольственном магазине у пана Калоуса имеется греческое десертное вино Мавродафне, оно заменит нам портвейн.
— Если оно есть, — заметил с сомнением поваренок.
— Наверняка есть. В Черной воде и в Кунштате живут греческие беженцы. Они работают в лесу. Знаешь этих печальных женщин, закутанных в черные платки, что сидят по вечерам вокруг фонтана в Рокитнице, словно в Афинах? И там они сидели бы вечерами в черных платках у фонтана.
— Это те пани, которые ходят в лавку за покупками с детьми. Они говорят мальчику по-гречески, что надо купить, а он переводит на чешский. Ребята ходят в чешскую школу, ты знаешь об этом, папа?
— Знаю. И, чтобы порадовать греков, которых изгнала с родины гражданская война, пан Калоус достал им греческое вино. Сбегай, догони маму и скажи, чтобы она купила бутылочку этого вина.
Кнопка помчался.
— Эй, малыш, еще забеги к Рихарду.
— К которому?
— Ну, к Виснеру, пригласи их к обеду — ведь сегодня четырнадцатое июля. А пани Виснерова француженка.
Я наколол дров, затопил печку и принялся готовить.
Обед удался на славу. Блюда были французские, как в ресторане «Лаперуз», а вино хотя и не высшего сорта, но вполне приличное, достойное украсить праздничный обед. Генриетта Виснерова пела французские песенки, и мы вспоминали Париж. Маленький Даниель, постукивая по сковородке, запел «Марсельезу». Пришли соседские ребятишки. Прекрасная революционная песня, и все мы чувствовали ее силу.
— Ребята, каждый народ отмечает решающий момент своей истории песней. Наша чешская гуситская революция была первой революцией в Европе. Она создала воинственный народный хорал «Кто вы, божьи воины?», которого неприятель так боялся, что, заслышав могучие звуки хорала, убегал с поля боя.
Французская революция дала миру «Марсельезу». Ее сложил двадцать шестого апреля 1792 года в Страсбурге молодой офицер, капитан саперов Клод Жозеф Этьен Руже де Лиль. Вначале это был марш рейнской армии. В том же году под звуки «Марсельезы» марсельцы овладели королевским дворцом в Париже. Накануне провозглашения республики французские революционные войска победили пруссаков у Вальми, где «Марсельеза» гремела над полем боя и донеслась до слуха поэта Гёте, находившегося в штабе прусских войск. Он понял, что эта песня ознаменовала начало новой эры. Да, ребята, эту песню не забыть никому, кто хоть раз слышал, как ее поют демонстранты на улицах, — она не стареет.
Я слышал ее и в Москве, и в Праге, но лучше всего она звучала в Париже, когда рабочие автомобильного завода Рено шли из Бианкура на Париж. А что творилось во время демонстраций инвалидов двух войн и простого парижского люда на Больших бульварах, когда народ протестовал против приезда американского генерала Риджуэя! Полицейские, забившись в углы, тряслись от страха и на коленях молили о пощаде. Но трудно просить о милосердии, если совесть у тебя нечиста и над тобой гремит «Марсельеза».
Мы с удовольствием вспоминаем Париж. И Кнопка, который прожил там первые годы своего детства, тоже часто говорит о нем. А в Париже мы постоянно вспоминали Ржички. Но таковы люди: они думают о том, чего сейчас не имеют.
После обеда мне пришлось, по традиции, проиграть Рихарду две партии в шахматы, а дети в день 14 июля ждали от меня рассказов о Франции.
— Пусть вам расскажет Мартин Давид. Он прожил там три года и кое-что еще помнит.
— Я помню Эйфелеву башню, мы видели ее из окна. Это железная башня высотой в триста метров. Она похожа на машину, но только не движется. Она вся ажурная, и видно, как поднимаются и опускаются лифты и как люди ходят по лестнице. Второй этаж выше трубы восьмиэтажного дома, там есть ресторан и почта. На самом шпиле — громкоговоритель и французский флаг, потому что это французская башня.
— И очень французская. Она часть Парижа. Когда говоришь о Праге, то представляешь себе Градчаны; когда произносишь слово «Париж», то представляешь Эйфелеву башню, хотя для парижан она значит меньше, чем Градчаны для пражан. Эта башня является каким-то металлическим центром города. Булавкой, которой город-бабочка приколот к Сене. Когда мы возвращались после загородных прогулок, для Кнопки, которому было два года, Париж не был Парижем, пока он не увидел Эйфелевой башни. Он любил ее и выдумал для нее уменьшительное имя, называя ее Эйфрлинка. Но есть парижане, которые, как и автор этой книги, никогда на Эйфрлинку не подымались.
— А я там был, — похвалился Кнопка.
— Ну, а я нет… — пришлось мне сознаться.
Я быстро заговорил о другом, потому что в глазах ребят это было непростительным позором.
— А что еще ты помнишь о Париже?
— Подъемные краны на Сене.
— А что они делали?
— Не знаю. Этого я уже не помню, папа.
— Это были краны для разгрузки строительных материалов, песка, булыжника для мостовой и различных товаров. Но на стройках часто бастовали или просто не было работы, и потому краны нередко бездействовали. А ты, Кнопка, заступаясь за них, как-то сказал: «Они не работают, потому что устали». А затем подумал и добавил: «А может, и ленятся». Ну, а еще что ты помнишь?
— Помню, как шла большая процессия, люди пели и кричали, с ними шел старый господин Кашен, дядя нашего доктора, который не хотел вырезать мне гланды. Это был очень хороший доктор. А потом мы отправились в кафе-мороженое «Тамбур».
— На площади Бастилии… Это была огромная демонстрация рабочих, которая двигалась с площади Бастилии на площадь Нации. Ее проводят каждое четырнадцатое июля, в день годовщины революции. Во главе идут коммунисты. На том месте, где сейчас находится памятник с ангелами, стояла Бастилия, холодная каменная тюрьма. Здесь полицейское правительство Людовика Шестнадцатого держало в заточении передовых французов, новых людей пробуждающейся Франции. Правительство думало, что вместе с ними упрячет в тюремные камеры и революционные идеи. Это была страшная и суровая тюрьма, но идеи свободы, равенства и братства всех людей нельзя заглушить. Они живут в людях. В течение ста лет назревал протест против монархии. Сто лет готовилась революция. Четырнадцатого июля 1789 года вспыхнуло вооруженное восстание. Парижане выломали ворота тюрьмы, открыли камеры, подожгли башни. Так началась французская революция. Сегодня исполняется сто шестьдесят шестая годовщина этого дня.
— И простые люди, люди в рабочей одежде, захватили Бастилию?
— Да, Кнопка. Когда народ, вооружившись, выходит на улицу, — это великий момент. Помнишь, как в феврале 1948 года по Праге шла вооруженная народная милиция с заводов? Раз-два, раз-два. В такие минуты слышен ход часов истории.
— Папа, четырнадцатое июля — это самый торжественный день во Франции?
— Пока что да. С того времени каждый год четырнадцатое июля отмечают как национальный праздник французского народа. В этот день владельцы кафе выносят столики и стулья прямо на тротуар, а то и на мостовую. Город прихорашивается. Такое впечатление, что собор Парижской Богоматери только что вышел из салона красоты. Платаны в аллеях завили свои кроны. Парки — ну прямо витрина дамского парикмахера. Церковь Сакре Кёр (Святое сердце) на Монмартре белая, словно торт из мороженого, у ограды Сент-Шапель новый позолоченный маникюр. Крыши на улице Риволи блестят, будто начищенные наждаком. Пастушка Эйфелька, стройная красавица, чуть покачиваясь, стоит на Марсовом поле и посылает в эфир телевизионные передачи. Дома припудрились и покрасили крыши губной помадой. Окна надели летние туалеты. Памятники почистили бронзовые одежды и мраморные ризы. Мосты выгнулись над рекой, и на улицах вокруг фонарей колышутся шлейфы света. Воздух напоен всеми ароматами лета, гладь Сены отполирована так, что может отразить эту июльскую ночь со всей ее красочностью. Трубы домов, увенчанные султанами дыма, готовят праздничный ужин. Улицы, увешанные гирляндами бумажных цветов, китайских фонариков и трехцветных флажков, словно ленты, украшают город. Какие цвета на флаге Франции, кто знает?
— Синий, белый и красный, расположенные вертикально.
Улицы, увешанные гирляндами цветов, китайских фонариков и трехцветных флажков, словно ленты, украшают город.
— Отлично. Садитесь. С полудня люди уже толпятся на набережной. Дети лакомятся леденцами и арахисом. Девочки — в белых туфельках, белых чулочках, с белыми бантами в волосах. Как только стемнеет, с мостов и островов взлетают к небу разноцветные фейерверки и тысячами звезд падают в Сену. Люди на набережной рукоплещут самым красивым ракетам, фейерверкам и бенгальским огням, а когда ракета взлетит особенно высоко, у них вырывается восторженное: «А-а-а-а-х!» Потом все усаживаются за столики тут же, на площадях, углах улиц, перед кафе, и пьют вино. А когда загремит духовой оркестр, весь город танцует. В июле тепло, и потому танцуют прямо на улице. Это праздник улицы. Праздник парижского народа. Французы любят развлекаться. Они веселы, общительны, вежливы, галантны и остроумны. В этот вечер с них словно спадают все дневные заботы. Я был свидетелем небольшого происшествия в ночь на четырнадцатое июля и буду помнить его всю жизнь. Мы возвращались с дядей Тристаном Тцарой с фейерверка и шли по улице Жакоб, на которой твой папа по крайней мере дважды в год живал в одном из маленьких отелей. Около улицы Жакоб находится площадь Фюрстенберга, где было ателье художника Эжена Делакруа; отсюда рукой подать до церкви Сен-Жермен де Пре. Здесь же находятся самые знаменитые кафе художников — «У двух обезьян», «Кафе Флора», «Кафе Роял», «Кафе Бонапарт» — и множество небольших ресторанчиков, танцевальных залов и кабаре. Я очень любил этот парижский квартал и часто бывал здесь. Итак, шагаем мы по улице Жакоб и вдруг у «Зеленого бара» видим натянутые над улицей проволоки, и на них светятся розовые, желтые, красные и голубые китайские фонарики. На тротуарах за столиками полно молодых людей, они распевают песни и танцуют прямо на мостовой, посреди улицы, под фонариками. Вдруг среди этого веселья раздался сигнал автомобиля. Хочет проехать большой грузовик. Танцующие со смехом уступают ему дорогу, но тут кто-то замечает, что фонарикам грозит опасность: крыша кабины выше проволоки с фонариками. Фонарики дрожат, словно боятся, что машина сбросит их наземь, они погаснут и наступит тьма. Танцующие сразу же загородили дорогу автомобилю. Парижане действуют мгновенно, и готовность возводить баррикады у них в крови. Они угрожали ничего не понимающему шоферу и ругали его: «Ты враг китайских фонариков!» Шофер не знал что делать. Вдруг какой-то паренек — никто его об этом не просил — вскочил на машину, сделал стойку и на руках прошел вперед. Он осторожно приподнял проволоку с фонариками, так осторожно, словно это было сверкающее ожерелье, и грузовик медленно, шаг за шагом двинулся между рядами танцующих, а те рукоплескали и кричали «ура» шоферу и молодому гимнасту. В Париже настроение людей меняется мгновенно. Только что шофер был врагом фонариков, а теперь ему кричали: «Vive le sauveur des lampions!» — «Да здравствует спаситель фонариков!» Шоферу поднесли стакан вина, какая-то девушка пригласила его танцевать, они покружились вокруг грузовика, потом он сел в машину, посигналил и поехал дальше. По улице разнеслись звуки вальса. Фонарики качались, радуясь, что они спасены. Пары танцующих кружились на свету и исчезали во тьме. А фонарики чувствовали себя отлично и воображали, что они так же важны для молодых людей, как звезды.
— Устроим сегодня шествие с фонариками, — предложили дети. — Скорее бы уж стемнело!
— Это один Париж, ребята. Есть и другой Париж. Есть Париж Лувра — самого большого художественного музея в мире, с которым может сравниться только Ленинградский Эрмитаж и, пожалуй, Прадо в Мадриде. Но есть Париж рабочих окраин, где нет ничего, кроме реклам и плакатов. Есть и чрево Парижа — рынок, есть Вилле и Мон Руж,[21] где людям постоянно сопутствует бедность. Есть Париж модных салонов и Париж букинистов на набережной. Париж называют столицей мира, городом света. Но нет света без тени. Жизнь в Париже кипит и днем и ночью. И все относятся друг к другу, как старые знакомые. Каждый полагает, что его личные дела заботят всех, и охотно рассказывает о них. И все сквозь пальцы смотрят на легкомысленные выходки детей и молодежи, потому что, дескать, и мы были такими же — о, как давно это было! Молодость пролетела, и воспоминания о ней заслонил восьмичасовой рабочий день. Ах, прошли золотые денечки!
— Там есть птичий базар, — вспомнил Кнопка.
— И базар цветов.
— И Блошиный рынок — огромная барахолка: рынок старья.
— И улица Старьевщиков.
— Знаете, дети, мы с Кнопкой любим ходить в магазины антикваров и старьевщиков. Правда, Мартин Давид?
— Да. Папа главным образом отыскивал китайские и вообще восточные статуэтки. Мы рылись на запыленных полках, и если папа что-нибудь находил, то мы до тех пор ходили смотреть на эту вещь, пока кто-нибудь другой не покупал ее.
— В Париже на мостах и на белых набережных под светло-зеленой листвой платанов ютятся продавцы старых книг, журналов, литографий и гравюр. Складные рундуки букинистов полны соблазнительного хлама. Они стоят один возле другого. Когда там гуляешь…
— …за два часа едва пройдешь километр.
— И иногда находишь ту книгу, которая тебе нужна. Ту, которую ищешь уже пять лет. Ребята, я нашел там очень редкие номера французского журнала с первыми карикатурами Купки, Градецкого, Прейссига и даже карикатурой Алеша.
— Мы с папой любили бродить по улицам просто так, без цели. С одной улицы на другую.
— Не только по улицам, но и по галереям, по Рю де ла Сен, где торгуют картинами, и, конечно, по Лувру.
— В Лувре мы бывали по крайней мере раз в неделю.
— И Кнопка там немного побаивался. Он говорил тихо, чтобы не разбудить мраморные статуи, застывшие в своей каменной красе. Он интересовался только статуями. Видимо, потому, что они большие, а он маленький. На картины он не очень обращал внимание. У нас в Пражской Национальной галерее во дворце Штернберка он уже знает, где висят полотна Гойи и Греко. Мы оба очень любим вид Лондона — картину художника Каналетто. Впрочем, все вы здесь, в Ржичках, дети художников и сами разбираетесь в живописи.
— Но мы не были в Лувре.
— Придет время, вы подрастете и тоже целыми неделями будете бродить по его залам. Кнопка был еще малышом, он ничего не понимал и ничего не усвоил. А когда вы приедете в Париж, то будете уже знать, как надо смотреть картины. Нас, ваших отцов — мы все примерно ровесники, — воспитывал выдающийся чешский поэт Станислав Костка Нейман. Он говорил: «Если хочешь узнать, что такое великое искусство, поезжай в Париж». В Париже сам воздух напоен искусством. Оно взлелеяно французским народом и растет на французской почве так просто и естественно, как маргаритки. Французы — люди разумные, воплощение рассудка и логики. И французское искусство прежде всего и во всем обладает чувством меры по отношению и к человеку и к действительности. Во французском искусстве нет, пожалуй, таких титанов, как итальянец Микеланджело или испанский мечтатель Эль-Греко, нет и голландского волшебника светотени Рембрандта. Во французском искусстве нет таких необыкновенных фигур, но зато есть живые художники, художники жизни, никогда не опускающиеся до посредственности. Помните, дети, что художник только тот, кто поднимается над посредственностью. Во Франции быть художником заурядным — значит быть ничем. Именно такая требовательность делает французское искусство столь человечным, великим, и потому оно оказывает такое большое воздействие.
— Детям этого еще не понять, — заметил Рихард.
— Чепуха! Не спорь, ты проиграешь. Они разбираются в этом лучше, чем в грамматике. И чтобы вы, ребята, сами могли убедиться в истинности моих слов, то, как только подрастете, мы отправим вас на туристских машинах из Ржичек в Париж посмотреть картины и скульптуры величайших художников мира. А я надену кепи с козырьком и буду вашим гидом. Я уже состарюсь, но Париж будет вечно юным, вечно новым и прекрасным — он очарует вас.
ШАХМАТЫ,
или
ФАТА-МОРГАНА
— Иногда думаешь, что сделать что-нибудь — пустяк, а оказывается — это выше твоих сил. Или наоборот: кажется, что время тянется бесконечно, а на самом деле оно длилось одно мгновение. А иной раз такое же время пролетает так, что его и не заметишь. Меры времени, длины, ширины, высоты, глубины, тепла, веса, силы сопротивления и так далее везде и для всех одинаковы, но каждому человеку — это зависит от его состояния — они кажутся разными: то большими, то маленькими.
— Понимаю. Вот мама иногда говорит, что будет сию минуту готова, а потом одевается почти целый час.
— Ну, это, пожалуй, личный выпад. А если ты заявляешь, что голоден как волк и съешь сто тысяч кнедликов со сливами, а потом ковыряешься в тарелке и все довольны, если ты съел хотя бы восемь штук?
— Или, например, ты звонишь в свое издательство и говоришь, что работа готова и что через неделю пришлешь рукопись. Это тоже только кажется, потому что ты и половины не написал, дело у тебя не ладится, ты сердишься, а мама говорит, что ты невыносим.
— Дорогой мой Кнопка, ты пренебрегаешь важнейшим сыновним долгом — почтением к сединам отца. Принеси мне, пожалуйста, трубку и табак с той полочки и не вмешивайся в мои отношения с издательством.
— Папа, брось писать, все равно тебе уже ничего в голову не придет, лучше сыграй со мной в шахматы.
— Ладно, тащи их сюда.
Мартин Давид приносит шахматы. Для своих лет он играет настолько прилично, что этим летом даже несколько раз обыграл меня. Впрочем, это ничего не доказывает, так как я играю из рук вон плохо, хотя и очень охотно.
Снова идет дождь. Лишь изредка где-то пискнет птичка. Мухи сонные. С крыши каплет: кап, кап, кап… Это заменяет нам тикание часов, которые заупрямились и уже год не идут. Время от времени лает Вальда — собака Фидлеров: гав, гав, гав… Игроки сидят друг против друга и размышляют. Взглянут в окно и снова задумаются над судьбой белого коня или черного слона. Шахматы — замечательная игра.
— Папа, шахматы, наверно, придумали во время дождя, правда?
— А может быть, случайно, от скуки, — заметил юный болельщик, приятель Кнопки.
— Вовсе нет, ребята. Шахматы придумали по чисто политическим соображениям, не случайно, а совершенно сознательно. Вообще на свете очень мало вещей, которые так или иначе не были бы связаны с политикой.
— Расскажи, папа, как это было.
— Давным-давно, задолго до нашей эры, в одном индийском королевстве правил молодой, неопытный король. Подобострастные придворные и льстецы, расчетливые царедворцы и угодливые придворные дамы вскружили ему голову, и он вскоре забыл, что король должен быть добрым отцом своего народа и что единственная опора трона — любовь подданных, ибо только в народе сила и могущество правителей. Самоуверенный король не слушался советов мудрецов и ученых. Он был убежден, что никто не может одурачить или провести его, и делал все, что ему вздумается. Но поступать как вздумается можно только до поры до времени. А один, совсем один человек даже этого делать не может. В том индийском королевстве жил ученый-философ Сисса. Он добровольно обрек себя на бедность (это философы часто делали), питался одной чесночной похлебкой, не мылся и носил холщовую рубаху, подпоясанную веревкой. Так уж философам было положено. В наше время профессора философского факультета Карлова университета весьма редко носят холщовые рубахи, подпоясанные веревкой, и вряд ли едят чесночную похлебку. И вот в один прекрасный день, когда людям уже надоело терпеть королевский произвол, Сисса вызвался открыть королю глаза. Он, мол, ничего не говоря, а просто за игрой докажет ему, что король сам по себе ничего не значит, войну один-одинешенек выиграть не может, без помощи своих подданных защищаться не способен, хотя и является в игре самой важной фигурой. Сисса думал, думал и придумал игру в шахматы на доске с шестьюдесятью четырьмя клетками, пешками, слонами, ладьями, королем и королевой. Эта новая игра скоро стала любимым развлечением народа, и король, прослышав об этом, изъявил желание немедленно ей научиться. Ученого Сиссу позвали во дворец объяснить королю правила игры. Сисса выстирал свою рубаху, повязался новенькой веревкой, вымыл ноги и подстриг ногти. Возможно, что и причесался. Сам понимаешь, по сану и почет — идешь к королю, так оденься чисто, даже если ты философ.
Сисса так ясно, наглядно и вразумительно объяснил королю основные правила игры, что, когда у того после первой партии осталась одна лишь фигурка короля, одиноко блуждавшая по доске, владыка понял, что в этой игре — великая и древняя мудрость: только в дружных действиях всех фигур, таких разных и не похожих, — залог успеха. И король решил наградить мудрого Сиссу.
— Что же он ему дал?
— Он спросил Сиссу, чего тот желает.
— И что Сисса попросил?
— Философ попросил не более не менее как одно зернышко пшеницы на первую клетку шахматной доски, два — на вторую, четыре — на третью, восемь — на четвертую, словом, на каждую последующую клетку вдвое больше зернышек, чем на предыдущую.
— Ну, это не много!
— Ты такой же легкомысленный, как тот индийский король. Король улыбнулся, махнул рукой и сказал, что с радостью выполнит желание Сиссы. И тут же приказал управляющему королевскими амбарами привезти философу столько зерна, сколько ему причитается. А своим бухгалтерам велел подсчитать, сколько пшеничных зерен должен получить Сисса. Король подумал: «Самое большее, две — три телеги и уж никак не больше четырех. А этого не жаль за то, что я научился играть в шахматы да еще понял, как надо управлять королевством».
Ученого Сиссу позвали во дворец объяснить королю правила игры.
И вот Сисса ушел домой. Уже испачкалась его холщовая рубаха, запылились ноги, снова загрязнились руки, растрепались волосы, а зерно ему все не везли. А тем временем в дворцовой бухгалтерии разразилась паника. Счетоводы как начали считать, так всё считали, считали, считали… Туда принесли все счеты из всех детских садов и школ города и всё никак не могли сосчитать. Председатель правления Государственного банка подал в отставку. Министры заготовок и сельского хозяйства сошли с ума и принялись считать друг у друга волосы на голове. Визири и великие визири во всем кабинете начали почесывать затылки, и волосы у них от ужаса поднялись дыбом. Что наобещал король ученому! Ведь это же разорение!
— Почему, папа?
— А вот почему: когда наконец были окончены все подсчеты, выяснилось, что для выполнения пожелания Сиссы 16 384 города должны были свезти пшеницу в 1024 амбара каждый, а в каждом амбаре должны быть 174 762 меры пшеницы и в каждой мере должно было содержаться 32 768 зерен.
— Сколько же нужно было зерен всего?
— Много. Невероятно, невообразимо много. Другая легенда гласит, что, если бы король всю жизнь сеял и убирал пшеницу на всем земном шаре, он все равно не смог бы дать Сиссе обещанное количество пшеничных зерен.
— Значит, их столько, что никто не мог точно сосчитать?
— Нет, нашлись люди, которые любят точность больше неопределенности, так же как и мы с тобой, а таблицу умножения знают получше. Они точно подсчитали, что скромное, на первый взгляд, желание Сиссы невыполнимо. У них получилось, что король должен дать мудрецу Сиссе 18 триллионов 446 744 биллиона 73 миллиарда 709 миллионов 551 тысячу 625 пшеничных зерен.
Так был преподан королю еще один урок: нельзя ничего обещать, не зная, сможешь ли ты выполнить свое обещание. Ну, а теперь твой ход.
Сисса попросил не более не менее как одно зернышко пшеницы на первую клетку шахматной доски, два — на вторую, четыре — на третью, восемь — на четвертую…
— Папа, а почему эта игра называется — шахматы?
— «Шах», или «шейх», — по-арабски «король», а «мат» значит «взять в плен». Шахматы — это «король в плену». В древние времена купцы завезли эту игру из Индии в Китай. На старейших китайских картинах уже изображены игроки в шахматы. Армии Магомета и арабские купцы через Балканы и Константинополь, а также другим путем — через Испанию — ввезли игру в Европу. Говорят еще, что закованные в латы рыцари привезли ее во время крестовых походов из Святой земли. Бесспорно, шахматы — арабское слово, так как арабы первыми привезли эту игру из Индии в Персию, или Иран, а оттуда она попала к нам.
Возможно, что арабский купец Ибрагим, сын Якуба, который в 965 году писал о Праге, что «Прага, построенная из камня и извести, — самый богатый из торговых городов», уже учил короля Болеслава играть в шахматы. Эта игра старше чешской истории. А теперь гарде королеве! Ладья под угрозой!
Грош цена была нашей игре. Мы слишком много разговаривали, а шахматы — игра молчаливых. Мы с Кнопкой не способны долго молчать. Кнопка проиграл, но он уже умеет проигрывать. Он понял, что проигрыш и выигрыш зависят в первую очередь от него самого.
После обеда поднялся южный ветер и разогнал тучи. Очистилось и темное ущелье над котловиной у Заколдованной горы. Дождь прекратился. Мы отправились в Небеску Рыбну.
Шли мы, беседовали о том о сем и, уж не знаю каким образом, заговорили о Сахаре. Трудно себе представить, что, шагая по заросшей травой тропинке, человек может вдруг очутиться в арабских странах. К тому же буйная зелень вокруг дышала свежестью и ничто не напоминало о пустыне и жажде. Тем более о львах. Но мысли идут иногда совсем иными путями, чем ноги. И тогда подчас спотыкаешься. Но это уже к делу не относится.
— Папа, а что такое пустыня?
— Необозримый, пустой, безжизненный край. Равнина, где нет ничего, кроме песка. Пустыня страшна потому, что человек в ней ужасающе одинок и беспомощен: ни людей, ни жизни. Ведь ты знаешь, Кнопка, человек не может жить без людей. Но жизнь — это не только мы, люди, это и деревья, и птицы, и черви, и трава, и цветы. Одинокий человек в пустыне — это человек, оторванный от всего живого.
— Как потерпевший кораблекрушение среди моря.
— Это, пожалуй, еще хуже, потому что море живое, оно движется, в нем рыбы и водоросли. Но отчасти ты прав: песчаная пустыня несколько напоминает море — море песка. Целый день его накаляет солнце. Жжет так, что ты, непривычный к этому, не смог бы там ходить босиком. И все-таки пустыня не однообразна. Это очень трудно заметить, но она непрерывно меняется.
— Каким образом?
— Это работа ветра. Вообрази, что вот эта Заколдованная гора вся состоит из песка, что там нет ни сосен, ни лиственниц, ни расселин, поросших папоротником, черникой и ежевикой, — только песок. Вдруг из Польши подул восточный ветер, дует день и ночь, день и ночь… И вот ты приходишь сюда через несколько дней и видишь: там, где сейчас высится Заколдованная гора, — равнина. А долина, где стоят домики дяди Войты Титтельбаха[22] и Вацлава Трояна,[23] уже вовсе не долина, там нет ни ручья, ни домиков… высится новая гора песка, принесенного ветром. А потом направление ветра изменилось, и вдруг через несколько дней новая гора появилась на том же месте, где стоит Заколдованная, только чуть-чуть правее. Нечто похожее происходит ежедневно в течение столетий с Сахарой в Африке и с Аравийской пустыней в Аравии, с пустынями Турции, Ирака и Персии.
— А львы там водятся? Ведь львы — цари пустыни?
— Нет, цари пустыни не львы, не коршуны, не гиены, не бедуинские племена, не статные туареги,[24] а жажда и ветер. Горячий ветер самум поднимает пески пустыни, несет их красной смертоносной тучей, уничтожая все на своем пути. Поэтому вдоль караванных путей ставят высокие треугольные камни или другие опознавательные знаки, и только опытные всадники, погонщики мулов и проводники караванов не сбиваются с дороги. Теперь там ходят автобусы на гусеничном ходу, но их всегда сопровождают местные проводники.
— Если пустыня постоянно меняется, они обязательно должны заблудиться. И каждый день им нужна новая карта.
— Видишь ли, ведь это местные жители, которые сжились с песком, ветром и дневным зноем. Они идут от одного караван-сарая к другому, от оазиса к оазису, от колодца к колодцу так безошибочно, что со своими тяжело навьюченными верблюдами приходят именно в тот город или на тот рынок, который им нужен, словно через пустыню проложено асфальтированное шоссе, а там, где вечная пустыня сливается с горизонтом, стоит регулировщик и указывает путь.
— А сколько у них горбов?
— У кого? У верблюдов? Один. В Африке живут одногорбые верблюды — дромадеры. В Средней и Восточной Азии живут верблюды бактрианы, у тех два горба. Караваны верблюдов идут, вернее, выступают, гуськом, медленно и с достоинством. Верблюды раскачиваются на ходу, потому что они переставляют обе левые ноги и обе правые ноги, одновременно. Потому их называют кораблями пустыни. Пустыня напоминает море, а верблюд — корабль, качающийся на волнах. Иногда у едущих на верблюдах даже бывает морская болезнь. И эту однообразную, мерно качающуюся процессию с зари до зари нещадно палит солнце. Нигде ни тени, ни деревца.
— На то она и пустыня.
— Солнце огромное и жгучее, песок белый, а тени на нем красные, и чем ниже опускается солнце к горизонту, тем синее и фиолетовее становятся тени, и песок скрипит на зубах.
— Папа, я хочу пить.
— В пустыне нет воды. В некоторых вообще никогда не бывает дождя, в других — лишь несколько дней в году. С огромного пространства вода собирается в небольших котловинах: там вырастают пальмы, дающие немного тени. Эти уединенные прибежища влаги, где путники находят отдых, называют оазисами. Вода здесь — самое драгоценное сокровище. Арабы привыкли мало пить. Верблюд, говорят, может обойтись без воды тридцать дней. Так что и ты уж потерпи, пока мы дойдем до трактира Бурсиков.
— Я не верблюд.
— Но и здесь не пустыня. И солнце еще не заходит. В пустыне, когда солнце начинает скрываться за горизонтом, караваны останавливаются и смотрят вслед исчезающему светилу. Ждут последнего луча — он светло-зеленый. Блеснет на песчаном горизонте и… погаснет. Это конец дня. Песок быстро остывает, и ночью становится даже прохладно.
— Папа, мне холодно.
— А мне жарко. У тебя слишком разыгралось воображение.
— Папа, а где ты бывал в Аравии? Расскажи, только по порядку, пожалуйста.
Ноги у нас уже ныли, и мы присели на поваленную тумбу у кучи песка на повороте липовой аллеи. Я нарисовал палкой на песке карту Африки и Ближнего Востока и, рассказывая, пользовался палкой как указкой.
— Я был во многих арабских странах и, право, не знаю, почему никогда тебе об этом не говорил и ничего об этом не писал. Был я, например, в Сирии, в Дамаске, в библиотеках и на базарах, в горах Ливана, которые некогда были покрыты кедровыми лесами, а теперь почти голые. Был я и в Палестине и видел там могилы еврейских пророков, и гору Голгофу, на которой якобы был распят Христос. Был я и в покрытой валунами местности, где стоит город Вифлеем, видел цветущие розы Иерихона и развалины глиняных стен, которые вполне могли рухнуть от звука труб, как гласит библия. Я купался в Иордане и в Мертвом море; вода в нем такая плотная и соленая, что там даже стоять невозможно. В этом море еще никто не утонул. Не сможет утонуть, даже если захочет, потому что вода удержит его. Пил вино на еврейских виноградниках в горах Кармель.
В Суэцком канале я видел английские военные суда и авианосец, угрожающие своими орудиями независимому египетскому побережью. Не умея читать иероглифы, я все-таки пытался расшифровать надписи древних египтян о славе науки и красоте Нила, начертанные на папирусе, на воротах, надгробиях и обелисках. И, разумеется, я ездил на верблюде к пирамидам, к загадочному каменному сфинксу. Наш караван направился из отеля «Менгауз» в пустыню, где высятся три пирамиды. Над нами кружили тучи мух, жужжавших в совершенно сухом воздухе. Я купил особую плетку из конского волоса, чтобы отгонять назойливых насекомых. Она у меня до сих пор хранится. Трудно описать чувство, которое испытываешь, стоя перед высокой четырехгранной каменной горой, возведенной почти голыми руками много тысяч лет назад, или когда маленький, как муравей, стоишь у лапы сфинкса — каменной львицы с человеческим лицом, — и, по традиции, спрашиваешь, что тебя ожидает. Я был большим романтиком и тоже вполголоса задал вопрос: «Что ожидает меня, таинственный сфинкс?» Сфинкс, конечно, не ответил, потому что он каменный, но за моей спиной раздался голос: «Пойдем, в отеле „Менгауз“ нас ожидает ужин». Я плыл на пароходе по животворному коричневатому мутному Нилу к колоссам, уже целые тысячелетия прославляющим обветшалое могущество фараонов.
В Южном Тунисе я пересек на ситроене озеро Шит-эль-Джерид, где в течение трехсот шестидесяти дней в году водоем вместо воды покрыт кристаллической солью и только весной вода на пять дней поднимается до щиколоток. Поперек озера проложено хорошо асфальтированное шоссе. Из Метлави я ехал ночным поездом в знойном мраке, между стенами раскаленных скал, с горняками и поденщиками. Они пели. Все свои пожитки эти рабочие везли в узелочках. Ящерицу или канарейку, чтобы те не задохнулись в душном вагоне, они привязывали веревочкой за крылышко или лапку к раме раскрытого окна. Они настолько бедны, что уже равнодушны ко всему. Я был в Кайруанском университете. На побережье Мерса я забрел в военную зону, где артиллеристы иностранного легиона обучались стрельбе боевыми патронами, но, как видишь, остался невредим. Впрочем, виноват, соврал: во время этой прогулки я так обжегся на солнце, что у меня два дня держалась высокая температура, а кожа слезала лоскутами. На развалинах Карфагена меня взволновали пунические могилы,[25] оскверненные еще римскими завоевателями; в Сиди-бу-саиде на монастырских виноградниках архиепископа африканского я играл с арабами в футбол против команды монахов, одетых в сутаны. Был на конном заводе, где разводят арабских скакунов — самую благородную породу лошадей на свете. Был и в европеизированном Алжире и на папиросной фабрике господина Хуана Бастоса в Оране. В лесах, по пути из Алжира в Блид, гонялся с фотоаппаратом за африканской обезьяной, которую впервые увидел на свободе, а не в клетке зоологического сада.
Я был у подошвы Атласа, снежные вершины которого высятся над Сахарой. С мокрым платком на шее, в тропическом шлеме бродил в отчаянную жару по каменным и глиняным крепостям в Хоггаре. Был в волшебном, полном цветов саду султана в Маракеше, в Меллале и Касбе в Касабланке, сидел в концлагере Айн-чок в Марокко. В Сафи я вел переговоры с арабскими пиратами и контрабандистами, чтобы они вывели нас из страны, куда уже в 1940 году начали проникать фашистские военные миссии. Во время бегства меня поймали, интернировали, и я неделю просидел на парусном судне в Танжерском порту без куска хлеба, питаясь одними раками и омарами.
Я наблюдал, как полумесяц поднимается над многими, многими городами арабских стран, но всюду я видел белых торговцев, белых полицейских, белых чиновников, белых банкиров, белых капитанов и белых солдат, которые попирали права арабских народов. Видел, что белые держатся в их стране, как господа, и презирают их так же, как у себя дома презирают бедняков. Так во всем мире, где до сих пор еще не победил социализм. Помни, Кнопка, что те, кто эксплуатируют и угнетают другие народы, — позор нашего века.
Глубоко под спудом в сердцах арабских народов таится возмущение. Настанет день, и эти люди, которые еще, к сожалению, свято верят, что судьба человека предопределена заранее и в ней нельзя ничего изменить, поймут, что они не игрушка в руках судьбы, что их судьба — в их собственных руках. Поймут, что они сами могут строить свою жизнь. Все. Точка. Пойдем.
Тут уже начиналась политика, и я решительно поставил точку. Впереди, на холме, виднелся наш домик и приветственно развевались пеленки Адама.
— Неплохо было бы иметь верблюда, чтобы он отвез нас домой.
— Папа, а ты вправду ездил на верблюде? — недоверчиво спросил Кнопка.
— Да, и не раз. Но однажды у меня была поездка с приключениями. Случилось это в Северной Сахаре, где-то у Эль-Голеа или к югу от Туггурта, а может быть, в Эль-Уэде, точно не помню. Мы наняли верблюдов. Я выбрал себе белого, мохнатого. На верблюда нельзя вскочить, как на лошадь, в его седло не прыгнешь. Верблюд опускается на колени, ты садишься, и верблюд встает. Сначала он поднимается на задние ноги, и ты летишь вперед, через его голову, но в это время он уже поднимается на передние ноги, и ты летишь назад. Затем он идет. Ехать на нем не очень-то удобно… А теперь представь себе, мой верблюд оскаливает желтые зубы, начинает плеваться и вдруг — не знаю уж, какая муха его укусила, наверно я ему не понравился или он не пожелал идти туда, куда я хотел, — он вдруг сорвался и галопом помчался в пустыню. Мне стоило большого труда удержаться в седле. Последние пальмы оазиса уже скрывались из виду, а я все никак не мог его остановить…
— Верблюд убежал с тобой в пустыню, и вы там погибали от жажды, а ночью дрожали от холода?
— Как видишь, мы не погибли, но я с трудом уговорил его вернуться и продолжать путь вместе со всеми. Верблюды любят бродяжничать, и договориться с ними трудно.
— Может быть, они понимают только по-арабски?
— Думаю, что и по-арабски не понимают. Вдруг на горизонте появился город с минаретами мечетей, площадями и базаром. Неясное видение дрожало в горячем воздухе, как иногда летом дрожит воздух над раскаленным асфальтом мостовой. Немного фантазии, и я представил себе людей, толпящихся между открытыми лавчонками сапожников, кондитеров, писарей, ремесленников, продающих веревки, ковры, сукна, шелка, сумки, оружие и птиц. Арабы называют эти лавчонки «сук». И на каждом перекрестке узеньких улочек находится кофейня, а в ней, на корточках или поджав скрещенные ноги, сидят покупатели, продавцы, попивая спасительный черный кофе.
Я глубоко втянул воздух, наивно воображая, что почувствую аромат жареного кофе. Затем напряг слух, полагая, что услышу, как спорят и торгуются продавцы, наперебой зазывают покупателей, расхваливают и превозносят свои товары. Я пристальнее всмотрелся и не поверил своим глазам: город стоял на берегу озера, и в его неподвижной глади отражались дома, крыши и стройные башни. Такого четкого отражения мне еще не приходилось видеть. Верблюд, очевидно, тоже заметил заманчивый водоем и прибавил шагу. Когда верблюд пускается рысью, ты подскакиваешь на его горбу, словно мячик. У него длинные ноги и широкий шаг. Но как быстро он ни бежал, город не становился ближе. Я начал подозревать, что это дьявольское наваждение пустыни. Не зря же я в детстве читал Жюля Верна, Карла Мая,[26] Фредерика Мариета,[27] Даниэля Дефо, Фенимора Купера и «Отважного капитана Коркорана» Альфреда Асоланта.
— Так что же это было, папа? Самум?
— Смотрю я на белые контуры города, вдруг подул ветер, прекрасная панорама заколебалась, как от землетрясения, и исчезла. Горизонт опустел, только светлое небо незаметно сливалось с волнистой линией песков.
— Что же это было? Волшебство?
— Обычное в пустыне явление: фата-моргана. В горячем, неподвижном воздухе чуть-чуть выше горизонта отражается какой-то далекий город, он кажется совсем настоящим. Но это всего лишь оптический обман. Никакого волшебства, никакого чуда — мираж, жертвой которого становится утомленное жгучим светом зрение людей.
Мы с Кнопкой шли в сгущавшихся сумерках.
— Видишь ли, Кнопка, жизнь такова, что достаточно человеку быть внимательным к тому, что его окружает, чтобы научиться мудрости и справедливости. Но иногда твои глаза могут обмануть тебя. И тогда следует спросить дорогу у более опытных. У кого-нибудь знающего, куда идти.
НЕГРИТЯНСКОЕ ИСКУССТВО,
или
ПЕПИК КРАЛЬ
Кнопка читал «Робинзона Крузо», и поэтому в его представлении негры были дикари и людоеды. С луком и стрелами они бегали нагишом по девственному лесу, сидели на корточках у костра и нападали на белых. В Ржичках мне дважды пришлось вмешаться: один раз — когда Кнопка вместе с ребятами собрался сожрать Адама, а второй — когда они напали на пани Куликову, которая шла из магазина и несла нам мед из пчельника пана Калоуса. Еще немного, и местные ребятишки поверили бы лживой легенде о злых дикарях и добрых колонизаторах.
— А что такое колонизатор? Это похоже на название машины.
— Колонизатор — это… Впрочем, слово «колонизатор» имеет два значения. Иногда это переселенцы — люди с некоторой долей авантюризма, отважные и часто разочаровавшиеся в жизни у себя на родине, люди с тяжелой судьбой, которые отправились искать счастья в далекие заморские страны. Нередко они высаживались в необитаемых краях, там, где еще не ступала нога человека, на так называемой девственной земле. Высаживались, строили жилища, возделывали поля и обретали новую родину. Будь это только так, все было бы в порядке. Но такой «ничьей земли», таких необитаемых уголков на свете мало.
— А какие еще бывают колонизаторы?
— Такие — и их гораздо больше, — которые насильственно создавали свои колонии и поселения, а иногда и державы. Против воли коренных жителей страны.
— Это фашисты?
— Нет, Кнопка, это было давно. Примерно в 1500 году людей охватила отвратительная, подлая жажда золота и денег. В больших городах Испании, Португалии, Италии и Англии распространился слух, что где-то далеко за морем есть страны, в которых целые города построены из золота: стоит только протянуть руку, и завладеешь сказочными богатствами. К этому времени кораблестроители уже достигли такого мастерства, что могли строить парусные суда, пригодные для далеких заокеанских плаваний. Авантюристские генералы и адмиралы предпринимали экспедиции за море, чтобы расширить владения своих стран, и привозили домой драгоценные камни, золото, серебро и пряности. Это были португальские, испанские, а позже голландские, английские и французские адмиралы. Завоеватели, жаждавшие власти и добычи, появлялись у берегов различных континентов, высаживались, водружали флаг своей королевы или короля, нисколько не задумываясь над тем, принадлежит ли эта страна кому-нибудь. Коренное население пыталось копьями и луками сопротивляться мушкетам, мортирам и пушкам завоевателей, но терпело поражение в неравном бою. Некоторые племена были истреблены, другие — покорены, а их земли захвачены. Побежденных обращали в рабство. Так возникали колониальные империи. И эти колонизаторы еще смеют чваниться, будто они принесли в отсталые страны культуру и цивилизацию! Но приносили они обычно только водку и порох. Местное население было вынуждено на своих же полях, в своих лесах и горах гнуть до изнеможения спину на новых, чужих господ. Завоеватели считали, что имеют на это право, потому что те, мол, дикари.
— А они не были дикарями?
— И были и не были. Они еще не достигли той ступени культуры, на которой тогда уже стояли европейцы. Но до появления белых завоевателей они жили на свой лад, в стране, которая принадлежала им, так же как наша страна принадлежит нам.
— Так эти завоеватели, наверно, были фашистами!
— Нет, Кнопочка, но они недалеко от них ушли. И вели себя ничем не лучше, чем немецкие фашисты в Чехословакии, в Польше и на Украине, или итальянские фашисты в Триполитании, Ливии, Эритрее, Абиссинии, Сомали. Завоеватели утверждали, что именно они здесь хозяева, избранные властвовать, а негры, хотя бы уже потому, что они черные, должны служить им.
— Папа, а был какой-нибудь негритянский народ, который устоял перед ними?
— Нет, ни один не смог устоять. Правда, теперь в Африке есть два самостоятельных государства — Эфиопия и Либерия.[28] Всю остальную Африку поделили между собой англичане, итальянцы, испанцы, французы и португальцы. Черная Африка не принадлежит сейчас тем, кому принадлежала еще пятьсот лет назад, тем, кто там жил с незапамятных времен. Словом, не принадлежит неграм.
Кнопка проверил мои слова по карте и убедился, что Африканский материк занимает огромное пространство.
— Африка — огромная часть света, с бесконечными неисследованными, девственными лесами, пустынями, водопадами, горными хребтами и вершинами. Там самые большие в мире залежи алмазов и урана. Это материк, который еще и сам не знает, как богат. Там жили и живут чернокожие народы, у которых были свои короли и своя история и, так же как у нас, своя культура. Во время междоусобных войн негритянских племен, вторжений римлян, арабов и европейцев было уничтожено множество памятников культуры, многие государства разрушены, разграблены. А это, Кнопка, были не малые государства, с высокой культурой. Немало из того, что умеем делать мы, не было известно им, но зато они знали многое, с чем мы незнакомы до сих пор. Мы, белые люди, вообще частенько воображаем, что умнее нас нет никого на свете. Но существовали люди умнее нас, хотя и не были белыми. В истории человечества какой-нибудь народ всегда на некоторое время выдвигается вперед. Уже довольно долго первенство в мировой культуре держим мы, белые, но до нас первое место занимали китайцы, вавилоняне, египтяне, майя, инки, а в Африке, наверно, какое-нибудь негритянское племя.
Негритянская культура древняя. Ее произведения искусства — место и время их происхождения нам неизвестны, так как не сохранилось письменных памятников негритянского прошлого, — доказывают, что, например, негры были большими мастерами литья металлов и обработки железной руды. Литые бронзовые статуэтки из Бенина и металлические украшения из Ашанти сделаны с таким совершенством, что историки до сих пор спорят, не положила ли негритянская Африка начало железному веку. Бесспорно, что отливать металл и создавать сплавы раньше всех научились негритянские племена. И все-таки еще совсем недавно ученые-искусствоведы смотрели на негритянское искусство свысока. Статуи, маски, столы, троны, шиты, искусно украшенная посуда, челноки и дома, привезенные путешественниками из Черной Африки, выставлялись только в этнографических музеях как доказательство низкого жизненного и общественного уровня негритянских племен.
— В Музее Напрстка?
— Да, в таких музеях, как наш, в лондонском Британском музее или в парижском Музее Человека — Musée de l'homme. Ты любишь ходить в Музей Напрстка, правда?
— Еще бы!
— Но, рассматривая витрины этнографических музеев, никто не обращал внимания на красоту чуждых нам, но ярких, самобытных, выразительных произведений негритянских мастеров.
Угадай, кто первый понял, что негритянские статуэтки и маски — великое искусство. Искусство такое же самобытное, как египетское или древнегреческое.
— Как я могу угадать? Я не путешествовал столько, сколько ты. И у меня нет ни одной негритянской статуэтки.
— Это произошло в Париже, на Блошином рынке. В начале лета 1906 года художник Анри Матисс как-то раз без всякой цели бродил по городу. Было воскресенье. В Closerie des Lilas на террасе сидели поэты, пили абсент и с интересом наблюдали за первыми автомобилями, которые тогда только начали появляться на парижских улицах. Молодой художник Анри Матисс ходил от антиквара к антиквару, пока не забрел на Блошиный рынок. Ты помнишь Блошиный рынок в Париже?
— Нет, папа, не помню.
— Большущий рынок. Ряды улочек, домишки и множество лавчонок и ларьков, где продают всякое старье. Там можно найти что угодно: старую гармонику, дырявые туфли, керосиновую лампу, рыцарские доспехи, надтреснутый умывальник, часы, которые не идут, шкаф, полный клопов, разрозненную посуду, сломанные украшения, расшатанную мебель, поношенную одежду, а иногда среди всего этого хлама вдруг наткнешься на какую-нибудь редкостную вещь. Понимаешь, такую, которая тебе не нужна, которой ты не ищешь, и вот она у тебя в руках, и ты во что бы то ни стало должен ее купить. Это может быть статуэтка или картина. Как-то были мы там с Пабло Нерудой. Помнишь его? Пабло Неруда купил себе красивую розовую раковину. Он собирал раковины и уверял, что самую замечательную нашел на чердаке у пана Фрича на Владиславовой улице.
— А, помню! Ты его рисовал, а он как-то раз варил у нас рис. Такой…
Да, да, это он… Но я хотел рассказать совсем не о нем. Я начал говорить о великом французском художнике Анри Матиссе, который тогда, в 1906 году — пятьдесят лет назад, — был еще совсем молодым человеком. Мне в это время было около четырех лет. Так вот, рылся он как-то среди хлама в одной лавчонке и вдруг находит деревянную статуэтку. Рассматривает он ее спереди, сзади, сбоку, сверху… «Удивительно, — думает он, — ведь в ней как раз то, чего я вчера целый день добивался, — то же выражение, та же простота и точность передачи напряженных мускулов, но только гораздо лучше, чем у меня». Он за гроши купил статуэтку и унес ее домой. Поставил на маленький камин в своем ателье. И не мог от нее глаз оторвать. Перёд ним было произведение искусства, чем-то близкое его творчеству и притом созданное чернокожим художником из народа где-то в Экваториальной Африке. Матисс пригласил своих друзей — художников Пикассо и Дерена и поэта Гийома Аполлинера, и все они были очарованы своеобразной, новой для них красотой негритянской статуэтки. Красотой, свидетельствовавшей о древней традиции изобразительного искусства, богатом воображении и прекрасной профессиональной технике художника-негра, имени которого никто не знал. Так в 1906 году на Блошином рынке в Париже было открыто для мира негритянское искусство. Люди заинтересовались им. Дядя Тристан Тцара написал одно из первых больших исследований о негритянском искусстве.
Вскоре после этого кто-то, очарованный необычными звуками тамтама, открыл негритянскую музыку. Она легла в основу джаза, и теперь под джазовую музыку танцует весь мир. Негритянское искусство оказало влияние даже на наше когда-то так много о себе мнившее искусство. Художники брали у негров…
— Что? Деньги?
— Нет, идеи. Художники это делают испокон веков. Сейчас у негров есть великие писатели, поэты, художники, артисты и певцы. Я рисовал Поля Робсона. Это певец, который возглавляет прогрессивное движение американских негров. В том, что мир начал лучше понимать не только негритянское искусство, но и негров вообще, немалая заслуга и Робсона.
— А ты понимаешь негров, папа? Как ты с ними объясняешься? На каком языке? Разве ты умеешь говорить по-негритянски? Ведь они по-чешски не говорят! Негры говорят только по-негритянски, правда?
— Нет, Кнопка. Разве все белые говорят на одном языке? Есть много негритянских племен и много негритянских языков. Есть, например, языки сенуфо, ашанти, йоруба, мангбету, азанде, бассари, кру, малинке, багирми, нубийский, динка, нуэр, шиллук, экой, дуала, бангала, бакуба, балунда, батекэ, баконго, бартосе, вагого, макуа, матабелу, басуто и еще много других. Суданские негры и пигмеи — карликовые племена, — бушмены и готтентоты — каждое племя говорит по-своему. Родина негров — Африка. Но есть страны, куда давно, больше ста лет назад, завезли негров-рабов, и они стали говорить на языке своей новой родины. Есть и такие негры, которые говорят по-чешски. Есть даже много таких, которые не знают другого языка, кроме чешского и словацкого. Это их родной язык. Во время войны, когда я был в Соединенных Штатах Америки, я встретил много чешских негров. Они говорили по-чешски так жег как ты. Твоя учительница порадовалась бы, глядя на них.
— А как это получилось, что они говорят по-чешски? Ведь мы не чернокожие.
— Это длинная история, Кнопочка. Большинство этих негров родом из Южных штатов. Главным образом из Техаса. Можешь ты перечислить все сорок восемь американских штатов…
— Техас, Калифорния, Аризона…
— …и ни одного не пропустить? Так играют американские школьники. Кто пропустит хоть один, выходит из игры. Ты знаешь всего три штата по книжкам о ковбоях. Я тебе помогу. Давай называть их по алфавиту: Айдахо, Айова, Алабама, Аризона…
— Этот я называл!
— Арканзас, Вайоминг, Вашингтон, Вермонт, Виргиния, Висконсин, Делавэр…
— Эти я тоже знал.
— Джорджия, Западная Виргиния, Иллинойс…
— И об этих я слышал!
— Индиана…
— Там живут индейцы.
— Теперь уже не живут, но раньше жили. На всей территории Соединенных Штатов Америки жили индейцы. Ни белых, ни негров там раньше не было. На чем мы остановились? Да, Индиана, Калифорния, Канзас, Кентукки, Колорадо, Колумбия, Коннектикут, Луизиана, Массачусетс, Миннесота, Миссисипи…
— Папа, ведь это река!
— И штат, по которому она протекает. Миссури, Мичиган, Монтана, Мэн, Мэриленд, Небраска, Невада, Нью-Джерси, Нью-Йорк…
— Но это же город!
— И штат, где этот город находится. Нью-Мексико, Нью-Хемпшир, Огайо, Оклахома, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Северная Дакота, Северная Каролина, Теннесси, Техас — я знаю, его ты уже называл, — Флорида, Южная Дакота, Южная Каролина и Юта. Всех штатов сорок восемь и один округ — Вашингтон. И столько же звезд на американском флаге. Но негры живут главным образом в Южных штатах… Например, к северу от реки Рио-Гранде в жарких районах Техаса, совсем не похожих на Чехословакию. И вот давно, после битвы на Белой горе… Кстати, когда была битва на Белой горе?
— Белая гора — это там, где музей Ирасека в «Звезде»?
— Да, только восьмого ноября 1620 года там еще не было никакого музея Ирасека.
— Ага! Проговорился! Битва на Белой горе случилась восьмого ноября 1620 года.
— Битва не случается. Битву ведут, в ней сражаются. Так вот, после этой злосчастной битвы, когда чехи и мораване, сражавшиеся за свободу и веру, были разбиты императорскими войсками, многие из них должны были покинуть свою родину. Среди них Ян Амос Коменский, которого называют учителем народа. У вас в школе, наверно, есть его портрет.
— В нашем классе нет.
— Эти изгнанники искали счастья по всему свету — в Польше, в Германии, в Швеции, в Голландии, в Англии, а некоторые, не найдя работы в Европе, эмигрировали в Америку. Требовалась немалая отвага, чтобы плыть на парусных судах в Америку. Все эти чешские эмигранты были единоверцами и называли себя «чешскими братьями». В Америке их называли «моравскими братьями», вероятно, потому, что среди них была много мораван. В Америке они вскоре заслужили добрую славу благодаря безупречной, честной жизни, трудолюбию и добросовестности, а также потому, что всегда говорили правду и хорошо относились к людям. Их деревни отличались чистотой и благоустроенностью. В каждой деревне была школа, где дети учились чешскому языку, а по воскресеньям читали Кралицкую библию. Каждый житель деревни, кто бы он ни был — англичанин, немец, шотландец, негр или индеец, — должен был посылать детей в чешскую школу.
— А как негры попали в Америку? Ведь ты говорил, что их родина Африка?
— В те времена безжалостные, бесчеловечные, жаждавшие наживы купцы предпринимали экспедиции в Африку, нападали на негритянские поселения и обращали в рабство миролюбивых негров, бессильных и беззащитных перед их мушкетами.
Они везли негров за океан, в Америку, и продавали плантаторам Южных штатов. И рабы вынуждены были до упаду работать на хлопковых плантациях. А с теми, кто не хотел работать, жестоко расправлялись.
Поэтому сотни негров бежали от своих хозяев и скрывались в лесах и в домах добрых людей. Гуманные принципы «моравских братьев» не допускали рабства, и они предоставляли несчастным чернокожим беглецам приют в своих далеких и уединенных поселениях. Чехи даже выкупали многих негров и отпускали их на свободу. Но укрывать взрослого негра, хорошего работника, было, конечно, опасно, потому что на Юге закон предоставлял всесильным рабовладельцам право преследовать и при помощи оружия возвращать беглецов к себе на хлопковые и табачные плантации.
Лишь в середине XIX века в Соединенных Штатах Америки вспыхнула гражданская война. Война Севера против Юга. Северные штаты во главе с президентом Авраамом Линкольном завоевали тогда свободу черным рабам. Рабство было отменено.
После погибших беглецов, рабов и рабынь, часто оставались дети, маленькие негритята. Одни на всем свете, без родителей, замученных рабским трудом, найденыши, беспризорные малыши, черные, как ночь. И «чешские братья» предоставляли этим детям приют. Принимали их в свои семьи, как равных, одевали их в такое же платье и обувь, какие носили чешские дети, давали чешские имена и фамилии, посылали их в чешские школы. Маленькие чернокожие вырастали среди чехов и говорили по-чешски. Вот как случилось, что сейчас в Америке много негров, которые окончили чешские школы, бегло говорят по-чешски или даже по-моравски и очень гордятся этим.
Среди наших земляков в Америке о них ходит много веселых анекдотов. Я сам видел таких чернокожих чехов.
— Видел и говорил с ними по-чешски?
— Конечно. Некоторые из них даже не знают другого языка. Как-то один чешский коммивояжер, звали его Пршецехтел, ехал из Чикаго в Аустин в Техасе. Попал он на какую-то затерянную в техасской пустыне станцию, где нет ничего, кроме песка, кактусов и реклам автомобильных фирм. Ни хлопок, ни табак там не растут. Коммивояжер по продаже косметических товаров пан Пршецехтел обливался потом и скучал. Переходил с места на место, но солнце пекло и в тени. Вдруг ему показалось, что он слышит, как кто-то говорит по-чешски. И даже не по-чешски, а так, как у него на родине, в Коетине, по-ганацки. Пан Пршецехтел оглянулся. Никого. Только два негра сидят на шпалах. Он решил, что его хватил солнечный удар и начался бред. И снова: этакая сочная, протяжная ганацкая речь. «У меня жар», — подумал паи Пршецехтел. Снова взглянул на негров — как будто чешская речь доносилась оттуда. Он не поверил своим ушам, подошел поближе и спрашивает одного из негров: «Извините, пожалуйста, вы чех?» А сам думает: «Глупо в техасской пустыне спрашивать негра, не чех ли он. Уж не спятил ли я?» Представляешь, как поражен был пан Пршецехтел, когда убедился, что он вовсе не сошел с ума, ибо негр спокойно, ничуть не удивясь, ответил: «Нет, я мораванин».
— Папа, а ты с этим негром разговаривал?
— Нет, Кнопочка, я говорил с другим. Кроме того, я лично знал Пепика Краля, а это что-нибудь да значит!
— Я тоже знаю одного Пепика Краля, с Юнгманки.[29]
— Но мой Пепик Краль был негр, черный, как сапог. Крали были бедной многодетной деревенской семьей. Они давно переселились в Америку, и их застал кризис. Старик Краль, — кажется, он был слесарем, — потерял работу и не знал, как прокормить жену и своих пятерых детей да шестого чернокожего, которого усыновил где-то по пути. Сиротка был маленький, черненький. Крали пожалели его и сказали: «Если прокормим пятерых, то хватит и шестому». Когда им пришлось совсем туго, старшие мальчики пошли на работу. Пепик-негритенок взял свою любимую гармонику и отправился играть по кабачкам. Ходил он в чешские кабачки, в спортивные клубы, на чешские и словацкие праздники. Играл и пел чешские и словацкие народные песенки, которым научился дома. Все любили чешского певца, и Пепик Краль хорошо зарабатывал. Столько, что мог даже посылать своему белому отцу. Пепик был очень славным парнем. Но надо сказать, что никто не встречал его с такой радостью, как пенсильванские горняки в Питсбурге, или сапожники в Бингемтоне, или парни с чикагских боен. Но были и такие кабачки, откуда Пепика выставляли за дверь.
— Почему?
— Потому что многие американцы не считают негров равными себе. Это пережиток рабовладельческих времен, нелепый предрассудок, что любой белый лучше негра только потому, что он белый. Это фашистская теория превосходства белого человека. Немецкие фашисты считали низшей расой евреев, многие американцы — негров. И сейчас еще в Нью-Йорке есть отели и рестораны, куда вход неграм воспрещен. В Южных штатах их положение еще хуже. Там неграм запрещают ездить в трамваях, а в поездах есть места, предназначенные только для белых. Негры не могут занимать многие должности, а их избирательные права ограничены. Даже общественные уборные — отдельно для белых и черных. К тому же, Кнопка, этот отвратительный пережиток заразителен. Некоторые наши чешские и словацкие земляки, прожившие долго в Америке, переняли этот гнусный американский взгляд на чернокожих. Но Пепик Краль сам рассказывал мне, как он убедился, что чехам эта ненависть к неграм несвойственна. Она не в их характере. Для нас цвет кожи не имеет значения, был бы человек порядочным, честным и веселым.
Как-то в одном городе Центрального Запада Пепик Краль зашел в бар чешского трактирщика Шимы и заказал кружку пльзенского пива. В тот день у одного чешского торговца, звали его Новотный, дела шли особенно удачно, и ему захотелось угостить своих земляков. Он зашел к Шиме, где они обычно собирались, обсуждали политические новости, и еще с порога крикнул: «Шима, налей гостям пива! Я плачу. Всем наливай, кроме того черномазого!» Шима налил всем, и пан Новотный чувствовал себя настоящим удачливым американским торговцем. Когда земляки допили, негр — никто из присутствующих даже не подозревал, что он понимает по-чешски, — хлопнул большой черной ладонью по стойке бара и воскликнул: «Шима! Налей пива гостям! На этот раз плачу я. Наливай всем, кроме вот этого белого!» Тут негр, конечно, одержал верх. Такого ответа пан Новотный не ожидал. Но еще до наступления полуночи Пепик Краль и пан Новотный выпили на «ты». Помирились.
— Расскажи еще что-нибудь о Пепике Крале.
— Однажды, как раз перед последней мировой войной, в Нью-Йорке состоялась всемирная выставка. На выставке были чехословацкий павильон и чешский ресторан. Пепик Краль, надев праздничный костюм, приехал в Нью-Йорк и отправился прямо в пльзенский ресторан. Он ждал этого момента, как маленький ребенок, и целый месяц копил деньги на дорогу. В ресторане было очень красиво, посетителей обслуживали хорошенькие краснощекие официантки в национальных моравских костюмах, в чепцах с бантами. Пепик Краль собрался с духом и громко, так, что слышно было во всем помещении, сказал на чистейшем чешском языке:
«Барышня, дайте мне свинины с кнедликом и капустой и одно пиво!»
Моравская девушка с подносом в руках окаменела, потом очень вежливо улыбнулась и растерянно ответила по-английски:
«Мне очень жаль, господин, но я не понимаю по-чешски».
Это был страшный конфуз, Кнопка! Она покраснела, закрыла передником лицо и убежала. Весь ресторан аплодировал Пепику Кралю. А какой был восторг, когда Пепик стал под гармонику петь чешские песенки!
Видишь ли, несмотря на то что Пепик черен, как сапог, он наш человек, настоящий чех.
НОВОИСПЕЧЕННЫЙ ВУЛКАН,
или
ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ В ГОРЫ
Как-то во вторник в очереди за капустой перед лавочкой пана Калоуса одна женщина, член местного национального комитета, сказала об одном из своих товарищей: «Этот пороху не выдумает». Его хорошо знали, и потому такое заявление всех сильно рассмешило, к тому же у всех было хорошее настроение. Правда, капусты опять не было, но грузчики привезли лук, помидоры и салат, и все хоть этому были рады. Один только Мартин Давид не смеялся, потому что не знал этой поговорки и воспринял ее как что-то несуразное.
— Папа, ведь он порох и вправду не выдумал! И вообще в Ржичках его никто не выдумал. Ты сам говорил, что его изобрели китайцы. Что же тут смешного?
— Так говорят о людях не очень умных, которые ничего особенного придумать не могут и ничто путное им в голову не приходит.
— А как вообще изобретают?
— Этому ни в какой школе не учат. Если у человека светлая голова, если он находчив и обладает воображением, то достаточно чуть-чуть счастья, и в один прекрасный день ему приходит на ум, что, если соединить что-то с чем-то, получится нечто новое. Изобретательство не профессия, не ремесло. Идеи не придумывают, они осеняют человека. И очень часто совершенно случайно.
— Значит, это просто так говорят: «Думал, думал и тачку придумал»?
— Шапку долой перед тем, кто выдумал тачку! Это был большой шаг вперед в развитии человеческой культуры. Он, вероятно, сам не понимал, какую замечательную штуку придумал. И теперь люди не всегда отдают себе отчет в происходящем. Они не понимают, в какое время мы живем. Изобретение следует за изобретением, и не успеем мы оглянуться, как все на свете изменится — природа, города, люди, погода, Ржички.
— А когда это будет, папа?
— Скоро, через каких-нибудь десять… двадцать…
— …лет?
— Пожалуй, я имел в виду десять — двадцать тысяч лет.
— И это ты называешь скоро? К нам это не имеет отношения.
— Нет, имеет, потому что без нас эти перемены не произойдут. Без открытий, сделанных в наше время.
— Без атомной бомбы?
— Не атомной бомбы, а атомной энергии. Ты знаешь, Мартин Давид, что открытие атомной энергии имеет для человечества такое же значение, какое имело когда-то открытие огня?
— А кто открыл огонь?
— Неизвестно. Древнегреческие мифы говорят, что Прометей, на тихоокеанском побережье — что Ворон, на Алеутских островах — одноногая птица. Они похитили у неба огонь и отдали его людям. Везде рассказывают одну и ту же легенду об огне. Человек мог найти огонь в горящем, зажженном молнией лесу, мог под грозный гул вынести его из кратера извергающегося вулкана. Это выглядело бы драматичнее. Но дело не в этом, главное то, что человек освободился от оков суеверия и предрассудков, перестал бояться огня, отважился подчинить его себе. Это фантастически великое событие. Возможно, что тогда, несколько десятков тысяч лет назад, это был невероятно отважный поступок гигантской человекообезьяны, решительного и воинственного дикаря, первого героя, не испугавшегося стихии. Тот, кто первым завладел огнем, был великим революционером своей эпохи. И дело не ограничилось лишь подчинением огня. Открытия начались потом, когда люди поняли, что огонь может служить для приготовления пищи, отопления, для печей и кузниц. Это был величайший революционный скачок культуры, вплоть до нашего времени. Открытие пара и электричества незначительно по сравнению с открытием огня. Огонь совершенно изменил жизнь первобытных людей.
— А как изменит нашу жизнь атомная энергия?
— Мы еще сами не знаем. Наверно, это будет огромной неожиданностью. Атомная энергия совершенно изменит наше производство, транспорт, освещение, отопление, экономические отношения, цены, потребности, труд, погоду, философию, мораль и, вероятно, повлияет даже на внешность человека. Словом, отразится на всем.
Столь отдаленное будущее Кнопку не интересовало.
— Папа, а ты видел извержение вулкана?
— Ты и сам видел много погасших вулканов у нас, в Среднегорье и у Карловых Вар. Все горы, которые рисовал художник Филла, — тоже бывшие вулканы. Я видел известные европейские вулканы — Везувий и Этну — с шапкой дыма над ними. И в Мексике настоящие, действующие вулканы. Приложив ухо к склону горы, я слышал зловещий гул в глубине земли, как в «Таинственном острове».[30] Хотим мы этого или нет, но мы живем на вулкане и должны быть довольны, что земля пока не остыла до самого центра. Внутри земли вокруг твердого ядра клокочет расплавленная масса магмы. Это она вырывается на поверхность во время извержения вулканов.
— Но ведь ты не видел извержения? Теперь уже не бывает извержений вулканов?
— Бывает. В Мексике, например, еще во время войны, в феврале 1943 года, на совершенно ровном месте вдруг появился новешенький, свежеиспеченный вулкан.
— Это должно быть замечательно, когда такая гора вдруг разозлится, мечет пламя, плюется камнями, дымит, как труба. Земля трясется, гудит, и вдруг… трах! — из вулкана единым духом вылетают десятки ракет и красные бенгальские огни. Это как огромный фейерверк, правда?
— Страшная, грозная красота, Кнопка.
— И ты там был?
— Да, это произошло во время войны. В Америке все газеты лишь об этом и писали. И, как только окончилась война, я поехал посмотреть. Дело было ранней весной. Один крестьянин работал в поле и вдруг слышит — вроде гром гремит. Вскоре загремело снова. И снова. Он посмотрел на небо. Нигде ни тучки. «Мне, наверно, показалось», — решил он и приналег на плуг. Опять раздался гром. У крестьянина задрожали колени. «Что это со мной?» — подумал он. Остановился и смотрит… земля перед ним шевелится. Словно засыпанный землей великан пытается подняться. Перепуганный крестьянин бросил свой плуг и помчался в деревню с криком: «Землетрясение! Спасайтесь! Землетрясение!» Но дело было гораздо хуже. Земля на его поле разверзлась, и на поверхность с грохотом вырвались дым и огонь, хлынул поток раскаленной земной магмы — лавы. Люди выскакивали из домов и сбегались посмотреть на страшную картину. Это были бедняки, которые не учились в школе, не ездили по свету. Они только понимали, что на их глазах происходит нечто ужасное. Земля открыла свою пасть, и из ее глотки вырвалось дьявольское пламя.
Такая глотка называется кратером; это воронка, доходящая до раскаленного слоя в центре земного шара. Внутри земли — твердое ядро, окруженное расплавленной массой, которая при извержениях вулканов вырывается наружу.
— Это ты уже говорил.
— Земля, треснувшая от взрыва, продолжала изрыгать лаву. Из города Уруапан приехали пожарные. Но вулкана пожарным не погасить. Дымящиеся потоки лавы растекались по земле, уничтожая все на своем пути. От жара вокруг загорались трава и кроны деревьев, высыхали реки и пылали леса. Когда лава перевалила через заборы первых домиков деревни, ее жители уже бежали к городу. Они мчались во тьме, а вулкан сзади освещал им путь и засыпал камнями изломанные тени людей. А ведь все это разыгралось среди бела дня! Один за другим раздавались взрывы, клубились тучи дыма, из дымовой завесы сыпался пепел, окутывал черным покрывалом всю округу. В воздухе пахло пеплом, он скрипел на зубах. А там, где не разлилась раскаленная лава, ложился пластами пепел, превращая местность в пустыню. Многометровые сугробы пепла высились на несколько километров вокруг. Весь урожай был уничтожен. Деревни погибали под лавой. От одной из них осталась лишь верхушка колокольни, словно могильный холм среди пустыни.
Разбушевавшаяся стихия разорила несчастных жителей, лишила их земли, превратив ее в бесплодную пустыню. Вереницы обнищавших индейцев приходили взглянуть на места, где раньше были полоски пашен с кукурузой и сахарным тростником. А вулкан, равнодушный к судьбе людей, чванливо вздымался все выше и выше, приподымая вокруг кратера землю, словно воротник. Таким образом в течение трех лет выросла гора высотою восемьсот пятьдесят метров. Выше Милешовки. Почти вдвое выше Ржипа.[31]
Первым и единственным журналистом, приехавшим на место тотчас же после извержения, был Эгон Эрвин Киш. О нем я тебе еще когда-нибудь расскажу, Кнопка. Он был самым замечательным журналистом в мире. Родом из Праги. С Мелантриховой улицы… А вулкан — они все капризны — после нескольких лет деятельности выдохся. Его яростные взрывы ослабели, и гора остыла. Видно, образумился. И над кратером вилось только облачко дыма, столь же невинное, как трепещущее перышко на шляпе.
— А как эта новая гора называется?
— Парикутин, самый молодой вулкан в мире. В Мексике есть целые вулканические горные хребты, а две высочайшие горы Америки, высотою свыше пяти тысяч метров, тоже были когда-то вулканами. Они стоят рядом и спят, покрытые вечными снегами, словно гигантские фигуры мужчины и женщины. У них индейские имена: Попокатепетль и Истахигуатль.
— Это ты выдумал, правда, папа?
— Нет, не выдумал.
— Давай спорить, что ты этого не сможешь повторить!
— Попокатепетль и Истахигуатль.
— И правда повторил! Не сердись, я просто думал, что ты меня разыгрываешь.
— Но так они называются по-индейски. Одно из этих названий, кажется, означает «дымящаяся гора». Вероятно, это на языке ацтеков. Мексика — великая древняя индейская страна. Треть ее жителей чистокровные индейцы, а у остальных либо бабушка была индианкой, либо дедушка — индейцем. Их замечательные здания, статуи и стенные росписи разрушились. Развалин полным-полно. Куда ни кинешь взгляд, везде увидишь уже отрытую или еще засыпанную землей пирамиду. Мы как-то летели из города Мехико к берегу Тихого океана. Неподалеку от экватора. В приморский город Акапульк. Там закат солнца так неправдоподобно красочен, что твоего папу исключили бы из союза художников, если бы он нарисовал то, что видел. Вскоре мы заметили из самолета развалины какого-то древнего города племени ацтеков или майя, со зданием парламента, храмами и стадионами. Древние майя и ацтеки играли в пелоту. Это игра в мяч. В нее теперь играют только баски в Южной Франции. Почему именно майя и баски, между которыми до 1500 года простирался неисследованный и непреодолимый Атлантический океан и они не могли сообщить друг другу правила игры, я не знаю, но не будем посягать на тайну взаимосвязи культур. Почему именно майя придумали календарь значительно раньше и гораздо более точный, чем Юлий Цезарь и папа Григорий, мне тоже, вероятно, никто не сможет объяснить. Не знают этого и потомки майя, у которых те же миндалевидные глаза и орлиные носы, что у их предков. Из воинов они превратились в пеонов — земледельцев. Но все еще гордятся тем, что они потомки майя. Гордятся, что они индейцы, коренные жители, а не переселенцы.
— Я хотел бы увидеть живого индейца.
— Это тебе наверняка удастся. В Мексике до сих пор живут прямые потомки славных индейских народов. Народов, создавших великую индейскую культуру. Ацтеки, майя, миштеки, отоми, сапотеки, тольтеки, тотонаки, ольмеки, тараски, кельталы, кокилы и другие. Они говорят на пятидесяти различных языках. На пятидесяти языках называют друг друга братьями, друзьями или товарищами. А для незваных гостей, захватчиков, пришедших из других стран, с севера, у них одно слово: гринго. Они ненавидят гринго, и в первую очередь — американцев, захвативших их промышленность, нефтяные источники, рудники, железные дороги, авиалинии и даже отели.
— А почему они их не выгонят? Я бы вырыл топор войны и прогнал их из страны.
— Когда-нибудь так и случится. Я расскажу тебе, как мы на собственной шкуре почувствовали ненависть местных жителей к этим незваным гостям. Ехали мы в автомобиле, большом открытом кадиллаке, по живописной мексиканской местности, среди зарослей кактусов и одиноких ранчо, где всегда царит жара. Вдруг нас нагнали около трехсот всадников на прекрасных конях и плотным кольцом окружили наш автомобиль. С высоты своих седел они бросали на нас свирепые взгляды. Один из всадников не сдержался и процедил сквозь зубы над самой моей головой: «Matámos gringos!» Это значит: «Всем гринго мы перерезаем глотки!» Этого я, конечно, не мог допустить и возразил, что я вовсе не гринго, а чех из Чехословакии, пражанин из Праги, даже из Подскали.[32] И вдруг, точно по мановению волшебной палочки, они освободили нам путь и, смеясь, закричали: «Чехословакия! Чех!» Наклоняясь с седел, они похлопывали нас по спине, скакали рядом с автомобилем, перепрыгивали на лошадях через придорожные тумбы и канавы, набрасывали друг на друга лассо, выписывали этими лассо в воздухе свои имена, словом демонстрировали свою ловкость, как маленькие индейские дети или как всякие дети вообще, чтобы доставить нам удовольствие и заставить забыть, что они обозвали нас гринго. Наконец они, как по команде, взмахнули своими соломенными шляпами, сомбреро, и кони с топотом помчались по крутому склону горы. Через две минуты эта индейская кавалькада скрылась в тучах пыли. Мы облегченно вздохнули и в один голос сказали: «Да, братец, все-таки великое дело быть чехом».
— Конечно, папа!.. Расскажи еще что-нибудь о Мексике.
— Однажды мы на субботу и воскресенье выехали из Мехико в горы. Казалось бы, это пустяк — словно, не переводя машину на четвертую скорость, ты поднялся с равнины на холм, — а между тем это был альпинистский подвиг для человека и машины. Город Мехико лежит очень высоко: две тысячи двести пятьдесят метров над уровнем моря. То есть выше, чем некоторые вершины Татр. На шестьсот пятьдесят метров выше Снежки. А жизнь идет в этом городе как ни в чем не бывало. Бегают трамваи, машины, едут повозки. Люди ходят в кино, в театры и на концерты. Одеты они совершенно обычно, хотя у нас уже наверняка расхаживали бы с украшенной бляшками туристской палкой с железным наконечником или по меньшей мере напялили бы охотничью шляпу с кисточкой, а за спину повесили бы рюкзак. Здесь растут пальмы и цветут мимозы. Острова среди озера Хочимилько пестреют тысячами цветов всевозможных оттенков, между островами снуют гондолы. Представь себе на самой вершине Ломницкого щита трамваи, театр и цветники. Но здесь, в Мехико, тропики, и мы на высоте двух тысяч двухсот пятидесяти метров. Так что мы, собственно, поднялись с гор еще выше в горы. Дорога была очень красива. Стоял ноябрь. В Куэрнаваке так жарило солнце, что мы с удовольствием искупались в бассейне отеля, под магнолиями. А затем автомобиль опять потащился вверх по петляющей дороге, через седла и перевалы, пока перед нами не открылся великолепный вид на город Тахко. Город раскинулся среди туевых садов, на склоне, прорезанном штольнями и копрами. Потому что в Мексике добывается… что?
— Нефть.
— Нефть тоже. Но в Тахко нет нефти, там добывают серебро. Мексика — страна серебра, и по его добыче она занимает сейчас первое место в мире. Тахко красивый, богатый город — серебряные рудники приносят хороший доход. В 1929 году в Мексике было добыто три тысячи триста восемьдесят тонн серебра. Ты вообрази, Кнопка, товарный состав из трехсот тридцати восьми вагонов, наполненных серебром. Когда я вспоминаю о своем путешествии в Мексику, мне кажется, что это страница из книги сказок или «Старинных чешских сказаний», вернее мексиканских. Там горы серебра и золота. Испанские завоеватели, о которых у нас писал Иван Ольбрахт, возглавленные жестоким, корыстолюбивым авантюристом Эрнаном Кортесом, разрушили царство Монтесумы и, подавив отчаянное сопротивление индейского народного героя Гуатемоса, принялись грабить страну — воровать и расхищать ее богатства. В первую очередь — серебро и золото. Как будто в них все счастье. Разграбив замки, крепости, храмы и пирамиды, они стали добывать серебро и золото из недр земли. Заложили огромные рудники и начали весьма совершенными для того времени методами добычу серебра.
— Когда это было?
— В 1500 году. Гид Мексиканского бюро путешествий, не зная, кто мы, с восхищением рассказывал нам: «Представьте себе, уважаемые господа и дамы, что Эрнан Кортес пригласил лучших специалистов по добыче серебра, чтобы они заложили ему рудники здесь, в Тахко. Это были два чешских рудокопа из Кутной горы».
— Папа, это ты серьезно? И это доказано?
— В книгах я этого нигде не нашел, но так рассказывают жители Тахко. Вероятно, это старинное предание. Весьма возможно, что так оно и было. Но, если тебя кто-нибудь спросит, откуда я это знаю, скажи, что от одного старого индейца, который был проводником иностранцев в Тахко.
— Индейца с перьями?
— Нет. Без перьев, а в кепи с козырьком. И на околыше у него значилось, что он гид. Он показал нам лавки чеканщиков серебра и серебряных дел мастеров, обратил наше внимание на то, что мы приехали как раз в День поминовения усопших. Знаешь, такой грустный, дождливый день, когда поминают умерших и вы с бабушкой возлагаете на Ольшанском кладбище венки на могилы. Но тут светило солнце и не было никакого намека на грусть. Мексиканцы не боятся смерти. Для них в черепе, скелете, в самой смерти нет ничего страшного. В День поминовения магазины полны тортами, украшенными сахарными черепами, пряничными скелетами и конфетами, имеющими форму костей. По улицам тянутся к кладбищам вереницы мексиканцев, ярко, по-праздничному одетых, с корзинками, полными еды, с флягами пульке — мексиканской водки. Они располагаются на могилах, едят, пьют, пируют и поминают умерших. Гремят оркестры, и веселье затягивается до утра.
По улицам тянутся вереницы мексиканцев, ярко, по-праздничному одетых, с корзинками, полными еды, с флягами пульке…
Потом наш гид повел нас в красивый дом, внутри выложенный синими плитками из Пуэбло. Дом стоял в тени столетних деревьев, отсюда открывался прекрасный вид на город. В дверях гид остановился и кратко сообщил: «Здесь жил профессор Александр Фридрих Гумбольдт». Больше он ничего не знал, и я подозреваю, что те три американца и один голландец, которые были с нами, знали о Гумбольдте не больше, чем ты.
— Но я о нем ничего не знаю! Кто это?
— Это один из самых знаменитых путешественников и географов в мире, который заложил основы современной научной географии. Родился он в 1769 году и объехал почти весь мир. Был в Америке, в Азии, на Урале, в Сибири, в Перу и в Мексике. И во всем мире что-нибудь да названо его именем.
— Что например?
— Горный хребет в Китае; горы в Средней Азии, Австралии и Новой Зеландии; озеро и река в Соединенных Штатах Америки; ледник в Гренландии; минерал гумбольдит, университет в Берлине — в Германской Демократической Республике, и, наконец, кратер на Луне.
— Но там он не был.
— Не был. Ну а здесь, в Мексике, он был как раз, когда восемнадцатое столетие сменилось девятнадцатым.
— Наверно, вначале все путали. Но это, должно быть, замечательно! Придешь после рождественских каникул в школу, а за это время уже началось двадцать первое столетие! И никакой разницы не видно.
— Я тоже завидовал Гумбольдту. Мне хотелось бы дожить до того, чтобы дрожащей рукой — мне будет тогда девяносто восемь лет — нарисовать на кого-нибудь карикатуру, для проверки взглянуть на календарь и подписать: «А. Г. 2000 год».
— А что делал этот Гумбольдт?
— Писал книги о том, как прекрасна земля. Он объездил весь мир, знал всё не по книгам, а всюду побывал сам. И, конечно, не мог об этом не написать. Он провел на чужбине почти всю свою жизнь. Двадцать лет в Париже. И только потом вернулся в Германию. После его возвращения к нему пришел какой-то любопытный человек, наверно это был журналист, и спрашивает: «Господин Гумбольдт — тогда еще не говорили „товарищ“, — господин Гумбольдт, вы видели весь мир, у вас такой опыт, какого ни у кого нет, — назовите, пожалуйста, три самых красивых города на свете». Это, Кнопочка, не выдумка, это было на самом деле. Господин Гумбольдт задумался, и… угадай, что он ответил.
— Я бы знал, что сказать.
— Скажи-ка.
— Ну, нет! Не скажу. Нарочно не скажу. Сначала расскажи, что он ответил.
— Неаполь, Константинополь и Прага.
— Я так и знал! Я знал, что одним из них будет Прага!
— А откуда ты знал?
— Но ведь Прага самый красивый город в мире! Верно?
— Верно. Видишь ли, куда бы мы ни отправились — в мексиканские ли рудники, — мы найдем там чешских рудокопов, или в дом Гумбольдта — мы узнаем, что он говорил о Праге. Человек не может оторваться от своей родины. Словно наши даже не отмеченные на карте Ржички — центр мира.
— А разве это не так?
— Почти что так. Для человека центр мира там, где его родина. В конце концов, ты прав. Путешествие, из которого не возвращаются домой, — уже не путешествие. Это изгнание. Эмиграция. А быть изгнанником, вечным иностранцем, знать, что твой дом — не дома, — это самый страшный удел, какой только может постигнуть чеха. Не иметь возможности вернуться домой… Мы с мамой испытали это во время войны и знаем, что это такое.
Некоторое время царило молчание. Каждый из нас думал о своем. Прошла с корзиночкой ежевики босая девочка из домика, что стоит повыше нашего. Внизу, по склону гор, люди шли к роднику за водой. Вдали, на горизонте, тяжелый воз тащился к Дворкам. Еще дальше отроги гор ступенями спускались к чешской равнине. Открытой, синей, белой, широкой.
— Иди сюда! Посмотри вокруг! Ну, не прекрасно ли здесь, у нас дома? А?
ВОЙНА И МИР,
или
БЫК И ГОЛУБЬ
В Ржичках весна. В других местах она уже кончилась, но здесь, в горах, она в самом разгаре. Мы собирали первые цветы. А потом тщетно пытались смастерить свисток. Вероятно, я забыл, как это делается, — свисток молчал. Но весна была весной.
О Пикассо речь зашла потому, что перед нами на лужайке сидели два голубя, один из них был белый. Мы заговорили о голубятниках, о том, что горняки в Северной Франции разводят голубей. Потом от голубятников мы перешли к голубю мира. Впрочем, в таких поворотах беседы нет ничего удивительного — ведь между всеми явлениями существует поразительная связь. Белый голубь, вспугнутый нашими шагами, вспорхнул, промелькнул над домиком Янсов и улетел, четко выделяясь на фоне черного леса.
— В угольном бассейне Северной Франции, около Лилля, у бельгийской границы, как-то вспыхнула забастовка горняков. Нищенская заработная плата, опасная работа, недостаточное социальное обеспечение в случае болезни и старости, рост дороговизны довели горняков до отчаяния, и они прекратили работу. «Мы не будем рубить уголь до тех пор, пока вы, хозяева, не удовлетворите наши требования». Работа на шахтах прекратилась, и пикеты стачечных комитетов следили, чтобы штрейкбрехеры не спускались под землю.
— Кто это — штрейкбрехеры, папа?
— Штрейкбрехеры — это предатели, которые подрывают единство рабочих тем, что во время стачки работают в шахтах вместо бастующих. Этим они срывают стачку, лишают рабочих возможности добиться своей цели. Понимаешь?
— Да, папа. Они портят игру.
— Верно. Но в этой игре иногда на карте стоит жизнь. Отряды полиции наводнили весь бастовавший район. Чтобы рабочие не могли договориться, были запрещены собрания. Если, вопреки запрету, рабочие собирались, полиция разгоняла их штыками. Но на этот раз забастовщики оказались сильнее полиции. Сильнее французского правительства, поддерживавшего владельцев шахт. На стороне стачечников был французский народ. Крестьяне со всех концов страны привозили стачечным комитетам продукты — муку, картофель, сыр. Видишь ли, когда рабочие бастуют, они не получают заработной платы, им не на что жить и нечем кормить свои семьи, своих детей. По всей Франции проводились сборы в пользу бастующих. В Париже редакция рабочей коммунистической газеты «Юманите» открыла кассу, перед которой целые дни стояла очередь — люди приносили свою скромную лепту в помощь бастующим. У сидевшей в окошечке кассирши — ее звали Люсьен — от радости выступали слезы на глазах, когда она видела, как рабочие и учителя, чиновники и кондукторы, актеры и шоферы, старушки и школьники один за другим выкладывали свой франк, чтобы помочь горнякам, борющимся за свои права. Положение бастовавших было ужасным. Стачка продолжалась уже две недели. Хозяева были непреклонны, и горняки буквально голодали. Как-то раз, в полдень, перед кассой «Юманите» в очередь стал невысокий человек с живыми черными глазами, в берете и потрепанных брюках. Дойдя до окошка, он вытащил из кармана и протянул кассирше смятый клочок бумаги и быстро скрылся в уличной толпе. Люсьен расправила бумажку. Прочла ее. Снова перечитала. Она не верила своим глазам. Посмотрела внимательно и… упала в обморок. Принесли воды, привели ее в чувство, затем подняли с пола поразившую ее бумажку. Это был чек. Чек на один из парижских банков. «Выплатить предъявителю с моего счета 1 000 000 (словами — один миллион) французских франков». А под этой головокружительной цифрой была нацарапана известная подпись: Пабло Пикассо. Если ты окажешься среди горняков Лилльского бассейна и спросишь их, кто величайший художник нашего времени, то не удивляйся, когда все они, не задумываясь, ответят: «Пабло Пикассо». Истинно великий художник не может быть плохим человеком. Всегда ясно, на чьей он стороне.
— Значит, Пикассо миллионер?
— Конечно. Его картины покупают любители современного искусства во всем мире. У него денег гораздо больше, чем ему нужно, но он умеет правильно пользоваться ими.
Во время гражданской войны в Испании Пикассо не раз посылал героической демократической армии, защищавшей на реке Мансанарес Мадрид от фашистов, по нескольку миллионов на покупку оружия, самолетов и медикаментов. Пикассо до сих пор поддерживает семьи испанских героев. Но он не рассказывает об этом. О своих благородных поступках настоящие мужчины не говорят.
— Но Пикассо против войны?
— Да, Мартин Давид. Испанские герои Гвадалахары, Тэруэля, Мадрида, астурийские динамитерос[33] и добровольцы из интернациональных батальонов, в которых было много чехов и словаков, с оружием в руках сражавшихся за мир на всемирном фронте борьбы против фашизма, вели войну против войны. Иногда приходится воевать за мир. Правда, сейчас человечество борется иначе. Всемирный Совет Мира призывает людей доброй воли не допускать новой войны. Это великое движение многих миллионов людей, с которым правительства вынуждены считаться. Сторонников мира около миллиарда, и все они шагают под одним знаменем с изображением голубя. Этого голубя нарисовал Пабло Пикассо.
— Я знаю. У нас в школе есть этот голубь. И ты привез его из Китая, вышитым на шелку. И в Париже он был нарисован на знаменах. Белый на синих знаменах. А Пикассо был у нас?
Мартин Давид был совсем маленьким, трехлетним, когда в Париже Пикассо пришел к нам на обед. Но малыш очень подружился с этим подвижным невысоким человеком с огромными чарующими иссиня-черными глазами, в лимонно-желтом пуловере. Мартин Давид поставил для него свою любимую пластинку «Как пошла Наника в капусту», а Пабло Пикассо нарисовал ему на мраморной доске стола в гостиной козу. Из всех животных коза производила в те времена на Кнопку самое большое впечатление.
Хотя он был ребенком, но я не понимаю, как он мог не запомнить эти глаза. Глаза Пикассо невозможно забыть.
Однажды мы приехали в Валлорис, в Южной Франции, где у Пикассо керамическая мастерская и ателье. Валлорис — городок гончаров, славящийся своей обливной посудой и рынком, где продают горшки, вазы, тарелки и кувшины. Пикассо сложил для себя печь и вступил в цех гончаров. Его приняли с восторгом. Он ходил с гончарами обедать в их кабачки, а в перерыв, который называется во Франции «casse croûte», на усыпанной цветами лужайке за мастерской ел вместе с ними белый хлеб, запивая его вином.
На круто бегущей вверх улочке он поставил статую «Человек с бараном» — статую мира. А в церкви нарисовал две огромные картины: «Война» и «Мир».
В ателье Пикассо раздается громкий стук его сандалий, длинные полки уставлены только что вынутыми из печи тарелками, кувшинами и мисками. На них изображены человеческие лица, рыбы, совы, лошади, воробьи и… голуби. Голуби мира, конечно. Свою посуду он не продает. И раздавать ее не любит. Но однажды, отправляясь в свое первое после войны путешествие на самолете, он решил захватить с собой какой-нибудь подарок.
— А куда он летел? — спросил Кнопка.
— На первый Международный съезд сторонников мира во Вроцлаве, в Польше. Ему сказали, что для этого нужен заграничный паспорт. Но Пикассо испанец и живет уже много лет во Франции. В Испании власть захватил фашистский диктатор Франко. «Его я о паспорте просить не стану», — заявил Пикассо. Тогда поляки сказали, что дадут ему визу, то есть разрешение на въезд в страну, на оснований его удостоверения личности. Пикассо прибежал на аэродром перед самым стартом. Чемодана он с собой не взял, но в каждой руке тащил три — четыре расписанных кувшина. Для своих польских друзей.
— И разбил их?!
— Нет, не разбил. Благополучно прилетел с ними в Польшу. Когда ему показывали вновь отстроенный рабочий район в Жалиборже и водили по еще не заселенным, только что окрашенным домам, Пикассо вдруг вытащил из кармана мел и одним росчерком — ведь ты знаешь, как он рисует, — нарисовал на стене варшавскую русалку.
— А что это — варшавская русалка?
— Это геральдический знак. На гербе Варшавы изображена русалка с мечом в руке. Вот Пикассо и нарисовал ее на стене в сверхнатуральную величину, но вместо меча дал ей в руку молот. Ну и торжество было в Жалиборже! Однако возникли и осложнения: все добивались права жить в комнате, на стене которой был собственноручный рисунок Пикассо с датой и подписью. Наконец члены варшавского городского управления приняли Соломоново решение: вынуть всю стену и перенести ее в варшавский музей.
— А к нам Пикассо не приедет?
— Как знать, может быть, и приедет. Ему бы наверняка понравилось в Праге.
— А он нарисовал бы нам на стене в передней двухвостого льва?[34]
— Не знаю, Кнопка, об этом тебе пришлось бы самому с ним договариваться. Но не смей приставать к нему! Знаменитым людям устраивают настоящий ад на земле. Повсюду их подстерегают такие мальчуганы, как ты, или девочки, и просят автограф. Впрочем, надо признать, что девочки еще хуже мальчишек. Помню, в прошлом году два знаменитейших деятеля искусства в мире условились вечером вместе поужинать. Это был величайший художник Пабло Пикассо и величайший комик Чарли Чаплин. Они встретились в Париже. Чаплин жил в гостинице «Рица» на Вандомской площади. Полчаса они уславливались, как бы незаметно ускользнуть из гостиницы — от журналистов, фотографов, поклонников и поклонниц, которые целыми часами толпились у дверей. Ведь это была бы сенсация — сфотографировать, как Пикассо и Чаплин выходят из гостиницы, садятся в автомобиль и едут, как выходят из машины и входят в ресторан, едят суп, жуют мясо, пьют вино, платят по счету. Репортеры на все способны. Сам понимаешь, что Пикассо и Чаплину не удалось бы ни поесть, ни поговорить. Словом, они бы только измучились. И вот после длинного совещания они остались в номере Чаплина, попросили принести им туда ужин, отослали своих секретарей и переводчиков и заперли за ними дверь. Секретари воображали, что их очень скоро смиренно позовут обратно, потому что Чаплин не знает французского языка, а Пикассо — английского. Но не тут-то было! Никто из журналистов так и не узнал, о чем они говорили и на каком языке объяснялись. Но расстались они только утром и отлично провели время. Такие великие художники всегда сумеют договориться. Возможно, что Чаплин время от времени что-нибудь играл для Пикассо, а Пикассо рисовал. Так было, вероятно, проще всего.
Пикассо поразительно трудолюбив. Ты должен с него брать пример, Кнопка! Он ни минуты не может не мастерить. Он лепит статуи, изготовляет горшки, пишет картины. Он рисует всегда, везде и на всем. Вырезает кукол из веточек, на пляже разрисовывает ракушки, а потом бросает их обратно в море.
Для него жизнь без работы — не жизнь. Его жизненный путь отмечен тысячами картин, сотнями статуй, керамикой и прочими изделиями, над созданием которых он работал так страстно и увлеченно, словно от этого зависела его судьба. В этом году ему минуло семьдесят пять лет. Однажды я спросил его: «Когда вы отдыхаете? Когда у вас, собственно, отпуск?» А он, смеясь, ответил мне: «Я постоянно в отпуску. Ведь я же не на службе у самого себя. Я живу жизнью художника или жизнью гончара, — как мне вздумается. Искусство — моя жизнь. И здесь, в Валлорисе, мне прекрасно живется». Валлорис стал маленьким царством Пикассо. В этом году он там устроил корриду.
— А что такое коррида?
— Бой быков. В испанских и португальских странах — Испании, Португалии, Мексике и Южной Америке — величайшим спортивным праздником — фиестой — являются ежегодные бои быков. Тореадоры, одетые в традиционные старинные испанские костюмы, встречаются на посыпанной песком арене с разъяренным быком и должны сразить его одним ударом тонкой шпаги. Тореадор вонзает ее по самую рукоятку в шею быка. Это опасная игра, игра мужественная и гордая, и не один тореадор поплатился за нее жизнью. Это невероятно волнующая игра. Увлеченная публика разражается взрывами аплодисментов, бурей восторга или возмущения. Но в то же время бой быков — это спорт, и очень жестокий, южный. Накануне корриды по улицам города ходят процессии с музыкой. Тореадоры бывают столь же знамениты, как Затопек, а случается, и еще больше.
На этот раз вызвалась петь красавица Кармен Янес; она вышла на арену и запела. Бык слушает — что это за звуки раздаются на притихшей площади…
— Этого не может быть!
— Ну ладно. По крайней мере, не менее знамениты. Большую площадь в Валлорисе превратили в Piazza de toros — арену. Улицы украсили флагами, а разряженные местные красавицы, по испанскому обычаю, вывесили из окон ковры, шали и кружева. Пабло Пикассо в костюме тореадора — широкополой шляпе, красной рубашке и коричневых бархатных штанах — стоял в открытом автомобиле, возглавляя процессию. Вместе с ним ехали его старшая дочь Майя, маленькие Палома, Клод и поэт Жан Кокто. За машиной шествовали тореадоры, гарцевали на лошадях пикадоры и шел оркестр, игравший на трубах. Их окружали тысячи людей из городка и окрестностей.
— А кто вел машину?
— Машина двигалась очень медленно, и вел ее шофер. Но этот день мог окончиться печально. Не для машины, а для одной певицы. В Испании есть обычай: перед боем быков, когда бык уже выпущен, какая-нибудь знаменитая певица выходит на арену и поет испанскую песню, в то время как разъяренный бык вне себя от бешенства мечется вокруг нее. Пение раздражает быка, но он не понимает, что происходит. На окруженной людьми арене резонанс такой, что бык не может разобрать, откуда несется песня. На этот раз вызвалась петь красавица Кармен Янес; она вышла на арену и запела. Бык слушает — что это за звуки раздаются на притихшей площади? — и растерянно носится по арене, то тут, то там вонзая рога в дощатую ограду. И тогда, наверно от страха, у Кармен сорвался голос — она не могла произнести ни звука, потеряла сознание и упала на песок. Взбешенный бык помчался к неподвижной фигуре, распростертой посреди арены. В последний момент подскочили тореадоры с красными платками и отвлекли внимание быка от несчастной девушки. Быки не выносят красного цвета. Он приводит их в ярость. С налитыми кровью глазами они бросаются на красное пятно. Вот почему тореадоры размахивают красными платками.
— А у нас можно было бы устраивать бой индюков. Недавно индюк, увидев пани Бурсикову с красным платком на голове, разозлился, весь взъерошился, его лысая голова покраснела, и он погнался за ней. Ну и удирала же пани Бурсикова!
— Что ж, бой индюков можете устроить, но быка из общинного стада, пожалуйста, оставьте в покое. Так вот, после происшествия с Кармен Янес выступили тореадоры. Испанцы. Гибкие, как лоза, Пепе де Монтило и Хосе Лахуэрта. Они буквально танцевали вокруг быка, и тот уже совсем изнемогал, безуспешно нападая на них. А тореадоры в последний момент изящным движением успевали на какой-нибудь сантиметр уклониться от удара его рогов. И ослепленный яростью бык проскакивал мимо, тяжелый, как танк. Тореадоры играли со смертью. Они становились перед быком на колени, щекотали его кончиком шпаги и, наконец, после многочисленных классических балетных номеров одним ударом прокололи ему шею.
— Бедный бык! А что с ним потом сделали?
— Пара лошадей уволокла его с арены, а три тысячи зрителей, гончаров Валлориса и курортников, приехавших с Ривьеры, бросали в воздух шляпы и восторженно аплодировали. Трудно было поверить, что находишься во Франции. В Испанию Пикассо поехать не может, там фашисты, вот он и перенес Испанию к себе, в городок Валлорис. Таким образом впервые ежегодная южнофранцузская посудная ярмарка в Валлорисе открылась испанским боем быков, потому что там поселился Пабло Пикассо.
— Пикассо великий художник, правда, папа?
— Он один из величайших художников нашего времени. Причем этот гениальный мастер — скромный и простой человек, безгранично любящий жизнь. Он так подвижен, бодр и трудолюбив, что, глядя на него, у человека дух захватывает. За ним не поспеваешь. Иногда мне кажется, что он вернулся к нам из будущего, куда забежал раньше нас. Он словно рассказывает нам о будущей жизни, столь насыщенной, какой мы до сих пор не знали. Словно он лучше нас знает, что такое реализм. Когда у тебя будут внучата, Кнопка, и ты будешь им здесь, в Ржичках, сидя на завалинке горной хижины, рассказывать о своей молодости, ты сможешь сказать: «Дети, однажды я играл с Пабло Пикассо».
У КАЖДОЙ СТРАНЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ СВОЙ ЦВЕТ,
или
ЦАРЬ НА КОНЕ И ПУШКИ «АВРОРЫ»
К Ржичкам, как известно, ближе всего Польша. Кнопку часто мучит мысль, почему на противоположном берегу Дикой Орлицы, где все точно такое, как на этом, — другая страна. Вон те коровы — польские, а эти — чешские. Только олени переходят в сумерки через холодную, черную реку, не признавая границ. И птицы не признают их, и рыбы. Да и бабочкам, по-видимому, тоже не надо получать разрешение на выезд.
Впрочем, вероятно, животные переходят границу по неведению, а неведение — не преступление. Они просто не знают, что здесь проходит какая-то граница. Ведь это бессловесные твари. Ну, а люди, сидящие на берегу среди одуванчиков, лютиков, желтянки и лопухов, и смотрящие через узкую черную полосу воды, как они узнают, что за речкой другая страна? Даже если она дружественная. Эти вопросы волнуют ребят.
Кнопка, в общем, считает, что на земле должно быть так же, как на карте. Польша должна быть желтой, Советский Союз — красным, Китай — синим, Франция — фиолетовой, Италия — зеленой, и так далее. Тогда сразу всем станет ясно, например, что Советский Союз — самая большая страна на свете. Неплохо даже, если бы природа каждой страны была другого оттенка: одна синеватая, другая желтоватая или красная.
О России и Сибири мы с Кнопкой кое-что знаем, я — по опыту, а он — из школы и, кроме того, из книг. Мы дома много читаем. К тому же у нас с Кнопкой есть общая любовь: Жюль Верн. Мы собираем библиотечку из его книг, как собирают марки или бабочек. Мы ее возим с собой даже на каникулы.
Поэтому наш разговор о Советском Союзе начался тоже с одной из книг Жюля Верна. Исторической.
Из Москвы в Китай летел самолет. Он, как следопыт, ни на версту не уклонялся от полного приключений пути курьера русского царя — Михаила Строгова.
Романам Жюля Верна, гордости прошлого столетия, иностранные меры длины и веса придают очарование старины и достоверности.
Казань, Новосибирск, Красноярск, Иркутск… На смену приключениям минувшего пришли новые, современные.
И все-таки монументальность ландшафта, величие и торжественность географических названий, чарующие нас и прославленные в мировой истории и литературе, уже знакомы нам, современным воздухоплавателям, еще по романам Жюля Верна.
Я взял в руки книгу в тисненом красно-золотом переплете, открыл ее на 224-й странице и прочел:
«А между тем двенадцать дней спустя, 2 октября, в 6 часов вечера бесконечная водная гладь открылась перед глазами путников.
Байкал и АнгараБайкал находится на тысячу семьсот футов выше уровня моря. Его длина — приблизительно девяносто верст, а ширина — около ста. Глубина его неизвестна. Госпожа де Бурбулон передает со слов моряков, что Байкалу хочется называться морем, если же его назовут озером, то он тотчас же начинает бушевать. Но, по преданию, никогда ни один русский в нем не утонул.
Этот огромный бассейн пресной воды питается более чем тремя сотнями рек и окружен великолепной рамкой вулканических гор. У него нет другого выхода, кроме Ангары, которая, пройдя через Иркутск, впадает в Енисей несколько выше города Енисейска. А горы, которые его опоясывают, являются отрогами Тунгусских гор и принадлежат к обширной системе Алтайского хребта».
— Это я читал, папа. Но разве Байкальское озеро и вправду такое огромное, а Ангара такая бурная? Помнишь, в конце книги кто-то говорит… Вот: «…Я не раз видел, как температура падала ниже тридцати, даже сорока градусов, по Ангаре все время плыли льдины, но она не замерзала окончательно. Объясняется это, несомненно, ее исключительно бурным течением».[35]
— Правильно. Я четыре раза пролетал над юго-западной частью Байкала. Правда, один раз ничего не было видно из-за тумана. Но даже с самолета — а оттуда, с высоты двух — трех тысяч метров, можно одновременно видеть на земле пункты, находящиеся очень далеко друг от друга, — нельзя охватить взглядом это огромное водное или ледяное пространство. Байкал гораздо больше в длину, чем в ширину, и невероятно глубок. Когда-то говорили, что он так же глубок, как тоска ссыльных по родине и семье. Туда, в далекую снежную Сибирь, бесчеловечные русские самодержцы, жестокие цари и их жандармы, ссылали передовых людей, чтобы они, отрезанные от всего мира, физически и духовно гибли от нужды, одиночества и тоски. Здесь отбывали ссылку все великие люди царской России. Это было их школой революционной борьбы.
— А какая Ангара?
— И об этой реке можно сказать то же, что говорил наш друг Жюль Верн. Ангара действительно такая бурная, что даже с самолета видно, как она мчит свои темно-зеленые мутные воды по песчаному руслу. С плотов нам махали веслами и баграми. И должен тебе сказать, что плоты мчались как на пожар. По Ангаре их так и несет. Не хотелось бы мне там искупаться. Течение в Ангаре раз в десять сильнее, чем в Дунае.
— А рыба там водится?
— Не знаю, есть ли она в Ангаре, но с самолета я ее даже в Байкальском озере не разглядел. Байкальскую рыбу я обнаружил лишь в меню и сейчас же заказал ее. Она очень вкусная.
— А как она называется?
— Омуль. Это рыба типа форели. Все чехословацкие туристы по пути в Китай или из Китая ночуют в Иркутске, едят на ужин омуля и вспоминают Михаила Строгова. Взгрустнув, они заказывают водку и вспоминают то время, когда были в твоем возрасте.
— Папа, а дядя Каутский всегда говорит: холодно, как в Сибири. Расскажи, как выглядит Сибирь!
— Сибирь раскинулась на огромном пространстве Северной Азии. Ей принадлежит будущее — ведь там так много необжитых земель. Тебе это покажется странным, Мартин Давид, но здесь, в Европе, у нас другие масштабы, намного меньше. А чем ближе к Азии — Сибирь уже в Азии, — тем большие расстояния и большие цифры вырастают перед тобой. В Азии оперируют только крупными цифрами.
Сибирь — самая большая страна на свете. В Китае самое большое в мире население. Гималаи — самые высокие горы на земном шаре.
Как только перевалишь через Урал, начинаешь считать в миллионах и миллиардах. У нас иногда достаточно для подсчета пяти пальцев, а мы ведь все же не самая маленькая страна на свете. Но у нас красиво, и нам здесь хорошо, не правда ли?
— Конечно, папа.
— Советской Армии мы обязаны тем, что можем сейчас вот так сидеть и говорить на родном языке, и тем, что нашу страну у нас никогда никто не отнимет. А сколько советских воинов отдали свою жизнь на полях Европы! Советские войска уничтожили фашистскую армию и освободили Чехословакию. Вот по этим дорогам весной 1945 года грохотали советские танки, изгоняя разбитые фашистские дивизии из нашей страны. Советские воины были из далекой Сибири, или с Крайнего Севера, или с Украины, или Кавказа.
— Ты знаешь весь Советский Союз, папа?
— Что ты! Такую огромную страну, пожалуй, и узнать как следует невозможно. Но я был там несколько раз. Впервые — в 1931 году. В те времена в Праге люди, побывавшие в Советском Союзе, считались белыми воронами. Тогда вся Советская страна превратилась в огромную стройку, и каждый советский человек, чем бы он ни занимался, считал себя рабочим на этой стройке.
Началось огромное преобразование страны, превращение ее в промышленную державу. Я был свидетелем этого. С тех пор я побывал в СССР, или, по крайней мере, проезжал через СССР, раз десять. И каждый раз мне казалось, что я приехал в страну впервые — так быстро менялись ее облик и ее люди.
Сейчас Москва — огромный, сверкающий огнями город, бурлящий от зари до зари. Есть там и метро, и широкие улицы, и высотные здания, и большие заводы, громадные музеи, аэродромы и вокзалы. А в центре города стоит окруженный красной стеной Кремль — твердыня русской славы, — с церквами и колокольнями, с дворцами над рекой и курантами, которые играют гимн.
В СССР всегда хочешь вернуться и никогда не хочешь оттуда уезжать.
— А ты опять поедешь туда?
— Конечно, поеду. Но всегда буду возвращаться домой. Последние минуты перед отъездом из Москвы особенно врезаются в память. Первый раз я уезжал из Советского Союза домой в полдень 25 октября 1931 года и решил отправиться на пароходе «Феликс Дзержинский» через Ленинград в Киль, в Германии, а оттуда — поездом в Прагу. Мне в тот день повезло: не проходило часа, чтобы я не увидел что-нибудь такое, на что действительно стоило посмотреть. В тот момент, когда я выходил из гостиницы «Европейской», в СССР прибыли редкие гости: англичане, и среди них знаменитый английский писатель Джордж Бернард Шоу.
— Тот, который кактус?
— Да, писатель, которого я нарисовал в виде кактуса, потому что его язвительное остроумие так же колюче, как кактус. Направляясь на моторном катере к пароходу «Феликс Дзержинский», мы прошли мимо «Красина». «Красин» — знаменитый ледокол, который прославился в полярных экспедициях и спас жизнь многим путешественникам, затерянным во время полярной ночи в грозной ледяной пустыне Арктики. Ледокол произвел на меня огромное впечатление. За год до этого в Праге профессор Самойлович рассказывал нам, как вместе с командой «Красина» спасал экспедицию капитана Нобиле, дирижабль которого потерпел крушение в Северном Ледовитом океане на пути к Северному полюсу. Вместе с Нобиле летел и чешский профессор Бегоунек. «Красин» не очень-то красивый железный корабль, толстобокий, с красным килем, желтыми трубами и с красной пятиконечной звездой. Внешне скромный, он сейчас покачивается на волнах, словно почивает на лаврах своей славы.
Но это еще не все. Смотрю я на героя полюса «Красина» и вдруг чувствую, что на меня упала какая-то тень. Я поднял глаза. Совсем низко пролетает «Граф Цеппелин» — дирижабль, похожий на огромную станиолевую сигару. Я никогда не видел дирижаблей в воздухе. «Цеппелин» сделал два круга над Ленинградом и покачал носом, приветствуя толпы на площади Урицкого и около Смольного. Потом повернул к аэродрому и плавно, величественно исчез между домами. Белой ночью «Феликс Дзержинский» поднял якоря и медленно двинулся к Кронштадту.
— Почему белой ночью?
— Там, на севере, близ Полярного круга, летом ночи такие короткие, что солнце, едва зайдя, снова восходит, так что не успевает даже стемнеть. Поэтому мы хорошо видели Кронштадт — морскую крепость, охраняющую вход в Ленинградский порт. Оттуда, из Кронштадта, вышел в 1917 году крейсер «Аврора» с восставшими русскими моряками и навел свои орудия на Зимний дворец, где заседало буржуазное правительство Керенского. Выстрел «Авроры» был сигналом к началу Великой Октябрьской социалистической революции.
— «Аврору» ты видел?
— Нет, в 1931 году не видел. Но позже я побывал на ней. Она стоит на якоре в Ленинграде, и народ ходит ее осматривать. Это плавучий музей революции, вернее — плавучий памятник Октябрьской революции. Можно потрогать дуло орудия, выстрел которого прогремел на весь мир, и его эхо уже никогда не замолкнет.
— Мне в Советском Союзе, наверно, больше всего понравилась бы «Аврора». Тебе тоже, правда?
— Этот крейсер — свидетель революции — производит колоссальное впечатление. Смотришь и говоришь себе: «По знаку, данному его орудиями, открылась новая страница мировой истории». Огромное впечатление! У меня оно всегда сливается с впечатлением от памятника Петру Великому. «Аврора» стоит на Неве недалеко от «Медного всадника», о котором русский поэт Пушкин написал замечательную поэму. Петр Великий заложил Петербург на пустом месте. По его велению среди болот вырос город. Он открыл России путь к морю.
Петр был великим государем. Над «Медным всадником» двенадцать лет работал в Петербурге французский скульптор Фальконе; закончил он его в 1775 году и сам отлил из бронзы. Это конная статуя.
Конь поднялся на дыбы и задними ногами попирает змея. А на коне — великий государь, основатель города, в его честь названного Петербургом. Потом город в честь Ленина, возглавлявшего революцию, был переименован в Ленинград. Статуя высится на пьедестале из гранитного монолита, привезенного сюда издалека, хотя он весит тысячу шестьсот тонн.
— На какой же повозке его везли?
— Совсем не на повозке. В том-то и дело. Все было сделано благодаря смекалке и силе людей. Я расскажу тебе, как это было.
— Расскажи, папочка!
— Когда скульптор Фальконе решил поставить статую царя Петра на настоящую скалу, императрица Екатерина Вторая объявила по губерниям, чтобы подданные всея Руси искали подходящий камень. Один финский дровосек нашел его в Лахте. Он был длиною четырнадцать метров, шириною шесть метров и высотою пять метров. Словом, с небольшой домик. Весил этот камень миллион шестьсот тысяч килограммов. Для того чтобы подтащить его к реке, понадобились сотни рабочих. Специально для этого изготовили шестнадцать лебедок. Каждую лебедку обслуживало тридцать два крепостных — шестьдесят четыре руки. По распоряжению главного инженера, руководившего строительством памятника, в дремучих лесах, нарушив каменный сон этой скалы, построили казармы для четырехсот мастеровых. К Неве проложили специальную колею, по которой передвигалась платформа на медных шарикоподшипниках. И представь себе, что все было вручную выковано, отлито, отшлифовано. Скалу тащили к реке толпы крепостных, арестантов и солдат. За день продвигались на пятьдесят метров. Чтобы людям было легче, гвардейский оркестр играл им веселые, бодрые марши. Гремели барабаны, пели трубы. Наконец скалу притащили на берег реки. Что же делать дальше? Ни одному судну не поднять ее. Оно сразу пойдет ко дну. Было сделано много неудачных попыток. Погибло немало людей. Наконец финские плотовщики додумались. Они построили из могучих бревен огромный плот. Втащили скалу на плот, привязанный между двумя боевыми фрегатами. Подгоняемые западным ветром, корабли шли на всех парусах к Петрограду и между ними — словно люлька — плот со скалой.
Зимой скалу свалили на набережную и, как огромные каменные сани, притащили по снегу на Исаакиевскую площадь. Это тема для романа, Кнопка! Прошлое — царь — и современность — «Аврора» — неподалеку друг от друга. Незабываемое впечатление!
— А еще что ты часто вспоминаешь?
— Два события. Оба произошли в 1934 году. Стояло замечательное лето, я был еще молод. Мне было тридцать два года. С тех пор прошло много времени, но помню все, до мелочей. Это случилось двадцатого августа 1934 года. Я сидел у большого окна в номере гостиницы «Метрополь» в Москве, где мы жили вместе с Незвалом,[36] и рисовал дружеские шаржи на участников Первого съезда советских писателей. Я был делегатом от чехословацких писателей. Был я страшно расстроен: во всей Москве, даже на Кузнецком мосту, где вообще можно купить все что угодно, я не мог достать тушь. Ее вообще не было в Москве. А без туши трудно рисовать.
— Как же ты рисовал?
— Чернилами. И тоже получалось. Не следует быть мелочным.
— А кого ты рисовал?
— Десятки знаменитых людей. В Москву съехались в гости писатели со всего мира. И, наверно, там были все советские писатели. Гостиница «Метрополь» напоминала дом отдыха чешских писателей в Добржише во время рождественских каникул. Кого ни встретишь, каждый писал, или собирался писать, или считал себя писателем. Каждый мог рассказать что-нибудь интересное, ради чего стоило постоять, поговорить, выпить вместе чаю и бежать дальше, опять постоять, поговорить, выпить чаю, и так до самого окончания съезда.
В этот день, в пять часов, к гостинице подъехали паккарды и кадиллаки ВОКСа. ЗИМов и ЗИСов тогда еще не было. Мы отправились далеко за город. Шел дождь, и грязь была такая непролазная, что автомобили скорее плыли, чем ехали. Тяжелые машины ежеминутно буксовали, а в этом радости мало. С окраины мы попали в поле, с поля — в лес и вдруг оказались перед небольшим ампирным зданием. В большой приемной нас встречал хозяин.
— Кто это был?
— Один из величайших писателей мира, о котором вам рассказывали в школе.
— Папа, не говори загадками, не дразни!
— Максим Горький. Высокий, худой, с длинными свисающими усами, которые он то и дело поглаживал большим пальцем, с длинными руками и слезами на ласковых глазах. Старый, очень старый, но очень живой, подвижный. Живее, чем все мы, гости.
На нем была белая рубашка с широким воротничком и шелковым галстуком, какой носил в молодости твой прадедушка. Время от времени он надевал тюбетейку на густые, не белые, но заметно поседевшие волосы. Он был, собственно, подстрижен ежиком, но волосы у него такие мягкие, что они не держались и распадались во все стороны. Мы уже видели его на заседаниях съезда, но здесь он был дома. А дома человек выглядит всегда иначе. Писатели — французы, венгры, испанцы, немцы, норвежцы, англичане, чехи, словаки — расселись вокруг огромного стола, широкого и длинного. Стол был покрыт оливково-зеленым сукном с бахромой.
И случилось, как это часто бывает, — люди собрались и не знают, с чего начать, о чем говорить. Напряжение неожиданно разрядил котенок. Он вскочил на край стола, словно по лужайке, прошел между двумя рядами писателей на другой конец, прямо к Горькому, и свернулся клубочком у него на коленях. Горький погладил его, и дискуссия началась. Разговор не смолкал. В то время было о чем поговорить. Разоренный, израненный мир, казалось, истекая кровью и спотыкаясь, брел по Вселенной. Назревала мировая война. Китайская писательница, описывая ужасы японского вторжения, растрогала Горького до слез. Каждый говорил о том, что он будет делать, если разразится война. У всех были большие планы… Но, как видишь, все произошло совсем иначе. Во время войны человек не волен делать то, что хочет. Война подобна смерчу — она хватает тебя за шиворот и тащит. Но будем надеяться, что это была последняя война.
— Это правда, папа?
— Надеюсь, что правда, Мартин Давид. Ведь сейчас мир не так разобщен, как в 1934 году. Люди, живущие на разных концах земного шара, стали лучше друг друга понимать… Ну, поговорив о том о сем, мы уселись в столовой ужинать. Это было настоящее русское угощение. Столы ломились от яств. Холодные цыплята, салаты, рыбы, икра, пироги и паштеты, водка, вино, пиво — и все это были только закуски. Больше всего мне запомнились серовато-фиолетовые соленые грибы — рыжики. Вероятно, потому, что Горький мне сказал, что они собраны в лесу около дома. Он сам ходил собирать их.
И вот еще на что я обратил внимание: все, кто подавал на стол, привратник, шофер, — словом, все кто вел хозяйство Горького, были каким-то образом связаны с его жизнью. Все они уже стары, выросли в тяжелых условиях, все любили друг друга, словно вместе с Горьким пришли пешком в город.
Это не были родственники. Возможно, они бывшие бродяги, бурлаки или босяки, которых Горький собрал во время своих странствований по широкой Руси. Ты знаешь Максима Горького по фильму о его жизни, по картинкам в хрестоматии. Но когда сам видишь такого человека, то перед тобой оживают и его произведения. Подрастешь, и будешь читать его «Мать», его книги о бедных людях, о том, какой жизнь была раньше.
Когда-нибудь ты поедешь в Советский Союз. И, узнав из книг Горького, как тяжело жилось народу раньше, особенно хорошо поймешь, какие огромные изменения принесла Октябрьская революция.
Максим Горький дождался лучших дней. Но большая часть его жизни прошла в то время, когда царствовали голод и нищета, когда труд был нечеловечески тяжелым, подневольным, во времена несправедливости и озлобления. Ты родился уже в новое время. Чтобы оценить его, ты должен читать о том, какой была жизнь раньше, в годы молодости Горького. И это ты лучше всего узнаешь из его книг.
Но ведь я начал рассказывать о приеме! Настроение было замечательное. Ты знаешь Витезслава Незвала. Одна выдумка сменяла у него другую, своим красноречием и энтузиазмом он заразил весь левый конец стола. В Советском Союзе любят придерживаться старых народных обычаев и на таком пиршестве, как ужин у Горького, конечно, соблюдались старые обычаи. Горький сидел во главе стола, но по его желанию присутствующие выбрали председателя, который предоставлял слово, провозглашал тосты, устанавливал тишину, когда произносились речи. Его называют старинным грузинским словом «тамада». Тамадой мы выбрали писателя Алексея Толстого. Он в этом деле разбирался!
Когда веселье достигло апогея и рюмки наполнили для нового тоста, открылись двери, и к писателям пришли советские государственные деятели. Пришло почти все правительство.
Никогда, ни до того, ни после, я не сидел за столом, за которым собралось столько великих людей. У меня даже дух захватило. Один тост следовал за другим, и у всех нас было такое чувство, что именно так и должно быть: вот так государственные деятели должны встречаться с художниками — весело, за рюмкой вина.
— Папа, а как же вы разговаривали?
— На всех языках мира. Там, правда, присутствовали переводчики, но они, пожалуй, не были нужны. Когда встречаются люди, у которых столько общих идей и общих целей, то не так уж трудно понять друг друга. Но больше всего мне понравился испанский язык, — на этом языке испанская поэтесса Мария-Тереса Леон подняла тост за счастливое будущее детей всего мира. Максим Горький улыбался, на глазах у него выступили слезы, он угощал, присаживался к отдельным группам, образовавшимся за столом. Попрощались мы с нашим хозяином на крыльце. Был третий час. Робко брезжил рассвет. По дороге в Москву мы говорили только о Горьком. Его простота и человечность произвели на нас незабываемое впечатление. Этого вечера я никогда не забуду. Таких встреч в жизни человека бывает мало.
— Рассказывай дальше!
— Ну, и еще одной встречи я никогда не забуду. Перед гостиницей «Метрополь» — небольшой садик. И кафе прямо на тротуаре, как в Париже. Там так приятно посидеть, наблюдая проходящих мимо людей, уличное движение, жизнь города! Мы, чехи, назначали в этом кафе друг другу свидания. С Юлием Фучиком, с Петером Илемницким,[37] с Францем Вайскопфом…[38] Тяжело вспоминать. Прошло немногим больше двадцати лет, и никого из них уже нет в живых. Однажды сижу я там днем, и вдруг приходит товарищ Гакен, старый коммунист (его, бедняги, уже тоже нет), и представляет меня… угадай кому?
— Не хочу гадать, рассказывай!
— Товарищу Клементу Готвальду.[39]
— Президенту Готвальду?!
— Тогда товарищ Готвальд еще не был президентом республики. Ведь я тебе сказал, что это было более двадцати лет назад. Товарищ Готвальд расспрашивал меня о многом. О карикатурах, о том, как мы смотрим на съезд писателей, о том о сем. И, чем больше мы разговаривали, тем больше он мне нравился. Я высказал ему все, что у меня было на душе. Он покуривал трубку. Говорил немного. Но на все находил ответ. Короткий. Ясный. Это была встреча, которая многое решила в моей жизни. А тем самым и в твоей. Ты даже не представляешь, как много!
ОБАЯНИЕ РИМА,
или
СКОЛЬКО СТОИТ ПОРТРЕТ КИСТИ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
Я думаю, что нет ничего предосудительного или унизительного, если дети, взглянув на глобус или карту Европы, заявляют, что Италия похожа на сапог.
Но объяснить детям, что такое Италия и что кроется за этим словом, — дело отнюдь не легкое. Всё существующие определения пригодны для описания этого очаровательного «сапога»: Италия — красивая и сладостная, обаятельная и волшебная, обольстительная и страстная, религиозная и жизнерадостная, кающаяся и греховная, веселая и грустная.
Но вот с выражением «колыбель» получилось неудачно. Несколько легкомысленно и необдуманно я заявил, что Италия — колыбель европейской культуры, колыбель христианства и, к сожалению, колыбель фашизма. Эта последняя «колыбель» испортила Италии репутацию.
Мне кажется, что из всех моих рассказов самое большое впечатление на юных граждан Ржичек произвела легенда о фонтане де Треви.
— Один римский папа, кажется это был Климент Двенадцатый, приказал построить фонтан. Скульптор Сальви закончил его в 1762 году. Фонтан примыкает к стене большого дворца. По обе стороны древнеримского бородатого бога вод и морей Нептуна стоят тритоны. Со всех сторон на статую льются струи воды. На дне большого мраморного водоема блестят серебряные монеты. Сотни лир мелочью. Легенда гласит, что каждый бросивший в этот фонтан серебряную монетку наверняка вернется в Рим. Поэтому рядом с итальянскими лирами там лежат американские доллары, английские шиллинги, немецкие марки, французские франки, индийские рупии, турецкие пиастры, голландские гульдены, польские злотые, португальские эскудос, бразильские миллирейсы, испанские песеты — словом, монеты со всего мира.
— А ты бросил туда крону?
— Бросил. И действительно, потом не раз приезжал в Рим. Италия, особенно Рим, — словно магнит, они обладают какой-то удивительной притягательной силой.
— Почему?
— Влекут солнце и запахи рыбы и фруктов. Влекут кабачки с террасами, увитыми виноградом. Рестораны, где можно получить спагетти, сыр и темное вино. Аромат базаров, садов и лимонов. Аромат виноградников. Аромат пищи, приготовленной на оливковом масле. Аромат овощей. Аромат даров моря. Все это — аромат жизни. Его тщетно пытается вытеснить запах мрака — запах ладана и церковных свечей. Это Италия, которую можно обонять. Италия благоухающая.
Привлекают люди, никогда не унывающие, деятельные. Всегда возбужденные и без конца говорящие. Всегда влюбленные. Бедные. Иногда страшно бедные — в лохмотьях и грязи, — но горячо любящие жизнь. Они наполняют город веселым гомоном, сутолокой и толчеей. Они живут жизнью насыщенной и шумной. В Сицилии, в Неаполе, в Риме, во Флоренции, в Генуе. Они повсюду. Взрослые и дети. Это Италия, которую можно услышать. Италия звучащая. Путешествуя по этой густонаселенной стране, утрачиваешь представление о времени и не знаешь иногда, в какой эпохе живешь, потому что здесь века тесно переплетаются.
— Как это, папа?
— Приведу тебе пример. Однажды мы с Владимиром Познером отправились из Флоренции на автомобильную прогулку. Мы ехали кудрявым оливковым краем, полным очарования, аромата и цветов. Через старинные ворота попадали в строгие готические города с неестественно наклоненными четырехугольными башнями, слушали цикад за городскими стенами, уличный шум — внутри города. В это время в стране происходили выборы в городские управления. В средневековом городе Сан-Джиминиано коммунисты получили большинство. Это было сразу видно по поведению толпы на площади. В Италии вся жизнь проходит на улице — и классовая борьба, и любовь, и переживания спортивных болельщиков… Любимцы итальянского народа — певцы и велосипедисты. Подростки-спортсмены писали мелом на всех стенах: «Eviva Coppi! Eviva Bartolo!». Это имена фаворитов соревнований. Когда выходишь на площадь, заполненную народом, кажется, будто ты вошел в помещение, где собралась одна большая семья. Мы с трудом пробрались сквозь уличную сутолоку и в Сиену попали только к вечеру.
— Сиена — это такая краска, коричневая.
— И город тоже. Как открытый веер, раскинулась Сиена на террасах гор. Нам казалось, что мы проезжаем по волшебной стране, что попали на страницы сказок. Улицы предместья были совершенно безлюдны. Нигде ни души, зато в центре мы обгоняли процессии горожан с зонтиками, шествовавших с женами и детьми. Казалось, что все они отправляются на какую-то веселую войну. Все шли в одном направлении: к площади Piazza del Campo. Чем ближе к закрытой со всех сторон, похожей на раковину площади, тем больше толчея и давка. Лишь сквозь просветы улиц нам удавалось взглянуть на площадь, посыпанную мягким желтовато-коричневым песком. Башня ратуши напоминала о непрерывных войнах средневековья. В этот день здесь, по-видимому, происходило нечто совершенно необычное. Крыши домов вокруг площади были полны людей. Стены и углы домов, уличные тумбы тщательно прикрыты соломенными тюфяками. Шторы в магазинах и кафе опущены и витрины заложены чем-нибудь мягким. Создавалось впечатление, что владельцы магазинов, метрдотели и официанты кафе забаррикадировались от какого-то страшного дракона, но в то же время опасаются, как бы бедняга дракон не ушибся об их баррикады. Баррикады были мягкие, как перины.
— А что там происходило?
— Имей терпение. Мы глядели в оба и навострили уши. Видим — на площадь вступает пестрая, живописная процессия. Впрочем, «пестрая» — это слишком слабо сказано. Тут уж мы окончательно решили, что случайно попали в книжку сказок пятнадцатого столетия. Причем книжку замечательно иллюстрированную. С блестящими цветными, по-детски яркими картинками.
— Да говори же, в чем дело!
— Какие-то любезные люди пригласили нас к себе, на крышу углового четырехэтажного дома. Там было полно ребятишек, матерей с младенцами, старичков, рабочих и ремесленников. Все ели, пили из оплетенных соломой бутылок красное вино кианти и во весь голос переговаривались, как это обычно делают в Италии по любому поводу, будь то спектакль, несчастный случай на улице, футбольный матч или выборы папы.
— Да рассказывай же, что там происходило!
— Погоди! Теперь нам было хорошо видно все, что творилось на площади. На всех домах развевались гирлянды разноцветных флажков. Окна и балконы были украшены полотнищами материи, коврами и занавесями, преимущественно красного и желтого цвета. На площади колыхалась толпа людей с цветами. Вдруг все расступились, и въехал знаменосец в средневековом рыцарском одеянии, более красочный, чем знамя в его руках, — ведь славная сиенская бальцана всего лишь черно-белая. Нервная лошаденка, испуганная гомоном тысячной толпы, фыркала и танцевала на месте. А как только флейтисты, трубачи и барабанщики в средневековых костюмах грянули воинственный кавалерийский марш, она взвилась на дыбы. Вслед за знаменосцем ехал верхом главный судья в сопровождении пажей и глашатаев в шелковых костюмах и шляпах с перьями. Затем проследовали герои торжества: всадники — участники скачек, каждый с гербом одного из семнадцати районов города. Все они ехали на жеребцах, в костюмах средневековых жокеев — в облегающих ярких штанах и украшенных лентами фрачках, с перевязью цвета того района, который представляли на скачках. С копьем и кошелем за поясом. Перед каждым из них шли искусные жонглеры с флажками на коротких древках. Они подбрасывали флажки в воздух, сворачивали и разворачивали их, перебрасывались ими, наполняя всю площадь игрой красок. А вслед за всадниками двигались золоченая карета мэра города и городская гвардия стрелков в шлемах и латах, с алебардами и луками. Это было зрелище, Кнопка, которое можно увидеть, во-первых, только два раза в год: второго июля и шестнадцатого августа, и, во-вторых, только в Сиене.
— А когда вы там были?
— Второго июля. Когда кончилось шествие, всадники выстроились и по знаку, поданному мечом, поскакали. Где стояли жители того или иного городского района, можно было легко догадаться по тому, как они болели за своих наездников. Всадники трижды объехали площадь рысью. На поворотах центробежная сила часто выносила их из круга, и они задевали боком или ногами прикрытые соломой углы. Крыши, окна, улицы — все бурлило, ревело, топало. Шляпы взлетали в воздух, и, когда первым прискакал всадник с гербом, на котором был вышит единорог, разразилось нечто неописуемое. Разогретые солнцем, распаленные вином итальянцы начали обнимать нас от радости, что победил единорог. Такого случая не запомнят летописи, пожалуй, со времени первых скачек, происходивших чуть ли не в пятнадцатом столетии. Один веселый, захлебывавшийся от счастья итальянец на прекраснейшем тосканском наречии рассказывал мне, что недавно победительницей вышла молодая всадница — ее звали Виргинией, — которая у самого финиша на целую голову опередила всадника района Дракона. Я спросил его, когда было это «недавно», и он, не задумываясь, ответил, что в 1581 году.
— Хорошенькое «недавно»!
— Ну, у людей бывает разное представление о времени! Мы просидели на крыше с итальянскими товарищами, пока не допили вино, не отведали сыру «проволоне» с хлебом и не узнали, что в городе девятнадцать районов, но только десять из них участвуют в скачках, что перед состязаниями суеверные всадники в церкви своего района кропят святой водой себя и коней и что эти районы, или контраде, носят названия зверей, изображенных на их гербах.
— И как они называются? Какие звери у них на гербах?
— Лев, волчица, дельфин, сыч, гусь, слон, черепаха, орел, жираф, устрица, носорог, улитка, дракон, дикобраз, единорог, шелковичный червь, пантера, баран и — это тебе будет приятно, Мартин Давид, — святой Мартин на белом коне, разрезающий свой плащ чтобы поделиться им с мерзнущим бедняком. И вот мэр города Сиены вручил приз всаднику района Единорога — знамя. По-итальянски оно называется «palio» и потому все это празднество, процессия и скачки называются «Palio delle contrade». Состязания окончились, и жители Сиены, гости из окрестностей, родственники, съехавшиеся со всей округи, туристы, иностранцы и карманные воришки наводнили город. О том, чтобы достать место для ночлега, и думать было нечего.
— А где же вы спали? Прямо на улице?
— Нет, тут-то мы и узнали, что такое международная солидарность. Шли мы по улице и вдруг видим — знакомая белая табличка: «Partido communista italiana». Понимаешь?
— Коммунистическая партия Италии — КПИ.
— Владимир зашел туда и сказал, что коммунисты из Франции и Чехословакии просят итальянских товарищей устроить их куда-нибудь на ночлег. И опять все было словно в сказке. На сей раз — современной. Товарищи позвонили по телефону, и мы, как будто по мановению волшебной палочки, получили в соседнем отеле два номера. Товарищ товарища всегда выручит. И коммунисты всюду найдут друг друга. Так же как тот гондольер в Венеции, который, не знаю уж как, догадался, что мы коммунисты, и отказался принять у нас деньги, заявив, что коммунистов возит бесплатно. А как он пел! Лучше, чем в опере.
— Это был рыбак?
— Нет. С чего ты взял? Разве рыбаки поют? Он был… как тебе объяснить… водителем этакого водного такси. Венеция — средневековый город, построенный на море. Там нет улиц, вместо них — каналы. Вместо трамваев — катера, а вместо такси и автобусов — моторные лодки и гондолы. Гондолы — это покрытые черным лаком лодки-экипажи с узким, высоко поднятым, похожим на шею носом. Управляют такой лодкой одним веслом или шестом. У гондолы почти нет осадки, она скользит по волнам, поднятым проходящими мимо катерами. Все гондольеры поют, и город полон звуков, они отражаются от мутных вод каналов. Поющая Венеция! Пешком в Венеции далеко не уйдешь.
— Там совсем нет тротуаров?
— Почти нет. Кое-где есть каменные площади, но обычно вместо уличной мостовой — вода. Представь себе, что под нашими окнами протекает Лазарская улица и впадает в Спаленую. Если ты захочешь попасть на Масную улицу в гости к Мысликам, то отвяжешь у дверей дома гондолу, сядешь в нее и начнешь грести. Наша Чертовка, правда, немного напоминает Венецию, но в Праге у нас нельзя ничего похожего устроить, потому что Прага стоит не у моря и не на равнине. А в гору, как известно, вода не течет.
— Но с горы течет. На Нерудовой улице можно было бы устроить даже водопад!
Вот как порой заканчивались беседы отца с сыном. Но обычно мы снова возвращались к той же теме через час, через неделю, через две. Таким образом, каждую страну, которую я знаю, мы за лето посещали по нескольку раз.
В Италию мы попали в прошлом году из-за портрета. Тем летом вспыхнула буквально эпидемия; зараза, видимо, передавалась через молоко, возможно, ее переносили оводы, но все художники в Ржичках писали портреты своих жен. Это одна из супружеских обязанностей художников. Поговорив о Чехословакии, мы каким-то образом вспомнили о моне Лизе.
— Однажды, когда маэстро Леонардо да Винчи был уже стар, к нему в ателье пришел флорентийский богач Франческо дель Джокондо, у которого была молодая жена, неаполитанка. Когда они венчались, ей было всего шестнадцать лет. Нельзя сказать, что она была красива. Франческо дель Джокондо сначала несколько смущался, но после обычных учтивых фраз и поклонов обратился к Леонардо с просьбой написать портрет его молодой жены — моны Лизы. Возможно, при этом он невольно побряцал золотыми в кармане — ведь богатые люди считают, что за деньги можно все купить. Леонардо деньги не интересовали. Его привлекло лицо молодой женщины. Оно было, как я уже сказал, не то что красивое, но очень необычное. Леонардо принял заказ. На следующее же утро он взялся за работу. У моны Лизы, по тогдашней моде, брови были сбриты. Она ежедневно приходила в ателье Леонардо позировать. Сидела спокойно и подолгу. Художник не мог пожелать натурщицы, более покорной своей судьбе, чем мона Лиза.
Позировать кому-нибудь страшно скучно. Посидишь пять минут, и у тебя уже то там, то тут начинает болеть или чесаться. Ты нетерпеливо ерзаешь и чувствуешь непреодолимую потребность двигаться.
— Это я знаю. Я видел, как Лойза позировал дяде Фишареку.
— Мона Лиза терпеливо сидела в кресле. Но знаешь ли, когда слишком долго сидишь молча и сосредоточенно думаешь о том, что нельзя шевелиться, у тебя мысли останавливаются, деревенеют, каменеют, наконец ты просто перестаешь думать, застываешь и внутренне и внешне, и у тебя появляется какое-то птичье, тупое выражение лица.
— Как на фотографии?
— Как на фотографии. Правильно. Поэтому Леонардо в перерывах между сеансами играл моне Лизе на лютне и развлекал ее пением и танцами. Чтобы немного рассеять ее, он рассказывал анекдоты, загадывал ей загадки, придумывал игры, решал вместе с нею головоломки, ребусы и кроссворды. Но мона Лиза только чуть-чуть улыбалась. Едва-едва. Словно боялась, как бы ее улыбку не заметили. Леонардо, внимательно наблюдая за ней, заметил это странное выражение. Именно эту неуловимую, внутреннюю улыбку он запечатлел на портрете.
— Папа, а сколько стоило заказать портрет у Леонардо да Винчи?
— Точно не знаю. Но случайно известно, сколько стоил портрет моны Лизы. Когда Леонардо уже почти закончил свою работу и Джокондо собирался забрать портрет жены, вспыхнула война. В 1515 году французский король Франциск захватил Рим. Он пригласил знаменитого художника Леонардо да Винчи к своему двору. Леонардо принял приглашение. Французский король дал ему замок Шато де Клу около Амбуаза, на реке Луаре, вместе с окружавшими его виноградниками, лугами и даже стадами овец. Он назначил Леонардо придворным художником короля французского и купил у него все картины, которые Леонардо привез из Италии во Францию. Среди них был и портрет моны Лизы Джоконды. За эту картину, в сущности очень небольшую, французский король Франциск Первый заплатил Леонардо двенадцать тысяч франков в твердой валюте. Тогда это была масса денег.
— Сколько это в наших кронах?
— Этого я тебе не могу сказать. Но, правду говоря, Мартин Давид, французский король пригласил Леонардо в Париж не только потому, что тот был лучшим художником своего времени. Он сделал это по совершенно иной причине, не имеющей ничего общего с искусством и живописью. Дело в том, что Леонардо да Винчи был большим знатоком военного искусства — специалистом по постройке крепостей, катапульт, пушек, таранов и машин, напоминающих современные танки и бронированные поезда. А может быть, и потому, что Леонардо составлял для итальянских городов смелые планы перестройки системы водоснабжения.
— Как же у него еще оставалось время для живописи?
— Видишь ли, Мартин Давид, тогда не было ни Союза художников, ни Союза архитекторов, ни Союза композиторов, ни Союза писателей, так что Леонардо да Винчи не приходилось заседать в президиумах всех этих организаций, куда бы его наверняка избрали, если бы они существовали в то время. Он также не ходил на совещания, его не вводили в комиссии, он не боролся за честь попасть в руководство всех этих союзов, секций и комиссий, так что времени у него было намного больше, чем у твоего отца и его знакомых. И все-таки, к сожалению, после него осталось не так уж много картин и статуй. Просто поразительно, чем он только не занимался помимо того, что был художником и скульптором! Леонардо — великий ученый. Эпоха, в которую он жил и творил, называется эпохой Ренессанса, или Возрождения. Это было время, когда люди жадно стремились к науке и искусству, когда каждому хотелось овладеть всеми доступными знаниями. На заре этой великой прогрессивной эпохи и протекала жизнь Леонардо.
Хотя Леонардо учился живописи у Верроккьо,[40] но, ходатайствуя о постоянной должности при дворе миланского герцога Лодовика Сфорца, он предложил свои услуги в качестве певца и лютниста — мастера музыкальных инструментов. Он играл на собственноручно изготовленной серебряной лютне, имевшей форму лошадиной головы. Был он также поэтом, сказочником и автором нескольких книг по изобразительному искусству, архитектором, специалистом по постройке водных и оросительных сооружений, плотин и сплавных систем и создателем всевозможных машин. Изобрел паровую машину, подводную лодку и самолет. Прошло целых три столетия, пока удалось претворить в жизнь его идеи. Ведь этот бородатый ученый и художник умер в 1519 году еще далеко не старым — шестидесятисемилетним.
— Он, наверно, каждый год делал что-нибудь другое?
— Нет. Он, можно сказать, делал все одновременно. Но я далеко не все перечислил. Леонардо был также астрономом, физиком, механиком, химиком, оптиком, математиком, геологом, метеорологом, естествоиспытателем вообще, а к тому же еще анатомом и кардиологом.
— Я ничего не понимаю, папа, это сплошь иностранные слова!
— Это значит, что он знал законы и явления природы. Знал также строение человеческого тела.
— Как устроен скелет человека, такой, как в школе?
— Точно такой. Но Леонардо особенно интересовался сердцем. Сердце, Мартин Давид, — основной двигатель человеческого организма и в то же время центр его чувств. Это железнодорожный узел, откуда кровь расходится по всему телу. Сердце — приют любви и горя.
— Прага — сердце Европы, — провозгласил Мартин Давид в стиле путеводителей аэролиний.
— Да, это хорошее сравнение. Сердце всегда связано с искусством. Художник без сердца — плохой художник, вернее, он никогда не сможет стать художником.
— А кем еще был Леонардо да Винчи?
— Он был также человеком, который не отказывался от радостей жизни. Он любил вкусно поесть. Был замечательным поваром и известным гурманом. Он вообще следил за своим здоровьем. Был выдающимся легкоатлетом, так что в наше время держал бы первенство Италии по прыжкам в высоту и длину. Он до тех пор упражнял свою левую руку, пока она не стала равноценной правой. Левой рукой он мог так же хорошо рисовать, писать и работать, как и правой. Свои бесчисленные записи он вел левой рукой и к тому же справа налево.
— Как же это читать?
— Он именно для того так писал, чтобы непосвященные не могли прочесть. Его записи можно читать только в зеркале.
Этот способ мы должны были тут же, немедленно испробовать. С тех пор ребята в Ржичках пишут свои приказы и тайные послания только справа налево. Так проявилось влияние Ренессанса в Орлицких горах в середине двадцатого века.
СКАЗОЧНЫЙ СТАРИЧОК,
или
СВЕРЧОК
В Ржичках зима. Всего несколько дней назад после ужина мы еще ходили на лыжах. В свете полной луны блестел свежий, сухой снег. А сегодня течет с крыш, идет дождь и от стен тянет холодом. Когда выходишь в переднюю или в сени, холод набрасывается, как хищный зверь. Вот когда пригодились бы китайские стеганые брюки!
Это было той зимой, когда я вернулся из первой поездки в Китай. Кнопке было шесть с половиной лет, а Адаму — месяц. Мы, отец с сыном, отправились сюда на несколько дней и были целиком предоставлены друг другу. Я был переполнен впечатлениями и уже, наверно, всем надоел своими рассказами. Сын оказался благодарным слушателем, и мы оба были довольны.
Через щель под дверью метель задувала снег прямо в сени, ясени, клены и вишни стучали сухими ветвями по драночной крыше. В трубе завывала Мелюзина,[41] больше похожая на собаку, чем на фею, а в печке потрескивали сухие буковые поленья.
Мы вскипятили чай — китайский чай. Наступил вечер. Свет керосиновой лампы не проникал в углы комнаты, и было уютно. Как я мечтал об этом всего лишь месяц-два назад в Сэн-Шэнде, поеживаясь от мороза в пустыне Гоби, или перед отлетом на пекинском аэродроме!
— Папа, ты когда-нибудь видел Краконоша?[42]
— Нет, я всегда думал, что он не существует, и потому не встречался с ним. Увы, скептики лишают себя возможности бывать в обществе гномов, духов гор и лесных нимф. Ничего не поделаешь, Краконош не существует.
— Я знаю, что не существует, но я спрашиваю… а вдруг? А что, если бы ты увидел водяного?
— Я его не видел. Пока я был маленьким, я руководствовался правилом: не лезь в воду, пока не научишься плавать. Поэтому мне не удалось повстречаться с водяным. А потом, когда я кое-как научился плавать, то уже знал, что водяные не существуют.
— Но Гонзу-дурачка ты видел?
— Кого ты имеешь в виду? В твоих товарищах трудно разобраться.
— Нет, я говорю о Гонзе-дурачке из сказки, или о сказочной принцессе, или сказочном старичке.
— Сказочного старичка я видел.
Кнопка вскочил и завопил, как целая толпа восторженных болельщиков хоккея:
— Ура! Видел сказочного старичка! — Он явно поймал меня на слове. — А где?
— В Китае.
— То-то же!
— Что это за «то-то же»? Китай такая же страна, как Чехословакия. Ты знаешь, Кнопка, что от Пекина до Праги такое же расстояние, как от Праги до Пекина?
— Это понятно.
— Очевидно, нет, если ты ведешь себя так, будто нельзя встретить сказочного старичка где-нибудь в Карлине или Новом Страшеце. Ну, да мы с тобой как-нибудь найдем чешского сказочного старичка. Но пока я видел только одного, и именно в Китае.
— У него была волшебная палочка?
— Да. Он опирался на нее, когда вышел нам навстречу. Она была из сучковатого, корявого дерева, тонкая и высокая, выше, чем он сам, и покрытая светло-красным лаком. Собственно, это было что-то вроде посоха, как у пастухов или пустынников.
— А как же он этим посохом колдовал?
— Он опирался на него, стоя у себя в палисаднике, и указывал им, где его домик и его семья, показывал золотых рыбок в стеклянном шаре, бамбуковую клетку со сверчками, расписную миску с лягушками и куст бамбука с яркокрылыми пташками. Потом он показал посохом племяннице бумажку, валявшуюся во дворе, — видно, сказочный старичок этого не любил, — а нам — чтобы мы вошли в комнату. Там он указал — и мы без всяких разговоров послушались, — куда кому садиться. В комнате стояли кресла в белых чехлах и стол, покрытый белой скатертью. Фаянсовая ваза на столе была гораздо больше, чем ванночка Адама, а в ней — фрукты, как у нас в магазине на рождество в подарочных корзинах: яблоки, груши, виноград, бананы, ананасы…
— Я их видел в магазине только один раз…
— Я тоже. Ты прав. Беру свои слова обратно. Я предвосхитил наш хозяйственный план. Это будет только в следующей пятилетке. Сказочный старичок, откинув длинный, широкий рукав шелкового халата, брал одно яблоко за другим, выбирая самые лучшие, и протягивал своим гостям.
— А бананов и ананасов он вам, конечно, не дал!
— Не дал. Но, право, мне кажется, что он и сам больше всего любил яблоки. Он осматривал каждое яблоко, гладил его, смотрел на свет, а потом подавал так торжественно, словно награждал орденом.
— А как выглядел этот сказочный старичок? У него были длинные волосы и длинные усы?
— У него были очень редкие длинные волосы на голове, такие же усы и борода. Не знаю точно, сколько волос у него было, но они были белые и блестящие, словно серебряные нити, редкие и неподстриженные, потому что в Китае тем больше уважают человека, чем длиннее у него усы. Впрочем, он был самый старый во всем Пекине. Когда я его впервые увидел, ему исполнилось девяносто четыре года. В Китае люди, даже такие мальчики, как ты, относятся с большим уважением к старикам. Быть старым — большая честь, а назвать кого-нибудь стариком — значит оказать ему уважение. Например, улетая домой из Китая, мы считали себя еще совсем молодыми и думали, что еще бог весть какие приключения ожидают нас на земле, на воде и в воздухе. Но провожавшие нас на аэродроме длиннокосые девушки, протягивая букеты гладиолусов, обратились к нам со словами: «почтенный старец», «многоуважаемый старик» и «достопочтенная старушка». Сам понимаешь, что наша компания литераторов не пришла от этого в восторг. Но сказочный старичок был и впрямь стар. Он носил черную шелковую шапочку, два черных шелковых халата поверх белой рубашки с длинными рукавами. Когда-то рукава одежды у китайцев были по крайней мере на метр длиннее, чем нужно, и, желая пожать кому-нибудь руку, тремя ловкими движениями отбрасывали рукав так, что он сам ложился красивыми складками на запястье и предплечье. И действительно, сказочный старичок встал, отбросил рукава, улыбнулся своими двумя тысячами морщинок на добром лице, глаза его блеснули за толстыми стеклами очков; тут подошли его две племянницы, еще больше отогнули ему рукава и повели к столу. Сказочный старичок погладил желтоватой маленькой морщинистой рукой стол, посмотрел, всё ли на месте, и принялся колдовать.
— Так он был настоящим чародеем?
— Больше чем чародеем. Гораздо больше. Больше чем сказочным старичком. Это был настоящий старинный китайский народный художник, депутат, заместитель председателя Союза китайских художников, профессор Академии изобразительных искусств, резчик и живописец Ци Бай-ши.
— А как он колдовал?
— Он рисовал. Писал на шелковой бумаге кисточкой — сразу, не делая наброска, — рыб, раков и креветок с такой уверенностью, с какой может нарисовать, ну, скажем, краба только тот, кто его знает в совершенстве, — знает, я сказал бы, как свои пять пальцев. В течение пяти, десяти, пятнадцати минут возникала картина. Здесь были рыбы, плавающие в воде, хотя воды там не было и рыбы не двигались. Были креветки, которые шевелили усиками и быстро погружались на дно, где изо всех сил барахтался и никак не мог подняться перевернувшийся на спину краб. Но, конечно, никакого дна не было, а перевернувшийся краб был изображен тремя линиями и сохранял одно и то же положение. И ко всему еще ты видел, что это море — китайское, что на этом дне песок и раковины, хотя ни песок, ни раковины не были нарисованы. Вот в чем волшебство сказочного старичка. Когда видишь, как он рисует, то и вправду кажется, что он колдует. Его руки рождают действительность более реальную, чем самая реальная действительность. Некоторые говорят, что это колдовство. Мы называем это искусством.
— А долго этот старичок учился рисовать?
— Всю жизнь. Рисовать человек всегда учится, всю жизнь. Он начал, когда ему было столько лет, сколько тебе сейчас, и не перестает учиться до сих пор. В семь лет он уже рисовал замечательные картины. Но кто мог в домике бедного крестьянина интересоваться мальчишкой, который только и делал что рисовал? Его отдали в ученье к художнику в городе Сянтане провинции Хунань, но там он проучился всего полгода. Потом ему пришлось самому зарабатывать на жизнь. Он стал пастушком, затем резчиком. Только спустя много лет, уже будучи взрослым, он научился как следует читать и писать. И сразу стал писать стихи. И лишь в двадцать семь лет смог полностью посвятить себя живописи. Благодаря огромной наблюдательности и колоссальному трудолюбию он быстро занял ведущее место среди китайских художников. К пятидесяти годам Ци Бай-ши стал знаменитостью.
— Что такое наблюдательность, папа? Он выслеживал, как следопыт — зверя или как разведчик — движения вражеских войск?
— Нет, ему не надо ничего делать тайно, он не наблюдает за передвижением войск, но некоторое сходство с этим есть. Он просто должен наблюдать природу и все запоминать. Наблюдая какое-нибудь робкое животное, он, конечно, должен быть осторожен, чтобы не спугнуть его. Но, главное, ему надо смотреть и все помнить, чтобы, придя домой, верно изобразить то, что видел. А чтобы это суметь, он должен рисовать с утра до вечера, пока его рука не будет мастерски владеть кистью и он сможет действительно верно изображать все то, что видел. Ученик и друг старого мастера, художник Ли Чи-жан, который заботится о Ци Бай-ши, ухаживает за ним и часто живет в его доме, рассказывал нам, что за все свои девяносто четыре года Ци Бай-ши только дважды, каждый раз на десять дней, прерывал рисование. В первый раз — во время тяжелой болезни, а во второй — когда умерла его мать. До сорокалетнего возраста он вырисовывал каждое перышко на головке колибри, а после сорока лет, когда уже многому, очень многому научился, начал рисовать свободнее. Только самое необходимое. Только типичное. И тогда он стал великим творцом.
— А что он рисовал?
— Только то, что знал. Знал в совершенстве. Он просиживал целыми часами у реки, на лугу, во фруктовом саду, во дворе и наблюдал предмет, который решил рисовать. И, только изучив его, поворачивался и шел рисовать. Пусть это была только веточка жасмина или лягушка.
— Ну, я это могу в момент!
— Да, но никто не скажет, что твой рисунок всем понятен и что нарисованное тобой красиво!
— Мне достаточно минуту посмотреть на жасмин — и раз! раз! — и готово!
— Вот это-то и неправильно, Кнопка. Послушай, что рассказывают об одном китайском художнике и одном китайском императоре. Между прочим, это был мудрый император, который любил природу и людей. К сожалению, природу больше, чем людей, но это, в общем, к делу не относится. Как-то император шел по берегу озера, полузаросшего цветущими водяными лилиями, и вдруг увидел над водой трепещущую стрекозу с серебряными крылышками и медно-зеленым тельцем. Она то неподвижно висела в воздухе, как вертолет, то быстро неслась вперед, как истребитель, то снова плавно, как планер, опускалась на цветок на поверхности воды. Император, очарованный стрекозой, приказал позвать в императорскую резиденцию — Запретный город — лучшего художника страны. Китайские императоры жили в центре Пекина, окруженном высокими стенами и наполненными водой рвами; простым смертным вход туда был запрещен. Вот почему эта часть города называлась Запретной. Художника привели. Император сидел на резном троне. Он был в войлочных ботинках на войлочной подметке в четыре пальца толщиной, чтобы казаться выше всех и чтобы пол, под которым было проведено отопление, не обжигал ему ноги. На нем была желтая одежда из шелка и меха. В Китае один только император имел право носить желтую одежду. Художник поклонился, и император сказал ему: «Нарисуй мне стрекозу!» Художник снова поклонился и ответил: «Я пойду изучать жизнь стрекоз, а потом ее нарисую. А пока я работаю, ты плати мне такое же жалованье, как верховному судье». Император согласился, и художник ушел. Через год император послал камергера узнать, что с ним. Художника нашли на берегу озера. Он лежал на боку и смотрел на рой стрекоз над водяными лилиями. Его спросили, когда будет готова картина. «Я не начинал ее, — ответил художник, — потому что еще недостаточно точно знаю, как выглядят и как живут стрекозы». Прошел год, и такой же разговор снова повторился. Затем разразилась война, в страну вторглись конные орды монголов, и император с придворными забыли о художнике. Только императорская казна — ведь это государственное учреждение, а учреждение не мыслит — продолжала ежемесячно выплачивать ему жалованье верховного судьи. Наконец заключили мир.
Сидит как-то престарелый император на троне — было это вскоре после нового года — и пьет ароматный чай. Тут привратник доложил о приходе художника. Император посчитал по пальцам, сколько лет назад он заказал картину и сколько серебра выплатила художнику казна. Он рассвирепел и встретил художника суровым возгласом: «Где картина, лодырь? Что ты делал все эти годы?» — «Наблюдал жизнь стрекоз, ваше величество, а вчера я эту картину нарисовал, ибо мне показалось, что я уже знаю, как выглядит стрекоза. Посудите сами, не ошибся ли я». И художник показал императору картинку с конверт величиной, на которой тонкой кисточкой на тонком шелку была нарисована стрекоза над камышом. Император хотел швырнуть картинку в угол, но, мельком взглянув на нее, поразился и стал внимательно рассматривать картину. Подошел с нею к свету. Приблизил ее к глазам и потрогал пальцем очертания стрекозы. Гладил усы, бороду и покашливал. Потом уселся на трон и сказал так громко, чтобы все придворные — дворяне и генералы, камергеры и ученые — слышали его слова: «Ты хорошо нарисовал стрекозу, художник. Нельзя было быстрее изучить ее жизнь. Ты изучил ее в совершенстве и создал совершенное произведение». Вот видишь, никогда не рисуй «раз! раз! — и готово» то, чего не знаешь. Только как следует изучив то, что ты хочешь изобразить, ты сможешь быстро создать хорошую картину.
— Папа, а ты видел эту картину?
— Я видел много картин в пекинском Гу Гуне. Это китайская Национальная галерея. Там много рисунков с изображением стрекоз. Возможно, какой-нибудь из них и был тот, о котором я тебе рассказал. Все они прекрасны. Один прекраснее другого. И на всех запечатлены китайская природа и жизнь китайского народа. И в этом совершенстве столько поэзии, что кажется, будто бы читаешь стихи, хотя перед тобой лишь прекрасно написанный рисунок.
— Рисунки не пишут. Их рисуют.
— Китайские художники пишут так, будто рисуют, и рисуют так, будто пишут. Между китайским письмом и рисунком нет большой разницы.
— А ты умеешь их читать?
— Письмо нет, а рисунки умею.
— Я тоже. А чего в Китае больше всего?
— В Китае почти всего больше всего на свете, потому что китайский народ самый многочисленный в мире. В Китайской Народной Республике свыше шестисот миллионов жителей. Представь себе, сколько это ботинок, сколько шляп, сколько посуды, мебели, сколько картин… и сколько детей! Детей там больше всего!
— Больше, чем взрослых?
— Пожалуй, не больше, но их всюду так много, что кажется, будто огромная армия детей захватила город или деревню. В одной китайской деревне у меня завязалась очень близкая дружба с китайским мальчиком. У него были черные волосы, черные глаза и прорешка в штанишках. Знаешь, для чего?
Кнопка снисходительно улыбнулся.
— Звали его Ню Юн-чу. Мы называли его Пепичек. Деревня называлась Чуань-го-чуан. Ее жители пригласили нас в беседку, находившуюся во дворе местного национального комитета, и Пепичек держался за штаны своей маменьки. В Китае мамы ходят в штанах. И мужчины и женщины одеты в одинаковые синие костюмы с длинными штанами, летом — из хлопчатобумажной материи, а зимой — стеганные на вате. И штаны у них подбиты ватой из хлопка.
— Ну, и что же Пепичек?
— Пепичек вдруг набрался решимости и как раз в тот момент, когда вожатый местных пионеров Лин Шу-дэ приветствовал гостей из Чехословакии, направился через всю беседку прямо ко мне. Взобрался ко мне на колени и говорит: «Ни хао».[43] И начал мне что-то рассказывать. До нашего отъезда из деревни он от меня так и не отходил. Все мне показывал, повсюду меня водил и очень всем гордился. Это, мол, наш трактор, а вот — наша школа, тут — наш кабанчик и наш овин, там — наши камни и наше шоссе, эта грязь наша. Он считал необходимым на все обратить мое внимание. Этот маленький, трехлетний мальчик был уже патриотом, китайцем, гордым своим новым Китаем. Его отец сражался в Корее. Получил орден. Вот уже целый год он боролся далеко от дома за будущее своего сына. Пепичек гордился общим делом, но была у него и своя собственная радость. Только когда мы пришли в его дом, он показал мне самое главное. Приставил камень к стулу, вскарабкался на стул, со стула — на стол, снял с гвоздика над столом старую жестяную консервную коробку, прикрытую марлей, и с горящими от счастья глазами сказал: «Это мой сверчок!»
— Их там разводят для еды?
— Нет. Сверчка заводят для того, чтобы он стрекотал и человек не чувствовал себя одиноким, когда остается один. Сверчок есть почти в каждой семье, и у меня в Китае был. Я купил его в Нанкине у уличного продавца сверчков и черепах. Приобрел для него резную клеточку из тыквы и носил его повсюду с собой в кармане. Ночью, пока было темно, он молчал, а как только рассветало, начинал стрекотать, причем он был точнее будильника.
Однажды, это было на самом востоке Китая, в Дальяне, или Дальнем, наши музыканты, певцы, актеры и актрисы давали концерт. Зал был полон, и при пианиссимо какого-то произведения Дворжака царила благоговейная тишина. Вдруг — не знаю, что ему взбрело в голову, — сверчок застрекотал у меня в кармане. Его никак нельзя было унять. Стрекотал, стрекотал и умолк только с последним аккордом пианиста. В антракте он вел себя совершенно спокойно.
— А почему ты не привез его?
— Он умер в Пекине. Не знаю почему, может быть, объелся, а может, замерз или погиб от тоски по родному Нанкину, не знаю. Мне его очень не хватало. Китай такая огромная страна, что человек чувствует себя там затерянным. Огромное количество народа так действует на тебя, что ты уже не можешь быть в одиночестве. Китайцы невероятно скромны, дружелюбны, умны и ненавязчивы. Такие качества у нас не часто встречаются. К тебе это относится в первую очередь. Но быть скромным не значит быть лишенным чувства собственного достоинства. Наоборот, скромность — выражение уверенности в себе. Китайцы не выскочки, не чванятся, никогда не говорят о себе, не высказывают безапелляционных суждений. Они говорят: «Я полагаю, что это так», или «возможно», или «вероятно», а то «по-видимому». Учитель говорит ученику, что тот знает недостаточно, тогда как у нас сказали бы, что ученик ничего не знает. Если кто-нибудь лыс, как колено, китайцы говорят, что у него мало волос. Если кто-нибудь туп, как пень, китайцы сказали бы, что ему в голову редко приходят хорошие мысли. Китаец не хочет никого обидеть, не задевает ничьих чувств. Китайцы никогда не ведут агрессивных войн и для защиты своей страны возвели вокруг нее когда-то огромную стену.
— Это что-то вроде границы? Забор вокруг страны?
— Хорош забор! Это зубчатая каменная стена. Через каждые сто метров — сторожевая башня. Высота стены двенадцать метров, а ширина такая, что по ней свободно может проехать повозка. Ее длина три тысячи километров: от Ганьсу до Хэбэя. Стена идет по гребням гор, пересекает склоны холмов. Поэтому она спускается иногда так круто, что образует лестницу, иногда вьется по волнистой местности, как белый змей. Я несколько раз видел Великую китайскую стену с самолета и четырежды забирался на нее. Это одно из чудес света. Представь себе, Кнопка, что ее начали строить китайские императоры около двухсотого года до нашей эры.
— А теперь, шарахни по ней одна батарея, она рассыплется, как песок.
— Но в те времена она была для неприятеля непреодолимой преградой. И все-таки однажды монгольская конница прорвалась через нее. Постройка такой гигантской стены стоила моря крови и пота китайским рабам, им приходилось втаскивать на горы плиты весом в несколько тонн. Белые камни на зеленые горы. Рабы падали от усталости, умирали от изнурения. Ужасы, связанные с постройкой этой стены, навсегда запечатлелись в памяти китайского народа, о ней сложены легенды, песни, стихи. Есть предание, что у одной девушки при постройке Великой китайской стены погиб жених. О нем не было ни слуху ни духу. Никто не знал, где он работал, Невеста надела белые траурные одежды — в Китае в знак траура носят не черное, как у нас, а белое, — она ходила по широкой стене и звала своего жениха. Но ночь безмолвствовала, и из тьмы никто не отзывался. В смятении и отчаянии она упала у стены на колени, обливая камни горячими слезами. Плакала она тридцать дней и тридцать ночей, пока ее слезы не размыли землю, и тогда она увидела останки своего жениха. Его придавило камнем, а друзья, ничего не подозревая, замуровали его тело. В этом месте, гласит легенда, неприятель не может прорваться и тут же падает мертвым. У китайцев, так же как у нас, есть свои сказки.
— И они им тоже не верят, правда?
— Мартин Давид, не спеши раньше времени терять веру в сказки. Дело, собственно, не в том, чтобы верить или не верить сказкам. Их надо любить и чувствовать их красоту. Китайцы ее чувствуют, и народные сказители на рынках у Белой пагоды или против Храма неба[44] умеют замечательно рассказывать сказки. Пожалуй, даже лучше, чем наши бабушки. А вокруг сказителей на бревнах, на камнях, просто на земле, поджав под себя ноги или на корточках, сидят слушатели, грамотные и неграмотные, и слушают как завороженные. Китайцы одарены богатым воображением, фантазией. Ведь ты знаешь, это они изобрели бумагу, компас, шелк, порох, книгопечатание и многое другое. Китайская культура — одна из древнейших в мире, она какая-то сказочная. И теперь древнейшая страна стала самой молодой.
Досталось ей это нелегко. Если ты когда-нибудь приедешь в Китай, то встретишь там героев с орденами и шрамами, тех, кто проделал Великий поход Красной армии. Все они будут рассказывать лишь о том, как отличились другие. Никто не будет говорить о своих подвигах. Для этого они слишком скромны, а скромный человек не говорит о себе.
И все-таки Длинный, или Великий, поход — Чан Чэн — был величайшей экспедицией в неизведанные, непроходимые края, и шла не горсточка опытных путешественников, а стотысячная революционная армия.
Поход продолжался триста шестьдесят восемь дней. Он начался в октябре 1934 года, когда Красная армия, окруженная войсками контрреволюционеров, прорвав фронт, выступила на север. Было пройдено девять тысяч километров. Красная армия преодолевала горы и реки. Горы — свыше пяти тысяч метров высоты, а среди рек такие, как Хуанхэ — величайшая река Китая, Янцзы и самая бурная — Дадухэ.
Когда китайская Красная армия достигла провинции Гуйчжоу, генерал Чан Кай-ши, чтобы остановить ее у Янцзы, поставил заставы у бродов, конфисковал суда на всем южном берегу этой огромной реки, длиною пять тысяч километров, пересекающей весь Китай, и приказал разрушить все мосты, кроме одного. И это его погубило. Сейчас узнаешь почему. Красная армия, чтобы отвлечь внимание врага, маневрировала то здесь, то там, одна из ее частей даже отступила обратно в Юньнань, к городу Фу. Этот город защищал жестокий реакционный генерал, носивший красивое имя Облако Дракона. Как только красные войска подошли к стенам города Фу, Чан Кай-ши получил сообщение, что другие части красных возводят мост через Янцзы там, где он этого менее всего мог ожидать и потому не построил никаких укреплений. В этом месте, у города Ленчай, Янцзы очень бурная — ее сжимает горное ущелье. Народная легенда гласит, что здесь никто не отваживался переправиться через глубокую несудоходную реку. Между тем ночью группа солдат, оставив саперов достраивать мост, за две ночи и один день преодолев расстояние в сто тридцать километров, неожиданно напала на крепость Джоупин и почти без единого выстрела взяла в плен ее гарнизон. Там красноармейцы переоделись в форму пленных чанкайшистов и вызвали с противоположного берега судно. Большая барка перевезла их на другой берег. Переодетые красноармейцы проникли в лагерь, в штаб и, что самое главное, с винтовками в руках ворвались в караульное помещение и заставили сдаться стражу, охранявшую перевоз. Затем они перегнали на южный берег все барки. Так армия переправилась через реку.
«Янцзы они одолели, но Дадухэ им не перейти», — грозил Чан Кай-ши и сосредоточил там большие силы.
Красная армия шла от Янцзы по территории народа лоло, ненавидевшего китайцев. Чан Кай-ши был уверен, что лоло не пропустят Красную армию. Но сам понимаешь, революционная армия не такая, как те армии, с которыми Чан Кай-ши приходилось иметь дело. Генерал китайской Красной армии Бэй сэн поехал в главный город лоло, созвал вождей и на их языке — по-лолски — рассказал о том, что Красная армия хочет освободить Китай от эксплуататоров и дать всем народам свободу. Лоло потребовали оружие. Генерал приказал его выдать. Это было доказательством истинной дружбы, а кроме того, и мужества. Так мог поступить только друг их народа, рассудили лоло, и разрешили Красной армии пройти через их страну. Кроме того, они сделали ей подарки, снабдили продовольствием и много сот добровольцев лоло присоединилось к Красной армии. В мае они дошли до Аньчэньчана, на южном берегу реки Даду, и заняли город как раз в тот момент, когда там гостила жена контрреволюционного генерала.
Но не в ней дело. Важнее было то, что она прибыла туда на судне, и это судно захватила Красная армия. Из каждого полка вызвались добровольцы, и судно отправилось по Да-духэ прямо на вражеское пулеметное гнездо. Несмотря на большие потери среди команды, судно переплыло реку. Отважные добровольцы, добравшись до берега, вскарабкались по отвесной скале, перенесли туда пулемет и внезапно очутились над пулеметным гнездом врага. Они выбили оттуда чанкайшистов.
Захваченные суда подвели к южному берегу. Их было всего-навсего шесть. Каждое могло вместить лишь восемьдесят солдат. Переправа через бурлящую реку продолжалась свыше двух часов. Я знаю одного китайского художника — Фу Бао-ши, он живет в Нанкине, — нарисовавшего переправу через Да-духэ. Это, пожалуй, лучшая китайская батальная картина. К тому же вздувшиеся от весеннего половодья ручьи подняли уровень воды, и это еще больше замедлило переправу. Тогда в Аньчэньчан приехали Мао Цзэ-дун, Чжу Дэ и генерал Пын Дэ-хуай. Они решились на отважный поступок. Пока шла затянувшаяся переправа, часть армии направилась форсированным маршем к единственному мосту, не уничтоженному неприятелем. Мост находился в двухстах километрах. Красноармейцы двигались гуськом по скалистому южному берегу. Неприятельские посты, расставленные на северном берегу, начали преследовать их. Пришлось прибавить шагу, а потом и побежать. Красноармейцы все-таки опередили неприятеля. Они достигли моста. Часть мостового перекрытия была взорвана, и от висячего моста остались лишь железные тросы. На одном из быков моста на северном берегу находилось пулеметное гнездо, державшее мост под обстрелом. Когда к мосту прибыли первые части, было уже поздно взрывать его. Тридцать добровольцев Красной армии решились, пожалуй, на один из самых отважных поступков в этой войне. Под пулеметным огнем, прикрываемые лишь железной конструкцией моста, они бежали, пока это было возможно. Потом, повиснув на руках, с гранатами в зубах стали пробираться по раскачивавшимся железным тросам над бурлящей внизу рекой. Руки красноармейцев кровоточили. Неприятельские стрелки сбивали их одного за другим, беспрерывно трещал пулемет, и пули расплющивались о железные тросы. Вот первый доброволец у цели. Сорвал с гранаты предохранитель, и… бах! — пулеметное гнездо взлетело на воздух. Приблизился второй, третий. Гранаты разрывались одна за другой, и вскоре неприятель обратился в бегство. Мост в ту же ночь отремонтировали, и армия переправилась через реку.
За Дадухэ горы одна выше другой. Они покрыты вечным снегом. Та, через которую переваливала Красная армия, достигает пяти тысяч метров. Такой высокой горы нет не только в Чехословакии, но и во всей Европе. Семь горных цепей преодолела Красная армия во время Великого похода на север от Дадухэ. Ее путь отмечен могилами китайских солдат, пришедших с юга и никогда не видевших снега, не знавших мороза. Они не выдержали северного климата. Двадцатого июля 1935 года Красная армия перевалила через хребет Маоэркай. В Сычуани, на уже освобожденной территории, она объединилась с 4-й Красной армией. Но этим Великий поход не закончился. Необходимо было идти на север. Сначала через лесистые горные области Маньчжурии, а потом по негостеприимной степи, пустынной и невозделанной. Красноармейцам нечего было есть. Не было дров для костра и воды для утоления жажды. На границе Ганьсу Красную армию, обессиленную походом, ожидали новые, наскоро мобилизованные чанкайшистские войска. Разыгралась жестокая битва.
— И наши выиграли!
— Ты правильно говоришь «наши». Выиграла китайская Красная армия — рассеяла неприятельскую конницу и прорвала блокаду. Двадцатого октября 1935 года армия достигла провинции Шаньси и там соединилась с остальными частями Красной армии. Здесь был дан решительный бой. Так решили Мао Цзэ-дун, Чжу Дэ и Чжоу Энь-лай. Отсюда, имея за спиной огромные просторы Советского Союза, Красная армия перешла в наступление, которое закончилось ее победой. Все это похоже на сказку, только правдивую, современную и очень китайскую. А конец сказки? Обычная фраза: «Так благодаря героям, которые принесли невероятные жертвы и проявили сверхчеловеческое мужество, древнейшая страна стала самой молодой».
— И ты все время говоришь о ней!
— Говорю. А почему бы и нет? Я влюблен в Китай. Там все древнее и в то же время новое. Кнопка, если бы ты видел, как празднуют Первое мая в Китае! Художественно оформленная демонстрация полумиллиона людей! Конечно, это демонстрация трудящихся, но в то же время это демонстрация красок, демонстрация цветов. Во главе процессии несут китайский государственный флаг, а в шеренгах — множество красных знамен предприятий и рабочих организаций. И наряду с этими боевыми знаменами китайского рабочего класса — флаги всех цветов радуги. Их сотни. Сомкнутый отряд знаменосцев с голубыми флагами идет сразу за отрядом с бледно-зелеными флагами, а вслед за ними — отряд с бледно-розовыми. Идут студентки с ветками цветущих вишен, а за ними — девушки из ремесленных школ с веерами из банановых листьев. Процессия колышется, одна картина сменяет другую, и каждую минуту что-нибудь прерывает плавное движение. Вот работники Министерства связи выпустили сотни белых голубей с разноцветными бантиками на ножках. Голуби, сделав несколько кругов, сверкнули, как белая корона мира, над башней Тяньанмэн и уселись под ее крышей или на выступах крыш соседних домов. А вот взнеслись к голубому небу тысячи воздушных шаров всех цветов. Словно разноцветная туча повисла над городом, а запоздавшие шары, сопровождаемые громкими возгласами толпы, догоняют ее.
Затем идут барабанщики — шестнадцать тысяч барабанщиков, таких же мальчишек, как ты. Все пионеры. И как они маршируют! А за ними — кондукторы, рикши, ламы,[45] монахини, металлурги, горняки, государственные служащие, частные предприниматели и ремесленники. И, когда прошли последние сомкнутые шеренги, на площадь перед башней повалила стотысячная толпа, и во главе ее — дети. Дети везде первые. Везде, где происходит что-нибудь новое, дети появляются за минуту до начала. Детям несвойственны нерешительность или робость взрослых, они жадно набрасываются на все новое. Их не смущает, что в Китае в течение пяти тысяч лет делалось так, а не иначе, а теперь вдруг — бац! — как раз наоборот или совсем по-другому. Понимаешь?
— Дети не знают того, что было. Они знают только то, что есть.
— И потому дети являются проводниками новых идей. Я не знаю, какие в Китае существуют детские организации — уличные, дворовые или какие-нибудь другие, хотя я довольно близко сталкивался там с детьми, — но факт, что стоит появиться на перекрестке книгоноше с повозочкой и разложить книжки с картинками и сказками, как тут же собираются дети со всей округи, берут книги, показывают их друг другу, читают вместе или поодиночке, кто как. Милые, пухленькие, краснощекие, они сидят на корточках на земле, на бочках, заборах, парапетах и с увлечением читают. Разумеется, к радости проходящих мимо писателей. Таким читателям, которые слюнявят пальчики, загибают углы страниц, дерутся за право первыми прочесть замусоленную книжонку из уличной детской библиотеки, которые не покупают ни фруктов, ни конфет, но за невообразимо низкую плату, примерно за один чехословацкий геллер, берут на время книжку, полную мечты, красок, приключений, — таким читателям цены нет. Они самые благодарные и самые добросовестные читатели. Там, в Китае, у каждого писателя появляется желание писать для детей.
— И ты решил написать для меня книжку о Китае?
— Нет, Кнопка. Во-первых, не только о Китае, а во-вторых, не только для тебя. Написать обо всем, что я видел на свете, и для всех детей, которые сумеют прочитать и понять эту книгу. Чтобы дети узнали, что все страны в мире прекрасны, но родная — прекраснее всех. Чтобы они знали, что во всем мире есть дети, с которыми они могли бы играть. Чтобы они знали, что мы не одни на свете, что не надо отгораживаться от мира. Пусть у нашей страны нет моря, но у нашей фантазии есть крылья.
ВСЮДУ ХОРОШО,
или
ДОМА ЛУЧШЕ
Однажды мы были на туристской базе на Шерлихе — вершине над Дештной. Мы ехали туда красивой узкой зеленой долиной Здобницы, а домой возвращались через Скугров, вольницу, Рыхнов над Кнежной, Яворницы и Печин. Этот живописный край тесно связан с историей чешской живописи. В Орлице Рыбной жил Антонин Славичек, а сейчас тут рисует его сын Ян. Яворницы — родина художника Войтеха Седлачека, Слатин — Милослава Голого, в Печине работал Ян Трампота, а о Ржичках и говорить нечего — художников и музыкантов здесь не счесть. Это очаровательнейший уголок чешской земли, и потому здесь так хорошо живется художникам.
На Шерлихе светило солнце, отсюда открывался широкий вид на Чехию и Польшу. Мартин Давид сел на пограничный столбик, а когда пограничники отвернулись, сделал несколько шагов по склону горы и сорвал там пучок травы. Он торжествующе вернулся из своей опасной «экспедиции» со словами:
— Папа, я был в Польше!
Очевидно, чужие страны влекут и старых и малых. Ничего не поделаешь.
Мы несколько растерянно сидели на лысой вершине: она была целью нашей прогулки, а когда человек достигает цели, то часто не знает, что ему после этого делать. Обычно разворачивают пакеты с закуской и ждут, когда можно будет отправиться обратно. Но мы свои припасы съели еще по пути сюда. И теперь нам оставалось только сидеть и любоваться открывавшимся видом.
Мы долго смотрели на волнистую линию лесов, на горы, которые поднимаются все выше и выше до самого Кралицкого Снежника, смотрели вдаль, туда, где сочная зелень лугов переходит в синеватый туман равнины.
И кажется, что плодородная земля трудолюбивого чешского народа, защищенная горной цепью, чувствует себя здесь в безопасности — дома, под солнышком.
Мы нашли на карте все горы, одну за другой. Шерлих — 1010 метров, Марушин камень — 1039 метров, Янова Купа — 1042 метра, Заколдованная — 981 метр, Комар — 995 метров, Страж — 946 метров, Арноштка — 999 метров, вдали Сухий Врх с Брадлом — 981 метр и Черная гора — 994 метра. Кнопка считает, что гора начинается с тысячи метров. Ему всегда жаль тех гор, у которых не хватает всего нескольких — пяти или шести — метров для того, чтобы стать взрослой горой. Они не доросли до воинской нормы.
И тогда мы составили план больших работ. Ведь человек — могучий хозяин лесов. Он может изменить мир, природу и даже карты. Мы решили мобилизовать всех мальчишек в Ржичках, всех наших знакомых и устроить массовую экспедицию на Арноштку, причем каждый повезет тачку земли. И Адам понесет ведерко песка. Мы насыплем все это на вершину Арноштки и затем напишем в Государственный картографический институт, чтобы они пришли перемерить ее, так как она выросла и стала взрослой, настоящей горой — в ней уже больше тысячи метров. То-то ученые будут удивляться и покачивать головой!
Местность здесь красивая. Ее можно было бы назвать краем туризма, но Кнопке больше нравится название «край приключений». Здесь все словно создано специально для мальчишек. Нет, правда, гигантских масштабов Татр, но в долинах вас подстерегает одна неожиданность за другой. Реки, ручьи, шлюзы, луга и пасеки, склоны, заросшие малиной, ежевикой и черникой, леса, в которых слышится топот оленей, облака, в которых парят ястребы, кобчики и мышеловы, и… замки. Замки и руины. Это что-нибудь да значит! Какой простор для фантазии!
А сколько здесь замков! Всех, наверно, даже учительница не знает. Мартин Давид начал перечислять замок за замком те, в которых был и где не был:
— Литице, Потштейн, Велешов, Скугров, Липерк, Черниковице, Радостовице, Жампах, Ланшперк, Быстрщец, Клечков, Скалка, Ледце, Крагулец, Очелице, Младков, Фримбурк…
— …Доудлебы…
— Это не укрепленный замок, а простой. У него другой значок на карте. Тогда можно назвать еще Рокитнице, Жамберк, Рихнов, Тршебешов, Частоловице, Костелец, Кишперк, Опочно, Добрушку, Нове Место над Метуей, да еще штук десять я наверняка пропустил.
Я выдам вам секрет: ни в одном из них мы не были, но у нас есть карта Орлицких гор: она прикреплена к дверям уборной — это наблюдательный пункт, — там мы усердно изучаем наш край. Это такая многообещающая карта!
Сюда, в этот уголок чешской земли, я обычно возвращаюсь из далеких путешествий. В наш домик, к своим двум мальчикам. Я не родился здесь и не приписан к местной общине, но нам всем здесь хорошо.
В лесу растут стройные деревья. Растут дружно. Одно подле другого. Бор шелестит, шумит. Чаща гудит и воет. Но фальшивой ноты не услышишь. Это не болтливые рощи, не сплетничающие парки, не влюбленные фруктовые сады. Это пограничные леса. Они пережили свою и нашу историю. Умеют молчать. В своей чаще они таят нетронутые лужайки и здороваются только с облаками. Но никогда здесь не расцветают ложь или лесть. Если прохожий ищет тени, деревья не спрашивают, кем был его отец, где он был во вторник в полдень и какие книги читал. Они раскидывают свою крону и осеняют усталого путника свежей тенью. И, когда путник выходит из леса, перед ним вдруг открывается весь мир.
Это край полей и рудников, хижин и домен, городов и деревень, край, оплетенный сетью шоссейных и железных дорог. Чудится, что он весь растет и зреет. Вот солнце раздвинуло тучи и осыпало долину золотой пылью света. Скрипнули оси повозки.
Крестьянин, заслонив рукой глаза, обратился ко мне:
— Благодать! Хорошо у нас, а?
— Знаешь, Мартин Давид, в каждой стране, сколько их есть на свете, может быть, сейчас кто-нибудь тоже прервал работу и подумал, что его родина, с ее лесами, морем и солнцем, — лучшая в мире.
Индеец, прорубающий себе мачете[46] путь сквозь влажные джунгли, полные опасностей, пресмыкающихся, хищников, цветов, криков и таинственной тишины, вдруг останавливается, широко раскинув руки от счастья. Сам не зная почему. Ему хорошо. Ему знаком здесь каждый шелест. Он — дома. Он ускоряет шаг и бежит к селению, где жена печет лепешки и в луже играют его дети.
Или китаец, который плывет по притихшей реке в своем сампане, груженном зелеными бананами или серебряной рыбой. Сампан не отбрасывает тени на мутную воду, ведь солнце в зените. Взглянув вверх по течению на конусы гор и зеленеющий берег, где, словно паучки, до самой отмели расползлись домики, он невольно улыбается. Ничего не говорит, но знает, почему он плывет именно здесь. Знает, почему плавал здесь его прадед и прапрапрадед его прапрадеда. Вот уже пять тысяч лет здесь его дом.
— А когда ты был в тех странах, тебе там было плохо?
— Нет. Мне там нравилось. Я старался вжиться в их быт, ощутить тепло и аромат этих стран. Но моя родина иная. Всегда иная. Я люблю весь мир, но это возможно, только если ты где-нибудь по-настоящему дома. Те, у кого нет родины, блуждают по миру без друзей, и им везде плохо. Их все время что-нибудь гонит с места на место. Они не понимают, что это зов родины.
— И у них нигде нет друзей, — как своеобразное эхо, повторил Мартин Давид поразившие его слова.
— Ты бы нашел их. Если бы ты был со мной, ты бы всюду нашел друзей. В России и Америке, во Франции и в Египте, в Индии и Аргентине, в Китае и Испании, потому что везде есть такие же ребята, как ты, не лучше и не хуже тебя. Они везде и всегда во что-нибудь играют, и тебе не трудно было бы включиться в игру. Везде хорошо, Мартин Давид, но в эту тайну проникают не сразу. Только люди, которые живут и работают в своей стране, знают, как у них хорошо.
— Но и у нас бывает тощища.
— Да, если ты поссорился со своим лучшим другом, или тебя отчитают за испачканную черникой скатерть, или разобьешь коленку, потеряешь две кроны, которые скопил на кино, если ты радовался предстоящему купанию, а пошел дождь и ты считаешь, что этого бы не случилось, будь ты в Судане, на Ориноко или в Китае. Но потом тебе необычайно повезет — удастся прыжок в высоту, или поймаешь большую рыбу, чем Лойза, найдешь гриб величиной с мамину шляпу, и тогда тебе покажется, что, несмотря на все неудачи, здесь, пожалуй, не так уж плохо. А спустя много времени, когда ты вспомнишь, как потерял две кроны, приготовленные для кино, как поссорился со своим лучшим другом, как тебе попало за скатерть, как ты разбил коленку и как радовался предстоящему купанию, но начался дождь и лил, лил, лил — это часто бывает в Ржичках, — ты скажешь, что именно потому здесь так хорошо.
Отец и сын умолкли. Наступила тишина.
Тишина, располагающая к окончанию книги.
— Очень трудно написать так, чтобы ты и твои товарищи поверили мне, что везде хорошо. А еще труднее написать так, чтобы вы сами поняли, что дома лучше. Если мне это удалось, то я свою задачу выполнил.
— А если тебе кто-нибудь не поверит?
— Тогда я скажу ему: кто не верит — пусть проверит.