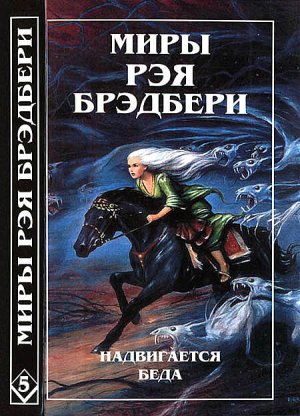
Миры Рэя Брэдбери
Том пятый
Надвигается беда
С Благодарностью Дженет Джонсон,учившей меня писать рассказы,иСноу Лонгли Хауш, учившей меня поэзиив Лос-Анджелесской средней школе,очень давно,иДжеку Гассу, помогавшему мне в работенад этим романом, не так уж давно
Не удержишь то, что любишь…
У. Б. Йетс
Потому что они не заснут,
если не сделают зла; пропадет сон у них,
если они не доведут кого до падения;
ибо они едят хлеб беззакония и пьют
вино хищения.
Книга Притчей Соломоновых, 4, 6-17
Я не знаю толком, чем все это кончится,
но что бы там ни было, я иду навстречу
концу, смеясь[1].
Стабб в «Моби Дике». Гл. XXXIX Г. Мелвилл
Пролог
Главное дело — стоял октябрь, месяц, особенный для мальчишек. Само собой, остальные месяцы тоже не похожи друг на друга, просто, как говорят пираты, одни получше, другие похуже. Взять вот сентябрь — плохой месяц — надо в школу идти. Август не в пример лучше — до школы еще не близко. Июль — ну, июль замечательный: куда ни глянь, на школу и намека нет. Ну а уж июнь лучше всех: школьные двери нараспашку, а до сентября — миллион лет.
А теперь взять октябрь. Уже месяц, как началась школьная тягомотина, значит, к узде пообвык, и дальше пойдет легче. Уже можно выкроить время и поразмыслить, чего бы этакого особенно гадкого подкинуть на крыльцо старому Приккету, или что за прелесть мохнатый обезьяний костюм, дожидающийся праздника у ХСМ[2] в последний вечер месяца.
А если дело, к примеру, происходит еще и в двадцатых числах, и небо, оранжевое, как апельсин, слегка пахнет дымом, то кажется, что Хэллоуин[3] в суматохе метел и хлопанье простынь на ветру так никогда и не наступит.
Но вот в один странный, дикий, мрачный, долгий год Хэллоуин пришел рано, и случилось это двадцать четвертого октября в три часа после полуночи.
К этому времени Джеймсу Найтшеду с 97-й Дубовой улицы исполнилось тринадцать лет, одиннадцать месяцев и двадцать три дня от роду, а соседу его, Вильяму Хэллоуэю — тринадцать лет, одиннадцать месяцев и двадцать четыре дня. Оба почти добежали до четырнадцатилетия, вот-вот оно затрепыхается в руках.
В ту октябрьскую неделю им обоим выпала ночь, когда они выросли сразу, вдруг, и навсегда распрощались с детством…
Часть 1
Прибытие
1
Продавец громоотводов прибыл как раз перед бурей. На склоне облачного октябрьского дня он шел по улице Гринтауна, Иллинойс, и внимательно поглядывал по сторонам. А вслед за ним, пока еще в отдалении, стая молний долбила землю, там огромным зубастым зверем ворочалась гроза и увернуться от нее было не так-то просто.
В огромном кожаном мешке торговца тоже погромыхивало. Он шел от дома к дому, выкрикивая странные названия таившихся в мешке штуковин, и вдруг остановился перед подстриженной вкривь и вкось лужайкой.
Трава? Нет, не то. Торговец поднял глаза. А, вот оно. На траве, выше по отлогому склону — двое мальчишек. Сидят, здорово похожие и ростом, и обликом, и вырезают свистульки из бузины, беспечно болтая о прошлом и будущем, сидят, вполне довольные собой. Этим летом ничего в Гринтауне не обошлось без них, отсюда до озера, и еще дальше — до реки, на каждой вольной тропке остались следы их ног, и к школе они вроде управились со всеми делами.
— Эй! Как дела? — окликнул их человек в одежде грозового цвета. — Дома есть кто?
Мальчишки одинаково помотали головами.
— Ладно. Ну а как у вас с монетой? Головы снова качнулись вправо-влево.
— Добро, — кивнул торговец, сделал несколько шагов и остановился, сразу ссутулившись. Что-то его встревожило… может, окна ближайшего дома, может, тяжелое, холодное небо над городом. Он медленно повернулся, словно принюхиваясь. Ветер трепал ветки облетевших деревьев. Солнечный луч, отыскав просвет в тучах, мгновенно вызолотил последние дубовые листья и тут же пропал, — золото на дубах потускнело, потянуло сыростью. Все. Очарование исчезло.
Пришелец ступил на зеленый склон.
— Как звать тебя, парень? — спросил он.
Один из ребят, с головой, похожей на белый пух чертополоха, прищурился и глянул на торговца глазом, блестящим, словно огромная капля летнего дождя.
— Вилли, — представился он. — Вильям Хэллоуэй[4]. Грозовой джентльмен слегка повернулся:
— А тебя?
Сосед Вилли даже не шелохнулся. Он лежал ничком на осенней траве, глубоко задумавшись, словно ему еще только предстояло сотворить себе имя. Волосы густые, настоящие лохмы цвета спелых каштанов, вид — отсутствующий, глаза разглядывают что-то внутри, а цветом — как зеленый горный хрусталь. Все. Сотворил. Небрежно ткнул сухую травину в рот.
— Джим Найтшед[5]. Торговец понимающе кивнул:
— Найтшед. То самое имя.
— И в самый раз ему, — сказал Вилли. — Я родился за минуту до полуночи тридцатого октября, а Джим через минуту после полуночи, стало быть, уже тридцать первого.
— Аккурат в Хэллоуин, — произнес Джим.
Несколько слов — но за ними крылись их жизни: гордость за матерей, живущих по соседству, вместе спешащих в больницу, вместе приносящих миру сыновей, минутой раньше — светлого, минутой позже — темного. За этим виделась история веселых праздников вместе, на них Вилли каждый год зажигал свечи на пироге за минуту до полуночи, а Джим в первую минуту последнего дня месяца гасил их.
Так много сказал Вилли несколькими словами, так много подтвердил своим молчанием Джим. Так много услышал торговец, опередивший бурю и задержавшийся здесь невесть зачем, разглядывая лица ребят.
— Хэллоуэй, Найтшед, — повторил он. — Значит, говорите, нет денег?
Похоже, огорченный собственным безрассудством, торговец запустил руку в мешок и выудил чудную железяку.
— Ладно. Берите даром. Думаете — с чего бы это? Скажу, пожалуй. В один из этих домов ударит молния. Без этой штуки — бац! Огонь и пепел, жаркое и угли! Трах!
Торговец протянул стержень. Джим не пошевелился, а Вилли схватил железку и воскликнул:
— Ты посмотри, какая тяжеленная! И чудная. Никогда таких громоотводов не видал. Ну, погляди, Джим!
Потянувшись, как кошка, Джим, наконец, соизволил повернуть голову. Зеленые глаза удивленно распахнулись и тут же превратились в узенькие щелочки.
Громоотвод представлял из себя кованый крест с полумесяцем внизу. Стержень усеивали крохотные завитушки и сплошь покрывали выгравированные слова, произнося которые можно было запросто вывихнуть челюсть, а таинственные цифры переплетались с какими-то полузверями-полунасекомыми из сплошной щетины, когтей и клыков.
— Это — египетский, — уверенно показал носом Джим на припаянного посередке жука. — Скарабей!
— Точно, парень. Он и есть! Джим прищурился.
— А вон те куриные следы — финикийские знаки.
— Опять верно.
— Но почему они здесь?
— Почему? — повторил задумчиво торговец. — Ты спрашиваешь, почему на громоотводе египетские, арабские, абиссинские, чоктавские знаки? А на каком языке, по-твоему, говорит ветер? Из какого народа буря? Откуда приходит дождь? Какого цвета молния? Где родина грома? Чтобы заклинать Огни святого Эльма, чтобы усмирять этих синих, крадущихся, косматых котов, надо быть готовым воспользоваться любым наречием, может пригодиться любой знак, зверь любого обличья. Во всем мире только мои громоотводы способны почуять и отогнать любую бурю, откуда бы она ни явилась, на каком бы языке ни говорила и в каком бы виде ни пришла. Не сыщете такого чужедальнего громогласного шторма, которого не смогла бы перешептать эта железная штуковина.
Но, похоже, Вилли уже не слушал. Повернувшись, он уставился на что-то позади.
— Чей? — напряженно выдохнул он. — В чей дом она попадет?
— Гм… в чей?.. — отозвался торговец. — Погоди-ка… а ну, повернись ко мне, — он внимательно изучал их лица и бормотал при этом: — Есть люди… они просто-таки притягивают молнию, словно хотят высосать ее. У одних, знаете ли, отрицательная полярность, у других положительная.
Одни только в темноте и загораются, другие в ней гаснут… Вот вы двое…
— А почему вы так уверены, что молния попадет прямо сюда? — перебил Джим, сверкая глазами.
Торговца вопрос не смутил.
— У меня есть нос, глаза и уши. Вот два дома. Прислушайтесь, что говорят их бревна!
Они прислушались. Наверное, это ветер нажимал на стены… а может, и не ветер.
— Молнии, как реки, текут по своим руслам, — продолжал между тем торговец. — Чердак одного из этих домов как раз и есть такое пересохшее русло, оно только и ждет, чтобы молния пролилась и промчалась по нему. Нынче же ночью!
— Ночью? Этой ночью? — Джим просто сиял от счастья.
— Идет не обычная гроза, — промолвил торговец. — Это вам Том Фури говорит. Фури — подходящее имечко для торговца громоотводами, а? Я ли взял его? Нет. Имя ли подтолкнуло меня выбрать профессию? Да! Я жил и смотрел, как облачные огни скачут по миру, а люди вздрагивают и прячутся. И я подумал: нанесу на карты ураганы, отмечу бури, а потом пойду впереди них и буду громыхать моими железными дубинками, моими чудесными защитниками. Я укрыл и обезопасил сто тысяч, нет, двести, бессчетно мирных, богобоязненных домов. Слушайте меня, парни. Если я говорю, что ваши дела плохи, значит, так оно и есть. Полезайте на крышу, прибейте там эту железку да заземлите хорошенько. И все это надо успеть до полуночи!
— Но вы же не сказали, который из домов? — воскликнул Вилли.
Торговец отступил назад, достал огромный платок, высморкался и медленно пошел через лужайку. Он шел так, словно впереди его ждала большая мина с часовым механизмом. Он осторожно коснулся перил на крыльце у Вилли, провел рукой по столбу, потрогал доски ступеней, потом закрыл глаза и прильнул к дому, вслушиваясь в скрипы и шорохи его костей. Через минуту, все так же настороженно, он перешел к дверям Джима. Джим встал и вытянул шею.
Торговец лишь коснулся, лишь пробежал пальцами по старой краске, слегка стукнул по дереву и уверенно заявил:
— Этот.
Не оглядываясь, он спросил:
— Джим Найтшед, это — твой?
— Мой! — с гордостью ответил Джим.
— Я мог бы сразу догадаться, — буркнул торговец.
— Эй, а со мной как же? — в голосе Вилли звучала обида.
Торговец повел носом в сторону его дома.
— Нет. Разве что несколько искорок проскочат по водосточной трубе. А настоящее зрелище будет здесь, у Найтшедов. Вот так-то! — Торговец заторопился по лужайке к своему мешку. — Ну, мне пора. Гроза уже близко. Джим, друг, тебе говорю — не тяни! А то — бамм! И все твои медяки, все десятицентовики, все солдатики-индейцы потекли ручейками. Аб Линкольн расплылся в мисс Колумбию, орлы на четвертаках полиняли догола, даже пуговицы на джинсах — и те потекут, как ртуть. А если молния попадет в мальчишку — трах! — и в глазу, как на «кодаке», отпечатался этот огонь. Вот он скачет с неба, и как дунет в тебя — душа вон! Эй, парень, прибей эту штуку повыше, а то не видать тебе завтрашнего рассвета!
Громко брякнув мешком, торговец повернулся и пошел по дороге, поглядывая то на небо, то на крыши домов, фыркая и бормоча себе под нос:
— Ох, худо! Сюда идет, чую. Далеко пока, но уж больно быстро…
Человек в грозовых одеждах уходил. Шляпа цвета тучи сползла ему на глаза, деревья встревоженно шелестели, а небо враз стало старым.
Джим и Вилли стояли на лужайке, повернув носы на ветер — не пахнет ли электричеством, а громоотвод лежал между ними на траве.
— Джим, — пихнул наконец друга в бок Вилли, — да не стой ты! Твой ведь дом-то, он сказал. Собираешься ты прибивать эту штуку или нет?
— Нет, — улыбнулся Джим. — Зачем веселье портить?
— Да какое веселье?! Рехнулся, что ли! Я тащу лестницу, а ты — давай за молотком с гвоздями. И проволоку не забудь.
Вилли мигом приволок лестницу. А Джим, похоже, и не пошевелился за это время.
— Ну, Джим! Ты о маме подумал? Хочешь, чтобы она сгорела?
Вилли приставил лестницу и сам полез наверх. Тогда наконец и Джим медленно подошел и начал взбираться по ступеням.
Далеко в облачных холмах прокатился гром. Наверху в воздухе явно различались запахи свежести и сырости. Даже Джим согласился.
2
Самые лучшие на свете книжки — о живой воде, о рыцарях, изрубленных на куски, или о том, как расплавленный свинец льется со стен на головы всяким дуракам, — так говорил Джим Найтшед, и других книжек он не читал. Если уж не об ограблении Первого Национального Банка, так хоть про то, как построить катапульту или сшить из черных лоскутьев невидимую одежду для ночных вылазок.
Все это Джим выдохнул разом, а Вилли, тоже разом, вдохнул, пока они возились на крыше, прилаживая громоотвод. Вилли занимался этим делом с чувством важности и нужности происходящего, а Джим — слегка стыдясь и считая, что они просто струсили. Так и день прошел.
После ужина предстоял еженедельный поход в библиотеку. Как все мальчишки, они никогда не ходили просто так, но, выбрав цель, кидались к ней со всех ног. Никто не выигрывал, да и не хотел выиграть, они ведь были друзья; просто хорошо было бежать рядом, стремительно пропечатывать теннисными туфлями параллельные строчки следов по лужайкам, через кусты и рощицы, хорошо было вместе рвать финишную ленточку и разом схватиться за ручку библиотечной двери, — никто не оставался в проигрыше, оба побеждали, храня дружбу до поры, когда утраты станут неизбежны.
Все так и шло этим вечером, сначала теплым, потом — прохладным. В восемь часов они предоставили ветру нести их вниз, в город. Летящие руки, локти развернуты, как крылья, мелькают перемежающиеся слои воздуха — и вот они уже там, где надо. Три ступеньки, шесть, девять, двенадцать, — хлоп — ладони шлепнули по библиотечной двери.
Джим и Вилли улыбнулись друг другу. Все это было здорово: и тихие октябрьские вечера, и библиотека с зелеными лампами внутри и едва уловимым запахом бумажной пыли.
Джим вслушался.
— Что это?
— Ветер?..
— Как музыка… — Джим всматривался вдаль.
— Совсем никакой музыки не слышу…
— Кончилась! — Джим тряхнул головой. — А может, и не было. Идем!
Они открыли дверь, ступили внутрь и застыли на пороге. Перед ними в ожидании распахнулись библиотечные глубины.
Снаружи, в мире, как будто ничего не происходило. Но здесь, в этих зеленых сумерках, в этой земле бумаги и кожи могло случиться всякое. Всегда случалось. Только прислушайся и услышишь крики десятков тысяч людей, вот миллионы перетаскивают пушки, точат гильотины, а вот китайцы маршируют по четыре в ряд. Конечно, незримо, конечно, бесшумно, но ведь и у Джима, и у Вилли носы и уши на месте. Здесь фабрика пряностей, здесь дремлют чужие пустыни.
Напротив двери приятная пожилая дама мисс Уотрисс отмечает книги, а справа от нее — уже Тибет, и Антарктида, и Конго. Туда как раз удалилась другая библиотекарша, мисс Уиллс, ушла через Монголию, запросто унося куски Иокагамы и остров Целебес. Дальше, в третьем книжном туннеле, пожилой мужчина шуршит в темноте веником, подметая остатки имбиря и корицы…
Вилли широко открыл глаза. Каждый раз этот старик удивлял его — своей работой, своим именем. «Чарльз Вильям Хэллоуэй, — думал Вилли, — не дедушка, не дальний родственник, не какой-нибудь пожилой дядюшка, нет, — мой отец…»
А отец? Не поражался ли он каждый раз, встречая собственного сына на пороге этого уединенного мира? Да. Каждый раз он выглядел ошеломленным, словно последняя их встреча состоялась век назад и с тех пор один успел вырасти, а другой так и остался молодым. Это мешало, стояло между ними.
Старик неуверенно улыбнулся издали. Отец и сын осторожно двинулись навстречу друг другу.
— Батюшки! Вилли! С утра еще на дюйм вырос! — Чарльз Хэллоуэй повернул голову. — Джим? О, глаза потемнели, щеки посветлели, тебя что, с обеих сторон припекло?
— Дьявольщина! — энергично высказался Джим.
— Такого не держим, — мгновенно ответил старик. — Ад есть, вот тут, на «А», у Алигьери.
— Аллегории — это не по мне, — мотнул головой Джим.
— Твоя правда, — засмеялся отец Вилли. — Но я-то имел в виду Данте. Погляди-ка сюда. Рисунки самого господина Дорэ. Со всех сторон все показано. Аду повезло. Он никогда не выглядел лучше. Вот, обрати внимание, души падают прямо в грязь. Смотри, смотри, кто-то даже вверх ногами…
— Ничего себе! — Джим мгновенно пожрал страницу глазами вдоль и поперек и принялся листать дальше. — А картинки с динозаврами тут есть?
— Это там, дальше. — Он повел их в следующий проход. — Вот здесь. «Птеродактиль, Змей-Разоритель», — прочитал он. — А как насчет «Барабанов Рока: сага о Громовых Ящерах»? Ну, ожил, Джим?
— Ага. Вполне.
Отец подмигнул Вилли. Вилли подмигнул в ответ. Они стояли рядом — мальчишка с волосами цвета спелой пшеницы и мужчина, седой, как лунь. Лицо мальчишки — словно летнее наливное яблоко, лицо мужчины — словно то же яблоко зимой. «Папа, папа мой, — думал Вилли, — он похож на меня! Только… как в плохом зеркале!»
Внезапно Вилли припомнил, как, бывало, ночами он вставал и смотрел из окна на город внизу. Там мерцал только один огонек в библиотечном окне. Это отец засиживался допоздна над книгой в нездешнем свете зеленой лампы. И радостно, и грустно было смотреть на этот одинокий огонек и знать, что его… — Вилли помедлил, подбирая слово, — …его отец один бодрствует во всем этом мраке.
— Вилли, — окликнул старик, по должности — уборщик, по воле случая — его отец, — а тебе чего хочется?
— А? — Вилли встрепенулся.
— Ты предпочитаешь книжку в белой шляпе или в черной?
— Шляпе?
— Вот Джим, — старик медленно двинулся вдоль полок, слегка касаясь пальцами книжных корешков, — Джим носит черные десятигаллоновые шляпы и книжки предпочитает им под стать. Поначалу Мориарти, верно, Джим? Теперь он готов хоть сейчас двинуться от Фу Мангу к Макиавелли — средних размеров темная фетровая шляпа, а оттуда — к доктору Фаусту — это уже большущий черный Стетсон. А на твою долю остаются приятели в белых шляпах… Вот Ганди, там дальше — святой Томас, следующий… ну, к примеру, Будда.
— Меня вполне устроит «Таинственный остров», — улыбнулся Вилли.
— Я не понял, при чем здесь шляпы? — нахмурился Джим.
— Однажды, очень давно, — неторопливо проговорил отец, протягивая Вилли Жюля Верна, — я, как и каждый человек, решил для себя, какой цвет буду носить.
— Ну и какой? — недоверчиво спросил Джим. Старый человек, казалось, удивился и поспешил рассмеяться.
— Ну и вопросы ты задаешь!.. Ладно, Вилли, скажи маме, что я скоро буду. А теперь двигайте-ка отсюда оба. Мисс Уотрисс! — мягко окликнул он библиотекаршу. — Будьте настороже. К вам подбираются динозавры и таинственные острова.
Дверь захлопнулась. На небесных полях высыпали ясные звезды.
— Дьявольщина! — Джим втянул носом воздух с севера, потом — с юга. — А где буря? Этот проклятый торгаш обещал… Я же должен посмотреть, как молния вдарит в мою крышу!
Вилли подождал, пока порыв ветра взъерошит, а потом пригладит волосы.
— Она будет здесь. К утру, — словно нехотя произнес он.
— Кто сказал?
— А вот черничник у меня под руками. Он говорит.
— Ха! Здорово!
Ветер сорвал и унес Джима прочь. Таким же воздушным змеем Вилли кинулся вдогонку.
3
Чарльз Хэллоуэй провожал ребят глазами, с трудом сдерживая желание составить им компанию. Он знал эти колдовские штучки ветра, знал, как и где подхватывает он две легкие фигурки, как несет их мимо всяких таинственных мест, таинственных только сегодня, только в этот миг и никогда больше.
Грусть взмахнула крылом в груди старого человека.
«Если бежать вместе в такой вечер, то печаль не ранит, — подумал он. — Смотри-ка! Вот Вилли. Он бежит ради самого бега. А вот Джим. Он бежит потому, что впереди есть цель. И все-таки, как ни странно, они бегут вместе. В чем же дело, — продолжал он раздумывать, проходя по библиотеке и гася одну за другой зеленые мягкие звезды, — неужели только в линиях наших ладоней? Почему одни — такие, а другие… Один всю жизнь на поверхности, весь — стрекотание кузнечика, весь — подрагивание усиков, сплошной узел нервов, вечно запутывающийся и запутывающий всех… Губы не знают покоя, глаза с колыбели сверкают и бросаются из стороны в сторону. Ненасытные глаза, и питаются тьмой… Это — Джим, с головой, похожей на ежевичный куст, и с неуемным задором разрастаться вширь, как у сорняка.
А вот — Вилли. Словно последний персик на самой высокой ветке. Он из тех, на которых взглянешь — заплачешь. Да, вроде бы у них все в порядке, и не то чтобы они отказались от случая передернуть в бридже или прихватить плохо лежащую точилку, нет, дело не в этом. Просто какими их увидел впервые, такими они и остаются всю жизнь: сплошные толчки, синяки, царапины да шишки, и вечное недоумение: почему, ну почему же это случилось? Как это могло случиться с ними?
Джим, он знает. Он караулит начало, примечает конец, и если уж зализывает царапину, то никогда не спросит — почему? Он знает. И всегда знал. Это еще до него кто-то знал, кто-то, бывший давным-давно, из тех, у кого волки ходили в любимчиках, а львы — в ночных приятелях. Это же не от головы. Это само его тело знает. И пока Вилли перевязывает очередную рану, Джим уже движется по рингу, отскакивает, уворачивается от неминуемого удара. Вон они уже где! Джим притормаживает, поджидает Вилли. Вилли наддал, чтобы догнать Джима. Бац! Бац! Джим выбил два окна в заброшенном доме. Бац! И Вилли выбил окно — как же, ведь Джим рядом, смотрит. Боже, вот она, дружба! Каждый из них — гончар, каждый что-то лепит из другого.
Джим, Вилли… — подумал он. — Странники. Идите дальше. Когда-нибудь я пойму…»
Дверь библиотеки выпустила его с легким вздохом и слегка хлопнула на прощанье.
Спустя пять минут он уже заворачивал в пивную на углу пропустить свой первый — и последний — стаканчик и поспел как раз к концу чьей-то фразы:
— …когда открыли алкоголь, итальянцы решили, что это — великая вещь, прямо настоящий эликсир жизни. А? Слыхали вы про такое?
— Нет, — равнодушно откликнулся бармен.
— Точно! — с воодушевлением продолжал посетитель. — Очищенный алкоголь! Век девятый-десятый. Выглядело оно как вода. Но обжигало. Не только во рту ведь, или там, в желудке, нет, оно и в самом деле горит. Так вот, итальянцы решили, что им удалось смешать огонь с водой. Огненная вода! Эликсир жизни! Ей-Богу! А может, не так уж они и ошибались, принимая его за лекарство от всех болезней… за такую чудотворную штуку… Ну что, выпьем?
— Да я-то не хочу, — улыбнулся Хэллоуэй, — а вот кто-то внутри меня вроде просит.
— Кто?!
«Наверное, мальчишка, которым я был когда-то, — подумал Хеллоуэй, — тот самый, который пролетает осенними вечерними улицами, как листья под ветром».
Но сказать так он, конечно, не смог бы, и поэтому просто выпил, закрыл глаза и прислушался: не шевельнется ли давешнее крыло, не мелькнет ли на куче давно сложенных для костра поленьев хоть малая искорка? Нет, не мелькнула.
4
Вилли остановился. Вилли поглядел на город, погруженный в пятничный вечер. При первом из девяти ударе часов на доме мэрии всюду еще сияли огни, в магазинах кипела жизнь. Но при последнем ударе, отозвавшемся в десятке больных зубов горожан, картина изменилась. Парикмахеры поспешно припудривали клиентов и выпроваживали их за дверь, на ходу сдергивая простыни; смолк сифон аптекаря, весь день шипевший словно змеиное гнездо; прекратилось комариное жужжание неоновых ламп, и обширный аквариум дешевого универмага, где миллионы всяких ерундовых штучек безнадежно ожидали своего избавителя, внезапно погрузился в темноту.
Заскользили тени, захлопали двери, ключи затрещали костями в замках, люди разбегались, и разбегались мыши, торопливо догрызая обрывок газеты или крошку галеты.
Раз! И они исчезли.
— Старик! — завопил Вилли. — Народ бежит, словно от урагана!
— Так оно и есть! — крикнул Джим. — Он за нами!
Они громко протопали мимо дюжины темных магазинчиков, мимо дюжины полутемных, мимо дюжины темнеющих. Город словно успел вымереть, пока они огибали Объединенные Сахарные Склады. И тут, за углом, ребята налетели на идущего навстречу деревянного индейца из табачной лавки.
— Эй! — мистер Татли, хозяин, выглянул из-за плеча чероки. — Я вас не напугал, ребята?
— Не-а! — с запинкой, сквозь легкий озноб, ответил Вилли. Ему вдруг показалось, что из прерий на город катится волна странно холодного дождя. Молния прорезала небо в отдалении, и Вилли испытал неудержимое желание оказаться дома, под шестнадцатью одеялами в собственной постели.
— Мистер Татли, — тихонько окликнул он.
Теперь уже два деревянных индейца застыли в плотной тьме табачной лавки. Мистер Татли окаменел, забыв закрыть рот.
— Мистер Татли!
Он не слышал. Нет, он слышал что-то вдалеке, что-то, долетевшее с порывом ветра, но не мог сказать, что именно. Вилли и Джим отпрянули. Он не видел их. Он не шевелился. Он только слушал. Ребята оставили его и убежали.
В четвертом от библиотеки квартале они наткнулись еще на одну одеревеневшую фигуру.
Мистер Крозетти застыл перед своей парикмахерской с ключом в дрожащих пальцах, не замечая остановившихся ребят.
Что заставило их насторожиться? Слезинка. Слезинка катилась по левой щеке парикмахера. Он всхлипнул.
— Разве вы не чувствуете?
Джим и Вилли дружно принюхались.
— Лакрица!
— Да нет. Леденцы на палочке!
— Сколько лет я не слышал этого запаха, — вздохнул мистер Крозетти.
— Им же все тут пропахло! — фыркнул Джим.
— А кто это замечал? Когда? Сейчас вот только мой нос велел мне: дыши! Я и расплакался. Почему? Да потому, что вспомнил, как давным-давно мальчишки облизывали такие штуки. Почему я за все эти тридцать лет ни разу не принюхался?
— Вы просто заняты были, мистер Крозетти, — подсказал Вилли, — времени у вас не было.
— Время, время… — проворчал мистер Крозетти, вытирая глаза. — Откуда он взялся, этот запах? Во всем городе никто не продает леденцов на палочке. Они теперь бывают только в цирках.
— О! — сказал Вилли. — Верно.
— Ну, Крозетти наплакался, — парикмахер высморкался и повернулся с ключом к двери. А Вилли стоял и взгляд его убегал вместе с красно-белой спиралью, бесконечно вьющейся на шесте возле парикмахерской. Сколько раз он уже пытался размотать эту ленту, тщетно ловя ее начало, тщетно подстерегая конец.
Мистер Крозетти собрался выключать свой вращающийся шест.
— Не надо, — попросил Вилли. — Не выключайте. Мистер Крозетти взглянул на шест так, словно впервые открыл для себя его чудодейственные свойства. Глаза его мягко засветились, и он тихонько кивнул.
— Откуда берется и где исчезает, а? Никому не дано знать, ни мне, ни тебе, ни ему. О, тут тайна, ей-Богу. Ладно. Пусть себе крутится.
«Как хорошо знать, — думал Вилли, — что он будет крутиться до самого утра, что, пока мы будем спать, лента все так же нескончаемо будет возникать из ничего и исчезать в никуда».
— Спокойной ночи!
— Спокойной ночи!
Они оставили парикмахера позади вместе с ветром, несущим запах лакрицы и леденцов на палочке.
5
Чарльз Хэллоуэй уже протянул руку к вращающейся двери пивной, но остановил движение — редкие седые волоски на тыльной стороне ладони, как антенны, уловили нечто в октябрьской ночи. Может быть, полыхающие где-то пожары дохнули над прерией, может, новая ледниковая эра нависла над землей и уже погребла в мертвенном холодном чреве миллион человек, — лучше не выходить. Вдруг само Время дало трещину, и через нее уже сыплется пыль мрака, покрывая улицы серым пеплом. А может, все дело в прохожем, идущем той стороной улицы со свертком под мышкой и корзиной с торчащей из нее кистью. Он что-то насвистывает… Мелодия… она из другого времени года, нет, вовсе не печальная, просто она не годилась в октябре, но Чарльз Хэллоуэй всегда слушал ее с удовольствием.
Чарльз Хэллоуэй задрожал. Внезапно нахлынуло ощущение жутковатого восторга, захотелось смеяться и плакать одновременно. Так бывало, когда в канун Рождества он смотрел на безгрешные лица детей на заснеженных улицах среди усталых прохожих. Порок испятнал лица взрослых, грех оставил на них следы, жизнь разбила их, словно окна заброшенного дома, разбила, отбежала, спряталась, вернулась и вновь бросила камень…
Громче и глубже пели колокола:
Прохожий перестал насвистывать. Теперь он был занят чем-то возле телеграфного столба на перекрестке, потом отошел и вдруг нырнул в открытую дверь давно пустовавшего магазинчика.
Чарльз Хэллоуэй вышел и зачем-то направился к той же двери. А человек со свертком, кистью и корзиной уже снова появился на улице. Глаза его, пронзительные и неприятные, взглянули на Хэллоуэя в упор. Человек протянул руку и медленно раскрыл ладонь. Хэллоуэй вздрогнул. Ладонь незнакомца покрывала густая черная шерсть. Это походило на… он не успел сообразить — на что. Ладонь сжалась и исчезла. Человек повернул за угол. Ошеломленный Хэллоуэй смахнул со лба вдруг выступившую испарину и с трудом сделал несколько шагов к дверям пустого магазина.
Там, в небольшом зале, под лучом единственной яркой лампы стоял на козлах, словно на похоронах зимы, ледяной брус шести футов длины. Тусклый зеленовато-голубой свет струился из его глубин, и весь он был как огромная холодная жемчужина. Сбоку, у самого окна, висел на щите небольшой рекламный лист. Выведенное от руки каллиграфическим почерком, там значилось:
КУГЕР И ДАРК[6]
ШОУ И ПАНДЕМОНИУМ ТЕНЕЙ.
ФАНТОЧЧИНИ. ЦИРК МАРИОНЕТОК.
ВАШ ТРАДИЦИОННЫЙ КАРНАВАЛ!
ПРИБЫВАЕТ НЕМЕДЛЕННО!
ЗДЕСЬ ПЕРЕД ВАМИ ОДИН ИЗ НАШИХ
АТТРАКЦИОНОВ:
САМАЯ ПРЕКРАСНАЯ ЖЕНЩИНА В МИРЕ!
Взгляд Хэллоуэя метнулся от надписи к ледяной глыбе. Она ничуть не изменилась с детства. Он помнил ее, точно такую же, и бродячих фокусников, когда Холодильная Компания выставляла на всеобщее обозрение кусок зимы с вмороженными девушками. Вокруг толпились зрители, на экране мелькали лица комедийных актеров, аттракционы сменяли друг друга, пока, наконец, вспотевший от натуги волшебник не вызволял заиндевевших бедняжек из ледяного плена и они, едва улыбаясь посиневшими губами, не исчезали за занавесом.
«Самая прекрасная женщина в мире!»
Но там же нет ничего! Просто замерзшая речная вода! Нет, не совсем.
Хэллоуэй почувствовал, как в груди тяжело трепыхнулось сердце. Может быть, там, внутри огромной зимней жемчужины есть пустое место, этакая продолговатая волнистая выемка, ждущая жаркую летнюю плоть, может быть, она имеет форму женского тела?
Да, похоже.
Лед. И прекрасная, с таинственными изгибами пустота внутри. Томительное ничто. Изысканная плавность незримой русалки, позволившей поймать себя в ледяной футляр.
Лед был холоден. Пустота внутри была теплой. Хэллоуэй хотел уйти, но еще долго стоял посреди странной ночи, в пустом магазине, перед холодным арктическим саркофагом, сверкавшим, словно огромная Звезда Индии во мраке…
6
На углу Хиккори и Главной улицы Джим Найтшед притормозил.
— Вилли, а? — в голосе его неожиданно зазвучала нежная просительная нотка.
— Нет! — Вилли даже остановился, пораженный собственной жестокостью.
— Ну тут же рядышком, а? Пятый дом. И всего на минуточку, Вилли, — упрашивал Джим.
— На минуточку? — Вилли в сомнении оглядел улицу. Улицу Театра.
Все лето она была улица как улица. Здесь они лазили за персиками, за сливами и абрикосами, когда приходило время. Но вот в конце августа, в пору кислейших яблок, случилось нечто, разом изменившее все: и дома, и вкус персиков, и даже сам воздух под болтушками-деревьями.
— Вилли! Оно же ждет! Может быть, уже началось, а? — шептал Джим.
Вилли был непреклонен. Джим просительно тронул его за плечо. Они стояли на улице, переставшей быть яблочной, сливовой, персиковой. С некоторых пор она превратилась в улицу Единственного Дома, Дома с Окном Сбоку. Окно это — сцена, по словам Джима, а всегдашний занавес — сумрак за окном — иногда (может, и сегодня) бывал поднят. И там, в комнате, на чудных подмостках — актеры. Они говорят загадочные, невероятные вещи, смеются непонятно чему, вздыхают, их бормотание и перешептывание казались Вилли лишними, он не понимал их.
— Ну в самый-самый распоследний разочек, Вилли?! — не унимался Джим.
— Да если бы в последний! — в сердцах откликнулся Вилли.
Щеки Джима зарделись. В глазах мелькнул зеленый огонек. А Вилли словно наяву увидел ту ночь. Он только что закончил с яблоками на дереве, как вдруг голос Джима шепотом окликнул его с соседней ветки: «Смотри! Вон там!» Вцепившись в ствол дерева, странно возбужденный, Вилли смотрел и не мог отвести взгляда от сцены. Перед ним был Театр, там незнакомые актеры сдергивали через голову рубашку, роняли одежду на ковер, нагие, похожие на дрожащих лошадей, тянулись друг к другу, касались… «Что они творят? — лихорадочно думал Вилли. — Почему смеются? Что с ними стряслось? Разве это хорошо?»
О, как ему хотелось, чтобы свет на Сцене погас! Но Сцена там, за окном, была освещена ярко-ярко, и Вилли, оцепеневший на своем суку, глаз не мог оторвать. До него долетал смех, он вслушивался в смутные звуки, пока в изнеможении не скользнул по стволу вниз, почти упал, потом посмотрел вверх, на Джима — тот все еще висел на своей ветке: лицо словно опалило огнем, рот приоткрыт…
«Джим, спускайся, — позвал Вилли. Не слышит. — Джим!»
Джим наконец посмотрел вниз, странно посмотрел: как будто идиот прохожий предложил ему перестать жить и спуститься на землю. И тогда Вилли убежал, убежал один, просто погибая от половодья мыслей, не думая ни о чем, не зная, что и подумать.
— Вилли, ну пожалуйста!
Даже глаза Джима просили. Руки прижимали к груди книжки.
— Мы в библиотеке были? Тебе мало? Джим упрямо помотал головой.
— Тогда захвати мои, ладно?
Он отдал Вилли книги, повернулся и легко побежал под шелестящими, мерцающими деревьями. Обернулся. Кричит:
— Вилли! Знаешь, ты кто? Старый, глупый, дрянной епископальный баптист!
Пропал.
Вилли изо всех сил притиснул книги к груди. Ладони у него повлажнели.
«Не оглядывайся! — говорил он себе и сам же отвечал: — Не буду, не буду!» Не оглядываясь, он пошел к дому. Быстро.
7
На полдороге за спиной Вилли послышалось пыхтенье.
— Что, Театр закрыт? — бросил Вилли, не оборачиваясь. Джим поравнялся с ним и долго шел рядом молча.
— Там нет никого.
— Отлично! Джим сплюнул.
— Ты, проклятый баптистский проповедник… — начал было он.
Из-за угла выкатилось навстречу перекати-поле — мятый бумажный шар подскочил и лег у ног Джима. Вилли со смехом пнул мячик — пусть летит, и замолк.
Бумага развернулась и по ветру плавно скользнула пестрая афишка. Ребятам вдруг стало холодно.
— Эй, погоди-ка… — медленно проговорил Джим. И вдруг они сорвались с места и помчались за ней.
— Да осторожней ты! Не порви!
Бумага у них в руках вздрагивала и, казалось, даже погромыхивала, как маленький барабанчик.
ПРИХОДИТЕ 24 ОКТЯБРЯ!
Губы Джима двигались, не сразу произнося слова, написанные затейливым шрифтом.
КУГЕР И ДАРК
КАРНАВАЛ!!!
— Эй, двадцать четвертое… Это ведь завтра!
— Не может такого быть! — убежденно сказал Вилли. — После Дня Труда карнавалов не бывает!
— Да плевать на это! Посмотри! «Тысяча и одно чудо!» Смотри! «Мефистофель, пьющий лаву! Мистер Электрико! Монстр-Монгольфьер!» Э-э?..
— Воздушный шар, — пояснил Вилли. — Монгольфьер — это воздушный шар.
— Мадемуазель Тарот! — читал Джим. — Висящий Человек! Дьявольская гильотина! Человек-в-Картинках! Ого!
— Да подумаешь! Просто парень в татуировке!
— Нет. — Джим подышал на афишку и махнул по ней рукавом. — Он раз-ри-со-ван, специально разрисован. Погляди, он весь в чудовищах. Целый зверинец! — глаза Джима так и шарили по афише. — Смотри, смотри, Скелет! Вот здорово, Вилли! Не какой-нибудь там Тощий Человек, а Скелет! Во! Пыльная Ведьма! Что бы это могло быть, а, Вилли?
— Просто грязная старая цыганка…
— Нет, — Джим прищурился, будя воображение. — Да… вот так… Цыганка. Она родилась в Пыли, в Пыли выросла и однажды унесется обратно в Пыль! А вот здесь еще есть: «Египетский Зеркальный Лабиринт! Вы увидите себя десять тысяч раз! Храм искушений святого Антония!»
— Самая прекрасная… — начал читать Вилли.
— Женщина в мире, — закончил Джим. Они взглянули друг на друга.
— Как это может Самая Прекрасная Женщина в Мире оказаться в карнавальном балагане, а, Вилли?
— Ты когда-нибудь видел карнавальных женщин, Джим?
— А как же! Медведицы-гризли! А чего же тогда здесь пишут?
— Да заткнись ты!
— Ну чего ты злишься, Вилли?
— Да ничего! Просто… Ай! Держи ее!
Ветер рванул лист у них из рук. Каким-то нелепым прыжком афиша взмыла вверх и исчезла за деревьями.
— Все равно это неправда, — не сдавался Вилли. — Не бывает карнавалов так поздно. Глупость это! Кто туда пойдет?
— Я, — тихо выдохнул Джим.
«И я, — подумал Вилли. — Увидеть зловещий блеск гильотины, египетские зеркала, человека-дьявола с кожей, как сера, прихлебывающего лаву…»
— Эта музыка… — пробормотал Джим. — Калиоп[7]. Наверное, они приедут сегодня!
— Карнавалы всегда приезжают на рассвете…
— Ага, а лакрица, а леденцы? Помнишь запах? Ведь близко совсем.
Вилли подумал о запахах и звуках, принесенных ветровой рекой, о мистере Татли, стоящем в обнимку с другом-индейцем и слушающем ночь, о мистере Крозетти со слезинкой на щеке и о его шесте, вокруг которого все вьется красный язык: из ниоткуда в никуда. Вилли подумал обо всем этом и неожиданно стукнул зубами.
— Пошли-ка по домам.
— А мы и так дома! — удивленно воскликнул Джим. Действительно, они и не заметили, как поднялись на холм, и теперь оставалось только разойтись каждому к своей двери.
Уже на крыльце Джим перегнулся через перила и тихонько окликнул:
— Вилли, ты — ничего?
— В порядке.
— Мы теперь месяц туда не пойдем, ну, к этому… к Театру. Год не пойдем! Клянусь!
— Ладно, Джим. Не пойдем.
Они так и стояли, положив руки на дверные ручки. Вилли взглянул на соседскую крышу. Там под холодными звездами поблескивал чудной громоотвод. Гроза то ли приближалась, то ли обходила стороной. Неважно. Вилли все равно был доволен, что у Джима есть теперь такая могучая защита.
— Пока!
— Пока!
Одновременно хлопнули две двери.
8
Однако дверь пришлось открывать снова и уж на этот раз тихонько прикрывать за собой.
— Так-то лучше, — прозвучал мамин голос.
Через дверной проем Вилли смотрел на свою театральную сцену, единственную, которую любил всегда, знакомую до мельчайших деталей. Вот сидит отец (О! Он уже дома! Ну конечно же. Ведь они с Джимом дали приличного крюка), держит книгу, но открыта она на пустой странице. В кресле у огня мама. Вяжет и бормочет, как чайник.
Вилли одновременно тянуло и к ним, и от них. То они далеко, то близко. Вот они совсем крошечные в огромной комнате, в громадном городе, посреди исполинского мира, маленькие, совсем беззащитные перед вторжением ночи в этот открытый уютный театрик.
«И я такой же, — подумалось Вилли, — и я».
Любовь хлынула в душу мальчика. Такой он не чувствовал никогда, пока родители оставались только большими.
Мамины пальцы хлопотали, губы шевелились, пересчитывая петли, — именно так выглядит счастливая женщина. Вилли вспомнился парник, где среди зимы цвела кремовая тепличная роза. Вот и мама… вполне довольная в своей комнатке, счастливая по-своему. Счастливая? Но почему? Как? Вот рядом с ней сидит уборщик из библиотеки, чужак в этой комнате. Да, он снял форменную одежду, но лицо-то осталось, лицо человека, который бывает счастлив только по ночам, там, под мраморными сводами, одинокий, шаркая метлой по пыльным коридорам.
Вилли смотрел, не в силах постичь, почему счастлива женщина у камина, почему печален мужчина рядом с ней.
Отец смотрит в огонь. Рука расслабленно свисает с кресла. На ладони — смятый бумажный шарик. Вилли заморгал. Он вспомнил выкатившийся из темноты бумажный мяч. Ему не видно было, что и как написано на листе, но цвет! Цвет был тот же самый!
— Эй! — Вилли шагнул в гостиную.
Мама тут же улыбнулась — словно еще один огонь зажегся в комнате. Отец выглядел немного растерянным, словно его застали врасплох за не совсем достойным занятием.
Вилли так и подмывало спросить: «Ну и что вы думаете об этой афишке?» Но, поглядев, как молча и сосредоточенно отец запихивает бумажный шарик между подлокотником и сиденьем кресла, Вилли сдержал себя. Мама листала библиотечные книжки.
— О! Они замечательные, Вилли!
Кугер и Дарк так и норовили соскочить с языка, и стоило немалого труда как можно небрежнее произнести:
— Ветер так и сдул нас домой. По улицам бумажки летают.
Отец никак не отреагировал на его слова.
— Пап, что новенького?
Рука отца так и осталась лежать на подлокотнике. Он бросил на сына слегка встревоженный взгляд. Глаза казались усталыми.
— Да все то же. Каменный лев разнес библиотечное крыльцо. Теперь рыщет по городу, за христианами охотится. Ан ни одного и нету. Нашел тут было одну в заточении, но уж больно она готовит хорошо.
— Ну что ты мелешь, — отмахнулась мама. Поднимаясь к себе, Вилли услышал то, что и ожидал.
Огонь в камине удовлетворенно вздохнул, блики метнулись по стене. И, не оборачиваясь, Вилли буквально видел, как отец стоит вплотную к камину и наблюдает за превращающимися в пепел Кугером, Дарком, карнавалом, ведьмами, чудесами… Вернуться бы, встать рядом с отцом, протянуть к огню руки, согреться… Вместо этого он продолжал медленно подниматься по ступеням, а потом тихо прикрыл за собой дверь комнаты.
Иногда ночами, уже в постели, Вилли приникал ухом к стене. Бывало, там говорили о правильных вещах, и он слушал; бывало, речь шла о чем-то неприятном — и он отворачивался. Когда голоса тихо скорбели о времени, о том, как быстро идут годы, о городе и мире, о неисповедимых путях Господних на земле, или, в крайнем случае, о нем самом — тогда на сердце становилось тепло и грустно. Вилли лежал, уютно пристроившись, и слушал отца — чаще говорил он. Вряд ли они смогли бы говорить с отцом с глазу на глаз, а так — так другое дело. Речь отца с подъемами и спадами, перевалами и паузами вызывала в воображении большую белую птицу, неторопливо взмахивающую крыльями. Хотелось слушать и слушать, а перед глазами вспыхивали яркие картины.
Была в его голосе одна странность. Он говорил, и говорил истинно. О чем бы ни шла речь, будь то город или деревня, в словах звучала истина — какой же мальчишка не почувствует ее чары! Часто Вилли так и засыпал под глуховатые звуки напевного голоса за стеной; просто ощущения, которые еще секунду назад давали знать, что ты — это ты, вдруг останавливались, как останавливаются часы. Отцовский голос был ночной школой, он звучал как раз тогда, когда сознание лучше всего готово понимать, и тема была самая важная — жизнь.
Так начиналась и эта ночь. Вилли закрыл глаза и медленно приблизил ухо к прохладной стене. Поначалу голос отца рокотал, словно большой старый барабан, где-то внизу. А вот звонкий ручеек маминого голоса — сопрано в баптистском хоре — не поет, а выпевает ответные реплики. Вилли почти видел, как отец, вольготно устроившись в кресле, обращается к потолку.
— Вилли… из-за него я чувствую себя таким старым… другой бы запросто играл в бейсбол с собственным сыном…
— Не кори себя… не за что, — нежный женский голос. — Ты и так хорош…
— …на безрыбье… Черт! Мне ведь было сорок, когда он родился, да еще — ты! Люди спрашивают: «А это — ваша дочь?» Черт! Стоит только прилечь, и от мыслей не знаешь куда деваться!
Вилли услышал скрип кресла. Чиркнула спичка. Отец зажег трубку. Ветер бился за окнами.
— …тот человек с афишей…
— Карнавал? Так поздно? Вилли хотел отвернуться и не мог.
— …самая прекрасная женщина в мире, — пробормотал отец.
Мать тихонько рассмеялась:
— Ты же знаешь, это — не обо мне.
«Как! — подумал Вилли. — Это же из афиши! Почему отец не скажет? Потому, — ответил он сам себе. — Что-то начинается! Что-то уже происходит».
Перед глазами Вилли мелькнул тот бумажный лист — вот он резвится между деревьями. «Самая прекрасная женщина…» В темноте щеки его вспыхнули, словно внезапный внутренний жар опалил их… Джим, улица Театра… обнаженные фигуры на сцене… безумные, как в китайской опере, проклятые древним проклятием… евреи… джиу-джитсу… индийские головоломки… и отцовский голос, грустный, печальный, печальнее всех… слишком печальный, чтобы можно было понять. Почему отец не сказал об афише? Почему сжег ее тайком?
Вилли выглянул в окно. Вон там! Белый лист танцевал в воздухе словно большой клок одуванчикового пуха.
— Ну не бывает карнавалов так поздно! — прошептал он. — Не может быть!
Через минуту, с головой накрывшись одеялом, при свете фонаря он открыл книгу. С первой же страницы на него ощерился доисторический ящер, миллион лет назад долбивший змеиной головой ночное небо.
«Дьявольщина! — подумал он. — Это я Джимову книжку прихватил, а он — мою! А что? Вроде симпатичная зверюга…»
Уже улетая в сон, Вилли успел услышать, как негромко хлопнула входная дверь. Отец ушел. Ушел к своим метлам, к своим книгам, ушел в город… просто ушел прочь. А мама спала. Она ничего не слышала.
9
Во всем мире нет другого имени, чтобы так легко слетало с языка. «Джим Найтшед — это я».
Джим вытянулся в постели и стал как стебель тростника. Кости легко держат плоть… мышцам удобно на костях… Библиотечные книжки, так и не открытые, сгрудились возле расслабленной руки.
Он ждал. Глаза полны сумрака, а под глазами — тень. Он помнил, откуда она. Мать говорила: в три года он едва не умер, вот тогда и появилась эта тень. На подушке — волосы цвета спелого каштана, жилки на висках и на запястьях гибких рук — темно-синие. Плоть его ваяла темнота, темнота медленно брала свое. Джим Найтшед — подросток, который все меньше говорит и все реже смеется.
Джим всегда смотрел только на мир перед собой, видел только его и не отводил глаз ни на миг. А если за всю жизнь ни разу не взглянуть в сторону, то к тринадцати годам проживешь все двадцать.
Вилли Хэллоуэй — другой. Следы детства видны пока отчетливо. Взгляд вечно скользит поверх, уходит в сторону, проникает насквозь, и в результате к своим тринадцати годам он насмотрелся едва ли на шесть.
Джим досконально изучил каждый квадратный дюйм своей тени, он запросто мог бы вырезать ее из черной бумаги и поднять на флагштоке, как свое знамя.
Вилли удивлялся, изредка замечая скользящее рядом темное пятно.
— Джим, ты не спишь?
— Нет, мама.
Дверь открылась и снова закрылась бесшумно. Кровать слегка прогнулась от ее невеликого веса.
— Ох, Джим, какие у тебя руки холодные. Прямо ледяные. У тебя слишком большое окно в комнате. Это не очень хорошо для здоровья.
— Точно.
— Ты еще не понимаешь. Вот будет у тебя трое детей, а потом из них один останется…
— Да я их вообще заводить не собираюсь! — фыркнул Джим.
— Все так говорят.
— Да нет. Я точно знаю. Я все знаю.
— Что ты… знаешь? — мамин голос слегка дрогнул.
— С какой стати новых людей плодить? Они ведь все равно умрут, — голос его звучал тихо и ровно. — Вот и все.
— Ну, это еще не все. Ты-то есть, Джим. А не будь тебя — и меня давно бы не было.
— Мама… — и долгая пауза, — ты помнишь папу? Я похож на него?
— Джим, в день, когда ты уйдешь, он уйдет навсегда.
— Кто?
— Ох, да лежи ты спокойно. Хватит уже, набегался. Просто лежи себе и спи. Только… обещай мне, Джим. Когда ты уйдешь, а потом вернешься, пусть у тебя будет куча детей. Пусть носятся вокруг. Позволь мне когда-нибудь побаловать их.
— Да не буду я заводить таких вещей, от которых потом одни неприятности.
— Каменный ты, что ли? Придет время, сам захочешь «неприятностей».
— Нет, не захочу.
Он посмотрел на мать. Да, ее ударило давным-давно. С той поры и навсегда остались синяки под глазами. В темноте глуховато и спокойно прозвучал ее голос:
— Ты будешь жить, Джим. Жить и получать удары. Только скажи мне, когда придет срок. Чтобы мы попрощались спокойно. А то я не смогу отпустить тебя. Что хорошего — вцепиться в человека и не отпускать? Она встала и закрыла окно.
— Почему это у мальчишек всегда окна нараспашку?
— Кровь горячая.
— Горячая… — она стояла возле двери. — Вот откуда все наши беды. И не спрашивай почему.
Дверь закрылась.
Джим вскочил, открыл окно и выглянул. Ночь была ясная.
«Буря, — подумал он, — ты там?»
Да. Чувствуется… там, на западе этакий «парень что надо» рвется напролом.
Тень от громоотвода замерла на дорожке под окнами.
Джим набрал полную грудь холодного воздуха и выдохнул маленькую теплую речку.
«А может быть, — подумалось ему, — залезть на крышу и отодрать этот дурацкий громоотвод? На фиг он нужен? Выкинуть его и посмотреть, что будет? Вот именно, посмотреть, что получится?»
10
Сразу после полуночи.
Шаркающие шаги. Пустынная улица, и на ней давешний торговец. Большущий кожаный саквояж, почти пустой, легко болтается в крепкой руке. Лицо спокойное. Он заворачивает за угол и останавливается.
Мягкие белые мотыльки бьются о витринное стекло, заглядывают внутрь. А там, за окном, в пустоте зала стоит на козлах погребальная ладья из звездного стекла — глыба льда Аляскинской Снежной Компании, бриллиант для перстня великана. Внутри… да, там внутри — самая прекрасная женщина в мире.
Торговец больше не улыбался.
Она предстала перед ним вечно юной; она упала в сонную холодность льда и спит уже тысячи лет. Прекрасная, как нынешнее утро, свежая, как завтрашние цветы, милая, как любая девушка, чей профиль совершенной камеей врезается в память любого мужчины.
Торговец громоотводами вздохнул. Когда-то, давным-давно он путешествовал по Италии и встречал таких женщин. Только там черты их хранил не лед, а мрамор. Однажды он стоял в Лувре перед полотном, а с картины, омытая летними красками, едва заметно улыбалась ему такая женщина. А как-то раз, пробираясь за кулисами театра, он бросил взгляд на сцену и примерз к полу. В темноте плыло лицо женщины, какой он не встречал больше никогда. Чуть шевелились губы, птичьими крыльями взмахивали ресницы, снежно-смертно-белым светом мерцали щеки.
Из прошлых лет возникали образы, накатывали, текли и обретали новое воплощение здесь, среди льда.
Какого цвета ее волосы? Они примут любой оттенок — только освободи их ото льда.
Какого она роста? Стоит двинуться перед витриной магазина, — и ледяная призма станет увеличительным или уменьшительным стеклом. Впрочем, какая разница? Торговец громоотводами вздрогнул. Он вдруг понял, что знает. Если она сейчас откроет глаза, он знает, какими они будут.
Если войти в этот пустынный ночной магазин… если протянуть руку… ведь рука теплая, лед растает.
Он прикрыл глаза. По губам скользнуло мимолетное летнее тепло. Он едва коснулся двери, и она открылась. Холодный северный воздух. Он шагнул внутрь.
Дверь медленно, бесшумно закрылась за ним. Белые снежинки-мотыльки колотились в окно.
11
Полночь. Потом городские часы пробьют час, два, три, и перед рассветом звон их стряхнет пыль со старых игрушек на одних чердаках, сбросит блестки амальгамы со старинных зеркал на других, расшевелит сны во всех постелях, где спят дети.
Вилли услышал.
Издалека, из прерий донесся звук: будто пыхтенье паровоза, а за ним медленный драконий лёт поезда. Вилли сел на постели.
В доме напротив, как в зеркале, на своей постели сел Джим.
Мягко, печально где-то за миллион миль заиграл калиоп.
Вилли рывком высунулся из окна. В соседнем окне появилась голова Джима. Из их окон, как и положено у мальчишек, можно было увидеть все: и библиотеку, и муниципалитет, и склад, и фермы, и даже саму прерию. Там, на краю мира, поблескивали, уходя за горизонт, волосинки рельс и переливалась лимонно-желтым и вишнево-красным звезда семафора. Там кончалась земля и из-за края гонцом грядущей тучи вставало перышко дыма. Оттуда, звено за звеном, вытягивался кольчатый поезд. Все как надо: сначала паровоз, потом угольный тендер, а за ним — вагоны, вагоны… сонные, видящие сны вагоны, но впереди — сыплющий искрами, перемешивающий ночь паровоз. Адские сполохи заметались по ошеломленным холмам. Он был очень далеко, и все же ребятам виделся черный человек с огромными руками, ввергающий в открытые топки метеорный поток черного угля.
Головы в окнах мгновенно сгинули и появились опять с биноклями у глаз.
— Паровоз!
— Гражданская война! Да таких труб уже сто лет нету!
— И остальной поезд… он весь такой старый!
— Флаги, клетки! Это карнавал!
Они прислушались. Сначала Вилли показалось, что это посвистывает воздух в горле, но нет, это был поезд, это там плакал и вздыхал калиоп.
— Похоже на церковную музыку…
— Черт! С чего бы на карнавале играть, как в церкви?
— Не ругайся! — прошептал Вилли.
— Черт! Во мне весь день копилось! — не унимался Джим. — А все так спят, черт бы их побрал!
Волна дальней музыки подкатывала к окнам. У Вилли мурашки пошли по коже.
— Нет, послушай: точно церковная музыка. Только немножко не такая. Бр-р! Замерз я. Пойдем, глянем, как они приедут.
— Это в четвертом-то часу?
— А чего? В четвертом часу!
Голова Джима исчезла. Вилли видел, как он скачет в глубине комнаты — рубашка задирается, штаны запутываются, — а далеко в ночи задыхался и шептал шальной похоронный поезд с черным плюмажем на каждом вагоне, с лакричного цвета клетками, и угольно-черный калиоп все вскрикивал, все вызванивал мелодии трех гимнов, каких-то спутанных, полузабытых, а может, и вообще не их.
Джим соскользнул по водосточной трубе.
— Джим! Подожди! — Вилли лихорадочно сражался с одеждой. — Джим! Да подожди же. Не ходи один! — Вилли кинулся следом за другом.
12
Иногда воздушного змея заносит высоко-высоко. Ты смотришь на него снизу и думаешь: «Он высоко. Он мудрый.
Он сам чует ветер». Змей свободно гуляет по небу сам по себе, сам высматривает местечко, куда приземлиться, и уж если высмотрел — кричи не кричи, бегай не бегай, он просто рвет бечевку и идет на посадку, а тебе остается мчаться к нему со всех ног, мчаться так, что во рту появляется привкус крови.
— Джим! Да подожди же!
Сейчас Джим стал змеем. Бечевка порвалась, и уж какая там мудрость — неизвестно, но она уносит его от Вилли, а Вилли только и остается бежать изо всех сил, бежать за темным и молчаливым силуэтом, парящим высоко, вдруг ставшим чужим и дальним.
— Джим! Я тоже иду!
Вилли бежал и думал: «Ба! Да ведь это все то же, что и всегда. Я говорю, Джим бежит. Я ворочаю камни, Джим мигом выгребает из-под них всякий хлам. Я взбираюсь на холм, Джим кричит с колокольни. У меня счет в банке, у Джима — буйная шевелюра, рубашка да теннисные туфли, и все же почему-то он — богач, а я — бедняк. Не потому ли, — думал Вилли, — что вот, я сижу на камне и греюсь на солнышке, а старик Джим танцует с жабами в лунном луче. Я пасу коров, а Джим дрессирует жутких чудищ. "Ну и дурак!" — кричу я ему. "Трус!" — кричит он в ответ. Но вот сейчас мы бежим туда, бежим оба».
Город остался позади, по сторонам мелькали поля. Под железнодорожным мостом мальчишек окатила волна холода. Луна вот-вот должна была показаться из-за холмов, и луга зябко вздрагивали под тонким росным одеялом.
Бамм!
Карнавальный поезд загрохотал под мостом. Взвыл калиоп.
— На нем не играет никто! — вздрогнув, прошептал Джим.
— Шутишь!
— Матерью клянусь! Сам погляди.
Платформа с калиопом удалялась. Свинцовые трубы мерцали под звездами, но за пультом никого не было. Только ветер гнал ледяной воздух в узкие щели, это ветер творил музыку.
Мальчишки мчались следом. Поезд изгибался, корчился под этот странный подводный похоронный звон, звук падал, падал, глох и все-таки звенел и звенел. Вдруг свисток паровоза взметнул огромный султан пара и вокруг Вилли заплясали ледяные жемчужинки.
Ночами — часто? изредка? — Вилли слышал свист пара на краю сна, одинокий, далекий голос поезда. Он всегда оставался далеко, как бы близко ни подходить к вагонам. Иногда Вилли просыпался и с удивлением трогал мокрые щеки — откуда это? Он снова откидывался на подушку, прислушивался и думал: «Да, это они заставляют меня плакать, те поезда, что идут на восток и на запад, они уходят, уходят вдаль, ночной прилив затопляет их, волна сна накрывает поезда, города…» Ночной плач поездов, заблудившихся между станциями, потерявших память о пункте отправления, забывших, куда ехать: они вздыхают печально и пар из их труб тает над горизонтом. Они уходят. Все поезда, всегда.
Но этот паровозный крик!
В нем одном были собраны все стенания жизни из всех ночей, из всех сонных лет, там слышался и заунывный вой псов, грезящих о Луне, в нем был посвист зимнего ветра с речной долины, когда он просачивается в щели веранды, и скорбные голоса тысяч огненных сирен, а то и хуже! — миллионы клубочков вздохов ушедших людей, уже мертвых, умирающих, не желающих умирать, все их стоны, вздохи и жалобы, разом рванувшиеся над землей.
Слезы брызнули у Вилли из глаз. Ему пришлось нагнуться, встать на колени, сделать вид, будто шнурок развязался. А потом он увидел, как Джим тоже трет глаза. Паровоз вскрикнул, и Джим вскрикнул в ответ. Паровоз взвизгнул и заставил Вилли взвизгнуть тоже. А потом весь этот сонм голосов разом смолк, словно поезд подхватил и умчал огненный нездешний вихрь.
Нет. Вот он скользит мягко, легко, черная бахрома трепещет, черные конфетти завиваются в сладком приторном ветре, сопровождающем поезд, опускаются на окрестные холмы, а ребята бегут следом, и воздух вокруг такой холодный, словно ешь уже третью порцию мороженого подряд.
Джим и Вилли взлетели на пригорок.
— Старик, — прошептал Джим, — он здесь.
Поезд забрался в лунную долину — излюбленное место прогулок всяких парочек. Обычно их так и тянуло за край холмов; там, словно внутреннее море, лежала падь, до краев полная лунным светом, зараставшая буйными травами по весне, заставленная стогами летом, заваленная снегом зимой. Да, это было дивное место для прогулок, когда над холмами вставала луна и призрачный свет трепетал и разливался на просторе.
И вот теперь, по старой железнодорожной ветке, исчезающей в лесу, сюда добрался, изогнулся и замер в осенней траве чудной поезд. Ребята поползли — иначе нельзя было — и притаились под кустом.
— Тихо как! — прошептал Вилли.
Поезд был недвижим. Никого не видать на локомотиве, никого в тендере, никого в вагонах. Черный безжизненный дракон под луной, и только остывающий металл позвякивает едва слышно.
— Тихо! — прошипел Джим. — Я чувствую, они там, внутри, шевелятся…
У Вилли волосы встали дыбом по всему телу.
— Может, они догадываются, что мы — тут?
— Запросто! — замирая от сладкой жути, подтвердил Джим.
— А почему калиоп опять слышно?
— Как узнаю, сразу тебе скажу! — огрызнулся Джим. — Смотри!
И откуда он только взялся, этот болотного цвета огромный воздушный шар? А вот уже летит, прямо к луне, поднявшись футов на двести.
— Смотри, там в корзине под шаром есть кто-то!
Но тут им стало не до шара. С высокой платформы, как с капитанского мостика, спускался высокий человек. Он и вправду был похож на капитана, наблюдающего за приливом в этом внутреннем море. Темный костюм, черная рубашка, лицо сумрачное, а на руках — черные перчатки. Вот он вошел в лунный столб и махнул рукой. Только один раз махнул.
Поезд ожил. В окне вагона показалась голова. Еще одна. Они возникали, как куклы в театре марионеток. И вот уже двое в черном волокут по шуршащей траве шест для шатра. Молча.
Безмолвие заставило Вилли отпрянуть, а Джим, наоборот, подался вперед. По всем правилам, карнавал должен был громыхать, греметь, как лесопилка, ему положено громоздиться штабелями, путаться в канатах, сталкиваться под львиный рык, возбужденные люди должны звенеть бутылками с шипучкой, а кони — бляхами на сбруе, слоны — в панике, зебры ржут и дрожат, вдвойне полосатые от прутьев клеток.
А здесь было как в старом немом кино с черно-белыми актерами. Рты открываются, но испускают один лунный свет. Жесты беззвучны, и слышишь, как ветер шевелит пушок у тебя на щеках.
Новые тени выходили из поезда, шли мимо звериных клеток, а там даже глаза не горели, только темнота металась из угла в угол. Калиоп почти смолк, лишь ветер, бродя по трубам, пытался наиграть дурацкий мотивчик.
Посреди поля встал шпрех-шталмейстер. Шар, точно здоровенный, заплесневевший зеленый сыр, повис прямехонько над ним.
И вдруг пришел мрак. В последний миг Вилли успел заметить, как шар ринулся вниз — и луна исчезла. Теперь он мог только чувствовать суету на поле. Ему казалось, что шар подхватили и растягивают на шестах, как огромного жирного паука.
Луна появилась. Облако слезло с нее, и выяснилось, что от шара остался один намек, а на лугу уже стоит готовый каркас.
Опять облака! Вилли окатила тень, и он вздрогнул. Ухо уловило шорох, это Джим пополз вперед. Вилли схватил его за ногу.
— Подожди! Сейчас парусину принесут.
— Нет, ой нет… — проговорил Джим.
Оба как-то сразу поняли: парусины не будет. В ней не было нужды. Канаты на верхушках шестов болтались из стороны в сторону, взмывали вверх, выхватывали из пролетающих облаков длинные ленты, и какая-то огромная тень заставляла облачные пряди сплетаться в покрывало. Шатер возникал прямо на глазах, и скоро остался только чистый плеск флагов на шестах.
Все замерло.
Вилли лежал с закрытыми глазами и слышал над головой хлопанье огромных маслянисто-черных крыльев — словно громадная древняя птица билась над полем. Она хотела жить.
Облака сдуло. Шар исчез. Люди сгинули. Палатки, растянутые на каркасах, струились и трепетали, как под черным дождем. Вилли показалось вдруг, что до города тысяча миль. Он быстро оглянулся. Ничего. Только травы и ночные шорохи. Он снова повернулся, теперь уже медленно, и оглядел безмолвные, темные, кажущиеся пустыми шатры.
— Не нравятся они мне, — в голос сказал он. Джим не мог отвести глаз.
— Ага, — завороженно прошептал он, — ага… Вилли встал. Джим остался лежать на траве.
— Джим! — позвал Вилли.
Джим вздрогнул, как будто его шлепнули по спине, Джим привстал на колени, Джим уже поднимался, уже тело его отвернулось, а глаза неотрывно прикованы к черным полотнищам, к огромным зазывающим транспарантам, к непонятным трубам, к дьявольским усмешкам темных, змеящихся складок.
Вскрикнула птица. Джим вскочил и перевел дух.
Облачные тени гнали их через холмы и оставили только на окраине города.
13
Вместе с ветром в распахнутое окно библиотеки вливался холод. Чарльз Хэллоуэй долго стоял возле окна, но теперь вдруг заторопился. По улице мчались две тени, обладатели теней неслись на шаг впереди.
— Джим! — окликнул старик негромко. — Вилли! Нет. Они не услышали и продолжали бежать. К дому.
Чарльз Хэллоуэй огляделся. Бродя в одиночестве по библиотечным коридорам, слабо улыбаясь внятным лишь ему речам веника в руках, он, конечно же, слышал и вскрик поезда, и бессвязные гимны калиопа.
— Три, — прошептал он едва слышно, — три утра… На лугу уже поднялись шатры, карнавал ждал кого угодно, кого-нибудь, способного преодолеть неширокое озерцо травы. Вздутые шатры тихонько выпускали воздух, он покидал их чрево, пропитавшись древними запахами больших желтых зверей.
Никого. Только луна старается заглянуть в угольную тень между балаганами. Неподвижно мчатся карусельные лошади. За каруселью раскинулись топи Зеркального Лабиринта. Там, вал за валом, поднимаются из глубин волны пустых тщеславий, отстоявшиеся за много лет, посеребренные возрастом, белые от времени. Появись у входа любая тень — отражения шевельнутся испуганно, в зеркалах начнут восходить глубоко похороненные луны. Доведись появиться на пороге человеку — не предстанет ли он сам перед собой миллионоликим? Вот он смотрит на них, а они на него; а ну как каждое из отражений вдруг обернется и взглянет на своего соседа, и лица начнут оборачиваться одно к другому, одно к другому, еще не старое — к тому, что постарше, это — к еще более почтенному, а оно — к совсем уже старому, потом к тому, что старше всех… Не разыщет ли стоящий у входа человек в пыльных глубинах лабиринта себя самого, но только уже не пятидесяти, а шестидесятилетнего, семидесяти, восьмидесяти, девяноста девяти лет?
У лабиринта не спросишь, не ответит лабиринт. Он просто ждет, похожий на огромную арктическую снежинку.
Три часа… Чарльз Хэллоуэй замерз. Кожа вдруг стала как у ящерицы, кровь словно подернулась ржавчиной, во рту — привкус ночной сырости. И почему-то никак не отойти от окна. Далеко-далеко на лугу что-то поблескивает, как будто лунный свет отражается в стекле. Может, эти вспышки — какой-то код, может, они говорят о чем-то?
«Я пойду туда, — подумал Чарльз Хэллоуэй. — Нет, я не пойду туда. Там хорошо, — подумал он. — Нет, там плохо», — тут же догнала следующая мысль.
Несколько минут спустя хлопнула, закрываясь, входная дверь. По пути домой он миновал окна пустого магазина. Внутри стояли козлы, а под ними — лужа грязноватой воды. Кое-где виднелись кусочки льда, а между ними — длинная прядь волос.
Чарльз Хэллоуэй заметил ее, но почел за благо не увидеть. Он отвернулся и прошел мимо, и вскоре улица опустела так же, как и пространство магазина за витринным стеклом.
А вдали, на лугу все поблескивал свет, отражаясь в Зеркальном Лабиринте. Там мелькали тени, словно осколки чьей-то жизни, еще не начавшейся, но уже пойманной и ожидающей воплощения.
Лабиринт ждал; его настороженный холодный взгляд скользил сквозь ночь, отыскивая хоть что-нибудь живое, хоть ночную птицу, пролетающую над лугом. Она заглянула бы внутрь… и пусть бы себе уносилась потом с заполошным криком дальше. Но не было ни одной птицы.
14
— Три, — произнес голос.
Вилли прислушался. Озноб еще прохватывал тело, но он уже согревался под одеялом и радовался, что вокруг — стены, над головой — крыша, и пол под ногами; что дверь, наконец, укрыла его от огромности ночи, от обширности ночных пространств и ночной свободы, слишком большой, слишком пустынной и одинокой…
— Три…
Это — голос отца… уже внутри, здесь, в доме. Он там, в гостиной, осторожно ходит и разговаривает сам с собой.
— Три…
Почему поезд пришел именно в это время? Значит, отец тоже видел его? Следил за ним? Нет! Он не должен. Вилли свернулся под одеялом в тугой клубок, стараясь унять дрожь. Что за ерунда? Чего он боится? Этого ворвавшегося, словно черный штормовой прилив, карнавала? Или того, что знают о нем только он с Джимом, да вот еще отец, наверное, а весь город спит и не подозревает ни о чем?
Да. Вилли зарылся в одеяло с головой. Да…
— Три…
Три — это три утра, думал Чарльз Хэллоуэй, сидя на краю постели. Почему поезд пришел именно в этот час?
Да потому, текли дальше мысли, что этот час — особый. Женщины ведь никогда не просыпаются в это время. Они спят сном младенцев. А мужчины средних лет? О, они хорошо знают этот час. О Господи, полночь — это совсем неплохо: проснулся — и уснул, и час, и два — не страшно, ну, заворочаешься и уснешь опять. А в шестом часу уже появилась надежда, рассвет недалеко. Но — три! Господи Иисусе, три пополуночи! Врачи говорят, тело в эту пору затихает. Душа выходит. Кровь течет еле-еле, а смерть подбирается так близко, как бывает только в последний час. Сон — это клочок смерти, но три часа утра, на которые взглянул в упор, — это смерть заживо! Тогда начинаешь грезить с открытыми глазами. Боже, если бы найти силы встать и перестрелять эти полусны! Но нет сил. Лежишь, приколоченный к самому дну, выжженному дотла. И эта дурацкая лунная рожа пялится на тебя сверху! Вечерней зари не осталось и в помине, а до рассвета еще сто лет. Лежишь и собираешь всю дурь своей жизни, какие-то милые глупости близких людей — а их давно уже нет… где-то было написано, что в больницах люди умирают чаще всего в три пополуночи…
— Хватит! — молча крикнул он.
— Чарли? — сонно-вопросительно пробормотала жена.
Он медленно снял второй ботинок. Жена слабо улыбнулась во сне… чему? Она бессмертна. У нее есть сын. Но ведь и у тебя тоже. Э-э, когда и какой отец на самом деле верил в это? Не выносив ребенка, не пережив боли? Кто из мужчин опускался во мрак и возвращался с сыном или дочерью так, как это делают женщины? Эти милые улыбающиеся создания владеют доброй тайной. Эти чудесные часы, приютившие Время, — они творят плоть, которой суждено связать бесконечности. Дар внутри них, они признали силу чуда и больше не задумываются о ней. К чему размышлять о Времени, если ты — само время, если претворяешь мимолетный миг вечности в тепло и жизнь? Как должны завидовать мужчины своим женам, как часто такая зависть оборачивается ненавистью к этим мягким существам, уже обретшим жизнь вечную! А мы? Мы становимся ужасно важными, хотя не способны удержать не только мир вокруг себя, но даже себя в мире. Слепые, не ведающие целого, мы падаем, разбиваемся, таем, останавливаемся и поворачиваем вспять. Мы не можем придать форму Времени. И что же остается? Страдать от бессонницы и пялить глаза в ночную темень.
Три после полуночи. Вот и вся нам награда. Три утра. Полночь души. Отлив. Душа остается на песке. И в этот час отчаяния приходит поезд. Почему?
— Чарли? — рука жены нашла его руку. — С тобой… все в порядке? Чарли? — Она спала.
Он не ответил. Он не смог бы объяснить, каково ему сейчас.
15
Лимонно-желтое солнце появилось на круглом синем небе. Птицы рассыпали в воздухе прозрачные журчащие трели. Вилли и Джим выглянули из окон.
Вроде бы ничего не изменилось. Вот только взгляд у Джима…
— Этой ночью, — проговорил Вилли, — что это было? Или — не было?
Они вгляделись в луговые дали. Воздух там сгущался, как сироп. Даже под деревьями не видно ни единой тени.
— Шесть минут! — крикнул Джим.
— Пять!
Через четыре минуты с шуршащими в животах кукурузными хлопьями ребята уже выколачивали из палой листвы красноватую пыль на окраине. Вот последний холм. Глаза наконец оторвались от земли под ногами.
Карнавал был тут. Шатры лимонно-желтые, как солнце, медно-желтые, как пшеничные поля еще две недели назад.
Вымпелы, флаги, яркие, как синие птицы, хлопают над холщовыми балаганами львиного цвета. Из палаток, похожих на леденцы, плывут субботние запахи яичницы с ветчиной, жареных сосисок и оладий с кленовым сиропом. Повсюду носятся мальчишки, таща на буксире еще не проснувшихся до конца отцов.
— Ну, прямо самый обычный карнавал, — растерянно проговорил Вилли.
— Самая обычная дьявольщина, — энергично произнес Джим. — Не ослепли же мы прошлой ночью, в самом деле! Пошли!
Они прошли сотню ярдов, и вот уже карнавал вокруг. Чем дальше они продвигались, тем яснее становилось: им не найти здесь тех ночных людей, что по-кошачьи двигались в тени болотного шара, под шатрами, клубящимися, как грозовые тучи. Вблизи карнавал оборачивался полусгнившими веревками, изъеденной молью парусиной, давно полинявшей, выгоревшей на солнце мишурой. Вывески балаганов обвисли на шестах печальными птицами, с них осыпались чешуйки древней краски; пологи трепыхались, приоткрывая на миг скучные чудеса: тощий человек, толстый человек, человек в картинках, человек, танцующий хула…
Сколько они ни рыскали, им так и не попалась таинственная сфера, надутая вредоносным газом, привязанная диковинными восточными узлами к рукоятям кинжалов, вонзенных в землю; не было ни помешанного билетера, ни жуткой мести. Калиоп возле билетной кассы был нем, как рыба. Ну а поезд? А что — поезд? Вон он стоит в густой теплой траве, сильно старый, в меру ржавый, с торчащими рычагами, шатунами и тендером, где даже второсортного кошмара не отыскать. Не было и в помине у этой развалины мрачного похоронного силуэта. Из него так много гари вылетело с паром и черными пороховыми хлопьями, что сил осталось разве на безмолвную просьбу полежать вот тут, на травке, среди осеннего листопада.
— Джим! Вилли!
Перед ребятами стояла мисс Фолей, учительница из седьмого класса, — одна сплошная улыбка.
— Мальчики, что стряслось? У вас такой вид, словно вы что-то потеряли.
— Да вот… — замялся Вилли, — калиоп… Вы не слышали прошлой ночью?
— Калиоп? Нет, не слыхала.
— А тогда как же вы оказались тут в такую рань, мисс Фолей? — спросил Джим.
— Я люблю карнавалы, — беспечно сияя, ответила мисс Фолей, маленькая улыбчивая женщина, заплутавшая между своим пятым и шестым десятком. — Давайте я куплю вам горячих сосисок, а пока вы будете есть, разыщу своего несносного племянника. Вы его не видели?
— Племянника?
— Да. Роберта. Он должен погостить у меня пару недель. У него умер отец, а мать после этого расхворалась. Вот я его и взяла к себе. Он еще спозаранок удрал сюда. Там, говорит, встретимся. Вот и ищи его теперь. Э-э, что-то вы сегодня не в духе. Ну, пожуйте пока, и нечего хмуриться! — она протянула мальчишкам угощение. — Через десять минут откроются аттракционы. Пойду-ка, посмотрю его в Зеркальном Лабиринте…
— Нет! — неожиданно выпалил Вилли.
— Что «нет»? — не поняла мисс Фолей.
— Не надо в Зеркальном Лабиринте, — судорожно глотнув, промолвил Вилли. Перед его глазами в глубине лабиринта проплыли мили отражений, а дна не было видно. Мальчику показалось, что там затаилась Зима и ждет, чтобы превратить в лед одним убийственным взглядом. — Мисс Фолей, — с трудом выговорил он, с удивлением вслушиваясь в звуки собственного голоса, — мисс Фолей, не ходите туда.
— Но почему?
Джим удивленно воззрился на друга.
— Да, Вилли, почему бы и не сходить туда?
— Там люди пропадают, — смущенно вымолвил Вилли.
— Ха! Тем более. А вдруг Роберт там заблудился? Этак он не выберется, пока я его за ухо не вытащу! — мисс Фолей была настроена по-боевому.
— Никто не знает, что там внутри плавает, — с трудом выговорил Вилли, не в силах отвести глаз от тысяч миль сверкающего стекла.
— Плавает! — рассмеялась мисс Фолей. — А ты — фантазер, Вилли! Ну да я-то старая рыбка, так что…
— Мисс Фолей!
Но она уже отошла от них, помахав на прощанье, на секунду помедлила перед входом, шагнула и исчезла в зеркальном океане. Некоторое время ребята еще видели, как ее отражение погружается все глубже и наконец окончательно растворяется среди мерцающего серебра.
Джим вцепился в плечо Вилли.
— Что это значит, Вилли?
— Черт побери, Джим! Да зеркала эти! Не нравятся они мне. Посмотри, они здесь единственные такие же, как ночью.
— Ну, приятель, ты просто перегрелся на солнце! — фыркнул Джим. — Это же лабиринт… — он вдруг умолк. От зеркальных стен потянуло ледяным сквозняком.
— Джим, ты что-то начал говорить про лабиринт… Но Джим молчал. Только спустя минуту он хлопнул себя ладонью по шее.
— Точно!
— Да что с тобой, Джим? О чем ты?
— Волосы! — выкрикнул Джим. — Я же везде про это читал. Во всех страшных историях они всегда дыбом встают. Вот как сейчас у меня.
— Черт возьми, Джим! И у меня тоже.
Так они и стояли, переглядываясь, чувствуя восхитительные мурашки, а волосы у каждого и правда стояли дыбом.
В Зеркальном Лабиринте беспомощно тыкался силуэт мисс Фолей, — два силуэта, четыре, нет, целая дюжина. Они не знали, которая из них настоящая, и помахали всем сразу. Но вот странность — ни одна мисс Фолей не заметила их и не помахала в ответ. Она брела там, в лабиринте, словно слепая, скользя ногтями по холодному стеклу.
— Мисс Фолей!
Нет, она не слышит. Глаза побелели, как у статуи. Она что-то говорила, там, в зеркалах, во всяком случае, губы ее шевелились. Она бормотала, причитала, вскрикивала, нет, кричала. Она билась головой о стекло, колотилась в него локтями, словно ошалевший мотылек о лампу, она воздевала руки. «О Господи! Помоги! — плакала она. — Помоги, о Господи!»
Джим и Вилли бросились вперед и замерли — из глубины зеркал выплыли их бледные лица с широко раскрытыми глазами.
— Мисс Фолей, вот сюда! — Джим протянул руку ко входу и наткнулся на холодное стекло.
— Сюда! — крикнул Вилли и ткнулся лбом в зеркало. Из пустоты вынырнула рука, рука пожилой женщины, уже обессиленная, она в последний раз искала спасительную опору, и этой опорой оказался Вилли. Рука вцепилась в него и потащила в глубину, едва не сбив с ног.
— Вилли!
— Ай, Джим!
Джим ухватил друга за штаны. Вилли вцепился в руку и так они вместе вытащили ее из безмолвных, обступающих со всех сторон, накатывающихся волной холодных зеркал.
Они выбрались на солнце.
Мисс Фолей, ощупывая синяк на щеке, то постанывала, то вздыхала, то принималась смеяться и вытирать глаза.
— Спасибо вам, спасибо, Вилли, спасибо, Джим! Я чуть не утонула там. Нет, я хотела сказать… О Боже, Вилли, ты был прав. Господи, Вилли, ты видел, как она заблудилась, как тонула… Бедняжка, она там совсем одна, она заблудилась! Мы должны спасти ее!
— Мисс Фолей! — Вилли с трудом удерживал руки, норовившие вцепиться в него. — Там же нет никого! Мисс Фолей!
— Я видела! Прошу вас, посмотрите! Спасите ее! Вилли подскочил ко входу в Лабиринт и остановился, наткнувшись на ленивый, презрительный взгляд билетера. Он повернулся и подошел к учительнице:
— Мисс Фолей! Клянусь вам, там нет никого. После вас никто туда не входил. Это я неудачно пошутил насчет воды, вот вам, наверное, и запало…
Может быть, она и услышала, но никак не могла остановиться и все бормотала, растирая тыльные стороны ладоней. Голос учительницы изменился, словно она и правда каким-то чудом вернулась из невообразимых глубин, где нет уже никакой надежды.
— Никто не входил? Да она там, на дне! Бедная девочка! Я узнала ее… и сказала ей: «Я знаю тебя». Я даже помахала ей, и она крикнула мне: «Привет!» Я побежала к ней, и вдруг — бац! упала. И она упала. И десятки, тысячи нас упали. «Погоди, — сказала я, — что ты тут делаешь?» Она была такой прелестной, такой юной… Но я почему-то испугалась. И тут мне послышалось, что она ответила: «Я — настоящая, — говорит, — а ты — нет!» — и засмеялась как из-под воды, а потом убежала туда, в лабиринт. Надо найти ее!
— Мисс Фолей! — Вилли крепко обхватил ее и встряхнул. Она в последний раз всхлипнула и затихла.
Джим все вглядывался в холодные глубины, словно высматривая акул, но если они и были там, то предпочитали не показываться.
— Мисс Фолей, а как она выглядела? — спросил он.
Учительница заговорила снова слабым, но спокойным голосом:
— Она… она очень похожа на меня… только много-много лет назад. Ох, пойду-ка я домой…
— Мисс Фолей, мы проводим вас.
— Нет-нет, оставайтесь. Мне уже лучше. Оставайтесь, не стану портить вам веселье, — и она медленно пошла прочь. Одна.
Где-то неподалеку немаленький зверь напустил лужу. Ветер принес резкий запах аммиака, почему-то напомнивший о древности.
— Я ухожу, — сказал Вилли.
— Мы остаемся до заката, — быстро возразил Джим. — До самого темна, и все углядим, все как есть. Ты что, сдрейфил?
— Нет, — автоматически ответил Вилли. — А ты уверен, что никто не захочет больше нырнуть в этот чертов лабиринт?
Джим быстро взглянул в бездонное зеркальное море, но там был теперь только чистый холодный свет, он открывал пустоту за пустотой позади пустоты.
— Никто! — твердо вымолвил Джим. Подождал, пока сердце стукнет дважды, и пробормотал: — Наверное…
16
Плохое случилось уже на закате. Исчез Джим.
За целый день они с Вилли перепробовали половину аттракционов, разбили кучу бутылок в тире, выиграли кучу жетонов, принюхивались, прислушивались, прокладывали себе путь в толпе, топчущейся на опавших листьях и опилках. А потом, совершенно неожиданно, Джим пропал.
Тогда Вилли, никого не спрашивая, молча и уверенно протиснулся через толпу и под небом цвета спелой сливы вышел к лабиринту, заплатил за вход и шагнул внутрь. Потом он тихо позвал только один раз: «Джим!»
Да, Джим был там, наполовину внутри, наполовину снаружи холодных стеклянных волн. Словно его выбросило на песок, а друг его ушел далеко, и неизвестно — вернется ли когда-нибудь. Казалось, Джим стоит здесь уже часы, неподвижный, моргая едва ли раз в пять минут, губы чуть приоткрыты, стоит и ждет следующей волны, чтобы она открыла ему еще больше.
— Джим! Пошли отсюда!
— Вилли… — Джим едва заметно вздрогнул, — оставь меня.
— Жди-ка! — Одним прыжком Вилли добрался до Джима, схватил за пояс и потащил за собой. Кажется, Джим даже не понимал, что его волокут вон из лабиринта. Он слабо упирался и, похоже, протестовал, повторяя завороженно: «Вилли, о Вилли, Вилли!..»
— Джим! Сдурел ты, что ли? Я тебя домой веду!
— Что? Куда? Что?
Вот они уже снаружи, на ветерке. Небо налилось темнее сливы, только высокие редкие облачка еще ловили закатный свет. Отсвет пробежал по лицу Джима, по приоткрытым губам, мелькнул в невероятно позеленевших глазах.
— Джим! — тряс друга Вилли. — Что ты там видел? То же, что и мисс Фолей?
— Что? — слабо переспросил Джим.
— Счас как дам по носу! А ну, иди давай!
Вилли пихал, подталкивал, подгонял, почти силком тащил ошалевшего от загадочного восторга, слабо упирающегося друга.
— Я не могу тебе сказать, Вилли, — бормотал Джим, — ты не поверишь… не знаю, как сказать. Там, внутри, о, там в глубине…
— Заткнись! — Вилли стукнул его по плечу. — Перепугал меня черт-те как! Давеча мисс Фолей, теперь ты. С ума сойти. Гляди, время-то к ужину! Дома нас уж похоронили, небось.
Шатры остались позади, под ногами шуршала стерня, и Вилли все поглядывал вперед, на город, а Джим все озирался назад, на хлопающие, быстро теряющие краски флаги на шестах.
— Вилли! Нам обязательно нужно вернуться попозже…
— Надо тебе, вот и возвращайся! Джим остановился.
— Но ты же не отправишь меня одного, а? Вилли, ты же обещал, что всегда будешь рядом! Чтобы защищать меня, а, Вилли?
— Это еще неизвестно, кто кого защищать будет, — расхохотался было Вилли, но тут же замолчал. Джим странно, без улыбки, смотрел на него, а темнота словно заливала это знакомое лицо, скапливаясь во впадинах ноздрей, в ямах вдруг глубоко запавших глаз.
— Вилли, ты ведь будешь со мной? Всегда?
Теплая волна обдала Вилли. В груди, возле сердца, шевельнулся ответ: «Да. Ты ведь и так знаешь, что да».
Они оба повернулись разом, шагнули и… споткнулись о тяжело лязгнувшую кожаную сумку.
17
Они долго стояли над ней. Вилли пошевелил сумку ногой. Внутри снова тяжело звякнуло.
— Это же сумка торговца громоотводами, — неуверенно произнес Вилли.
Джим наклонился, запустил руку в сумку и вытащил металлический стержень, сплошь покрытый химерами, клыкастыми китайскими драконами с огромными выпученными глазами, рыцарями в доспехах, крестами, полумесяцами, всеми символами мира. Все упования, все надежды человеческие тяжким грузом легли в руки ребят.
— Гроза так и не пришла. Зато он ушел.
— Куда? А как же сумка? Почему он ее бросил?
Оба одновременно оглянулись на карнавал позади. От парусиновых крыш волна за волной накатывал холод. От луга к городу шли машины. Мальчишки на велосипедах свистом звали собак. Скоро дорогу накроет ночь, скоро тени на чертовом колесе поднимутся до самых звезд.
— Люди не станут бросать посреди дороги всю свою жизнь, — заметил Джим. — У него больше ничего не было, и если что-то заставило его просто забыть сумку на дороге, значит, это был не пустяк, — глаза у Джима загорелись, как у гончей, взявшей след.
— Пустяк не пустяк, но чтобы вот так про все забыть?.. — недоумевал Вилли.
— Вот видишь! — Джим с любопытством наблюдал за другом. — Загадка на загадке. Грозовой торговец, сумка торговца… Если мы сейчас не вернемся, то никогда ничего не узнаем.
— Джим… — Вилли уже колебался. — Ладно. Только на десять минут.
— Точно! А то темнеет уже. Все дома, ужинают. Одни мы здесь и остались. Ты подумай, как здорово! МЫ. ОДНИ. Да еще и возвращаемся.
Они прошли мимо Зеркального Лабиринта. Из серебристых глубин навстречу им выступили две армии — миллион Джимов наступал на миллион Вилли. Армии столкнулись, смешались и исчезли. Вокруг не было ни души.
Ребята стояли посреди темного карнавала и невольно думали о десятках своих знакомых, уплетающих ужин в теплых, светлых кухнях.
18
Крупные красные буквы кричали:
«Неисправность! Не подходить!»
— А! Это с самого утра здесь висит, — махнул рукой Джим. — Вранье, по-моему.
Ребята стояли перед каруселью, а от вершин старых дубов накатывались на них волны жестяного шелеста. Кони, козы, антилопы и зебры замерли на кругу, пронзенные медными копьями. Словно рука могучего небесного охотника разом метнула смертоносные жала, пригвоздила несчастных животных к деревянному кругу, и они застыли, мучительно выгнувшись, умоляя раскрашенными испуганными глазами о милосердии и страдальчески оскалив зубы.
— Вовсе она не сломана, — с этими словами Джим перемахнул звякнувшую цепочку и ступил на вращающийся круг. Его сразу обступили зачарованные звери.
— Джим!
— Да ладно, Вилли. Мы же только карусель и не видели. Значит…
Джим качнулся. Лунатический карусельный мир дрогнул и слегка накренился. Звери шевельнулись. Джим хлопнул по шее темно-сливового жеребца.
— Эй, парень! — Из темноты за машинной будкой выступил человек, шагнул и подхватил Джима.
— Ай! — завопил Джим. — Вилли!
Вилли как стоял, так и прыгнул через цепочку ограждения и первый ряд зверей. Человек улыбнулся, ловко подхватил и его тоже, а потом поставил рядом с Джимом. Теперь они стояли бок о бок и глазели на буйную рыжую шевелюру над ярко-синими глазами незнакомца. Под тонкой рубашкой буграми перекатывались могучие мышцы.
— Неисправна, — мягко сказал человек. — Вы что, читать не умеете?
— Отпусти-ка их! — произнес новый властный голос. Ни Джим, ни Вилли не заметили, откуда взялся еще один мужчина. Он стоял возле самой цепочки.
— Доставь-ка их сюда, — повелел он.
Рыжий атлет плавно перенес ребят над спинами безропотных зверей и поставил в пыль у входа.
— Мы… — начал было Вилли.
— Любопытствуете, — не дал ему договорить вновь прибывший. Был он высок, как фонарный столб, и бледен так, что вокруг лица расплывались лунные блики. Брови, волосы, костюм — антрацитового цвета, а жилет — кроваво-красный, и янтарная булавка в галстуке в тон медово-желтым глазам. Впрочем, глаз Вилли поначалу не разглядел. Его поразил костюм долговязого, сделанный из удивительной материи. Такую ткань можно было бы получить, ссучив нить из зарослей «кабаньей ежевики»[8], пружинной твердости конского волоса, щетины и такой, знаете, блескучей конопли. Ткань все время шевелилась, отливала и вспыхивала, а на ощупь она была, кажется, как самый колючий твид. В таком костюме человек должен был бы мучиться несказанно, страшный зуд любого заставил бы рвать на себе одежду, а этот стоял себе, как ни в чем не бывало, невозмутимый, как луна, ныряющая меж облаков, и внимательными рысьими глазами наблюдал за Джимом. На Вилли он и не посмотрел ни разу.
— Я — Дарк, представился человек-жердь и взмахнул белой визитной карточкой. Она тут же стала синей.
Шелест. Карточка покраснела. Взмах. На ней проступил зеленый человек, свисающий с дерева. Карточка мелькала, приковывая взгляд.
— Дарк — это я. А вот этот рыжий мистер — мой друг Кугер. Кугер и Дарк.
Опять шелест. На карточке пронеслись и исчезли какие-то имена. Выступили слова:
«СОВМЕСТНОЕ ШОУ ТЕНЕЙ»,
мигнули и растаяли. На их месте крошечная, но противная ведьма мешала в заплесневевшем горшке какое-то гнусное варево. Но и ее в свою очередь согнали крупные буквы:
«МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ АДСКИЙ ТЕАТР».
Дарк протянул карточку Джиму. Джим принял ее и прочитал: «Наша специальность: проверка, смазка, полировка и ремонт жуков-могильщиков». Джим и глазом не моргнул. Секунду он рылся в бездонном кармане, полном сокровищ, как пиратский сундук, что-то выудил и протянул мистеру Дарку. На ладони лежал дохлый коричневый жук.
— Вот, — ровным голосом произнес Джим, — займитесь им.
— Ловко! — расхохотался мистер Дарк. — Один момент! — Он протянул руку за жуком, и из-под манжеты рубашки на миг выглянули пурпурные, темно-зеленые и ярко-синие драконы, перевитые латинскими, кажется, надписями.
— О! — воскликнул Вилли. — Человек-в-Татуировке!
— Нет, — Джим внимательно всмотрелся, — Человек-в-Картинках. Не одно и то же.
— Верно, парень, — мистер Дарк благодарно кивнул. — Как звать тебя?
«Не говори! — мысленно завопил Вилли и тут же с недоумением спросил сам себя: — А почему, собственно?»
— Саймон! — назвался Джим и криво ухмыльнулся, намекая на возможность существования других вариантов своего имени.
Мистер Дарк понимающе ухмыльнулся в ответ:
— Хочешь увидать побольше, а, «Саймон»?
Джим с независимым видом кивнул, вроде бы и не очень ему хотелось. Медленно, с нескрываемым удовольствием мистер Дарк засучил рукав рубашки до локтя. Джим так и впился глазами в руку. Больше всего она напоминала кобру, изготовившуюся для броска. Мистер Дарк пошевелил пальцами, мышцы задвигались, картинки ожили.
Вилли очень хотелось посмотреть поближе, но он остался стоять на месте и только твердил про себя: «Джим! Ой, Джим!»
Джим и долговязый откровенно изучали друг друга. Колючий костюм Дарка словно оттенял рдевшие щеки и пляшущие глаза Джима. Казалось, Джим только что порвал ленточку в десятимильном забеге и теперь с пересохшими губами стоит и не может прийти в себя, готовый принять любую награду за свою победу. И вот она, награда — живые картинки, разыгрывающие пантомиму от одного только биения пульса под иллюстрированной кожей. Джим смотрел, не отрываясь, а Вилли было не видать, поэтому он стоял и думал о последних горожанах, возвращавшихся в город в теплых машинах, спешащих к ужину…
— Ух ты, вот черт! — слабым голосом проговорил Джим, и мистер Дарк тут же опустил рукав.
— Все. Представление окончено. Пора ужинать. Карнавал закрывается до семи утра. Все уходят. Приходи завтра, «Саймон», покатаешься на карусели, когда ее починят. Возьми мою карточку, для тебя вход свободный.
Джим, все еще не в силах оторвать глаз от запястий Дарка, взял карточку и сунул в карман.
— Ну, пока!
Джим повернулся и побежал. Спустя секунду Вилли кинулся за ним. Джим оглянулся через плечо, изогнулся, подпрыгнул и… исчез. Вилли растерянно остановился. У него над головой из-за ствола дерева выглянул Джим. Мистер Дарк и Кугер склонились над механизмом карусели.
— Быстро, Вилли! — зашипел из ветвей Джим. — Прыгай сюда! Да скорее же, а то увидят!
Вилли не очень ловко подпрыгнул, Джим подхватил его и втащил наверх. Дерево затряслось. Ветер прошумел в кроне.
— Джим! Зачем… — начал было Вилли.
— Заткнись! И смотри! — яростно зашептал Джим.
Со стороны карусели доносилось металлическое постукивание, позвякивание, слабый скрип.
— Что у него там на руке было, Джим?
— Картинки.
— Ясно, картинки. Какие?
— Ну… такие, — Джим прикрыл глаза, словно пытаясь вспомнить. — Ну, знаешь, змеи там всякие, — он почему-то отвел глаза.
— Не хочешь, не говори, — пожал плечами Вилли.
— Да нет. Я же сказал: змеи. Хочешь, я попрошу его показать и тебе… попозже?
«Нет, — подумал Вилли, — нет, не хочу». Он посмотрел вниз. Под деревом, в дорожной пыли застыли тысячи отпечатков ног, а людей и след простыл. Вилли вдруг подумалось, что ночь теперь куда ближе, чем день.
— Я домой пойду, — неуверенно пробормотал он.
— Точно, Вилли, иди. Тут, значит, Зеркальные Лабиринты, старые учительницы, сумки с громоотводами, пропадающие торговцы, змеи на картинках шевелятся, нормальную карусель чинят, а ты, стало быть, домой? Ну ладно. Пока, старина!
— Я… — Вилли взглянул вниз и замер.
— Все чисто? — раздался голос почти прямо под деревом.
— Чисто! — ответили издали.
Мистер Дарк подошел к красной машинной коробке карусели, внимательно огляделся. Несколько мгновений он смотрел на дерево у дороги.
Вилли попытался вжаться в ствол.
— Включай!
Под стук, звон и бряканье карусель двинулась с места.
«Но ведь она же сломана!» — в панике подумал Вилли и растерянно оглянулся на Джима. Тот показывал вниз. И тут только Вилли заметил: карусель вращалась в обратную сторону!
Небольшой калиоп внутри механизма сопел, сипел, свиристел, брякал и позванивал.
«И музыка тоже наоборот», — подумал Вилли.
Как будто уловив его мысли, мистер Дарк дернулся и снова пристально посмотрел на дерево. Ветер завихрил вокруг Вилли черную листву. Мистер Дарк едва заметно пожал плечами и отвернулся.
Взвизгивая и нелепо вихляясь, карусель крутилась все быстрее. Мистер Кугер для проверки прошел немного по дороге и остановился прямо под деревом. Вилли запросто мог бы плюнуть в него. В это время калиоп вскрикнул особенно пронзительно. В далеком пригороде отозвались собаки. Будто получив сигнал, мистер Кугер помчался обратно по дороге и с разбега ловко вскочил на карусель, оседлав какое-то унылое животное, спешившее задом наперед. Торчали во все стороны буйные огненно-рыжие волосы мистера Кугера, на розовом лице сияли ярко-синие глаза. Карусель летела, и музыка летела, не отставая. Наоборот. «А откуда я знаю, что она началась с конца?» — подумал Вилли. Крепко вцепившись в сук, он пытался поймать мотив и сообразить, что это за мелодия, но литавры, колокольцы и барабаны били его в грудь, захватывали сердце и все подгоняли, подгоняли, заставляя кровь течь по жилам вспять, пульс — колотиться в висках, а руки — слабеть. Цепенея, Вилли изо всех сил сжимал сук. Он не мог оторвать глаз от взбесившейся карусели и невозмутимой фигуры мистера Дарка, стоявшего рядом, за пультом.
Джим первым заметил новую странность и пихнул в бок Вилли. Мистер Кугер! Вот его снова вынесло вперед, и Вилли оторопел. Лицо мистера Кугера таяло, как розовый воск. Руки на глазах становились кукольными, тело под одеждой усыхало, да и одежда сжималась тоже, морщась и корячась. Скрылся. Появился снова, став еще меньше.
Огромным лунным сновидением разворачивалась карусель, волокла против естества несчастных лошадей, засасывала воздух под дикую музыку, а мистер Кугер, обыкновенный рыжий мистер Кугер с каждым оборотом становился все моложе и моложе. Годы слетали с него, как пыль, он беззаботно поглядывал на звезды, скользил взглядом по населенному мальчишками дереву, словно не замечая, как мельчают черты его лица, заостряется носик, розовеют, тая, уши.
Если в начале карусельной круговерти ему было сорок, то теперь — едва ли девятнадцать. На глазах у всех мужчина превращался в юношу; юноша — в мальчика… Вот ему семнадцать, шестнадцать… Еще оборот, еще… Вилли что-то шепчет. Джим считает круги, а ночной воздух теплеет, разогревается от трения, от необузданного полета шальных зверей; но уже медленнее вращение, реже вскрики калиопа, и вот, наконец, шипение, усталый свист, музыка проскулила жалобно в последний раз, карусель словно наехала на водоросли в воде и встала.
В деревянном седле виднелась тщедушная фигурка. Лет двенадцать. Губы Вилли без его участия шепнули: «Нет!» Губы Джима шевельнулись: «Нет!»
Маленькая тень сошла с круга. Лица не видать, а на руки падает свет фонаря. Розовые, сморщенные, словно новорожденные руки…
Мальчик-мужчина стрельнул глазами. Кажется, он чуял волны благоговейного ужаса, исходящие от дерева. Ужасный взгляд, как железный шип, пронзил листву. Маленький человек повернулся, замер, а потом по-кроличьи чесанул по дороге.
Джим раздвинул мешавшие листья. Мистер Дарк тоже уходил следом. Вилли не чаял дождаться, пока Джим спустится вниз. Но вот, наконец, они стоят на земле, потрясенные разыгравшейся пантомимой, ошеломленные таким поворотом событий. Первым заговорил Джим. Провожая глазами крошечную фигурку, улепетывающую по дороге, он сипло произнес:
— Да, Вилли, я тоже хочу домой, хочу поесть в тепле и покое. Но мы уже слишком много видели. Надо же досмотреть до конца, а? Ведь надо?
— Господи! — взмолился Вилли в полном отчаянии. — Да, я думаю, надо.
И они вместе побежали вослед невесть чему и незнамо куда.
19
За холмами быстро гасли бледные закатные отсветы. За чем бы ни охотились ребята — оно далеко впереди, так далеко, что не понять — есть или нет. И все же, если вглядеться, под дальними фонарями нет-нет да и мелькнет бегущая фигурка.
— Двадцать восемь! — выдохнул Джим. — Двадцать восемь раз он прокрутился.
— Ничего себе — карусель! — помотал головой Вилли.
Маленькая фигурка далеко впереди остановилась и оглянулась. Джим и Вилли разом прянули за дерево, выжидая, пока это двинется дальше.
«Это, — подумал Вилли, — но почему "это"? Он же мальчишка… или мужчина? Нет. Это то, что менялось, вот оно что!»
Они рысцой миновали окраину, и тут Вилли осенило.
— Слушай, Джим. Наверное, их там двое было, на карусели. Мистер Кугер и этот парнишка…
— Нет, — отрезал Джим. — Я с него глаз не спускал. Они бежали мимо парикмахерской. Вилли скользнул глазами по какому-то объявлению в витрине и не смог сложить буквы. Впрочем, он тут же забыл об этом.
— Эй! Он свернул на улицу Калпеппера! Живей! Они резко повернули за угол.
— Ушел!
Улица под фонарями лежала длинная и пустая. «Классики», расчерченные на тротуарах, заметало палой листвой.
— Вилли! А ведь мисс Фолей на этой улице живет?
— Да, вроде бы. В четвертом доме, кажется… Только… — он не закончил.
Джим притормозил, засунув руки в карманы, и, посвистывая, зашагал дальше небрежной походкой. Вилли шел рядом. Пройдя третий дом, они посмотрели наверх. В одном из слабо освещенных окон кто-то стоял. Кажется, это был мальчишка лет двенадцати.
— Вилли! — одними губами позвал Джим. — Этот парень…
— Ее племянник?..
— Племянник, как же! Держи карман! Отвернись, может, он по губам читать умеет. Давай помедленнее. До угла, а потом — обратно.
Ты лицо его видел? Глаза, Вилли! Они-то у людей не меняются, будь тебе хоть шесть, хоть шестьдесят. Лицо у него точь-в-точь как у мальчишки, но глаза-то — мистера Кугера!
— Нет! — Да!
Они остановились. Вздрагивая от бешеных толчков под ребрами, Джим крепко взял Вилли за руку и повел.
— Неужели ты не помнишь, какие у этого Кугера глаза были, когда он нас подхватил? А потом этот тип чуть меня на дереве не увидел. Ух! Никогда не забуду! И вот сейчас, в окне, те же самые глаза. Давай еще разок пройдемся, и помедленнее, поспокойнее. Надо же как-то предупредить мисс Фолей, какая у нее штука дома прячется.
— Постой, Джим, да как же ты предупредишь ее?
Джим не ответил. Только глянул искоса зеленым сияющим глазом. Вилли опять, как уже бывало, вспомнил одного знакомого старого пса. Тот жил себе спокойно месяц за месяцем, но потом однажды наступал момент, и пес исчезал на несколько дней, а то и на неделю. Домой он возвращался весь в репьях, прихрамывая, тощий, от него несло всеми помойками и болотами в округе. Можно было подумать, он для того только и выискивал места погрязнее, чтобы потом вернуться домой с глуповатой, смущенной улыбкой на морде. Отец звал его Платоном в честь древнего философа. Как и Платон, пес, похоже, все знал и все понимал. Вернувшись на тропу добропорядочности, он месяцами не сходил с нее, но однажды все начиналось сначала. «И вот сейчас, — думал Вилли, — на Джима тоже накатило. Уши торчком, нос — по ветру, он что-то слышит внутри. Может быть, тиканье часов, отсчитывающих другое, нездешнее время? Вон, у него даже язык длиннее стал. Ишь, облизывается…»
Они снова остановились возле дома мисс Фолей, но в окне никого не было.
— Давай поднимемся, позвоним, — предложил Джим.
— Хочешь столкнуться с ним нос к носу?
— Надо же удостовериться. Лапу ему потрясти, в глаза посмотреть, или куда там еще.
— Ты что, прямо при нем предупреждать ее будешь?
— Да зачем? Потом позвоним ей и все расскажем. Пошли!
Вилли вздохнул и покорился. Поднимаясь по ступенькам, он не знал, хочется ли ему, чтобы в этом мальчишке скрывался мистер Кугер.
Джим подергал дверной колокольчик.
— А если он откроет? — не удержался Вилли. — Знаешь, я так сдрейфил, что с меня пыль осыпается. А ты что, вовсе не боишься?
Джим с интересом изучил свои спокойные ладони, повертел их так и сяк.
— Да будь я проклят! — выдохнул он. — Ты в точку попал: не боюсь я.
Широко распахнулась дверь, и на пороге предстала улыбающаяся мисс Фолей.
— Джим! Вилли! Очень мило с вашей стороны!
— Мисс Фолей! — выпалил Вилли. — У вас все о'кей? Джим в ярости взглянул на него.
— О! А почему бы и нет? — удивилась мисс Фолей. Вилли сильно покраснел.
— Да мы просто… просто беспокоились. Эти проклятые карнавальные зеркала!
— Ерунда! Я уже и забыла о них. Может, войдете? — она все еще распахивала перед ними дверь.
Вилли шаркнул ногой и уже собрался ответить, но замер. Занавеска позади мисс Фолей колыхнулась и обвисла, как темно-синий дождь, летящий наискось в дверном проеме. В том месте, где капли неподвижного дождя почти касались пола, торчали маленькие запыленные сандалии. Где-то за занавеской слонялся, видно, и сам недавний злой беглец.
«Злой? — опять подумал Вилли. — Да откуда я взял, что он — злой? А, впрочем, с чего бы ему не злым быть? Именно: злой мальчишка».
— Роберт? — мисс Фолей обернулась к дождевой завесе. Потом она взяла Вилли за руку и ввела в квартиру. — Роберт, иди познакомься с моими учениками!
Сквозь синие дождинки просунулась песочно-розовая рука и словно пощупала, какая там, в прихожей, температура.
«Вот беда-то! — успел подумать Вилли. — Счас он ка-ак на меня глянет, и тут же поймет все. У меня же эта карусель прямо в глазу отпечаталась, как… как от молнии!»
— Мисс Фолей, — с трудом произнес Вилли.
Сквозь тускло мерцающий занавес непогоды выглянуло розовое лицо.
— Мисс Фолей, мы должны сказать вам ужасную вещь…
Джим ударил его по руке. Сильно ударил. Вот уже следом за лицом и тело проскользнуло через текучий полог. Мальчик. Стоит. А позади шуршит тихий дождь.
Мисс Фолей слегка подалась вперед, к Вилли. Она ждет. Джим больно ухватил за локоть, тряхнул. Вилли сбился; вспыхнул и вдруг выпалил:
— Мистер Крозетти!
Внезапно перед его мысленным взором совершенно отчетливо всплыла бумажка в окне парикмахерской. Там было написано: «Закрыто из-за болезни».
— Мистер Крозетти, — зачастил Вилли, — он… он умер!
— Как? Парикмахер?
— Парикмахер? — ахнул рядом пораженный Джим.
— Вот, видите? — Вилли зачем-то потрогал себя за голову. — Это он стриг. А сейчас мы шли там… и написано… а люди сказали…
— Какая жалость! — мисс Фолей попыталась незаметно подтащить к себе поближе розоволицего мальчишку. — Мне, право, жаль. Мальчики, познакомьтесь, это — Роберт, мой племянник из Висконсина.
Джим протянул руку. Племянник с любопытством исследовал ее.
— Чегой-то ты на меня уставился? — спросил он.
— Кого-то ты мне напоминаешь, — протянул Джим. «Джим!» — мысленно завопил Вилли.
— О! Ты на дядюшку моего здорово похож, — нарочито спокойно закончил Джим.
Глаза племянника метнулись к Вилли. Что было делать? Пришлось сосредоточенно изучать пол под ногами. «Нельзя же, в самом деле, дать ему посмотреть мне в глаза, — думал Вилли. — Там же кто хочешь увидит эту сумасшедшую карусель!» Его так и подмывало напеть мотив той музыки-наоборот. «А все-таки надо, — думал он. — Пора. А ну-ка, посмотри на него!» Вилли поднял глаза и в упор взглянул на мальчишку. Бред, дичь, чушь собачья! Пол качнулся под ногами и поехал в сторону. Розовая праздничная маска безупречно изображала милое мальчишеское лицо, а сквозь прорези странно светились глаза мистера Кугера, глаза пожилого человека, яркие, острые звезды из тех, чей свет добирается до земли миллион лет. Сквозь маленькие прорези для ноздрей входит теплый воздух, а вырывается ледяное дыхание мистера Кугера! И леденцовый розовый язычок — точь-в-точь такие продают на праздник в день святого Валентина! — едва заметно шевелится, быстро-быстро, за розовыми сахарными зубами. Из-под маски зрачки мистера Кугера чуть слышно пощелкивали, как объектив у «Кодака»: линзы то вспыхнут, то пригасятся диафрагмой. Вот он нацелился на Джима. Щелк, щелк! Прицелился, навел фокус, щелкнул, проявил, высушил, — и Джим лежит на своем месте в картотеке. Щелк, щелк!
Но ведь это только мальчишка стоит в прихожей рядом с женщиной и двумя другими подростками… Джим тоже не сводит с него глаз. Лицо неподвижно. Он тоже фотографирует этого Роберта.
— Вы ужинали, мальчики? — пропела мисс Фолей. — А то давайте с нами. Мы как раз садимся…
— Нет, спасибо, нам пора идти.
Все уставились на Вилли, словно удивляясь, почему бы ему не остаться здесь навсегда?
— Джим, — забормотал Вилли, — у тебя ведь мама одна дома, она же ждет…
— Ой, верно, — с неохотой протянул Джим.
— А я знаю, как мы сделаем! — племянник выдержал паузу, чтобы все повернулись к нему. — Приходите к нам на десерт, а?
— На десерт?!
— А потом я возьму тетю на карнавал, — племянник поглаживал мисс Фолей по руке, и она нервно засмеялась.
— Как «на карнавал»? — подскочил Вилли. — Мисс Фолей, вы же говорили…
— Ах да, это глупость была, я напугалась, — произнесла неуверенно мисс Фолей. — Сегодня, в субботнюю ночь, самое время для карнавала. Я вот обещала Роберту показать окрестности…
— Ну, придете? — спросил Роберт, все еще не отпуская руку мисс Фолей. — Попозже?
— Здорово! — воскликнул Джим.
— Джим! — попытался вмешаться Вилли. — Нас ведь целый день дома не было. А у тебя мама больна.
— Да? Я и забыл, — Джим ядовито покосился на друга.
Щелк! Племянник сделал рентгеновский снимок их обоих. На этом снимке, конечно, видно, как трясутся холодные косточки внутри теплой плоти. Роберт протянул руку.
— Ну, тогда — до завтра? Увидимся возле балаганов.
— Отлично! — Джим сгреб и потряс маленькую руку.
— Пока! — Вилли выскочил за дверь, постоял, качаясь, сделал отчаянное усилие и повернулся к учительнице:
— Мисс Фолей…
— Да, Вилли?
«Не ходите с ним никуда! — думал Вилли. — Даже близко не подходите к балаганам. Сидите дома, ну, пожалуйста!» Вслух же он сказал:
— Мистер Крозетти умер.
Она кивнула и пригорюнилась, наверное, ожидая, что Вилли сейчас заплачет. И пока она ждала, Вилли выволок Джима наружу, и входная дверь отрезала их от женщины и мальчишки с розовым лицом и с глазами-объективами, которые все щелкали, фотографируя двух таких непохожих друг на друга ребят.
Пока они в темноте нащупывали ступени, в голове у Вилли снова завертелась карусель, зашелестела жестяная листва дубов. Он с трудом выговорил:
— Джим! Ты ему руку пожал, этому Кугеру! Ты же не собираешься встречаться с ним?
— Это — Кугер, точно, — деловито заговорил Джим. — Глаза его. Эх, если бы я встретился с ним сегодня ночью, мы бы все выяснили. И какая муха тебя укусила, Вилли?
— Меня? Укусила? — Они добрались до конца лестницы и разговаривали яростным шепотом. Вот и улица. Оба задрали головы. В освещенном окне маячила маленькая тень. Вилли вдруг встал как вкопанный. Наконец-то музыка у него в голове перевернулась как надо. Он прищурился.
— Джим! А ты знаешь, что за музыка была, под которую молодел мистер Кугер?
— Ну?
— Это же обычный похоронный марш, только задом наперед!
— Какой еще похоронный марш?
— Какой, какой! Шопен написал.
— А почему «задом наперед»?
— Да потому, что мистер Кугер не старел, ну, не к смерти шел, значит, а наоборот, от нее. Он же все моложе становился, верно?
— Во жуть-то!
— Точно! — Вилли напрягся. — Он там! Вон, в окне торчит. Помахать ему, что ли? Пока! Пока! Давай, пошли. Посвисти-ка что-нибудь, ладно? Только уж не Шопена, пожалуйста.
Джим помахал рукой. И Вилли помахал. Они пошли по улице, насвистывая «О, Сюзанна…»
Тень в окне тоже помахала им на прощанье.
20
Два ужина давно остыли в двух домах. Один предок наорал на Джима, два — на Вилли. И того, и другого отправили спать голодными. Шторм начался в семь и кончился в три минуты восьмого. Хлопнули двери, звякнули замки, пробили часы.
Вилли стоял у двери в своей комнате. Телефон остался в прихожей. Ох! Даже если он позвонит, мисс Фолей скорее всего не ответит. Ее сейчас, наверное, уже и в городе-то нет. Да и что бы он сказал ей? Мисс Фолей, ваш племянник — не племянник? Мальчик на самом деле — не мальчик? Конечно, она засмеется. И мальчик как мальчик, и племянник как племянник. На вид, по крайней мере. Вилли повернулся к окну. В окне своей комнаты маячил Джим. Видимо, он решал ту же проблему. Окно пока не откроешь, не посоветуешься. Рано еще. Родители внизу настроили свои локаторы, только и ждут, чтобы еще добавить.
Оставалось завалиться на кровать, что они оба и сделали. Оба пошарили под матрасами — не завалялось ли шоколадки, отложенной на черный день. Нашлось кое-что. Сжевали без особой радости.
Постукивали часы. Девять. Полдесятого. Десять. Щелкнула задвижка на двери Вилли. Это отец открыл.
«Папа! — подумал Вилли. — Ну, зайди! Надо поговорить».
Отец тяжело вздохнул на лестнице. Вилли ясно представлял себе его расстроенное, не то смущенное, не то недоумевающее лицо. «Нет, не войдет, — подумалось ему. — Ходить вокруг да около, говорить какие-то необязательные слова — это пожалуйста. А вот войти, сесть и выслушать — этого не будет. А ведь тут такое дело…»
— Вилли?.. Вилли подобрался.
— Вилли, — снова произнес отец, — будь осторожен.
— «Осторожен»! — так и взвилась мать внизу. — И это все, что ты собираешься ему сказать?
— А что я ему еще скажу? — проворчал отец, уже спускаясь по ступеням. — Он скачет, я — ползаю. Как тут равнять? Боже, иногда мне хочется… — хлопнула входная дверь. Отец вышел на улицу.
Вилли полежал секунду и метнулся к окну. Отец так неожиданно вышел в ночь. Надо предупредить его. «Не я, — думал Вилли. — Не мне грозит опасность, не за меня надо беспокоиться. Это ты, ты сам останься, не ходи! Там опасно!»
Но он не открыл окна, не крикнул. А когда все-таки выглянул, улица была пуста. Теперь — ждать. Спустя некоторое время там, внизу, вспыхнет свет в библиотечном окне. Когда начинается наводнение, когда небесный огонь вот-вот рухнет на головы, какое славное место — библиотека. Стеллажи… книги, книги. Если повезет, никто тебя там не сыщет. Да где им! Они — к тебе, а ты — в Танганьике в 98-м году, в Каире 1812-го, во Флоренции в 1492-м!
«Будь осторожен…» Что отец имел в виду? Неужели он почувствовал? Может, даже слышал шальную музыку, ходил там, возле шатров? Да нет, никогда.
Вилли кинул камешек в соседнее окно. Отчетливо было слышно, как он стукнул о стекло. И… ничего. Вилли представил, как Джим сидит в темноте и прислушивается. Он бросил еще один. Стук. Тишина. Что-то не похоже на Джима. Раньше «звяк» еще звучал в воздухе, а рама уже взлетала вверх, и появлялась голова, из которой торчали во все стороны смешки, буйство, разбойные планы один другого хлеще.
— Джим! Да я же знаю, что ты там!
Стук. Молчание.
«Отец в городе. Мисс Фолей — и с кем! — тоже там, — все быстрее думал Вилли. — Господи Боже, Джим, надо же срочно делать что-то!» Он швырнул последний камешек. Стук. Слышно было, как отскочивший от окна камешек упал в траву. Джим так и не появился. «Ладно», — подумал Вилли и с досадой хлопнул ладонью по подоконнику. Ладно. Он лег в кровать и вытянулся. Холодно. Неподвижно.
21
В аллее за домом издавна был настелен деревянный тротуар из широченных сосновых досок. Видно, его уложили еще до того, как изобрести противный безответный асфальт. Еще дед Вилли, мощный, неукротимый старик, все дела которого сопровождались шумом и громом, с дюжиной других умельцев на все руки продолжил деревянный настил футов на сорок. Дожди, солнце и ветер потрудились над ним, и теперь доски напоминали остов какого-то доисторического чудища.
Часы в городе пробили десять.
Лежа в постели, Вилли думал о трудах деда и ждал, когда настил заговорит. Не было еще такого, чтобы мальчишки чинно подходили к дому по дорожке и звонили в дверь, вызывая друзей. Что, других способов нет? Можно бросить камешек в окно, можно желудь на крышу, можно запустить под окно приятелю воздушного змея, изобразив на нем таинственный знак. Да мало ли что! Джим с Вилли не составляли исключения. Поздними вечерами, если попадалась могильная плита, чтобы поиграть в чехарду, или дохлая кошка, чтобы спустить на веревке в камин какому-нибудь зануде, кто-то один из них прокрадывался под луной за дом и там плясал, как на ксилофоне, на древнем, гулком, музыкальном настиле.
Они долго настраивали тротуар. Отодрали доску «ля» и поменяли ее местами с «фа», внесли еще кучу усовершенствований, и наконец дорожка зазвучала как надо. По той или иной мелодии можно было сразу догадаться о предстоящей ночной экспедиции. Если Джим вытанцовывал «Вниз по речке», значит, намылился на берег, к пещерам. Если Вилли ошпаренным терьером скакал по доскам, извлекая из них подобие «Марша через Джорджию», это означало, что за городом поспели сливы, персики или яблоки, и пора идти в набег.
Вот и этой ночью Вилли затаил дыхание, — ожидая, куда позовет его деревянная музыка. Что сыграет Джим, изображая карнавал, мисс Фолей, мистера Кугера и розового племянника?
Десять с четвертью. Пол-одиннадцатого. Все тихо.
Вилли это не нравилось. О чем там думает Джим у себя в комнате? О Зеркальном Лабиринте? О том, что увидел там? Ну и что он задумал теперь? Вилли беспокойно заворочался. Ему не понравилась мысль о том, что между карнавальными балаганами в темных лугах и Джимом не может встать отец Джима. А мать? Она так хочет удержать его при себе, что Джиму волей-неволей приходится удирать из дома, нырять в вольные ночные воды, уносящие вперед, к дальним свободным морям.
«Джим! — подумал он. — Ну, давай!»
И в десять тридцать пять ксилофон ожил. Вилли показалось, что Джим высоко подпрыгивает, как мартовский кот на крыше, и шлепается на доски, добывая из них подобие погребальной песни, сыгранной наоборот старым карнавальным калиопом.
Вилли уже потянул раму вверх, когда лунный блик скользнул по открывающемуся окну Джима.
Значит, это не он на досках? Значит, Вилли только послышалось то, что он хотел услышать? Он уже готов был окликнуть Джима, но промолчал. Джим беззвучно скользнул по водосточной трубе.
«Джим!» — мысленно позвал Вилли.
На лужайке под окнами Джим замер, словно услышал свое имя.
«Ты же не уйдешь без меня, Джим?»
Джим быстро взглянул вверх. Если он и увидел Вилли в окне, то ничем не показал этого.
«Джим, — думал Вилли, — ну мы же друзья пока. Ведь кроме нас с тобой никто не услышит того, что слышим мы. Мы одной крови, и дорога у нас одна. И вот ты уходишь, бросаешь меня. Как же так, Джим?»
Дорожка уже опустела. Словно саламандра мелькнула за оградой. Вилли уже спускался вниз. Мысль догнала его, когда он перемахивал через забор. «Господи! Я ведь один. Это же первый раз я один ночью! И куда я иду? За Джимом. Господи! Помоги мне не сбиться с дороги!»
Джим летел над дорогой, как сова за мышью. Вилли мчался вприпрыжку, как охотник за совами. Тени скользили за ними через октябрьские лужайки. И когда они остановились, перед ними оказался дом мисс Фолей.
22
Джим оглянулся. Вилли тотчас превратился в куст, точно такой же, как те, среди которых он затаился, в ночную тень с едва заметно поблескивающими глазами, да и глаза застыли, остановившись на фигуре Джима.
— Эй, эй, там! — шепотом звал Джим, подняв лицо к окнам второго этажа.
«Ну и дела, — думал Вилли. — Смотри-ка, он же сам нарывается, сам хочет, чтобы его заманили и расщепили там, в Лабиринте».
— Эй! — тихо взывал Джим, — эй, вы там!
На фоне едва освещенного ночником окна мелькнула тень, невысокая такая тень… Значит, племянник с мисс Фолей уже вернулись… «Боже, — думал Вилли, — надеюсь, она вернулась тоже. А если она, как торговец громоотводами…»
— Эй!
Джим смотрел вверх, и взгляд у него был такой же, как возле Театрального Окна в доме неподалеку отсюда. С любовью, с преданностью даже Джим ждал, словно кот, не выглянет ли из окна какая-нибудь темная мышка. Сначала он стоял ссутулившись, а теперь, казалось, становился все выше, можно подумать, его тянуло что-то там, в окне. А ведь в нем нет никого. «Это» исчезло.
Вилли стиснул зубы. Казалось, тень струится через дом, он чувствовал ее ледяные вздохи. Он не мог больше ждать. Вилли кинулся из кустов вперед и схватил Джима за руку.
— Джим!
— Вилли! Ну ты-то что тут делаешь?
— Джим, не говори с ним, не надо. Пошли отсюда Господи, да он же проглотит тебя, хорошо, если косточки выплюнет.
Джим вырвал руку.
— Вилли! Иди домой. Ты же мне все испортишь.
— Джим, я его боюсь. Чего тебе от него надо? Ты что-нибудь видел… там, в Лабиринте?
— Ну, видел.
— Но что? Ради Бога, что ты видел?
Вилли поймал Джима за рубашку на груди и на мгновение ощутил, как колотится о грудную клетку сердце.
— Уходи! — Голос Джима звучал жутко спокойно. — При тебе он не выйдет. Вилли, если ты не уйдешь, я тебе припомню… потом.
— Когда это «потом»?
— Проклятье! Когда стану старше, вот когда! Вилли отпрянул, словно рядом ударила молния.
— О Джим… — проговорил он.
Он почти слышал стремительный бег карусели в темных водах ночи, почти видел Джима на черном деревянном жеребце, самого почти одеревеневшего в тени под деревом. Ему хотелось кричать: «Смотри! Вот ты на карусели! Она крутится вперед, ты этого хотел, да? Вперед, а не назад! И ты на ней. Смотри: раз проехал — тебе пятнадцать, еще круг — уже шестнадцать, еще три — девятнадцать! И музыка играет правильный похоронный марш! А тебе уже двадцать, и ты сходишь с карусели, высоченный такой, совсем не тот Джим, которому почти четырнадцать и с которым я, зеленый от страха, стою посреди ночной улицы».
Вилли развернулся и ударил Джима. Врезал ему прямо по носу. Потом бросился на него, повалил и поволок в кусты. Он зажимал Джиму рот и заталкивал все дальше…
Открылась парадная дверь.
Вилли навалился на Джима сверху, придавил, не давая дышать, все еще зажимая рот. Что-то стояло на крыльце. Оно крутило головой, искало Джима и не могло найти.
Да нет, это же маленький мальчишка, Роберт, племянник. Поза небрежная, руки в карманах, насвистывает чуть слышно. Просто вышел подышать перед сном. Вилли некогда было особенно раздумывать — он держал вырывавшегося Джима — и все-таки его поразил вид самого обычного мальчишки: веселая, маленькая личность, в которой сейчас, ночью и следа не отыщешь от взрослого дядьки.
Он бы запросто мог сигануть к ним в кусты и возиться с ними, как маленький щенок, и хохотать, а потом, может быть, и заплакать даже, если поцарапается каким-нибудь сучком, и страх растаял бы, улетучился, превратился в дурной сон, в воспоминание о дурном сне… Но ведь правда же — простой маленький мальчишка, самый настоящий племянник, свежий, как персик, смугло-розовый… Вот он уже увидел их, сцепившихся намертво, вот улыбнется сейчас…
Роберт стремительно метнулся в дом. Джим и Вилли все еще хватали, крутили, жали и мяли друг друга, а племянник уже вылетел обратно, перемахнул через перила, четко впечатавшись в собственную тень на траве. В руках у него было полно звезд. Они так и сыпались вокруг. Золото, бриллианты падали в траву возле сжимавших друг друга в объятьях Вилли и Джима.
— Помогите! Полиция! — заорал Роберт. Этот вопль так потряс Вилли, что он выпустил Джима. Джим был потрясен не меньше и выпустил Вилли. Оба одновременно коснулись холодного рассыпанного… металла.
— Во дела! Браслет!
— Ха! Кольцо! Ожерелье!
Роберт на бегу ловко сшиб два мусорных бака на углу. Они с грохотом повалились, рассыпая мусор на мостовую. Наверху, в спальне вспыхнул свет.
— Полиция! — снова заорал Роберт и швырнул ребятам под ноги последнюю сверкающую пригоршню. Потом одним движением смахнул с персикового лица улыбку и дунул по улице.
— Стой! — подскочил Джим. — Стой! Мы тебя не тронем.
Вилли поймал Джима за ногу и уронил на землю.
Отворилось окно. Мисс Фолей выглянула. Джим стоит на коленях и держит в руках женские наручные часики. Вилли глупо моргает с ожерельем в руках.
— Кто там? — закричала мисс Фолей. — Джим? Вилли? Чем вы там заняты?
Но Джим уже уносился вдаль по ночной улице. Вилли подождал ровно столько, чтобы дать мисс Фолей кинуться в соседнюю комнату и обнаружить кражу. Он услышал вопль.
Уже на бегу Вилли сообразил, что племянник именно этого и хотел от них. Надо бы вернуться, собрать браслеты, часы и камни, объяснить все мисс Фолей. А как же Джим? Его же спасать надо!
Позади все кричала мисс Фолей. Зажигались огни.
— Вилли Хэллоуэй! Джим Найтшед! Ах вы, воры ночные!
«Это про нас, — думал Вилли на бегу. — О Боже, ведь это про нас! Теперь никому ничего не докажешь, что бы мы ни сказали: про карусель, про зеркала, про племянника, никто же теперь не поверит!»
Так они и бежали, три зверя под ночными звездами. Черная выдра. Уличный кот. Кролик.
«Я — кролик, — подумалось Вилли, — белый, испуганный кролик!»
23
Они вырвались на луг со скоростью около двадцати миль в час и с разрывом в милю. Впереди — племянник, за ним, настигает, Джим, и наконец, все больше отставая, Вилли.
Племянник, похоже, не на шутку струхнул и больше не улыбался. Он бежал, часто озираясь через плечо.
«Одурачили его, — устало думал Вилли. — Он-то рассчитывал, я останусь, полицию вызовут, я объяснять начну, мне, конечно, не поверят, или, может, он думал, я смоюсь потихоньку. А теперь он меня боится, я же изобью его в кровь, вот он и рвется к своей карусели, хочет накрутить лет десять — пятнадцать. Ой, Джим, мы же должны сохранить его молодым, надо же содрать с него эту шкуру».
Но по тому, как бежал Джим, Вилли видел: Джим ему не помощник. Джим не за племянником бежал. У него впереди был бесплатный аттракцион. Вот племянник скрылся между шатрами. Джим следом. Когда Вилли добежал, карусель уже дергалась, оживая. Музыка спросонья билась, грохотала, взвизгивала, а племянник со своим персиковым лицом уже ехал на большом круге в вихрях полуночной пыли.
Футах в десяти стоял Джим. Глаза у него были точь-в-точь как у дикого черного жеребца, что проплывал мимо. Карусель двигалась вперед. Джим подошел вплотную к разгоняющемуся кругу. Племянник пропал из виду, а когда появился вновь, то уже протягивал Джиму розовые пальцы и приговаривал, словно мурлыкал:
— Джим?..
Джим подался вперед.
— Нет! — завопил Вилли и кинулся на Джима. Ударил, схватил, удержал. Они снова сцепились, рухнули в пыль.
Удивленный племянник вынесся из тьмы, став на год старше. «На год, — успел подумать Вилли, — плохо дело. Ведь это не только выше, но и сильнее, умнее на год». Он отпихнул Джима.
— Скорее! — и бросился к пульту, сплошной головоломке из медных рычагов, фарфоровых ручек и шипящих проводов. Он уже схватился за переключатель, но набежал Джим и повис на руке.
— Вилли! Не тронь! Сломаешь.
Джим дернул переключатель обратно. Вилли повернулся и двинул Джима локтем. Они опять вцепились друг в друга, но на этот раз быстро устали и повалились на землю возле пульта.
Противный мальчишка, повзрослевший еще на год, пронесся у Вилли перед глазами. Еще пять-шесть кругов, и он перегонит их обоих.
— Джим! Он же убьет нас!
— Нет, не меня.
Вилли ударило током. Он взвыл, подскочил и дернул переключатель. Пульт плюнул в него синим огнем. Откуда-то из недр вылетела молния. Ребят разбросало ударом, и они, слегка оглушенные, лежа наблюдали за резко набравшей скорость каруселью. Мимо снова просвистел племянник, постаревший еще на год. Он ругался почем зря. Он плевался, как павиан. Он боролся с ветром, цеплялся за медный стержень, сопротивляясь все растущей центробежной силе. Он пытался пробиться через коней и зебр к внешнему краю. Он приезжал, уезжал, приезжал, уезжал, цеплялся и вопил. Из пульта сыпался сплошной каскад сиреневых искр. Карусель вздрагивала и взбрыкивала. Вот племянник промахнулся рукой мимо стержня и упал. Копыто черного жеребца зацепило его по лицу. На лбу появилась кровь.
Джим рвался к пульту. Вилли оседлал его и прижимал к земле. Оба были бледны до синевы. Теперь уже из недр пульта вылетали целые фейерверки. Карусель сделала тридцать оборотов, сорок — «ладно, Вилли, дай я встану» — пятьдесят оборотов. С последним клубом пара взвыл калиоп, засипел и вовсе потерял голос. Шипящая ослепительная дуга встала над остатками пульта, она словно заботилась о животных, несущихся по кругу, освещала им путь. Где-то среди зверей затерялся уже не мальчик, и даже не мужчина, а куда больше, намного больше, и даже еще больше того… все по кругу, по кругу.
— О Вилли! Он же теперь… он… — Джим вдруг всхлипнул. Он уже ничего не мог сделать, во всяком случае, вот так, придавленный к земле, со стиснутыми руками. — Да отпусти же ты меня, Вилли! Мы должны заставить ее крутиться назад!
В шатрах начали появляться огни, но пока еще никто не выходил. «Почему? — думал Вилли. — Почему никого нет? Тут взрывы, грохот, музыка эта безумная — и никого. Где мистер Дарк? Ушел в город? Готовит какую-нибудь новую пакость?»
Фигура на карусельном круге билась в агонии. Сердце у Вилли тоже пыталось нащупать какой-то лихорадочный ритм: быстро, очень быстро, медленней, медленно, опять быстро, невероятно быстро, опять медленно, совсем медленно, так медленно опускается луна в конце белой зимней ночи.
Там, на карусели, едва слышный стон.
«Слава Богу, темно, — подумалось Вилли. — Слава Богу, не разглядеть ничего. О! Там ходит кто-то, сюда идет».
Выцветшая тень на вихляющемся кругу пыталась удержаться на какой-то незримой грани, но было поздно, уже поздно, совсем поздно, о, слишком поздно. Карусель со свистом рассекала воздух, она словно высасывала из пространства остатки солнечного света, смеха, чувств, а вокруг все шире расползались тьма и стужа.
В последнем приступе рвоты пульт управления напрочь оторвался от машинной коробки. Карусельные огни мигали и гасли один за другим. Круг постепенно замедлял свой безумный бег. Вилли отпустил Джима. «Сколько же раз она повернулась? — думал он. — Шестьдесят? Восемьдесят? Девяносто?»
«Сколько?» — спрашивали глаза Джима.
Карусель сотрясала судорога. Она остановилась. Круг замер, и по его фатальной неподвижности сразу становилось понятно: ничто больше, ни сердца, ни руки, ни головы не вернут карусель к жизни.
Ребята встали и медленно подошли. Подошвы пошаркивали, словно делились друг с другом впечатлениями.
Что-то лежало с ближней стороны на деревянном полу. Лица не видно. С платформы свисала рука. Она могла принадлежать кому угодно, только не мальчишке. Большая, будто обтянутая пергаментом, сморщенным от огня.
У человека на деревянном кругу были длинные-длинные спутанные ветром белые космы. Ребята наклонились над ним. Глаза закрыты и как будто ссохлись. Нос заострился — так обтянула его кожа. Губы выцветшими лепестками едва прикрывали сжатые зубы. Тело под одеждой казалось тщедушным, но совсем не по-детски. Это был старик, но не обычный старый человек, умерший лет в девяносто, или очень старый, доживший до ста десяти, нет, это был какой-то совершенно ветхозаветный старик невозможных лет.
Вилли тронул тело. Человек был холоден, как лягушка-альбинос. От него исходил едва различимый запах ночных болот и древних египетских гробниц, наверное, так пахли полотнища, в которые заворачивали набальзамированных фараонов. Какой-то музейный экспонат, вынутый из витрины.
И все же он был еще жив. Он слабенько поскуливал и продолжал усыхать на глазах, быстро, очень быстро.
Вилли вывернуло наизнанку прямо у края платформы. А потом они бежали, поддерживая друг друга, с трудом загребая стопудовыми подошвами чугунные листья, окаменевшую траву и свинцовую пыль…
24
Одинокий жестяной фонарь у перекрестка окружило облачко мотыльков. Неподалеку чуть слышно сипела старая газовая будка. Двое мальчишек забились в тесную телефонную кабину. Они крепко держались друг за друга и вздрагивали при каждом ночном шорохе.
Вилли повесил трубку. Полиция и «скорая помощь» должны были прибыть с минуты на минуту.
Поначалу они с Джимом хриплым шепотом строили самые невероятные планы. Они сейчас пойдут домой, лягут спать, уснут и все забудут. Нет! Отправятся на товарном поезде на запад. Нет! Ведь если мистер Кугер сообразит, что это они его так отделали, тот старик, та египетская мумия, в которую он превратился, будет гоняться за ними по всему свету, рано или поздно догонит и разорвет в клочки. Так, споря и трясясь, они и оказались в телефонной кабине, и вот уже мимо, с включенной сиреной пробирается полицейская машина, а за ней и «скорая помощь». В обеих машинах заметили перепуганных пацанов, стучащих зубами в мутном от мотыльков свете фонаря.
А три минуты спустя машины уже мчались вперед, Джим показывал дорогу и болтал при этом без умолку.
— Да жив он, точно! Должен быть жив. Мы же не хотели вовсе. Ей-Богу, жаль, что так получилось! — Он уставился на черные шатры и замолчал.
— Не дрейфь, приятель, — пробасил полисмен. — Пошли.
Двое полицейских в темно-синем, двое санитаров в призрачно-белом и двое мальчишек не поймешь в чем в последний раз повернули, огибая Чертово Колесо, и остановились перед каруселью.
Джим застонал сквозь зубы.
Кони окаменело взвивались в ночь на полном скаку. Звездный свет мерцал на медных копьях. И больше — ничего.
— Он ушел.
— Был он здесь, клянемся! — горячо заговорил Джим. — Ему лет сто пятьдесят было, а то и двести, он и умирал от этого.
— Джим, — тихонько сказал Вилли. Четверо мужчин беспокойно озирались.
— Может, его в шатер отнесли, — предположил Вилли. Полисмен взял Джима за локоть.
— Ты говоришь, лет сто пятьдесят? — спросил он. — А почему не триста?
— Да может, и триста! — взрыдал Джим. Он повернулся и крикнул: — Мистер Кугер! Мы помощь привели!
На Шатре Чудес мигнули огни. Черные полотнища знамен хлопали и трепетали перед входом. Полицейские посмотрели вверх.
«МИСТЕР СКЕЛЕТ. ПЫЛЬНАЯ ВЕДЬМА. СОКРУШИТЕЛЬ. ВЕЗУВИО, ПЬЮЩИЙ ЛАВУ»,
танцевали огромные буквы, каждая на отдельном вымпеле.
Джим помедлил и снова позвал:
— Мистер Кугер! Вы… там?
Флаги в ночном воздухе вздохнули. Шатер выдохнул теплый львиный дух.
— Ну, что? — спросил полисмен.
Джим, задрав голову, читал появлявшиеся на флагах буквы.
— Они говорят: «Да». Они говорят: «Входите». Джим шагнул вперед. Остальные вошли за ним. Внутри им пришлось перешагнуть через скрещенные тени от шестов, преграждавшие дорогу к высоким чудным подмосткам. Там за карточным столиком собралась невиданная компания. Карты в руках и на столе переливались оранжевым, ярко-зеленым и солнечно-желтым цветами. На них можно было разобрать изображения каких-то бледных зверей и крылатых людей. Игроков было четверо: подбоченившийся Скелет, Дутик, которого спускали каждую ночь и надували каждое утро, уродливый лилипут по имени Бородавка, а рядом с ним и вовсе какая-то мелюзга, то ли гном, то ли урод, не поймешь, вцепился в карты узловатыми, изуродованными артритом пальцами.
Стоп! Карлик! Вилли насторожился. Что-то там было насчет рук… Знакомые руки… Кто? Когда? Где? Ладно, не вспомнить. Он перевел взгляд в глубину шатра. Там стоял сеньор Гильотини при полном параде. Весь в черном, в черных сапогах до колен, черный капюшон на голове, — стоит возле своего детища и руки на груди сложил. Голодный гильотинный нож высоко поднят — сплошные блики и метеорный блеск. Так и хочет ринуться вниз. А там уже приготовлена кукла. Лежит и ждет своей участи. Еще дальше стоит Сокрушитель — сплошные железные мышцы и стальные жилы, хоть сейчас готов сокрушить кому-нибудь челюсть или согнуть подкову. Тут же располагался и Везувио с истертым языком и сожженными зубами. Больше того, он находился при исполнении обязанностей и как раз допивал каменную чашу с лавой. По своду шатра перебегали багровые и малиновые отсветы. Неподалеку, каждый в своей будке, тридцать других уродцев наблюдали за игрой огней, дюжиной маленьких огненных солнц бегавших над краями чаши. Везувио заметил посетителей и вылил остатки в бочку с водой. Шарахнулся пар. Все застыло. Даже противный зудящий звук, с самого начала наполнявший балаган, смолк.
Вилли быстро оглянулся. На большом помосте у дальней стены с полосатым шершнем в руке стоял обнаженный до пояса мистер Дарк, Человек-в-Картинках. Вытатуированные орды струились по его плечам. Используя шершня как иглу, он завершал очередной рисунок на левой ладони. Насекомое перестало жужжать, мистер Дарк повернулся к вошедшим. Но Вилли смотрел не на него.
— Вот он! Вон мистер Кугер!
Полицейские и санитары засуетились. За спиной мистера Дарка помещался Электрический Стул. Зажатый его проводами и скобами, сидел давешний старик. Там, на сломанной карусели, он выглядел каким-то скомканным, а здесь его распрямили и он важно ожидал удара молнии от своего последнего трона.
— Это он! Это он… умирал на карусели!
Долговязый Скелет обернулся от стола. Дутик и вовсе вскочил. Бородавка по-блошиному сиганул в кучу опилок. Карлик выронил карты и принялся вращать пустыми идиотскими глазищами.
«Да я знаю его! — понял Вилли. — Боже! Что они сделали с ним! Продавец громоотводов — вот это кто! Каким же ужасным колдовством вбили его в эту скрюченную плоть недомерка? Торговец громоотводами…»
Но тут его мысли прервали два события, случившиеся с замечательной слаженностью. Сеньор Гильотини прокашлялся и дернул рычаг. Лезвие ястребом скользнуло вниз. Шелест-стук-хруст-удар! Отсеченная голова куклы упала в корзину. Вилли мог бы поклясться, что лицо куклы, как в зеркале, напоминает его собственное, но ни за какие коврижки не полез бы в корзину проверять свое подозрение. За этим событием последовало другое.
Механик, копавшийся в механизме застекленной, похожей на гроб будки, нажал на что-то. Щелкнул какой-то зубец под вывеской:
«Мадемуазель ТАРОТ[9]. ПЫЛЬНАЯ ВЕДЬМА».
Восковая фигура в стеклянном гробу кивнула головой и проследила затянутыми черной паутиной незрячими глазами за проходившими мимо мальчишками. Холодная восковая рука стряхнула на край гроба ПЫЛЬ СУДЬБЫ. Это была отлично сработанная кукла, и полисмены заулыбались, оценив представление сеньора Гильотини и Пыльной Ведьмы. Стражи порядка уже расслабились и, похоже, не очень-то сетовали по поводу ночного вызова в это забавное царство акробатов и потрепанных волшебников.
— Джентльмены! — звучно произнес мистер Дарк, и все скопище картинок на нем словно бросилось в атаку. — Добро пожаловать! Вы поспели вовремя. Мы как раз репетируем новые номера. — Мистер Дарк взмахнул рукой, и чудовища у него на груди оскалили зубы и обнажили клыки. На животе дернулся циклоп с пупком на месте глаза.
«Господи, — подумал Вилли, — не то он таскает на себе всю эту ораву, не то она тащит и толкает его в разные стороны». Вилли чувствовал, что не только глаза полицейских и санитаров не в силах оторваться от волшебных картинок, шевелящихся на коже мистера Дарка. Все уродцы в шатре точно так же зачарованы жизнью этой толпы, этого человеческого и звериного скопища, требующего ежесекундного внимания.
В груди мистера Дарка проснулся орган. Из глубины поднялся звук, словно разом заговорили все картинки на его потной коже. Мышцы заиграли и полчища обезумели. Их буйство словно передалось другим уродцам в шатре. Они задрожали в своих будках, на своих помостах, но и Вилли с Джимом чувствовали, как голос мистера Дарка отдается у них в спинном мозге, гнет к земле, превращает в уродов.
— Джентльмены! — гремел мистер Дарк. — Уважаемые молодые люди! Мы как раз завершили наш новый номер и вы сможете стать его первыми зрителями!
Один из полисменов, небрежно положив руку на кобуру, прищуренным глазом обвел шатер.
— Вот парень говорит…
— Говорит?! — захохотал мистер Дарк.
Уродцы подскочили и забились в припадке. Мистер Дарк слегка похлопал и огладил свои картинки, и существа в шатре тут же затихли, словно их тоже похлопали и огладили.
— О чем он может говорить? — пренебрежительно произнес мистер Дарк. — Что он мог видеть? Эта публика часто пугается на представлениях. Стоит выскочить уродцу — и он уже задал стрекача. Но этой ночью, этой ночью особенно…
Полисмен, не слушая, показал пальцем на мумию, восседавшую на Электрическом Стуле.
— Это кто?
— Этот?
Вилли заметил огонь, метнувшийся в глазах мистера Дарка. Впрочем, Человек-в-Картинках тут же взял себя в руки.
— Это наш новый номер, МИСТЕР ЭЛЕКТРИКО!
— Нет! — завопил Вилли, и все повернулись к нему. — Вы только посмотрите на старика! Разве вы не видите? Он же мертвый! Его же только эти скобы да провода и держат!
Санитары как-то скептически посмотрели на узника Электрического Стула.
«О черт! — подумал Вилли. — Мы-то думали, все будет просто. Мистер Кугер умирает, а мы — вот они, с врачами, и они его спасают, а он тогда, может быть, простит нас, и этот чертов Карнавал нас отпустит. А что получается? Старик уже мертв. Слишком поздно. И все нас ненавидят».
Вилли чувствовал холод, расходившийся от непогребенной мумии, от холодного рта, от смерзшихся век. Ни один седой волосок не шелохнется. Ребра под опавшей рубашкой каменно-неподвижны. Землистые губы словно из сухого льда. Вытащи его наружу — от него пар пойдет!
Санитары переглянулись, кивнули полисменам. Полицейские шагнули вперед.
— Джентльмены! — мистер Дарк рукой, украшенной жутким тарантулом, ухватил рукоять рубильника. — Сейчас на ваших глазах сто тысяч вольт пронижут тело мистера Электрико!
— Нет, не позволяйте ему! — закричал Вилли. Полицейские сделали еще по шагу вперед. Санитары открыли рты, собираясь сказать что-то. Мистер Дарк метнул на Джима властный взгляд. И Джим тут же крикнул:
— Да нет! Все в порядке!
— Ты что, Джим?!
— Брось ты, Вилли, все нормально.
— Всем отойти! — Тарантул впился в рубильник. — Этот человек в трансе! Я загипнотизировал его. Нельзя нарушать чары, это может ему повредить.
Санитары закрыли рты. Полицейские остановились.
— Сто тысяч вольт — и после этого он будет как огурчик!
— Нет!
Полицейский сгреб Вилли. Человек-в-Картинках и все твари, населявшие его, повернули рубильник. Тотчас огни в шатре погасли.
Полицейские, санитары, мальчишки разом подскочили. Электрический Стул превратился в камин, в нем, как сухое полено, полыхал старик. Полицейские отпрянули, санитары подались вперед. Уродцы в клетках вытянули головы. Синий огонь плясал, отражаясь во множестве глаз.
Старик был мертв, как камень. Но теперь в него вливалась новая, электрическая жизнь. Электричество кипело на его ушных раковинах, мельтешило в глубоких ноздрях, словно в пересохших колодцах, выложенных камнем, вползало синими змейками в скрюченные пальцы.
Рот Человека-в-Картинках открыт. Наверное, он кричит что-то. Никто не слышит его за шипением, треском и маленькими взрывами энергии. Она везде: вверху, внизу, справа, слева от человека и его кресла-тюрьмы.
— Оживай! — гудит вокруг. — Оживай! — кричат грозовые разряды. — Оживай! — вопит мистер Дарк, и слышит его только Джим, читающий по губам. Вилли тоже понимает: воля мистера Дарка толкает старца, пытается пересоздать его заново, отодрать душу, растопить восковой дух…
— Он же мертвый! — Нет, никто не слышит Вилли, как ни надрывайся, как ни перекрикивай грохот молний.
— Живой! — Губы мистера Дарка причмокнули. Живой! Оживает. Он передвинул переключатель в последнюю, крайнюю позицию. Жив! Где-то надсадно выли динамо-машины, скрипели, визжали, выдавливая дьявольскую энергию. Свет стал бутылочно-зеленым.
«Мертвый! Мертвый!» — думал Вилли.
«Живой! Живой!» — кричали машины, вопили огонь и молнии, выкрикивали глотки орды сине-багровых тварей, усеявших разрисованное тело.
У старца встали дыбом волосы на голове. С ногтей стекали на пол искры. Зеленый горячий огонь трепетал возле сомкнутых век.
Человек-в-Картинках наклонился над старым-престарым, мертвым-премертвым человеком. Стаи зверей тонули в поту на груди. Рука с тарантулом рубила воздух, задавая ритм: жи-ви! жи-ви!
И старец ожил. Вилли взвыл дурным голосом, но его никто не услышал. Все неотрывно следили за тем, как медленно, под напором электрического пламени, поднимается мертвое веко.
Уроды разинули рты. Где-то рядом маялся Джим. Вилли, не глядя, поймал его за локоть и почувствовал крик, отдававшийся в костях. Губы старика приоткрылись. Между зубами мечется и шипит синий огонь. Человек-в-Картинках уменьшил ток. Повернулся. Картинно припал на колено и вытянул руку.
Там, в кресле, у старика на груди чуть шевельнулась рубашка. Словно осенний лист ворохнулся под тонкой тканью.
Уроды разом выдохнули.
Старец вздохнул.
«Да, — подумал Вилли, — это они дышат за него, они делают его живым». Вдох, выдох, вдох, выдох… Да ну, это не по правде. Он же не сможет ничего сказать, сделать…
— …теперь легкие, так, так, — прошелестел чей-то голос за спиной Вилли.
Кто это? Пыльная Ведьма в своем стеклянном гробу? Вдох. Уроды перевели дух. Выдох. Их плечи поникли. Губы старца задрожали.
— …теперь сердце… бьется… раз, два, раз, два, так… Опять Ведьма? Вилли не мог заставить себя оглянуться. Возле ключицы старца запульсировала жилка. Правый глаз открылся полностью, замер, как сломанная фотокамера. Зрачок казался бездонной дырой. Но он теплел с каждой секундой. Зато мальчишки внизу холодели.
Вот древний и ужасно мудрый кошмарный глаз ожил на фарфоровом лице, а откуда-то с самого дна противный племянничек уже разглядывал уродов по стенам, санитаров, полицейских и… и Вилли.
Вилли видел себя, Джима, маленьких, крошечных, отраженных в этом единственном глазу. Он затаил дыхание. Если старец моргнет, два отражения будут раздавлены чугунными веками!
Человек-в-Картинках повернулся к зрителям и ослепительно улыбнулся:
— Джентльмены! И вы, мои юные друзья! Перед вами человек, живущий с молнией!
Один из полисменов рассмеялся и снял руку с кобуры.
Вилли шмыгнул направо. Глаз тотчас же последовал за ним. Вилли юркнул налево. Скользкий взгляд преследовал его неотступно, губы мумии дрогнули и пропустили звук. Кажется, он долго блуждал в недрах окаменелого тела, прежде чем проложить дорогу на волю.
— Бла-го-да-рен-ннн…
Слова проваливались обратно в глубину.
— Благодарен-ннн…
Полицейские с улыбками переглянулись.
— Нет! — снова выкрикнул Вилли. — Он же не живет. Если выключить ток, он опять будет мертвым! — Он сам зажал себе рот рукой. «Господи! — подумал он. — Что это я? Я ведь хочу, чтобы он ожил, ожил и простил нас, отстал от нас! Но, Господи, еще сильнее я хочу, чтобы он умер, чтобы они все тут поумирали. Ну что они меня пугают? У меня же от страха в животе клубки какие-то катаются… как кошки…»
— Простите меня, — прошептал он.
— Не за что! — воскликнул великодушный мистер Дарк. Уроды суматошно моргали и таращились. Что там дальше с этой мумией в холодном испепеляющем кресле?
Щеки старца запали, внутри что-то булькало. Человек-в-Картинках снова дернул рубильник. Поток электричества с шипением пробежал по дряхлому телу. Мистер Дарк бешено ухмыльнулся и вложил в безвольную руку стальной меч. Открылся второй глаз, быстро, как дырка от пули, тут же нащупал Вилли и уже не выпускал больше.
— Я сссмотрел… — шипели губы мумии, — мальчишки… шатаются у шатра…
Пересохшие мехи быстро наполнялись, потом, словно проткнутые шилом, отдавали воздух со слабым всхлипом.
— Мы… ремонтировали… и я… прикинулся мертвым… Снова пауза, чтобы глотнуть кислородного эля, электрического вина.
— Я свалился… как будто умер… они завизжали… и бежать! — Старик засмеялся. Он выдыхал каждый звук отдельно: — Ха! — пауза. — Ха! — опять пауза. — Ха!
Электричество обметало шелестящие губы. Человек-в-Картинках деликатно покашлял.
— Джентльмены, представление утомило мистера Электрико…
— Да, конечно, — спохватился один из полисменов. — Извините за беспокойство, — он тронул фуражку, — отличный номер!
— Прекрасно, — одобрил один из санитаров.
Вилли вытянул шею, пытаясь посмотреть на санитара, сказанувшего такое, но Джим заслонял того.
— Наши юные друзья! — провозгласил мистер Дарк. — Для вас — дюжина свободных посещений, — он что-то протягивал ребятам.
Ни Джим, ни Вилли не тронулись с места.
— Ну? — подтолкнул их полисмен.
Вилли неуверенно коснулся разноцветных билетиков, но тут же отдернул руку, услышав: «Ваши имена?»
Полицейские перемигнулись. Молчание. Уроды наблюдают.
— Саймон, — произнес Джим, — Саймон Смит. Рука мистера Дарка, держащая контрамарки, сжалась.
— Оливер, — проговорил Вилли. — Оливер Браун. Человек-в-Картинках с шипением втянул воздух. Уроды по стенам вдохнули. Общий вздох, казалось, разбудил мистера Электрико. Меч у него в руке дернулся. От острия на плечо Вилли посыпались искры. Потом маленькая молния скакнула к Джиму. Полисмены расхохотались. Глаз старца злобно полыхал.
— Я… дам вам прозвища… ослы вы этакие… Я вас окрещу… Ты будешь мистер Хилый… а ты… мистер Тусклый. — Мистер Электрико помолчал и слегка стукнул ребят мечом. — Короткой… грустной жизни вам… обоим! — Рот старца захлопнулся, глаз устремился вдаль. Он трудно дышал. Электрические искорки пузырьками шампанского роились в его крови.
— Ваши билеты, господа, — мурлыкал мистер Дарк. — Свободный вход, бесплатные аттракционы. В любое время. Приходите. Возвращайтесь.
Джим схватил билеты. Вилли сгреб свои. Они развернулись на пятках и вылетели вон из шатра.
Полиция, улыбаясь, сделала всем ручкой и проследовала за мальчишками. Санитары, без улыбок и прощальных жестов, еще больше похожие на призраков, замыкали отступление. Они нашли Джима и Вилли в уголке, на заднем сиденье полицейской машины. По виду ребят можно было понять, как им хочется оказаться дома.
Часть 2
Погоня
25
Она чувствовала зеркала в комнатах, как чувствуешь первый снег, даже не глядя в окно. Еще несколько лет назад мисс Фолей заметила, что в доме вместе с ней поселилось множество ее собственных теней, и тогда она решила избегать холодных льдистых провалов в гостиной, над комодами и в ванной. Лучше всего скользить по ним, как на коньках по тонкому льду: дуть задержись, и под грузом твоего внимания хрупкая корочка проломится, ухнешь сквозь нее и будешь погружаться в холодную глубину все дальше, на дно, где подстерегает прошлое, вырезанное словно барельеф на могильном мраморе. В вены хлынет ледяная вода, и ты навеки окажешься прикован к зеркальной глади, не в силах оторвать взгляд от железных доказательств Времени.
А сегодня, под затихающий вдали топот трех пар мальчишеских ног, она почувствовала редкие холодные снежинки, падающие в зеркалах ее дома. Ей захотелось нырнуть в зеркальную глубь, посмотреть, что за погода ждет ее там. Но удержало опасение: стоит поддаться желанию и дать зеркалу силу схватить и удержать эту толпу женщин, бредущих вспять, чтобы стать девушками, девушек, шагающих навстречу маленьким девочкам, — столько людей поселится в ее тесной квартирке, этак и задохнуться можно.
Так что же делать теперь с зеркалами? И что делать с этими паршивцами — Вилли Хэллоуэем и Джимом Найтшедом? И с… племянником? Вот чудно. Почему-то не получается произнести: «с моим племянником».
«Да ведь я с самого начала, — думала она, — с того момента, как он в дверь вошел, поняла, что он — не отсюда. И зря он мне доказывал… я все равно ждала… Чего вот только?
Сегодня ночью… карнавал. Музыка, твердил ей Роберт, которую обязательно надо услышать, аттракционы, на которых обязательно надо прокатиться. А там лабиринт, где спит арктическая зима… То ли дело — карусель! Плыви себе по лету, сладкому, как клевер, среди медвяных трав и дикой мяты».
Мисс Фолей выглянула на лужайку. В траве все еще поблескивали камни. Она ведь каким-то шестым чувством поняла, что племянник просто хотел избавиться от мальчишек, видно, опасался, как бы они не отговорили ее воспользоваться билетом. Она взяла с каминной полки белый картонный прямоугольничек.
КАРУСЕЛЬ. ОДИН ЧЕЛОВЕК — ОДИН РАЗ.
Время шло. Племянник не возвращался. Значит, надо действовать самой. Надо осторожно обойти — не дай Бог задеть или обидеть — этих стражников, Вилли и Джима. Нельзя, чтобы они встали между ней и племянником, между ней и ее каруселью, между ней и восхитительным полетом среди летних лугов.
Этот Роберт даже своим молчанием ухитрился сказать так много, молчанием, взглядом, тем, как держал ее руку… легким ароматом свежего дыхания, похожего на дух только что испеченного яблочного пирога.
Она сняла телефонную трубку. Из окна ей виден был огонек в здании библиотеки. Уже много лет весь город видит его по ночам. Она набрала номер. Тихий голос ответил. И тогда она твердо заговорила:
— Библиотека? Мистер Хэллоуэй? Это мисс Фолей, учительница Вилли. Я вас прошу, встретьте меня через десять минут возле полицейского участка. Мистер Хэллоуэй?.. — Пауза. — Вы все еще там?
26
«Скорая помощь» и полицейская машина, борт о борт, встали на перекрестке. Один из санитаров опустил стекло и сказал полицейскому за рулем:
— Готов поклясться. Когда мы туда приехали, старик был мертв.
— Шутите? — отозвался полисмен.
В санитарной машине двое пожали плечами.
— Точно, шутим.
С перекрестка белая машина ушла вперед, синяя двинулась следом. На заднем сиденье скорчились Джим и Вилли. Поначалу они пытались еще объяснять что-то, но полицейские не слушали, они со смехом вспоминали и пересказывали друг другу недавнее посещение балагана. Тогда ребята попросили высадить их на углу, не доезжая участка.
Их и высадили возле двух темных домов. Ребята бодро взбежали каждый на «свое» крыльцо, взялись за ручки дверей (тем временем машина свернула за угол), спокойно сошли по ступенькам и отправились следом. Через пять минут они разглядывали из-за угла освещенный как днем участок. Вилли сообразил, что на дворе стоит глубокая ночь, и взглянул на Джима. Джим следил за ярко освещенными окнами, словно ждал: вот сейчас они погаснут навек, ночь затопит их.
«Я выбросил свои контрамарки еще по дороге, — думал Вилли, — а Джим, гляди-ка, так и держит свои». Вилли задрожал. «Ну чего он теперь-то хочет? Что еще задумал, и что вообще можно думать после того, как мертвец ожил в раскаленном добела электрическом кресле? Он что, и после этого все еще любит карнавалы?» Вилли всмотрелся в глаза Джима. Да, вот они, отсветы огней этого дьявольского балагана, так и остались в зрачках Джима. Но ведь это все-таки Джим! Вот же он стоит в ярком свете Справедливости из-за угла.
— Слушай, Джим, — сказал Вилли. — Начальник полиции. Он нас выслушает.
— Ага, — тут же отозвался Джим. — Он как раз проснулся бабочек ловить. Черт побери, Вилли! Даже я не поверю тому, что случилось за последние двадцать четыре часа!
— Значит, надо еще кого-нибудь найти. Ведь мы знаем теперь, чего стоит этот проклятый карнавал!
— О'кей. И чего же он стоит, по-твоему? Что в нем такого уж плохого? Ну, подумаешь, напугал старуху в лабиринте! Да она сама испугалась, скажут в полиции. Дом ограбил? О'кей. А где грабитель? Стариком вдруг обернулся? Да что ты? Кто ж поверит, что эта дряхлая развалина только что была двенадцатилетним мальчишкой? И что остается? Ах да, этот бродяга со своими громоотводами исчез. А сумку оставил. Ну, может, где-нибудь в городе шляется…
— Этот Карлик в балагане…
— Да видел я его, видел. Похож на торговца, точно. А как ты докажешь, что еще недавно он был не такой? Кугер был мальчишкой, этот был большим, видишь, что получается? Нет у нас доказательств. Правильно. Видели мы. Ну и что? Наше слово против слова Дарка. Ему ведь поверят. Опять же, полиция так славно время провела. Черт возьми! Экая кутерьма! Как бы нам все-таки извиниться перед мистером Кугером?
— Извиниться?! — так и взвился Вилли. — Перед этим крокодилом? Перед этим людоедом? Ты что, еще не зарекся иметь дело с этими бормоглотами и грымзами?
— Бормоглотами, говоришь? Грымзами? — Джим задумчиво поглядел на друга.
Так они привыкли называть между собой всякую нежить из ночных кошмаров. Когда к Вилли приходили бормоглоты, они стонали, невнятно бормотали и лица на них не было. А в кошмарах Джима грымзы росли как на дрожжах и питались крысами, которые в свою очередь пожирали пауков таких здоровенных, что они сами охотились на кошек.
— Именно так и говорю, — огрызнулся Вилли. — Чего ты ждешь? Чтобы на тебя шкаф в десять тонн свалился? Посмотри, что с двоими уже сделали: с мистером Электрико и с этим свихнутым Карликом. Проклятая карусель черт знает что с людьми творит! Мы-то знаем, мы видели. Может, они нарочно так скрючили торговца, а может, опять не заладилось. Ну, принял он маленько, проехался на карусели, хлоп! и готово! Свихнулся и даже нас не узнал. Мало тебе? Неужто тебя Господь оставил, Джим? Слушай, а может, и мистер Крозетти…
— Да он просто передохнуть решил.
— Может, да, а может, нет. Парикмахерская — раз, объявление — два: «Закрыто по болезни». По какой это болезни, а, Джим? Леденцов объелся на представлении? Морскую болезнь на карусели подхватил?
— Ай да заткнись ты, Вилли!
— Нет, сэр, не заткнусь, не дождешься. Оно, конечно, сильная штука эта карусель. Думаешь, я навсегда хочу тринадцатилетним остаться? Вот уж дудки! Но, Джим, ты ведь не по правде захотел двадцатилетним стать?
— А о чем мы с тобой все лето говорили?
— Верно. Говорили. И ради этого ты сунешь голову в проклятую костоломку? Ну, вытянут тебя, да только после этого ты и думать забудешь, зачем оно тебе понадобилось!
— Нет уж, не забуду, — упрямо выдохнул в ночь Джим.
— А я тебе говорю — забудешь! Просто уйдешь и бросишь меня здесь, Джим.
— С чего это мне тебя бросать? — запротестовал Джим. — Не собираюсь я. Мы вместе будем…
— Вместе? Только ты на два фута выше, да? Будешь смотреть на меня сверху и хвастать своими руками-ногами. И о чем это мы говорить будем, скажи на милость, если у меня в карманах полно веревок для змеев, камушков и лягушачьих лап, а у тебя там будет чисто и пусто? Об этом, что ли, мы будем говорить, что ты бегаешь быстрее и запросто можешь меня бросить…
— Да не буду я тебя бросать, Вилли, никогда не буду!
— Мигом бросишь. Ладно. Давай. Оставь меня. У меня же есть перочинный ножик, со мной все в порядке. Буду под деревом сидеть, в ножички играть. А ты совсем свихнешься на этом черном жеребце, что носится кругами, да, слава Богу, теперь-то уж не понесется больше…
— Это ты виноват! — выкрикнул Джим и замолчал. Вилли сжал кулаки.
— Ты, значит, хочешь сказать, что надо было дать этому маленькому прохиндею спокойно превратиться в большого прохиндея и открутить нам головы? А может, надо было и тебя пустить туда покататься и помахать мне ручкой на прощанье? А я бы, значит, помахал тебе, да, Джим?
— Уймись ты, — пробормотал Джим. — Поздно теперь говорить, сломана карусель…
— А как починят ее, так сразу прокатят назад старину Кугера, чтобы он помоложе стал, да вспомнил, как нас звать. И вот тогда они придут за нами, эти бормоглоты, нет, только за мной придут, ты ведь перед ними извиняться задумал, ты же скажешь им, как меня зовут и где я живу…
— Я не сделаю этого, Вилли, — произнес Джим сдавленным голосом.
— Джим! Джим! Вспомни. В прошлом месяце проповедник говорил: всему свое время, сначала одно, потом — другое, одно за другим, Джим, а не два за двумя, помнишь?
— Всему свое время, — тихо повторил Джим.
И тут до них донеслись голоса. В полицейском участке говорила женщина, а мужчины что-то отвечали ей.
Вилли быстро кивнул Джиму, они пробрались через кусты и, подкравшись к окну, заглянули в комнату.
За столом сидела мисс Фолей, напротив — отец Вилли.
— …в голове не укладывается, — говорила мисс Фолей, — подумать только: Джим и Вилли — грабители! Надо же в дом пробраться, взять, удрать!
— Вы точно их видели? — тихо спросил мистер Хэллоуэй.
— Я закричала, и они посмотрели вверх, а там — фонарь…
«Она молчит про племянника, — подумал Вилли, — и дальше молчать будет. Видишь, Джим! — хотелось крикнуть ему. — Это — ловушка! Племянник специально поджидал нас, чтобы в такую заварушку втянуть! А там уж неважно будет, что мы кому про карнавалы с каруселями рассказываем. Хоть полиция, хоть родители — никто не поверит!»
— Я не хочу никого обвинять, — продолжала меж тем мисс Фолей, — но если они не виноваты, то где же они?
— Здесь! — раздался голос.
— Вилли! — отчаянно прошептал Джим, но было уже поздно. Вилли подпрыгнул, подтянулся и перескочил через подоконник.
— Здесь, — просто сказал он.
27
Они неторопливо шли домой по залитым луной тротуарам. Посредине — мистер Хэллоуэй, по бокам — ребята. Уже перед домом отец Вилли вздохнул:
— По-моему, не стоит тебе, Джим, нарываться на неприятности с твоей матушкой посреди ночи. Давай, ты ей утром расскажешь, а? Ты, надеюсь, сможешь попасть домой по-тихому?
— Запросто! — фыркнул Джим. — Глядите, что у нас есть…
— У нас?
Джим небрежно кивнул и отодвинул со стены густые плети дикого винограда. Под ними открылись железные скобы, ведущие прямо к подоконнику Джима. Мистер Хэллоуэй тихо засмеялся, но внутри содрогнулся от внезапной острой печали.
— И давно это здесь? Впрочем, ладно, не говори. У меня в детстве такие же были, — добавил он и взглянул на затерянное в зелени окно Джима. — Здорово, конечно, выйти попозже… — он остановил себя. — Но вы не слишком поздно возвращаетесь?
— Да нет. На этой неделе — первый раз после полуночи. Мистер Хэллоуэй поразмышлял немножко.
— Полагаю, от разрешения никакого удовольствия бы не было, так? Еще бы! Тайком смыться на озеро, на кладбище, на железную дорогу или в персиковый сад…
— Черт! Мистер Хэллоуэй, и вы, что ли, тоже, сэр?..
— Еще бы! Но только — чур, женщинам ни слова. Ладно. Дуй наверх и чтоб до следующего месяца про эту лестницу забыть!
— Есть, сэр!
Джим по-обезьяньи взлетел наверх, мелькнул в окне, закрыл его и задернул занавеску.
Отец Вилли глядел на ступени, спускавшиеся из звездного поднебесья прямо в свободный мир пустынных тротуаров, темнеющих зарослей, кладбищенских оград и стен, через которые можно перемахнуть с шестом.
— Знаешь, Вилли, что мне горше всего? — задумчиво обратился он к сыну. — Что я больше не в состоянии бегать, как ты.
— Да, сэр, — ответил Вилли.
— Давай-ка разберемся, — предложил отец. — Завтра сходим, еще раз извинимся перед мисс Фолей и заодно осмотрим лужайку. Вдруг мы что-нибудь не заметили, пока лазили там с фонарями. Потом зайдем к окружному шерифу. Ваше счастье, что вы вовремя появились. Мисс Фолей не предъявила обвинение.
— Да, сэр.
Они подошли к стене своего дома. Отец запустил руку в заросли плюща.
— У нас тоже? — Он уже нащупал ступеньку.
— У нас тоже.
Мистер Хэллоуэй вынул кисет и набил трубку. Они стояли у стены; рядом незаметные ступени вели к теплым постелям в безопасных комнатах. Отец курил трубку.
— Я знаю. На самом деле вы не виноваты. Ничего вы не крали.
— Нет.
— Тогда почему признались там, в полиции?
— Да потому, что мисс Фолей почему-то хочет обвинить нас. А раз она так говорит, ну, значит, так и есть. Ты же видел, как она удивилась, когда мы через окно ввалились? Она ведь и думать не думала, что мы сознаемся. Ну а мы сознались. Знаешь, у нас и кроме Закона врагов хватает. Я подумал: если мы сознаемся, может, они отстанут от нас? Так и вышло. Правда, мисс Фолей тоже в выигрыше — мы ведь преступники теперь, кто нам поверит?
— Я поверю.
— Правда? — Вилли внимательно изучил тени на отцовском лице. — Папа, прошлой ночью, в три утра…
— В три утра…
Вилли заметил, как вздрогнул отец, словно от ночного ветра, словно он знал уже все и только двинуться не мог, а просто протянул руку и тронул Вилли за плечо. И Вилли уже знал, что не станет говорить больше. Не сегодня. Может быть, завтра, да, завтра, или… послезавтра, когда-нибудь потом, когда будет день и шатры на лугу исчезнут, и уроды оставят их в покое, думая, что достаточно припугнули двоих пронырливых мальчишек, и теперь-то уж они придержат язык за зубами. Может, пронесет, может…
— Ну, Вилли, — с усилием выговорил отец. Трубка погасла, но он не заметил. — Продолжай.
«Нет уж, — подумал Вилли, — пусть лучше нас с Джимом съедят, но больше чтоб никого. Стоит узнать — и ты в опасности».
Вслух же он сказал:
— Пап, я тебе через пару деньков все расскажу. Ну, точно! Маминой честью клянусь!
— Маминой чести для меня вполне достаточно, — после долгого молчания согласился отец.
28
Ах как хороша была ночь! От пыльных пожухлых листьев исходил такой запах, будто к городу вплотную подступили пески аравийской пустыни. «Как это так, — думал Вилли, — после всего я еще могу размышлять о тысячелетиях, скользнувших над землей, и мне грустно, потому что кроме меня, ну и еще, быть может, отца, никто не замечает этих прошедших веков. Но мы почему-то даже с отцом не говорим об этом».
Это был редкостный час в их отношениях. У обоих мысли то кидались по сторонам, как игривый терьер, то дремали, словно ленивый кот. Надо было идти спать, а они все медлили и выбирали окольные пути к подушкам и ночным мыслям. Уже настала пора сказать о многом, но не обо всем. Время первых открытий. Первых, а до последних было еще так далеко. Хотелось знать все, и ничего не знать. Самое время для мужского разговора, да только в сладости его могла затаиться горечь.
Они поднялись по лестнице, но сразу разойтись не смогли. Этот миг обещал и другие, наверное, даже не такие уж отдаленные ночи, когда мужчина и мальчик, готовящийся стать мужчиной, могли не то что говорить, но даже петь. В конце концов Вилли осторожно спросил:
— Папа… а я хороший человек?
— Думаю, да. Точно знаю — да, — был ответ.
— Это… поможет, когда придется действительно туго?
— Обязательно.
— И спасет, когда придется спасаться? Ну, если вокруг, например, все плохие, и на много миль — ни одного хорошего? Тогда как?
— И тогда пригодится.
— Хотя ведь пользы от этого не очень-то много, верно?
— Знаешь, это ведь не для тела, это все-таки больше для души.
— Слушай, пап, тебе не приходилось иногда пугаться так, что даже…
— Душа уходит в пятки? — Отец кивает, а на лице — беспокойство.
— Папа, — голос Вилли едва слышен, — а ты — хороший человек?
— Я стараюсь. Для тебя и для мамы. Но, видишь ли, каждый из нас сам по себе вряд ли герой. Я ведь с собой всю жизнь живу, знаю уж все, что стоит о себе знать.
— Ну и как? В общем?
— Ты про результат? Все приходит, и все уходит. А я по большей части сижу тихо, но надежно, так что, в общем, я в порядке.
— Тогда почему же ты не счастлив, папа? Отец покряхтел.
— Знаешь, на лестнице в полвторого ночи не очень-то пофилософствуешь…
— Да. Я просто хотел узнать.
Повисла долгая пауза. Отец вздохнул, взял его за руку, вывел на крыльцо и снова разжег трубку. Потом сказал неторопливо:
— Ладно. Мама твоя спит. Будем считать, она не догадывается о том, что мы с тобой беседуем здесь. Можем продолжать. Только сначала скажи, с каких это пор ты стал полагать, что быть хорошим — и значит быть счастливым?
— Со всегда.
— Ну, значит, пора тебе узнать и другое. Бывает, что самый наисчастливейший в городе человек, с улыбкой от уха до уха, — жуткий грешник. Разные бывают улыбки. Учись отличать темные разновидности от светлых. Бывает, — крикун, хохотун, половину времени — на людях, а в остальную половину веселится так, что волосы дыбом.
Люди ведь любят грех, Вилли, точно, любят, тянутся к нему, в каких бы обличьях, размерах, цветах и запахах он ни являлся. По нонешним временам человеку не за столом, а за корытом надо сидеть. Иной раз слышишь, как кто-нибудь расхваливает окружающих, и думаешь: да не из свинарника ли он родом? А с другой стороны, вон тот несчастный, бледный, обремененный заботами человек, что проходит стороной, — он и есть как раз тот самый твой Хороший Человек. Быть хорошим — занятие страшноватое. Хоть и на это дело охотники находятся, но не каждому по плечу, бывает, ломаются по пути. Я знавал таких. Труднее быть фермером, чем его свиньей. Думаю, что именно из-за стремления быть хорошей и трескается стена однажды ночью. Глядишь, вроде человек хороший и марку высоко держит, а упадет на него еще волосок — он и сник. Не может самого себя в покое оставить, не может себя с крючка снять, если хоть на вздох отошел от благородства.
Вот кабы просто быть хорошим, просто поступать хорошо, вместо того чтобы думать об этом все время. А это нелегко, верно? Представь: середина ночи, а в холодильнике лежит кусок лимонного пирога, чужой кусок! И тебе так хочется его съесть, аж пот прошибает! Да кому я рассказываю! Или вот еще: в жаркий весенний полдень сидишь за партой, а там, вдали, скачет по камням прохладная чистая речка. Ребята ведь чистую воду за много миль слышат. И вот так всю жизнь ты перед выбором, каждую секунду стучат часы, только о нем и твердят, каждую минуту, каждый час ты должен выбирать — хорошим быть или плохим. Что лучше: сбегать поплавать или париться за партой, залезть в холодильник или лежать голодным. Допустим, ты остался за партой, или там в постели. Вот здесь я тебе секрет выдам. Раз выбрав, не думай больше ни о реке, ни о пироге, не думай, а то свихнешься. Начнешь складывать все реки, в которых не искупался, все несъеденные пироги, и к моим годам у тебя наберется куча упущенных возможностей. Тогда успокаиваешь себя тем, что чем дальше живешь, тем больше времени теряешь или тратишь впустую. Трусость, скажешь? Нет, не только. Может, именно она и спасет тебя от непосильного, подожди — и сыграешь наверняка.
Посмотри на меня, Вилли. Я женился на твоей матери в тридцать девять лет, в тридцать девять! До этого я был слишком занят, отвоевывая на будущее возможность упасть Дважды, а не трижды и не четырежды. Я считал, что не могу жениться, пока не вылижу себя начисто и навсегда. Я не сразу понял, что бесполезно ждать, пока станешь совершенным, надо скрестись и царапаться самому, падать и подниматься вместе со всеми. И вот однажды под вечер я отвлекся от великого поединка с собой, потому что твоя мать зашла в библиотеку. Она зашла взять книжку, а вместо нее получила меня. Тогда-то я и понял: если взять наполовину хорошего мужчину и наполовину хорошую женщину и сложить их лучшими половинками, получится один хороший человек, целиком хороший. Это ты, Вилли. Уже довольно скоро я заметил, с грустью, надо тебе сказать, что хоть ты и носишься по лужайке, а я сижу над книгами, но ты уже мудрее и лучше, чем мне когда-нибудь удастся стать…
У отца погасла трубка. Он замолчал, пока возился с ней, наконец разжег заново.
— Я так не думаю, сэр, — неуверенно произнес Вилли.
— Напрасно. Я был бы совсем уж дураком, если бы не догадывался о собственной дурости. А я не дурак еще и потому, что знаю — ты мудр.
— Вот интересно, — протянул Вилли после долгой паузы, — сегодня ты мне сказал куда больше, чем я тебе. Я еще немножко подумаю и, может, за завтраком тоже расскажу тебе побольше, о'кей?
— Я постараюсь приготовиться.
— Я ведь потому не говорю… — голос Вилли дрогнул. — Я хочу, чтобы ты был счастлив, папа. — Он проклинал себя за слезы, навернувшиеся на глаза.
— Со мной все будет в порядке, сынок.
— Знаешь, я все сделаю, лишь бы ты был счастлив!
— Вильям, — голос отца был вполне серьезен, — просто скажи мне, что я буду жить всегда. Этого, пожалуй, хватит.
«Отцовский голос, — подумал Вилли. — Почему я никогда не замечал, какого он цвета? А он такой же седой, как волосы».
— Пап, ну чего ты так печально?
— Я? А я вообще печальный человек. Я читаю книгу и становлюсь печальным, смотрю фильм — сплошная печаль, ну а пьесы, те просто переворачивают у меня все внутри.
— А есть хоть что-нибудь, от чего ты не грустишь?
— Есть одна штука. Смерть.
— Вот так да! — удивился Вилли. — Уж что-что…
— Нет, — остановил его мужчина с седым голосом. — Конечно, смерть делает печальным все остальное, но сама она только пугает. Если бы не Смерть, в жизни не было бы никакого интереса.
«Ага, — подумал Вилли, — и тут появляется Карнавал. В одной руке, как погремушка, Смерть, в другой, как леденец, Жизнь. Одной рукой пугает, другой — заманивает. Это — представление. И обе руки полны!» Он вскочил с перил.
— Слушай, пап! Ты будешь жить всегда! Точно! Ну, подумаешь, болел ты года три назад, так ведь прошло все. Правильно, тебе — пятьдесят четыре, так ведь это еще не так много! Только…
— Что, Вилли?
Вилли колебался. Он даже губу прикусил, но потом все-таки выпалил:
— Только не подходи близко к Карнавалу!
— Чудно, — покрутил головой отец. — Как раз это и я тебе хотел посоветовать.
— Да я и за миллион долларов не вернулся бы туда! «Но это вряд ли остановит Карнавал, — думал Вилли, — который по всему городу ищет меня».
— Не пойдешь, пап? Обещаешь?
— А ты не хочешь объяснить, почему не надо ходить туда? — осторожно спросил отец.
— Завтра, ладно? Или на следующей неделе, ну, в крайнем случае — через год. Ты просто поверь мне, и все.
— Я верю, сын, — отец взял его за руку и пожал. — Считай, что это — обещание.
Теперь пора было идти. Поздно. Сказано достаточно. Пора.
— Как вышел, — сказал отец, — так и войдешь. Вилли подошел к железным скобам, взялся за одну и обернулся.
— Ты ведь не снимешь их, пап?
Отец покачал одну скобу, проверяя, хорошо ли держит.
— Когда устанешь от них, сам снимешь.
— Да никогда я от них не устану!
— Думаешь? Да, наверное, в твоем возрасте только так и можно думать: что никогда ни от чего не устанешь. Ладно, сын, поднимайся.
Вилли видел, как смотрит отец на стену, затянутую плющом.
— А ты не хочешь… со мной?
— Нет-нет, — быстро сказал отец.
— А зря. Хорошо бы…
— Ладно, иди.
Чарльз Хэллоуэй все смотрел на плющ, шелестящий в рассветных сумерках.
Вилли подпрыгнул, ухватился за первую скобу, за вторую, за третью… и взглянул вниз. Даже с такой небольшой высоты отец на земле казался съежившимся и потерянным. Вилли просто не мог оставить его вот так, бросить одного в ночи.
— Папа! — громко прошептал он. — Ну что ты теряешь?
Губы отца шевельнулись. И он тоже подпрыгнул неловко и ухватился за скобу.
Беззвучно смеясь, мальчик и мужчина лезли по стене друг за другом. След в след.
Вилли слышал, как карабкается отец. «Держись крепче», — мысленно подбадривал он его.
— Ох! — мужчина тяжело дышал. Зажмурившись, Вилли взмолился: «Держись! Немножко же! Ну!»
Нога старика сорвалась со скобы. Он выругался яростным шепотом и полез дальше.
А дальше все шло гладко. Они поднимались все выше и выше, отлично, чудесно, хоп! и готово! Оба ввалились в комнату и уселись на подоконнике, примерно одного роста, примерно одного веса, под одними и теми же звездами, они сидели, обнявшись впервые, и пытались отдышаться, глотая огромные смешные куски воздуха, боясь расхохотаться и разбудить Господа Бога, страну, жену и маму; они зажимали друг другу рты ладонями, чувствуя кожей рук смеющиеся губы, и все сидели, сверкая яркими, влажными от любви глазами.
Потом отец все-таки нашел в себе силы, поднялся и ушел. Дверь спальни закрылась.
Слегка опьянев от приключений долгой ночи, открыв в отце то, что и не чаял открыть, Вилли сбросил одежду и как бревно повалился в кровать.
29
Вряд ли он проспал час. Какое-то неясное воспоминание разбудило его, он сел и сразу посмотрел на соседскую крышу.
— Громоотвод! — тихонько взвыл Вилли. — Его же нет!
Так оно и было. Украли? Нет, конечно. Джим снял? Точно. Но зачем? Вилли знал — зачем. Джим говорил — чепуха, мол, все это. Вилли почти видел, как Джим с усмешкой лезет на крышу и отрывает чертову железяку. Нарочно отрывает, чтобы пришла гроза и чтобы молния ударила в его дом! Не мог Джим отказаться от такого развлечения, не мог не примерить обновку из электрического страха.
Ох, Джим! Вилли едва не выскочил в окно. Надо же немедленно прибить эту штуку на место. Обязательно. До утра. А то ведь проклятый Карнавал обязательно пошлет кого-нибудь разузнать, где мы живем. Я не знаю, как они явятся и в каком обличье, но они придут, придут! Господи, Джим, а твоя крыша такая пустая! Посмотри, облака прямо летят, гроза идет, беда надвигается…
Вилли насторожился. Какой звук издает воздушный шар, когда его несет ветер? Да никакого. Нет, какой-то должен быть. Наверное, он шуршит, шелестит, или вздыхает, как ветер, когда откидывает тюлевые занавески. А может, он похож на тот звук, с которым вращаются звезды во сне? Или… ведь закат и восход тоже слышно. Вот когда луна плывет между облаков, слышно ведь, так и шар, наверное.
Как его услышишь? Уши не помогут. Разве что волосы на загривке, и легкий пушок в ушах и еще волоски на руках — они иногда звенят, как кузнечики. Вот они могут услышать, и тогда ты будешь точно знать, даже лежа в постели: где-то неподалеку в небесах плывет воздушный шар.
Вилли почувствовал движение в комнате Джима. Должно быть, и Джим своими антеннами уловил, как поднимаются над городом призрачные воды, открывая путь Левиафану.
Оба они почувствовали тяжелую тень, скользящую между домами. Оба высунулись в один и тот же миг, и в который раз поразились этой удивительной слаженности, радостной пантомиме интуиции, предчувствия, обостренного годами дружбы. Оба задрали головы, посеребренные восходившей луной.
Как раз вовремя, чтобы заметить исчезающий за деревьями воздушный шар.
— С ума сойти! Что ему здесь надо? — Джим спрашивал, вовсе не рассчитывая на ответ.
Они оба знали. Лучше для поисков не придумаешь: ни тебе шума мотора, ни шороха шин, ни стука шагов по асфальту — только ветер, расчистивший в облаках целую Амазонку для мрачного полета плетеной корзины и штормового паруса над ней.
Ни Джим, ни Вилли не бросились от окон, они даже не шелохнулись, потому что шар возвращался! От него исходил призрачный звук — не громче бормотания в чужом сне.
Сильно и как-то сразу похолодало. Выбеленный многими бурями шар с легким журчанием падал вниз. Под слоновьей тенью враз заиндевела лужайка с цветочными часами. Уже можно было разглядеть и фигуру, торчавшую, подбоченясь, над краями корзины. Вот плечи, а это — голова? Луна светит прямо сзади, не разберешь… «Мистер Дарк!» — подумал Вилли. «Крушитель!» — показалось Джиму. «Бородавка! — решил Вилли. — Скелет! Пьющий лаву! Сеньор Гильотини!»
Нет.
Это была Пыльная Ведьма, та, которая обращает в пыль черепа и кости и развеивает их по ветру.
Джим глянул на Вилли, Вилли — на Джима, и оба прочли по губам друг друга: «Пыльная Ведьма!»
«Но почему, — лихорадочно думал Вилли, — почему на поиски послали восковую каргу, почему не кого-нибудь ядовитого или огнеглазого? Зачем отправлять дряхлую куклу со слепыми тритоньими веками, зашитыми черной вдовьей ниткой?»
И тогда, взглянув вверх, они поняли. Хоть и восковая, Ведьма была живей живых. Хоть и слепая, но она выставила из корзины длинную руку в пятнах ржавчины, и эта рука чутко просеивала воздух, касалась звездных лучей (они тускнели при этом), ловко распутывала воздушные течения и лучше носа вела ищейку.
И Джим, и Вилли знали даже еще больше. Слепота Ведьмы особая. Руки, опущенные вниз, ощущали биение мира, они могли незримо касаться крыш, ощупывать мешки на чердаках, мгновенно исследовать любую пыль, понимать сквозняки, пролетающие по комнатам, и души, трепыхающиеся в людях, руки видели, как легкие гонят кровь к вискам, к трепещущему горлу, к пульсирующим запястьям, и снова к легким. Так же, как ребята чувствовали морось, сеющуюся от шара, так же и Ведьма чувствовала их души, трепещущие вместе с дыханием возле ноздрей. Ведь каждая душа — огромный, теплый след; Ведьма легко различала их, могла бы узнать по запаху, могла бы размять в пальцах, как глину, и определить на ощупь. Вилли чуял, как она с высоты обнюхивает его жизнь, как пробует мокрыми деснами и гадючьим языком ее на вкус, как прислушивается к звучанию, пропуская душу из одного уха в другое.
Руки играли воздухом. Одна — для Джима, другая — для Вилли. Тень от шара окатила их волной ужаса.
Ведьма громко дохнула вниз. Шар тут же подскочил вверх и тень убралась.
— Боже! — промолвил Джим. — Теперь они нас выследили.
Оба едва перевели дух и снова замерли. Чуть слышно заскрипела и застонала крыша Джима под каким-то страшным, незримым грузом.
— Вилли! Она забирает меня!
— Нет, не то…
Шорох. Как будто мягкая щетка прошлась по крыше Джима. А потом шар взмыл вверх и направился к холмам.
— Смылась! Вон она летит! Джим, она что-то сотворила с твоей крышей. Быстро! Кинь веревку!
Джим натренированным броском (не в первый раз) забросил в комнату Вилли бельевую веревку. Одним движением Вилли закрепил ее под подоконником и, споро перехватываясь руками, через минуту оказался в комнате Джима. Босиком, подталкивая друг друга, они выбрались на чердак. Выглянув из маленького окошка, Вилли зашипел: «Вот оно, Джим!»
Верно. Тут оно и было, серебрясь в лунном свете.
Такой след остается от улитки на тротуаре. Серебристо-гладкий, блестящий. Только улитка должна была бы весить фунтов сто. Серебристая полоса шириной в ярд начиналась от водосточного желоба, забитого листьями, и тянулась через весь скат до конька. Видно, и на той стороне было то же самое.
— Зачем это? — выдохнул Джим.
— Это же проще, чем высматривать номера домов и названия улиц. Твою крышу пометили, да так, что и днем и ночью издали видать.
— Черт меня побери! — Джим высунулся и потрогал след. На пальцах осталась какая-то клейкая гадость с противным запахом. — Вилли, что нам теперь делать?
— Я думаю, они не вернутся до утра. Не успеют. Не поднимут же они сейчас суматоху. А мы вот что сделаем!
На лужайке под окнами, свернутый кольцами, как огромный удав, лежал садовый шланг.
Вилли ящерицей слетел вниз, ничего не перевернул, не зацепил и не разбудил никого. Джим опомниться не успел, а Вилли, запыхавшийся, был уже снова наверху со шлангом в руке.
— Вилли, ты гений!
— А то как же! Давай скорее.
Они вдвоем протащили шланг на чердак и принялись смывать мерзкую ртутную краску. Работая, Вилли оглядывался на восток, там ночные краски уступали место рассветным. Далеко над холмами он видел шар, лавирующий в воздушных потоках. Не вернулся бы он… а то снова пометит. Ну и что? Они опять смоют. Так до восхода и будут мыть, если понадобится.
«Вот бы добром остановить Ведьму, — думал Вилли. — Они ведь все еще не знают ни наших имен, ни где мы живем. Мистер Кугер того и гляди дуба даст, где ему что-нибудь помнить. Карлик, если это и впрямь давешний торговец, совсем спятил. Бог даст, тоже не вспомнит. Мисс Фолей они до утра беспокоить не станут. Сидят там у себя в лугах и зубами скрипят. Ведьму вот на поиски послали…»
— Дурак я, — тихо и грустно сказал Джим, окатывая крышу там, где раньше крепился громоотвод. — Чего я его не оставил?
— Ладно, — отозвался Вилли, — молния ведь пока не трахнула. Может, еще и пронесет. Все. Пошли отсюда.
Они еще раз окатили крышу. Внизу стукнуло, закрываясь, окно.
— Мама, — тускло усмехнулся Джим. — Думает, дождь пошел.
30
Крыша стала чистой. Шланг шмякнулся в траву. За городом все еще мотался в быстро светлеющем небе воздушный шар.
— Чего она ждет?
— Может, чует, как мы тут поработали?
Тем же путем, через чердак, они вернулись в комнату Джима, и скоро каждый лежал в своей постели, прислушиваясь, как сердце наперегонки с часами отбивает ритм наступающего утра.
«Что бы они ни придумали, — размышлял Вилли, — нам надо опередить их». Ему пришла в голову мысль. Теперь он даже хотел, чтобы Ведьма вернулась. Уже несколько минут он разглядывал свое бойскаутское снаряжение, развешенное на стене: прекрасный лук и колчан со стрелами.
«Прости, папа, — подумал он и сел на кровати. — Пора и мне выходить из дома одному. Вовсе ни к чему, чтобы эта мразь болтала о нас, хоть сегодня, хоть когда».
Он снял лук со стены, еще немножко поколебался и отворил окно. «Вовсе не обязательно звать ее вслух, — думал он. — Надо просто думать, хоть это и нелегко с непривычки. Мысли они читать не могут, это точно, иначе ее и посылать не нужно было бы. Мысли — нет, но тепло живого тела, запахи, волнения, настроения — это она может учуять. Я уж постараюсь дать ей понять, что обманул ее, может, тогда…»
«Четыре утра», прозвонили сонные куранты из другого мира.
«Эй, Ведьма, — подумал он, — вернись. Ведьма! — подумал он решительнее и предоставил крови радостно взволноваться от собственной находчивости. — Ведьма! А крыша-то чистая, слышишь? Мы ее помыли. Так что давай обратно, опять метить надо! Ведьма!..»
И Ведьма услышала.
Вилли вдруг почувствовал, как поворачивается пейзаж под шаром.
«О'кей, Ведьма, продолжай. Я здесь только один, просто мальчишка без имени, мыслей ты моих не прочтешь, но то, что я чувствую, разобрать сможешь. Так вот, я чувствую, что плевать мне на тебя! Мы тебя обдурили, наша взяла, а твоя затея провалилась. Что, съела?»
Через мили Вилли уловил согласный вздох. Похоже, шар приближался.
«Э-э, да что это я? — всполошился Вилли. — Мне вовсе не надо, чтобы она сюда летела. А ну-ка, пошли! Быстро! Быстро!»
Он натянул одежду, ловко, как обезьяна, спустился по скобам и принюхался. Точно, приближается.
Он бежал, наплевав на тропинки, чувствуя восхитительную свободу, как заяц, наевшийся редкого дурманного корешка, бежал, как берсерк, которого не остановить. Колени достают аж до подбородка, ноги крушат сучки и листья. Раз! Перемахнул через ограду, в руках — оружие, страх и восторг смешались белыми и красными леденцами во рту.
Он оглянулся. О! Шар уже близко! И летит быстро…
«Стоп! А куда я бегу? — подумал он. — Ах да, к дому Редмана! Там уж сколько лет никто не живет. Ну, еще два квартала…»
Шуршат бегущие ноги, шуршит эта штуковина в небе. Все в лунном свете, а звезды меркнут уже.
Он остановился возле дома Редмана. В каждом легком пылал огонь. Во рту — привкус крови. Изнутри рвется безмолвный крик: «Вот! Это мой дом!»
Он почувствовал, как вильнула ветровая река в небесах.
«Правильно», — одобрил он.
Он уже повернул старую дверную ручку и тут его пришибла мысль: «Боже! А вдруг они внутри, сидят и поджидают меня?»
Он распахнул дверь. За ней была полная тьма.
Лопнули с едва слышным треском паучьи сети. Больше ничего. Перескакивая через две ступеньки по гнилой лестнице, он взлетел на чердак, потом — на крышу, и только здесь, прислонив лук к трубе, остановился и выпрямился.
Шар, зеленый, как тина, разрисованный крылатыми скорпионами, древними сфинксами, дымами и огнями, тяжело вздохнул и прянул вниз.
«Ну, — подумал он, — давай, Ведьма, иди сюда!»
Мокрая тень ударила его неожиданно, как крыло летучей мыши. Взмахнув руками, Вилли пошатнулся. Тень казалась вязкой черной патокой. Он упал. Ухватился за трубу. Тень окутала его и теперь утихомиривала. Липкий холод пронизывал до костей. Но вдруг, сам по себе, ветер сменил направление. Ведьма зашипела. Шар взмыл вверх.
«Ветер! — отчаянно думал Вилли. — Он за меня! Не уходи! — испугался он за отлетающий шар. — Вернись!» Он очень боялся, как бы Ведьма не разнюхала его план. А ведь, похоже, к этому и шло. Она уже поняла, что план есть, и теперь лихорадочно ощупывала его со всех сторон, вытягивала все больше. Вилли видел, как ее пальцы сучат воздух, быстро разбирая незримые нити. Она выставила ладони вниз, как будто он был печкой, хранившей огонь в подземном мире, а она пришла погреть над ней руки. Огромным маятником корзина скользнула вниз, и теперь Вилли видел и зашитые веки, и поросшие мхом уши, и шамкающий иссохший рот, беспрерывно пробующий воздух на вкус. Бледные сморщенные губы поджались в сомнении. Вилли почти слышал ее мысли: «Что-то здесь не так! Уж слишком он подставляется, слишком просто взять его. Не иначе как обман». Определенно, она чувствовала подвох.
Ведьма задержала дыхание. Шар завис между вдохом и выдохом. Она решила рискнуть и вдохнула. Шар, потяжелев, пошел вниз. Выдохнула — взлетел вверх. Надо выждать.
Растопырив ладонь, Вилли приставил большой палец к носу и помахал.
Ведьма сделала большой вдох. Шар провалился. «Ближе!» — подумал Вилли.
Нет, она осторожничала, спускалась по пологой спирали, ориентируясь на острый запах адреналина. Вилли вертел головой, следя за шаром.
«Ты что, хочешь, чтобы у меня голова открутилась? — мысленно прикрикнул он. — Думаешь, затошнит от твоего круженья?»
Нет. Шар опять завис. Оставалось последнее средство. Он повернулся к шару спиной и застыл.
«Ведьма, — думал он, — ты же не устоишь».
Совсем близко ощущалось зеленое скользкое облако, слышалось поскрипыванье плетеной корзины, шею и спину обдавало холодом. Уже близко!
Ведьма снова вдохнула. Балласт из звездного снега и ночного ветра бросил шар вниз.
Ближе!
Слоновья тень тронула его ухо. Вилли протянул руку за оружием. Тень накрыла его. Словно паук коснулся волос — неужто рука?! Вскрикнув, он обернулся. Ведьма тянулась к нему из корзины. До нее было не больше двух футов. Он нагнулся, перехватил лук поудобнее. Ведьма унюхала, учуяла, поняла, что у него в руках! Она попыталась выдохнуть, но от ужаса только затаила дыхание. Шар снизился еще и корзина заскребла по крыше.
Только одна мысль осталась в голове у Вилли: «УНИЧТОЖИТЬ!!!» Он натянул тетиву.
Лук переломился пополам. Вилли тупо уставился на стрелу, оставшуюся у него в руке.
Ведьма испустила радостный вопль. Шар пошел вверх и ударил Вилли углом корзины. Ведьма снова победно заверещала. Уцепившись за край корзины, Вилли в отчаянии метнул стрелу, как дротик, в огромный шар над головой. Ведьма загоготала и потянула к нему скрюченные пальцы.
Казалось, стрела летит целый час. Но вот она встретилась с оболочкой шара и исчезла в ней, оставив за собой маленькую дырку. От нее, как разрез на сыре, побежала горизонтальная трещина, словно улыбка на круглом лице. Шар остановился, закачался и стал спускаться. Поверхность его подернулась рябью, форма теперь больше напоминала грушу. Причитая, бормоча и негодующе вскрикивая, Ведьма заметалась по корзине, Вилли мертвой хваткой вцепился в край и висел, болтая ногами. А шар плакал, сипел, захлебывался воздухом и скорбел о своей преждевременной кончине. Вдруг какое-то драконье дыханье подхватило опадающую плоть и быстро поволокло назад и вверх.
Вилли разжал пальцы. Пространство засвистело вокруг него, потом больно ударило по ногам крышей, он перевалился через водосток и ногами вперед провалился в следующую пустоту. Вскрикивая, пытаясь ухватиться за пролетающую мимо водосточную трубу и понимая, что это не поможет, он еще успел заметить улетающий с шипением шар. Он уносил в облака бьющий из него воздух, как раненый зверь стремится укрыться в чаще, он не хотел издыхать и все-таки издыхал.
Все это мелькнуло перед глазами Вилли в единый миг, а уже в следующий что-то грубо развернуло его, хлестнуло, и, не успев обрадоваться дереву, он принялся считать сучки и ветки, пока, ободрав напоследок, дерево не оборвало его падения, поймав в матрас из переплетенных ветвей. Как застрявший воздушный змей, он лежал лицом к небу и с великой радостью слушал затихающие причитания Ведьмы, которую уносило все дальше от дома, дальше от улицы, дальше от города. Улыбка шара становилась все шире, шар мотало из стороны в сторону. Да и шаром он уже не был. Так, зеленая тряпка, летящая по ветру невысоко над землей, чтобы упасть в лугах, там, откуда пришла эта пакость, подальше от сонных, знать ничего не знающих домов.
Вилли казалось, что громовые удары собственного сердца вот-вот сбросят его с ненадежного батута, но зато он точно знал, что жив.
Спустя некоторое время, успокоившись, собравшись с духом и тщательнейшим образом подобрав молитву, он сполз с дерева.
31
И за весь остаток ночи больше НИЧЕГО не произошло.
32
Уже на рассвете по небу с грохотом прокатилась колесница Джаггернаута[10]. По городским крышам зашелестел дождь, захихикал в водостоках, залепетал на странных подземных языках под окнами, вмешался в сны, которые торопливо перебирали Джим и Вилли, подыскивая подходящий и каждый раз убеждаясь, что все они скроены из одной и той же темной, шуршащей, непрочной ткани.
И еще одно событие произошло под утро. На раскисшем лугу, где обосновался Карнавал, внезапно задергалась, оживая, карусель. Калиоп, судорожно давясь, выплескивал дурно пахнущие обрывки музыки.
Пожалуй, лишь один-единственный человек в городе услышал и понял эти конвульсивные звуки.
В доме мисс Фолей открылась и тут же захлопнулась дверь. Легкие шаги простучали по улице. Дождь пошел сильнее. Молния выкинула в небе дикое танцевальное коленце, на миг высветила и навек сокрыла серую землю.
Дождь приникал к окнам в доме Джима, дождь вылизывал стекла в доме Вилли, и там, и там было много тихих разговоров и даже несколько восклицаний.
В девять пятнадцать Джим в плаще и резиновых сапогах выбрался в воскресную непогодь. С полминуты он стоял, разглядывая крышу (там и намека не осталось ни на какую улитку), потом принялся гипнотизировать дверь Вилли. Дверь покладисто отворилась, и на пороге возник Вилли. Вслед ему долетел голос Чарльза Хэллоуэя: «Может, мне с вами пойти?» Вилли только головой помотал.
Ребята сосредоточенно шагали к полицейскому участку. Опять придется объясняться с мисс Фолей, извиняться, но ведь пока они еще только идут, засунув руки поглубже в карманы и перебирая в памяти жуткие субботние головоломки. Первым нарушил молчание Джим:
— Знаешь, когда мы после крыши спать пошли, мне похороны приснились. На Главной улице…
— А может, это парад был?
— Ха! Точно. Тыща людей, все в черном и гроб тащат, футов сорок длиной!
— Вот это да!
— Верно говорю. Я еще подумал: «Это что же такое помереть должно, чтобы такой гробище понадобился?» Ну и подошел заглянуть. Ты только не смейся, ладно?
— Не улыбнусь даже, честно.
— Там лежала такая сморщенная штуковина, ну, вроде черносливины. Как будто чья-то шкура, как с диплодока что ли…
— Шар!
Джим остановился как вкопанный.
— Эй! Ты тоже видел? Но ведь шары не умирают? Вилли молчал.
— Зачем их хоронить-то? Их же не хоронят?
— Джим, это я…
— Знаешь, он был, как бегемот, только сдутый.
— Джим, прошлой ночью…
— А вокруг черные плюмажи, барабаны черным затянуты и по ним — черными колотушками — бум! бум! Я сдуру начал утром маме рассказывать, только начал ведь, а тут уже и слезы, и крики, и опять слезы. Вот женщинам нравится рыдать, правда? А потом ни с того ни с сего обозвала меня «преступным сыном»! А чего мы такого сделали, а, Вилли?
— Кто-то чуть было не прокатился на карусели…
Но Джим, похоже, не слушал. Он шел сквозь дождь и думал о своем.
— По-моему, с меня хватит уже всей этой чертовщины.
— По-твоему?! И это — после всего? Ну что ж, Джим, хватит так хватит. Только вот что я тебе скажу. Ведьма, Джим, на Шаре! Этой ночью я один…
Но уже некогда было рассказывать. Не осталось времени поведать о том, как он сражался с Шаром, как одолел его, как Шар повлекся умирать в пустынные края, унося с собой слепую Ведьму. Не было времени, потому что сквозь дождь ветер донес до них печальный звук.
Они как раз проходили через пустырь с большущим дубом посредине. Вот оттуда, из теней возле ствола и послышалось им…
— Джим! Там плачет кто-то!
— Да вряд ли! — Джим явно хотел идти дальше.
— Там девочка. Маленькая!
— Спятил? Чего это маленькую девочку потянет в дождь плакать под дубом? Пошли.
— Джим! Да ты что, не слышишь?
— Ничего я не слышу! Идем.
Но тут плач стал громче, он печальной птицей легко скользил сквозь дождь по мертвой траве, и Джиму волей-неволей пришлось повернуть за Вилли. А тот уже шагал к дубу.
— Джим, я, пожалуй, знаю этот голос!
— Вилли, не ходи туда!
Джим остановился, а Вилли продолжал брести, подскальзываясь на мокрой траве, пока не вошел в сырую тень. Насыщенный водой воздух, неотделимый от серого низкого неба, путался в ветвях и струйками стекал вниз, по стволу и веткам; и там, в глубине, действительно притулилась махонькая девочка. Спрятав лицо в ладошках, она рыдала так, словно город внезапно провалился сквозь землю, все люди перемерли в одночасье, а сама она потерялась в дремучем лесу.
Подошел Джим, встал у края теней и тихо спросил:
— Это кто?
— Сам не знаю, — отвечал Вилли, сдерживая уже созревшую догадку, от которой самому впору зареветь.
— Не Дженни Холлдридж, а?
— Нет.
— И не Джейн Франклин?
— Да нет же, нет, — губы Вилли потеряли чувствительность, как от заморозки у зубного врача. Одеревеневший язык едва шевелился: — Нет. Н-нет.
Малышка продолжала плакать, хотя уже чувствовала, что не одна под деревом, просто остановиться не могла. И головы пока не поднимала.
— …я… я… помогите мне, — донеслось сквозь всхлипыванья, — никто мне не поможет… я… я… не такая…
Наконец, собравшись с силами, она подавила очередной всхлип и подняла лицо с совершенно опухшими и заплывшими от слез глазами. Она разглядела ребят и это потрясло ее.
— Джим! Вилли! О Боже, это вы!
Она схватила Джима за руку. Он шарахнулся назад, бормоча:
— Нет! Ты что? Не знаю я тебя, отпусти!
— Вилли! — запричитала девчушка растерянно, — ну хоть ты-то помоги! Джим, не уходи! Не бросайте меня здесь! — слезы снова ручьем хлынули у нее из глаз.
— Нет! — пронзительно взвизгнул Джим, вырвал руку, упал, вскочил на ноги, замахнулся даже невесть на кого, не удержался, затрясся весь и прошептал, заикаясь:
— Ой, Вилли, пойдем отсюда, ну, пожалуйста, пойдем, а? Девочка под деревом испуганно отшатнулась; широко распахнутые глаза умоляюще и недоуменно перебегали с лица на лицо, потом она застонала, обхватила себя за плеча и принялась раскачиваться, упрятав лицо на груди. Она не плакала больше. Нет, она напевала что-то в такт своим наклонам, и видно было, что она так и будет мурлыкать себе под нос, одна, под деревом, среди серого дождя, и никто не подпоет ей, никто ее не остановит…
— …кто-то должен мне помочь… кто-то должен ей помочь, — она плакала, как по мертвому, — кто захочет ей помочь… никто не хочет… никто не может… никто не поможет… ладно, не мне, но ей помогите… ужасно.
— Она нас знает, — обреченно произнес Вилли, наклонившись к девочке и повернув голову к Джиму. — Я не могу ее бросить!
— Да врет она все! — яростно выпалил Джим. — Врет! Не знает она нас! Я же ее в глаза не видел!
— Нет ее, нет, верни ее, верни назад, — причитала девочка, раскачиваясь с закрытыми глазами.
— Кого? — участливо спросил Вилли, присев рядом с ней на корточки. Он даже тихонько тронул ее за руку. Она сразу вцепилась в него, тут же поняла свою ошибку, потому что он дернулся, выпустила его руку и снова разревелась.
Теперь Вилли терпеливо ждал, а Джим подскакивал и ерзал поодаль и все звал его идти, канючил, как маленький, что ему это не нравится, что они должны идти, должны идти…
— О-о-о, — тянула девочка, — она потерялась. Она убежала в то место и не вернулась больше. Найдите ее, найдите, пожалуйста, пожалуйста…
Весь дрожа, Вилли заставил себя погладить девочку по мокрой щеке.
— Ну, не вешай нос, — прошептал он, — все будет о'кей. Я помогу тебе.
Девочка открыла глаза и замолчала.
— Я — Вилли Хэллоуэй, слышишь? Ты сиди тут, а мы через десять минут вернемся. Идет? Только не уходи никуда.
Она покорно покивала.
— Значит, сидишь здесь и ждешь нас, так?
Она снова молча кивнула. Вилли выпрямился. Это простое движение почему-то испугало девочку и она вздрогнула. Вилли помедлил, глядя на нее сверху вниз, и тихо произнес:
— Я знаю, кто вы. Но мне надо проверить.
Знакомые серые глаза глянули на него в упор. По длинным черным волосам и бледным щекам стекали капли дождя.
— Кто поверит? — едва слышно пролепетала она.
— Я, — коротко ответил Вилли.
Девочка откинулась спиной к дереву, сложила на коленях дрожащие руки и застыла, бледная, тоненькая, очень маленькая, очень потерянная.
— Я теперь пойду, ладно? — спросил Вилли. Она кивнула, и тогда он зашагал прочь.
На краю пустыря Джим сучил ногами от нетерпения. Он слушал Вилли, истерично поскуливая, всякие междометия так и сыпались из него.
— Да быть того не может!
— Я тебе говорю. Она и есть, — доказывал Вилли. — Глаза. Сам же говорил, по ним видно. Вспомни, как было с мистером Кугером и тем противным мальчишкой. А потом, есть еще один способ удостовериться. Пошли.
Он протащил Джима через весь город и остановился возле дома, где жила мисс Фолей. Оба задрали головы и посмотрели на слепые в утреннем сумраке окна. Потом поднялись по ступеням и позвонили: раз, два, и три раза.
Тишина. Медленно, со скрипом приоткрылась входная дверь.
— Мисс Фолей? — тихонько позвал Джим.
Из глубины дома доносился едва слышный, монотонный шорох дождя, стучавшего по оконным стеклам.
— Мисс Фолей?..
Они стояли посреди холла, перед текучим занавесом, и до звона в ушах вслушивались в кряхтенье балок на чердаке старого дома.
— Мисс Фолей!
Только мыши, уютно устроившиеся под полом, шебуршат в ответ.
— В магазин пошла, — заявил Джим.
— Нет, — покачал головой Вилли. — Мы знаем, где она.
— Мисс Фолей! Я знаю, что вы тут! — заорал вдруг Джим и яростно рванулся сквозь занавес. — Выходите, ну!
Вилли терпеливо ждал, пока он обыщет весь дом, а когда Джим, нога за ногу, притащился назад и сел на ступеньку, оба явственно услышали музыку, льющуюся через входную дверь вместе с запахом дождя и мокрой старой травы.
В далеких лугах калиоп хрипел задом наперед «Похоронный марш» Шопена. Джим распахнул дверь и стоял в звуках музыки, как стоят под водопадом.
— Это же карусель! Они починили ее! Вилли спокойно кивнул.
— Она, должно быть, услышала музыку и вышла еще на рассвете. И что-то опять не заладилось. Может, установила ее неправильно, а может, так и задумано, чтобы на ней все время такие несчастья случались. Как с торговцем громоотводами. Он же спятил после этого. Может, Карнавалу по нраву такие проделки, ему от них удовольствие. А может, они специально за ней охотились. Например, чтобы про нас выведать. Может, они хотели даже подослать ее к нам, чтобы она им помогла погубить нас. Откуда я знаю? Вдруг она испугалась, и тогда ей просто дали больше, чем она хотела или просила…
— Я не понимаю…
Здесь, на пороге пустого дома, под холодным дождем, самое время было подумать о несчастной мисс Фолей; сначала ее напугали Зеркальным Лабиринтом, потом заманили одну на карусель. Наверно, она кричала, когда с ней делали то, что сделали. Ее крутили круг за кругом, год, и еще год, много лет, слишком много, куда больше, чем ей хотелось. Они стерли с нее все, оставили только маленькую, напуганную, чужую даже самой себе девочку, и крутили, крутили, пока все ее годы не сгорели дотла, и тогда карусель остановилась, как колесо рулетки. Да только ничего не выигралось, пусто, «зеро»; наоборот, проигралось все, и некуда идти, и не расскажешь никому, и ничего не поделаешь… остается только плакать под деревом одной, под утренним осенним дождем.
Так думал Вилли. Примерно так же думал и Джим. Во всяком случае, он проговорил вдруг:
— Бедная, бедная…
— Надо помочь ей, Джим. Кто же еще такому поверит? Ты ж понимаешь, если она скажет кому: «Здрасьте, я — мисс Фолей!» Ей же скажут: «А ну, вали отсюда. Мисс Фолей уехала, скажут, нету ее. Топай отсюда, девчушка!» А может, она даже успела постучаться в добрую дюжину дверей, а, Джим? Представляешь, наверное, просила помочь, пугала людей своими причитаниями, а потом бросилась бежать, и вот теперь сидит там, под деревом… Может, полиция уже ищет ее, да что толку? Маленькая девочка, сидит, плачет. Запрут ее подальше и свихнется она там с горя. Этот Карнавал, Джим, они там знают свое дело. Вытряхнут из тебя все, превратят Бог знает во что, и готово! Иди, жалуйся, только народ от тебя шарахается и слушать ничего не хочет. Одни мы понимаем, Джим, никто больше. Знаешь, я как будто улитку сырую проглотил! — закончил он неожиданно.
Они еще раз оглянулись на залитые дождем окна гостиной. Здесь мисс Фолей не раз угощала их домашним печеньем с горячим шоколадом, а потом махала рукой из окна. Они вышли, закрыли дверь и помчались к пустырю.
— Надо спрятать ее пока, — предложил Вилли, — а потом как-нибудь поможем ей…
— Да как ей поможешь? — выговорил на бегу Джим. — Мы и себе-то помочь не можем!
— Должно же что-то быть, чем с ними справиться… просто не придумывается пока…
Они остановились.
Стук их сердец заглушало биение какого-то другого, огромного сердца. Взвыли медные трубы, потом — тромбоны, целая стая труб ревела по-слоновьи. Почему-то этот рев вызывал тревогу.
— Карнавал! — выдохнул Джим. — А мы-то и не подумали! Он же может сам прийти, прямо в город! Парад! Или… те похороны, которые мне снились.
— Не похороны это. Но и парадом оно только прикидывается. Это нас ищут, Джим. Или мисс Фолей вернуть хотят. Они же по какой хочешь улице пройдут, Джим. Будут дудеть, барабанить, а сами шпионят. Джим, надо забрать ее оттуда!
Они сорвались с места и бросились по аллее, самым коротким путем, но тут же остановились. В дальнем конце, между ними и пустырем, показался карнавальный оркестр. За оркестром двигались клетки со зверями, а вокруг шли клоуны, уроды и разные другие, дуя в трубы и колотя в барабаны. Пришлось прятаться в кусты.
Парад шел мимо минут пять. За это время тучи сдвинулись, небо слегка очистилось и дождь перестал. Рокот барабанов постепенно замирал вдали. Слегка оглушенные, ребята двинулись вперед и скоро были на пустыре.
Под дубом не было никакой маленькой девочки. Они походили вокруг, посмотрели даже наверху, среди ветвей, но позвать по имени так и не смогли. Страшно было. Оставалось только одно: вернуться в город и спрятаться как следует.
33
Звонил телефон. Мистер Хэллоуэй снял трубку.
— Пап, это Вилли, — зачастил в трубке голос. — Пап, мы не можем идти в участок. Мы, наверное, даже дома сегодня не будем. Скажи маме, и маме Джима тоже, ладно?
— Вилли! Где вы?
— Прячемся. Они ищут нас.
— Да кто, Бога ради?
— Пап, я не хочу тебя впутывать в это дело. Но ты поверь мне, пожалуйста, нам спрятаться надо, хотя бы на день-два, пока они не уйдут. А если мы домой заявимся, они нас выследят, и тогда или тебя, или маму погубят. И у Джима — то же. Я пойду, пап.
— Подожди, Вилли, не уходи!
— Пока, папа! Пожелай мне удачи!
Щелк.
Мистер Хэллоуэй поглядел на дома, на деревья, на улицы, прислушался к далекой музыке.
— Вилли, — сказал он молчащему аппарату, — удачи, сынок!
Он надел пальто, шляпу, и вышел в странный опаловый свет, разлитый в холодном сыром воздухе.
34
Перед лавкой Объединенной Табачной Торговли, блестя мокрыми деревянными перьями, стоял деревянный индеец-чероки. Воскресный полдень окатывал его со всех сторон трезвоном колоколов разных церквей, их немало было в городе. Колокола спорили друг с другом, и звон падал с неба почти как недавний дождь. Индеец, как и полагается, не реагировал ни на католические, ни на баптистские призывы. Он даже ухом не повел навстречу еще каким-то звонам. Это билось языческое сердце карнавала. Яркие барабаны, старческий визг калиопа, мельтешение уродливых существ ничуть не привлекли по-ястребиному пронзительного взгляда индейца. Зато барабаны и трубы задавили колокольный звон и вызвали к жизни орущую толпу мальчишек и просто зевак, охочих до всяческих зрелищ. Пока звонили колокола, воскресная толпа казалась чопорно-сосредоточенной, но стоило цимбалам и тромбонам заглушить церковный перезвон — толпа расслабилась и превратилась в праздничное скопище.
Тень от деревянного томагавка индейца падала на металлическую решетку. Много лет назад этой решеткой прикрыли нарочно вырытую яму. Целый день решетка позвякивала под ногами десятков людей, входивших в лавку, и на обратном пути аккуратно принимала от них кусочки папиросной бумаги, золотые ободки от сигар, обгоревшие спички, а то и медные пенни.
Сейчас решетка уже не позвякивала, а беспрестанно гудела, сотрясаемая сотнями ног, ходулями, колесами балаганов. Это в тигрином рычании тромбонов и вулканических взрывах труб шел Карнавал. Но сегодня под решеткой, кроме обычного мусора, притаились два дрожащих человеческих тела. Шел Карнавал. Шел парадом, как огромный павлин, распустивший причудливый хвост; таращились по сторонам внимательные глаза уродов. Они цепко обшаривали крыши домов, шпили церквей, изучали вывески дантистов и окулистов, примечали пыльные здания складов. Сотни глаз карнавала пронизывали пространство города и не находили того, чего хотели. Да и не могли найти, оно ведь было у них под ногами и пряталось в темноте.
Под старой решеткой табачной лавки затаились Джим и Вилли. Здесь было тесно, сидеть приходилось, уперев коленки друг в друга, они даже дышать как следует опасались, но стоически переносили все неудобства. Волосы на их макушках шевелил ветерок от колыхавшихся женских юбок, то и дело чья-нибудь фигура заслоняла кусочек неба, видимый со дна ямы. Перебегали дети.
— Слушай! — шепнул Джим. — Ну и угодили мы, прямо под парад. Давай-ка сматываться!
— Сиди как сидишь, — хриплым шепотом ответил Вилли. — Это же самое видное место. Они никогда не додумаются искать нас здесь.
Трум, трум, турум, турум, тум, тум! — гремел карнавал. Решетка звякнула, на ней опять кто-то стоял. Вилли взглянул наверх и вздрогнул. Он знал эти подошвы со стертыми медными гвоздиками. «Папа!» — чуть не крикнул он. Джим тоже посмотрел наверх. Человек нервно переступал с ноги на ногу, поворачивался по сторонам, выискивая в толпе то, что было совсем рядом с ним. «Я мог бы дотронуться до него», — подумал Вилли. Чарльз Хэллоуэй, бледный, возбужденный, ничего не почувствовал и через минуту ушел.
Но зато Вилли почувствовал, как душа у него ухнула вниз, в какой-то холодный, дрожащий белый кисель.
Шлеп!
Вилли и Джим вздрогнули. Розовая пластинка жевательной резинки упала возле их ног на кучу старых целлофановых оберток от сигарет. Сверху над решеткой склонилась расстроенная мордашка пятилетнего карапуза.
«Убирайся!» — свирепо подумал Вилли. Но малышу жаль было так просто расставаться с лакомством. Он встал на колени и приник к самой решетке, высматривая свое розовое удовольствие.
Вилли едва сдержался, чтобы не схватить жвачку и не запихнуть в маленький ротик — лишь бы он исчез, скрылся побыстрее.
Барабан наверху раскатился дробным рокотом — и смолк.
Ребята переглянулись. «Парад! — подумали оба. — Он же остановился!» Малыш упрямо пытался просунуть руку сквозь решетку.
Наверху мистер Дарк, Человек-в-Картинках, командовавший парадом, окинул взглядом воздетые к небу разверстые пасти медных геликонов и подал знак. Тотчас стройное шествие распалось. Уроды разбежались в разные стороны, смешались с толпой, разбрасывая небольшие рекламные афишки и не прекращая шарить глазами по толпе, по фасадам домов.
«Парад кончился, — понял Вилли, — началась охота».
Малыш наверху не собирался сдаваться. Его тень накрыла Вилли.
— Мама! Там!
35
В баре «Вечерок у Неда», за полквартала от табачной лавки, Чарльз Хэллоуэй второй чашкой кофе приводил в порядок расстроенные бессонной ночью, раздумьями и поисками нервы. Он уже собрался расплатиться, когда его почему-то встревожила наступившая вдруг на улице тишина. В воздухе незримо разлилось беспокойство — это вмиг распавшийся карнавал смешался с толпой. Сам не зная почему, Чарльз Хэллоуэй убрал бумажник.
— Еще чашечку сделаешь, Нед?
Нед включил кофеварку, и в это время в баре появился новый посетитель. Он прошел от двери и слегка шлепнул по стойке рукой. Чарльз Хэллоуэй взглянул. Рука взглянула на него. На тыльной стороне каждого пальца была сделана искусная татуировка в виде глаза.
— Мама! Тут, внизу! Посмотри!
Мальчик звал маму и тянул ручонку вниз. Мимо шли люди. Некоторые останавливались. Появился Скелет. Больше всего смахивающий на ободранное, давно засохшее дерево, он не столько подошел, сколько сыграл ксилофоном своих костей, переместившись поближе к холодному бумажному сору и теплым, дрожащим мальчишкам.
«Уходи! — с отчаянием думал Вилли. — Уходи же!»
Пухлые детские пальчики тянулись сквозь решетку.
«И ты — уходи!»
Скелет, похоже, послушался и убрался из поля зрения. Но не успел Вилли облегченно вздохнуть, как его место занял Карлик! Он подкатился вперевалочку, позвякивая дурацкими колокольчиками, нашитыми на грязную рубаху, и посверкивая глазами-камешками. Глаза поминутно меняли выражение: то они были блестящими и плоскими гляделками идиота, то вдруг становились глубокими и печальными глазами человека, потерявшего себя. Глаза ни секунды не оставались в покое, они так и шарили по сторонам, высматривая не то свою собственную сгинувшую личность, не то запропавших мальчишек. Казалось, взглядом его управляют двое хозяев — прежний и нынешний, заставляя глаза совершать жуткие прыжки: назад, в прошлое, обратно, в настоящее.
— Ма-ма! — тянул свое ребенок.
Карлик остановился возле него (они были примерно одного роста) и посмотрел на малыша.
Вилли в яме испытал жгучее желание стать плесенью на бетонной стене у него за спиной. Похоже, Джим тоже пытался найти для себя местечко между бетоном и паутиной, покрывавшей его.
— Хватит тут ползать! — Бесцеремонный женский голос.
Слабо сопротивляющегося малыша уволокли. Поздно. Карлик уже стоял над решеткой и смотрел вниз. В глазах у него мелькали осколки человека по имени Фури, того самого, что давным-давно, в безоблачное, легкое и безопасное время продавал громоотводы.
Вилли содрогнулся от жалости. «О, мистер Фури, что они сделали с вами! — думал он. — Что это было? Копер? Стальной пресс? Как это было? Вы кричали? плакали? Они поймали вас, как кузнечика в коробку и давили, пока не осталось ничего. Ничего не осталось, мистер Фури, ничего, кроме…»
Карлик. Не человек. Механизм. Камеры. Два объектива уставились в темноту. Щелк. Снимок: прутья решетки. А заодно и то, что под ней?
«На что он смотрит? — пытался сообразить Вилли. — На саму решетку, или на то, что внизу?»
Миг катастрофы все длился. Жалкое, искореженное существо, в котором от человека осталась лишь его двуногость, не двигалось. Может быть, все еще фотографировало?
На самом деле глаза-объективы куклы не замечали ни Джима, ни Вилли, ни даже самой решетки. Но все очертания, цвета, размеры фотокамера уродливого черепа зафиксировала надежно. Придет время, изображение проявится, картинка будет исследована, и тогда дикое, ссохшееся, потерянное сознание бывшего торговца увидит все. А потом? Месть? Уничтожение?
Клац-тук-щелк!
Бегут смеющиеся дети. Их текучая радость смыла Карлика, он вспомнил о чем-то и поковылял дальше, выискивая сам не зная что.
Выглянуло солнце. Двое мальчишек в яме едва дышали. Джим, не заметив, крепко вцепился в руку Вилли. Оба со страхом ждали новых, более внимательных глаз.
Пять синих, красных и зеленых глаз убрались со стойки. Чарльз Хэллоуэй, получивший свой третий кофе, повернулся на вертящемся стуле к странному посетителю. Человек-в-Картинках в упор смотрел на библиотечного уборщика. Хэллоуэй благодушно кивнул, но Человек-в-Картинках не ответил, не мигнул даже, и продолжал пристально рассматривать соседа. «Экий наглец», — подумал мистер Хэллоуэй, но отвести глаза уже не мог, он просто постарался придать взгляду как можно больше спокойствия.
— Что закажете, мистер? — поинтересовался бармен.
— Ничего. — Мистер Дарк все еще разглядывал отца Вилли. — Я ищу двоих парнишек.
«А то я не ищу!» — подумал Хэллоуэй и расплатился. — Спасибо, Нед, — спокойно поблагодарил он и встал. Уже выходя, он заметил, как татуированный человек протянул руки в сторону бармена, повернув ладони вверх.
— Парнишек ищете? — переспросил Нед. — Как звать, сколько лет?
Дверь за Хэллоуэем закрылась. Мистер Дарк, не слушая болтовню бармена, проводил вышедшего внимательным взглядом.
Сначала Чарльз Хэллоуэй по привычке двинулся в сторону библиотеки, но тут же остановился и сделал движение в сторону здания суда. Нет. Он постоял, ожидая, не направит ли его более точно интуиция, машинально ощупал карман пальто и обнаружил, что забыл курево. Это внесло определенность в его планы и он зашагал к лавке Объединенной Табачной Торговли.
Джим из ямы взглянул в небо.
— Вилли! — зашипел он. — Смотри, твой отец! Он нам поможет.
Вилли молчал.
— Ладно, я сам его позову!
Вилли схватил Джима за шиворот и отчаянно замотал головой.
— Да почему? — едва слышно удивился Джим.
— Потому, — шевельнулись губы Вилли.
Потому… Он взглянул наверх. Отсюда отец казался даже меньше, чем прошлой ночью со стены дома. «Это все равно что позвать еще одного мальчишку, — подумал Вилли. — Зачем он нам? Нам нужен кто-нибудь важный, самый главный!» Вилли приподнялся, заглядывая в окно лавки. Вдруг он ошибся, и лицо отца на самом деле выглядит резче, взрослее, мужественнее, чем показалось ему ночью, в призрачном лунном свете? Нет. Все то же. Нервно бегающие отцовские пальцы, неуверенный излом губ. Он даже табак толком купить не может.
— Одну… вот эту… сигару мне за двадцать пять центов.
— Ба! — прогудел мистер Татли. — Да вы никак разбогатели, мистер Хэллоуэй!
Чарльз Хэллоуэй медленно вытаскивал сигару из целлофанового пакетика. Он просто тянул время, ожидая какого-нибудь движения во вселенной, знака, объяснившего бы ему, что происходит. Почему он пошел этой дорогой? Зачем ему сигара за 25 центов? Кажется, кто-то окликнул его по имени. Он резко повернулся и обежал глазами толпу, яркие пятна клоунов с афишами… никого не увидел и повернулся снова прикурить от вечного синего газового пламени, выглядывающего из янтарной трубки в стене табачной лавки. Затянулся, выпустил струйку дыма, бросил сигарный кончик и взглядом проводил его до металлической решетки. Стоп! Он словно ударился о глаза, блеснувшие из-под земли. Чьи это тени там? Джим! Вилли! Чарльз Хэллоуэй пошатнулся и попытался ухватиться за сигарный дым. Боже! Что они там делают, в колодце под улицей? Он чуть было не наклонился, но вовремя остановил себя и, как можно незаметнее, бросил уголком губ:
— Вилли? Джим? Черт побери, что происходит?
В этот момент за сто футов отсюда Человек-в-Картинках резко повернулся и вышел из забегаловки Неда.
— А ну выбирайтесь! — распорядился Чарльз Хэллоуэй.
Человек-в-Картинках, сам толпа посреди толпы, постоял мгновение и направился к табачной лавке.
— Пап! Мы не можем. Ради Бога, не смотри на нас! Человек-в-Картинках был футах в восьмидесяти.
— Мальчики, — растерянно произнес Чарльз Хэллоуэй, — полиция…
— Мистер Хэллоуэй, — прервал его Джим, — мы тут помрем, если вы не посмотрите: Человек-в-Картинках…
— Кто?!
— Ну, мужчина такой, в татуировке весь…
Перед глазами Хэллоуэя возникли зрячие пальцы на стойке.
— Пап, ты лучше смотри вон на часы, а мы пока расскажем тебе…
Мистер Хэллоуэй как мог небрежней выпрямился… и в этот миг из-за угла появился Человек-в-Картинках. Он тут же остановился, изучая Чарльза Хэллоуэя, разглядывавшего уличные часы со странным усердием.
— Сэр, — звучно произнес Человек-в-Картинках.
— Одиннадцать пятнадцать, — бормотал Чарльз Хэллоуэй, не выпуская сигары изо рта и рассматривая свои наручные часы. — Так и есть, отстают на минуту.
— Сэр, — повторил Человек-в-Картинках.
Джим ухватился за Вилли, Вилли вцепился в Джима, когда на решетке, рядом с истертыми подошвами отца Вилли появились крепкие чужие каблуки.
— Сэр, — снова повторил человек по имени Дарк, цепко всматриваясь в черты лица Чарльза Хэллоуэя, сравнивая их с другими… — «Объединенное шоу Кугера и Дарка» избрало двоих местных школьников — двоих, сэр! — нашими почетными гостями.
— А при чем здесь… — начал Чарльз Хэллоуэй, изо всех сил стараясь не глядеть под ноги.
— Эти двое, — подкованные каблуки лязгнули о решетку, — эти двое смогут прокатиться на всех аттракционах, побывать на всех представлениях, пожмут руки всем нашим артистам и вернутся домой с кучей волшебных подарков…
— Кто же эти счастливцы? — прервал его мистер Хэллоуэй.
— Мы выбрали их по фотографиям, сделанным вчера у входа на карнавал. Помогите нам определить их, сэр, и вы разделите с ними удачу. Вот они!
«Он увидел нас! — панически подумал Вилли. — О Боже!»
Человек-в-Картинках выставил вперед руки ладонями наружу. Отец Вилли пошатнулся. С правой ладони на него смотрел мастерски вытатуированный ярко-синей краской портрет собственного сына. На левой ладони, как живое, улыбалось лицо Джима.
— Вы знаете их? — от внимательного взгляда Человека-в-Картинках не укрылась растерянность мистера Хэллоуэя. И немудрено. У старика перехватило горло и глаза чуть разъехались в стороны, словно его огрели дубиной по голове. — Их имена?
«Молчи, папа!» — мысленно закричал Вилли.
— Я, собственно, не… — начал отец Вилли.
— Вы знаете их.
Протянутые вперед, требующие имен руки Человека-в-Картинках слегка подрагивали и вместе с ними вздрагивали и страдальчески морщились лицо Вилли на правой ладони, лицо Джима на левой ладони, лицо Вилли в яме под улицей, лицо Джима внизу под решеткой.
— Сэр, вы же не хотите, чтобы мы не нашли наших героев?
— Нет, но…
— «Но»? — удивился мистер Дарк и подался вперед. Его собственные глаза и глаза всех тварей, бродивших по прериям его тела, вцепились в пожилого человека, стиснули со всех сторон, завораживали тысячами взглядов. Мистер Дарк придвинул ладони ближе. — Вы сказали «но»? Мистер Хэллоуэй покрепче прикусил сигару.
— Пожалуй, я припоминаю…
— Что?
— Один из них похож…
— На кого?
«Папа, неужели ты не видишь, как он заинтересовался?» — думал Вилли.
— Мистер, — удивился Чарльз Хэллоуэй, — да чего вы так разнервничались из-за каких-то мальчишек?
— Я? Разнервничался? — улыбка мистера Дарка исчезла. Похоже, он слегка опешил. — Сэр, я забочусь о своем деле, а для вас это всего лишь нервы?
Отец Вилли смотрел, как перекатываются бугры мускулов под легким костюмом его собеседника. Наверняка все кобры и африканские гадюки, которыми расписан этот молодец, шипят и скручиваются в клубки от злости.
— Один из этих сорванцов, — подчеркнуто медленно тянул мистер Хэллоуэй, — напоминает мне Милтона Блумквиста.
Мистер Дарк стремительно сжал пальцы. Голову Джима сдавила тупая боль.
— А второй, — почти ласково продолжал отец Вилли, — второй похож на Эвери Джонсона.
«Ну, папа, — внутренне возликовал Вилли, — ты — гигант!» — и тут же чуть не застонал от неожиданно обрушившейся боли. Это мистер Дарк сжал вторую ладонь.
— По-моему, они оба, — невозмутимо закончил мистер Хэллоуэй, — уехали на прошлой неделе в Милуоки.
— Вы лжете, — холодно произнес мистер Дарк. Отец Вилли искренне возмутился:
— Что б я, да испортил победителям веселье?!
— Мы знаем имена мальчиков, — с расстановкой произнес мистер Дарк, — мы узнали их десять минут назад. Просто хотели удостовериться еще раз.
— И… кто же они, по-вашему? — недоверчиво спросил отец Вилли.
— Джим, — уронил мистер Дарк. — Вилли.
Джим скорчился в темноте. Вилли втянул голову в плечи. Отцовское лицо оставалось глубоким омутом, в котором без всплеска утонули два имени.
— Джим, значит? Вилли? Да их тут туча, Джимов и Вилли, в таком городе, как наш, уж наверняка пара сотен наберется.
«Кто же нас выдал? — лихорадочно думал Вилли. — Кто рассказал? Мисс Фолей? Но ведь ее нет, она ушла, и дом со льдистой занавеской пуст. А та девочка, рыдавшая под деревом и так похожая на мисс Фолей? — спросил он себя. — Ее ведь тоже нет. Может быть, парад подобрал ее? Она так долго плакала, она так боялась… А если они пообещали, что музыка, кони, трубы, весь этот шальной карнавальный мир помогут ей, сделают взрослой, вырастят, покрутив вперед, поднимут, утешат, прекратят этот ужас и вернут все, как было? Да за это она скажет им все на свете. Что наобещал, что наврал ей Карнавал, когда они нашли ее под деревом?»
— Имена как имена, — гнул свою линию мистер Хэллоуэй. — А с фамилиями как?
Мистер Дарк не знал фамилий. Его космос, населенный чудовищами, вибрировал и исходил потом, обволакивался дурным запахом под мышками, шипел и ругался на мускулистых крепких ногах.
— Сдается мне, теперь вы лжете, — удовлетворенно, с незнакомой дотоле радостью выдохнул мистер Хэллоуэй. — Как это вы не знаете фамилий? И с чего бы это вам, карнавальному чужаку, лгать мне посреди улицы в моем собственном, хоть и не Бог весть каком, городе?
Человек-в-Картинках сжал кулаки. Отец Вилли, слегка побледнев, смотрел, как шевелятся суставы, загоняя ногти в изображения двух мальчишеских лиц, упрятанных в эту прочную, очень прочную тюрьму из сильной, живой плоти.
Внизу две тени молча метались почти в агонии. Человек-в-Картинках смахнул с лица напряженное выражение. Теперь он выглядел совершенно безмятежным. Только яркая капля выкатилась из правого кулака, и такая же капнула из левого. Обе пропали меж прутьев старой решетки на тротуаре.
Вилли перевел дух. Что-то сползло у него по щеке. Он провел ладонью — на ней остался красный след. Вилли посмотрел на Джима. Похоже, его тоже отпустило, он лежал расслабившись и смотрел вверх.
Отец Вилли заметил кровь, сочившуюся из сжатых кулаков Человека-в-Картинках, но не подал виду, а глядя ему прямо в лицо, выговорил:
— Извините, приятель, больше ничем помочь не могу.
Мистер Дарк повернулся на каблуках. Стальные набойки высекли искры из прутьев решетки.
Из-за угла, размахивая в воздухе руками и яркими цыганскими юбками, появилась Предсказательница Удачи, она же — Пыльная Ведьма. Сегодня ее незрячие глаза скрывали темно-синие стекла очков.
«Надо же, уцелела! — подумал Вилли. — Ее ведь уволокло тогда, должно было об землю зашибить, а вот не зашибло. Теперь она взбесилась и не отстанет от меня!»
Его отец тоже увидел Ведьму и почувствовал, как кровь у него в жилах загустела и потекла медленнее.
Толпа приветливо расступалась и добродушно обсуждала яркие лохмотья этого удивительного существа. Многие с улыбками прислушивались к ее прибауткам, чтобы запомнить и потом пересказать в компании. Ведьма двигалась уверенно, ощупывая город вокруг чуткими пальцами. При этом она непрерывно не то пела, не то бормотала.
— Все как есть наворожу. И про жен, и про мужей, про девиц и про парней. Про удачу и про жизнь, все мне ведомо, кажись. Приходи на представленье, погадаю в воскресенье. Девице скажу, на кого он будет похож. А тебе расскажу про всю ее ложь. Узнаешь его намерений цвет, увидишь ее души букет. Далеко не уходи, в шатер заходи, меня там найди.
Дети сразу пугались ее, а их родители — с развитым чувством юмора, конечно, — их родители веселились, глядя на забавную старуху и слушая ее бормотанье. Тем временем древняя ворожея, с ног до головы покрытая пылью множества живших на земле племен, все сплетала и разбирала меж пальцев микроскопическую паутину, пылинки, мушиные крылышки, микробов и бактерий, слюдяные чешуйки, корпускулы солнечного света, преломленные уже явленными, а еще больше — неявленными человеческими страстями.
Ребята изо всех сил вжались в стенки своего убежища. Дребезжащий голос явственно доносился сверху.
— Слепа-то я — слепа. Но уж что вижу, то вижу. А вижу я человека в соломенной шляпе — это осенью-то! И еще вижу — и к чему бы это? — вот мистер Дарк стоит — привет, мистер Дарк! — а с ним старик…
«Не такой уж он и старый!» — крикнул про себя Вилли. Тень Ведьмы серым лягушачьим пятном накрыла яму. Теперь Вилли видны были все трое.
Мистера Хэллоуэя сотрясала внутренняя дрожь. У него возникло ощущение длинных острых ножей, по очереди вонзающихся в живот.
— О, это не простой старик, — вновь забормотала Ведьма и вдруг замолчала. — А еще… — шерсть у нее на носу ощетинилась. Она по-птичьи завертела головой, пробуя воздух, быстро пережевывая его серыми губами.
Человек-в-Картинках поторопил ее:
— Ну!
— Подожди! — выдохнула Цыганка и ногтями принялась скоблить незримый забор перед собой.
Вилли почувствовал, что еще секунда — и он не выдержит: заскулит и затявкает от ужаса, как маленький щенок.
Пальцы Ведьмы медленно поползли вниз. Они чутко прощупывали каждую полоску спектра, взвешивали каждый лучик света. Вот-вот указательный палец вонзится в решетку на тротуаре, означая роковое «там!»
«Папа! — взмолился Вилли, — ну сделай что-нибудь!»
Человек-в-Картинках терпеливо ждал. Как только на сцене появилась его лучшая ищейка, он успокоился и теперь посматривал на нее с гордостью, чуть ли не с любовью.
— Вот… — пальцы Ведьмы отчаянно вибрировали.
— Вот! — громко провозгласил мистер Хэллоуэй. Ведьма подскочила от неожиданности.
— Вот поистине замечательная сигара! — голосил отец Вилли, картинно обернувшись к дверям лавки.
— Потише, любезный, — с досадой произнес Человек-в-Картинках.
Мальчишки внизу подняли головы.
— Вот… — тянула свое Ведьма, пытаясь не упустить едва пойманное ощущение.
— Только жаль — погасла! — вещал на всю улицу Чарльз Хэллоуэй. — Ну да ничего, дело поправимое. Сейчас прикурим, — он снова сунул кончик сигары в синее пламя.
— Вы не могли бы помолчать немного? — обратился к нему мистер Дарк.
— Сами-то курите? — участливо поинтересовался мистер Хэллоуэй.
Ведьма, вконец расстроенная его неожиданным словоизвержением, опустила руку, ушибленную громкими словами, и стерла с нее пот; так протирают антенну радиоприемника, чтобы избавиться от лишних помех. Затем она снова простерла руку вперед, трепетными ноздрями чутко пробуя эфемерные токи воздуха.
— Превосходно! — Из сигары мистера Хэллоуэя изверглось целое облако дыма. Дивные густые клубы окутали гадалку. Она закашлялась.
— Дурачина! — гаркнул, не сдержавшись, Человек-в-Картинках. Но не понять было, мужчину или женщину он имеет в виду.
— Отличная сигара! — продолжал восхищаться мистер Хэллоуэй. — Пожалуй, угощу-ка я и вас тоже! — С этими словами он сотворил еще одну синюю тучу, почти совсем скрывшую Пыльную Ведьму.
Она громко и обиженно чихнула раз, другой, забормотала сердито себе под нос и заковыляла прочь.
Человек-в-Картинках схватил было отца за руку, но понял, что зашел слишком далеко, признал свое нелепое поражение и отправился вслед за Цыганкой. В спину ему прозвучал доброжелательный голос отца Вилли.
— Всего вам доброго, сэр!
«Вот это лишнее, папа», — подумал Вилли. Человек-в-Картинках вернулся.
— Ваше имя, сэр? — напрямик спросил он. «Не говори, не надо!» — напрягся Вилли.
Его отец поколебался немного, вынул сигару изо рта, стряхнул пепел и ответил:
— Хэллоуэй. Библиотечный работник, к вашим услугам. Заглядывайте, если придется, — добавил он, подмигнув.
— Не сомневайтесь, Хэллоуэй, обязательно загляну! Ведьма, пританцовывая, поджидала мистера Дарка на углу. Мистер Хэллоуэй послюнявил палец, определил направление ветра и послал в ее сторону очередное грозовое облако. Ведьма затопотала на месте, повернулась и исчезла за углом. Человек-в-Картинках сурово взглянул на старика, повернулся и удалился широкими шагами, сжимая в кулаках ребячьи лица.
Из-под решетки не доносилось ни звука. «Как бы они там не померли от страха», — с беспокойством подумал Чарльз Хэллоуэй. А Вилли внизу, с мокрыми от слез глазами, думал совсем другое: «Господи! Как же я раньше не замечал? Он же у меня высокий, выше Дарка ростом!» Чарльз Хэллоуэй все еще старался не смотреть на решетку. От дверей табачной лавки уводили за угол редкие алые кляксы. Они накапали из стиснутых кулаков мистера Дарка. Отец Вилли с удивлением оглядел и себя тоже, и не мог не заметить то новое — наполовину отчаяние, наполовину спокойная ясность, — что появилось в нем за последние четверть часа, появилось и совершило невозможное. Вряд ли он смог бы ответить, почему назвал мистеру Дарку свое имя, чувствовал, что поступил так, как надо. Теперь он обращался к циферблату уличных часов с длинной речью.
— Что-то происходит, братцы. Что-то надвигается. Хорошо бы вам куда-нибудь деться до конца дня. Нам нужно выиграть время. Тут важно решить, с чего начать. Вроде ни один писаный закон пока не нарушен, но я чувствую, уже с месяц как чувствую: бедой запахло. У меня внутри что-то подрагивает все время. Прячьтесь, ребята, прячьтесь. Я скажу вашим матерям, что у вас появилась работа на карнавале, до темноты можете не появляться. А вечером, часам к семи, приходите ко мне в библиотеку. Я знаю, кажется, с чего начать. Надо просмотреть отчеты полиции по карнавалам за предыдущие годы, полистать подшивки газет, покопаться в некоторых старинных книгах. Все может пригодиться. Глядишь, с Божьей помощью, к вечеру у нас появится какой-нибудь план. До тех пор не тревожьтесь ни о чем. Господь с вами, мальчики!
Вилли посмотрел. Тщедушная фигурка отца, ставшего вдруг высоким и сильным, неторопливо удалялась. Еще раньше его чудесная сигара выпала у него из пальцев — а он даже и не заметил, — скользнула сквозь решетку, на мгновение осветив подземелье градом искр, и теперь лежала на дне ямы, гипнотизируя Джима и Вилли единственным багровым глазом. Ребята ослепили этот глаз и выбросили сигару вон.
36
На юг по Главной улице пробирался через толпу Карлик. Внезапно он остановился. Пленка была проявлена и сознание, наконец, получило возможность просмотреть отснятые кадры. Карлик замычал, развернулся и через лес ног заковылял разыскивать Хозяина. Он скоро нашел его и заставил пригнуться низко-низко. Мистер Дарк внимательно выслушал сообщение и бросился бежать, даже не оглянувшись на оставшегося позади удачливого старателя.
Возле индейца-чероки Человек-в-Картинках пал на колени и, вцепившись в прутья стальной решетки, попытался разглядеть дно ямы. Там открылось ему скопище старых газет, фантики от леденцов, окурки и розовая полоска жевательной резинки, совершенно целая. Мистер Дарк испустил короткий яростный вопль.
— Что-нибудь потеряли, сэр? — поинтересовался из-за стойки мистер Татли.
Человек-в-Картинках, все еще не отпуская решетку, утвердительно кивнул.
— Не беда, — успокоил его мистер Татли. — Раз в месяц я обязательно провожу инспекцию. Сколько у вас там: четвертак? полдоллара?
Банг!
Человек-в-Картинках вздрогнул и посмотрел наверх. В окошечке кассы, высоко в небесах, выскочил маленький, огненно-красный флажок:
«НЕ ПРОДАЕТСЯ».
37
Городские часы пробили семь. Эхо курантов пошло гулять по темным залам библиотеки. Хрупкий осенний лист прошуршал по оконному стеклу, или это просто перевернулась страница книги?
В одном из закоулков, склонившись в травяном свете лампы, сидел Чарльз Хэллоуэй. Руки его, чуть подрагивая, перебирали страницы, ставили на место одни книги, снимали другие. Изредка он подходил к окну и, вглядываясь в осенние сумерки, наблюдал за улицей, потом опять возвращался к столу, перелистывал страницы, делал выписки, закладки, бормоча себе под нос. От слабых звуков его голоса под потолком библиотеки порхали смутные отголоски.
— Так… теперь посмотрим здесь…
— …здесь! — подтверждали темные переходы.
— О, вот это нам пригодится…
— …годится! — вздыхали темные залы.
— И вот это тоже!
— …тоже, — шуршали пылинки в темноте. Пожалуй, это был самый длинный день в его жизни. Он бродил среди диковинных толп, выслеживал рассыпавшихся по городу карнавальных шпионов. Он не стал портить матерям Вилли и Джима спокойного воскресенья, сказав лишь самое необходимое, и опять бродил по улицам, держась подальше от глухих аллей, сталкивался тенями с Карликом, кивал встреченным Крушителям и Пожирателям Огня, и дважды с трудом сдержал панику, проходя мимо решетки возле табачной лавки. Он чувствовал, что в яме никого нет и надеялся, что ребята, благодарение Богу, нашли надежное местечко. Вместе с толпой горожан он посетил Карнавал, но не зашел ни в один балаган, не прокатился ни на одном аттракционе. Уже в сумерки, перед заходом солнца, исследовал Зеркальный Лабиринт и понял достаточно, чтобы удержаться на берегу и не кануть в холодные глубины.
Промокший под вечерним дождем, промерзший до костей, он дал толпе возможность нести себя и, прежде чем ночь успела схватить его, причалил к берегу библиотеки. Здесь он достал самые нужные книги и разложил на столах, как огромные литературные часы. Теперь они отсчитывали для него свое время.
Он ходил от стола к столу, поглядывая искоса на пожелтевшие страницы, словно на коллекцию диковинных бабочек, расправивших крылья над деревянными столешницами.
Здесь лежала книга, раскрытая на портрете князя тьмы. Рядом — серия гравюр «Искушение святого Антония», слева алхимические рисунки Джованни Батиста Брачелли, изображавшие гомункулов, рожденных в ретортах. Место «без пяти полдень» занимал «Фауст», на двух пополудни лежала «Оккультная иконография», на шести утра, как раз там, где сейчас трудились его пальцы, расположилась «История цирков, карнавалов, театров теней и марионеток», во множестве населенная шутами, менестрелями, магами, клоунами на ходулях и куклами на веревочках. Сверх того присутствовали «Справочник по воздушному царству (Летающие твари за всю историю Земли)», «девять» находилось «Во власти демонов», выше помещались «Египетские снадобья», еще выше — «Мытарства на воздусях», придавленные «Зеркальными чарами», а уж совсем ближе к полуночи стояли под парами «Поезда и локомотивы», упиравшиеся в «Мистерии сновидений», «Между полуночью и рассветом», «Шабаш ведьм» и «Договоры с демонами». Все было на своих местах, и весь циферблат заполнен. Не хватало лишь стрелок, поэтому Хэллоуэй не мог сказать, который час отзвонили куранты его собственной жизни или жизни двоих ребят, затерянных где-то среди ни о чем не подозревающего города.
Чем же он располагал в итоге?
В три часа ночи появился поезд. На лугу раскинул сети Зеркальный Лабиринт, в город вошел воскресный парад, которым командовал рослый мужчина, разрисованный вдоль и поперек. Дальше было несколько капель крови, двое перепуганных мальчишек в яме и, наконец, он сам, сидящий в этой кладбищенской тишине над частями мудреной головоломки.
Ребята говорили правду. Это доказывало явное ощущение страха, сгустившегося в воздухе во время их странной беседы сквозь решетку. А уж он, Хэллоуэй, в своей жизни повидал достаточно страшного, чтобы распознать его сразу при встрече. Почему в молчании разрисованного незнакомца ему послышались все ругательства и проклятья, сколько их есть на свете? Что почудилось Хэллоуэю в фигуре дряхлого старика, мелькнувшей сквозь щель в пологе шатра под вывеской «Мистер Электрико»? Почему на его теле плясали зеленые электрические ящерки? Как сложить все это вместе, как совместить с тем, что говорят книги? Он взял в руки «Физиогномику. Тайны характера, определяемые по лицу», полистал. Автор уверял его, что Джим и Вилли — просто-таки воплощение ангельской чистоты, идеал Мужчины, Женщины или Невинного Младенца, гармония Цвета, Пропорций и Расположения Звезд. И вот они глядят из-под решетки на весь этот шагающий и грохочущий ужас… А там… Чарльз Хэллоуэй перевернул несколько страниц. Так, значит, Расписному Чуду присущи Раздражительность, Жестокость, Алчность — об этом говорят лобные шишки, а также Похоть и Ложь — это уже следует из линии губ, и в не меньшей степени — Хитрость, Наглость, Суета и Предательство, о чем с неопровержимостью должны свидетельствовать зубы мистера Дарка.
Нет. Книга захлопнулась. Если судить по лицам, балаганные уроды не намного хуже тех, кто на его долгой памяти открывал и закрывал двери библиотеки. Но в одном он уверен совершенно. В этом убедили его две строки Шекспира. Их надо было поместить в центре книжного циферблата, ибо именно они наиболее точно выражали суть его мрачного предчувствия.
Так смутно — и так огромно.
С этим предчувствием не хотелось жить. Но Хэллоуэй был твердо убежден: если ему не удастся изжить наступающий ужас сегодня ночью, он останется с ним навсегда.
И он все поглядывал в окно, все поджидал: Джим, Вилли, вы идете? Придете вы сюда?
Ожидание выбелило его плоть до цвета костей.
38
Здание библиотеки поднималось из сугробов времени, нападавших от лавины книг всех веков и народов — ее с трудом сдерживал порядок полок и разделителей.
Семь пятнадцать… семь тридцать… семь сорок пять воскресного вечера.
Город был занят Карнавалом. Мимо Джима и Вилли, затаившихся в кустах под стеной библиотеки, то и дело шли люди, заставляя ребят зарываться носами в палые листья.
— Полундра!
Оба снова вжались в землю. Кто-то пересекал улицу: может, какой-то парнишка, а может, Карлик, может, подросток с сознанием Карлика, а может, просто сдуло несколько листьев с дерева и бросило по подмерзшему после дождя тротуару. Ладно. Было и ушло. Джим сел, а Вилли все еще лежал, прижавшись к доброй, безопасной земле.
— Ты чего? Идти ведь надо.
— Библиотека, — словно нехотя, отозвался Вилли. — Я даже ее теперь боюсь. «Этим книжкам, поселившимся здесь, — думал он, — сотни лет от роду. У них шелушится кожа от старости, они расселись на полках, как стая грифов, крыло к крылу. Только ступи в темные переходы — сразу миллион золотых корешков так и вылупится на тебя. Библиотека старая, и Карнавал старый, и отец старый…»
— Я знаю, — вслух произнес он, — отец там. Но отец ли он? А что, если они уже побывали здесь, изменили его, переделали, наобещали с три короба, чего и дать не могут, а он-то думает — у них есть, и мы войдем сейчас, а потом, лет через пятьдесят, кто-нибудь возьмет книжку, откроет, а оттуда на пол вывалимся, как сухие бабочкины крылья, мы с тобой, а? Как сожмут нас, как засунут между страницами, никто и не узнает, куда мы подевались…
Для Джима это было уже чересчур. Надо было немедленно действовать — и вот он уже колотит в библиотечную дверь. Еще миг — и Вилли присоединился к нему. Куда угодно, лишь бы убежать от уличной ночи, хоть в такую же ночь, но в тепло, под крышу, за дверь. Если уж выбирать, пусть лучше пахнет книгами… сил больше нет вдыхать запах мокрых прелых листьев… Вот уже отворилась дверь, на пороге — отец со своей призрачного цвета шевелюрой. Они на цыпочках прошли пустынными коридорами, и Вилли вдруг испытал безумное желание свистнуть, как бывало иногда на кладбище после захода солнца. Отец расспрашивал, почему они припозднились, а ребята старательно припоминали все места, где прятались днем. Они побывали в старых гаражах, отсиживались в амбарах, пробовали скрываться даже на деревьях, но в конце концов все это им надоело. Они вылезли из какой-то очередной норы и заявились прямо к шерифу. Полчаса, проведенные в участке, были прекрасны своей полной безопасностью, а потом Вилли пришла в голову мысль побродить по церквям, что они и сделали, облазив все церкви в городе от подвалов до колоколен. Неизвестно, насколько безопасны были церкви на самом деле, но некое чувство защищенности там возникало. А потом надоело и это. Скука и предвечерняя тоска чуть было не погнали их на Карнавал, но тут, весьма кстати, солнце село и настала пора двигаться к библиотеке. Весь день она представлялась им дружественным фортом, крепостью на захваченных врагом землях, и только в самом конце они испугались: а не сдалась ли и эта цитадель арабам?
— И вот мы здесь, — сипло прошептал Джим и замолчал. — А что это я все шепчу? — подумал он вслух. — Привык за этот день. Вот чертовщина! — Он рассмеялся и тут же испуганно оборвал себя. Из глубины библиотеки словно бы прошелестели легкие шаги. Но это всего лишь вернулись отголоски его собственного смеха, отраженные стеллажами, и кошкой прокрались по переходам.
Кончилось тем, что все вновь перешли на шепот.
Лесные чащи, мрачные пещеры, темные церкви, полуосвещенные библиотеки одинаково приглушают голоса, гасят пыл, вынуждают говорить вполголоса из страха перед призрачными отголосками, продолжающими жить и после вашего ухода.
Теперь они были уже в той комнате, где Чарльз Хэллоуэй разложил свои фолианты. Здесь все переглянулись, каждый поразился бледности другого, но говорить об этом не стали.
— А теперь давайте-ка все с самого начала, — потребовал отец Вилли, придвигая ребятам кресла.
Он внимательно выслушал рассказ о торговце громоотводами, о приближавшейся, по его словам, грозе, о ночном поезде, о том, как странно разворачивался на лугу Карнавал; потом, в полуденном свете открылся проселок и по нему на луг брели сотни христиан — только львов не хватало, чтобы закусить ими; вместо львов был лабиринт, где само Время блуждало взад-вперед; дальше — неисправная карусель, перерыв на ужин, мистер Кугер, племянник с грешными глазами, потому что на самом деле он был мужчина и жил так долго, что и рад бы умереть, да не знает — как…
Ребята остановились перевести дух, а потом опять — мисс Фолей, снова Карнавал, дикий разбег карусели, мумия мистера Кугера, мертвей мертвого, но вскоре ожившая под электрическими разрядами — все это и была буря, только без дождя и грома, а потом — парад, яма, накрытая решеткой, нудная игра в прятки, и рассказ закончился абордажем библиотечных дверей.
Отец Вилли долго сидел, слепо уставившись на что-то прямо перед собой, потом его губы шевельнулись раз, другой, и он произнес:
— Джим, Вилли, я вам верю. Ребята просто-таки осели в креслах.
— Что, всему этому?
— Всему этому. Вилли потер глаза.
— Знаешь, — сообщил он Джиму, — я, кажется, разревусь сейчас.
— Да погоди ты! — прикрикнул на него Джим. — Нашел время!
— Верно. Времени у нас мало, — промолвил Чарльз Хэллоуэй.
Он встал, набил трубку и в поисках спичек опустошил карманы, в результате чего на столе перед ним оказались: старая губная гармошка, перочинный нож, сломанная зажигалка, записная книжка — он давно уже предназначил ее для записи мудрых мыслей, но все руки не доходили, — перебрав весь этот жалкий мусор, он покачал головой и наконец обнаружил измочаленный спичечный коробок, зажег трубку и принялся расхаживать по комнате.
— Вот мы толкуем тут о совершенно особенном Карнавале: откуда он взялся, да почему, да зачем он здесь? Вроде бы никто и никогда такого не видел, а уж в нашем городишке — тем более. Однако не угодно ли вам посмотреть вот сюда, — он постучал пальцем по сильно пожелтевшей газетной рекламе с числом в правом верхнем углу: 12 октября 1888 года. Реклама гласила: «Дж. К. Кугер и Г. М.
Дарк представляют: театр-пандемониум, сопутствующие выступления, международный противоестественный музей!»
— «Дж. К. Г. М», — вспомнил Джим, — на вчерашних афишах эти же инициалы. Но ведь не могут они быть теми же самыми?
— Не могут? Как сказать… — отец Вилли потер виски. — Я, когда вот это увидел, тоже весь мурашками пошел.
Он положил на стол еще одну старую газету.
— Вот. 1860-й год. И еще есть 1846-й. Та же реклама, те же фамилии. Дарк и Кугер, Кугер и Дарк, они появляются и исчезают примерно каждые тридцать — сорок лет. Люди успевают все забыть. Где их носило все эти годы? Похоже, они путешествовали. Только довольно странно: они появляются всегда в октябре: октябрь 1846-го, октябрь 1860-го, 1888-го, 1910-го и наконец нынешний октябрь… — голос Хэллоуэя зазвучал глуше. — Бойтесь людей осени…
— Чего?
— Один старый религиозный трактат. Пастор Ньюгейт, кажется. Я его в детстве читал. Как же там дальше? — он попытался вспомнить. Облизал губы. Наморщил лоб. Вспомнил. — «Для некоторых людей осень приходит рано и остается на всю жизнь. Для них сентябрь сменяется октябрем, следом приходит ноябрь, но потом, вместо Рождества Христова, вместо Вифлеемской Звезды и радости, вместо декабря вдруг снова начинается сентябрь, за ним приходит старый октябрь, так оно и идет сквозь века: ни зимы, ни весны, ни лета. Для подобных людей падение естественно, у них просто нет выбора. Откуда приходят они? Из праха. Куда держат путь? К могиле. Кровь ли течет у них в жилах? Нет, то — ночной ветер. Стучит ли мысль в их головах? Нет, то — червь. Кто глаголет их устами? Жаба. Кто смотрит через их глаза? Змея. Кто слушает их ушами? Черная бездна. Они взбаламучивают осенней бурей человеческие души, они грызут устои причины, они толкают грешников к могиле. Они неистовствуют, и во взрывах ярости суетливы, они крадутся, выслеживают, заманивают, от них луна угрюмеет ликом и замутняются чистые текучие воды. Таковы люди осени. Остерегайся их на своем пути».
Чарльз Хэллоуэй замолчал, и оба мальчика разом выдохнули.
— Люди осени, — повторил Джим. — Это — они! Точно!
— А мы тогда — кто? — сглотнул от волнения Вилли. — Мы, значит, люди лета!
— Ну, я бы так прямо не сказал, — покачал головой Хэллоуэй. — Сейчас-то вы, конечно, ближе к лету, чем я. Может быть, когда-то и я им был, но только очень давно. Большинство из нас — серединка наполовинку. Августовским полднем мы защищаемся от ноябрьских заморозков, мы живем благодаря запасам тепла, скопленным Четвертого Июля, но бывает, и мы становимся Людьми Осени.
— Ну не ты же, папа!
— Не вы же, мистер Хэллоуэй!
Он быстро повернулся к ним и успел заметить, как они бледны, как напряжены их позы с неподвижно лежащими на коленях руками.
— Слова, слова… Не надо меня убеждать, я говорю то, что есть. Как ты думаешь, Вилли, знаешь ли ты своего отца на самом деле? И достаточно ли я знаю тебя, если случится нам вместе выйти против тех?
— Я не понял, — протянул Джим. — Так вы — кто?
— Черт побери! Да знаем мы, кто он! — взорвался Вилли.
— Ой ли? — скептически произнес седой мужчина. — Давай посмотрим. Чарльз Вильям Хэллоуэй. Ничего особенного, кроме того, что мне пятьдесят четыре, а это всегда не совсем обычно, особенно для тех, к кому эти пятьдесят четыре относятся. Родился в местечке под названием Сладкий Ключ. Жил в Чикаго. Выжил в Нью-Йорке. Маялся в Детройте, сменил кучу мест, здесь появился довольно поздно, а до этого переходил из библиотеки в библиотеку по всей стране, потому что любил одиночество, любил сравнивать с книгами то, что встречал на дорогах. Как-то раз, посреди всей этой беготни, твоя мать, Вилли, остановила меня одним взглядом, и вот с тех пор я здесь. По-прежнему любимое время для меня — ночь в библиотечном зале. Навсегда ли я бросил якорь? Может, да, а может, и нет. Зачем я оказался здесь? Похоже, затем, чтобы помочь вам.
Он помедлил и долго смотрел на симпатичные, открытые мальчишеские лица.
— Да, — произнес он наконец. — Слишком долго в игре. Я помогу вам.
39
Ночной холодный ветер яростно тряс бельмастые окна библиотеки. Вилли, давно уже молчавший, вдруг сказал:
— Пап… ты всегда помогаешь…
— Спасибо, сынок, только это неправда, — Чарльз Хэллоуэй тщательно изучал свою совершенно пустую ладонь.
Дурак я, — признался он неожиданно, — всегда норовил заглянуть поверх твоей головы — что там у тебя впереди. Нет бы на тебя посмотреть, на то, что сейчас есть. Но этак и каждый ведь дурак — вот мне уже и легче. Как оно бывает: ты вкалываешь всю жизнь, карабкаешься, прыгаешь за борт, сводишь концы с концами, прилепляешь пластырь, гладишь по щеке, целуешь в лобик, смеешься, плачешь, словом, весь при деле, и так до тех пор, пока не оказываешься вдруг наихудшим дураком на свете. Ну, тогда, понятно, орешь: «Помогите!», и очень здорово, если тебе ответит кто-нибудь. Я просто вижу эти небольшие городишки, раскиданные по всей стране, захолустные заповедники для дураков. И вот однажды появляется Карнавал. Ему достаточно тряхнуть любое дерево, и посыплется просто дождь из болванов, из таких, знаешь, индивидуумов, которым кажется (а может, и на самом деле так), что на их «помогите» некому ответить. Вот такие дураки-индивидуалисты и составляют урожай, который убирает Карнавал по осени.
— Черт возьми! — в сердцах произнес Вилли. — Но тогда ведь бороться с ними — безнадежное дело!
— Не скажи. Мы-то — вот они, сидим и думаем, какая разница между летом и осенью. Это уже хорошо. Значит, есть выход, значит, вы не останетесь дураками, значит, грех, зло, неправда, что бы этими словами ни называли, к вам не пристанут. У этого Дарка с его дружками не все козыри на руках. После нашего разговора я это точно знаю. Да, я его боюсь, но ведь и он меня побаивается. Тут мы квиты. Вопрос: как нам этим воспользоваться?
— Как?
— Начнем сначала. Возьмем историю. Если бы люди всегда стремились только к плохому, их бы просто не было. А ведь мы уже не плаваем вместе со всякими барракудами, и не бродим стадами по прериям, и не ищем у соседки-гориллы блох под мышкой. Мы ухитрились в свое время отказаться от клыков хищников и принялись жевать травку. Всего за несколько поколений мы уравняли философию охоты с философией земледелия. Тут нам пришло в голову измерить свой рост, и выяснилось, что мы — повыше животных, но пониже ангелов. Потрясающая идея! Чтобы она не пропала, мы записали ее тысячу раз на бумаге, а вокруг понастроили домов наподобие того, в котором мы сидим. И теперь мы водим хороводы вокруг этих святилищ, пережевываем нашу сладкую идею и пытаемся сообразить, с чего же все началось, когда же пришло это решение — быть непохожим на всех остальных? Наверное, как-то ночью, примерно сотню тысяч лет назад, один из тогдашних косматых джентльменов проснулся у костра, посмотрел на свою сильно волосатую леди с младенцем и… заплакал. Ему подумалось, что придет время, и эти теплые и близкие станут холодными и далекими, уйдут навсегда. Этой ночью он все трогал женщину, проверяя, не умерла ли она еще, и детей, которые ведь тоже умрут когда-нибудь. А на следующее утро он обращался с ними уже чуточку поласковее, ведь они того заслуживали. В их крови, да и в его тоже, таилось семя ночи, пройдет время и оно сокрушит жизнь, разрушит тело и отправит его в ничто. Тот джентльмен уже понимал, как и мы понимаем: век наш короток, а у вечности нет конца. Как только это знание поселяется в тебе, следом тут же приходят жалость и милосердие, и тогда мы стремимся оделить других любовью.
Так кто же мы есть в итоге? Мы — знающие, только тяжесть знания велика и неизвестно: плакать надо от этого или смеяться. Кстати, звери не делают ни того ни другого. А мы смеемся или плачем — смотря по сезону. А Карнавал наблюдает и приходит лишь тогда, когда мы созрели.
Чарльз Хэллоуэй замолчал. Мальчишки смотрели на него так пристально, что ему стало неловко.
— Мистер Хэллоуэй! — тихонько крикнул Джим. — Это же грандиозно! Ну а дальше, дальше-то что?
— Да, папа, — выговорил пораженный Вилли, — я и не знал, что ты можешь так говорить!
— Э-э, послушал бы ты меня как-нибудь вечерком, попозже, — усмехнулся отец, — сплошные разговоры. Да в любой из прожитых дней я мог бы рассказать тебе куда больше! Черт! А где же я был? Похоже, все готовился… готовился любить.
Вилли как-то вдруг пригорюнился, да и Джима насторожило последнее слово. Чарльз Хэллоуэй заметил это и замолчал. «Как объяснить им, — думал он, — чтобы поняли? Сказать, что любовь — причина всего, цемент жизни? Или попытаться объяснить, что он чувствует, оказавшись в этом диком мире, волчком несущемся вкруг огромного косматого солнца, падающего вместе с ним через черное пространство в пространства еще более обширные, то ли навстречу, то ли прочь от Нечто. Может быть, сказать так: волей-неволей мы участвуем в гонке и летим со скоростью миллион миль в час. А вокруг — ночь. Но у нас есть против нее средство. Начнем с малого. Почему любишь мальчишку, запустившего в небеса мартовского змея? Потому что помнишь подергивание живой бечевки в собственных ладонях. Почему любишь девочку, склонившуюся над родником? Потому что даже в вагоне экспресса не забываешь вкус холодной воды в забытый июльский полдень. Почему плачешь над незнакомцем, умершим на дороге? Потому что он похож на друзей, которых не видел сорок лет. Почему смеешься, когда один клоун лупит другого пирогом? Потому что вспоминаешь вкус крема в детстве, вкус жизни. Почему любишь женщину, жену свою? Ее нос дышит воздухом мира, который я знаю, и я люблю ее нос. Ее уши слышат музыку, которую я напеваю полночи напролет, конечно, я люблю ее уши. Ее глаза радуются приходу весны в родном краю, как же не любить мне эти глаза? Ее плоть знает жару, холод, горе, и я знаю огонь, снег и боль. Мы с ней — один опыт жизни, мы срослись миллионами ощущений. Отруби одно, убавишь чувство жизни, два — уполовинишь саму жизнь. Мы любим то, что знаем, мы любим нас самих. Любовь — вот общее начало, вот причина, объединяющая рот, глаза, уши, сердца, души и плоть… разве скажешь им все это?»
— Смотрите, — все-таки попробовал он, — вот два человека едут в одном вагоне: солдат и фермер. Один все время толкует о войне, другой — о хлебе, и каждый вгоняет соседа в сон. Но если один вдруг вспомнит о марафонском беге, а другой в своей жизни пробежал хотя бы милю, они прекрасно проболтают всю ночь и расстанутся друзьями. У всех мужчин есть одна общая тема — это женщины, об этом могут толковать от восхода до заката, и дальше… О черт!
Чарльз Хэллоуэй замолчал и, кажется, покраснел. Цель вырисовывалась впереди, но вот как до нее добраться? Он в сомнении пожевал губами.
«Не останавливайся, папа, — думал Вилли. — Пока ты говоришь, здесь замечательно. Ты нас спасаешь, только продолжай…»
Мужчина почувствовал взгляд мальчика и понял его. Повернувшись, он встретил такой же взгляд Джима, встал и медленно начал обходить стол. Он касался то одной картинки, то другой, трогал Звезду Соломона, полумесяц, древний символ солнца…
— Я не помню, говорил я, что значит быть хорошим? Бог мой, я не знаю. Если при тебе на улице стреляют в чужака, ты едва ли кинешься на помощь. Но если за час до этого успел поговорить с ним минут десять, если узнал хоть чуть-чуть о нем и о его семье, то скорее всего ты попытаешься помешать убийце. Потому что знаешь наверняка — это хорошо. А узнать надо стараться. Если не хочешь знать, отказываешься знать — это плохо. Без знания нет действия, без знания от твоих действий толку не будет. Думаете, я свихнулся? Вы ведь уверены, что всего и дел-то — пойти и перестрелять их всех к чертовой бабушке. Ты ведь уже пробовал стрелять, Вилли. Так не пойдет. Мы должны постараться узнать о них как можно больше, а главное — разузнать об их хозяине. Мы не сможем быть хорошими и действовать правильно, пока не будем знать — что в этой истории правильно. Поэтому мы тут теряем время. Сегодня воскресенье. Представление закончится не поздно, и народ разойдется по домам. А после этого… после этого нам надо ждать осенних людей. У нас в распоряжении часа два, не больше.
Джим стоял у окна, словно видел через весь город и черные шатры, и калиоп, играющий сам по себе, только от того, что мир, вращаясь, трется об ночь.
— Разве Карнавал — это плохо? — спросил он.
— Ты еще спрашиваешь! — рассердился Вилли.
— Стоп-стоп! — остановил его отец. — Вопрос хорош. Часть этого представления просто замечательная. Но есть старая хорошая пословица: за все рано или поздно приходится платить. А здесь ты отдаешь им кое-что задаром, а взамен — пустые обещания.
— Откуда они взялись? — угрюмо спросил Джим. — Кто они?
Вилли с отцом тоже подошли к окну. Чарльз Хэллоуэй заговорил, словно обращаясь к темным шатрам на дальнем лугу.
— Некогда, ну, скажем, до Колумба, по Европе, позвякивая колокольчиками на лодыжках, с лютней за спиной бродил человек. А может, это было еще на миллион лет раньше, просто тогда он был в обезьяньей шкуре и выглядел, как самая настоящая обезьяна. Желанней всего на свете были для него несчастья и боль окружающих. Он собирал их и целый день пережевывал, как мятную жвачку. Это давало ему силы, доставляло удовольствие. Наверное, после него его сын усовершенствовал капканы отца, ловушки для человеков, костоломки, средства для головной боли, способы мучения плоти и ограбления души. На дальних болотах из всяческих отбросов он вывел мошку, от которой не спрячешься, москитов, которые достают тебя летними ночами. Вот так, по человечку оттуда, отсюда, и собралась стая людей-псов, для которых нет ничего слаще твоей тревоги, которые с радостью помогут твоему горю. Они караулят твои ночные страхи, вожделенно подслушивают твои угрызения совести и нечистые сны. Ночные кошмары — их хлеб насущный. Они намазывают его болью и уплетают за обе щеки. Они были всегда. С бичами из носорожьей кожи они надзирали за строительством пирамид, поливая их для крепости потом, кровью и жизнями других людей. Они проносились по Европе на белых оскаленных конях Моровой Язвы. Они, удовольствия ради, нашептывали Цезарю мысль о том, что и он смертен, а потом, на мартовской распродаже пускали кинжалы за полцены. То они шуты при дворе императора, то — инквизиторы в застенке, то — цыгане на большой дороге жизни. Чем больше людей становилось на земле, тем быстрее росло их поголовье. А заодно совершенствовались способы причинения боли ближнему своему. Вот загудел первый паровоз, а они уже тут как тут, цепляют к нему вагон, больше всего похожий на средневековую гробницу, или колесницу, в которую впрягали людей…
— И что, все эти годы они — одни и те же? — напряженным голосом спросил Джим. — Вы думаете, мистер Кугер и мистер Дарк родились… лет двести назад?
— По-моему, это ты говорил, что, прокатившись на карусели, нетрудно сбросить год-другой, верно?
— Так это что же — они могут жить вечно! — холодея от ужаса, спросил Вилли.
— И вечно вредить людям? — Джим никак не мог отказаться от какой-то своей мысли. — Но почему все — вред и зло?
— Отвечу, — спокойно отозвался Хэллоуэй-старший. — Чтобы двигаться, Карнавалу нужно топливо, так? Женщины, к примеру, добывают энергию из болтовни, а болтовня их — сплошной обмен головными болями, легкими укусами, артритными суставами, всякими совершенными глупостями, их последствиями и результатами. Многие мужчины не лучше — если их челюсти не занять жевательной резинкой из политики или женщин, их, чего доброго, кондрашка хватит. А сколько удовольствия доставляют им похороны? Прибавить сюда хихиканье над некрологами за завтраком, сложить все кошачьи потасовки, в которых одни норовят ободрать шкуру с других, вывернуть ее наизнанку, да еще доказывать после, что так оно и было. Еще не забыть приплюсовать работу шарлатанов врачей, кромсающих людей вкривь и вкось, а после сшивающих грязной ниткой, умножить на убойную мощь динамитной фабрики, и тогда, пожалуй, получим черную силу одного только такого Карнавала. Они гребут лопатой в свои топки все наши низости и подлости. Все боли, горести и скорби человеческие летят туда же. Мы и то не отказываемся подсолить наши жизни чужими грехами. Карнавал — тем более, только в миллион раз сильнее. Все страхи и боли мира — вот что вращает карусели. Сырой ужас, агония вины, вопли от настоящих или воображаемых ран — все перегорает в его топках и с пыхтеньем влечет дальше. Чарльз Хэллоуэй перевел дух.
— Как я узнал об этом? Да никак! Просто чувствую. Я слышал их музыку, слышал ваш рассказ. Наверное, я всегда знал об их существовании и только ждал ночного поезда на заброшенной ветке, чтобы посмотреть и кивнуть. Мои кости знают о нем правду. Они говорят мне. Я говорю вам.
40
— А могут они, — начал Джим, — это, души покупать?
— Зачем же платить за то, что можно получить даром — усмехнулся мистер Хэллоуэй. — Многие даже рады возможности отдать все за ничего. Мы ведь такой фарс устроили с нашими бессмертными душами! Правда, похоже, ты попал в точку. За всем этим делом чувствуется когтистая лапа дьявола. Он хоть не ест их, но и жить без них не может. Вот что всегда интересовало меня в старых мифах. Я все думал: ну зачем Мефистофелю душа Фауста? Что он с нею делать-то будет? Сейчас я вам изложу мою собственную теорию на этот счет. Лучший подарок для этих тварей — чадный огонь, горящий в душе человека, мучимого совестью за старые грехи. От мертвой души никакого проку нет. А вот живая, неистовая, сбрызнутая собственным проклятием, — вот это для них лакомый кусок.
Откуда мне это известно? А я наблюдаю. Карнавал — тот же человек, но намного яснее. Вот живут мужчина и женщина. Нет бы им разбежаться в разные стороны или поубивать друг друга, а они наоборот — всю жизнь едят один другого поедом, таскают за волосы, царапаются. Почему? Да потому, что мучения и ненависть одного — наркотик для другого. Так и Карнавал чует уязвленную самость за много миль и мчится вприпрыжку погреть руки на этих углях. Он мигом распознает подростков, неспособных стать мужчинами, ноющих, как огромный больной зуб мудрости. Он чувствует, как вдруг начинает мельчать мужчина средних лет (вроде меня). Его августовский полдень давно прошел, а он все тараторит без пользы. Мы разжигаем в своих помыслах страсть, зависть, похоть, окисляем их в наших душах, и все это срывается с наших глаз, с наших губ, с наших рук, как с антенн, работающих, уж не знаю, на длинных или на коротких волнах. Но хозяева балаганных уродов знают, они давно научились принимать эти сигналы и не преминут урвать здесь свое. Карнавал не спешит, он знает, что на любом перекрестке найдет желающих подкормить его пинтой похотливой страсти или квартой лютой ненависти. Вот чем жив Карнавал: ядом грехов, творимых нами по отношению друг к другу, ферментами наших ужасных помыслов! — Чарльз Хэллоуэй фыркнул. — Господи! — воскликнул он. — Сколько же я наговорил за последние десять минут!
— Вы много говорили, — подтвердил Джим.
— На чьем языке, хотел бы я знать? — воскликнул мистер Хэллоуэй. Ему вдруг показалось, что толку от его речей столько же, сколько и обычно, когда он долгими ночами проповедовал свои идеи пустым залам, и только короткое эхо отвечало ему. Он написал множество книг на воздушных страницах светлых комнат, в просторных зданиях разных библиотек — где они? Он уже сомневался, не устроил ли он фейерверк из цветистых звучных фраз, годящихся лишь на то, чтобы поразить двоих подростков без всякой для них пользы. Пустое упражнение в риторике…
Интересно, сколько из сказанного дошло до них? Одна фраза из трех? Две из восьми? Видимо, последние слова он произнес вслух, потому что Вилли неожиданно ответил:
— Три из тысячи.
Чарльз Хэллоуэй не очень весело рассмеялся и вздохнул.
Джиму важно было выяснить что-то свое.
— Этот Карнавал… это что? Смерть?
Старик снова раскурил трубку, выпустил дым и внимательно изучил его.
— Нет, это не сама Смерть, но использовать ее как пытку он может. Смерти-то ведь нет, никогда не было и никогда не будет. Просто мы так часто изображали ее, столько лет пытались ее постичь, что в конце концов убедили себя в ее несомненной реальности, да еще наделили чертами живого и жадного существа. А ведь она — не больше, чем остановившиеся часы, конец пути, темнота, Ничто. Но Карнавал прекрасно знает, что именно это Ничто пугает нас куда больше, чем Нечто. С Нечто еще можно бороться, а вот как бороться с Ничто? Куда бить? Есть ли у Ничто хоть что-нибудь: тело, душа, мозг? Нет, конечно. Так что Карнавал пугает нас погремушкой и собирает, когда мы в ужасе летим вверх тормашками. Он показывает нам Нечто, которое, по нашему мнению, ведет к Ничто. Например, этот Лабиринт там, на лугу. Обычное грубоватое Нечто, вполне достаточное, чтобы вышибить вашу душу из седла. Простой хулиганский удар ниже пояса: показать, как твои девяносто лет тают в зазеркальной глади, и вот ты уже готов, заморожен и недвижим, а калиоп наигрывает славную мелодию, больше всего похожую на стог сена, из которого пытаются давить вино, или на летнюю-ночь-на-берегу-озера, но только под барабаны и литавры. Экая непритязательность! Меня просто восхищает прямота их подхода. Всего и дел-то: разобрать старика на части зеркалами, превратить осколки в головоломку, а единственным ключом к ней владеет Карнавал. А ключ этот — просто-напросто вальс из «Прекрасного Огайо» или «Веселой вдовы», сыгранный наоборот, да карусель. Одного только не говорят они людям, катающимся под их музыку…
— Чего? — не утерпел Джим.
— А того, что если ты в одном обличье стал несчастным грешником, то и в любом другом им останешься. Изменить рост и пропорции — не значит изменить человека. Допустим, Джим, завтра ты станешь двадцатилетним, но думать-то будешь, как мальчишка, и этого не подделаешь! Они могут превратить меня в десятилетнего постреленка, да только мой пятидесятилетний разум все равно заставит меня вести себя по-взрослому, поступать так, как не поступил бы ни один мальчишка. Да и соединить разорванное время им не по силам.
— Это как? — спросил Джим.
— Допустим, я стал молодым. Но ведь все мои друзья и знакомые остались прежними, не так ли? Мне никогда уже не быть с ними вместе. Их интересы и заботы меня уже не взволнуют, ведь у них впереди — болезни и смерть, а у меня — еще одна жизнь. Куда деваться человеку на вид этак лет двадцати, а на самом деле прожившему мафусаилов век? Такой шок — не пустяк. Карнавал об этом помалкивает.
И что же в итоге? Скорее всего безумие. С одной стороны, новое тело, новое окружение, с другой — оставленная жена, друзья, которые будут умирать у тебя на глазах, как и все прочие нормальные люди. Господи, одного этого довольно, чтобы заполучить удар! Но зато сколько страха, сколько мучений перепадет Карнавалу на завтрак. И тогда вы приходите и проситесь обратно. Карнавал слушает и кивает. Конечно, обещают они, если будете себя прилично вести, то в ближайшее время получите обратно ваши три десятка или сколько-вам-там-причитается. На одном этом обещании карнавальный поезд способен обогнуть земной шар, а труппа-то растет, в нее вливаются все новые жаждущие вернуть свое достояние, и за это ожидание — прислуживающие Карнавалу, производящие уголь для его топки.
Вилли пробормотал что-то.
— Что ты говоришь, сынок?
— Мисс Фолей, — голос Вилли дрогнул. — Бедная! Они ведь теперь заполучили ее, прямо как ты сказал. Она добилась своего, но это ее так напугало, она так плакала, пап, прямо обрыдалась вся… А теперь, спорить могу, они пообещали вернуть ей ее пятьдесят лет, но что они сделают с ней за это? Что они делают с ней вот прямо сейчас?
— Да поможет ей Бог! — отец Вилли опустил тяжелую ладонь на страницы старой книги. — Наверное, она теперь с уродами. Кто они, как вы думаете? Да просто грешники. Они так долго странствуют с Карнавалом в надежде на освобождение, что стали похожи на свои грехи. Я видел в балагане Самого Тучного Человека. Ну и кто он? Вернее, кем был раньше? Просто обжора-сладострастник. Карнавалу не откажешь в собственном черном юморе, теперь этот несчастный — узник своей собственной, трещащей по швам плоти. А вот — Скелет. Не обрекал ли он своих близких не только на физическое, но и на духовное истощение? Или ваш приятель Карлик. Вроде бы его вины не видно. Всегда в пути, никогда не ввязываясь в потасовку, опережая грозу и продавая громоотводы… но грозу-то он оставлял встречать другим. И вот бесплатные аттракционы Карнавала скомкали его до размеров большого тряпичного мяча, сшитого из всякой дребедени, запутавшегося в себе самом. А Пыльная Ведьма? Может, она из тех, что всегда живет завтрашним днем, не обращая внимания на сегодняшний? Это и мне знакомо. И вот она все накручивает свое наказание, видя на раскинутых картах одни только дурные восходы да горестные закаты. Впрочем, тебе виднее, Вилли. Ты ведь с ней накоротке знаком. Ну, кто там еще? Крушитель? Мальчик-овца? Пожиратель Огня? Сиамские близнецы? Великий Боже! Кем они были? Может быть, двойняшками, погрязшими во взаимном нарциссизме? Мы никогда не узнаем, а они никогда не расскажут. Мы можем только гадать и, конечно, будем ошибаться. Пустое занятие. В сторону его! Давайте-ка решать, куда нам двигаться отсюда.
Чарльз Хэллоуэй расстелил на столе карту города и обвел карандашом место расположения Карнавала.
— Подкрадываться не будем; во-первых, не сумеем, — а во-вторых, не наши это методы. А с чем в атаку пойдем?
— С серебряными пулями! — выпалил Вилли.
— Черт возьми! Они же не вампиры! — фыркнул Джим.
— А может быть, святой воды в церкви взять?
— Чушь! — отверг и это предложение Джим. — Это только в кино бывает. Или — нет, мистер Хэллоуэй?
— Это было бы слишком просто, мальчики.
— Ладно. — Глаза у Вилли яростно сверкнули. — Тогда возьмем пару галонов керосина.
— Ты что? — испуганно воскликнул Джим. — Это не по закону!
— Это ты-то про закон вспомнил?
— Ну и что? Я!
Оба разом замолчали. Шорох.
Легкий сквозняк пронесся по комнате.
— Дверь! — прошептал Джим. — Кто-то ее открыл! Дальний щелчок. Снова легкое дуновение шевельнуло волосы и стихло.
— А теперь — закрыли!
Тишина. Только огромное здание библиотеки с темными лабиринтами переходов и молчаливыми книгами.
— В доме кто-то есть!
Ребята привстали. Внутри у них что-то попискивало, совершенно непонятно — что. Чарльз Хэллоуэй помедлил, прислушиваясь, и негромко приказал:
— Спрячьтесь.
— Мы тебя не бросим!
— Я сказал: спрячьтесь!
Мальчишки канули в темноту. Чарльз Хэллоуэй глубоко вздохнул раз, другой, заставил себя сесть, подвинул поближе старые подшивки газет. Ему оставалось только ждать, ждать и снова ждать.
41
Тень скользила среди теней. Чарльз Хэллоуэй почувствовал, как душа его погружается в какую-то зыбкую глубину.
Тень и ее обладатель потратили немало времени на поиски комнаты, в окнах которой горел свет. Тень двигалась осторожно, словно оберегая хозяина от лишнего шума. И когда она отыскала наконец эту дверь, выяснилось, что сопровождает ее не одно лицо, даже не сто, а тысяча лиц при одном теле.
— Меня зовут Дарк, — произнес глубокий голос. Чарльз Хэллоуэй не поднимая головы с трудом выдохнул.
— Более известный как Человек-в-Картинках, — продолжал голос. — Где мальчики?
— Мальчики? — Мистер Хэллоуэй наконец повернулся и оглядел мужчину у двери.
Человек-в-Картинках внимательным носом втянул тончайшую желтую пыльцу, облетевшую со страниц фолиантов. Отец Вилли только теперь заметил, что книги так и лежат, раскрытые на нужных местах. Он дернулся, сдержал себя и начал закрывать том за томом, стараясь не придерживаться никакой системы. Человек-в-Картинках наблюдал за ним, как будто ничуть не интересуясь происходящим.
— Ребят нет дома. Ни того ни другого. Они могут упустить прекрасную возможность.
— Интересно, куда же они запропастились? — Чарльз Хэллоуэй расставлял книги по местам. — Знай они, что вы тут с бесплатными билетами, небось запрыгали бы от радости.
— Вы полагаете? — улыбка мистера Дарка мелькнула и растаяла, как остаток леденца. Он тихо и значительно произнес: — Я могу убить вас.
Чарльз Хэллоуэй кивнул, не прекращая своего занятия.
— Вы слышали, что я сказал? — вдруг заорал Человек-в-Картинках.
— Слышал, слышал, — спокойно ответил Чарльз Хэллоуэй, взвешивая на ладони тяжелый том, словно он был его приговором. — Но вы не станете убивать меня сейчас. Вы слишком самоуверенны. Это, наверное, оттого, что вы слишком давно содержите свое заведение.
— Стало быть, прочли две-три газетки и решили, что все знаете?
— Не все, конечно, но вполне достаточно, чтобы испугаться.
— Испугаться стоило бы куда сильнее, — угрожающе заявила толпа, скрытая под черной тканью костюма. — У меня там, снаружи, есть один специалист… все решат, что случился простой сердечный приступ.
У мистера Хэллоуэя кровь метнулась от сердца к вискам, а потом заставила вздрогнуть запястья. «Ведьма», — подумал он и, видимо, непроизвольно шевельнул губами.
— Верно, Ведьма, — кивнул мистер Дарк.
Его собеседник продолжал расставлять книги по полкам, одну из них все время прижимая к груди.
— Эй, что вы там прижимаете? — мистер Дарк прищурился. — А, Библия! Очаровательно! Как это по-детски наивно и свежо.
— Вы читали ее, мистер Дарк?
— Представьте, читал. Скажу даже больше. Каждую главу этой книги, каждый стих вы можете прочесть на мне, сэр! — Мистер Дарк замолчал, закуривая, выпустил струю дыма сначала в сторону таблички «Не курить», а потом в сторону Чарльза Хэллоуэя. — Вы всерьез полагаете, что эта книжка может повредить мне? Значит, ваши доспехи — это наивность? Ну, давайте посмотрим.
Прежде чем мистер Хэллоуэй успел двинуться, Человек-в-картинках подскочил к нему и взял Библию. Он держал ее крепко, обеими руками.
— Ну что? Удивлены? Могу даже почитать вам, — дым от сигареты мистера Дарка завихрялся над шелестящими страницами. — А вы, конечно, ожидали, что я рассыплюсь прямо перед вами? К вашему несчастью, это все — легенды. Жизнь, это очаровательное скопище самых разных понятий, продолжается, как видите. Она движет сама себя и сама себя оберегает, а смысл ей придает неистовость. А я — не последний в легионе необузданных.
Мистер Дарк, не глядя, швырнул Библию в мусорную корзину.
— Мне кажется, ваше сердце забилось чуточку веселее? — иронично обратился он к мистеру Хэллоуэю. — Конечно, остротой слуха я не сравнюсь с моей Цыганкой, но и мои уши кое-чего стоят. Как интересно бегают у вас глаза! И все куда-то мне за плечо. На что они намекают? Ах, на то, что мальчишки где-то здесь, в переходах этой богадельни. Прекрасно. По правде, я не хочу, чтобы они удрали. Едва ли кто-нибудь поверит их болтовне, а даже если и так — разве это плохая реклама моему заведению? Люди приходят в возбуждение, у них потеют руки и ноги, они украдкой пробираются за город, облизываются, они только и ждут приглашения познакомиться с лучшими из наших аттракционов. Помнится, и вы были среди них? Сколько вам лет? Чарльз Хэллоуэй плотно сжал губы.
— Пятьдесят? — с удовольствием прикидывал мистер Дарк. — Пятьдесят один? — голос его журчал, как весенний ручей. — Пятьдесят два? Помолодеть хотите?
— Нет!
— Ну, зачем же кричать? — Мистер Дарк пересек комнату, пробежал пальцами по корешкам книг на полке, словно годы пересчитывал. — А ведь молодым быть совсем неплохо. Подумайте, снова сорок — ну, не прелесть ли? Сорок ровно на десять приятнее, чем пятьдесят, а тридцать приятнее на целых двадцать.
— Я не хочу вас слышать! — Чарльз Хэллоуэй зажмурился.
Мистер Дарк посмотрел на него, склонив голову набок.
— Вот странно: чтобы не слышать меня, вы закрыли глаза. Заткнуть уши было бы надежнее.
Чарльз Хэллоуэй прижал ладони к ушам, но и сквозь них проникал ненавистный голос.
— Вот что я предлагаю, — вещал мистер Дарк, попыхивая сигаретой, — если вы поможете мне в течение пятнадцати секунд — дарю вам ваше сорокалетие. Десять секунд — и можете снова праздновать тридцатипятилетие. Очень неплохой возраст. Сравнить с вами сейчас — почти юноша. Ну же, решайтесь. Давайте так: я начну считать по своим часам, по секундной стрелке. Как только решитесь, просто махнете рукой, а я вам тут же отмотаю, ну, скажем, лет тридцать, идет? Как говорят специалисты по рекламе: выгодное дельце! Да вы только подумайте! Начать все сначала, когда все вокруг, а главное — внутри, новое, славное, милое. И столько еще предстоит сделать, о стольком можно подумать и столько всего попробовать. Давайте! Ваш последний шанс! Начали. Один, два, три, четыре…
Чарльз Хэллоуэй отпрянул к стене, согнулся, изо всех сил сжал зубы, лишь бы не слышать проклятый счет.
— Вы теряете время, старина, — не переставая считать, говорил мистер Дарк. — Пять. Вы все теряете. Шесть. Семь. Считайте, почти потеряли. Восемь. Просто расточитель какой-то! Девять. Десять. Да вы дурак, Хэллоуэй! Одиннадцать. Двенадцать. Почти совсем поздно. Тринадцать, четырнадцать. Все потеряно! Пятнадцать! Навсегда! — Мистер Дарк опустил руку с часами.
Чарльз Хэллоуэй отвернулся, выдохнул и прижался лицом к книжным корешкам, к старой уютной коже, хранящей запах древности и засохших цветов.
Мистер Дарк уже стоял у входа.
— Оставайтесь здесь, — резко приказал он. — Послушайте свое сердце. Я пришлю кого-нибудь остановить его. Но сначала — мальчишки.
Толпа бессонных созданий, сплошь покрывавшая рослое тело, верхом на мистере Дарке, крадучись, отправилась на охоту. Мистер Дарк позвал, и вся орава вторила ему:
— Мальчики! Где вы там? Отзовитесь.
Чарльз Хэллоуэй прыгнул к двери, но комната перед его глазами стала мягко поворачиваться, и он едва успел рухнуть в кресло с одной только мыслью, стучащей в висках: «Сердце! Сердце мое, послушай! Куда же ты рвешься? О Боже! Оно хочет на свободу!» Он откинулся на спинку и затих.
Человек-в-Картинках мягко, по-кошачьи, продвигался в лабиринтах, окруженный молчаливо замершими на полках, застывшими в ожидании книгами.
— Мальчики! Вы меня слышите? Молчание.
— Мальчики!
42
Где-то среди миллионов книг, за двумя десятками поворотов направо, за тремя десятками поворотов налево, после запертых дверей, левее полупустых полок, может, в литературном закопченном диккенсовском Лондоне, может, в Москве Достоевского, а то и вовсе в степях, раскинувшихся позади русской столицы, то ли под сенью атласов, то ли за баррикадами «Географий» стояли, но, может быть, и лежали, покрываясь холодным потом, двое ребят.
Где-то невидимый в темноте Джим думал: «Он приближается!»
Где-то невидимый в темноте Вилли думал: «Он приближается!»
— Мальчики…
Мистер Дарк шел в попоне из своих приятелей, он нес с собой каллиграфических рептилий, светивших сами себе в ночи его плоти. Вместе с ним двигался Тиранозавр, сообщавший его бедрам тяжелую плавность древней боевой машины. Мистер Дарк шагал, как громовый ящер, в окружении мерзких каракулей плотоядных тварей, окрашенных жертвенной кровью овец, растерзанных, разметанных непреодолимым движением Джаггернаутовой колесницы о двух ногах. Руки мистера Дарка, словно вознесенные изображенными на них Птеродактилем и Косой, помахали под мраморными сводами, создавая видимость полета. Вокруг древних могучих символов попранной судьбы, судьбы расстрелянной, зарубленной судьбы роилась обычная толпа прихлебателей, прижатых к каждой мышце, к каждому суставу, рассевшихся по лопаткам, пялящихся из-под густой шерсти на груди, висящих вниз головой под мышками и орущих неслышно, как летучие мыши. Ноги, тело, заостренный профиль мистера Дарка звучали в движении подобно черной приливной волне, накатывающейся на мрачный берег.
— Мальчики…
Терпеливый, мягкий голос, лучший друг всем озябшим, испуганным, затаившимся среди книг. Ступает тихо, крадется, шагает на цыпочках, пробирается, несется, стоит неподвижно среди египетских памятников зверинолицым богам, тронул мертвые истории Черной Африки, помедлил в Азии, прогулялся к землям помоложе…
— Мальчики! Вы же меня слышите. Вот тут написано «Соблюдайте тишину», поэтому я только шепну вам: ведь один из вас не хотел бы отказаться от наших предложений? Так?
«Это он про Джима», — подумал Вилли. «Это он про меня, — подумал Джим. — Нет, я не хочу! Не надо! Не сейчас!»
— Ну, выходите, — промурлыкал мистер Дарк. — Я обещаю вам награду. Кто бы из вас ни вышел первым, он получит все!
Стук-перестук!
«Мое сердце!» — подумал Джим.
«Чье это сердце? Мое или Джима?» — подумал Вилли.
— Я вас слышу, — губы мистера Дарка дрогнули. — Вот сейчас — ближе. Вилли? Джим? Джим — это ведь тот, который пошустрее? Ну, выходи, мальчик!
«Не надо!» — подумал Вилли.
«Я ничего не знаю!» — в панике подумал Джим.
— Так. Джим, значит… — Мистер Дарк постоял и двинулся в новом направлении. — Ну-ка, Джим, покажи мне, где сидит твой приятель? — Он добавил, понизив голос: — Мы постараемся, чтобы он не болтал. Раз у него голова не варит, можешь и за него прокатиться, верно, Джим? — Мистер Дарк стал похож на воркующего голубя. — Так. Ближе. Я уже слышу, как у тебя сердце трепыхается.
«Молчи!» — сказал Вилли своей груди. «Молчи! — прикрикнул Джим, задерживая дыхание. — Подожди стучать!»
— Так… интересно… не в этом ли алькове стоят ваши постельки? — Мистер Дарк предоставил силе притяжения разных полок управлять выбором направления. — Ты здесь, Джим? Или… дальше?
Он натолкнулся на библиотечную тележку с книгами, и она бесшумно на своем резиновом ходу укатилась в темноту. Издали послышался глухой удар — это тележка дошла до стены и опрокинулась, вывалив содержимое, словно кучу дохлых черных ворон.
— Я смотрю, здорово вы наловчились в прятки играть, — проговорил мистер Дарк. — Но есть кое-кто и пошустрее вас. Слыхали сегодня калиоп на лугу? Вилли, а ты не знаешь, кто у нас сегодня был на карусели? Вот то-то и оно! А где сегодня твоя мама, Вилли?
Молчание.
— Она решила покататься сегодня вечерком, Вилли. Мы, конечно, посадили ее на карусель и… оставили там. Ты слышишь, Вилли? Круг за кругом, год за годом!
«Папа! — с тоской подумал Вилли. — Где ты?»
В дальней комнате Чарльз Хэллоуэй сидел и прижимал рукой свое вырывающееся сердце. Он прислушивался к долетающему из темных коридоров голосу Человека-в-Картинках и думал: «Ему ни за что их не найти. Не станут же они его слушать. Он уйдет ни с чем!»
— Вот так мы и катали твою маму, Вилли, — тихонько приговаривал мистер Дарк, — круг за кругом, и, как ты думаешь, в какую сторону? — Мистер Дарк пошарил рукой в темном воздухе между стеллажами. — Да, круг за кругом… А когда мы ее выпустили, ты слушаешь меня, мальчик? — так вот, когда мы ее выпустили и дали заглянуть в Зеркальный Лабиринт… ты не слышал, как она закричала? Она была похожа на драную кошку, старую-престарую. Только мы ее и видели. Ух, как она припустила от того, что поглядело на нее из зеркала! Она примчится в город и, конечно, бросится к твоей матери, Джим. Но когда твоя мама, Джим, откроет дверь и увидит существо лет этак двухсот, косматое, умоляющее застрелить ее из милости, ее затошнит, твою маму, Джим, не так ли? И она прогонит страшную старуху прочь, отправит нищенствовать на улицах, и никто никогда не поверит этому мешку костей, что он когда-то был красоткой-розочкой и приходился тебе родней, Вилли. Можно было бы, конечно, найти ее, мы-то знаем, кто она такая, и попробовать вернуть все, как было, правда, Вилли? правда, Вилли? правда, Вилли? — голос темного человека зашипел и смолк.
В библиотеке кто-то тихо-тихо всхлипывал.
Человек-в-Картинках с удовольствием выдохнул из промозглых легких ядовитый воздух:
— Ага! Так-ссс… Где-то здесь, — пробормотал он. — Ну и под какой же буквой они расположены? Под «М» — «мальчишки»? Или под «П» — «приключения»? А может, под «И» — «испуганные»? Или просто «Д» и «Н», что будет означать «Джим Найтшед», и «В» и «X» — для «Вилли Хэллоуэя»? Где же мне взять почитать эти две замечательные человеческие книжки?
Неожиданно он ударил правой ногой по книжной полке. Часть книг выпала. Человек-в-Картинках наступил на освободившееся, место и освободил ступеньку для левой ноги. Потом его правая нога пробила дырку в третьей полке. Он поднимался по стеллажам, как по лестнице. Четвертая полка, пятая, шестая… Он ощупывал и сбрасывал книги, цеплялся за поперечины, перелистывал ночь, отыскивая эти две закладки в одной большой книге.
Его правая рука, увенчанная тарантулом, сбросила «Каталог гобеленов» и он канул в бездну. Казалось, прошел целый век, прежде чем «Гобелены» грянулись об пол и разлетелись на части, мелькнув золотом, серебром и небесно-голубыми узорами.
Пока он отдувался и ворчал, его левая рука добралась до девятой полки и ощутила пустоту. Книг не было.
— Мальчики! Вы там, на Эвересте?
Молчание. Только тихие, судорожные всхлипы стали поближе.
— Холодно? Еще холоднее? Совсем лед?
Глаза Человека-в-Картинках оказались вровень с одиннадцатой полкой. Окаменевшей статуей здесь лежал Джим Найтшед. До его лица было не больше трех дюймов. Полкой выше, с глазами, полными слез, лежал Вильям Хэллоуэй.
— Славно, — произнес мистер Дарк.
Он протянул руку и потрогал голову Вилли.
— Привет, — сказал мистер Дарк.
43
Вилли показалось, что над ним взошла жуткая луна. Это поднялась ладонь Человека-в-Картинках. С нее прямо на Вилли уставилось его собственное лицо. В такой же собственный портрет всматривался Джим. Рука с нарисованным Вилли сгребла настоящего Вилли. Рука с нарисованным Джимом сгребла настоящего Джима. Человек-в-Картинках напрягся, извернулся и спрыгнул вниз. Мальчишки, лягаясь и крича, рухнули вместе с ним. Они приземлились на ноги, но не устояли бы, не поддержи их за шиворот мощные руки.
— Джим! — произнес мистер Дарк. — Вилли! Что вы там делали? Неужели — читали?
— Папа!
— Мистер Хэллоуэй!
Из темноты выступил отец Вилли. Человек-в-Картинках заботливо переложил ребят под мышку и, посматривая с любопытством, двинулся на мистера Хэллоуэя. Отец Вилли успел ударить только один раз. В следующий миг мистер Дарк поймал его руку и стиснул ее. Чарльз Хэллоуэй застонал и упал на одно колено. Мистер Дарк сдавил сильнее и одновременно прижал обоих ребят. Они уже едва дышали. У Вилли перед глазами метались огненные мухи. Отец Вилли застонал громче.
— Будьте вы прокляты!
— Но-но! — тихо проговорил Хозяин Карнавала. — Я и так проклят.
— …прокляты!
— Старина, не в словах ведь дело, — сказал мистер Дарк. — Мысль! Действие! Быстрая мысль и быстрое действие — вот залог победы. Пока! — Он еще сильнее напряг мускулы. Мальчишки услышали, как захрустели пальцы мистера Хэллоуэя. Он вскрикнул и упал, потеряв сознание.
Человек-в-Картинках легко, как в танце, огибал углы стеллажей. Мальчишки, зажатые у него под мышкой, бились головами и ногами о книги. Стиснутый до полной неподвижности Вилли смотрел на пролетающие мимо полки, стены, двери и тупо думал, что от мистера Дарка пахнет, как от старого калиопа.
Внезапно их отпустили. Они не успели перевести дух, а их уже больно ухватили за волосы и развернули к окну.
— Мальчики, вы читали Диккенса? — азартно зашептал мистер Дарк. — Критики ругают его за «случайные совпадения», но мы-то с вами знаем, что он прав. Вся жизнь — сплошные случайные совпадения. Взгляните сюда!
Ребята все еще пытались вывернуться из железной хватки ископаемых ящеров и оскалившихся обезьян. Вилли взглянул в окно. Он не знал, плакать ему от радости или от нового отчаяния. По улице от церкви шли обе их мамы. Ни с какой не с карусели! Никакая не старая! Надо же, все последние пять минут до нее было не больше двухсот ярдов!
— Мам! — крикнул Вилли сквозь ладонь, зажавшую ему рот.
— Мам! — передразнил мистер Дарк. — Мам, спаси меня!
«Нет, — подумал Вилли, — беги, мама, спасайся сама!» Но обе мамы, вполне довольные воскресной службой, просто шли себе по улице.
— Мама! — снова выкрикнул Вилли, но через потную ладонь прорвалось лишь какое-то жалкое блеяние.
Мама Вилли на той стороне улицы, — нет, за тысячу миль отсюда, — вдруг замедлила шаги.
«Не могла же она услышать, — подумал Вилли, — и все-таки…»
Она посмотрела в сторону библиотеки.
— Замечательно, — пробормотал мистер Дарк, — чудесно, превосходно!
«Здесь мы, — отчаянно думал Вилли. — Ну, увидь нас, мам! А потом беги, звони в полицию!»
— Почему бы ей не посмотреть сюда? — тихонько спросил мистер Дарк. — Она бы увидела прекрасную портретную группу в окне. И прибежала бы сюда. А мы бы ее впустили.
Вилли чуть не подавился рванувшимся из него «нет!» Мамины глаза скользнули от входной двери по окнам первого этажа.
— Сюда, — подсказал мистер Дарк, — на второй этаж, пожалуйста. Весьма подходящий случай, обидно было бы упускать его.
Женщины стояли на тротуаре. Мама Джима что-то говорила соседке.
«Пожалуйста, — умолял Вилли, — нет, не надо!»
Женщины повернулись и вскоре их уже поглотили улицы вечернего города. Вилли почувствовал разочарование Человека-в-Картинках.
— Н-да, — проговорил тот. — Не самое удачное из «случайных совпадений». Никто ничего не приобрел, но никто и не потерял. Жаль, конечно, ну да ладно!
Волоча ребят за собой, он спустился к входной двери и открыл ее. Кто-то ждал их в сумерках. Легкая, как у ящерицы, лапка стремительно коснулась подбородка Вилли.
— Хэллоуэй! — прошелестел голос Пыльной Ведьмы. Будто хамелеон лизнул Джима в нос.
— Найтшед! — утвердительно произнес тот же голос. Позади переступали с ноги на ногу два зловещих силуэта: Скелет и Карлик.
Это был замечательный случай. Ребята уже готовы были заорать во все горло, но Человек-в-Картинках опередил их, запечатав рты ладонями. Потом он кивнул старухе. Ведьма по-птичьи выступила вперед. Зашитые игуаньи веки, длинный крючковатый нос с заросшими шерстью ноздрями и непрестанно шевелящиеся пальцы вплотную надвинулись на мальчишек. Они оторопело вытаращились на Ведьму. Не сразу дошел до них смысл слов, которые бормотал иссохший рот.
— Стрекозиная Игла, штопай рты им, пусть молчат! Острый ноготь ее большого пальца быстро замелькал возле лиц мальчишек, покалывая им то верхние, то нижние губы. И вот они уже крепко-накрепко сшиты невидимой нитью.
— Стрекозиная Игла, штопай уши, чтоб оглохли!
Холодный песок хлынул в уши Вилли, но сквозь навалившуюся тишину он продолжал слышать противный шелестящий голос. Мох вырос в ушах Джима, накрепко запечатав их.
— Стрекозиная Игла, ты зашей-ка им глаза! Нечего по сторонам глядеть!
Вилли показалось, что старухины пальцы, раскаленные добела, повернули его глазные яблоки внутрь, в темноту, а за ними с лязгом, словно железные ставни, захлопнулись веки. Невидимое игольчатое насекомое продолжало сновать где-то снаружи, и пыльный голос продолжал зашивать их ощущения, навек отгораживая от всего мира.
— Стрекозиная Игла! Шей ровней! Тьму зашей, пылью набей, сном нагрузи, узелки крепко-накрепко свяжи, влей молчание в кровь. Быть по сему, быть по сему!
Ведьма опустила руки и отступила на шаг. Мальчики стояли молча, в полной неподвижности. Человек-в-Картинках отпустил их и тоже сделал шаг назад. Ведьма тщательно обнюхала свою работу, в последний раз пробежалась пальцами по двум статуям и удовлетворенно затихла.
Карлик маялся у ног ребят, слегка постукивая по коленкам, окликая по именам.
Человек-в-Картинках кивнул через плечо:
— Часы уборщика. Пойди останови их.
Ведьма, подпрыгивая от удовольствия, отправилась разыскивать очередную жертву. Мистер Дарк скомандовал:
— Раз, два, левой, правой!
Ребята ровным механическим шагом спустились по ступеням. Карлик шел рядом с Джимом, Скелет — рядом с Вилли.
Человек-в-Картинках, невозмутимый как смерть, шагал следом.
44
Рука Чарльза Хэллоуэя лежала где-то поблизости и таяла на огне нестерпимой боли. Он открыл глаза и тут по комнате пронесся порыв ветра. Кто-то опять открыл входную дверь. Вскоре послышался женский голос. Что-то напевая, он приближался.
— Старик, старик, старик?..
На месте левой руки лежал распухший окровавленный кусок плоти. Пульсирующая боль не давала сосредоточиться, высасывала силы, подавляя волю. Он попытался было сесть, но боль снова опрокинула его.
— Старик?..
«Да какой я тебе старик! — с яростным ожесточением подумал он. — Пятьдесят четыре — это еще не старость!»
Она вошла и остановилась у двери. Пальцы-мотыльки порхают, плетут незримые нити, читают по Брайлю заголовки на корешках, а ноздри настороженно исследуют воздух.
Чарльз Хэллоуэй, извиваясь как червяк, полз к ближайшему стеллажу. Он должен, обязан забраться туда, где книги смогут защитить его. Их можно сталкивать сверху на голову любому непрошеному визитеру.
— Старик, я слышу, как ты хрипишь…
Он сам притягивал ее, шипя от боли при каждом движении.
— Старик, я чую твою рану…
Если бы он только мог выбросить в окно эту злосчастную руку вместе с болью, и пусть себе лежит там, созывая к себе всех ведьм на свете. Он представил себе, как Ведьма тянет из окна руки к огненному биению, лежащему на асфальте. Но нет, рука здесь, она излучает боль, направляя эту странную оборванную Цыганку.
— Да будь ты проклята! — закричал он. — На, получай! Вот он я!
Ведьма обрадованно заторопилась вперед, черные тряпки взвихрились вокруг нее, словно на огородном пугале. Но Чарльз Хэллоуэй даже не смотрел на свою новую обидчицу. В нем боролись отчаяние и стремление во что бы то ни стало найти выход. Борьба эта занимала все его существо полностью, только глаза, пока не участвовавшие во внутренней схватке, могли смотреть из-под полуопущенных век.
Рядом послышался шелестящий, какой-то пыльный шепот.
— Очень просто… остановить сердце… «Почему бы и нет?» — смутно подумал он. — Медленнее, — пробормотала она. «Да», — машинально откликнулся он.
— Медленно, очень медленно…
Сердце его, до этого мчавшееся галопом, теперь перестраивало ритм, и это было неудобно как-то, но вскоре на смену неприятным ощущениям пришли странная легкость и спокойствие.
— Еще медленнее, — предлагала она.
«Я ведь устал, ты слышишь, сердце?» — подумалось ему.
Да, сердце слышало. Оно постепенно разжималось, как разжимается стиснутый кулак. Сначала расслабляется один палец…
— Хорошо остановить все, хорошо забыть обо всем, — шептала она.
«А что, разве плохо?» — думал он.
— Еще медленнее, совсем медленно, — приказывала она. Сердце стало давать перебои.
А потом вдруг, вопреки собственному стремлению к покою, к избавлению от боли, он открыл глаза. Просто чтобы еще раз посмотреть вокруг напоследок… Он увидел Ведьму. Он увидел пальцы, усердно работающие в воздухе, а еще он непостижимым образом увидел свое лицо, свое тело, сердце, слабеющее на глазах, а в нем — свою душу. С каким-то отрешенным любопытством он изучал странное создание, стоявшее рядом. Считал стежки, которыми были перехвачены ее веки, подсчитывал количество глубоких морщин-трещин на шее, — такая же шея у ящерицы Хэла, попадающейся в Аризоне; на огромных ушах — как у небольшого слона; на иссохшем глинистом лбу. Ему, пожалуй, еще не приходилось вот так изучать другого человека. «А ведь это похоже на головоломку, — пришла отстраненная мысль. — Собери ее и узнаешь самый главный секрет жизни». Решение было тут, рядом, оно крылось в самом объекте его внимания, и все могло проясниться в один миг, вот сейчас, нет, чуть погодя, еще чуть погодя. «Погляди-ка на эти скорпионьи пальцы, — приглашал он сам себя, — послушай, как она причитает, как перебирает воздух. Воздух! Вот именно! Она обманывает воздух, надувает его! Да ведь это же сплошное надувательство! Просто щекотно — и все!»
— Медленнее, — прошептала она, словно собираясь заснуть.
«Медленнее» — надо же! А его послушное, доверчивое сердце принимает все за чистую монету, принимает всерьез этот щекотливый обман!
Чарльз Хэллоуэй слабо хихикнул. И тут же удивился: «Чего это я хихикаю, да еще в такой момент?»
Ведьма дернулась, словно тоненькие провода, которые она разбирала в воздухе перед собой, закоротило, и ее слегка тряхнуло током.
Чарльз Хэллоуэй не заметил этого, она ведь то и дело отшатывается и наклоняется поближе. Вот опять подалась вперед…
Действительно, Ведьма, перехватив инициативу, надвинулась снова и принялась еще быстрее сучить пальцами в нескольких дюймах от его груди. Это выглядело так, словно она пытается зачаровать маятник старинных часов.
— Медленнее! — крикнула она.
Из глубины его существа поднялась и расцвела на губах какая-то дурацкая улыбка.
— Совсем медленно!
В поведении Ведьмы появилось что-то новое, какая-то лихорадочная поспешность, какое-то беспокойство, прорывающееся гневными нотками в голосе. Вот умора! Так даже смешнее.
Чарльз Хэллоуэй не обратил внимания, когда и как в нем, без каких-либо усилий, без желания оказать сопротивление, возникла ровная, спокойная уверенность: все это не имеет никакого значения. Жизнь сейчас, в конце, казалась ему не более чем шуткой. Здесь, в дальней комнате окружной библиотеки, куда его жизнь как раз влезла целиком, без остатка, он впервые заметил, какой бессмысленно растянутой она у него была, как она базальтовой глыбой нависала над ним все эти годы, а в итоге — вот, вся здесь, куда только девалось ее недавнее величие. Смех да и только! За несколько минут до смерти Чарльз Хэллоуэй спокойно размышлял о сотнях личин своего тщеславия, раскладывал по полочкам десятки разновидностей своего самомнения. Вся комната представлялась ему заставленной и завешенной игрушками всей его жизни. Но самой смешной была среди них Пыльная Ведьма, обыкновенная жалкая старуха в лохмотьях, увлеченно щекотавшая воздух. О, она его просто щекочет!
Чарльз Хэллоуэй открыл рот и издал совершенно неожиданный, в том числе и для себя самого, смешок.
Ведьма отпрянула и замерла. Но Хэллоуэй не видел ее. Он был слишком занят. Он выпускал из себя смех. Вот он открыл каналы пальцев и в кончиках их заплясали веселые иголочки, вот задрожало горло, пропуская смеховую энергию к глазам — они прищурились, и дальше — дальше не удержать! Свистящая шрапнель первого взрыва хохота разлетелась во все стороны.
— Вы! — выкрикнул он, неизвестно к кому обращаясь. — Смешно-то как! Эй, вы!
— Нет, вовсе не смешно, — запротестовала Ведьма.
— Кончай щекотку! — едва выговорил он.
— Нет! — Ведьма затряслась от злости. — Спи! Стихни! Совсем замолчи!
— Ну перестань! — орал он, вовсе не слушая ее. — Щекотно же! Прекрати! Ой, не могу, ха-ха! Ой, остановись!
— Вот! Вот именно! — взвизгнула Ведьма. — Сердце, остановись!
Но, похоже, ее собственное сердце находилось сейчас в большей опасности, чем сердце Хэллоуэя, корчившегося явно от смеха. Ведьма замерла и с беспокойством обнюхала свои ставшие вдруг непослушными пальцы.
— О Боже мой! — уже рычал от смеха Хэллоуэй. Огромные слезы выступили у него из-под век. — Ха! Ха! Ребра отпустило! Продолжай, сердце мое, продолжай!
— Сердце, стой! — шипела Ведьма.
— Господи! — он широко открыл глаза, перевел дух и отворил внутри себя новые источники воды и мыла, смывая весь налипший внутри мусор, моя все дочиста, отскребывая и снова окатывая. — Кукла! — вдруг дошло до него. — Смотри! У тебя ключик сзади торчит! Кто же тебя заводил-то? — И он зашелся в очередном приступе хохота.
Этот неожиданный хохот словно огнем опалил женщину, обжег руки, заставив отдернуть их и спрятать под лохмотьями; она невольно подалась назад, сделала попытку устоять, но не смогла. Смех хлестал ее по лицу, дюйм за дюймом выталкивая из комнаты, и она начала отступать шаг за шагом, натыкаясь на стеллажи, пытаясь ухватиться за книги на полках, но они выскальзывали у нее под руками, срывались со своих мест и рушились на нее водопадом. Мрачные истории били ее по лбу, прекрасные теории, не выдержавшие проверки временем, сыпались ей на голову. Вся в синяках и ссадинах, подгоняемая словно ударами бича его смехом, заполнившим отделанные мрамором своды, звеневшим в переходах, она не выдержала, завертелась волчком, полоснула ногтями воздух и бросилась бежать, совершенно забыв о двух-трех ступеньках перед выходом. С них она и скатилась кубарем. Оглушенная падением, Ведьма не сразу справилась со входной дверью, а та еще напоследок хорошенько поддала ей под зад, заставив пересчитать своими костями еще и ступени парадного входа.
Ее испуганные причитания и дробный грохот падения чуть не прикончили Чарльза Хэллоуэя. Новый приступ хохота грозил разорвать ему диафрагму.
— Боже мой, Господи, прекрати, пожалуйста! — уже заикаясь от смеха, взмолился он.
И все кончилось.
Некоторое время он еще конвульсивно хихикал, слабо посмеивался, а потом долго и удовлетворенно только дышал, давая отдых измученным легким, тряся счастливо-усталой головой, прислушиваясь, как уходит боль из-под ребер и, как ни странно, из покалеченной руки. Он бессильно припал к стеллажам, прижался лбом к какой-то хорошо знакомой книге, и слезы, освобожденные пережитым весельем, потекли по его щекам. Только тут до него дошло, что он один. Ведьма ушла!
«Но почему? — удивился он. — Что я такого сделал?»
С последним горловым смешком он встал. Что же случилось? О Боже, надо разобраться. Только сначала дойти до аптеки и аспирином хоть ненадолго унять все-таки сильно болевшую руку, а потом уж подумать. «За последние пять минут, — сказал он себе, — ты что-то выиграл, разве нет? Ну! Чем вызвана твоя победа? Думай! Это обязательно надо понять!»
Улыбаясь нелепой левой руке, удобно пристроившейся раненым зверьком на сгибе локтя правой, он заторопился по темным коридорам, открыл дверь и вышел в город.
Часть 3
Исход
45
Небольшое шествие в молчании двигалось по городу. Позади остался огромный вертящийся леденец возле дверей парикмахерской Крозетти, темные витрины магазинов, пустынные улицы — люди уже разошлись по домам. Кончилась вечерняя служба, кончалось последнее представление на Карнавале.
Ноги Вилли, оказавшиеся где-то далеко внизу, размеренно постукивали по тротуару. «Раз, два, — думал он. — Раз, два. Налево. Кто-то говорит: направо. Похоже на стрекозиный шорох. Раз, два».
Интересно, Джим тоже здесь? Вилли скосил глаза. Вот он, рядом. А это что за малыш пристроился сзади? Свихнувшийся Карлик, ясно… Да еще Скелет. А что это за толпа валит за ними? А-а, Человек-в-Картинках…
Вилли кивнул своим собственным мыслям и вдруг заскулил так высоко и жалобно, что все окрестные собаки должны были его услышать. Вон они, в арьергарде, целых три штуки, и толку от них никакого.
Конечно, бродячие псы не могли упустить такой случай и с полным знанием дела принимали участие в импровизированном параде. Когда они забегали вперед, хвосты у них становились похожими на флажки в руках правофланговых, направляющих большие, настоящие парады.
«Полайте! — попросил собак Вилли. — Полайте, как в кино! Позовите полицию!» Но собаки только вежливо улыбались и неторопливой рысцой сопровождали идущих. «Счастливый случай, где же ты? — думал Вилли. — Хоть какой…» О! Мистер Татли! Вилли и видел, и в то же время как будто не видел знакомого хозяина табачной лавки, затаскивающего своего деревянного индейца в магазин. Значит, закрывать собрался.
— Головы — направо! — тихонько скомандовал Человек-в-Картинках.
Джим повернул голову. Вилли повернул голову. Мистер Татли приветливо улыбнулся.
— Улыбнитесь! — шепотом приказал мистер Дарк. Ребята улыбнулись.
— Привет! — Мистер Татли помахал рукой.
— Поздоровайтесь! — шепнул кто-то за спиной Вилли.
— Привет! — произнес Джим.
— Привет, — повторил Вилли. Собаки вежливо полаяли.
— Бесплатные аттракционы, — буркнул сзади мистер Дарк.
— Бесплатная карусель, — сообщил Вилли мистеру Татли.
— На карнавале, — безжизненно звякнул голос Джима. Улыбки теперь не нужны, их можно снять.
— Приятно повеселиться! — пожелал мистер Татли. Собаки залаяли немного бодрее.
— А как же, сейчас повеселитесь, — пробормотал мистер Дарк. — Вот толпа через полчасика схлынет, тогда и начнем. Сначала Джима прокатим. Ты как, не передумал, Джим?
Заточенный внутри себя, Вилли пытался думать: «Не надо, Джим. Не слушай его!»
— Мы тебя с собой возьмем, Джим. Если мистер Кугер не оправится, а он, надо сказать, довольно плох пока, правда, мы еще разок попробуем, — но если он не встанет, придется тебе занять его место, Джим. Ты как насчет партнерства, а? Конечно, мы тебя подрастим лет до двадцати, двадцати пяти, да? И будет: «Дарк и Найтшед, Найтшед и Дарк» — вполне подходяще для нас с тобой и для нашего представления. Турне, гастроли за океан! Как ты на это смотришь, Джим?
Заколдованный Ведьмой Джим молча шагал рядом. «Не слушай ты!» — скулил про себя его лучший друг, которому вроде и слышать-то ничего не полагалось.
— Ну а что с Вилли будем делать? — размышлял вслух мистер Дарк. — Может, покрутить его назад, а? Сделаем из него грудного младенца, отдадим Карлику, пусть таскает, — предложил он. — Как тебе эта мысль, Вилли? Лет пятьдесят побудешь младенцем, ни тебе сказать, ни тебе возразить. По-моему, в самый раз для Вилли. Этакая игрушка, маленький, мокренький приятель для нашего Карлика!
Вилли должен был бы закричать, но он продолжал механически шагать и молчал. Зато собаки взвыли от ужаса и бросились врассыпную, словно их побили камнями.
Из-за угла показался человек. Полицейский.
— Кто это? — быстро спросил мистер Дарк.
— Мистер Колб, — равнодушно ответил Джим.
— Мистер Колб, — эхом повторил Вилли.
— Стрекозиная Игла! — скомандовал мистер Дарк. — За дело!
Вилли вздрогнул от боли в ушах. Плотная тьма залила глаза. Жидкая резина залепила рот. Он чувствовал покалывание, зудение, что-то сновало по лицу и он быстро немел, глох и слеп.
— Поздоровайтесь с мистером Колбом!
— Здравствуйте, — послушно произнес Джим.
— …мистер Колб, — добавил Вилли.
— Привет, ребята. Добрый вечер, джентльмены.
— Поворот направо! — раздалась новая команда. Они повернули и теперь уходили прочь от теплых огней, от доброго города, от безопасных улиц, уходили в луга, маленький парад без труб и барабанов.
46
Парад, в котором не осталось никакого порядка, растянулся чуть ли не на милю. Впереди вышагивали Джим и Вилли. Рядом с ними шли новые друзья, то и дело поминавшие какую-то стрекозиную иглу.
Сзади, отстав на полмили, брела старая Цыганка. Чувствовала она себя неважно. Пыль за ней взметалась маленькими вихрями и укладывалась на дорогу таинственными символами. Отстав от нее еще на милю, торопился библиотечный уборщик. Иногда, вспоминая о победной первой стычке, он по-юношески размашисто шагал вперед, но, вспомнив о возрасте, сбавлял темп и глотал таблетки, прижимая к груди левую руку.
Мистер Дарк остановился на обочине, словно командующий на смотру. Он прислушивался к внутреннему голосу, производящему перекличку разношерстного воинства. Что-то было не так. Мистер Дарк неуверенно оглянулся по сторонам, но внутренний голос уже молчал.
На границах Карнавала им повстречалась толпа людей. Джим, сопровождаемый Скелетом и Карликом, все так же механически вошел в человеческую реку, лишь слегка удивившись ее внутренней разреженности. Со всех сторон до слуха Вилли доносились всплески смеха. Он шел словно под ливнем из голосов и обрывков музыки. В небе плавно двигалась вереница светлячков — это Чертово Колесо огромным фейерверком вздымалось над ними.
Потом они пробирались через ледяные моря Зеркального Лабиринта. В холодных гранях вспыхивали и погружались на дно тысячи очень похожих на них мальчишек, опутанных паучьими сетями чар.
«Это все мои "я"», — думал Джим.
«Они не помогут мне, — думал Вилли. — Сколько бы меня здесь ни собралось, они мне не помощники».
Куча мальчишек смешалась с кучей картинок успевшего раздеться мистера Дарка. Пришлось проталкиваться сквозь изображения изображений, пока возле выхода из Лабиринта их не окружили Восковые Фигуры.
— Сидеть! — скомандовал мистер Дарк. — Оставайтесь тут.
К восковым фигурам убитых, обезглавленных, удавленных мужчин и женщин прибавились две маленькие фигурки, неподвижные, как египетские кошки, смотрящие прямо перед собой.
Мимо проходили последние посетители. Они, посмеиваясь, разглядывали восковые фигуры, обсуждая их между собой. Никто из них не обращал внимания на тонкую струйку слюны, блестевшую в углу рта одного из «восковых мальчуганов», никто не замечал поблескивающих глаз второго, даже влажная бороздка у него на щеке не привлекла никого из поздних зевак.
Ведьма добрела до шатров и спотыкалась о колышки и веревки на дальней границе Карнавала.
— Леди и джентльмены!
Их еще оставалось две сотни, задержавшихся гуляк, и все они, как единое тело, повернулись на голос.
Человек-в-Картинках, весь гадючья, саблезубая, сладострастная, стервятниковая обезьяна, оранжево-розовый, желто-зеленый, взобрался на помост.
— Последнее бесплатное воскресное представление! Подходите, подходите все!
Толпа повалила к сцене. Там, рядом с мистером Дарком, уже стояли Скелет и Карлик.
— Невероятно опасный, самый рискованный, всемирно известный номер с пулей! — выкрикивал мистер Дарк.
Толпа одобрительно загудела.
— Ружья, с вашего позволения!
Скелет широким жестом распахнул шкаф. За дверцами тускло и грозно блеснул металл ружейных стволов.
Ведьма, поспешно семенившая к помосту, словно вросла в землю, когда мистер Дарк провозгласил:
— А вот и наша беззаветно храбрая, бросающая вызов смерти мадемуазель Тарот, Ловящая Пули!
Ведьма затрясла головой, затопотала и заскулила, но мистер Дарк уже протянул руку, подхватил ее за шкирку и вознес на помост, не обращая внимания на слабое сопротивление. Он выдержал эффектную паузу и обратился к собравшимся:
— А теперь я попрошу подняться на сцену добровольца, который произведет роковой выстрел!
Толпа зашумела, и мистер Дарк, воспользовавшись этим, быстро спросил:
— Ты остановила часы?
— Нет, — прохныкала Ведьма.
— Как — нет?! — шепотом заорал мистер Дарк. Он испепелил Ведьму бешеным взглядом, повернулся к толпе и, легко коснувшись винтовок в стойке, повторил:
— Добровольцы, пожалуйста!
— Остановите представление! — ломая руки, тихонько вскрикнула Ведьма.
— И не подумаю, будь ты трижды проклята, дура старая! — прошипел мистер Дарк. Он незаметно ущипнул картинку у себя на запястье, изображавшую слепую черную цыганку.
Ведьма взметнула руки, прижала их к груди и застонала сквозь зубы.
— Милости прошу! — выдохнула она едва слышно. Толпа молчала. Мистер Дарк, словно с сожалением, развел руками.
— Ну что ж, раз не находится добровольцев, — он поскреб разрисованное запястье, и Ведьма затряслась, как осиновый лист, — придется отменить представление.
— Есть! Есть добровольцы!
Толпа ахнула и повернулась на голос. Мистер Дарк пошатнулся, как от удара, и напряженно спросил:
— Где?
— Здесь!
Из дальних рядов поднялась рука, и люди тут же расступились, освобождая проход. Теперь ничто не мешало мистеру Дарку разглядеть стоявшего поодаль мужчину. Это был Чарльз Хэллоуэй, штатский, отчасти — муж, отчасти — ночной бродяга, несомненно — отец и уборщик из окружной библиотеки.
47
Одобрительный шум в толпе прекратился. Чарльз Хэллоуэй не трогался с места. Дорога перед ним до самого помоста была свободна. Он не смотрел на лица уродов на сцене, не видел людей, уставившихся на него, глаза его неотрывно уперлись в Зеркальный Лабиринт, в пустоту, манящую миллионами отраженных отражений, перевернутых дважды, трижды, уходящих все дальше в сверкающее ничто.
Не осталось ли на серебряной амальгаме теней двоих ребят? Не помнят ли холодные плоскости их отражений? Что-то ощущали едва трепещущие кончики его ресниц, что-то там, за зеркальными стенами… Теплый воск среди холодного… ожидание предстоящего ужаса, ожидание пути в никуда…
«Нет, — остановил себя Чарльз Хэллоуэй, — не думай о них. Потом. Сначала разберись с этими».
— Иду! — крикнул он.
— Точно! Задай им, папаша! — посоветовал кто-то.
— Обязательно задам, — отозвался мистер Хэллоуэй и пошел сквозь толпу.
Ведьма завороженно повернулась на звук знакомого голоса. За стеклами очков дернулись зашитые веки, силясь разглядеть ночного добровольца.
Мистер Дарк, вызвав переполох среди населявших его народов, наклонился вперед и оскалил зубы в приветственной гримасе. Настойчивая мысль огненным колесом бешено вертелась у него в глазах: «Что? Что? Что это значит?»
А пожилой уборщик, тоже с приклеенной улыбкой на губах, шагал вперед. Перед ним, как море перед Моисеем, расступалась толпа и смыкалась позади. Шел он уверенно, но все еще не знал, что же ему, собственно, делать и вообще, почему он здесь?
Такова была мизансцена ко времени первой ступеньки. Ведьму затрясло. Мистер Дарк ударил ее взглядом и протянул руку, собираясь поддержать под правый локоть поднимающегося на помост пятидесятичетырехлетнего мужчину. Но тот только покачал головой, отказываясь от помощи.
Взойдя на помост, Чарльз Хэллоуэй обернулся и помахал собравшимся. Ему ответили взрывом аплодисментов.
— Но ваша левая рука, сэр, — демонстрируя участие, проговорил мистер Дарк, — вы же не сможете стрелять…
— Я вполне управлюсь и одной рукой, — слегка побледнев, заявил мистер Хэллоуэй.
— Ура! — завопил какой-то юный шалопай внизу.
— Правильно, Чарли, дай им! — одобрил мужской голос издали.
В толпе послышался смех, потом отдельные хлопки, с каждой секундой становившиеся все дружнее. Мистер Дарк вспыхнул и поднял руки, словно преграждая дорогу звукам, весенним дождем освежавшим людей.
— Хорошо-хорошо! — прокричал он и добавил значительно тише: — Посмотрим, что из этого получится.
Человек-в-Картинках выхватил из стойки самую тяжелую винтовку и бросил через весь помост. Толпа разом выдохнула.
Чарльз Хэллоуэй повернулся, подставил правую ладонь — и винтовка шлепнулась ему в руку. Он справился.
Публика зашумела, кое-где раздался свист. Ясно было, что грязную игру мистера Дарка заметили и не одобряют. Счет рос не в его пользу.
Отец Вилли улыбнулся и поднял винтовку над головой. Толпа приветственно взревела.
Подставив грудь под накатывавшуюся волну аплодисментов, Чарльз Хэллоуэй еще раз попытался проникнуть взглядом сквозь лабиринт. Он не мог видеть, но зато с уверенностью чувствовал замерших среди других иллюзий, почти превращенных в восковое подобие самих себя, Вилли и Джима. Взглянул и тут же посмотрел на мистера Дарка (пожалуй, тот проиграл еще одно очко, ибо не был готов к его взгляду), а потом — на незрячую ночную Гадалку. Бочком-бочком она все отступала подальше, но дрожащие ноги принесли ее прямо к кроваво-красному глазу большой мишени на заднике помоста.
— Мальчик! — неожиданно крикнул Чарльз Хэллоуэй. Мистер Дарк вздрогнул.
— Мне в помощь нужен парнишка-доброволец, — объяснил мистер Хэллоуэй. — Один кто-нибудь, — обратился он к собравшимся.
Несколько ребят в толпе задвигались.
— Мальчик! — снова в голос крикнул Чарльз Хэллоуэй. — Погодите, у меня тут сын где-то был. Думаю, он не откажется. Вилли!
Ведьма замахала руками. Ей надо было понять, почему этот пятидесятичетырехлетний мужчина так нагло распоряжается на их территории. Мистер Дарк аж завертелся на месте, словно подброшенный ударом еще не выпущенной пули.
— Вилли! — снова крикнул отец.
Посреди Воскового Музея сидел неподвижный Вилли.
— Вилли! Сынок! Иди сюда!
Люди в толпе завертели головами. Но никто не отзывался. Мистер Дарк уже вернул самообладание и теперь поглядывал на противника сочувственно-заинтересованно. Видимо, он ждал чего-то, как, впрочем, и отец Вилли.
— Вилли! — снова воззвал Чарльз Хэллоуэй. — Иди же, помоги своему старику! — в голосе отца звучал благодушный упрек.
Вилли сидел, не шевелясь, среди восковых экспонатов музея.
Мистер Дарк ухмыльнулся.
— Вилли! Ты что, не слышишь меня, что ли? Ухмылка мистера Дарка стала еще шире.
— Вилли, шельмец! Да ответь же своему старику! Мистер Дарк словно получил удар поддых. Последний голос принадлежал какому-то мужчине из толпы. Вокруг засмеялись.
— Вилли! — пронзительно выкрикнула дородная матрона у края помоста.
— Вилли! — вторил ей басом джентльмен в котелке.
— Йо-хоо! — йодлем взвыл бородатый джентльмен неподалеку.
— Вилли! — дискантом заверещал какой-то малец.
По толпе, нарастая, гуляли волны хохота. Разноголосые крики угрожали слиться в единый мощный призыв.
— Вилл! Вилли! Вильям!!!
Тень мелькнула в льдистых зеркальных стенах. Ведьма покрылась крупными каплями холодного пота. Толпа разом смолкла. Чарльз Хэллоуэй поперхнулся именем собственного сына.
У выхода из Лабиринта, больше всего похожий на ожившую восковую фигуру, стоял Вилли.
— Вилли! — тихонько позвал отец.
Ведьма испустила жалобный стон. Вилли, незряче подняв лицо, деревянным шагом двинулся через толпу. Отец протянул сыну ружейный ствол, и, ухватившись за него, паренек влез на помост.
— Вот моя левая рука! — объявил Чарльз Хэллоуэй. Вилли никак не реагировал на дружные, напористые аплодисменты, которыми люди встретили его появление. Мистер Дарк, казалось, и ухом не повел, но Чарльз Хэллоуэй видел, как суетились его глаза, они, словно скорострельные пушки, вели беглый огонь по мальчику и старику на краю помоста, но то ли порох отсырел, то ли снаряды и вовсе оказались холостыми, толку от его пальбы не было никакого. Что-то не клеилось у него в последние минуты, он уже не был уверен в том, что хорошо помнит сюжет представления. Не знал сценария и Чарльз Хэллоуэй, не знал, но прекрасно чувствовал. Именно эту пьесу писал он долгими библиотечными ночами, запоминал сюжетные ходы, рвал в клочки написанное, забывал и снова вспоминал. Он был уверен в режиссерских способностях своего «я», он играл по слуху, по наитию, по душе и сердцу! И вот…
Он улыбнулся Ведьме, и блеск его зубов больно отозвался в незрячих глазах. Она заслонила рукой зашитые веки за темными очками.
— Подходите поближе! — Чарльз Хэллоуэй сделал приглашающий жест.
Толпа придвинулась. Помост стал островом, люди — морем вокруг.
— Посмотрите на мишень!
Ведьма попыталась растечься по собственным лохмотьям. Человек-в-Картинках тревожно обернулся налево, напрасно ища поддержки у Скелета, еще сильнее похудевшего за несколько последних минут; посмотрел направо — Карлик с довольным видом полного идиота пускал пузыри.
— Пулю, пожалуйста, — вполне миролюбиво попросил Чарльз Хэллоуэй.
Кишащие полчища тварей на живом полотне и не подумали его услышать, соответственно не услышал и мистер Дарк.
— Пулю, с вашего позволения, — повторил Чарльз Хэллоуэй. — У вашей Цыганки блоха на бородавке, попробую ее сшибить.
Вилли стоял неподвижно. Мистер Дарк явно колебался.
Снаружи волнующееся море голов расцветало улыбками — здесь, там, десяток, два, сотни белозубых бликов — словно лунные отсветы на волнах прилива.
Человек-в-Картинках медленно достал пулю и протянул мальчику. Вилли не заметил длинной волнистой руки. Пулю взял его отец.
— Пометьте своими инициалами, — машинально произнес мистер Дарк обязательную фразу.
— Ну, зачем же! Есть и кое-что получше! — усмехнулся Чарльз Хэллоуэй. Он вложил пулю в равнодушную руку сына и достал перочинный нож. Взял пулю, пометил и вернул мистеру Дарку.
«Что? Что? Что происходит? — сонно думал Вилли. — Я знаю, что происходит. Я не знаю. Что? Что? Что?»
Мистер Дарк внимательно рассмотрел нацарапанный на пуле полумесяц, не увидел в этой луне ничего особенного, зарядил ружье и снова грубо бросил старику. И снова Чарльз Хэллоуэй ловко поймал оружие.
— Готов, Вилли?
Неподвижное лицо едва заметно наклонилось.
Чарльз Хэллоуэй мельком взглянул в сторону Лабиринта. «Как ты там, Джим? Держись, паренек!»
Мистер Дарк повернулся. Он собирался отойти, успокоить свою пыльную подругу, но замер, остановленный резким звуком открываемого затвора. Отец Вилли достал из ствола пулю и демонстрировал ее собравшимся. Она выглядела как настоящая, но Чарльз Хэллоуэй помнил давно прочитанное им где-то описание этого трюка. Пуля делалась из твердого, раскрашенного под свинец воска. При выстреле воск мгновенно испарялся, из ствола вылетал лишь дым да горячий пар, а перед тем Человек-в-Картинках незаметно сует своей напарнице настоящую пулю. Ее не так уж трудно подменить, заряжая ружье. Ведьма подскакивает от выстрела, а потом показывает настоящую пулю, зажатую в желтых крысиных зубах. Фанфары! Аплодисменты!
Человек-в-Картинках оглянулся. Чарльз Хэллоуэй держал в руках восковую пулю, явно принимая ее за настоящую, и озабоченно приговаривал:
— Давай-ка пометим ее получше, сынок…
Вилли сжимал пулю в бесчувственной руке, а старик перочинным ножом старательно наносил на чистую пулю все тот же загадочный лунный серп. Потом он лихо заслал ее в патронник.
— Готово? — раздраженно спросил мистер Дарк и взглянул на Ведьму. Она заколебалась, но в конце концов слабо кивнула.
— Готово! — отозвался Чарльз Хэллоуэй.
Вокруг стояли безмолвные шатры, сдержанно дышала толпа людей, беспокойно шевелились уроды. Ведьма замерла на грани истерики, где-то неподалеку неподвижной мумией восседал Джим, которого еще предстояло найти, в соседнем шатре электрические сполохи поддерживали видимость жизни в древнем старце, карусель застыла в ожидании конца представления и того момента, когда разойдется, наконец, надоевшая толпа и Карнавал разберется по-своему с дерзкими мальчишками и старым библиотечным уборщиком, попавшимися в ловушку, уже пойманными, просто надо подождать, пока их оставят наедине с Карнавалом.
— Вилли, — беззаботно болтал Чарльз Хэллоуэй, поднимая вдруг потяжелевшее ружье, — давай свое плечо, мы его как подпорку используем. Прихвати-ка за ствол, так надежнее будет. — Мальчик послушно поднял руку. — Вот так, сынок. Отлично. Когда скажу: «Приготовились», задержи дыхание. Слышишь меня?
Рука Вилли слабо дрогнула в ответ. Он спал. Он видел сон. Этот сон был кошмаром. Во сне он услышал крик отца.
— Леди и джентльмены!
Человек-в-Картинках вонзил ногти в собственную ладонь, в мальчишеское лицо, спрятанное в кулаке. Вилли скрутила судорога. Ружье упало. Чарльз Хэллоуэй и внимания не обратил.
— Леди и джентльмены! У меня левая — не того, вот сынок ее заменит. Сейчас мы с ним исполним перед вами самый рискованный, самый опасный, уникальный трюк с пулей!
Аплодисменты. Хохот.
Пятидесятичетырхлетний библиотечный уборщик проворно поднял ружье, словно это была привычная швабра, и снова водрузил на вздрагивающее плечо сына.
— Эй, Вилли, слышишь, сынок, давай врежем им за нас! Да, Вилли слышал. Судорога стала отпускать его. Мистер Дарк еще сильнее сжал кулак. Вилли снова затрясло.
— Прямо в яблочко врежем им, верно, сынок! Не подкачай, поднатужься! — скоморошничал отец. Толпа смеялась.
А Вилли и впрямь успокоился. Ствол ружья у него на плече замер. Суставы на стиснутой руке мистера Дарка побелели, но мальчик оставался неподвижным. Волны смеха омывали его замершую фигурку. Отец не давал смеху погаснуть.
— Покажи-ка даме свои зубы, Вилли! Вилли оскалился в сторону мишени. Ведьма побледнела, как мучной куль.
Чарльз Хэллоуэй осклабился, старательно обнажив все свои оставшиеся зубы.
Ледяной озноб прокатился по телу Ведьмы.
— Гляди-ка, парень! — послышался голос из толпы. — У нее аж поджилки трясутся. Напугал так напугал! Во изображает!
«Вижу я», — с досадой подумал Чарльз Хэллоуэй. Его левая рука безвольно висела вдоль тела, палец правой застыл на спусковом крючке винтовки. Ствол неподвижно лежит на плече Вилли, дуло устремлено в мишень, прямо в лицо Пыльной Ведьме; и вот настает последний миг. В патроннике восковая пуля. Господи! Да что может сделать кусочек воска? Испариться на лету? Глупость какая! Зачем они здесь, что они могут сделать? «Прекрати немедленно, — приказал он сам себе. — Все. Тихо. Никаких сомнений!» Он буквально чувствовал слова, теснившиеся во рту. Ведьма тоже слышала их.
Прежде чем последний теплый смешок замер в толпе, Чарльз Хэллоуэй прошептал беззвучно, одними губами: «Я пометил пулю не лунным знаком. Это — моя улыбка. Моя улыбка — вот настоящая пуля в стволе!» Он не стал повторять, и лишь помедлил, ожидая, пока до Ведьмы дойдет смысл его слов. И за миг до того, как слова эти прочел по губам Человек-в-Картинках, Чарльз Хэллоуэй негромко и отрывисто приказал сыну: «Приготовились!»
Вилли перестал дышать. Неподалеку, у затерянного среди восковых истуканов Джима слюна перестала течь из уголка губ. У мертво-живой куклы, привязанной ремнями к Электрическому Стулу, едва слышно зудел в зубах синий электрический огонек. Картинки мистера Дарка вспотели от ужаса, когда их хозяин судорожно стиснул собственную ладонь. Поздно! Вилли даже не шелохнулся, даже не вздрогнул, ствол винтовки на его плече не двинулся. Отец хладнокровно скомандовал: «Пли!»
И грянул выстрел.
48
Один-единственный выстрел!
Ведьма судорожно вздохнула. Джим вздохнул среди восковых кукол. Вилли вздохнул во сне. Чарльз Хэллоуэй сделал глубокий вздох. Чуть не захлебнулся воздухом мистер Дарк. Со всхлипом втянули воздух уроды. Перевела дух толпа людей перед помостом.
Ведьма вскрикнула. Джим в музее выдохнул. Вилли на сцене взвизгнул, просыпаясь.
Человек-в-Картинках заревел, выпуская воздух из легких; он взмахнул руками, призывая события замереть, застыть. Но Ведьма падала. Ее тело сухо стукнуло о край помоста и рухнуло в пыль.
Чарльз Хэллоуэй медленно, с неохотой, выдыхал теплый, обжитый в груди воздух. Дымящаяся винтовка зажата в правой руке, глаз — на линии прицела, но на том конце — только красная мишень и никакой Цыганки.
На краю помоста застыл мистер Дарк. Он впился глазами в толпу и пытался разобрать отдельные выкрики.
— Обморок!
— Да нет, подскользнулась просто.
— Застрелили!
Чарльз Хэллоуэй подошел и встал рядом с Человеком-в-Картинках. Он тоже посмотрел вниз. Многое можно было прочесть в его взгляде: и удивление, и отчаяние, и радостное удовлетворение.
Старуху подняли и уложили на помост. Полуоткрытый рот Ведьмы, казалось, выражал удовольствие.
Чарльз Хэллоуэй знал — она мертва. Еще мгновение — это поймут все. Он внимательно наблюдал за рукой мистера Дарка. Вниз, еще ниже, коснуться, проверить, ощутить трепет жизни. Мистер Дарк взял Ведьму за руки. Кукла. Марионетка. Он пытался заставить ее двигаться, но безжизненное тело не слушалось его. Тогда он призвал на помощь Скелета и Карлика, они трясли и двигали тело, норовя придать ему видимость жизни, а толпа потихоньку пятилась от помоста все дальше.
— …мертвая!
— …раны не видно!
— Может, это шок у нее?
«Да какой там шок! — думал Чарльз Хэллоуэй. — Боже мой, неужели это убило ее? Наверное, виновата другая пуля. Может, она случайно проглотила настоящую? Моя улыбка? О Иисусе!»
— Все о'кей! — воскликнул мистер Дарк. — Представление окончено! Все в порядке! Так и задумано! — Он не глядел на мертвую женщину, не глядел на толпу, не глядел даже на Вилли, моргавшего, как сова днем, только что выбравшегося из одного кошмара и готового провалиться в следующий. Мистер Дарк закричал: — Все по домам! Представление окончено! Эй там, гасите свет!
Карнавальные огни замигали и начали гаснуть. Толпа принялась разворачиваться, как огромная карусель, двинулась, густея под еще горевшими фонарями, словно надеясь отогреться, прежде чем шагнуть в ветреную ночь. Но огни продолжали гаснуть.
— Скорее! — торопил мистер Дарк.
— Прыгай! — шепнул отец Вилли.
Вилли соскочил с помоста и поспешил за отцом, все еще сжимавшим в руке винтовку, убившую Ведьму улыбкой.
Они были уже у входа в Лабиринт. Слышно было, как сзади, на помосте, топчется и сопит мистер Дарк.
— Карнавал закрывается. Всем — домой! Конец! Закрыто!
— Джим там, внутри?
— Джим? Внутри? — Вилли с трудом понимал происходящее. — Да! Да, внутри!
Посреди музея восковых фигур, по-прежнему неподвижный, сидел Джим.
— Джим! — Голос, звавший его, протолкался через Лабиринт.
Джим шевельнулся. Джим мигнул, вздохнул, встал и неуклюже заковылял к заднему выходу.
— Джим! Подожди там! Я приду за тобой!
— Нет, папа, нет! — Вилли вцепился в отца.
Они стояли у первой зеркальной стены. Боль снова немилосердно терзала левую руку Чарльза Хэллоуэя, поднималась к локтю, выше, еще немного, и ударит в сердце.
— Не надо, папа, не входи! — Вилли держал отца за правую руку.
Помост позади был пуст. Мистер Дарк покинул его. Ночь смыкалась вокруг Вилли с отцом, огни гасли один за другим, ночь густела, наливалась силой, ухмылялась, выталкивала людей прочь, срывая последних посетителей, как запоздавшие листья с деревьев, гнала по дороге…
Перед глазами Чарльза Хэллоуэя перекатывались зеркальные валы, это был вызов, брошенный ему ужасом. Надо было принять его, шагнуть в зеркальное море, проплыть по холодным волнам, прошагать по зеркальным пустыням, прекратить, остановить распадение человеческого «я» в бесконечно отраженных поворотах. Чарльз Хэллоуэй знал, что ждет его. Закроешь глаза — заблудишься, откроешь — познаешь отчаяние, примешь на плечи невыносимое бремя, которое вряд ли унесешь дальше двенадцатого поворота. И все же он отвел руки сына.
— Там Джим, Вилли, — только и сказал он. — Эй, Джим, подожди! Я иду! — Отец Вилли шагнул в Лабиринт.
Впереди дробился и вспыхивал серебряный свет, опускались плиты темноты, сверкали стены, отполированные, отчищенные, промытые миллионами отражений, прикосновением душ, волнами агоний, самолюбований или страха, без конца бившимися о ровные грани и острые углы.
— Джим! — Чарльз Хэллоуэй побежал. Вилли — за ним. Гасли огни. Их отражения меняли цвет. То вспыхивала синяя искра, то сиреневая змейка струилась по зеркалам; отражения мигали, став тысячами свечей, угасающих под ледяным ветром.
Между Чарльзом Хэллоуэем и Джимом встало призрачное войско — легион седовласых, седобородых мужчин с болезненно искаженными ртами.
«Они! Все они — это Я!» — думал Чарльз Хэллоуэй.
«Папа! — думал Вилли у него за спиной. — Ну что же ты! Не бойся. Все они — только мой папа!»
Да нет, не все. Вилли решительно не нравился вид этих угрюмых стариков. Посмотрите на их глаза! И так старые, отражения дряхлели с каждым шагом, они дико размахивали руками в такт жестам отца, отгонявшего видения в зеркалах.
— Папа! Это же только ты! Нет. Их там было больше.
И вот погасли все огни. Два человека, большой и маленький, замерли, невольно съежившись, в напряженно дышащей тишине.
49
Рука шебуршилась, как крот под землей. Рука Вилли потрошила карманы, хватая, определяя, выбрасывая. Он знал, что легионы стариков в темноте двинулись со стен, прыгают, теснят, давят и, в конце концов, уничтожат отца оружием своей сущности. За эти секунды, что летят и уносятся навсегда, если не поторопиться, может произойти невесть что! Эти воины Будущего наступают, а с ними — все предстоящие тревоги, настоящие, подлинные отражения, с железной логикой доказывающие: да, вот таким станет отец Вилли завтра, таким — послезавтра, и дальше, дальше, дальше… Это стадо затопчет отца! Ищи! Быстро ищи! Ну, у кого карманов больше, чем у волшебника? Конечно, у мальчишки! У кого в карманах больше, чем в мешке у волшебника? Конечно, у мальчишки! Вот он!
Вилли выудил наконец спичечный коробок и зажег спичку.
— Сюда, папа!
«Стой!» — приказала спичка.
Батальоны в древних маскарадных костюмах справа застыли на полушаге, роты слева со скрипом выпрямились, бросая зловещие взгляды на непрошеное пламя, мечтая только о порыве сквозняка, чтобы снова рвануться в атаку под прикрытием тьмы, добраться до этого старого, ну вот же — совсем старого, а вот — еще старше, добраться до этого ужасающе старого старика и убить его же собственной неотвратимой судьбой.
— Нет! — произнес Чарльз Хэллоуэй. «Нет», — задвигался миллион мертвых губ.
Вилли выставил горящую спичку вперед. Навстречу из зеркал какие-то высохшие полуобезьяны протянули бутоны желтого огня. Каждая грань метала дротики света. Они незримо вонзались, внедрялись в плоть, кололи сердце, душу, рассекали нервы, и гнали, гнали дерзкого мальчишку вперед, к гибели.
Старик рухнул на колени, собрание его двойников, постаревших на неделю, на месяц, год, пятьдесят, девяносто лет, повторило движение. Зеркала уже не отражали, они всасывали кровь, обгладывали кости, и вот-вот готовы были сдуть в ничто прах его скелета, разбросать тончайшим слоем мотыльковую пыль.
— Нет! — Чарльз Хэллоуэй выбил спичку из рук сына.
— Папа!
В обрушившейся тьме со всех сторон двинулась орда старцев.
— Папа! Нам же надо видеть! — Вилли зажег вторую, последнюю спичку.
В ее неровном свете он увидел, как отец оседает на пол, закрыв руками лицо. Отражения приседали, приспосабливались, занимали удобное положение, готовясь, как только исчезнет свет, продолжить наступление. Вилли схватил отца за плечо и встряхнул.
— Папа! — закричал он. — Ты не думай, мне и в голову никогда не приходило, что ты — старый! Папа, папочка, — в голосе слышались близкие рыдания. — Я люблю тебя!
Чарльз Хэллоуэй открыл глаза. Перед ним метались по стенам те, кто был похож на него. Он увидел сына, слезы, дрожащие у него на ресницах, и вдруг, заслоняя отражения, поплыли образы недавнего прошлого: библиотека, Пыльная Ведьма, его победа, ее поражение, сухо треснул выстрел, загудела взволнованная толпа.
Еще мгновение он смотрел на своих зеркальных обидчиков, на Вилли, а потом… тихий звук сорвался с его губ, звук чуть погромче вырвался из горла. И вот он уже обрушил на лабиринт, на все его проклятые времена, свой единственный громогласный ответ. Он широко раскрыл рот и издал ЗВУК. Если бы Ведьма могла ожить, она узнала бы его, узнала и умерла снова.
50
Джим Найтшед с разбега остановился где-то на карнавальных задворках.
Где-то среди черных шатров сбился с ноги Человек-в-Картинках. Карлик застыл. Скелет обернулся через плечо. Все услышали… нет, не тот звук, который издал Чарльз Хэллоуэй, другой, ужасный и длительный звук заставил замереть всех. Зеркала! Сначала одно, за ним — другое, третье, дальше, дальше, как костяшки стоящего домино, взрывались изнутри сетью трещин, слепли и падали, звеня. Целую минуту изображения сворачивались, извивались, перелистывались, как страницы огромной книги, пока не разлетелись метеоритным роем.
Человек-в-Картинках вслушивался в стеклянные перезвоны, чувствуя, как сеть трещин покрывает и его глазные яблоки, и они, того и гляди, начнут выпадать осколками. Это Чарльз Хэллоуэй, словно мальчик-хорист, спел на клиросе сатанинской церкви прекрасную, высокую партию мягкого добродушного смеха и тем потряс зеркала до основания, а потом и само стекло заставил разлететься вдребезги. Тысячи зеркал вместе с древними отражениями Чарльза Хэллоуэя кусками льда падали на землю и становились осенней слякотью под ногами. Все это наделал тот самый звук, не удержавшийся в легких пожилого человека.
Все это смогло случиться из-за того, что Чарльз Хэллоуэй наконец-то принял и Карнавал, и окрестные холмы, и Джима с Вилли, а прежде всего — самого себя и самое жизнь, а приняв, выразил свое согласие со всем на свете тем самым звуком.
Как только звук разбил зеркальную магию, призраки покинули стеклянные грани. Чарльз Хэллоуэй даже вскрикнул, неожиданно ощутив себя свободным. Он отнял руки от лица. Чистый звездный свет омыл его глаза. Мертвяки-отражения ушли, опали, погребенные простыми осколками стекла под ногами.
— Огни! Огни! — выкрикивал далекий, теплый голос. Человек-в-Картинках метнулся и исчез среди шатров.
Последний посетитель давно покинул Карнавал.
— Папа! Что ты делаешь? — спичка обожгла пальцы Вилли, и он выронил ее. Но теперь и слабого звездного света хватало, чтобы увидеть, как настойчиво разгребает отец горы зеркального мусора, прокладывая дорогу к выходу.
— Джим?
Задняя дверь Лабиринта распахнута. Блики далеких фонарей слабо озаряют восковых убийц и висельников, но Джима среди них нет.
— Джим!
Они стояли у раскрытой двери и тщетно всматривались в тени между шатрами. Последний электрический фонарь на карнавальной земле потух.
— Теперь нам никогда не найти его, — проговорил Вилли.
— Найдем, — пообещал отец в темноте.
«Где?» — подумал было Вилли, но тут же насторожился и прислушался. Так и есть! Карусель запыхтела, калиоп начал пережевывать музыку. «Вот, — мелькнуло в голове Вилли, — если где и искать Джима, так возле карусели. Старина Джим! У него же еще бесплатный билет в кармане. Ну, Джим, ну, проклятый, старый… Не надо! — остановил он себя, — не проклинай его. Он уже и так проклят, или вот-вот схлопочет. Ну как тут найдешь его! Ни спичек, ни фонарей. И нас ведь всего двое против всех этих… да еще на их собственной территории!»
— Как… — начал он, но отец остановил его. Чарльз Хэллоуэй благоговейно произнес лишь одно слово: «Там». Вилли шагнул к посветлевшему дверному проему.
Ура! Господи, луна поднимается над холмами!
— Полиция?..
— Некогда. Тут минуты решают. Нам о троих людях надо думать.
— Да не люда они, а уроды!
— Люди, Вилли. Перво-наперво Джим, потом — Кугер с его электрическим стулом, ну а третий — мистер Дарк со своим паноптикумом. Спасти первого, прикончить к дьяволу двух других, тогда и остальные уроды дорогу найдут. Ты готов, Вилли?
Вилли огляделся по сторонам, поднял глаза.
— Слава Богу, луна!
Крепко взявшись за руки, отец и сын вышли за дверь. Навстречу приветственно взметнулся ветер, взвихрил волосы на головах и пошел хлопать парусиной шатров, словно над лугом взлетел огромный воздушный змей.
51
Тени обдавали их запахом аммиака, лунный свет — запахом чистого речного льда.
Впереди сипел, стучал и свиристел калиоп. Вилли никак не мог разобрать, правильную музыку он играет или вывернутую.
— Куда теперь? — прошептал отец.
— Вон туда! — махнул рукой Вилли.
В сотне ярдов позади шатров разорвал темноту каскад синих искр.
«Мистер Электрико! — догадался Вилли. — Они пытаются поднять его. Хотят притащить на карусель, чтобы уж либо оживить, либо окончательно угробить. А если они и вправду оживят его, вот он рассвирепеет! И Человек-в-Картинках тоже. И все на нас с папой. Ладно. Джим-то где? И какой он? На чьей стороне? Да на нашей, конечно же! — попытался он уверить себя. Но тут же подумал: — А сколько живет дружба? До каких пор будем мы составлять одно приятное, круглое, теплое целое?»
Вилли взглянул налево. Там, полускрытый полотнищами шатра, стоял и чего-то ждал Карлик.
— Посмотри, папа! — тихонько вскрикнул Вилли. — А вон там — Скелет! — Действительно, напоминая давно засохшее дерево, неподвижно торчал высокий тощий человек. Интересно, почему уроды даже не пробуют остановить нас?
— Потому что боятся.
— Кого? Нас?!
Отец Вилли, пригнувшись, словно заправский разведчик, выглядывал из-за угла фургона.
— Им уже прилично досталось. И они прекрасно видели, что стало с Ведьмой. Другого объяснения у меня нет. Посмотри на них.
Уроды мало чем отличались от подпорок шатров. Много их виднелось в разных местах луга. Прячась в тени, все они чего-то ждали. Чего?
Вилли попытался сглотнуть пересохшим горлом. Может, они не прячутся вовсе, может, просто собрались сматываться? или драться? Скоро мистер Дарк ка-ак свистнет, а они все ка-ак набросятся… а пока просто время не пришло. Опять же, мистер Дарк занят. Вот освободится и свистнет. Ну и что тогда делать? А почему — тогда? Надо попробовать так сделать, чтобы он вообще не свистнул.
Ноги Вилли умело скользили по траве. Отец крался впереди. Уроды провожали их остекленевшими под луной глазами.
Голос калиопа изменился. Теперь он звучал даже мелодично и звуки печальным ручейком струились между шатров.
«Так! Вперед играет! — отметил про себя Вилли. — А раньше, значит, назад играл. Интересно, куда еще расти мистеру Дарку?» И вдруг до него дошло.
— Джим! — заорал Вилли.
— Тихо! — одернул его отец.
Но имя уже было сказано. Оно само рванулось из Вилли, как только он услышал заманчивые, завлекающие звуки. Джим где-то там, поблизости, затаился и гадает, покачиваясь в такт: каково это, стать шестнадцатилетним? а восемнадцатилетним? о, а вот еще лучше — двадцатилетним? Могучий вихрь Времени прикинулся летним ветерком и наигрывает веселенький мотивчик, обещая все-все на свете. Даже Вилли чуть заметно пританцовывает под музыку, вырастающую персиковым деревцем со спелыми плодами.
«Ну уж нет!» — Вилли категорически отверг все соблазны и заставил ноги перейти на другой ритм, шагать под собственный мотив, и держать, держать его, горлом, легкими, костями черепа гася гнусавые звуки калиопа.
— Посмотри, — тихо сказал отец.
Впереди между шатрами двигалось диковинное шествие. В знакомом электрическом стуле, как султан в паланкине, ехала усохшая ископаемая фигура. Стул равномерно покачивался на плечах пятен темноты разных форм и размеров.
Тихий голос отца вспугнул их. Шествие разом подскочило и бросилось наутек.
— Мистер Электрико! — узнал Вилли. — Это его на карусель тащат! — Маленький парад скрылся за углом шатра. — Вокруг, за ними! — увлекая за собой отца, крикнул Вилли.
Калиоп расплывался медовыми сотами звуков. Он выманивал, вытаскивал, притягивал Джима, где бы тот ни скрывался.
А для мистера Электрико музыка, значит, пойдет задом-наперед, и карусель завертится наоборот, сдирая старую кожу, возвращая годы.
Вилли споткнулся и пропахал бы носом землю, не поддержи его отец под локоть. В тот же миг из-за шатров вознесся целый хор звуков: лай, вой, причитания, плач. Звуки испускали искалеченные глотки уродов.
— Джим! Они Джима заполучили!
— Вряд ли, — пробормотал Чарльз Хэллоуэй и добавил непонятно: — Может, это мы их заполучили.
Обогнув очередной шатер, они попали в маленькую пыльную бурю. Вилли зажмурился и зажал нос ладонью. Пыли было много. От нее исходил запах древних пряностей, сгоревших кленовых листьев. В воздухе было синё от пыли.
Чарльз Хэллоуэй чихнул. Какие-то смутно видимые фигуры шарахнулись прочь от предмета странных очертаний, лежащего на полдороге между шатрами и каруселью. При ближайшем рассмотрении это оказался опрокинутый электрический стул с торчащими во все стороны ремнями, подставками и зажимами.
— А где же мистер Электрико? — растерянно проговорил Вилли. — То есть… мистер Кугер?
— Да вот это он, наверное, и есть, — ответил отец.
— Что — это?
Но ответ действительно был здесь, вокруг Вилли. Он взвихривался над дорогой, носился в воздухе осенним ладаном, щекотал в носу запахом древнего тимьяна.
«Вот так, — подумал Чарльз Хэллоуэй, — оживить или угробить». Он представлял, как суетились они еще несколько минут назад, волоча древний пыльный мешок с костями на электрическом стуле без проводов, как пытались выходить сухую мумию, сохранить жизнь в кучке истлевшего праха, хлопьев ржавчины и давно прогоревших углей. В них не осталось ни единой искры, и никакому ветру не под силу раздуть в этом пепле огонек жизни. Но они пытались и не единожды, только каждый раз в панике оставляли эту затею, потому что любой толчок грозил превратить древнего Кугера в кучу сопревших опилок. Уж лучше бы оставить его прислоненным к надежной жесткой спинке электрического стула, оставить чудо-экспонатом для публики, но они должны были попытаться еще раз, когда пала темнота, когда убралось наконец людское стадо, когда всех перепугала убийственная улыбка, и так нужен прежний Кугер — высокий, рыжий, неистовый. Но эта попытка оказалась роковой. С минуту назад последние легчайшие узы распались, последний засов, удерживавший жизнь за дверью тела, отскочил, и тот, кто был Основателем, сбросил последние скрепы и вознесся клубами пыли и вихрем осенних листьев. Мистер Кугер, обмолоченный в последний урожай, затанцевал легчайшим прахом над лугами. Древнее зерно в силосной башне тела взметнулось мучной пылью и исчезло: было — и прошло.
— Нет, нет, нет, нет, — монотонно бормотал кто-то рядом.
Чарльз Хэллоуэй тронул сына за руку. Оказывается, это Вилли бормотал монотонное «нет». Мысли его текли параллельно мыслям отца, он тоже видел все стадии: суету над останками, пыльный фонтан и удобренные травы вокруг… Теперь в лунном свете остался нелепый перевернутый Стул, а уроды, тащившие мистера Кугера на последний костер, разбежались и попрятались в тени.
«Не от нас ли они разбежались? — подумал Вилли. Что-то ведь заставило их бросить Стул. Или — кто-то?»
Кто-то! Вилли вытаращил глаза.
Перед ним, чуть поодаль, пустая карусель, поскрипывая, совершала свой обычный путь через Время. Неторопливо. Вперед.
А между ней и брошенным Электрическим Стулом стоял… уродец? Нет…
— Джим!
Отец ударил сына под локоть и Вилли заткнулся.
«Или… но это же Джим?! — подумал он. — А где же тогда мистер Дарк? Наверное, где-то неподалеку. Кто еще мог запустить карусель? Кто еще мог притащить сюда всех: и Джима, и их с отцом?»
Джим отвернулся от перевернутого стула и медленно двинулся дальше, к своему бесплатному аттракциону.
Перед ним лежала его всегдашняя цель. Бывало, он как флюгер, поворачивался то в одну сторону, то в другую, колебался, завидев новые дали, порывался в каком-нибудь показавшемся симпатичным направлении, но вот сейчас, наконец, определился окончательно, вытянулся и завибрировал в силовом потоке музыкальных ветров. Он все еще пребывал в полусне. И он не смотрел по сторонам.
— Иди, догони его, Вилли, — подтолкнул отец. Вилли пошел. Джим был уже возле карусели. Поднял правую руку. Медные шесты, как спицы колеса, проплывали мимо, улетали в будущее. Они проникали в тело, подхватывали, тянули как сироп, захватывали кости и разжеванной тянучкой тащили за собой. Отблеск надраенной меди лег на скулы Джима, стальной блеск мелькнул и остался в глазах. Джим подошел вплотную. Медные спицы постукивали его по ногтям протянутой руки, вызвякивая какой-то свой мотивчик.
— Джим!
Спицы мелькали мимо, сливаясь в медный рассвет в ночи. Музыка рванулась звонким фонтаном звуков.
— И-иииииии!
Джим подхватил музыкальный вопль.
— И-ииииии!
— Джим! — Вилли бежал и кричал на бегу.
Джим хлопнул ладонью по шесту, шест вырвался. Но набежал следующий, и ладонь Джима словно припаялась к нему. Сначала — запястье, потом — плечо, и наконец все еще не проснувшееся тело Джима оторвало от земли.
Вилли был уже рядом. Он успел схватить Джима за ногу, но не сумел удержать, и Джим поехал в плачущей ночи по огромному вечному кругу. Не потеряв инерции, Вилли бежал за ним.
— Джим, слезай! Джим, не бросай меня тут! Центробежная сила отбросила тело Джима, он летел, держась за шест, под каким-то немыслимым углом к плоскости круга, откинув в сторону другую руку, маленькую, белую, отдельную ладонь, не принадлежащую карусели, помнящую старую дружбу.
— Джим, прыгай!
Вилли, как вратарь за мячом, бросился за этой рукой… и промахнулся. Он споткнулся, удержался на ногах, но потерял скорость и сразу безнадежно отстал. Джим уехал в свой первый круг один. Вилли остановился, ожидая следующего появления… кого? Кто вернется к нему?
— Джим! Джим!
Джим проснулся! Через полкруга лицо его ожило, теперь им попеременно владели то декабрь, то июль. Он судорожно вцепился в шест и ехал, отчаянно поскуливая. Он хотел ехать дальше. Он ни за что не хотел ехать дальше. Он соглашался. Он отказывался. Он страстно желал и дальше купаться в ветровой реке, в блеске металла, в плавной тряске коней, колотящих копытами воздух. Глаза горят, кончик языка прикушен.
— Джим, прыгай! Папа, останови ее!
Чарльз Хэллоуэй взглянул на пульт управления каруселью. До него было футов пятьдесят.
— Джим, слезай, ты мне нужен. Джим, вернись! Далеко, на другой стороне карусели, Джим сражался со своими руками, с шестами, конями, завывающим ветром, наступающей ночью и звездным круговоротом. Он выпускал шест и тут же хватался за него. А правая рука откинута наружу, просит у Вилли хоть унцию силы.
— Джим!
Джим едет по кругу. Там внизу, на темном полустанке, откуда унесся навсегда его поезд, он видит Вилли, Вильяма Хэллоуэя, давнего приятеля, юного друга, и чем дальше уносит его бег карусели, тем моложе будет казаться друг Вилли, тем труднее будет припомнить его черты… Но пока еще вон он, друг, младший друг, бежит за поездом, догоняет, просит сойти, требует… чего он хочет?
— Джим! Ты помнишь меня?
Вилли отчаянно бросился вперед и достал-таки пальцы Джима, схватил ладонь.
Зябко-белое лицо Джима смотрит вниз. Вилли поймал темп и бежит вровень с внешним кругом карусели. Где же отец? Почему он не выключает ее? Рука у Джима теплая, знакомая, хорошая рука.
— Джим, ну, пожалуйста!
Все дальше по кругу. Джим несет его. Вилли волочится следом.
— Пожалуйста!
Вилли попытался остановиться. Тело Джима дернулось. Рука, схваченная Вилли, рука, пойманная Джимом, прошла сквозь июльский жар. Рука Джима, уходящего в старшие времена, жила отдельно, она знала что-то свое, о чем сам Джим мог едва догадываться. Пятнадцатилетняя рука четырнадцатилетнего подростка. А лицо? Отразится ли на нем один оборот? Чье оно? Пятнадцатилетнего, шестнадцатилетнего юноши?
Вилли тянул к себе. Джим тянул к себе. Вилли упал на край дощатого круга. Оба уезжали в ночь! Теперь весь Вилли, полностью, ехал с другом Джимом.
— Джим! Папа!
«Ну и что? Раз уж не сумел стащить Джима, почему бы не поехать дальше вместе? Остаться вдвоем и пуститься в путь рука об руку». Что-то начало происходить в теле Вилли. В нем поднимались неведомые соки, застилали глаза, отдавались в ушах, покалывали электрическими иголками спину…
Джим закричал. И Вилли закричал тоже.
Их странствие длилось уже полгода, уже полкруга они путешествовали вдвоем, прежде чем Вилли решился, ухватив Джима покрепче, прыгнуть, отмахнуться от многообещающих взрослых лет, сигануть вниз, рвануть за собой Джима. Но Джим не мог отпустить шест, не мог отказаться от своей бесплатной поездки.
— Вилли! — впервые подал голос Джим, раздираемый между другом и кругом, одна рука — здесь, другая — там. Он не понимал, одежду с него сдирают или тело. Глаза у Джима стали алебастровыми, как у статуи. А карусель неслась! Джим дико вскрикнул, сорвался, нелепо перевернулся в воздухе и рухнул на землю.
Чарльз Хэллоуэй дернул рубильник. Пустая карусель останавливалась. Кони притормаживали бег, так к не добравшись до какой-то далекой летней ночи.
Чарльз Хэллоуэй опустился на колени вместе с Вилли возле неподвижного тела Джима, потрогал пульс, приложил ухо к груди. Невидящими глазами Джим уставился на звезды.
— О Боже! — закричал Вилли. — Он что — мертвый?
52
— Мертвый?.. — Отец Вилли коснулся лица, груди Джима. — Нет, я не думаю…
Где-то неподалеку тоненький голос позвал на помощь. Они подняли головы. К ним опрометью бежал мальчишка. Он то и дело оглядывался через плечо, спотыкался о растяжки шатров и задевал плечами билетные будки.
— Помогите! — истошно верещал он. — Помогите, он меня поймает! Я не хочу! Мама! — Малец подбежал и вцепился в Чарльза Хэллоуэя. — Помогите, я потерялся. Возьмите меня домой, а то этот дядька в картинках поймает меня!
— Мистер Дарк! — выдохнул Вилли.
— Ага, он, он! — тараторил мальчишка. — Он за мной бежал.
— Вилли, — отец встал. — Позаботься о Джиме. Попробуй искусственное дыхание. Ну, пойдем, малыш.
Мальчонка тут же рванулся прочь. Чарльз Хэллоуэй шел за ним и внимательно разглядывал тщедушное тельце, неправильной формы голову и откляченный зад. Они отошли от карусели футов на двадцать, и Чарльз Хэллоуэй спросил:
— Послушай, дружок, как тебя зовут?
— Да некогда же! — истерично выкрикнул мальчишка. — Джед меня зовут. Идем быстрее.
Чарльз Хэллоуэй остановился.
— Послушай-ка, Джед, — сказал он. Теперь мальчишка тоже остановился и нетерпеливо повернулся к нему. — А скажи-ка, сколько тебе лет?
— Девять мне, девять! Пойдем, мы же не успеем!
— Девять лет! — мечтательно повторил Чарльз Хэллоуэй. — Отличная пора, Джед. Я никогда не был таким молодым.
— Чтоб мне провалиться… — начал мальчишка.
— Вполне возможно, — подхватил Чарльз Хэллоуэй и протянул руку. Парнишка отшатнулся. — Похоже, ты боишься только одного человека, Джед. Меня.
— Чегой-то мне вас бояться? Кончайте вы. Почему?..
— Потому, что иногда зло оказывается безоружно перед добром. Потому, что иногда даже наигранные трюки не удаются. Не так-то просто столкнуть человека в яму. И «разделяй и властвуй» сегодня не пройдет, Джед. Куда ты думал отвести меня? В какую-нибудь львиную клетку? Придумал еще какой-нибудь аттракцион вроде зеркал или Ведьмы? А знаешь что, Джед? Давай-ка попросту засучим твой правый рукав, а?
Мальчишка сверкнул глазами и отскочил, но Чарльз Хэллоуэй прыгнул за ним и схватил за шиворот. Вместо того чтобы возиться с рукавом, он просто сдернул с паренька рубашку через голову.
— Ну вот, Джед, так я и думал, — тихо произнес он.
— Ты… ты…
— Да, да, Джед, я. Но главное — это ты, Джед.
Все тело мальчишки покрывала татуировка. Змеи, скорпионы, прожорливые акулы теснились на груди, обвивали талию, корчились на спине маленького, холодного, дрожащего тела.
— Здорово нарисовано, Джед, — одобрил Чарльз Хэллоуэй.
— Ты! — мальчишка размахнулся и ударил.
Чарльз Хэллоуэй даже не стал уворачиваться. Он принял удар, а потом сгреб мальчишку и крепко зажал подмышкой. Малец забился, задергался и отчаянно заверещал: «Нет!»
— Теперь только «да», Джед, — приговаривал Чарльз Хэллоуэй, действуя одной правой рукой. Левая его не слушалась. — Зря дергаешься, я тебя не выпущу. Идея была хорошая: сначала разделаться со мной, потом добраться и до Вилли… А когда явится полиция, ты вроде бы и ни при чем, какой спрос с мальца? Карнавал? А что — карнавал? Твой он, что ли?
— Ничего ты мне не сделаешь! — завизжал мальчишка.
— Может быть, и нет, но я попробую, — ласково пообещал Чарльз Хэллоуэй, покрепче прихватывая своего пленника.
— Караул! Убивают! — заорал и заплакал парень.
— Да что ты, Джед, или мистер Дарк, или как тебя там еще, — укоризненно произнес Чарльз Хэллоуэй. — Я и не думаю тебя убивать. По-моему, это ты собираешься себя прикончить. Ты же не можешь находиться долго рядом с такими людьми, как я. Да еще так близко!
— Отпусти, злодей! — застонал мальчишка, извиваясь в руках мужчины.
— Злодей? — отец Вилли рассмеялся. Судя по рывкам Джеда, звуки простого смеха доставляли ему не больше удовольствия, чем рой рассерженных пчел. — Злодей, говоришь? — руки мужчины еще крепче прихватили маленькое тело. — И это ты говоришь, Джед? Уж чья бы корова мычала! Со стороны оно, может, так и выглядит. Злу добро всегда кажется злом. Но я буду делать только добро. Я буду держать тебя долго, держать и смотреть, что сделает с тобой добро. Я буду делать тебе добро, Джед, мистер Дарк, мистер Хозяин Карнавала, паршивый мальчишка, буду делать до тех пор, пока ты не скажешь мне, что стряслось с Джимом. Лучше тебе разбудить его, лучше вернуть его к жизни. Ну!
— Я не могу, не могу… — ломкий голос уходит в тело, как в колодец, глубже, глуше, — не могу…
— Не хочешь?
— …не могу.
— О'кей, приятель. Тогда вот так, и вот так…
Со стороны их можно было принять за отца с сыном, встретившихся после долгой разлуки. Мужчина поднял раненую руку и потрогал синяк на скуле, оставшийся после удара мальчишки, потрогал и улыбнулся. Толпа картинок на теле мальчика бросилась врассыпную. Глаза маленькой бестии с ужасом впились в раздвинутые улыбкой губы мужчины. Это была та самая улыбка, которая недавно поразила насмерть Пыльную Ведьму.
Мужчина крепко прижимал к себе мальчишку и думал: «У Зла есть только одна сила, та, которой наделяем его мы. От меня ты ничего не получишь. Наоборот, я заберу у тебя все. И тогда тебе останется только погибнуть».
В глазах мальчика метались огни, словно отражения близко горящей спички. Но из глубины поднимался страх, и пламя в глазах тускнело, выцветало, гасло и наконец погасло совсем, и тогда вся толпа, весь конклав чудищ рухнули и придавили маленькое тело к земле.
Наверное, их падение должно было сопровождаться грохотом, как от горного обвала, но на самом деле в воздухе разнесся всего лишь шелест, как будто японский бумажный фонарик уронили в пыль.
53
Чарльз Хэллоуэй долго не мог отдышаться. Трепетные тени заполнили полотняные аллеи. Среди теней угадывались уродливые фигуры. Их так долго вскармливали их собственными грехами и страхами, что теперь и они не сразу смогли прийти в себя; держась за шесты и веревки, многие постанывали и поскуливали от неуверенности. Скелет решил выбраться из надежной тени поближе к свету. Карлик, еще не догадываясь, а только подозревая о своем прежнем обличье, боком, как краб, подобрался к карусели и теперь таращился на Вилли, склонившегося над Джимом, и его отца, почти в той же позе застывшего в изнеможении над другим детским телом. Тем временем карусель дотянула последний оборот и встала, как паром, уткнувшийся в заросший травой берег.
Карнавал превратился в огромный темный камин. В разных уголках тлели угли настороженных взглядов его обитателей. Все они тянулись к одному месту.
Там лежал под луной разрисованный мальчик по имени Дарк.
Там лежали поверженные драконы, разрушенные башни, сраженные чудовища мрачных, древних эр: птеродактили уткнулись в землю, как сбитые самолеты, страшные раки выброшены на берег отливом жизни. Изображения двигались, меняли очертания, дрожали по мере того, как холодела маленькая плоть. Циклопий глаз на пупке подмигивал сам себе, шипастый трицератопс ослеп и впал в буйство, картинки, все вместе и каждая в отдельности, прижившиеся на теле большого мистера Дарка, теперь ссохлись и стали напоминать микроскопическую вышивку, этакий расшитый платочек, наброшенный на костлявые плечи.
Из темноты выступали новые уроды. Лица их напоминали цветом несвежую постель — арену их поражений в битве за собственные души. Тени медленно перемещались по кругу, образуя хоровод вокруг мистера Хэллоуэя и неподвижного тела на земле.
Вилли размеренно поднимал и опускал руки Джима, и совершенно не обращал внимания на собравшихся вокруг зрителей. Они, впрочем, не докучали ему. Казалось, многие из них стояли, полностью поглощенные своим собственным дыхательным процессом. Искаженные рты со всхлипами втягивали ночь, откусывали от нее большие куски и заглатывали, словно долгие годы прожили на голодном пайке.
Чарльз Хэллоуэй следил за метаморфозами картинной галереи, сосредоточенной на небольшом пространстве лежащего у его ног тела. Оно остывало на глазах. Смерть вышибала подпорки из-под крошечных кошмарных композиций, каллиграфические надписи искажались, скрученные жгутами пресмыкающиеся разворачивались поникшими знаменами проигранной войны, и вот они уже бледнеют, растворяются, исчезают, одно за другим покидают маленькое тело.
Уроды вокруг беспокойно зашевелились. Казалось, лунный свет впервые дал им возможность оглядеться. Одни потирали запястья, не понимая, куда делись наручники, другие ощупывали шеи, пытаясь обнаружить привычное ярмо, так долго пригибавшее их к земле. Все недоуменно моргали, не смея поверить увиденному: возле застывшей карусели лежал клубок бед, средоточие их несчастий. Они пока не осмеливались подойти, наклониться, потрогать этот холодный лоб, и только взирали в оцепенении, как бледнеют их гротескные портреты, как тает экстракт их жадности, злобы, язвящей вины, слепых убеждений, как распадаются ловушки картинок по мере того, как тает этот невеликий сугробик грязноватого снега. Вот слинял Скелет, за ним потекло и испарилось изображение уродливого Карлика, вот и Пьющий Лаву освободился от осенней плоти, а за ним меняется цвет Черного Палача из Лондонских Доков, взлетел и растворился Человек-Монгольфьер, похудел и стал невидимкой Толстяк, вспорхнула и исчезла в воздухе целая группа, а смерть все протирала и протирала дочиста грифельную доску тела.
И вот уже перед Чарльзом Хэллоуэем лежал просто маленький мертвый человек: чистая, без единого пятнышка кожа, пустые глаза, устремленные на звезды.
— Ах-ххх! — хором вздохнули странные люди, столпившиеся в тени вокруг.
А потом… Может, старый калиоп вякнул в последний раз, может, гром, ночующий в облаках, повернулся во сне на другой бок — все вокруг пришло в движение. Уродов охватила паника. Свобода бросила их в разные стороны, как камни из пращи. Не стало своего шатра, не стало грозного Хозяина, не стало самого темного закона, сбивавшего их в кучу. Они разбегались.
Должно быть, на бегу они цеплялись за веревки и выдергивали колья растяжек, и теперь само небо, колыхнувшись, начало беспорядочно свертывать и комкать вздыхающие шатры. Веревки взвивались с шипением, гневно хлестали по траве. Как темный испанский веер, сложился шатер-зверинец. Вокруг качались и падали шатры поменьше. Обнажился и зашатался бронтозаврий костяк главного балагана уродов. Мгновение он помедлил в нерешительности, плавно взмахнул кожистыми, как у птеродактиля, крыльями, и Ниагарой хлынул вниз. Три сотни пеньковых змей взвились в воздух. Черные шесты с треском подломились. Они стали выпадать, как гнилые зубы из огромной челюсти; пыльные полотнища хлопотливо забились, пытаясь взлететь и опадая, умирая от самой обычной силы тяжести, задыхаясь под собственным весом.
Огромный вздох исторг наружу жаркие испарения чужих земель, взметнул в воздух тучи конфетти из тех времен, когда еще не было венецианских каналов, над лугом огромными питонами зазмеились густые струи леденцовых запахов. Балаган падал, тоскуя и жалуясь; натиск падения одолел наконец три центральные опоры, и они сломались, как будто три пушки выпалили одна за другой.
Шквал, пронесшийся над лугом, заставил вскипеть безумный калиоп. Под его пронзительное сипение всплеснули руками изображения уродов на вымпелах и знаменах, потом древки качнулись и уронили полотнища на землю.
Возле карусели остался стоять лишь Скелет. Вот он сложился пополам, нагнулся и поднял фарфоровое тело, бывшее некогда мистером Дарком. Выпрямился, постоял и зашагал прочь, в поля. Вилли смотрел, как тощий человек со своим грузом поднялся на взгорок и скрылся вослед сгинувшему карнавальному племени.
Вилли нахмурился. Кугер, Дарк, Скелет, Карлик — куда же вы все? Не убегайте, вернитесь! Мисс Фолей, где вы? Мистер Крозетти, все кончилось, можно передохнуть. Здесь уже не страшно, вернитесь!
Нет. Они бегут, и видно, будут бежать вечно, пытаясь обогнать самих себя. И ветер ворошит траву, сдувая все следы.
Вилли снова повернулся к Джиму, снова давил ему на грудь, давил и отпускал, давил и отпускал, потом, дрожа, коснулся щеки друга.
— Джим?
Но Джим оставался холоден, как вскопанная земля.
54
Только отголосок тепла хранило тело, только легкий оттенок цвета оживлял кожу щек. Вилли взял Джима за руку — пульса не было, приложил ухо к груди — тихо, совсем тихо.
— Он умер!
Чарльз Хэллоуэй подошел, опустился на колени и тоже потрогал неподвижную грудь Джима.
— Кажется, нет, — неуверенно произнес он. — Не совсем…
— Совсем! — Слезы хлынули из глаз Вилли.
Отец не дал начаться истерике и как следует встряхнул сына.
— Прекрати! — крикнул он. — Хочешь его спасти?
— Поздно, папа. Ой, папа!
— Заткнись и слушай!
Долго сдерживаемые рыдания прорвались наружу. Отец коротко размахнулся и ударил сына по щеке, раз, и еще раз. После третьего раза слезы удалось на время остановить.
— Пойми, Вилли, — отец свирепо ткнул в него пальцем, — всем этим проклятым даркам твои слезы — бальзам на душу. Господи Иисусе, чем больше ты ревешь, тем больше соли слизнут они с твоего подбородка. Ну, рыдай, а они будут сосать твои охи и ахи, как коты валерьянку. Вставай! Встань, кому говорю! Прыгай! Скачи, вопи, ори, пой, Вилли, а главное — смейся! Ты должен хохотать, должен — и все!
— Я не могу!
— Кому нужно твое «не могу»? Ты должен. Больше у нас нет ничего. Я знаю, так уже было в библиотеке. Ведьма удрала. Боже мой, ты бы видел, как она улепетывала! Я убил ее улыбкой, понимаешь, Вилли, одной-единственной улыбкой. Людям осени не выстоять против нее. В улыбке солнце, оно ненавистно им. Не воспринимай их всерьез, Вилли!
— Но…
— Никаких «но», черт возьми! Ты видел зеркала. Вспомни, они показали меня дряхлой развалиной, показали, как я обращаюсь в труху. Это же простой шантаж. То же самое они сделали с мисс Фолей, и у них получилось. Она ушла с ними в Никуда, ушла с этими дураками, восхотевшими всего! Всего! Бедные проклятые дураки! Это же надо придумать — порезаться об Ничто. Ну, чисто дурной пес, бросивший кость ради отражения кости в пруду.
Вилли, ты же видел: бам! бам! ни одного зеркала не осталось. Они рассыпались, как льдины на солнце. У меня ничего не было: ни ножа, ни ружья, даже рогатки не нашлось, только язык, только зубы, только легкие, и я разнес эти паршивые зеркала одним презрением! Бросил на землю десять миллионов испуганных дураков, дал возможность настоящему человеку встать на ноги. Теперь поднимайся ты, Вилли!
— Но Джим… — начал Вилли.
— Он и здесь и там. С Джимом всегда так, ты же знаешь. Он не мог пропустить ни одного искушения, и вот теперь зашел слишком далеко, может, совсем ушел. Но ты же помнишь, он боролся, он же руку тянул, хотел спрыгнуть. Ну так мы закончим за него. Вперед!
Вилли шевельнулся. Дернул плечом.
— Беги!
Вилли шмыгнул носом. Отец шлепнул его по щеке и слезы разлетелись мелкими звездочками.
— Прыгай! Скачи! Ори!
Отец подтолкнул Вилли, сделал пируэт, лихорадочно пошарил в карманах и достал что-то блестящее. Губная гармошка! Дунул.
Вилли остановился, опустил руки и уставился на Джима. И тут же схлопотал от отца по уху.
— Хватит пялиться! Двигай!
Вилли сделал шажок. Отец выдул из гармошки смешной аккорд, дернул Вилли за локоть, подбросил его руки.
— Пой!
— Что петь?
— Боже мой, мальчик, пой хоть что-нибудь! Гармошка фальшиво изобразила «Вниз по реке».
— Папа! — Вилли едва двигался и мотал головой от свинцовой усталости во всем теле. — Папа! Глупо же!
— Точно! Куда уж глупей! Нам только этого и надо, дурачина-простофиля! И гармошка дурацкая. И мотивчик тоже, я тебе скажу! — Отец выкрикивал и подскакивал, как танцующий журавль.
Нет, этого пока мало. Но, кажется, он уже переломил настрой.
— Давай, Вилли! Чем громче, тем смешнее. Ишь чего захотели — слезы лакать! Не вздумай дать им ухватиться за твой плач, они из него себе улыбок нашьют. Будь я проклят, если смерти удастся пощеголять в моей печали! Ну же, Вилли, оставь их голодными. Отпусти на волю свои руки-ноги. Дуй!
Он схватил Вилли за хохол на макушке и дернул.
— Ничего… смешного…
— Наоборот. Все смешно. Ты только на себя погляди! А я?
Чарльз Хэллоуэй корчил жуткие рожи, таращил глаза, тянул себя за уши, скакал, как влюбленный шимпанзе, из вальса срывался в чечетку, выл на луну и тормошил, тормошил Вилли.
— А смешнее смерти вообще ничего нет, разрази ее гром! Видали мы ее в белых тапочках! А ну, давай «Вниз по реке». Как там? «Трам-пам, далеко!» Ну, Вилли, и голосок у тебя! Прямо отощавшее девчоночье сопрано. Жаворонок накрылся медным тазом и чирикает. Давай, скачи!
Вилли хихикнул, прошелся петушком, присел пару раз. К щекам прилила кровь. В горле что-то дергалось, как будто лимонов наелся. Он уже ощущал, как грудь распирает предчувствие смеха.
Отец извлек из гармошки какое-то подобие мотива.
— «Там, где все старики…» — затянул Вилли.
— «Остаются навсегда…» — подхватил отец. Шарк, стук, прыг, скок.
Ну и где Джим? Да не до него сейчас. Забыли. Отец пощекотал Вилли под ребрами.
— «Там девицы молодые…»
— «Будут петь "ду-да-да!"» — грянул Вилли. — «Ду-да-да», — поймал он мотив. В горле щекотало. В груди надувался шар.
— «А проселочек у речки…»
— «Миль пяти в длину всего!» Мужчина с мальчиком изобразили менуэт.
Это случилось на следующем танцевальном коленце. Шар внутри у Вилли стремительно разрастался. Вот он уже выпирает из горла, вот раздвинул губы в улыбке.
— Ты чего это? — отец лязгнул зубами. Вилли фыркнул.
— Кажись, не в той тональности спел, — сконфуженно произнес отец.
Шар в груди Вилли взорвался. Он захохотал.
— Папа! — он подпрыгнул. Схватил отца за руку и забегал по кругу, крякая и кудахча. Ладони били по коленям, пыль летела столбом.
— «Сюзанна!»
— «Ты не плачь обо мне!»
— «Я пришел из Алабамы…»
— «И банджо мое…»
— «При мне!» — хором выкрикнули они. Гармошка хрюкнула и выдала истошный фальшивый визг. Чарльз Хэллоуэй, не обращая на это внимания, требовал от нее какую-то плясовую собственного изобретения, изгибался, подпрыгивал и никак не попадал ладонью по своей пятке.
Они кружились, сталкивались, бодались и дышали все запаленнее: ха! ха!
— О Боже мой, ха! Вилли, сил нет! Ха!
Они хохотали, как безумные, и вдруг посреди хохота кто-то чихнул. Отец и сын повернулись. Вгляделись.
Кто это там лежит в лунном свете? Джим, что ли? Найтшед? Это он чихает? И щеки порозовели?
Да ладно! Отец сгреб и закружил Вилли, попискивая гармошкой. Они прошлись в дикой самбе раз, другой, перепрыгнули через Джима, попавшегося на дороге.
— «Ктой-то там на кухне с Диной?» — горланили они.
— «Я-то знаю, что за гусь!»
Джим провел языком по губам. Никто этого даже не заметил. А если и заметил, то не подал виду. Джим открыл глаза. Первое, что он увидел, были два идиота, скакавшие в пыли. Джим помотал головой: не может быть. Он шел через годы, вернулся Бог весть откуда, а ему даже «Эй!» никто не сказал. Дергаются, как припадочные. Обидные слезы защипали глаза, но еще прежде слез из горла проскользнул смешок, за ним — другой. Джим расхохотался. Нет, ну они точно ополоумели, этот Вилли со своим стариком. Скачут, как гориллы, пыль столбом, и морды у обоих при этом загадочные. Они вились вокруг Джима, хлопали себя по коленкам и с оттопыренными ушами трясли над ним головами. И они смеялись. Все время смеялись. Волны их веселья омывали Джима с головы до ног, и казалось, смех не иссякнет, даже если рухнут небеса или разверзнется земля.
Глядя на друга, Вилли скакал как сумасшедший и с восторгом думал: «Он не помнит! Не помнит, что был мертвый, а мы не скажем ему, никогда-никогда не скажем! Ду-да-да! Ду-да-да!»
Ни Вилли, ни отец не крикнули: «Привет, Джим! Давай с нами!», нет, они просто протянули руки, словно он случайно, ну, например, споткнувшись, выпал из их круга, и дернули его обратно. И Джим взлетел. А когда опустился на землю среди них, то уже плясал с ними вместе.
Теперь, крепко сжимая горячую руку Джима, Вилли точно знал: они дурачились не зря. Это их вопли, прыжки и нелепые рожи вливали в Джима живую кровь. Они приняли его, как повитуха принимает новорожденного, встряхнули, похлопали по спинке, и Джим задышал.
Отец пригнулся. Вилли с ходу перемахнул через него и тут же пригнулся сам. Чехарда сразу пошла замечательно, в хорошем темпе, и вот уже Вилли и отец стоят, пригнувшись, друг за другом, и ждут прыжка Джима. Джим прыгнул раз, другой… но одолел только половину спины Чарльза Хэллоуэя, и они всей кучей, с совиным уханьем и ослиным гоготом, покатились в траву. Все трое чувствовали себя словно в Первый День Творения, когда Радость еще не покинула Сад Господень.
Охая, они уселись на траве, похлопывая друг друга по плечам, разобрались с ногами — где чьи? — и обменялись счастливыми взглядами, немножко пьяные от пережитого веселья. А потом, насмотревшись на соседа, наулыбавшись, посмотрели на луг.
Поверх слоновьих могил рухнувших шатров лежали перекрещенные шесты. Ветер шевелил складки, как лепестки огромной черной розы.
Мир вокруг спал, и только они, троица уличных котов, довольно жмурились на луну.
— Что это было? — сиплым от недавнего смеха голосом выговорил наконец Джим.
— Э-э, чего только не было! — воскликнул Чарльз Хэллоуэй.
Все трое снова рассмеялись, но вдруг Вилли схватил Джима за руку и заплакал.
— Эй, — тихонько сказал Джим и снова повторил нежно: — Эй, ну…
— Джим, ох, Джим, — уже сдерживался Вилли, — Джим, мы с тобой всю жизнь друзьями будем…
— Это уж точно, — тихо и серьезно подтвердил Джим.
— Ладно, все в порядке, — сказал Чарльз Хэллоуэй. — Теперь можно и поплакать. Из лесу выбрались, это главное. Дома еще насмеемся.
Вилли отпустил Джима и теперь стоял, с гордостью глядя на отца.
— Ой, папа, ты же такое сделал!..
— Не я один. Мы вместе сделали.
— Без тебя бы ничего не вышло. Значит, я просто не знал тебя, но зато теперь-то уж точно знаю.
— Ну да?
— Ей-Богу!
Каждому из них казалось, что голову другого окружает влажное, мерцающее сияние.
— Годится! — согласился отец и протянул руку.
Вилли схватил ее и потряс. Получилось смешно и недавние слезы как-то сами собой высохли. Теперь они смотрели на следы, уходящие по росе в холмы.
— Папа, они вернутся? Как ты думаешь?
— И да, и нет, — отец убрал в карман губную гармошку. — Они не вернутся. Будут другие, похожие. Не обязательно — карнавал, одному Богу известно, под какой личиной они явятся в следующий раз. Может, уже на восходе, может, ближе к полудню, или, в крайнем случае, на закате, но они придут.
— Нет! — невольно воскликнул Вилли.
— Да, сынок. Теперь уж всю жизнь придется быть начеку. Все только начинается.
Они неторопливо обогнули карусель.
— А как же мы их узнаем? — допытывался Вилли. — На кого они будут похожи?
— Может быть, они уже здесь, — тихо ответил отец.
Оба друга быстро огляделись. Но поблизости была только карусель да они сами. Тогда Вилли поднес руки к лицу и внимательно осмотрел их, перевел взгляд на Джима и снова — на отца.
Чарльз Хэллоуэй кивнул. Только один раз. Потом взялся за медный шест и легко вскочил на карусель. Вилли встал рядом с ним. И Джим тоже.
Джим потрепал гриву черного жеребца, Вилли погладил коня по шее. Огромный круг плавно накренился на волнах ночи.
«Только три кружочка вперед, — подумал Вилли. — Ну, поехали!»
«Четыре круга вперед, приятель, — подумал Джим. — Поживее!»
«Всего десять кругов назад, — подумал Чарльз Хэллоуэй. — Господи!»
Каждый из них по глазам понял мысли другого.
«Неужели так легко?» — подумал Вилли.
«Всего-то разочек», — подумал Джим.
«Только начни, — думал Чарльз Хэллоуэй, — и уже не остановишься. Еще круг, и еще один. А после начнешь друзьям предлагать прокатиться, и другим тоже…»
Все трое одновременно вздрогнули от одной и той же мысли: «…и вот ты уже катаешь Хозяина карусели… и уродов, владельца маленького кусочка вечности в темном бродячем цирке…»
«Да, — сказали они глазами, — может быть, они уже здесь».
Чарльз Хэллоуэй покопался в инструментальном ящике и вытянул небольшую кувалду. Тщательно примерившись, он разбил основные шестерни, потом, вместе с ребятами, обошел карусель и поработал над распределительным щитом, пока он не разлетелся вдребезги.
— Может, и ни к чему, — задумчиво проговорил он. — Уродов нет, а без них, без их энергии она и работать не будет, но все-таки… — и он еще раз трахнул кувалдой в центр механизма, после чего отшвырнул ее прочь.
— Должно быть, за полночь уже.
Часы на здании мэрии, часы на баптистской церкви, часы на католических церквях дружно пробили полночь. Ветер принес облачко семян Времени.
— Кто последний до семафора, тот — старая тетка! Мальчишки рванулись, как пули из пистолета.
Лишь мгновение помедлил старик. Смутная боль шевельнулась в груди. «Ну и что будет, если я побегу? — думал он. — Умру? Эка важность! А вот то, что перед смертью — это важно по-настоящему. Мы славно поработали сегодня, такую работу даже смерть не испортит. Ребята вон как дунули… почему бы и мне… не последовать?»
Так он и сделал.
Господи! Как здорово вспарывать росное одеяло на потемневшей траве. Мальчишки неслись, как пони в упряжке. Может, когда-нибудь придет такое время, что кто-то добежит до цели первым, а кто-то — вторым, а то и вовсе не добежит. Когда-нибудь… только не сейчас. Эта первая минута нового дня не годилась для такого. На бегу не было времени разглядывать лица — кто старше, кто моложе. Это был уже другой, новый день октября, и в этом году он оказался куда лучше прочих, хотя час назад и мысли такой ни у кого не возникло бы. Луна в компании со звездами в великом кружении уходила к неизбежному рассвету. Потом она исчезнет, и от слез этой ночи не останется ни следа. Вилли бежал, смеялся и пел, Джим деловито проводил пресс-конференцию сам с собой, и так они мчались к городу по стерне, и город, где им еще сколько-то лет жить напротив друг друга, надвигался все быстрее.
А сзади трусил пожилой мужчина со своими то добродушными, то печальными мыслями.
Наверное, мальчишки невольно притормаживали, а может, наоборот, Чарльз Хэллоуэй наддал. Ни они, ни он не могли бы сказать, как оно было на самом деле. Но главное не в этом. Главное, мужчина был у семафора одновременно с ребятами.
Вилли хлопнул ладонью по столбу, и Джим хлопнул ладонью по столбу, но в тот же самый момент и по тому же самому столбу семафора хлопнула рука Чарльза Хэллоуэя.
Тройной победный клич зазвенел на ветру. Чуть позже, под бдительным присмотром луны, трое оставили позади луга и вошли в город.
Механизмы радости
Механизмы радости
Отец Брайан решил пока не спускаться к завтраку, поскольку ему показалось, что он слышит там, внизу, смех отца Витторини. Витторини, как всегда, трапезовал в одиночестве. Тогда с кем бы он там мог смеяться — или над кем?
«Над нами, — подумал отец Брайан, — вот над кем». Он снова прислушался.
В своей комнате, которая располагалась в другом конце зала, был погружен в молитвенное созерцание, а точнее сказать, прятался, отец Келли.
Они никогда не допускали, чтобы Витторини закончил завтрак, о нет! Они всегда умудрялись присоединиться к нему как раз в тот момент, когда он дожевывал последний кусочек тоста. В противном случае чувство вины не давало бы им покоя весь день.
Тем не менее внизу явственно раздавался смех — или послышалось? Отец Витторини, видно, откопал что-то в утренней «Таймс». А то, чего доброго, он сидел полночи, пребывая в скверном расположении духа и потворствуя собственным причудам, перед этим нечистым демоном — телевизором, стоящим у двери, словно непрошеный гость. И теперь, наверно, в его голове, промытой электронным чудовищем, беззвучно крутились шестеренки и вызревали планы какой-то новой дьявольской каверзы, и он сидел, намеренно постясь и надеясь распалить любопытство соседей звуками своего итальянского веселья и выманить их вниз.
— О Господи! — Отец Брайан вздохнул и повертел в пальцах конверт, который приготовил вчера вечером. Он сунул его под рясу в качестве орудия обороны, если все же решится вручить его пастору Шелдону. Сумеет ли отец Витторини обнаружить конверт сквозь ткань с помощью своих черных, быстрых рентгеновских глаз?
Отец Брайан крепко провел ладонью по груди, чтобы разгладить малейшие складки, которые могли бы выдать его прошение о переводе в другой приход.
— Что ж, пошли! — И, шепча про себя молитву, отец Брайан стал спускаться по лестнице.
— А! Отец Брайан! — Витторини поднял взгляд от полной тарелки с завтраком. Негодник даже еще не удосужился посыпать сахаром свои кукурузные хлопья.
У отца Брайана было такое ощущение, будто он шагнул в пустую шахту лифта. Чтобы спастись, он инстинктивно выставил вперед руку и коснулся телевизора. Тот был еще теплым.
— Вы что же, провели здесь всю ночь?
— Я бодрствовал у телевизора, да.
— Ну конечно, бодрствовали! — фыркнул отец Брайан. — Бодрствуют у одра болящего или усопшего, не так ли? Мне довелось кое-что повидать в жизни, но более безмозглой штуки, чем эта, я не встречал. — Он отвернулся от электронного кретина и внимательно посмотрел на Витторини. — И вы слышали далекие крики и завывания духов на этом, как его?.. Канаверал?
— Запуск отменили в три часа утра.
— И вот вы сейчас сидите здесь, свеженький как огурчик… — Отец Брайан прошел вперед, покачав головой. — Да, мы живем не в самом справедливом мире.
Витторини налил в тарелку молока и тщательно размешивал в нем хлопья.
— А вы, отец Брайан, напротив, выглядите так, словно побывали нынешней ночью на экскурсии в преисподней.
К счастью, в этот момент вошел отец Келли. Увидев, как мало отец Витторини продвинулся со своим завтраком, он будто примерз к полу. Скороговоркой поприветствовал обоих священников, уселся за стол и поглядел на взволнованного отца Брайана.
— Действительно, Уильям, вид у вас весьма неважный. Бессонница?
— Что-то вроде этого.
Отец Келли, склонив голову несколько набок, внимательно оглядел обоих мужчин.
— Что происходит? Может, что-нибудь случилось в мое отсутствие здесь вчера вечером?
— У нас была небольшая дискуссия, — ответил отец Брайан, поигрывая ложкой в тарелке с размокшими хлопьями.
— Небольшая дискуссия! — подхватил отец Витторини. Он чуть было не рассмеялся, однако сдержал себя и сказал просто: — Дело в том, что ирландского священника беспокоит поведение итальянского папы.
— Полноте, отец Витторини, — сказал Келли.
— Пусть продолжает, — пробурчал отец Брайан.
— Чрезвычайно признателен за ваше любезное разрешение, — очень вежливо ответил Витторини, дружелюбно кивнув ему. — Папа римский, видите ли, являет собой постоянный источник благочестивого раздражения если не для всех, то по крайней мере для некоторых ирландских священнослужителей. Почему папу зовут не Нолан? Отчего бы ему не носить зеленую шапочку вместо красной? Почему бы, если уж на то пошло, не перенести собор святого Петра в Корк или Дублин в двадцать пятом веке?
— Надеюсь, на самом деле никто не говорил именно так? — спросил отец Келли.
— Мне недостает смирения, — произнес отец Брайан. — В своей гордыне я, возможно, и сделал подобное предположение.
— При чем здесь гордыня? И что за предположение?
— Вы слышали, что он только что сказал про двадцать пятый век? — спросил отец Брайан. — Так вот, это когда Флэш Гордон и Бак Роджерс влетают в баптистерий через оконный проем и верующие бросаются к выходу.
Отец Келли вздохнул:
— Ах, Господи, опять та самая шутка?
Отец Брайан почувствовал, что кровь прилила к его щекам и они вспыхнули, поэтому он изо всех сил постарался, чтобы она отхлынула к более холодным областям его тела.
— Шутка? Это выходит далеко за рамки простой шутки. Вот уж целый месяц только и слышишь повсюду: «Канаверал то, да Канаверал се, траектории, астронавты». Можно подумать, что это Четвертое Июля, он по полночи не спит из-за этих ракет! Я, собственно, хочу сказать, ну что это за жизнь теперь, что за карусель каждую ночь с этой машиной-Горгоной, которая стоит у дверей и начисто отшибает у вас все мозги, стоит только взглянуть на нее? Я совершенно не могу спать, потому что чувствую, что вот-вот все в приходе пойдет прахом.
— Да-да, — согласился отец Келли. — А все-таки что это вы там говорили насчет папы?
— Это не о новом, о предпоследнем, — устало ответил Брайан. — Покажите ему вырезку, отец Витторини. Витторини замялся.
— Покажите, — настаивал Брайан.
Отец Витторини вынул маленькую газетную вырезку и положил ее на стол.
Даже не переворачивая, отец Брайан прочитал плохие новости:
«ПАПА БЛАГОСЛОВЛЯЕТ ШТУРМ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА».
Отец Келли вытянул палец и осторожно дотронулся до заметки. Потом взял ее и вполголоса с выражением прочитал, подчеркивая ногтем каждое слово:
— «ЗАМОК ГАНДОЛЬФО, ИТАЛИЯ, 20 СЕНТЯБРЯ. Сегодня папа Пий XII дал свое благословение усилиям человечества, направленным на завоевание космического пространства. В выступлении перед делегатами Международного Конгресса по космическим полетам Понтифик сказал: "Господь не намерен ограничивать человека в его попытках покорить космос".
Четыреста делегатов Конгресса, посланцы двадцати двух стран, были приняты папой в его летней резиденции.
"Этот Конгресс, посвященный космическим полетам, имеет огромное значение для нашего времени — начавшейся эпохи исследования человеком космического пространства, — сказал папа. — Он затрагивает интересы всего человечества… Человеку необходимо приложить немалые усилия, чтобы установить новые отношения с Богом и его вселенной"».
Отец Келли читал все медленнее и наконец остановился.
— Когда была напечатана эта заметка?
— В 1956 году.
— Неужели так давно? — Отец Келли отложил ее в сторону. — Никогда ее не читал.
— Похоже, — сказал отец Брайан, — что вы и я, отец, вообще читаем не очень много.
— Каждый мог пропустить ее, — ответил Келли, — это совсем крохотная заметка.
— Но в ней заложена очень большая идея, — добавил отец Витторини, всем своим видом демонстрируя хорошее настроение.
— Дело в том, что…
— Дело в том, что, — перебил Витторини, — когда я впервые заявил об этом, правдивость моих слов была подвергнута очень серьезным сомнениям. Теперь мы видим, что я говорил истинную правду.
— Разумеется, — поспешно сказал отец Брайан. — Однако, как заметил наш поэт Уильям Блейк: «Коль правду ты во зло употребил — гнусней лжеца любого поступил».
— Безусловно. — Витторини продолжал излучать дружелюбие. — Но разве не Блейк написал также:
— Весьма убедительно, — добавил священник-итальянец, — и очень подходит для космической эры.
Отец Брайан уставился на возмутительного спорщика:
— Я был бы вам бесконечно благодарен, если бы вы не цитировали нам нашего Блейка.
— Вашего Блейка? — спросил стройный бледный мужчина с волнистыми темными волосами. — Странно. Я всегда был убежден, что он англичанин.
— Поэзию Блейка, — сказал отец Брайан, — очень любила моя мать. И именно она рассказывала мне, что у него была ирландская кровь по материнской линии.
— Искренне признателен вам за столь ценные для меня сведения, — поблагодарил отец Витторини. — Однако же вернемся к газетной заметке. Теперь, когда мы ее наконец разыскали, не пора ли нам поподробнее ознакомиться с энцикликой Пия Двенадцатого?
Отец Брайан, осторожность которого была его второй натурой, недоверчиво спросил:
— Что же это за энциклика?
— Позвольте, та самая — о космических путешествиях.
— Он не мог написать этого!
— Тем не менее написал.
— О космических полетах! Специальная энциклика?
— Совершенно верно — специальная.
Оба священника-ирландца чуть было не попадали с кресел — настолько сильным оказался для них этот удар.
Отец Витторини делал движения, как человек, приводящий в порядок свой костюм после взрыва: сощелкнул пылинку с рукава, стряхнул волосок, подобрал две-три хлебные крошки со скатерти.
— Неужели недостаточно было того, — проговорил отец Брайан упавшим голосом, — что он пожал руки этой шайке астронавтов, сказал им, дескать, молодцы, ребята, и все такое, — но ему показалось мало, и он обо всем этом еще и написал?
— Этого было недостаточно, — подтвердил отец Витторини. — Он, как я слышал, пожелал подробно изложить свои взгляды относительно проблем жизни на других планетах и влияния этого феномена на христианский образ мышления.
После каждого из этих слов, произнесенных очень отчетливо, двое других мужчин все дальше откидывались назад в своих креслах.
— Вы слышали? — прошептал отец Брайан. — А вы сами это еще не читали?
— Еще нет, но я намереваюсь…
— Вы много вещей намереваетесь сделать, и отнюдь не самых лучших. Иногда, отец Витторини, — и мне крайне неприятно говорить это, — ваши речи звучат совершенно неподобающим для священнослужителя католической церкви образом.
— Я говорю, — парировал Витторини, — как итальянский священник, пытающийся сохранить поверхностное натяжение церковного болота, где я по воле Божьей оказался в окружении огромного стада клерикалов по имени Шогнесси, и Налти, и Фланнери, значительно превосходящих меня по численности, которые начинают панически метаться по кругу, словно карибу или бизоны, стоит мне лишь шепнуть: «папская булла».
— Теперь я уже нисколько не сомневаюсь, — тут отец Брайан скосил глаза в ту сторону, где, по его представлению, должен располагаться Ватикан, — что вы собственнолично, окажись вы там, втянули бы Святого Отца во все это дуракаваляние с космическими путешествиями.
— Я?
— Вы! Разве не вы — не мы же, в конце концов — натащили сюда целый грузовик журналов с космическими кораблями на глянцевых обложках и нечистыми зелеными шестиглазыми чудовищами о семнадцати манипуляторах, которые гоняются за полураздетыми девицами на какой-то там луне? Это вы — я своими ушами слышал — вместе со своим бесовским телевизором среди ночи ведете отсчет: десять, девять, восемь — и до единицы. А мы лежим и трясемся от страха так, что у нас пломбы из зубов вылетают. Вы, два итальянца — один здесь, а другой в замке Гондольфо — прости меня, Господи! — умудрились парализовать все ирландское духовенство!
— Успокойтесь! — сказал наконец отец Келли. — Вы оба.
— Успокоюсь. Так или иначе, но я обрету покой, — сказал отец Брайан, доставая из кармана конверт.
— Уберите, — приказал отец Келли, предчувствуя, что может там содержаться.
— Пожалуйста, передайте это от моего имени пастору Шелдону.
Отец Брайан тяжело поднялся и обвел глазами комнату, отыскивая дверь, чтобы уйти. И быстро вышел.
— Вот, полюбуйтесь, что вы наделали, — сказал отец Келли.
Отец Витторини, искренне потрясенный, перестал есть.
— Но, святой отец, я все время полагал, что это не более чем дружеская дискуссия: он выдвигал свои аргументы, а я — свои, он горячился, я же возражал со всей возможной мягкостью.
— Видите ли, ваша перепалка слишком затянулась, и забавный словесный поединок принял серьезный оборот, — сказал Келли. — Ах, вы не знаете Уильяма так, как его знаю я. Вы ведь и впрямь глубоко ранили его.
— Я сделаю все, что в моих силах, чтобы загладить…
— Лучше брюки свои погладьте! И не путайтесь под ногами, я сам все постараюсь устроить. — Отец Келли схватил со стола конверт и посмотрел через него на свет. — Рентген скорбящей души. Ах ты, Господи.
Он поспешно поднялся наверх.
— Отец Брайан? — позвал он. Немного помедлив, постучал в дверь. — Отец? Уильям?
Отец Витторини, снова оказавшийся один в столовой, вспомнил о нескольких последних хлопьях, так и оставшихся у него во рту. Они были совершенно безвкусными. И ему понадобилось довольно много времени, чтобы их проглотить.
Только после ленча отцу Келли удалось в маленьком садике за домом загнать в угол отца Брайана и всунуть ему обратно в руки конверт.
— Уилли, я хочу, чтобы ты порвал это. Я не позволю тебе уйти с поля в середине игры. Сколько времени все это между вами продолжается?
Отец Брайан вздохнул и взял конверт, однако не порвал его.
— Все подкралось к нам как-то незаметно. Поначалу я ему читал ирландских писателей, а он пел мне итальянские оперы. Потом я рассказывал ему о «Книге кельтов», а он просвещал меня насчет Ренессанса. Слава Богу, что он раньше ничего не говорил о папской энциклике, посвященной этим — будь они прокляты — космическим полетам, а не то я бы ушел в монастырь, где отцы по обету хранят молчание. Только я боюсь, что даже туда он бы за мною последовал и стал бы жестами отсчитывать время до старта на Канаверале. Из этого человека получился бы великолепный «адвокат дьявола»!
— Отец!
— Потом я наложу на себя епитимью. Все дело в том, что он настоящий акробат, жонглер, он играет догматами церкви, как цветными мячиками. Конечно, это очень интересное зрелище, но я настаиваю на том, чтобы не смешивать скомороха с истинно верующими, как вы и я! Простите меня за гордыню, отец, однако же мне представляется, что основная тема должна иметь различные вариации, когда ее исполняют на пикколо или, как мы, на арфе. Вы согласны со мной?
— Сие есть таинство, Уилл. И мы, служители Церкви, должны являть мирянам пример того, как тут следует поступать.
— Интересно, а отцу Витторини кто-нибудь это говорил? Давайте смотреть правде в лицо: ведь итальянцы — это ротарианский клуб церкви. Нипочем не поверю, что хоть один из них мог бы остаться трезвым во время Тайной Вечери.
— Любопытно, а ирландец смог бы? — пробормотал отец Келли.
— По крайней мере, мы дождались бы, пока она закончится.
— Ну вот что, мы священники или кто? Что мы здесь стоим и толкуем о каких-то пустяках? Не лучше ли попробовать отбрить Витторини его же собственной бритвой? Уильям, у вас нет никакого плана?
— Может, пригласить сюда баптиста в качестве посредника?
— Да ну вас с вашим баптистом! Вы проштудировали энциклику?
— Энциклику?
— Вы что же, после завтрака так и стояли соляным столпом? И никуда не ходили!.. Давайте-ка почитаем этот эдикт о космических полетах! Как следует изучим его, выучим назубок, а потом контратакуем поборника ракет на его же собственной стартовой площадке! Так что идемте в библиотеку. Как там кричит современная молодежь? Пять, четыре, три, два, один, пуск! Так, что ли?
— Более или менее так.
— Ну, тогда за мной!
При входе в библиотеку они столкнулись с пастором Шелдоном, который оттуда выходил.
— Бесполезно, — сказал, улыбаясь, пастор, когда увидел их разгоряченные лица. — Вы ее там не найдете.
— Чего мы там не найдем? — Отец Брайан заметил, что пастор смотрит на письмо, которое он все еще сжимал в руке, и быстро спрятал его. — Не найдем чего, сэр?
— Ракетный корабль несколько великоват для нашей скромной обители, — ответил пастор, делая не очень-то удачную попытку говорить загадками.
— Неужели итальянец уже успел нажаловаться? — воскликнул в смятении отец Келли.
— Отнюдь нет, однако в здешних местах слухи имеют свойство очень быстро распространяться. Я приходил сюда, чтобы кое-что проверить лично.
— В таком случае, — с облегчением вздохнул Брайан, — вы на нашей стороне?
Глаза пастора Шелдона как-то погрустнели:
— А в данном вопросе существуют какие-нибудь стороны, святые отцы?
Втроем они вошли в маленькую комнату библиотеки, где отец Брайан и отец Келли в неловких позах пристроились на краешках жестких стульев. Пастор Шелдон, видя, как им неудобно, остался стоять.
— Итак. Почему вы боитесь отца Витторини?
— Боимся? — Отец Брайан изобразил удивление и мягко воскликнул: — Правильнее было бы сказать, что мы сердимся!
— Одно влечет за собой другое, — признал Келли и продолжал: — Видите ли, пастор, дело, главным образом, заключается в том, что какой-то тасканский городишко мечет камни в Мейнут, который, как вам известно, всего в нескольких милях от Дублина.
— Я — ирландец, — терпеливо сказал пастор.
— Да, это так, пастор. И тем больше у нас оснований недоумевать, почему вы храните столь великое спокойствие среди этого бедствия? — сказал отец Брайан.
— Я — калифорнийский ирландец, — ответил пастор. Он подождал, пока они проглотят его слова. Когда наконец до них дошел их смысл, отец Брайан с несчастным видом пробормотал:
— Ах да. Мы совершенно забыли.
Он посмотрел на пастора и увидел смуглое, покрытое свежим загаром лицо человека, который даже здесь, в Чикаго, всегда ходил с поднятой к небу, словно подсолнечник, головой, чтобы получить как можно больше света и тепла, столь необходимых его организму. Перед ним стоял мужчина, под рясой которого все еще угадывалась фигура теннисиста, его длинные сильные руки выдавали мастера по гандболу. А когда на кафедре во время проповеди он взмахивал руками, то очень легко можно было представить себе, как он, рассекая волны, плывет под горячим калифорнийским небом.
У отца Келли вырвался смешок.
— Ох, неисповедимы пути Господни. Отец Брайан, да вот же он, ваш баптист!
— Баптист? — удивился пастор Шелдон.
— Не обижайтесь, пастор. Просто мы отправились было искать посредника и встретили вас, ирландца из Калифорнии, который еще настолько не освоился с зимней стужей Иллинойса, что, глядя на вас, невольно думаешь о подстриженных кортах и январском солнцепеке. Мы-то сами родились и выросли на холодных камнях Корка и Килкока, пастор. И не оттаем, прожив двадцать лет в Голливуде. А теперь послушайте, ведь говорят, — разве не так? — что Калифорния очень… — он сделал паузу, — похожа на Италию?
— Я вижу, куда вы клоните, — проговорил отец Брайан.
Пастор Шелдон кивнул, на лице у него появилось теплое и одновременно грустное выражение. Он сказал:
— Во мне течет та же кровь, что и в вас. Но климат, в котором я сформировался, похож на климат Рима. Так что видите, отец Брайан, спрашивая, есть ли здесь какие-нибудь стороны, я говорил то, что мне подсказывало сердце.
— Ирландец и в то же время не ирландец, — прошептал отец Брайан. — Почти что итальянец, но не совсем. Ох, ну и шутки же играет с нашей плотью этот мир.
— Только с нашего позволения, Уильям, Патрик. Оба священника были несколько удивлены, услышав свои имена.
— Вы все же так и не ответили: почему вы боитесь? Руки отца Брайана начали беспокойно мять одна другую.
— Понимаете ли, это из-за того, что в то самое время, когда на Земле все более или менее устроилось, когда, похоже, победа уже не за горами, когда святая церковь утвердилась на надежном основании, — вдруг появляется отец Витторини…
— Простите меня, отец, — перебил его пастор. — Появляется реальность. Появляются пространство, время, энтропия, прогресс, появляется еще миллион вещей, и так всегда. Отец Витторини не изобретал космических полетов.
— Нет, конечно. Но он радуется этому. Благодаря ему «все начинается с мистики, а кончается политикой». Ну да ладно. Я готов спрятать свою боевую палицу, если он уберет свои ракеты.
— Нет, пусть и то и другое останется на виду, — возразил пастор. — Лучше не скрывать ни оружия, ни особых средств передвижения. Лучше с ними работать. Почему бы нам не залезть в эту ракету и не научиться чему-нибудь новому?
— Чему научиться? Что большая часть из того, о чем мы в прошлом проповедовали на Земле, не подходит ни для Марса, ни для Венеры — или я уж не знаю, куда там, к дьяволу, Витторини нас запустит? Изгнать Адама и Еву из какого-нибудь нового Эдема, скажем, на Юпитере, с помощью пламени наших собственных ракет? Или, еще лучше, выяснить, что не существует ни Рая, ни Адама, ни Евы, ни проклятого Яблока, ни Змия, ни Грехопадения, ни Первородного греха, ни Благовещения, ни Непорочного зачатия, ни Сына — можете сами продолжать список, — нет вообще ничего, только погибающие миры сменяют друг друга? Это и есть то, чему мы должны научиться, пастор?
— Если в том возникнет необходимость, то да, — ответил пастор Шелдон. — Это Божья вселенная и Господни миры во вселенной, отец. Не следует пытаться взять с собой наши храмы, если все, что нам нужно, — дорожный саквояж. Церковь можно уложить в ларец, где будет лишь потребное для отправления мессы — ковчежец не больший, чем в состоянии унести эти руки. И оставьте это отцу Витторини — народы южных широт давным-давно научились строить из воска, который тает и принимает формы, соответствующие побуждениям и потребностям человека. Уильям, Уильям, ежели вы настаиваете на том, чтобы строить из твердого льда, то возведенное рассыплется, когда мы преодолеем звуковой барьер, или растает, не оставив и следа, в пламени ракетных двигателей.
— Этому, — сказал отец Брайан, — нелегко учиться в пятьдесят лет, пастор.
— Однако надо, и я знаю, у вас это получится, — пастор тронул его за плечо. — Даю вам поручение: помиритесь с итальянским священником. Найдите сегодня же вечером какой-нибудь способ для взаимного понимания. Приложите все свои силы, отец. А когда исполните это, поскольку наша библиотека уж очень мала, поохотьтесь и разыщите космическую энциклику, чтобы мы хотя бы знали, из-за чего разгорелся весь сыр-бор.
И пастор тут же ушел.
Отец Брайан прислушался к удаляющимся шагам быстрых ног — словно белый мяч высоко взмыл в нежно-голубое небо и пастор кинулся, чтобы в изящном броске перехватить его.
— Ирландец — и в то же время не ирландец, — задумчиво сказал он. — Почти, но не совсем итальянец. Ну а мы-то с тобой кто, Патрик?
— Я что-то начал сомневаться, — ответил тот.
И они направились в более фундаментальное книгохранилище, где могли таиться глобальные воззрения папы относительно большей вселенной.
Намного позже ужина, в сущности, совсем незадолго до того времени, когда пора отходить ко сну, из библиотеки вернулся отец Келли. Он ходил по дому, открывал двери и что-то шептал.
Около десяти часов отец Витторини спустился вниз и застыл с открытым от удивления ртом.
У нерастопленного камина стоял отец Брайан и грелся около маленького газового обогревателя. Некоторое время священник не оборачивался.
Комната была прибрана, а ненавистный телевизор переместился вперед и стоял в окружении четырех кресел и двух табуретов, на которые Брайан водрузил две бутылки и четыре стакана. Все это он сделал сам, не разрешив Келли помогать ему. Сейчас он повернулся, потому что в комнату входили Келли и пастор Шелдон.
Пастор стоял у входа и осматривал комнату.
— Великолепно, — констатировал он. Потом, несколько помедлив, добавил: — Дайте-ка мне подумать… — Он прочитал этикетку на одной из бутылок. — Отец Витторини будет сидеть здесь.
— Около «Айриш Мосс»? — спросил Витторини. — Я тоже, — сказал отец Брайан.
Витторини с очень довольным видом уселся в кресло.
— Ну а мы расположимся поблизости от «Лакрима Христи». Нет возражений? — сказал пастор.
— Это итальянское вино, пастор.
— Сдается мне, что я о нем кое-что слышал, — сказал пастор и сел.
— Вот так. — Отец Брайан торопливо привстал и, не глядя на Витторини, щедро плеснул себе в стакан «Айриш Мосс». — Ирландское возлияние.
— Позвольте мне. — Витторини кивнул в знак благодарности и поднялся, чтобы налить присутствующим напитки. — Слезы Христа и солнце Италии… А сейчас, прежде чем мы выпьем, мне хотелось бы кое-что сказать.
Присутствующие в ожидании глядели на него.
— Папской энциклики о космических полетах, — наконец произнес он, — не существует.
— Мы обнаружили это, — вставил Келли, — несколько часов назад.
— Простите меня, святые отцы, — продолжал Витторини. — Я похож на рыболова, сидящего на берегу. Когда он видит рыбу, то кидает в воду приманку. Я все время подозревал, что энциклики нет. Но всякий раз, когда этот вопрос всплывал и обсуждался в городе, я постоянно слышал, как священники из Дублина отрицают ее существование. И я подумал: она должна быть! Ведь они не пойдут проверять, так это или нет, потому что боятся обнаружить ее. Я же, в гордыне своей, не буду исследовать этот вопрос, поскольку боюсь, что ее нет. Так что в чем, собственно, разница между римской гордыней и гордыней Корка?.. Я намерен отступиться и буду хранить молчание целую неделю. Пастор, прошу наложить епитимью.
— Хорошо, отец, хорошо, — пастор Шелдон встал. — А теперь и я хочу сделать заявление. В следующем месяце сюда приезжает новый священник. Я долго размышлял над этим. Он итальянец, родился и вырос в Монреале.
Витторини прищурил один глаз и попытался представить себе прибывающего.
— Церковь — это полнота всех вещей для всех людей, — продолжал пастор, — и меня очень занимает мысль, каким может быть человек с горячей кровью, выросший в холодном климате, как наш новый итальянец. Впрочем, этот случай так же интересен, как и мой собственный: холодная кровь, воспитанная в Калифорнии. Нам тут не помешал бы еще один итальянец, чтобы растормошить здешнюю публику, и этот латинянин, похоже, из таких, кто может встряхнуть даже отца Витторини. Ну а теперь кто-нибудь хочет предложить тост?
— Пастор, разрешите мне, — снова встал отец Витторини. Он добродушно улыбался и переводил сверкающий взгляд по очереди на всех присутствующих. — Не Блейк ли говорил где-то о механизмах радости? Другими словами, разве не Господь создал окружающую среду, затем ограничил Силы Природы, дав возможность развиться плоти, возникнуть мужчинам и женщинам — крохотным куколкам, каковыми мы все являемся? И затем в неизреченной всеблагости и премудрости своей послал нас вперед к мирным и прекрасным пределам. Так разве мы не Господни механизмы радости?
Если Блейк такое говорил, — сказал отец Брайан, — то я забираю свои слова назад. Он никогда не жил в Дублине!
Все рассмеялись.
Витторини пил «Айриш Мосс» и был, соответственно, весьма немногословен. Остальные пили итальянское вино и преисполнялись добродушия, а отец Брайан в приступе сердечности воскликнул:
— Витторини, а почему бы вам не включить, хоть это и не по-божески, этого демона?
— Девятый канал?
— Именно девятый!
И пока Витторини крутил ручки, отец Брайан, задумчиво глядя поверх своего стакана, спрашивал:
— Неужели Блейк действительно говорил такое?
— Важно то, святой отец, — отвечал ему Витторини, склонившись к призракам, мелькавшим на экране, — что он вполне мог так сказать, если бы жил сегодня. А это я сочинил сам сегодня ночью.
Все посмотрели на итальянца чуть ли не с благоговением. Тут телевизор кашлянул, и изображение стало четким; на экране где-то вдалеке возникла ракета, готовая к старту.
— Механизмы радости, — сказал отец Брайан. — А вот этот, который вы сейчас настраиваете? И тот, другой, вон там — ракета на стартовой площадке?
— Они вполне могут ими стать сегодня ночью, — прошептал Витторини, — если эта штука вместе с человеком, который в ней сидит, поднимется и человек останется жив, и облетит всю планету, а мы — вместе с ним, хотя мы просто смотрим телевизор. Это действительно будет огромной радостью.
Ракету готовили к взлету, и отец Брайан на миг закрыл глаза.
«Прости мне, Иисус, — думал он, — прости старику его гордыню, и прости Витторини его язвительность, и помоги мне постигнуть то, что я вижу сегодня вечером, и дай мне бодрствовать в веселии духа, если понадобится, до рассвета, и пусть эта штуковина благополучно поднимется и спустится, и не оставь помыслами Своими раба Своего в той штуковине, спаси его, Господи, и сохрани. И помоги мне, Господи, тогда, когда придет лето, ибо неизбежно, что вечером Четвертого Июля Витторини с детишками со всего квартала на нашей лужайке станут запускать ракеты.
Все они будут смотреть в небо, словно настал Судный День, и тогда помоги мне, Всемогущий, быть таким, как те дети, пред великим концом времени и той пустотой, где Ты пребываешь вовеки. И помоги мне, Боже, в вечер праздника Независимости выйти и запустить свою ракету, и стоять рядом с отцом-латинянином с выражением детского восторга от сверкающего великолепия». Он открыл глаза.
Ветер времени доносил с далекого мыса Канаверал голоса. Очертания странных призраков неясно вырисовывались на экране.
Отец Брайан допивал остатки вина, когда кто-то осторожно тронул его за локоть.
— Отец, — сказал Витторини, приблизив губы к его уху, — пристегните ремень.
— Непременно. Непременно. И — большое спасибо. Он откинулся в кресле. Закрыл глаза. Он ждал, когда вспыхнет пламя и раздастся гром. Он ждал толчка и голоса, который научит его дурацкой, странной, нелепой и чудесной вещи: обратному счету, все время задом наперед… до нуля.
Тот, кто ждет
Я живу в колодце. Я живу в нем подобно туману, подобно пару в каменной глотке. Я не двигаюсь, я ничего не делаю, я лишь жду. Надо мной мерцают холодные звезды ночи, блещет утреннее солнце. Иногда я пою древние песни этого мира, песни его юности. Как мне объяснить, кто я, если я не знаю этого сам? Я и дымка, и лунный свет, и память. И я стар. Очень стар. В прохладной тиши колодца я жду своего часа и уверен, что когда-нибудь он придет…
Сейчас утро. Я слышу нарастающие раскаты грома. Я чую огонь и улавливаю скрежет металла. Мой час близится. Я жду.
Далекие голоса.
— Марс! Наконец-то!
Чужой язык, он незнаком мне. Я прислушиваюсь.
— Пошлите людей на разведку! Скрип песка. Ближе, ближе.
— Где флаг?
— Здесь, сэр.
— Ладно.
Солнце стоит высоко в голубом небе, его золотистые лучи наполняют колодец, и я парю в них, как цветочная пыльца, невидимый в теплом свете.
— Именем Земли объявляю территорию Марса равно принадлежащей всем нациям!
Что они говорят? Я нежусь в теплом свете солнца, праздный и незримый, золотистый и неутомимый.
— Что там такое?
— Колодец!
— Быть этого не может!
— Точно! Идите сюда.
Я ощущаю приближение теплоты. Над колодцем склоняются три фигуры, и мое холодное дыхание касается их лиц.
— Вот это да-а-а!
— Как ты думаешь, вода хорошая?
— Сейчас проверим.
— Принесите склянку и веревку!
— Сейчас.
Шаги удаляются. Потом приближаются снова. Я жду.
— Опускайте. Полегче, полегче.
Преломленные стеклом блики солнца во мраке колодца. Веревка медленно опускается. Стекло коснулось поверхности, и по воде побежала мягкая рябь. Я медленно плыву вверх.
— Так, готово. Риджент, ты сделаешь анализ?
— Давай.
— Ребята, вы только посмотрите, до чего красиво выложен этот колодец! Интересно, сколько ему лет?
— Кто его знает? Вчера, когда мы приземлились в том городе, Смит уверял, что марсианская цивилизация вымерла добрых десять тысяч лет назад.
— Ну, что там с водой, Риджент?
— Чиста, как слеза. Хочешь попробовать? Серебряный звон струи в палящем зное.
— Джонс, что с тобой?
— Не знаю. Ни с того ни с сего голова заболела.
— Может быть, от воды?
— Нет, я ее не пил. Я это почувствовал, как только наклонился над колодцем. Сейчас уже лучше.
Теперь мне известно, кто я. Меня зовут Стивен Леонард Джонс, мне 25 лет, я прилетел с планеты Земля и вместе с моими товарищами Риджентом и Шоу стою возле древнего марсианского колодца.
Я рассматриваю свои загорелые, сильные руки. Я смотрю на свои длинные ноги, на свою серебристую форму, на своих товарищей.
— Что с тобой, Джонс? — спрашивают они.
— Все в порядке, — отвечаю я. — Ничего особенного. Как приятно есть! Тысячи, десятки тысяч лет я не знал этого чувства. Пища приятно обволакивает язык, а вино, которым я запиваю ее, теплом разливается по телу. Я прислушиваюсь к голосам товарищей. Я произношу незнакомые мне слова и все же как-то их понимаю. Я смакую каждый глоток воздуха.
— В чем дело, Джонс?
— А что такое? — спрашиваю я.
— Ты так дышишь, словно простудился, — говорит один из них.
— Наверно, так оно и есть, — отвечаю я.
— Тогда вечером загляни к врачу.
Я киваю — до чего же приятно кивнуть головой! После перерыва в десять тысяч лет приятно делать все. Приятно вдыхать воздух, приятно чувствовать солнце, прогревающее тебя до самых костей, приятно ощущать теплоту собственной плоти, которой ты был так долго лишен, и слышать все звуки четче и яснее, чем из глубины колодца. В упоении я сижу у колодца.
— Очнись, Джонс. Нам пора идти.
— Да, — говорю я, восторженно ощущая, как слово, соскользнув с языка, медленно тает в воздухе.
Риджент стоит у колодца и глядит вниз. Остальные потянулись назад, к серебряному кораблю. Я чувствую улыбку на своих губах.
— Он очень глубокий, — говорю я. — Да?
— В нем ждет нечто, когда-то имевшее свое тело, — говорю я и касаюсь его руки.
Корабль — серебряное пламя в дрожащем мареве. Я подхожу к нему. Песок хрустит под ногами. Я ощущаю запах ракеты, оплывающей в полуденном зное.
— Где Риджент? — спрашивает кто-то.
— Я оставил его у колодца, — отвечаю я. Один из них бежит к колодцу.
Меня начинает знобить. Слабая дрожь, идущая изнутри, постепенно усиливается. Я впервые слышу голос. Он таится во мне — крошечный, испуганный — и молит: «Выпустите меня! Выпустите!» Словно кто-то, затерявшись в лабиринте, носится по коридору, барабанит в двери, умоляет, плачет.
— Риджент в колодце!
Все бросаются к колодцу. Я бегу с ними, но мне трудно. Я болен. Я весь дрожу.
— Наверное, он свалился туда. Джонс, ведь ты был с ним? Ты что-нибудь видел? Джонс! Ты слышишь? Джонс! Что с тобой?
Я падаю на колени, мое тело сотрясается, как в лихорадке.
— Он болен, — говорит один, подхватывая меня. — Ребята, помогите-ка.
— У него солнечный удар.
— Нет! — шепчу я.
Они держат меня, сотрясаемого судорогами, подобными землетрясению, а голос, глубоко спрятанный во мне, рвется наружу: «Вот Джонс, вот я, это не он, не он, не верьте ему, выпустите меня, выпустите!»
Я смотрю вверх, на склонившиеся надо мной фигуры, и мои веки вздрагивают. Они трогают мое запястье.
Сердце в порядке.
Я закрываю глаза. Крик внутри обрывается, дрожь прекратилась. Я вновь свободен, я поднимаюсь вверх, как из холодной глубины колодца.
— Он умер, — говорит кто-то.
— От чего?
— Похоже на шок.
— Но почему шок? — говорю я. Меня зовут Сешенс, у меня энергичные губы, и я капитан этих людей. Я стою среди них и смотрю на распростертое на песке тело. Я хватаюсь за голову.
— Капитан?!
— Ничего. Сейчас пройдет. Резкая боль в голове. Сейчас. Уже все в порядке.
— Давайте уйдем в тень, сэр.
— Да, — говорю я, не сводя глаз с Джонса. — Нам не стоило прилетать сюда. Марс не хочет этого.
Мы несем тело назад, к ракете, и я чувствую, как где-то во мне новый голос молит выпустить его. Он таится в самой глубине моего тела.
На этот раз дрожь начинается гораздо раньше. Мне очень трудно сдерживать этот голос.
— Спрячьтесь в тени, сэр. Вы плохо выглядите.
— Да, — говорю я. — Помогите.
— Что, сэр?
— Я ничего не сказал.
— Вы сказали «помогите».
— Разве я что-то сказал, Мэтьюз?
У меня трясутся руки. Пересохшие губы жадно хватают воздух. Глаза вылезают из орбит. «Не надо! Не надо! Помогите мне! Помогите! Выпустите меня!»
— Не надо, — говорю я.
— Что, сэр?
— Ничего. Я должен освободиться, — говорю я и зажимаю себе рот руками.
— Что с вами, сэр? — кричит Мэтьюз.
— Немедленно все возвращайтесь назад на Землю! — кричу я.
Я достаю пистолет.
Выстрел. Крики оборвались. Я со свистом падаю куда-то в пространство.
Как приятно умирать после десяти тысяч лет ожидания! Как приятно чувствовать прохладу и слабость! Как приятно ощущать, что жизнь горячей струей покидает тебя и на смену идет спокойное очарование смерти. Но это не может продолжаться долго.
Выстрел.
— Боже, он покончил с собой! — кричу я и, открывая глаза, вижу капитана, лежащего около ракеты. В его окровавленной голове зияет дыра, а глаза широко раскрыты. Я наклоняюсь и дотрагиваюсь до него.
— Глупец. Зачем он это сделал?
Люди испуганы. Они стоят возле двух трупов, оглядываются на марсианские пески и видневшийся вдали колодец, на дне которого покоится Риджент. Они поворачиваются ко мне. Один из них говорит:
— Теперь ты капитан, Мэтьюз.
— Знаю.
— Нас теперь только шестеро.
— Как быстро это случилось!
— Я не хочу быть здесь! Выпустите меня! Люди вскрикивают. Я уверенно подхожу к ним.
— Послушайте, — говорю я и касаюсь их рук, локтей, плеч.
Мы умолкаем. Теперь мы — одно.
— Нет, нет, нет, нет, нет, нет! — кричат голоса из темниц наших тел.
Мы молча смотрим друг на друга, на наши бледные лица и дрожащие руки. Потом мы все как один поворачиваем голову и обращаем взгляд к колодцу.
— Пора, — говорим мы.
— Нет, нет, нет, — кричат шесть голосов.
Наши ноги шагают по песку, как двенадцать пальцев одной огромной руки.
Мы склоняемся над колодцем. Из прохладной глубины на нас смотрят шесть лиц.
Один за другим мы перегибаемся через край и один за другим несемся навстречу мерцающей глади воды.
Я живу в колодце. Я живу в нем подобно туману, подобно пару в каменной глотке. Я не двигаюсь, я ничего не делаю, я лишь жду. Надо мной мерцают холодные звезды ночи, блещет утреннее солнце. Иногда я пою древние песни этого мира, песни его юности. Как мне объяснить, кто я, если я не знаю этого сам? Я просто жду.
Солнце садится. На небо выкатываются звезды. Далеко-далеко вспыхивает огонек. Новая ракета приближается к Марсу…
Tyrannosaurus Rex
Он открыл дверь в темноту просмотрового зальчика. Раздалось резкое, как оплеуха: «Закройте дверь!» Он скользнул внутрь и выполнил приказ. Оказавшись в непроглядной тьме, тихонько выругался. Тот же тонкий голос произнес с саркастической растяжкой:
— Боже! Вы Тервиллиджер?
— Да, — отозвался Тервиллиджер. В более светлой массе справа угадывался экран. Слева неистово прыгал огонек сигареты в невидимых губах.
— Вы опоздали на пять минут!
«Велика беда, — подумал Тервиллиджер, — не на пять же лет!»
— Отнесите пленку в проекционную. И пошевеливайтесь! Тервиллиджер прищурился, привыкая к густому сумраку зала.
Во мраке он различил в креслах пять шумно дышащих и беспокойно ерзающих фигур, исполненных чиновничьего ража. В центре зала с каменной неподвижностью сидел особняком и покуривал подросток.
«Нет, — сообразил Тервиллиджер, — это не подросток. Это Джо Клеренс. Тот самый. Клеренс Великий».
Теперь маленький, как у куклы, ротик выдохнул облачко дыма.
— Ну?
Тервиллиджер суетливо кинулся в сторону проекционной, сунул ролик в руки механику; тот скорчил рожу в сторону боссов, подмигнул Тервиллиджеру и скрылся в своей будке.
Вскоре раздался зуммер.
— Боже! — вспылил гнусавый голосок. — Да запускайте же!
Тервиллиджер пошарил рукой в поисках кресла, обо что-то ударился, шагнул назад и остался стоять.
С экрана полилась музыка. Под звуки барабанного боя пошли титры его демонстрационного фильма:
TYRANNOSAURUS REX:
ГРОЗА ДОИСТОРИЧЕСКИХ ВРЕМЕН
Снято автоматической камерой для замедленной съемки. Куклы и анимация Джона Тервиллиджера. Исследование жизни на Земле за миллиард лет до нашей эры.
Коротышка в центре зала с иронией тихонько похлопал детскими ручками.
Тервиллиджер закрыл глаза. Смена музыкальной темы заставила его посмотреть на экран. Титры заканчивались на фоне ядовитого ливня в доисторических джунглях, полускрытых за пеленой дождя. Камера наплывом пошла сквозь тропический лес к подернутому утренним туманом морскому берегу, по пути встречая на земле и в воздухе бегущие и летящие кошмары. Покрытые массивными треугольными костными шипами, что были разбросаны по коже цвета зеленой плесени, рассекали ветер птеродактили, сверкая алмазами глаз и показывая частокол огромных зубов. Эти смертоносные летучие змеи пикировали на свои не менее страшного вида жертвы, а затем стремительно взмывали ввысь с добычей, которая визжала и извивалась в их пасти.
Тервиллиджер зачарованно следил за происходящим на экране.
У самой земли пышная растительность кишела рептилиями. Ящеры самых разных размеров, закованные в панцирь, месили лапами жирную грязь. Воссозданные воображением Тервиллиджера, они олицетворяли для него злодейство во плоти, от которого бросается врассыпную все живое.
Бронтозавры, стегозавры, трицератопсы… Легко сказать, но трудно представить себе эти многотонные махины.
Исполинские динозавры передвигались как гигантские уродливые танки, сеющие ужас и гибель. Мшистая почва ущелий сотрясалась под ними. Тысячи цветов гибли под очередным шагом чугунной лапы. Ноздри уродливых рыл вбирали туман, и джунгли оглашал рык такой силы, что небо раскалывалось пополам.
«Мои красавчики, — думал Тервиллиджер, — мои лапочки! Крошки ненаглядные!»
Скольких трудов они ему стоили — создания из разных видов резины, с крохотными подвижными стальными суставами. Придуманные в бессонные ночи, воплощенные сперва в глине, а затем сформованные из пенорезины или из губчатой резины, они двигались только благодаря его рукам. И большинство было не крупнее кулака. Остальные — не больше той головы, в которой они зародились.
— Господи! — восхищенно ахнул кто-то в темноте.
А ведь когда-то это было снято кадр за кадром и он, Тервиллиджер, создавал стремительное движение своих фантастических образов из неподвижных картинок. Самую малость изменив позы и положение зверушек, он делал снимок. Потом опять продвигал их на волосок — и фотографировал. Этот кропотливый труд продолжался часы, дни, месяцы. И вот теперь восемьсот футов отснятого материала — а именно таков был скромный результат — будут просмотрены за считанные минуты.
«Смотри-ка, они живут, они двигаются», — радовался Тервиллиджер. Он никак не мог привыкнуть, что на экране его создания совсем как живые!
Кусочки пористой резины и латекса, глина, стальные детальки, стеклянные глаза, каменные клыки — и все это вдруг превращается в хищное зверье, терроризирующее континенты, царящее в джунглях задолго до появления человека, миллиард лет назад! Эти чудища дышат. Эти чудища сотрясают воздух своими громовыми голосами. Какое сверхъестественное преображение!
«Пусть это и нескромно, — думал Тервиллиджер, — но вот он — мой райский сад, и вот они — мои гады земные, о коих могу сказать в конце Шестого дня, что они хороши, и назавтра, в день Седьмой, почить от дел своих».
— Господи! — повторил в темноте тот же восхищенный голос.
Тервиллиджер, войдя в роль Творца, чуть было не отозвался: «Да, я слушаю».
— Замечательный материал, мистер Клеренс, — продолжил дружественный голос.
— Возможно-возможно, — отозвался гнусавый мальчишечий голосок.
— Мультипликация высшего класса.
— Видал я и получше, — сказал Клеренс Великий. Тервиллиджер так и обмер. Кровавая бойня в джунглях из папье-маше продолжалась, но он теперь отвернулся от экрана, чтобы посмотреть на зрителей. Впервые он мог толком разглядеть своих предполагаемых работодателей.
— Восхитительный материал!
Похвала исходила от пожилого человека, сидевшего в дальнем конце небольшого зала. Его голова была высоко запрокинута, и он наблюдал за доисторической драмой с несомненным увлечением.
— Фигуры двигаются толчками. Посмотрите вон на того! — Странный мужчина с фигурой мальчика даже привстал, показывая что-то кончиком сигареты, торчащей изо рта. — А вот еще никчемный кадр. Вы обратили внимание?
— Да, — как-то сразу сник пожилой союзник Тервиллиджера. И даже съехал пониже в своем кресле. — Я заметил.
У Тервиллиджера кровь застучала в висках.
— Толчками двигаются, — повторил Джо Клеренс. Белый экран, мелькнули цифры — и все. Музыка закончилась, монстры пропали.
— Уф, слава Богу, — раздался в темноте голосок Джо Клеренса. — А то время ленча уже на носу. Уолтер, давай следующий ролик! Спасибо, Тервиллиджер, вы свободны. — Молчание. — Тервиллиджер! — Опять молчание. — Кто-нибудь скажет, этот оболтус еще в зале?
— Я здесь, — отозвался Тервиллиджер. Его руки, висящие у бедер, сжались в кулаки.
— Ага, — протянул Джо Клеренс. — Знаете, неплохая работа. Однако на большие деньги не рассчитывайте. Вчера здесь перебывала дюжина ребят, и они показывали материалы не хуже вашего, а то и получше. У нас конкурс для нового фильма под названием «Доисторический монстр». Оставьте моей секретарше конверт с вашими условиями. Выход через ту же дверь, через которую вы вошли. Уолтер, что ты там копаешься? Давай следующий ролик!
Тервиллиджер двинулся к выходу, то и дело натыкаясь в темноте на стулья. Нащупав ручку двери, он вцепился в нее мертвой хваткой.
А за его спиной экран взорвался: землетрясение рушило здания, сыпало на головы жителей горные валуны, обрушивало и уносило мосты. Среди этого грохота ему вспомнился диалог недельной давности:
— Мы заплатим вам тысячу долларов, Тервиллиджер.
— Да вы что! Одно оборудование обойдется мне в эту сумму!
— Послушайте, мы даем вам шанс войти в кинобизнес. Или вы соглашаетесь, или увы и ах.
На экране рушились здания, а в нем самом — надежды. Он уже понял, что согласится. И возненавидит себя за это согласие.
Лишь когда на экране все дорушилось и отгрохотало, в Тервиллиджере отбурлила ярость и решение стало окончательным. Он толкнул от себя многотонную дверь и вышел в слепящий солнечный свет.
Насадим на гибкие сочленения шеи череп, натянем на него матерчатую морду, приладим на шарнирчиках нижнюю челюсть, замаскируем швы — и наш красавец готов. Tyrannosaurus Rex. Царь тираннозавров. Тиран доисторических джунглей.
Руки Творца, омытые светом «юпитера», нежно опустили монстра в миниатюрные джунгли, занимающие половину небольшой студии.
Сзади кто-то грубым толчком распахнул дверь.
В студию влетел крохотный Джо Клеренс — один хуже ватаги бойскаутов. Быстрым и цепким взглядом он обежал все помещение, и его лицо перекосилось.
— Черт побери! У вас еще ничего толком не готово? Мои денежки за аренду утекают зря!
— Если я закончу раньше срока, — сухо возразил Тервиллиджер, — вы мне лишних денег не заплатите. А дело пострадает.
Джо Клеренс мелкими шажками бегал от одного конца макета к другому.
— Ладно, не спешите, но поторапливайтесь. И сделайте этих ящеров действительно ужасными!
Тервиллиджер стоял на коленях у края джунглей из папье-маше, поэтому его глаза были на одном уровне с глазами босса.
— Сколько футов крови и ужаса вы желаете? — спросил он Клеренса.
Тот хищно хохотнул:
— О-о, по две тысячи футов каждого!.. А это у нас кто? Он шустро схватил самого крупного и самого страшного динозавра и поднес его поближе к своим глазам.
— Поосторожнее!
— Что вы так паникуете, — огрызнулся Клеренс, ворочая хрупкую игрушку в своих неловких и равнодушных ручонках. — Мой динозавр — что хочу, то и делаю. В контракте огово…
— В контракте черным по белому сказано, что вы имеете право использовать моих ящеров для рекламных роликов до завершения съемок, а затем куклы остаются в моей полной собственности.
— Размечтались! — Размахивая динозавром, Клеренс фыркнул и сказал: — Не знаю, какой дурак вписал в контракт такой пункт. Когда мы подписывали его четыре дня назад…
— А мне кажется, что не четыре дня назад, а четыре года. — Тервиллиджер потер воспаленные глаза. — Я две ночи провел без сна, заканчивая этого зверюгу, чтобы мы могли приступить к съемке.
Клеренс прервал его нетерпеливым жестом:
— К чертям собачьим контракт. Плевал я на юридические штучки. Эта зверюга моя. Вы с вашим агентом доведете меня до инфаркта. То вам нужен больший гонорар, то лучшее финансирование, то более дорогое оборудование…
— Камера, что вы мне дали, сущий антиквариат.
— Не говорите мне, если она сломается. У вас есть руки, чтобы починить. Когда на фильм тратится мало денег, люди лучше работают — они начинают шевелить мозгами, а не уповать на технику. Что же касается этого страшилища, — Клеренс опять тряхнул динозавром в своей руке, — то это мое детище. И зря это не прописано в чертовом контракте.
— Простите, я никому не отдаю созданные мной вещи. — Тервиллиджер прямодушно стоял на своем. — Слишком много времени и души я в них вкладываю.
— Хорошо-хорошо. Мы накинем вам пятьдесят долларов плюс забирайте после съемок эту камеру с причиндалами. Но зверюга останется мне. Ведь с этой аппаратурой вы можете открыть собственную студию и конкурировать со мной — утереть мне нос, используя мою же технику! — Клеренс хихикнул.
— Если ваша техника до той поры не развалится, — пробормотал Тервиллиджер.
— И вот еще что. — Поставив ящера на пол, Клеренс обежал его кругом, приглядываясь с разных сторон. — Мне не нравится его натура.
— Вам не нравится что? — Тервиллиджер с трудом сохранил вежливый тон.
— Вялая морда. Нужно добавить больше огня в глаза, больше… Ну, чтоб сразу было видно, что это крутой парень, что ему пальца в пасть не клади… И добавьте ему понта.
— Чего-чего?
— Ну, типа «Кто тут на меня? Пасть порву!» Глаза покрупнее. Ноздри с выгибцем. Зубы с искрой. Язык лопатой. Да что мне вам объяснять — вы же мастер. Зверюга не моя, а ваша — вам и карты в руки.
— Моя, — с готовностью согласился Тервиллиджер, поднимаясь с пола.
Теперь на уровне глаз Джо Клеренса оказалась металлическая пряжка его ремня. Несколько секунд продюсер, словно загипнотизированный, таращился на блестящую железку.
— Черт бы побрал этих чертовых юристов, — наконец бормотнул он и засеменил к двери, бросив через плечо: — Трудитесь!
Дверь за ним захлопнулась, и в ту же секунду об нее шмякнулся тираннозавр.
Рука, запустившая любимым детищем в дверь, бессильно упала. Плечи Тервиллиджера поникли. Он добрел до двери, подобрал куклу и прошел к рабочему столу. Там он отвернул тираннозавру голову, стащил с черепа матерчатую маску и поставил череп на полку. Потом размял кусок глины и принялся лепить новый вариант морды.
— Побольше крутизны, — яростно бормотал Тервиллиджер, — побольше понта…
Неделей позже состоялся первый просмотр материала с участием главного героя — тираннозавра.
Когда короткий ролик закончился, Клеренс одобрительно закивал в сумраке просмотрового зала.
— Уже лучше. Но… Надо бы пострашнее. Чтобы от него кровь в жилах застывала. Пусть зрительницы в зале визжат и падают в обморок. Итак, начнем с нуля еще разок.
— Но теперь я на неделю отстаю от графика, — запротестовал Тервиллиджер. — Вы то и дело прибегаете — велите поменять то одно, то другое. И я меняю. Сегодня хвост, завтра лапы…
— Наступит день, когда мне будет не к чему придраться, — сказал Клеренс. — Но для этого надо попотеть. Итак, к рабочему столу — и разогрейте как следует свою фантазию.
В конце месяца состоялся второй просмотр.
— Уже почти то, Тервиллиджер! Вот-вот будет то! — констатировал Клеренс. — Морда близка к идеалу. Однако надо попробовать еще разок.
Тервиллиджер поплелся обратно к рабочему столу. Теперь его динозавр ругался в кадре последними словами. У того, кто умеет читать по губам, могли бы волосы встать дыбом, приди ему в голову пристально следить за ртом тираннозавра. Однако обычная публика, обманутая звуковой дорожкой, услышит только рев и рык. А в одну из бессонных ночей Тервиллиджер внес дополнительные изменения в физиономию зверя.
На следующий день в просмотровом зале Клеренс едва ли не прыгал от радости:
— В самую точку! Великолепно! Теперь я вижу перед собой настоящего монстра. Бр-р! Какая мерзость!
С сияющим выражением лица он повернулся к своему юристу, мистеру Глассу, и своему ассистенту, Мори Пулу.
— Как вам нравится моя зверушка? Тервиллиджер, набычившийся в последнем ряду, такой же ширококостный, как и созданный им ящер, заметил, как пожилой законник передернул плечами.
— Все страшилища одинаковые.
— Ты прав, Гласс. Но это особенное страшилище, — радостно гундосил Клеренс. — Даже я готов признать, что наш Тервиллиджер — настоящий гений!
Затем все сосредоточились на экране, где в чудовищном вальсе кружил по поляне исполинский ящер, кося своим острым, как бритва, хвостом траву и вытаптывая цветы. В какой-то момент зверь успокоился и на крупном плане задумчиво уставился в туман, грызя окровавленный кусок ящера помельче.
— Этот монстр мне кого-то напоминает, — заметил мистер Гласс, напряженно щурясь на экран.
— Кого-то напоминает? — весь напрягся Тервиллиджер.
— У зверюги такое выражение… — задумчиво сказал мистер Гласс. — Где-то я подобное видел.
— Быть может, в музее естественной истории?
— Нет-нет.
— Гласс, — хохотнул Клеренс, — вы наверняка читали книжки с картинками про динозавров. Вот и застряло в памяти.
— Странно… — Не смущенный репликой шефа, Гласс спетушил голову набок и прикрыл один глаз. — Я как детектив — никогда лица не забываю. И с этим тираннозавром я где-то определенно встречался.
— Да плевать! — гаркнул Клеренс. — Зверь получился на славу. Всем монстрам монстр. А все потому, что я постоянно стоял у Тервиллиджера над душой и помогал советами. Идемте, Мори.
Когда за продюсером закрылась дверь, мистер Гласс пристально посмотрел на Тервиллиджера. Не сводя с него глаз, он крикнул в будку механика:
— Уолт! Уолтер! Пожалуйста, крутани пленку еще раз.
— Как скажете.
Во время нового просмотра Тервиллиджер беспокойно ерзал в кресле. Он чувствовал сгущающуюся в зале тревогу. Ужасы в доисторических лесах казались ему детской игрой по сравнению с опасностями, которые поджидают его в стенах этой студии.
— Да-да, совершенно точно, — рассуждал вслух мистер Гласс, — я точно помню его, прямо перед глазами стоит… Но кто?
Гигантский хищник развернулся в сторону камеры и, словно собираясь ответить на вопрос юриста, глянул сквозь миллиард лет на двух людишек, прячущихся в темной комнате. Тираннозавр открыл пасть, будто хотел представиться, но вместо этого сотряс джунгли бессмысленным ревом.
Когда через десять недель черновой вариант фильма был готов, Клеренс собрал в просмотровом зале человек тридцать — управленцы, техперсонал и несколько друзей продюсера.
Примерно на пятнадцатой минуте фильма по залу вдруг прокатилось что-то вроде общего удивленного вздоха.
Клеренс озадаченно завертел головой. Сидящий рядом с ним мистер Гласс вдруг выпрямился и окаменел.
Тервиллиджер с самого начала просмотра нутром почуял опасность, встал, прокрался к выходу и остался там, почти распластавшись по стене. Он понятия не имел, чего именно он боится. Просто напряженные нервы подсказывали, что лучше быть поближе от двери.
Вскоре зрители снова хором ахнули.
А кто-то, вопреки кровавым ужасам на экране, вдруг хихикнул. Какая-то секретарша. Затем воцарилась гробовая тишина.
Потому что Джо Клеренс вскочил на ноги.
Маленькая фигурка пробежала к экрану и рассекла его надвое своей тенью. На протяжении нескольких мгновений два существа мельтешили в темноте — тираннозавр на экране грузно метался, разрывая зубами птерадона, а рядом Клеренс размахивал руками и топал ногами, будто хотел включиться в доисторическую схватку.
— Остановите пленку! Тираннозавр на экране застыл.
— В чем дело? — спросил мистер Гласс.
— Это вы меня спрашиваете, в чем дело?
Клеренс подскочил вплотную к экрану и маленькой ручкой стал тыкать тираннозавру в челюсть, в глаза, в клыки, в лоб. Потом он развернулся лицом к залу и, ослепленный светом проектора, прикрыл глаза. На его щечках отражалась шкура рептилии.
— Это что такое? Я вас спрашиваю, это что такое? — провизжал он.
— Динозавр, шеф. Очень крупный.
— Динозавр! — передразнил Клеренс и злобно шлепнул кулаком по экрану. — Черта с два! Это я!
Одни зрители озадаченно подались вперед, другие с улыбками откинулись на спинки кресел. Двое вскочили. Один из вскочивших был мистер Гласс. Он нащупал в кармане вторые, более сильные очки, посмотрел на экран и простонал:
— Боже, так вот где я его видел!
— Что вы хотите сказать? — заверещал Клеренс. Мистер Гласс затряс головой и закатил глаза:
— Я же говорил, что это лицо мне знакомо! По комнате прошел ветерок.
Все взгляды устремились в сторону выхода. Дверь была открыта.
Тервиллиджера и след простыл.
Тервиллиджера нашли в его студии — он проворно собирал свои вещи в большой картонный ящик. Тираннозавр торчал у него под мышкой.
Когда толпа с Клеренсом во главе ввалилась в студию, Тервиллиджер затравленно оглянулся.
Продюсер заорал с порога:
— Чем я заслужил такое?
— Я прошу прощения, мистер Клеренс.
— Он просит прощения! Разве я вам плохо платил?
— Да не то чтобы хорошо.
— Я приглашал вас на ленчи…
— Только однажды. И счет за двоих оплатил я.
— Вы ужинали в моем доме, вы плавали в моем бассейне. И вот ваша благодарность?.. Вы уволены! Вон отсюда!
— Вы не можете уволить меня, мистер Клеренс. Последнюю неделю я работаю за так — вы забыли выдать мне чек…
— Плевать! Вы уволены в любом случае. Вы уволены решительно и окончательно. Ни одна студия в Голливуде вас не примет! Уж я об этом позабочусь! Мистер Гласс! — Клеренс обернулся в поисках юриста. — Мы завтра же возбуждаем судебный процесс против этой змеи, которую я пригрел на своей груди!
— А что вы можете у меня отсудить? — возразил Тервиллиджер. Ни на кого не поднимая глаз, он сновал по студии, собирая в ящик остаток своих вещей. — Что можно у меня отнять? Деньги? Вы мне платили не так много, чтобы я что-то откладывал. Дом? Никогда не мог позволить себе. Жену? Я всю жизнь работал на людей вроде вас и, стало быть, содержать жену не имел возможности. Я все свое ношу с собой. Вы меня ни с какого конца не прищучите. Если отнимете моих динозавров — ладно, я укачу в какой-нибудь городок в глуши, разживусь там банкой латекса, ведром глины и дюжиной стальных трубок и создам новых рептилий. Пленку я куплю дешевую и оптом. Моя старенькая камера всегда при мне. Времени уйдет больше, но я своего добьюсь. Руки у меня, слава Богу, золотые. Так что вам меня не уесть.
— Вы уволены! — заорал Клеренс. — Не прячьте глаза! Вы уволены! Ко всем чертям уволены!
— Мистер Клеренс, — негромко вмешался мистер Гласс, выступая вперед из группы сотрудников, — позвольте мне переговорить с Тервиллиджером наедине.
— Беседуйте с ним хоть до конца света! — злобно прогнусавил Клеренс. — Какой теперь в этом прок? Вот он, стоит и в ус не дует, а под мышкой у него страшилище, как две капли воды похожее на меня. Прочь с дороги!
Клеренс пулей вылетел из студии. За ним вышла и свита.
Мистер Гласс прикрыл дверь и прошел через комнату к окну. Выглянув в окно, какое-то время смотрел на чистое, без единого облачка небо.
— Дождь сейчас был бы очень кстати, — сказал он. — Одного я терпеть не могу в Калифорнии — здесь не бывает хорошего дождя, со свистопляской. А сейчас бы и просто капля с неба не помешала.
Он замолчал. Тервиллиджер замедлил свои лихорадочные сборы. Мистер Гласс опустился в кресло у стола, достал блокнот и карандаш и заговорил — негромко и с грустью в голосе, как будто говорил сам с собой.
— Итак, посмотрим, что мы имеем. Использовано шесть роликов пленки высшего качества, сделана половина фильма и три тысячи долларов пошли коту под хвост. Рабочая группа картины без работы — зубы на полку. Акционеры топают ногами и требуют компенсации. Банк по головке не погладит. Очередь людей сыграть в русскую рулетку.
Он поднял глаза на Тервиллиджера, который защелкивал замки своего портфеля.
— Зачем вы это сотворили, господин Творец? Тервиллиджер потупил глаза на свои провинившиеся руки:
— Клянусь вам, я сам не ведал, что творю. Работали только пальцы. Это детище подсознания. Я не нарочно — руки работали сами по себе.
— Лучше бы ваши руки пришли в мой офис и сразу задушили меня, — сказал мистер Гласс. — Хотя бы не мучился! Я боялся умереть в автокатастрофе. Но никогда не предполагал, что погибну под пятой резинового монстра. Ребята из съемочной группы теперь как спелые помидоры на дороге у слона.
— Мне и без того тошно, — сказал Тервиллиджер. — Не втирайте соль в рану.
— А чего вы от меня ждете? Чтоб я пригласил вас развеяться в танцевальный зал?
— Он получил по заслугам! — вскричал Тервиллиджер. — Он меня доставал. «Сделай так. Сделай сяк. Исправь тут. Выверни наизнанку здесь!..» А мне только и оставалось — молча исходить желчью. Я был на пределе ярости двадцать четыре часа в сутки. И бессознательно стал вносить вполне определенные изменения в рожу динозавра. Но еще за секунду до того, как мистер Клеренс начал бесноваться, мне и в голову не приходило, что именно я создал. Разумеется, я виноват и целиком несу груз ответственности.
— Не целиком, — возразил мистер Гласс. — У нас ведь тоже глаза не на затылке. Мы обязаны были заметить. А может, заметили, но признаться себе не посмели. Возможно, по ночам во сне мы довольно хохотали, а утром ничего не помнили. Ладно, подведем итоги. Мистер Клеренс вложил немалые деньги и не хотел бы их потерять. Вы вложили талант и не хотели бы пустить по ветру свое будущее. В данный момент мистер Клеренс расцеловал бы любого, кто докажет ему, что случившееся — просто страшный сон. Его ярость на девяносто процентов вызвана тем, что фильм из-за досадной глупости не выйдет на экраны — и тогда плакали его денежки. Если вы уделите несколько минут своего драгоценного времени на то, чтобы убедить мистера Клеренса в том, что я вам сейчас изложу, съемочной группе завтра не нужно будет листать «Варьете» и «Голливудский репортер» в поисках работы. Не будет вдов и сирот, и все уладится наилучшим образом. Вам нужно сказать ему…
— Сказать мне что?
Это произнес знакомый тоненький голос. Клеренс стоял в дверях — все еще багровый от бешенства.
— То же, что он минуту назад говорил мне, — хладнокровно отозвался мистер Гласс. — Весьма трогательная история.
— Я весь внимание! — пролаял Клеренс.
— Мистер Клеренс, — начал бывалый юрист, взвешивая каждое слово, — своим фильмом мистер Тервиллиджер хотел выразить свое восхищение вами. Воздать вам должное.
— Что-что? — возопил Клеренс.
Похоже, от удивления челюсти отвисли разом у обоих — и у Клеренса, и у Тервиллиджера.
Старый законник, все так же глядя на стену перед собой, скромно осведомился:
— Следует ли мне продолжать, Тервиллиджер? Мультипликатор проглотил удивление и сказал:
— Да, если вам угодно.
— Так вот, — мистер Гласс встал и величаво указал в сторону просмотрового зала, — увиденный вами фильм сделан с чувством глубочайшего уважения и дружеского расположения к вам, мистер Клеренс. Вы денно и нощно трудитесь на ниве кинематографа, оставаясь невидимым героем киноиндустрии. Неведомый широкой публике, вы трудитесь как пчелка, а кому достаются лавры? Режиссерам. Звездам. Как часто какой-нибудь простой человек из глубинки говорит своей женушке: «Милая, я тут вечером думал о Джо Клеренсе — великий продюсер, не правда ли?» Как часто? Да никогда, если смотреть правде в глаза. Тервиллиджер этот факт осознал. И его мозг включился в работу. «Как познакомить мир с таким явлением, как подлинный Джо Клеренс?» — вот какой вопрос задавал себе снова и снова наш друг. И вот его взгляд упал на динозавра, стоявшего на рабочем столе. Хлоп! И на Тервиллиджера снизошло! «Вот оно, — подумал он, — вот передо мной олицетворенный ужас мира, вот существо одинокое, гордое, могучее, с хитрым умом хищника, символ независимости и знамя демократии — благодаря доведенному до предела индивидуализму». Словом, гром и молния, одетые в панцирь. Тираннозавр — тот же Джо Клеренс. Джо Клеренс — тот же тираннозавр. Деспот доисторических лесов — и великий голливудский магнат. Какая восхитительная параллель!
Мистер Гласс опустился на стул. Он даже не запыхался после столь вдохновенной и долгой речи. Тервиллиджер помалкивал.
Клеренс молча прогулялся по комнате, медленно обошел по кругу мистера Гласса. Прежде багровое лицо продюсера было теперь скорее бледным. Наконец Клеренс остановился напротив Тервиллиджера.
Его глазки беспокойно бегали по долговязой фигуре режиссера.
— Так вы это рассказали Глассу? — спросил он слабым голоском.
Кадык на шее Тервиллиджера прогулялся вверх-вниз.
— У него хватило духу только со мной поделиться, — объяснил мистер Гласс. — Застенчивый парень. Все его беды — от застенчивости. Вы же сами видели — он такой неразговорчивый, такой безответный. Ни разу не огрызнется, все держит в себе. А в глубине души любит людей, только сказать стесняется. У замкнутого художника один способ выразить свою любовь — увековечить в образе. Тут он владыка!
— Увековечить? — недоверчиво переспросил Клеренс.
— Вот именно! — воскликнул старик-юрист. — Этот тираннозавр — все равно что статуя на площади. Только ваш памятник передвижной — бегает по экрану. Пройдут годы, а люди все еще будут говорить друг другу: «Помните фильм "Монстр эпохи плейстоцена"? Там был потрясающий монстр, настоящий зверь — к тому же недюжинный характер, любопытная индивидуальность, горячая и независимая натура. За всю историю Голливуда никто не создал лучшего чудовища. А все почему? Потому что при создании чудища один гениальный режиссер имел достаточно ума и воображения опереться на черты характера реального человека — крутого и сметливого бизнесмена, великого магната киноиндустрии». Вот как будут говорить люди. Мистер Клеренс, вы входите в историю. В фильмотеках будут спрашивать фильм про вас. Клуб любителей кино — приглашать на встречи со зрителями. Какая бешеная удача! Увы, с Иммануилом Глассом, заурядным юристом, подобной феерии произойти не может. Короче говоря, на протяжении следующих двухсот или даже пятисот лет ежедневно где-нибудь да будет идти фильм, в котором главная звезда — вы, Джо Клеренс.
— Еже… ежедневно? — мечтательно произнес Клеренс. — На протяжении следующих…
— Восьмисот лет. А почему бы и нет!
— Никогда не смотрел на это под таким углом.
— Ну так посмотрите!
Клеренс подошел к окну, какое-то время молча таращился на голливудские холмы, затем энергично кивнул.
— Ах, Тервиллиджер, Тервиллиджер? — сказал он. — Неужели вы и впрямь до такой степени любите меня?
— Трудно словами выразить, — выдавил из себя Тервиллиджер.
— Я полагаю, мы просто обязаны доснять этот потрясающий фильм, — сказал мистер Гласс. — Ведь звездой этой картины является тиран джунглей, сотрясающий своим движением землю и обращающий в бегство все живое.
И этот безраздельный владыка, этот страх Господний, — не кто иной, как мистер Джозеф Клеренс.
— М-да, м-да… Верно! — Клеренс в волнении забегал по комнате. Потом рассеянно, походкой счастливого лунатика направился к двери, остановился на пороге и обернулся: — А ведь я, признаться, всю жизнь мечтал стать актером!
С этими словами он вышел — тихий, умиротворенный. Тервиллиджер и Гласс разом согнулись от беззвучного хохота.
— Страшилозавр! — сказал старик-юрист. А режиссер тем временем доставал из ящика письменного стола бутылку виски.
После премьерного показа «Монстра каменного века», ближе к полуночи, мистер Гласс вернулся на студию, где предстоял большой праздник. Тервиллиджер угрюмо сидел в одиночестве возле отслужившего макета джунглей. На коленях у него лежал тираннозавр.
— Как, вы не были на премьере? — ахнул мистер Гласс.
— Духу не хватило. Провал?
— С какой стати! Публика в восторге. Критики визжат. Прекрасней монстра еще никто не видал! Уже пошли разговоры о второй серии: «Джо Клеренс опять блистает в роли тираннозавра в фильме "Возвращение монстра каменного века"» — звучит! А потом можно снять третью серию — «Зверь со старого континента». И опять в роли тирана джунглей несравненный Джо Клеренс!..
Зазвонил телефон. Тервиллиджер снял трубку.
— Тервиллиджер, это Клеренс. Я буду на студии через пять минут. Мы победили! Ваш зверь великолепен! Надеюсь, уж теперь-то он мой? Я хочу сказать, к черту контракт и меркантильные расчеты. Я просто хочу иметь эту душку-игрушку на каминной доске в моем особняке!
— Мистер Клеренс, динозавр ваш.
— Боже! Это будет получше «Оскара». До встречи! Ошарашенный Тервиллиджер повесил трубку и доложил:
— Большой босс лопается от счастья. Хихикает как мальчишка, которому подарили первый в его жизни велосипед.
— И я, кажется, знаю причину, — кивнул мистер Гласс. — После премьеры к нему подбежала девочка и попросила автограф.
— Автограф?
— Да-да! Прямо на улице. И такая настойчивая! Сперва он отнекивался, а потом дал первый в своей жизни автограф. Слышали бы вы его довольный смешок, когда он подписывался! Кто-то узнал его на улице! «Глядите, идет тираннозавр собственной персоной!» И господин ящер с довольной ухмылкой берет в лапу ручку и выводит свою фамилию.
— Погодите, — промолвил Тервиллиджер, наливая два стакана виски, — откуда взялась такая догадливая девчушка?
— Моя племянница, — сказал мистер Гласс. — Но об этом ему лучше не знать. Ведь вы же не проболтаетесь?
Они выпили.
— Я буду нем как рыба, — заверил Тервиллиджер. Затем, подхватив резинового тираннозавра и бутылку виски, оба направились к воротам студии — поглядеть, как во всей красе, сверкая фарами и благовестя клаксонами, на вечеринку начнут съезжаться лимузины.
Каникулы
День был свежий — свежестью травы, что тянулась вверх, облаков, что плыли в небесах, бабочек, что опускались на траву. День был соткан из тишины, но она вовсе не была немой, ее создавали пчелы и цветы, суша и океан, все, что двигалось, порхало, трепетало, вздымалось и падало, подчиняясь своему течению времени, своему неповторимому ритму. Край был недвижим, и все двигалось. Море было неспокойно, и море молчало. Парадокс, сплошной парадокс, безмолвие срасталось с безмолвием, звук со звуком. Цветы качались, и пчелы маленькими каскадами золотого дождя падали на клевер. Волны холмов и волны океана, два рода движения, были разделены железной дорогой, пустынной, сложенной из ржавчины и стальной сердцевины, дорогой, по которой, сразу видно, много лет не ходили поезда. На тридцать миль к северу она тянулась, петляя, потом терялась в мглистых далях; на тридцать миль к югу пронизывала острова летучих теней, которые на глазах смещались и меняли свои очертания на склонах далеких гор. Неожиданно рельсы задрожали.
Сидя на путях, одинокий дрозд ощутил, как рождается мерное слабое биение, словно где-то, за много миль, забилось чье-то сердце.
Черный дрозд взмыл над морем.
Рельсы продолжали тихо дрожать, и наконец из-за поворота показалась и пошла вдоль по берегу небольшая дрезина, в великом безмолвии зафыркал и зарокотал двухцилиндровый мотор.
На этой маленькой четырехколесной дрезине, на обращенной в две стороны двойной скамейке, защищенные от солнца небольшим тентом, сидели мужчина, его жена и семилетний сынишка. Дрезина проходила один пустынный участок за другим, ветер бил в глаза и развевал волосы, но все трое не оборачивались и смотрели только вперед. Иногда, на выходе из поворота, они глядели нетерпеливо, иногда печально, и все время настороженно — что дальше?
На ровной прямой мотор вдруг закашлялся и смолк. В сокрушительной теперь тишине казалось — это покой, излучаемый морем, землей и небом, затормозил и пресек вращение колес.
— Бензин кончился.
Мужчина, вздохнув, достал из узкого багажника запасную канистру и начал переливать горючее в бак.
Его жена и сын тихо глядели на море, слушали приглушенный гром, шепот, слушали, как раздвигается могучий занавес из песка, гальки, зеленых водорослей, пены.
— Море красивое, правда? — сказала женщина.
— Мне нравится, — сказал мальчик.
— Может быть, заодно сделаем привал и поедим? Мужчина навел бинокль на зеленый полуостров вдали.
— Давайте. Рельсы сильно изъело ржавчиной. Впереди путь разрушен. Придется ждать, пока я исправлю.
— Сколько лопнуло рельсов, столько привалов! — сказал мальчик.
Женщина попыталась улыбнуться, потом перевела свои серьезные, пытливые глаза на мужчину:
— Сколько мы проехали сегодня?
— Неполных девяносто миль. — Мужчина все еще напряженно глядел в бинокль. — Больше, по-моему, и не стоит проходить в день. Когда гонишь, не успеваешь ничего увидеть. Послезавтра будем в Монтерее, на следующий день, если хочешь, в Пало Альто.
Женщина развязала ярко-желтые ленты широкополой соломенной шляпы, сняла ее с золотистых волос и, покрытая легкой испариной, отошла от машины. Они столько ехали без остановки на трясучей дрезине, что все тело пропиталось ее ровным ходом. Теперь, когда машина остановилась, было какое-то странное чувство, словно с них сейчас снимут оковы.
— Давайте есть!
Мальчик бегом отнес корзинку с припасами на берег.
Мать и сын уже сидели перед расстеленной скатертью, когда мужчина спустился к ним; на нем был строгий костюм с жилетом, галстук и шляпа, как будто он ожидал кого-то встретить в пути. Раздавая сандвичи и извлекая маринованные овощи из прохладных зеленых баночек, он понемногу отпускал галстук и расстегивал жилет, все время озираясь, словно готовый в любую секунду опять застегнуться на все пуговицы.
— Мы одни, папа? — спросил мальчик, не переставая жевать.
— Да.
— И больше никого, нигде?
— Больше никого.
— А прежде на свете были люди?
— Зачем ты все время спрашиваешь? Это было не так уж давно. Всего несколько месяцев. Ты и сам помнишь.
— Плохо помню. А когда нарочно стараюсь припомнить, и вовсе забываю. — Мальчик просеял между пальцами горсть песка. — Людей было столько, сколько песка тут на пляже? А что с ними случилось?
— Не знаю, — ответил мужчина, и это была правда.
В одно прекрасное утро они проснулись и мир был пуст. Висела бельевая веревка соседей, и ветер трепал ослепительно белые рубашки, как всегда поутру, блестели машины перед коттеджами, но не было слышно ничьего «до свиданья», не гудели уличным движением мощные артерии города, телефоны не вздрагивали от собственного звонка, не кричали дети в чаще подсолнечника.
Лишь накануне вечером он сидел с женой на террасе, когда принесли вечернюю газету, и, даже не развертывая ее, не глядя на заголовки, сказал:
— Интересно, когда мы ему осточертеем и он всех нас выметет вон?
— Да, до чего дошло, — подхватила она. — И не остановишь, как же мы глупы, правда?
— А замечательно было бы… — Он раскурил свою трубку. — Проснуться завтра, и во всем мире ни души, начинай все сначала!
Он сидел и курил, в руке сложенная газета, голова откинута на спинку кресла.
— Если бы можно было сейчас нажать такую кнопку, ты бы нажал?
— Наверно, да, — ответил он. — Без насилия. Просто все исчезнет с лица земли. Оставить землю и море, и все, что растет, — цветы, траву, плодовые деревья. И животные тоже пусть остаются. Все оставить, кроме человека, который охотится, когда не голоден, ест, когда сыт, жесток, хотя его никто не задевает.
— Но мы-то должны остаться. — Она тихо улыбнулась.
— Хорошо было бы. — Он задумался. — Впереди — сколько угодно времени. Самые длинные каникулы в истории. И мы с корзиной припасов, и самый долгий пикник. Только ты, я и Джим. Никаких сезонных билетов. Не нужно тянуться за Джонсами. Даже автомашины не надо. Придумать какой-нибудь другой способ путешествовать, старинный способ. Взять корзину с сандвичами, три бутылки шипучки, дальше, как понадобится, пополнять запасы в безлюдных магазинах в безлюдных городах, и впереди нескончаемое лето…
Долго они сидели молча на террасе, их разделяла свернутая газета.
Наконец она сказала:
— А нам не будет одиноко?
Вот каким было утро нового мира. Они проснулись и услышали мягкие звуки земли, которая теперь была просто-напросто лугом, города тонули в море травы-муравы, ноготков, маргариток, вьюнков. Сперва они приняли это удивительно спокойно, должно быть, потому, что уже столько лет не любили город, и позади было столько мнимых друзей, и была замкнутая жизнь в уединении, в механизированном улье.
Муж встал с кровати, выглянул в окно и спокойно, словно речь шла о погоде, заметил:
— Все исчезли.
Он понял это по звукам, которых город больше не издавал.
Они завтракали не торопясь, потому что мальчик еще спал, потом муж выпрямился и сказал:
— Теперь мне надо придумать, что делать.
— Что делать? Как… разве ты не пойдешь на работу?
— Ты все еще не веришь, да? — Он засмеялся. — Не веришь, что я не буду каждый день выскакивать из дому в десять минут девятого, что Джиму больше никогда не надо ходить в школу. Всё, занятия кончились, для всех нас кончились! Больше никаких карандашей, никаких книг и кислых взглядов босса! Нас отпустили, милая, и мы никогда не вернемся к этой дурацкой, проклятой, нудной рутине. Пошли!
И он повел ее по пустым и безмолвным улицам города.
— Они не умерли, — сказал он. — Просто… ушли.
— А другие города?
Он зашел в телефонную будку, набрал номер Чикаго, потом Нью-Йорка, потом Сан-Франциско. Молчание. Молчание. Молчание.
— Все, — сказал он, вешая трубку.
— Я чувствую себя виноватой, — сказала она. — Их нет, а мы остались. И… я радуюсь. Почему? Ведь я должна горевать.
— Должна? Никакой трагедии нет. Их не пытали, не жгли, не мучали. Они исчезли и не почувствовали этого, не узнали. И теперь мы ни перед кем не обязаны. У нас одна обязанность — быть счастливыми. Тридцать лет счастья впереди, разве плохо?
— Но… но тогда нам нужно заводить еще детей!
— Чтобы снова населить мир? — Он медленно, спокойно покачал головой. — Нет. Пусть Джим будет последним. Когда он состарится и умрет, пусть мир принадлежит лошадям и коровам, бурундукам и паукам. Они без нас не пропадут. А потом когда-нибудь другой род, умеющий сочетать естественное счастье с естественным любопытством, построит города, совсем не такие, как наши, и будет жить дальше. А сейчас уложим корзину, разбудим Джима и начнем наши тридцатилетние каникулы. Ну, кто первым добежит до дома?
Он взял с маленькой дрезины кувалду, и, пока он полчаса один исправлял ржавые рельсы, женщина и мальчик побежали вдоль берега. Они вернулись с горстью влажных ракушек и чудесными розовыми камешками, сели, и мать стала учить сына, и он писал карандашом в блокноте домашнее задание, а в полдень к ним спустился с насыпи отец, без пиджака, без галстука, и они пили апельсиновую шипучку, глядя, как в бутылках, теснясь, рвутся вверх пузырьки. Стояла тишина. Они слушали, как солнце настраивает старые железные рельсы. Соленый ветер разносил запах горячего дегтя от шпал, и мужчина легонько постукивал пальцем по своему карманному атласу.
— Через месяц, в мае, доберемся до Сакраменто, оттуда двинемся в Сиэтл. Пробудем там до первого июля, июль хороший месяц в Вашингтоне, потом, как станет холоднее, обратно, в Йеллоустон, несколько миль в день, здесь поохотимся, там порыбачим…
Мальчику стало скучно, он отошел к самой воде и бросал палки в море, потом сам же бегал за ними, изображая ученую собаку.
Отец продолжал:
— Зимуем в Таксоне, в самом конце зимы едем во Флориду, весной — вдоль побережья, в июне попадем, скажем, в Нью-Йорк. Через два года лето проводим в Чикаго. Через три года — как ты насчет того, чтобы провести зиму в Мехико-Сити? Куда рельсы приведут, куда угодно, и если нападем на совсем неизвестную старую ветку — превосходно, поедем по ней до конца, посмотрим, куда она ведет. Когда-нибудь, честное слово, пойдем на лодке вниз по Миссисипи, я об этом давно мечтал. На всю жизнь хватит, не маршрут — находка…
Он смолк. Он хотел уже захлопнуть атлас неловкими руками, но что-то светлое мелькнуло в воздухе и упало на бумагу. Скатилось на песок и получился мокрый комочек.
Жена глянула на влажное пятнышко и сразу перевела взгляд на его лицо. Серьезные глаза его подозрительно блестели. И по одной щеке тянулась влажная дорожка.
Она ахнула. Взяла его руку и крепко сжала.
Он стиснул ее руку и, закрыв глаза, через силу заговорил:
— Хорошо, правда, если бы мы вечером легли спать, а ночью все каким-то образом вернулось на свои места. Все нелепости, шум и гам, ненависть, все ужасы, все кошмары, злые люди и бестолковые дети, вся эта катавасия, мелочность, суета, все надежды, чаяния и любовь. Правда, было бы хорошо?
Она подумала, потом кивнула. И тут оба вздрогнули.
Потому что между ними (когда он пришел?), держа в руке бутылку из-под шипучки, стоял их сын.
Лицо мальчика было бледно. Свободной рукой он коснулся щеки отца, там, где оставила след слезинка.
— Ты… — сказал он и вздохнул. — Ты… Папа, тебе тоже не с кем играть.
Жена хотела что-то сказать. Муж хотел взять руку мальчика. Мальчик отскочил назад.
— Дураки! Дураки! Глупые дураки! Болваны вы, болваны!
Сорвался с места, сбежал к морю и, стоя у воды, залился слезами.
Мать хотела пойти за ним, но отец ее удержал:
— Не надо. Оставь его.
Тут же оба оцепенели. Потому что мальчик на берегу, не переставая плакать, что-то написал на клочке бумаги, сунул клочок в бутылку, закупорил ее железным колпачком, взял покрепче, размахнулся — и бутылка, описав крутую блестящую дугу, упала в море.
Что, думала она, что он написал на бумажке? Что там, в бутылке?
Бутылка плыла по волнам.
Мальчик перестал плакать.
Потом он отошел от воды и остановился около родителей, глядя на них, лицо ни просветлевшее, ни мрачное, ни живое, ни убитое, ни решительное, ни отрешенное, а какая-то причудливая смесь, словно он примирился со временем, стихиями и этими людьми. Они смотрели на него, смотрели дальше, на залив и затерявшуюся в волнах светлую искорку — бутылку, в которой лежал клочок бумаги с каракулями.
«Он написал наше желание? — думала женщина. — Написал то, о чем мы сейчас говорили, нашу мечту?
Или написал что-то свое, пожелал для себя одного, чтобы проснуться завтра утром — и он один в безлюдном мире, больше никого, ни мужчины, ни женщины, ни отца, ни матери, никаких глупых взрослых с их глупыми желаниями, подошел к рельсам и сам, в одиночку, повел дрезину через одичавший материк, один отправился в нескончаемое путешествие, и где захотел — там и привал.
Это или не это?
Наше или свое?..»
Она долго глядела в его лишенные выражения глаза, но не прочла ответа, а спросить не решилась.
Тени чаек парили в воздухе, осеняя их лица мимолетной прохладой.
— Пора ехать, — сказал кто-то.
Они поставили корзину на платформу. Женщина покрепче привязала шляпу к волосам желтой лентой, ракушки сложили кучкой на доски, муж надел галстук, жилет, пиджак и шляпу, и все трое сели на скамейку, глядя в море — там, далеко, у самого горизонта, поблескивала бутылка с запиской.
— Если попросить — исполнится? — спросил мальчик. — Если загадать — сбудется?
— Иногда сбывается… даже чересчур.
— Смотря чего ты просишь.
Мальчик кивнул, мысли его были далеко. Они посмотрели назад, откуда приехали, потом вперед, куда предстояло ехать.
— До свиданья, берег, — сказал мальчик и помахал рукой.
Дрезина покатила по ржавым рельсам. Ее гул затих и пропал. Вместе с ней вдали, среди холмов, пропали женщина, мужчина, мальчик.
Когда они скрылись, рельсы минуты две тихонько дребезжали, потом смолкли. Упала ржавая чешуйка. Кивнул цветок.
Море сильно шумело.
Барабанщик из Шайлоу
Не раз и не два в эту апрельскую ночь с цветущих плодовых деревьев падали лепестки и, шелестя, ложились на перепонку барабана. В полночь чудом провисевшая всю зиму на ветке персиковая косточка, задетая легким крылом птицы, упала стремительно, незримо вниз, ударила о барабан, и родилась волна испуга, от которой мальчик вскочил на ноги. Безмолвно он слушал, как сердце выбивает дробь в его ушах, потом стихает, удаляясь, возвращаясь на свое место в груди.
Он повернул барабан боком. Огромный лунный лик смотрел на него всякий раз, когда он открывал глаза.
Напряженное ли, спокойное — лицо мальчика оставалось серьезным. Серьезной для парнишки четырнадцати лет была и эта пора, и ночь среди персиковых садов у Совиного ручья, неподалеку от шайлоуской церкви. «…тридцать один, тридцать два, тридцать три…» Дальше не было видно, и он перестал считать. Тридцать три знакомых силуэта, а за ними, утомленные нервным ожиданием, неловко скорчились на земле сорок тысяч человек в мундирах и никак не могли уснуть от романтических грез о грядущих битвах. В какой-нибудь миле от них точно так же лежало другое войско, ворочаясь с боку на бок, кутаясь в мысль о том, что предстоит, когда настанет час: рывок, истошный крик, слепой бросок — вот и вся их стратегия, зеленая молодость — вся броня и защита. Снова и снова мальчик слышал, как рождается могучий ветер и воздух начинает трепетать. Но он знал, что это — войско здесь и там что-то шептали во тьме про себя. Кто-то говорит с товарищем, кто-то сам с собой, и вот — размеренный гул, словно неторопливый вал, вырастал то на севере, то на юге от вращения земли навстречу рассвету.
Что шепчут воины? Он мог только гадать. Наверно, вот что: «Уж я-то останусь живой, всех убьет, а меня не убьет. Я уцелею. Я вернусь домой. Будет играть оркестр. И я его услышу».
«Да, — думал мальчик, — им хорошо, они могут ответить ударом на удар!»
Ведь подле небрежно разбросанных костей молодых воинов, которыми ночь, черный косарь, связала снопы костров, вразброс лежали стальные кости — ружья. И примкнутые штыки, словно рассыпанные в садовой траве негасимые молнии.
«Не то что я, — думал мальчик. — У меня только барабан да две палочки к нему, и нет никакого щита».
Из лежащих здесь в эту ночь воинов-мальчиков у каждого был щит, который он сам, идя на первый бой, высек, склепал или выковал из горячей и стойкой преданности своей далекой семье, из окрыленного знаменами патриотизма и острой веры в собственное бессмертие, заточенной на оселке сугубо реального пороха, шомпола, литых пуль и кремня. А у барабанщика этих вещей не было, и он чувствовал, как его родные совсем исчезают где-то во мраке, словно их безвозвратно унес могучий, гудящий, огнедышащий поезд, и остался он один с этим барабаном, никчемной игрушкой в игре, что предстоит им завтра — или не завтра, но все равно слишком скоро. Мальчик повернулся на бок. Лица его коснулся мотылек — нет, персиковый лепесток. Потом его погладил лепесток — нет, мотылек. Все смешалось. Все потеряло имя. Все перестало быть тем, чем было когда-то.
Если на рассвете, когда солдаты наденут вместе с фуражками свою удаль, лежать совсем-совсем тихо, они, быть может, и война вместе с ними уйдут, не заметив его, — лежит такой маленький, сам все равно что игрушка.
— Вот так штука, это еще что такое? — произнес голос. Мальчик поспешил зажмуриться, хотел в самом себе спрятаться, но было поздно. Кто-то, проходя мимо в ночи, остановился возле него.
— Вот так так, — тихо продолжал голос, — солдат плачет перед боем. Ладно. Давай. Потом будет не до того.
Голос двинулся было дальше, но мальчик с испугу задел барабан локтем. От этого звука человек опять остановился.
Мальчик чувствовал его взгляд, чувствовал, как он медленно наклонился. Очевидно, из ночи вниз протянулась рука, так как барабан тихой дробью отозвался на касание ногтей, потом лицо мальчика овеяло чужое дыхание.
— Да это, кажется, наш барабанщик?
Мальчик кивнул, хоть был не уверен, виден ли его кивок.
— Сэр, это вы! — спросил он.
— Полагаю, что это я. — Хрустнули колени: человек наклонился еще ниже.
От него пахло так, как должно пахнуть от всех отцов, — соленым потом, золотистым табаком, конской кожей, землей, по которой он шел. У него было много глаз. Нет, не глаз, латунных пуговиц, пристально глядевших на мальчика.
Генерал — конечно, он, кто же еще.
— Как тебя звать, парень? — спросил он.
— Джоби, — прошептал мальчик, приподнимаясь, чтобы сесть.
— Ладно, Джоби, не вставай. — Рука мягко надавила на грудь мальчика, и он лег опять. — Давно ты с нами, Джоби?
— Три недели, сэр.
— Бежал из дому или записался к нам как положено? Молчание.
— Да, дурацкий вопрос, — сказал Генерал. — А бриться ты уже начал, парень? Тоже дурацкий вопрос. Вон у тебя какие щеки, будто на этом дереве зрели. Да и другие тут немногим старше тебя. Зеленые, эх, до чего вы все зеленые. Готов ты к завтрашнему или послезавтрашнему дню, Джоби?
— По-моему, да, сэр, готов.
— Ты давай поплачь еще, если хочется. Я сам прошлую ночь слезу пустил.
— Вы, сэр?
— Истинная правда. Как подумал обо всем, что предстоит. Обе стороны надеются, что противник первый уступит, совсем скоро уступит, неделька-другая — и войне конец, и разошлись по домам. Да только на деле-то будет не так. Потому я и плакал, наверно.
— Да, сэр, — сказал Джоби.
Генерал, должно быть, достал сигару, потому что мрак вдруг наполнился индейским запахом табака, который еще не зажгли, а только жевали, обдумывая дальнейшие слова.
— Это будет что-то несусветное, — заговорил опять Генерал. — Здесь, если считать обе стороны, собралось в эту ночь тысяч сто, может быть, чуть побольше или поменьше, и ни один толком стрелять не умеет, не отличит мортирного ядра от конского яблока. Встал, грудь раскрыл, пулю схватил, поблагодарил и садись. Вот какие вояки: что мы, что они. Нам бы сейчас — кру-гом! И четыре месяца обучаться. Им бы тоже так сделать. А то вот, полюбуйтесь на нас — весенний пыл в крови, а нам кажется — жажда крови, нам бы серу с патокой, а мы ее — в пушки, каждый думает стать героем и жить вечно. Вон они там, так и вижу, согласно кивают, только в другую сторону. Да, парень, неправильно все это, ненормально, как если бы повернули человеку голову наоборот и шагал бы он по жизни задом наперед. Так что быть двойному избиению, если кто-то из их егозливых генералов вздумает попасти своих ребят на нашей травке. Из чистого ухарства будет застрелено больше безгрешных юнцов, чем когда-либо прежде. Нынче в полдень Совиный ручей был полон ребят, которые плескались в воде на солнышке. Боюсь, как бы завтра на закате ручей опять не был полон телами, которые будут плыть по воле потока.
Генерал смолк и в темноте сложил кучку из сухих листьев и прутиков, будто собираясь сейчас подпалить их, чтобы видеть путь в грядущие дни, когда солнце, возможно, не захочет открыть свой лик, не желая смотреть на то, что будет делаться здесь и по соседству. Мальчик глядел, как рука ворошит листья, раскрыл было рот, собираясь что-то сказать, но не сказал. Генерал услышал дыхание мальчика и заговорил:
— Почему я тебе говорю все это? Ты об этом хотел спросить, да? Так вот, если у тебя табун диких лошадок, их надо каким-то способом обуздать, укротить. Эти парни, эти сосунки, откуда им знать то, что я знаю, а как я им это скажу: что на войне непременно кто-то гибнет. Каждый из этих ребят сам себе войско. Мне же надо сделать из них одно войско. И для этого, парень, мне нужен ты.
— Я?! — дрогнули губы мальчика.
— Понимаешь, — тихо говорил Генерал, — ты сердце войска. Задумайся над этим. Сердце войска. Послушай-ка.
И Джоби, лежа на земле, слушал. А Генерал продолжал говорить.
Если завтра он, Джоби, будет бить в барабан медленно, медленно будут биться и сердца воинов. Солдаты лениво побредут по обочине. Они задремлют в поле, опираясь на свои мушкеты. А потом в том же поле и вовсе уснут навек, так как юный барабанщик замедлил стук сердец, а вражеский свинец их остановил.
Если же он будет бить в барабан уверенно, твердо, все быстрей и быстрей, тогда — тогда вон через тот холм могучей волной, сплошной чередой перевалят солдатские колени! Видел он когда-нибудь океан? Видел, как волны кавалерийской лавой накатываются на песок? Вот это самое и нужно, это и требуется! Джоби — его правая и левая рука. Генерал отдает приказы, но Джоби задает скорость!
— Так давай постарайся, чтобы правое колено вверх, правая нога вперед! Левое колено вверх, левая нога вперед! Левой — правой, в добром, бодром ритме. Пусть кровь бежит вверх — голову выше, спину прямо, челюсть вперед! Давай — взгляд прищурить, зубы сжать, шире ноздри, крепче кулак, всех покрой стальной броней — да-да, когда у воина кровь быстро бежит по жилам, ему сдается, что на нем стальные доспехи. И так держать, темп не сбавлять! Долго, упорно, долго, упорно! И тогда хоть бы и пуля, хоть бы и штык — не так больно, потому что кровь жарка, кровь, которую он, Джоби, помог разогреть. Если же кровь у воинов останется холодной, будет даже не побоище, а такое убийство, такой кошмар, такая мука, что страшно сказать и лучше не думать.
Генерал закончил и смолк, дал успокоиться дыханию. Потом, чуть погодя, добавил:
— Вот так-то, вот какое дело. Ну что, парень, поможешь мне? Понял теперь, что ты — командующий войском, когда Генерал останется сзади?
Мальчик безмолвно кивнул.
— Поведешь их тогда вперед вместо меня?
— Да, сэр.
— Молодец. И глядишь, будь на то Божья воля, через много-много ночей, через много-много лет, когда тебе стукнет столько, сколько мне теперь, а то и намного больше, спросит тебя кто-нибудь, чем ты-то отличился в это грозное время, а ты и ответишь, смиренно и гордо: «Я был барабанщиком в битве у Совиного ручья», или «на реке Теннесси», а может быть, битву назовут по здешней церкви. «Я был барабанщиком в битве при Шайлоу». А что, хорошо, звонко звучит, хоть мистеру Лонгфелло в стих. «Я был барабанщиком в битве при Шайлоу». Сгодится для любого, кто не знал тебя прежде, мальчик. И не знал, что ты думал в эту ночь и что будешь думать завтра или послезавтра, когда нам надо будет встать! И — марш вперед!
Генерал выпрямился.
— Ну ладно. Бог тебя благослови, парень. Доброй ночи.
— Доброй ночи, сэр.
И, унося с собой блеск латуни и начищенных сапог, запах табака, соленого пота и кожи, Генерал пошел дальше по траве. С минуту Джоби пристально глядел ему вслед, но не мог рассмотреть, куда он делся. Мальчик глотнул. Вытер слезы. Откашлялся. Успокоился. И наконец медленно твердой рукой повернул барабан ликом к небу.
Всю эту апрельскую ночь 1862 года, поблизости от реки Теннесси, неподалеку от Совиного ручья, совсем близко от церкви, по имени Шайлоу, на барабан, осыпаясь, ложился персиковый цвет, и всякий раз мальчик слышал касание, легкий удар, тихий гром.
Ребятки! Выращивайте гигантские грибы у себя в подвалах!
Хью Фортнем проснулся и, лежа с закрытыми глазами, с наслаждением прислушивался к утренним субботним шумам.
Внизу шкварчал бекон на сковородке; это Синтия будит его не криком, а милым ароматом из кухни.
По ту сторону холла Том взаправду принимал душ.
Но чей это голос, перекрывая жужжание шмелей и шорох стрекоз, спозаранку честит погоду, эпоху и злодейку-судьбу? Никак соседка, миссис Гудбоди? Конечно же. Христианнейшая душа в теле великанши — шесть футов без каблуков, чудесная садовница, диетврач и городской философ восьмидесяти лет от роду.
Хью приподнялся, отодвинул занавеску и высунулся из окна как раз тогда, когда она громко приговаривала:
— Вот вам! Получайте! Что, не нравится? Ха!
— Доброй субботы, миссис Гудбоди!
Старуха замерла в облаках жидкости против вредителей, которую она распыляла с помощью насоса в виде гигантского ружья.
— Глупости говорите! — крикнула она в ответ. — Чего тут доброго с этими козявками-злыдняшками. Поналезли всякие!
— И какие на этот раз?
— Не хочу кричать, чтобы какая-нибудь сорока не услышала, но… — Тут соседка подозрительно огляделась и понизила голос: — К вашему сведению: в данный момент я стою на первой линии огня и защищаю человечество от вторжения с летающих тарелок.
— Замечательно, — отозвался Фортнем. — Недаром столько разговоров, что инопланетяне прибудут чуть ли не со дня на день.
— Они уже здесь! — Миссис Гудбоди послала на растения новое облако отравы, норовя обрызгать нижнюю поверхность листьев. — Вот вам! Вот вам!
Фортнем убрал голову из окна. Несмотря на приятную свежесть денька, прекрасное поначалу настроение было слегка подпорчено. Бедняжка миссис Гудбоди! Обычно такая образцово разумная. И вдруг такое! Не иначе как возраст берет свое.
В дверь кто-то позвонил.
Он схватил халат и, еще спускаясь с лестницы, услышал незнакомый голос: «Срочная доставка. Дом Фортнемов?» Затем он увидел, как Синтия возвращается от двери с небольшим пакетом в руке.
— Срочная доставка — пакет авиапочтой для нашего сына.
Тому хватило секунды, чтобы оказаться на первом этаже.
— Ух ты! Наверняка из ботанического сада в Грейт-Байю, где культивируют новые виды растений.
— Мне бы так радоваться заурядной посылке! — сказал Фортнем.
— Заурядной? — Том мигом порвал бечевку и теперь лихорадочно сдирал оберточную бумагу. — Ты что, не читаешь последние страницы «Популярной механики»? Ага, вот они!
Все трое смотрели внутрь небольшой коробочки.
— Ну, — сказал Фортнем, — и что это такое?
— Сверхгигантские грибы Сильвана Глейда. «Стопроцентная гарантия стремительного роста. Выращивайте их в своем подвале и гребите деньги лопатой!»
— А-а, разумеется! — воскликнул Фортнем. — Как я, дурак, сразу не сообразил!
— Вот эти вот фигушечки? — удивилась Синтия, щурясь на содержимое коробочки.
— «За двадцать четыре часа достигают неимоверных размеров, — шпарил Том по памяти. — Посадите их у себя в подвале…»
Фортнем переглянулся с женой.
— Что ж, — промолвила она, — это по крайней мере лучше, чем жабы и зеленые змейки.
— Разумеется, лучше! — крикнул Том на бегу.
— Ах, Том, Том! — с легким упреком в голосе сказал Фортнем.
Сын даже приостановился у двери в подпол.
— В следующий раз, Том, — пояснил отец, — ограничивайся обычной бандеролью.
— Полный отпад! — сказал Том. — Они там чего-то перепутали и решили, что я какая-нибудь богатая фирма. Срочно, авиа, да еще с доставкой на дом — нормальному человеку это не по карману!
Подвальная дверь захлопнулась.
Слегка ошарашенный Фортнем повертел в руках обертку посылки, потом бросил ее в корзину для мусора. По пути на кухню он не удержался и заглянул в подвал.
Том уже стоял на коленях и лопаткой взрыхлял землю.
Фортнем ощутил за спиной легкое дыхание жены. Через его плечо она вглядывалась в прохладный полумрак подвала.
— Надеюсь, это действительно съедобные грибы, а не какие-нибудь… поганки!
Фортнем крикнул со смехом:
— Доброго урожая, фермер!
Том поглядел вверх и помахал рукой.
Опять в распрекрасном настроении, Фортнем прикрыл подвальную дверь, подхватил жену под руку, и они направились в кухню.
Ближе к полудню по дороге к ближайшему супермаркету Фортнем приметил Роджера Уиллиса, тоже члена клуба деловых людей «Ротари», преподавателя биологии в городском университете. Тот стоял у обочины и отчаянно голосовал.
Фортнем остановил машину и открыл дверцу.
— Привет, Роджер, тебя подбросить?
Уиллис не заставил просить себя дважды, вскочил в машину и захлопнул дверь.
— Какая удача — ты-то мне и нужен. Который день собираюсь с тобой повидаться, да все откладываю. Тебе не трудно сделать доброе дело и на минут пять стать психиатром?
Фортнем изучающе покосился на приятеля. Машина катила вперед на средней скорости.
— Ладно. Выкладывай.
Уиллис откинулся на спинку кресла и сосредоточенно уставился на ногти своих рук.
— Погоди чуток. Веди машину и не обращай на меня внимания. Ага. Ну ладно. Вот что я тебе намеревался сказать: с этим миром что-то неладно.
Фортнем тихонько рассмеялся:
— А когда с ним было ладно?
— Да нет, я имею в виду… Странное что-то… небывалое… происходит.
— Миссис Гудбоди, — произнес Фортнем себе под нос — и осекся.
— При чем тут миссис Гудбоди?
— Сегодня утром она поведала мне о летающих тарелках.
— Нет. — Уиллис нервно куснул костяшку на указательном пальце. — Это не похоже на летающие тарелки. По крайней мере мне так кажется. Интуиция — это, по-твоему, что?
— Осознанное понимание того, что долгое время оставалось подсознательным. Но только никому не цитируй это наскоро скроенное определение. В психиатрии я всего лишь любитель. — Фортнем снова рассмеялся.
— Хорошо-хорошо! — Уиллис отвернул просветлевшее лицо и поудобнее устроился на сиденье. — Ты попал в самую точку! То, что накапливается на протяжении долгого времени. Копится, копится, а потом — бац, и ты выплюнул, хотя и не помнишь, как набиралась слюна. Или, скажем, руки у тебя грязные, а тебе невдомек, когда и где ты их успел перепачкать. Пыль ложится на предметы безостановочно, но мы ее не замечаем, пока не накопится много, и тогда мы говорим: фу-ты, какая грязь! По-моему, как раз это и есть интуиция. А теперь можно спросить: ну а на меня какая такая пыль садилась? То, что я видел по ночам сколько-то падающих метеоритов? Или наблюдения за странностями погоды по утрам? Понятия не имею. Может, какие-то краски, запахи, загадочные поскрипывания в доме в три часа ночи. Или то, как у меня почесываются волоски на руках? Словом, Господь один ведает, как накопилось столько пыли. Только в один прекрасный день я вдруг понял.
— Ясно, — несколько обеспокоенно сказал Фортнем. — Но что именно ты понял?
Уиллис не поднимал взгляда от своих рук, лежащих на коленях.
— Я испугался. Потом перестал бояться. Потом снова испугался — прямо среди бела дня. Доктор меня проверял. У меня с головой все в порядке. В семье никаких проблем. Мой Джо замечательный пацан, хороший сын. Дороти? Прекрасная женщина. Рядом с ней не страшно постареть и даже умереть.
— Ты счастливчик.
— Сейчас вся штука в том, что за фасадом моего счастья. А там я трясусь от страха — за себя, за свою семью… А в данный момент и за тебя.
— За меня? — удивился Фортнем.
Он припарковал машину на пустынной стоянке возле супермаркета. Какое-то время Фортнем в полном молчании смотрел на приятеля. В голосе Уиллиса было что-то такое, от чего мороз бежал по спине.
— Я за всех боюсь, — сказал Уиллис. — За твоих и моих друзей и за их друзей. И за всех прочих. Чертовски глупо, правда?
Уиллис открыл дверь, вышел из машины и потом нагнулся посмотреть в глаза Фортнему. Тот понял: надо что-то сказать.
— И что нам в этой ситуации делать? — спросил он. Уиллис метнул взгляд в сторону палящего солнца.
— Быть бдительными, — произнес он с расстановкой. — На протяжении нескольких дней внимательно приглядываться ко всему вокруг.
— Ко всему?
— Мы не используем и десятой части способностей, отпущенных нам Богом. Необходимо чутче слушать, зорче смотреть, больше принюхиваться и тщательнее следить за вкусовыми ощущениями. Возможно, ветер как-то странно метет вон те семена на этой стоянке. Или что-то не в порядке с солнцем, которое торчит над телефонными проводами. А может, цикады в вязах поют не так, как положено. Нам следует хотя бы на несколько дней и ночей сосредоточиться по-настоящему — прислушиваться и приглядываться и сравнивать свои наблюдения.
— Хороший план, — шутливо сказал Фортнем, хотя на самом деле ощутил нешуточную тревогу. — Я обещаю отныне приглядываться к миру. Но, чтобы не прозевать, мне надо хотя бы приблизительно знать, что именно я ищу.
С искренним простодушием глядя на него, Уиллис произнес:
— Если оно тебе попадется — ты не пропустишь. Сердце подскажет. В противном случае нам всем конец. Буквально всем. — Последнюю фразу он произнес с отрешенным спокойствием.
Фортнем захлопнул дверцу. Что сказать еще, он не знал. Только почувствовал, как краснеет.
Похоже, Уиллис уловил, что приятелю неловко.
— Хью, ты решил, что я… Что у меня крыша поехала?
— Ерунда, — чересчур поспешно отозвался Фортнем. — Ты просто перенервничал, вот и все. Тебе бы стоило недельку отдохнуть.
Уиллис согласно кивнул.
— Увидимся в понедельник вечером?
— Когда тебе удобно. Заглядывай к нам домой. Уиллис двинулся через кое-где поросшую бурьяном стоянку к боковому входу в магазин.
Фортнем проводил его взглядом. Неожиданно расхотелось куда-нибудь трогаться отсюда. Фортнем поймал себя на том, что тишина давит на него и он дышит долгими глубокими вдохами.
Он облизал губы. Смоленый привкус. Взгляд остановился на голом локте, выставленном в окно. Золотые волоски горели на солнце. На пустой стоянке ветер играл сам с собой. Фортнем высунулся из окна и посмотрел на солнце. Солнце посмотрело на него в ответ таким палящим взглядом, что он шустро втянул голову обратно. Громко выдохнув, вслух рассмеялся. И завел двигатель.
Кусочки льда мелодично позвякивали в живописно запотевшем стакане холодного лимонада, а сам сладкий напиток чуть кислил и доставлял подлинное наслаждение языку. Покачиваясь в сумерках в плетеном кресле на веранде, Фортнем смаковал лимонад, отпивая по маленькому глотку и закрывая глаза. Кузнечики стрекотали на газоне. Синтия, вязавшая в кресле напротив, с любопытством поглядывала на него; он чувствовал ее повышенное внимание.
— Что за мысли бродят у тебя в голове? — наконец впрямую спросила она.
— Синтия, — не открывая глаз, отозвался он вопросом на вопрос, — твоя интуиция не заржавела? Тебе не кажется, что погода предвещает землетрясение? И что все провалится в тартарары? Или что, к примеру, объявят войну?
А может, все ограничится тем, что дельфиниум в нашем саду запаршивеет и погибнет?
— Погоди, дай пощупаю свои косточки — что они подсказывают.
Он открыл глаза. Теперь наступил через Синтии закрыть глаза и прислушаться к себе. Возложив руки на колени, она на время окаменела. Потом тряхнула головой и улыбнулась:
— Нет. Никакой войны не объявят. И ни один континент не канет в море. И даже парша не поразит наш дельфиниум. А почему ты, собственно, спрашиваешь?
— Сегодня я встретил уйму людей, предрекающих конец света. Если быть точным, то лишь двух, но…
Дверь на роликах с грохотом распахнулась. Фортнем так и привскочил, словно его ударили.
— Какого!..
На веранде появился Том с садовой корзинкой в руке.
— Извини, что побеспокоил, — сказал он. — Все в порядке, папа?
— В порядке. — Фортнем встал, довольный случаем размять ноги. — Что там у тебя — урожай?
Том с готовностью подошел поближе.
— Только часть. Так и прут — чокнуться можно! Всего каких-то семь часов плюс обильный полив, а поглядите, какие они вымахали! — Он поставил корзинку на стол перед родителями.
Урожай действительно впечатлял. Сотни небольших серовато-коричневых грибов торчали из кома влажной земли.
Фортнем изумленно ахнул. Синтия потянулась было к корзинке, но потом с нехорошим чувством отдернула руку.
— Не хочу портить вам радость, и все же… Вы совершенно уверены, что это грибы, а не что-то другое?
Том ответил ей оскорбленным взглядом:
— Чем я, по-твоему, собираюсь накормить вас? Бледными поганками?
— Да нет, мне просто почудилось, — поспешно сказала Синтия. — А как отличить грибы полезные от ядовитых?
— Съесть их, — отрезал Том. — Если останешься живым — значит, полезные. Если с копыт долой — значит, увы и ах. — Том расхохотался.
Фортнему шутка понравилась. Зато Синтия только заморгала и обиженно села в кресло.
— Лично мне они не по душе! — заявила она.
— Фу-ты, ну-ты! — раздраженно передразнил Том, подхватывая корзинку. — Люди, кажется, тоже делятся на полезных и ядовитых.
Том зашаркал прочь. Отец счел нужным окликнуть его.
— Да ладно, проехали, — сказал Том. — Все почему-то думают, что их убудет, если они поддержат инициативного парнишку. Да провались оно пропадом!
Фортнем пошел в дом за Томом и видел, как тот остановился на пороге подвала, швырнул корзинку с грибами вниз, с силой захлопнул дверь и выбежал из дома через задний выход.
Фортнем оглянулся на жену, виновато отводившую глаза.
— Прости меня, — сказала она. — Уж не знаю, что меня за язык потянуло, но я не могла не высказать Тому свое мнение. Я…
Зазвонил телефон. У аппарата был длинный провод, поэтому Фортнем вышел с ним на веранду.
— Хью? — спросила Дороти Уиллис. В ее до странности усталом голосе слышались испуганные нотки. — Хью, роджер не у вас?
— Нет, Дороти. Его здесь нет.
— Он ушел из дома! Забрал всю свою одежду из гардероба. — Она расплакалась.
— Дороти, не падай духом! Я буду у тебя через минуту.
— Да, мне нужна помощь. Помогите мне! Что-то нехорошее с ним случилось, я чувствую. — Снова всхлипы. — Если вы ничего не предпримете, мы его больше никогда не увидим живым!
Фортнем медленно положил трубку — до последнего момента полную горестных причитаний Дороти. Вечерний стрекот кузнечиков вдруг стал оглушительным. Фортнем ощутил, как волосы у него на голове встают дыбом — волосок за волоском, волосок за волоском.
На самом деле волосы на голове не способны становиться дыбом. Это только выражение такое. И очень глупое. В реальной жизни волосы не могут подняться сами собой.
Но его волосы это сделали — волосок за волоском, волосок за волоском.
Вся мужская одежда действительно исчезла из чуланчика-гардеробной. Фортнем в задумчивости погонял пустые проволочные вешалки туда-сюда по штанге, потом повернулся и выглянул наружу, где стояли Дороти Уиллис и ее сын Джо.
— Я просто шел мимо, — доложил Джо. — И вдруг вижу — гардероб пустой. Одежды отца как не бывало.
— Все было прекрасно, — сказала Дороти. — Жили душа в душу. Я просто не понимаю. Я просто не могу понять. Совершенно не могу! — Закрыв лицо ладонями, она опять разрыдалась.
Фортнем выбрался из гардеробной и спросил Джо:
— А ты слышал, когда отец уходил из дома?
— Мы с ним играли в мяч на заднем дворе. Папа говорит: я ненадолго зайду в дом. Сперва я поиграл сам, а после пошел за ним. А его и след простыл!
— Я думаю, — сказала Дороти, — он по-быстрому собрал вещи и ушел пешком. Если его где-то ждало такси, то не у дома — мы бы услышали звук отъезжающей машины.
Теперь все трое шли через холл.
— Я проверю вокзал и аэропорт, — сказал Фортнем. — И вот еще… Дороти, в семье Роджера никто часом не…
— Нет, это не приступ безумия, — решительно возразила Дороти. Потом куда менее уверенно добавила: — У меня такое странное чувство, будто его украли.
Фортнем отрицательно мотнул головой:
— Это против здравого смысла. Собрать вещи и выйти навстречу своим похитителям!
Приоткрыв входную дверь, словно она хотела пустить в дом вечерний сумрак или ночной ветер, Дороти обернулась и обвела взглядом весь нижний этаж.
— Это похищение, — медленно произнесла она. — Они каким-то образом проникли в дом. И выкрали его у нас из-под носа. — Она помолчала и добавила: — Что-то страшное уже случилось.
Фортнем вышел на улицу и замер среди стрекота кузнечиков и шороха листьев. Прорицатели конца света, подумал он, свое слово сказали. Сперва миссис Гудбоди, затем Роджер. А теперь их компания пополнилась женой Роджера. Что-то страшное уже случилось. Но что именно, черт возьми? И почему?
Он оглянулся на Дороти и ее сына. Джо моргал, сгоняя слезы на щеки. Потом медленно повернулся, прошел через холл, остановился у входа в подвал и взялся за ручку двери.
Веки Фортнема дернулись, зрачки сузились, словно он пытался вспомнить какую-то картинку.
Джо распахнул дверь, начал спускался по лестнице вниз и наконец пропал из виду. Дверь за ним медленно прихлопнулась сама собой.
Фортнем открыл рот, чтобы сказать что-то, но тут Дороти схватила его за руку и ему пришлось посмотреть в ее сторону.
— Умоляю, найдите его для меня! Он поцеловал ее в щеку:
— Я сделаю все, что в человеческих силах.
Все, что в человеческих силах. Боже мой, с какой стати он выбрал именно эту формулу?
Он заспешил прочь от дома Уиллисов.
Хриплый вдох и тяжкий выдох, опять хриплый вдох и тяжкий выдох, астматический судорожный вдох и шипящий выдох. Неужели кто-то умирает в темноте? Слава Богу, нет.
Просто за живой изгородью невидимая миссис Гудбоди так поздно все еще занята работой — выставив костлявые локти, орудует своей пушкой-распылителем. Чем ближе Фортнем приближался к дому, тем больше его окутывал одуряюще-сладкий запах средства по борьбе с насекомыми.
— Миссис Гудбоди! Все трудитесь? Из-за темной живой стены донеслось:
— Да, черт возьми. Будто мало нам было тли, водяных клопов, личинок древоточца! Теперь припожаловали Marasmius oreades. Растут как из пушки.
— Любопытное выражение.
— Теперь или я, или эти Marasmius oreades. Я им спуску не дам, я им задам жару! Изничтожу! Вот вам, гадам, вот!
Он миновал живую изгородь, чахоточную помпу и визгливый голос. У дома его поджидала жена. Фортнему почудилось, что он прошел через зеркало: от одной женщины, провожавшей на крыльце, к другой — на крыльце встречающей.
Фортнем уже открыл рот доложить о происходящем, но тут заметил движение внутри, в холле. Шаги, скрип досок. Поворот дверной ручки.
Это сын в очередной раз скрылся в подвале.
Будто бомба разорвалась перед Фортнемом. Голова пошла кругом. Все было цепеняще знакомо, словно въяве сбывался старый сон и каждое предстоящее движение тебе заранее известно, как и каждое слово, которое еще не сошло с губ говорящего.
Он поймал себя на том, что тупо смотрит через холл на дверь подвала. Вконец озадаченная Синтия потянула мужа за рукав и втащила в дом.
— У тебя такой взгляд из-за Тома? Да я уже смирилась. Он принимает эти чертовы грибы так близко к сердцу. А впрочем, им нисколько не повредило то, что он швырнул их с лестницы вниз. Шлепнулись на земляной пол и растут себе дальше…
— Растут, значит? — пробормотал Фортнем, думая о своем.
Синтия тронула его за рукав:
— Как насчет Роджера?
— Он действительно пропал.
— Мужчины, мужчины, мужчины…
— Нет, ты не права, я виделся с Роджером почти ежедневно на протяжении последних десяти лет. Когда столько общаешься, видишь человека насквозь и можешь с точностью сказать, как у него дома — тишь и гладь или ад кромешный. До сих пор он не ощутил дыхания смерти в затылок; он не паниковал и не пытался, выпучив глаза, гоняться за вечной юностью, срывая персики в чужих садах. Нет-нет, могу поклясться, могу поставить на спор все до последнего доллара, что Роджер…
За их спинами раздался звонок. Это посыльный с почты неслышно взошел на крыльцо и ждал с телеграммой в руке, когда ему откроют дверь.
— Дом Фортнемов?
Синтия поспешно включила люстру в прихожей, а Фортнем стремительно разорвал конверт, разгладил бумажку и прочел:
НАПРАВЛЯЮСЬ НОВЫЙ ОРЛЕАН. ЭТА ТЕЛЕГРАММА ВОЗМОЖНО НЕОЖИДАННОСТЬ. ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ, ПОВТОРЯЮ, ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЮБЫХ ПАКЕТОВ СРОЧНОЙ ДОСТАВКИ.
РОДЖЕР.
Синтия растерянно спросила:
— Ничего не понимаю. Что это все значит?
Но Фортнем уже бросился к телефону и спешно набирал короткий номер.
— Девушка! Мне срочно полицию!
В десять пятьдесят телефон зазвонил уже в шестой раз за вечер. Фортнем снял трубку и задохнулся от волнения:
— Роджер! Ты откуда звонишь?
— Где я, черт возьми? — передразнивающим тоном отозвался Роджер. — Ты прекрасно знаешь, где я, и ты в ответе за это. Мне бы стоило разозлиться на тебя!
Фортнем энергичным кивком показал жене на кухню, и Синтия кинулась со всех ног туда — снять трубку второго телефонного аппарата. Как только раздался тихий щелчок, Фортнем продолжил:
— Роджер, клянусь тебе, я понятия не имею, где ты находишься. Я получил от тебя телеграмму…
— Какую телеграмму? — игриво осведомился Роджер. — Я никаких телеграмм не посылал. Я спокойненько ехал себе на юг в поезде. Вдруг на станции вваливается полиция, хватает меня и норовит снять с поезда, и вот я звоню тебе из полицейского участка на вокзале заштатного городка, чтобы эти оболдуи наконец оставили меня в покое. Хью, если ты подобным образом шутишь…
— Послушай, Роджер, ведь ты просто взял и исчез!
— Какое там исчез! Обычная деловая поездка. Я и Дороти предупреждал, и Джо говорил.
— Все это очень запутанно, Роджер. Ты случаем не в опасности? Может, кто-то тебе угрожает? То, что ты говоришь, ты говоришь добровольно?
— Я жив, здоров, свободен, и никто меня не запугивает.
— Но где именно ты находишься?
— Дурацкий разговор! Слушай, я на тебя не дуюсь за твою глупую выходку — чего тебе еще?
— Я рад, Роджер…
— Тогда будь паинькой и позволь мне ехать дальше по моим делам. Позвони Дороти и скажи, что я вернусь через пять дней. Ума не приложу, как она могла забыть!
— А вот забыла. Так, значит, Роджер, увидимся через пять дней?
— Через пять дней, обещаю.
Столько спокойной уверенности и теплоты в голосе — словно вернулся Роджер былых дней. Фортнем очумело тряхнул головой.
— Роджер, — сказал он, — последний день был самым безумным в моей жизни. Так ты, значит, не убежал от своей Дороти? Уж мне-то, черт возьми, ты можешь сказать правду!
— Я люблю ее всем сердцем. А теперь передаю трубку лейтенанту Паркеру из риджтаунской полиции. До свидания, Хью.
— До сви…
Но в трубке уже гудел раздраженный голос лейтенанта. Кто позволил мистеру Фортнему навязать такие хлопоты полиции? Что происходит? Что вы себе позволяете, мистер Фортнем? За кого вы себя принимаете? Что делать с вашим так называемым другом — отпускать или упрятать в кутузку?
— Отпустите его, — бросил Фортнем куда-то в середину этого потока ругательств и повесил трубку. Его воображению представилось, как в двухстах милях южнее на вокзальном перроне гремит грозное «Посадка закончена» и громоздкий поезд с грохотом устремляется вперед сквозь черную-пречерную ночь.
Синтия неспешно вернулась в гостиную.
— Чувствую себя полной дурой, — сказала она.
— А я себя кретином.
— Тогда кто же послал ту телеграмму и зачем? Фортнем налил себе виски и застыл в центре комнаты, разглядывая содержимое стакана.
— Я искренне рада, что с Роджером все в порядке, — наконец прервала молчание его жена.
— С ним не все в порядке, — сказал Фортнем.
— Но ведь ты только говорил…
— Ничего я не говорил. А что мы, в сущности, могли сделать? Настоять на том, чтобы его сняли с поезда и в наручниках доставили домой? И это при том, что он твердит, будто с ним полный порядок? Дело обстоит иначе. Телеграмму он отослал, да только потом решил все иначе. Знать бы почему! Почему? — Фортнем ходил по комнате из угла в угол, временами отпивая из стакана. — Чего ради он предостерегал нас против срочной доставки? Единственная вещь, которую мы получили срочной доставкой на протяжении целого года, — это пакет для Тома — тот, что доставили сегодня утром…
На последних слогах его голос начал спотыкаться.
Синтия первой бросилась к корзинке для мусора и выхватила оттуда измятую бумагу, в которую был упакован пакет с грибами.
Обратным адресом значился Новый Орлеан, штат Луизиана.
Синтия подняла глаза от бумаги:
— Новый Орлеан. Ведь именно туда и направляется Роджер в данный момент?
В сознании Фортнема звякнула дверная ручка, дверь открылась и с хлопком закрылась. Другая дверная ручка в другом доме звякнула, дверь открылась и с хлопком закрылась. И в ноздри ударил запах свежеразрытой земли.
Через секунду он уже набирал телефонный номер. Прошло мучительно много времени, прежде чем на другом конце провода раздался голос Дороти Уиллис. Он представил себе, как она сидит в своем страшно опустевшем доме, где во всех комнатах горит ненужный свет.
Фортнем быстро и спокойно изложил ей свой разговор с Роджером, после чего замялся, откашлялся и сказал:
— Дороти, я понимаю, что задаю дурацкий вопрос. Но ответь мне: за последние несколько дней вы получали что-нибудь с почты — срочной доставкой на дом?
— Нет, не получали, — устало отозвалась она. Потом вдруг встрепенулась: — А впрочем, погоди. Три дня назад. Но я была уверена, что вы в курсе! Все мальчишки в округе помешаны на этом увлечении.
Фортнем теперь взвешивал каждое свое слово.
— Помешаны на чем? — спросил он.
— Странный допрос, — сказала Дороти. — Что может быть плохого в выращивании съедобных грибов?
Фортнем закрыл глаза.
— Хью, вы меня слушаете? Я сказала: что может быть плохого…
— …в выращивании съедобных грибов? — наконец откликнулся Фортнем. — Разумеется, ничего плохого. Совершенно ничего. Абсолютно ничего.
И он медленно-медленно повесил трубку.
Легкие занавески колыхались, словно сотканные из лунного света. Тикали часы. Глубокая ночь заполняла собой каждый уголок спальни. А Фортнему вдруг вспомнился звонкий голос миссис Гудбоди, прорезающий утреннюю благодать — миллион лет назад. Он вспомнил и Роджера, когда тот в полдень навел тучу на солнце в ясном небе. Потом в ушах зазвучал лающий голос полицейского, костерившего его по телефону из далекого южного штата.
А потом вернулся голос Роджера, и в ушах застучал колесами поезд, уносящий друга далеко-далеко. Стук колес медленно затихал, пока в сознании не всплыл диалог с невидимой миссис Гудбоди, работающей где-то за живой изгородью:
— Растут как из пушки.
— Любопытное выражение.
— Теперь или я, или эти Marasmius oreades. Фортнем открыл глаза и проворно вскочил с постели. Через несколько мгновений он уже был внизу и листал энциклопедию.
Найдя нужное, он подчеркнул ногтем то, что его интересовало:
«Marasmius oreades — разновидность съедобных грибов, обычно произрастающих на газонах летом или ранней осенью…»
Захлопнув книгу, он вышел на крыльцо и закурил.
Пока Фортнем безмятежно покуривал, небо прочертила падающая звезда. Деревья тихо шептались.
Дверь дома распахнулась. На пороге стояла Синтия в ночной рубашке:
— Не спится?
— По-моему, слишком душно.
— Да вроде бы нет.
— Ты права, — сказал он и почувствовал, как зябко рукам. — Можно сказать, даже холодно. — Он затянулся пару раз, потом сказал, не глядя на жену: — Синтия, а что, если… — Он хмыкнул, замялся. — Ну, словом, что, если Роджер был прав вчерашним утром? И что, если миссис Гудбоди тоже права? И вдруг в данный момент действительно происходит нечто ужасное? К примеру… — тут он кивком указал на небо, усеянное миллионами звезд, — к примеру, как раз сейчас Землю завоевывают пришельцы из иных миров.
— Хью…
— Нет, дай поиграть моему воображению.
— Совершенно очевидно, что нас никто не завоевывает. Мы бы заметили.
— Сформулируем это так: мы заметили нечто лишь интуитивно, мы смутно забеспокоились. Если что-то происходит, то где и как? Откуда опасность и каким способом нас завоевывают?
Синтия посмотрела на звезды и хотела что-то сказать, но муж опередил ее мысль:
— Нет-нет, я не имею в виду метеориты и летающие тарелки — они бросаются в глаза. Как насчет бактерий? Они ведь тоже могут явиться из космоса, не правда ли?
— Я что-то читала о подобном.
— Быть может, чужие споры, семена, пыльца и вирусы в огромных количествах ежесекундно таранят нашу атмосферу на протяжении миллионов лет. Возможно, прямо сейчас мы стоим под невидимым дождем. И этот дождь идет над всей страной, над городами и городками, над полями и лесами. Над нашим газоном тоже.
— Над нашим газоном?
— А также и над газоном миссис Гудбоди. Однако люди ее типа постоянно истребляют сорняки и паразитов в своем саду — выпалывают бурьян, распыляют инсектициды. В городах, с их ядовитой атмосферой, пришельцам тоже не выжить. Есть зоны неблагоприятного климата. Наилучшие погодные условия скорее всего на юге: в Алабаме, Джорджии и Луизиане. В тамошних топях и при такой жаре пришельцы будут расти как на дрожжах.
Синтия рассмеялась:
— Уж не к тому ли ты клонишь, что ботанический сад в Грейт-Байю, который специализируется на выращивании новых видов, на самом деле находится под управлением двухметровых грибов с другой планеты и что посылку Тому прислали именно они?
— Твоя версия выглядит забавной.
— Забавной? Да можно со смеха лопнуть! — Синтия весело закинула назад свою красивую головку.
Фортнем вдруг рассердился:
— Боже правый! Что-то происходит, это очевидно! Миссис Гудбоди истребляет этих Marasmius oreades. А что такое Marasmius oreades? Грибы-вредители. Грибы-убийцы. И вот, в самый разгар войны миссис Гудбоди с Marasmius oreades почтовый курьер приносит в наш дом что? Грибы для Тома. Что еще происходит? Роджер высказывает опасения за свою жизнь! Не проходит и нескольких часов, как он исчезает. И присылает нам телеграмму — какого содержания? Избегайте того, что приносит почтовый курьер! То есть не берите грибы для Тома! Значит ли это, что у Роджера есть какие-то основания предупреждать, потому что его собственный сын уже получил подобный пакет и нечто произошло? Да, несколько дней назад Джо получил пакет с грибами. Откуда? Из Нового Орлеана. А куда исчез Роджер? Он едет в Новый Орлеан! Синтия, это же так очевидно! Неужели ты все еще не понимаешь? Я был бы только счастлив, окажись все эти факты совершенно не связаны друг с другом. На самом же деле образуется недвусмысленная цепочка: Роджер, Том, Джо, грибы, миссис Гудбоди, бандероли, обратный адрес!
Жена пристально смотрела на него — без прежнего веселья, но и не до конца серьезно:
— Только не лезь в бутылку.
— А я совершенно спокоен! — чуть ли не выкрикнул Фортнем. Однако через секунду взял себя в руки. В противном случае оставалось только расхохотаться или заплакать. А ему хотелось холодной мыслью оценить ситуацию.
Он обводил взглядом окрестные дома и думал, что в каждом из них есть подвал. Все соседские мальчишки, читающие «Популярную механику», шлют деньги в Новый Орлеан и населяют подвалы грибами. Естественный энтузиазм мальчишек. Он и сам подростком получал по почте всякие химикалии для опытов, семена, черепашек, разные мази от прыщей и прочую ерунду. Так во скольких американских домах сегодня ночью разрастаются гигантские грибы благодаря стараниям невинных детских душ?
— Хью! — Жена тронула его за рукав. — Грибы, даже гигантские, не способны мыслить, двигаться, у них нет рук и ног. Как они могут распоряжаться почтовой службой доставки и «завладеть миром»? Будь серьезен, взгляни трезвым взглядом на этих якобы страшных завоевателей, врагов рода человеческого!.. А давай-ка просто посмотрим на них!
Она потянула его за собой в дом. Когда Синтия повела его через холл к двери в подвал, Фортнем решительно уперся. Он замотал головой и сказал с глуповатой ухмылкой:
— Нет-нет, я прекрасно знаю, что мы там найдем. Ты победила. Вся эта история — чушь собачья. Роджер вернется на следующей неделе — мы с ним опрокинем по стаканчику и посмеемся над собой. Ты иди спать наверх, а я выпью молока и приду через пару минут.
— Так-то лучше!
Синтия крепко обняла мужа, поцеловала его в обе щеки и взбежала вверх по лестнице.
В кухне Фортнем взял стакан, открыл холодильник, достал бутылку молока и вдруг застыл на месте.
Его взгляд приковала желтая мисочка на верхней полке холодильника. Не сама мисочка, а ее содержимое.
Свежесрезанные грибы.
Он стоял с вытаращенными глазами по меньшей мере полминуты, выдыхая облачка пара. Потом взял желтую мисочку, принюхался к ней, потрогал пальцем грибы и вышел с ней из кухни в холл. Он посмотрел вверх вдоль лестницы. Где-то там, укладываясь спать, скрипела кроватью Синтия. Фортнем собрался было крикнуть: «Синтия, ты зачем поставила грибы в холодильник?» — но осекся. Ответ он знал. Она их туда не ставила.
Поставив мисочку с грибами на плоский верх балясины перил в самом начале лестницы, Фортнем задумчиво разглядывал ее содержимое. Он представил себе, как он поднимается к себе в спальню, открывает окна, любуется лунным светом на потолке. И в его воображении проигрался последующий диалог:
— Синтия?
— Да, дорогой.
— Синтия, у них есть способ получить руки и ноги.
— Что-что? Ты опять за свои глупости?
Тогда он соберет все свое мужество, ввиду ее неизбежного гомерического смеха, и скажет:
— А что, если человек, бредущий по болоту, возьмет и съест такой вот гриб…
Синтия только фыркнет и ничего не скажет.
— Но ведь если гриб попадет внутрь человека, ему ничего не стоит через кровь завладеть каждой клеткой человека и превратить человека — в кого? В марсианина? Если принять версию с поеданием, то грибам не нужны руки-ноги. Они проникают в людей и одалживают их конечности. Они живут в людях, и люди становятся грибами. Роджер отведал грибов, выращенных сыном. И Роджер стал «чем-то другим». Он сам себя похитил, когда направился в Новый Орлеан. В короткую минуту просветления он дал нам телеграмму и предостерег против этих грибов. Тот Роджер, который позже звонил из полицейского участка, был уже другой Роджер, пленник того, что он имел несчастье съесть. Синтия, ведь все части головоломки совпадают. Неужели ты и теперь не согласна?
— Нет, — отвечала Синтия из воображаемого разговора, — нет и нет, ничто не совпадает, нет и нет…
Из подвала вдруг донесся какой-то звук — не то слабый шепот, не то едва слышный шорох. С трудом оторвав взгляд от грибов в миске, Фортнем подошел к двери в подвал и приложил к ней ухо.
— Том? — окликнул он. Нет ответа.
— Том, ты внизу? Нет ответа.
— Том!!!
Спустя вечность голос Тома отозвался из глубины:
— Что, папа?
— Уже далеко за полночь, — сказал Фортнем, следя за своим голосом, пытаясь подавить волнение. — Что ты делаешь там, внизу?
Молчание.
— Я спросил…
— Ухаживаю за грибами, — не сразу ответил сын. Его тихий голос звучал как чужой.
— Ладно, давай оттуда. Вылезай! Ты меня слышишь? Молчание.
— Том! Послушай, это ты положил грибы в холодильник сегодня вечером? Если да, то зачем?
Секунд десять прошло, прежде чем мальчик снизу отозвался:
— Конечно. Хотел, чтобы вы с мамой попробовали. Фортнем чувствовал, как бешено колотится его сердце.
Пришлось три раза глубоко вдохнуть — без этого невозможно было продолжить разговор.
— Том! А ты… ты, часом, сам не попробовал эти грибы? Ты их не пробовал, а?
— Странный вопрос. Разумеется. Вечером, после ужина. Сделал сандвич с грибами. А почему ты спрашиваешь?
Фортнему пришлось схватиться за ручку двери, чтобы не упасть. Теперь настал его черед молчать. Колени подгибались, голова шла кругом. Он пытался справиться с дурнотой, уговаривал себя, что все это бред, бред, бред. Однако губы не подчинялись ему.
— Папа! — тихонько позвал Том из глубины подвала. — Спускайся сюда. — Очередная пауза. — Хочу, чтоб ты поглядел на мой урожай.
Фортнем ощутил, как ручка двери выскользнула из его вспотевшей ладони и звякнула, возвращаясь в горизонтальное положение. Он судорожно вздохнул.
— Папа, иди сюда! — негромко повторил Том. Фортнем распахнул дверь.
Перед ним был черный зев подвала. Фортнем шелестнул пальцами по стене в поисках выключателя.
Том, казалось, угадал его намерение, потому что торопливо сказал:
— Не надо света. Свет вреден для грибов. Фортнем убрал руку с выключателя.
Он нервно сглотнул. Потом оглянулся на лестницу, которая вела в спальню, к жене. «Надо бы мне сперва подняться наверх, — подумал он, — и попрощаться с женой… Но что за нелепые мысли! Какой вздор лезет в голову! Нет ни малейшей причины… Или все-таки есть?
Конечно же, нет».
— Том! — сказал Фортнем нарочито бодрым голосом. — Готов я к этому или нет, но я спускаюсь.
И, захлопнув за собой дверь, он шагнул в непроглядную темноту.
Быть может, мы уже уходим…
Странное, неименуемое коснулось его шеи, прошлось по крохотным волоскам, пока он просыпался. Не открывая глаз, он вдавил ладони в землю.
То ли мир ворочался во сне, поигрывая древним подкожным огнем?
Или то бизоны выбивают дробь копытами в пыли прерий, в шелестящей траве, накатываясь, как черная буря? Нет.
Что же это? Что?
Он открыл глаза и стал мальчиком Хо-Ави из племени, названного именем птицы, с холмов, прозванных тенями сов, близ великого моря, в день беспричинного зла.
Хо-Ави смотрел на занавес у входа в шатер, дрожащий, как вспоминающий зиму огромный зверь.
«Скажи мне, — подумал он, — откуда идет этот ужас? Кому несет он смерть?»
Отодвинув занавес, Хо-Ави вышел наружу.
Он двигался медленно — мальчишка, чьи смуглые скулы походили на грудки летящих птичек. Карие глаза видели небо, полное облаков и духов, в приложенной к уху ладони отдавался гром барабанов войны под ударами пушинок, но великая тайна тянула его к окраине деревни.
Там, говорили легенды, земля разливалась волной до иного моря. От берега до берега столько земли, сколько звезд в ночном небе. Где-то там, вдали, тучи темных бизонов выкашивали под корень траву. А здесь стоял Хо-Ави с холодеющим сердцем, удивляясь, недоумевая, ожидая, боясь.
«И ты?» — спросила тень ястреба.
Хо-Ави обернулся.
Тени рук его деда чертили письмена на ветру.
Нет. Руки деда сказали: «Молчи!» Язык Старика мягко оглаживал беззубые десны. Глаза как лужицы, оставшиеся в пересохших руслах глаз, среди истрескавшихся песчаных пустошей лица.
Они стояли на краю рассвета, притянутые неведомым.
Старик последовал примеру мальчика. Прислушались высохшие уши, дрогнули ноздри. Старик так ждал ответного тихого рыка, который скажет им, что это лишь буря грудой валежника обрушится с небес. Но ветер не ответил ему, болтая сам с собой.
«Мы пойдем на Великую Охоту, — показал Старик. — Сегодня, — как уста, говорили руки, — день несмышленых юнцов и дряхлых старцев. Воины не пойдут с ними. Зайчонок и умирающий гриф пойдут вдвоем. Ибо лишь самые юные видят жизнь впереди, и лишь самые старые способны на нее оглянуться; прочие же так заняты жизнью, что не видят ее».
Старик неторопливо огляделся.
Да! Он знал, он был уверен, он не ошибся! Чтобы найти, чтобы увидеть то, что из тьмы, нужны невинность младенца и невинность слепца.
«Пошли!» — приказали дрожащие пальцы.
Маленький кролик и ястреб, прикованный к земле, покинули деревню и вышли в надвигающуюся бурю.
Они обшарили горы, чтобы проверить, не лежат ли камни грудами, и так оно и было. Они озирали прерии, но видели лишь ветры, игравшие друг с другом дни напролет, как дети племени. Они находили наконечники стрел, память древних войн.
«Нет, — чертили в небе руки Старика, — люди этого племени и того курят у летних костров, покуда их женщины рубят хворост. Мы слышим свист не их стрел».
И наконец, когда солнце ушло в страну охотников на бизонов, Старик глянул вверх.
«Птицы! — вскричали руки его. — Птицы летят на юг! Кончилось лето!»
«Нет, — ответили пальцы мальчишки, — лето только началось, и я не вижу птиц!»
«Они летят так высоко, — сказали руки Старика, — что лишь слепой может ощутить их полет. Их тени ложатся на сердце, не на землю. Мое сердце чует их перелет. Лето уходит. А с ним, видно, и мы Быть может, мы уже уходим…»
— Нет! — вскрикнул мальчик испуганно. — Куда мы пойдем? Почему? Зачем?
«Кто знает? — откликнулся Старик. — Мы можем не двигаться с места. Но даже не двигаясь, мы, быть может, уйдем».
— Нет! Возвращайтесь! — кричал мальчишка пустому небу, незримым птицам, ясным ветрам. — Останься, лето!
«Бесполезно, — сама собою ответила рука Старика. — Ни ты, ни я, ни наш народ не остановят этих холодов. Погода сменилась, и холод падет на нашу землю до конца веков».
«Но откуда идет он?»
«Оттуда», — указал наконец Старик.
И в сумерках они вгляделись в великие воды, что тянутся на восток до края мира, куда еще никто не заплывал.
«Там», — показал сжатый кулак Старика. Там.
Вдалеке горел на берегу одинокий костер.
Вставала луна, а Старик и малыш тащились по песку, слышали в море странные голоса, вдыхали горький дым приблизившегося костра.
Они подползли и замерли, глядя на свет.
И чем дольше глядел Хо-Ави, тем холоднее становилось ему; и он понял, что Старик прав.
Ибо близ костра, где горели мох и плавник, близ языков огня, трепетавших на вечернем, холодном, несмотря на лето, ветру, сидели создания, невиданные дотоле.
То были люди, чьи лица были как раскаленные угли, а глаза — как синее небо. На щеках и подбородках их росли блестящие волосы. Один из них стоял, сжимая в руке молнию, и на голове его была острозубая луна вроде рыбьей морды. Другие носили на груди яркие, круглые, искристые льдышки, позвякивавшие при ходьбе. Хо-Ави смотрел, как эти люди снимают с голов бренчащие яркие штуки, сбрасывают ослепительные панцири, черепашью броню с торсов, рук, ног и швыряют сброшенные оболочки на песок. И эти создания смеялись, а в море колыхалась на волнах черная тень, как огромное темное каноэ с развешанными над ним клочьями облаков на шестах.
Когда не было больше сил задерживать дыхание, Старик и мальчик ушли.
Они смотрели с холма на костер, что казался не больше звезды. Моргнешь — и он дрогнет. Закроешь глаза — исчезнет.
И останется.
«И это великое дело?» — спросил мальчик.
Лицо Старика исполнилось ужасом лет и нежеланной мудрости, как у падшего на землю орла. Глаза полыхали ясно, точно из глубины их поднималась ледяная чистая вода, в которой отражается все; как река, впивавшая небо и землю, познававшая их, принимавшая молчаливо и позволявшая копить пыль и время, облики, звуки и судьбы.
Он кивнул.
То была буря. Ею кончится лето. От нее летели птицы на юг, не касаясь тенями скорбящей земли.
Морщинистые руки застыли. Время вопросов прошло.
Вдалеке взметнулось ввысь пламя. Один из пришельцев поднялся; блеснула яркая черепашья броня — словно стрела вонзилась в бок ночи.
Мальчик исчез во тьме, следуя за орлом и ястребом, обитавшими в каменеющем теле деда.
А внизу вздыбилось море, метнуло на берег еще одну соленую волну, и, грянувшись о берег, та разлетелась на мириады осколков, зашипевших в песке, — словно тысяча затачиваемых ножей.
Вот ты и дома, моряк
— Доброе утро, капитан. — Доброе утро, Хэнкс.
— Милости просим к столу, сэр. Кофе готов.
— Спасибо, Хэнкс.
Старик сел за камбузный столик и уронил руки на колени. Там, на коленях, они были как две переливчатые форели. Призрачные, будто сотканные из пара его слабого дыхания, две рыбины лениво подрагивали в ледяной прозрачной глубине. Десятилетним мальчишкой ему случалось видеть, как форель поднимается почти к самой поверхности горных ручьев. Едва приметные движения рыб зачаровывали тем больше, что их сверкающая чешуя, если смотреть долго-долго, начинала загадочно бледнеть. Они как бы истаивали на глазах.
— Капитан, — забеспокоился Хэнкс, — с вами все в порядке?
Капитан резко вскинул голову и глянул привычным огненным взглядом.
— Разумеется, в порядке! Странный вопрос!
Дымок поставленной перед ним чашки кофе дразнил воспоминаниями о других ароматах других времен, там плясали неясные лики — полузабытые лица давным-давно минувших женщин.
Ни с того ни с сего старик захлюпал носом, и Хэнкс подскочил с платком.
— Спасибо, Хэнкс.
Капитан как следует высморкался. Затем отхлебнул из чашки в дрожащей руке.
— Слышь, Хэнкс!
— Да, капитан, тут он я.
— А барометр-то падает.
Хэнкс оглянулся на настенный прибор:
— Нет, сэр. Показывает на умеренно ясно. Умеренно ясно, вот что он показывает.
— Собирается буря, и солоно придется, потому как распогодится не скоро, очень не скоро.
— Не нравятся мне такие разговоры, — буркнул Хэнкс, проходя мимо столика.
— Что чувствую, то и говорю. Рано или поздно покою придет конец. Уж так оно устроено, что бури не миновать. Я к ней готов, и с давних пор.
Да, с давних пор. Уж который год… А который именно? Много песка утекло в песочных часах — и не углядишь сколько. Да и снега перепадало немало: на белую простыню одной зимы ложилась новая простынка — и сколько их понаслоилось, без счета. До первых-то зим уже и не дощупаться в памяти.
Он встал и, покачиваясь, доплелся до двери камбуза, открыл ее и шагнул…
…на веранду дома, построенного в виде носовой части корабля. И пол веранды был из просмоленных досок, совсем как палуба на судне. Капитанскому взору предстала не бесконечная водная гладь, а подраскисший от летнего дождя палисадник. Старик подошел к перилам и обежал глазами окрестные холмы — куда ни гляди, все холмы да взгорки, до самого горизонта.
«Зачем я здесь? — вдруг закипело в его сознании. — В этом нелепом доме, в этом корабле без паруса посреди прерий, где волком взвоешь от одиночества, где всех звуков — щебетнет осенью птица, пролетая на юг, да еще раз весной — возвращаясь на север».
Зачем он здесь? Действительно — зачем?
Уняв дрожь, старик поднял бинокль к глазам, чтобы получше разглядеть не то пустыню перед собой, не то пустыню лет позади.
Ах, Кейт, Катарин, Кейти — где ты, где?
Ночью, утопая в перине, он благополучно забывал. Зато днем память не давала покоя. Он жил один, вот уже двадцать лет как один — если не считать Хэнкса, чье лицо встречало его на заре и провожало на закате.
А Кейт?
Тысячу штормов и тысячу затиший назад был один штиль и одна буря, на веки веков засевшие в его памяти.
Как звонок был его голос тогда, в утреннем порту:
— Вот он, Кейт, гляди! Вот он, корабль-красавец, что унесет нас, куда бы мы ни пожелали!
И они заторопились к причалу — такая немыслимая молодая чета! Кейт, чудесной Кейт едва ли было двадцать пять. А ему — за сорок, хорошо за сорок. Но мальчишкой ощущал он себя, когда они с Кейт — рука в руке — подбегали к трапу.
Однако у самого трапа Кейт вдруг замешкалась, вдруг оглянулась на холмы Сан-Франциско и тихо выдохнула, словно для себя самой:
— В последний раз я касаюсь твердой земли.
— Брось ты! Коротенькое путешествие!
— Если бы! — спокойно возразила она. — Я чувствую, путешествие будет долгим-предолгим.
Секунд сколько-то он ничего не слышал, кроме заунывного скрипа корабельных снастей, и ему почудилось, что это шумно ворочается потревоженная во сне Судьба.
— С чего бы это я? — встряхнулась Кейт. — Вздор какой-то!
И смело шагнула на борт корабля.
Той ночью они, недавно обвенчанные, плыли к жарким тихоокеанским островам. Он — бывалый моряк с просоленной и задубевшей кожей. Она — нежно-гибкая и шустрая, как саламандра, что в августовский полдень устраивает пляску на корабельном юте.
Где-то на половине пути судно угодило в штиль. Теплое уютное затишье: паруса поникли, но как-то умиротворенно, бестревожно.
Его разбудил посреди ночи не то последний выдох ветра, не то Кейт, которая прислушивалась к непривычной тишине.
Замолчали корабельные снасти, больше не пели паруса. Да и матросы словно вымерли — где топот голых пяток по палубе? Какое-то заколдованное беззвучие. Будто взошла луна и обронила серебристый приказ для всего сущего под собой: мир и покой!
Капитан и его молоденькая жена поднялись на палубу. Члены команды, словно пригвожденные чарами к местам, где их застало мановение волшебной палочки, не обращали на них внимания. Стоя у самого борта, капитан и его жена всей кожей ощущали, как в их присутствии Сейчас удлиняется в Во Веки Веков.
И тогда, будто запросто читая будущее в зеркале моря, где увяз их корабль, Кейт промолвила:
— Не было от века более прекрасной ночи. И не было с сотворения мира двух людей более счастливых, чем мы, и корабля, прекраснее этого. Ах, оставаться бы так еще тысячу лет — в этом совершенном мире, где мы хозяева, где мы живем по нами же сотворенным законам. Обещай, что ты не позволишь мне умереть — никогда-никогда.
— Никогда, — решительно отозвался он. — Сказать почему?
— Да, и скажи так, чтобы я поверила.
Ему вдруг вспомнилась одна легенда, и он рассказал ее Кейт.
Жила-была одна прекрасная женщина. И так прекрасна она была, так люба богам, что боги исхитили ее из власти ненасытного Времени и поместили среди океана, дабы никогда более не коснулась ее нога тверди земной. Ибо земля обременила бы тело женщины силой непомерной тяжести. От зрелища людского тщеславия, от обилия пустых соблазнов и нелепых тревог изнемогла бы ее душа. Но среди волн да живет она вечно — там, и только там не убудет во веки веков от ее красоты и молодости! И так плавала женщина по хлябям морским годы и годы — временами проплывая на корабле совсем близко от острова, где жил и старел ее возлюбленный. Тогда она принималась кричать что было сил: приди, любимый, и забери меня на берег!.. Возлюбленный слышал ее стенания — и ничего не предпринимал, ибо любил ее и ведал, что берег обозначает для нее гибель молодости и красоты. И вот однажды она решилась сама — бросилась в воду и доплыла до берега. Одну только ночь провели они вместе — чудную, чудную ночь… А наутро он увидел, что с рассветом красавица превратилась в древнюю-предревнюю старуху — будто иссохший лист лежал рядом с ним.
— Не знаю, слышал ли я эту историю от кого-то, — сказал капитан. — А может, она еще никем не рассказана — и совершается как раз сейчас и с нами… Вообрази себе, что я нарочно увлек тебя в море — прочь от гвалта больших и малых городов, прочь от автомобильных гудков и суетливых многомиллионных толп, прочь от всего, что изнашивает тело и душу.
Теперь Кейт хохотала. Звонко, громко, запрокинув голову. И матросы, отряхнув сонную одурь, вдруг зашевелились и ответно заулыбались.
— Том, любимый мой Том, разве ты не помнишь, что я сказала на трапе перед отплытием? «В последний раз я касаюсь твердой земли». Как-то само вырвалось. Но я бы еще тогда могла действительно догадаться о том, что ты замыслил! Ладно, твоя взяла — я остаюсь на борту, сколько бы мы ни плыли и куда бы мы ни плыли — хотя бы и на край земли. Стало быть, я уже никогда не постарею, да и ты тоже?
— Мне вечно будет сорок восемь!
И он рассмеялся — довольный тем, что изгнал из своей головы темные мысли. Обнимая Кейт, осыпая поцелуями ее шею, он словно погружался в снежный сугроб посреди августовской жары. Да, в ту знойную нескончаемую ночь в его постели был словно нерастопимый снег…
— Хэнкс, ты помнишь тот штиль в августе девяносто седьмого года? — крикнул старик в дом. — Сколько он, бишь, длился?
— Дней девять-десять, сэр.
— Нет, Хэнкс. Могу поклясться, тот штиль девяносто седьмого продолжался лет пять, не меньше.
Дней девять или лет десять, разве теперь вспомнишь… Но какое это счастье, Кейт, что я увлек тебя туда, в эти дни или годы, и не смутился тем, как люди пошучивали, будто, прикасаясь к тебе, я тужусь помолодеть. Приятели-капитаны твердили: любовь, она повсюду, ждет в каждом порту, в тени каждого дерева, одинаковая в каждом кабаке, как подогретая кокосовая брага, которую нюхнул, по-быстрому опрокинул в себя и «поплыл». Господи, какое глупое заблуждение! Добро этим жалким забубенным головам перекоряться из-за гроша со шлюхами на Борнео и тискать арбузы у потаскух на Суматре — что прочного они создадут в темных вонючих задних комнатушках с этими лихо пляшущими под ними обезьянами? А на возвратном пути домой — с кем они, эти умудренные капитаны? Одни-одинешеньки. Поганая, надо сказать, компания на пути длиной в десять тысяч миль! Нет, Кейт, пусть злые языки измозолятся, а мы будем вместе — вопреки всему.
Да, мертвый штиль посреди океана все не кончался и не кончался. Море дышало ровно, нечувствительно, и если где-то существовали исполинские дредноуты-континенты, то они не иначе как разломились и канули в бескрайний океан.
Однако на девятый день команда не вытерпела. Матросы спустили шлюпки на воду и сели в них — в ожидании приказа налечь на весла и буксировать корабль как баржу, ища ветра в море. И капитан в конце концов покорился общей воле.
К концу десятого дня на горизонте медленно восстал остров.
Капитан сказал жене:
— Кейт, мы отправляемся к берегу в шлюпках — пополнить запас провизии. Ты с нами?
Она посмотрела на остров узнающим взглядом, словно видела его когда-то и где-то, еще до своего рождения, и медленно мотнула головой: нет.
— Отправляйтесь. Ноги моей не будет на суше, пока мы не прибудем домой.
Глядя на Кейт, он угадал: она интуитивно действует по букве той легенды, которую он с такой легкостью сплел и так легкомысленно рассказал. Подобно той сказочной красавице, его любимая чуяла, что на безлюдном песчаном берегу кораллового рифа таится некое зло, от которого ей будет ущерб, а то и гибель.
— Что ж, Кейт, Господь тебе навстречу. Нас не будет часа три.
И он уплыл вместе с матросами.
Ближе к вечеру они вернулись. С пятью бочонками свежей пресной воды. Из лодок поднимался пряный запах фруктов и цветов.
Кейт терпеливо поджидала на корабле, ибо эта женщина стояла на том, что нога ее больше не коснется суши.
Ей первой дали испить свежей прохладной воды.
Расчесывая волосы перед сном, глядя на едва заметное колыхание волн, она сказала:
— Вот и все. Уже недолго. К утру все переменится. Ах, Том, Том, как это будет трудно — такой холод после такого зноя…
Посреди ночи он проснулся. Рядом в темноте беспокойно ворочалась Кейт и что-то бормотала во сне. Прикосновение ее руки обожгло. Потом она вскрикнула, но не проснулась.
Капитан пощупал ее пульс и прислушался к другому биению — снаружи начиналась буря.
Пока он встревоженно сидел возле Кейт, корабль начал медленно ходить вверх-вниз на высоких волнах. Чары рассеялись: период волшебного покоя завершился.
Одрябшие паруса наполнились жизнью, бодро заполоскались. Все канаты вдруг зазвучали — словно могучая рука вдруг перебирала струны, казалось, навек замолчавшей арфы. Волшебная музыка возобновленного путешествия.
Штиля как не бывало. Свирепствовал шторм.
И будто одного шторма было мало, внутри его свершилось нечто ураганное.
Лихорадка накинулась на Кейт со свирепостью огненного смерча — испепелила враз. Тот шторм снаружи еще бушевал, а здесь, в каюте, уже воцарились гробовая тишь и вечный покой.
Матрос, обычно чинивший паруса, скроил для Кейт саван, в котором ей предстояло лечь на морское дно. В полумраке каюты иголка в руках матроса летала и посверкивала будто крохотная тропическая рыбка — узкорылая, узкоспинная, неутомимая: ныр-ныр, ныр-ныр, снова и снова тычется рыльцем в холст и вшивает в него тишину.
В последние часы урагана они вынесли на палубу зашитый в белый саван штиль и бросили его в волны, на полмгновения разорвав их бег. Да, меньше половины мгновения — и не стало Кейт.
Не стало и его жизни.
— Кейт, Кейт! О Кейт!
Как он мог оставить ее здесь — просто обронить в морские потоки между Японией и Золотыми Воротами? В ту ночь внутри капитана лютовала буря пострашнее шторма и его собственные рыдания были громче ураганного воя. Позабыв о смертельной опасности, он прилип к рулевому колесу — и все кружил, кружил вокруг того места, где холщовый мешок причинил морю ничтожную ранку, которая затянулась с безумящей скоростью. И вот тогда-то он познал покой — тот самый покой, который остался с ним на всю дальнейшую жизнь. С тех пор он ни разу ни на кого не повысил голос и ни разу ни на кого не сжались у него кулаки. Именно так, спокойным невыразительным голосом и не потрясая кулаками, капитан наконец-то отдал приказ идти прочь от того рокового места в океане, даже не оцарапанного там, где должна была зиять рана. Ровным голосом командовал он в море во время кругосветных плаваний и в портах при погрузке и разгрузке товаров. Потом с тем же спокойствием в один прекрасный день сошел с корабля и навеки повернулся к морю спиной. Бросив родной корабль томиться в гавани, зажатой зелеными холмами, капитан где пешком, где на колесах все удалялся и удалялся от моря, пока не оказался в двенадцати сотнях миль от него. Там он, словно во сне, купил участок земли. Словно во сне, построил на нем дом — вместе с Хэнксом. Что он купил и что строит — этим он не интересовался очень долго. Одно вертелось в голове: счастье было так быстротечно! Против Кейт он был стариком. Однако он лишился возлюбленной слишком молодым… Впрочем, уж теперь-то он был стар, чтобы надеяться на новое счастье.
Словом, оказался он в месте, где до восточного побережья тысяча миль, до западного — и того больше, и проклял свою жизнь и такое знакомое ему море, ибо помнил не то, что оно ему дало, а то, что оно так стремительно отняло.
И был день, когда он вышел в поле, твердо ступая по твердому, и бросил в землю семена, и стал готовиться к первому урожаю, и стал называть себя фермером.
Но однажды ночью в свое первое фермерское лето, забравшись так далеко от ненавистного моря, как только человек может, он проснулся среди ночи от знакомого шума — и не поверил своим ушам. Он весь затрясся под одеялом и зашептал: «Нет, нет, этого быть не может… Я схожу с ума!.. Но… но ты только послушай!»
Он распахнул дверь своего фермерского дома и вышел на веранду — поглядеть что к чему. Лишь теперь его как обухом ударило: так вот что я, стало быть, сделал — без собственного ведома.
Вцепившись в поручень веранды и смигивая слезы, он молча озирал окрестные поля.
На залитых лунным светом пологих холмах колыхалась пшеница — плескалась пшеница, взблескивая отраженным светом. Вал за валом, как волны в море. Его дом, ставший вдруг кораблем, находился прямехонько посреди великого и безграничного тихого океана колосьев.
Остаток ночи он провел вне дома — перебегая с места на место, все еще ошарашенный своим открытием: море в самом центре континента!
Следующие годы были посвящены переделке дома. Пристроечка здесь, пристроечка там, досочка здесь, планочка там — глядишь, и вышло со временем подобие корабля. И внешне похоже, и по существу, и с тем же чувством надежности в случае лютых ветров и крутых волн.
— Слышь, Хэнкс, как давно мы не видели моря?
— Двадцать лет, капитан.
— Врешь! Мы его видели не далее как сегодня утром.
Капитан вернулся в дом. Сердце тяжело колотилось. Барометр на стене словно тучей заволокло, а по краю век будто молнии змеились.
— Не надо кофе, Хэнкс. Просто глоток чистой воды. Хэнкс вышел за водой. Когда он вернулся, старик сказал:
— Обещай мне кое-что. Похорони меня там же, где я похоронил ее.
— Но, капитан, она же… — Тут Хэнкс осекся. Потом энергично кивнул: — Стало быть, где она. Хорошо, сэр. Не сомневайтесь, сэр.
— Замечательно. А теперь водицы.
Вода была свежая, ключевая, родом с островов под твердью земной. И с привкусом вечного сна.
— Чашка воды… А ты знаешь, Хэнкс, она была права. Никогда больше не ступать на берег — никогда-никогда. В этом что-то есть. Как права она была! И всего-то я ей дал — чашку воды с суши. Пригоршней воды коснулась суша ее губ, и в этой пригоршне нечистой воды… О, если бы, если бы…
Порыжелая от времени рука всколыхнула воду в чашке. Из ниоткуда вдруг налетел ураган, вздыбил волнами уютный чашечный штиль. Смертоносная буря разыгралась в крохотном сосудце.
Капитан поднял чашку к губам и быстрыми глотками испил ураган до дна.
— Хэнкс! — вскрикнул он.
Нет-нет, это не он вскрикнул, это ураган прощально взревел, уносясь и унося его с собой. Пустая чашка покатилась по полу.
Стоял довольно ясный день. Воздух был приятно свеж, а ветер приятно крепок. Полночи Хэнкс копал могилу и половину утра закапывал ее. Теперь работа была закончена. Городской священник пособил ему немного, а теперь стоял в стороне и наблюдал, как Хэнкс укладывает поверх зарытой вровень с землей могилы куски прежде срезанного верхнего слоя почвы — с золотыми колосьями зрелой пшеницы ростом с десятилетнего мальчишку. Эти куски, отложенные при рытье, Хэнкс аккуратно пригонял один к одному, как части головоломки.
Наконец он поставил последний и разогнулся. Теперь поле сомкнулось над могилой и казалось нетронутым.
— Хотя бы крест или еще какой знак! — возмутился священник.
— Нет, сэр. Тут никакого знака быть не должно. И не будет.
Священник снова запротестовал, но Хэнкс решительно взял его под руку и повел на вершину взгорка. Там он обернулся и жестом пригласил посмотреть вниз.
Постояли молча. Довольно долго. Затем священник понимающе кивнул и с умиротворенной улыбкой сказал:
— Вижу-вижу. И понимаю.
Под ними колыхался океан пшеницы — волны бежали одна за другой, все на восток да на восток — ни тебе пролысинки, ни тебе выемки, чтобы указать на место, где капитан погрузился в вечный покой.
— Выходит, это погребение по морскому обычаю, — сказал священник.
— По самому что ни на есть морскому, — отозвался Хэнкс. — Я обещал ему. И слово сдержал.
Тут они разом повернулись и зашагали холмистым берегом — и ни словом не перемолвились, пока не дошли до дома, скрипящего на ветру.
День смерти
Утро.
Мальчишка по имени Раймундо несся по Авенида Мадеро. Он бежал сквозь ранний запах ладана, доносившийся из множества церквей, и сквозь запах угля от десятка тысяч жаровен, на которых готовились завтраки. Он двигался среди мыслей о смерти, поскольку этим утром весь Мехико был пропитан мыслями о смерти. Храмы отбрасывали огромные тени, повсюду были женщины в черных траурных платьях, и дым от церковных свечей и жаровен забивал ноздри бегущего мальчика запахом сладкой смерти. Ничего странного — в этот день все мысли были о смерти.
Это был El Dia de Muerte, День Смерти.
Во всех уголках страны женщины с фанерных лотков торговали белыми сахарными черепами и марципановыми покойниками, которых следовало жевать и глотать. Во всех храмах шли богослужения, а на всех кладбищах сегодня вечером зажгут свечи и люди будут пить много вина и потом долго петь высокими голосами.
Раймундо бежал и чувствовал, что его наполняет целая вселенная; и то, что рассказывал ему Тио Хорже, и то, что он сам видел за свою жизнь. В этот день будет много интересного, даже в таких далеких местах, как Гуанахуато или озеро Пацкуаро. А здесь, на большой арене для боя быков trabajandos, уже сейчас разгребают и ровняют песок, вовсю идет торговля билетами, и быки в скрытых от постороннего взгляда стойлах нервничают, бешено вращают глазами или стоят, как в параличе, в предчувствии смерти.
Тяжелые железные ворота кладбища Гуанахуато были широко распахнуты, чтобы turistas, спустившись по длинной винтовой лестнице глубоко под землю, могли попасть в сухие гулкие катакомбы и поглазеть на стоящие вдоль стены мумии, жесткие, как куклы. Сто десять мумий, надежно прикрепленных проволокой к камням, с искаженными гримасой ужаса ртами и высохшими глазами; тела, которые зашуршат, если до них дотронуться.
Жители острова Ханицио на озере Пацкуаро забрасывали в воду большие сети, чтобы они наполнились серебристой рыбой. Здесь, на острове, который славился огромной каменной статуей отца Морелоса, стоящей на горе, уже начали пить текилу, что открывало празднование Дня Смерти.
В крохотном городке Ленарес грузовик переехал собаку, и шофер не остановился и даже не оглянулся.
Сам Христос был в каждом храме, весь окровавленный и измученный.
А Раймундо, освещенный ноябрьским солнцем, бежал по Авенида Мадеро.
Ах, эти сладкие ужасы! Повсюду в витринах выставлены сахарные черепа с именами на их белоснежных лбах: ХОСЕ, КАРЛОТТА, РАМОНА, ЛУИЗА. Все мыслимые имена на шоколадных мертвых головах и засахаренных костях.
Небо над головой отливало голубой глазурью, а трава казалась ярко-зеленым ковром. В кулачке Раймундо крепко сжимал пятьдесят сентаво — большие деньги, на которые можно было купить массу сладостей, и он обязательно купит и ноги, и череп, и ребра и с удовольствием съест их. Сегодня — день поедания Смерти. Они покажут этой Смерти, да уж, зададут ей жару! Он и madrecita mia, он и его братья и сестренки!
В своем воображении мальчик уже видел череп с карамельной надписью: РАЙМУНДО. «Я съем свой собственный череп и обману Смерть, которая вечно стучится в окно каплями дождя или скрипит в петлях старой двери. Обману Смерть, запеченную в пирожок больным пекарем, Смерть, одетую в саван из вкусной маисовой лепешки».
Раймундо казалось, что он прямо-таки слышит, как все это ему рассказывает старый Тио Хорже. Его старый-престарый дядя с лицом кирпичного цвета, который движением пальцев помогает каждому слову вылетать изо рта и который говорит: «Смерть сидит в твоих ноздрях, как курчавые волоски, Смерть растет в твоем животе, как ребенок. Смерть блестит в твоих глазах».
За шатким лотком какая-то старуха со злобным ртом и бусинками в ушах торговала досточками, на которых были изображены миниатюрные похороны: маленький картонный гробик, священник из папье-маше с микроскопической Библией, бумажные служки с орешками вместо голов, клир с хоругвями и леденцово-белый покойник с крохотными глазами в игрушечном гробу. На алтаре за гробом стояла фотография кинозвезды. Эти маленькие похороны на фанерке можно было принести домой, выбросить кинозвезду, а на ее место на алтаре вставить фотографию своего усопшего — чтобы была возможность как бы еще раз похоронить любимого человека.
Раймундо протянул монетку в двадцать сентаво.
— Одну, — сказал он и получил фанерку со сценой погребения.
Тио Хорже говорил:
— Жизнь, Раймундо, — это погоня за вещами. В жизни всегда должно хотеться каких-то вещей. Тебе будет хотеться воды, ты будешь желать женщину, ты будешь хотеть спать; больше всего — спать. Тебе захочется купить нового ослика, сделать новую крышу в своем доме, ты захочешь красивые ботинки, как в стеклянных витринах, и опять тебе захочется спать. Ты будешь хотеть дождя, ты будешь хотеть спелых фруктов, ты будешь хотеть хорошего мяса; и снова ты захочешь спать. Тебе понадобится лошадь, тебе понадобятся дети, тебе понадобятся драгоценности из огромных сверкающих магазинов на avenida, и — ты, конечно же, помнишь? — в конце концов тебе понадобится сон. Запомни, Раймундо, ты будешь хотеть разных вещей. Жизнь — это такое вот хотение. Тебе будет хотеться вещей до тех пор, пока ты не перестанешь их хотеть, и тогда наступит время, чтобы желать только сна, и сна, и сна. Для каждого из нас наступает такое время, когда сон становится самой великой и прекрасной вещью. И когда уже ничего не хочется, кроме сна, тогда человек начинает думать о Дне Мертвых и счастливых усопших. Запомнил, Раймундо?
— Si, Тио Хорже.
— А чего тебе хочется, Раймундо?
— Я не знаю.
— Чего хотят все люди, Раймундо?
— Чего?
— Чего следует хотеть, Раймундо?
— Может быть, я знаю. Ах нет, не знаю, не знаю!
— Зато я знаю, чего ты хочешь, Раймундо.
— Чего?
— Я знаю, чего хотят все люди в этой стране. Этого полно кругом, но этого хотят больше всего, и это превыше всех прочих желаний, этого вожделеют и этому поклоняются, потому что это отдохновение и покой для всех членов и всего тела…
Раймундо зашел в лавку и взял сахарный череп, на котором было написано его имя.
«Ты держишь это в руках, Раймундо, — прошептал Тио Хорже. — Даже в твоем возрасте ты бережно держишь это, откусываешь маленькие кусочки, потом их глотаешь, и они растворяются в твоей крови. У тебя в руках, Раймундо, посмотри!»
Сахарный череп.
«Я вижу собаку на улице. Я веду машину. Я что, торможу? Или убираю ногу с педали? Нет! Прибавляю скорости! Бах! Так-то! Собаке стало хорошо, разве нет? Ушла из этого мира, покинула его навсегда».
Раймундо расплатился и с гордостью засунул свои грязные пальцы внутрь черепа, тем самым снабдив его мозгом с пятью шевелящимися извилинами.
Мальчик вышел из лавки, оглядел залитый солнцем широкий бульвар, по которому неслись ревущие автомобили. Он перевел взгляд и…
Все barreras были забиты битком. В la sombra и el sol, в тени и на солнцепеке, все места гигантской чаши стадиона, где состоится коррида, были заполнены народом до самого неба. Духовой оркестр гремел медью! Ворота раскрыты настежь! Матадоры, пикадоры, banderilleros — все вышли или выехали на свежий, ровный песок арены, горячий от яркого солнца. Оркестр грохотал и взрывался маршами, возбужденная публика махала руками, аплодировала и кричала.
Ударили литавры, и музыка оборвалась.
За стенками barrera мужчины в обтягивающих блестящих костюмах натягивали береты на лоснящиеся черные волосы, переговариваясь друг с другом, осматривали свои плащи и шпаги, а какой-то человек, перегнувшись сверху через ограждение, шуршал и щелкал наведенным на них фотоаппаратом.
Снова гордо грянул оркестр. Ворота с шумом распахнулись, и на арену выскочил первый огромный черный бык.
Его бока тяжко вздымались, и развевались цветастые ленточки, прикрепленные к его загривку. Бык!
Раймундо стремглав мчался по Авенида Мадеро. Он очень ловко лавировал между быстрыми, большими и черными, как быки, автомобилями. Одна гигантская машина взревела и начала сигналить. Раймундито бежал быстро и легко.
Легко, словно танцуя, похожий на голубое перышко, которое порыв ветра несет над песком арены, выбежал banderillero навстречу быку. Бык громоздился перед ним, подобно черной скале. Вот banderillero остановился, встал в позу для броска и топнул ногой. Banderillas подняты, ах! ну же! Мягко-мягко побежали голубые балетные тапочки по гладкому песку, и бык тоже ринулся вперед, но banderillero, приподнявшись на носках, изящно изогнулся, и две пики упали вниз, и бык остановился как вкопанный, издавая не то мычание, не то визг от боли, которую причиняли ему два острия, глубоко впившиеся в загривок. A banderillero, источник его боли, уже исчез. Толпа взревела от восторга!
Ворота кладбища Гуанахуато открылись.
Раймундо стоял не шевелясь, будто примерз к асфальту, а машина надвигалась на него. Вся земля пахла древней смертью и прахом, и все вещи вокруг стремились к смерти либо были охвачены смертью.
Кладбище Гуанахуато заполнили turistas. Массивная деревянная дверь была отперта, и они по шатким ступенькам спустились в катакомбы, где вдоль стены стояли сто десять наводящих ужас, иссохших, сморщенных мертвецов. Выступающие вперед зубы, широко раскрытые глаза, устремленные в пустоту. Обнаженные тела женщин, подобные множеству проволочных каркасов, на которые криво и беспорядочно налипли комья глины. «Мы ставим их в катакомбах, потому что родственники не могут заплатить за погребение», — шептал низкорослый служитель.
У подножия холма, где находится кладбище, что-то похожее на представление жонглеров: идет мужчина, пытаясь удержать на голове какой-то предмет, за ним следует небольшая толпа. Они проходят мимо похоронной лавки под музыку гробовщика, который, набив рот гвоздями, стучит по гробу, как по барабану. Осторожно балансируя, жонглер несет на черной гордой голове обшитую атласом серебристую коробку, до которой он то и дело осторожно дотрагивается, чтобы та не упала. Он шагает с большим достоинством, мягко наступая босыми ногами на булыжники, а за ним плетутся женщины в черных rebozos. В коробке, скрытый от всех взоров, в полной безопасности лежит маленький покойник — его только что умершая дочка.
Похоронная процессия проходит мимо открытых лавок гробовщиков, из которых на всю округу разносится стук молотков и визг пил. Эту процессию в катакомбах поджидают стоящие покойники.
Раймундо выгнул спину, как torero, когда он делает veronica, чтобы надвигающийся автомобиль мог проскочить мимо и зрители воскликнули бы «Ole!». Он улыбнулся во весь рот.
Черная машина нависла над ним, застилая свет, и задела мальчика. Тьма пронзила его насквозь. Наступила ночь…
В церковном дворе на озере Ханицио, под огромной темной статуей отца Морелоса — кромешная тьма, потому что еще ночь. Слышатся только высокие голоса мужчин, чья плоть высохла от вина, мужчин с женскими голосами, но не такими, какие бывают у нежных женщин, нет: это голоса женщин жестоких, пьяных, порывистых, диких и меланхоличных. На темной глади озера появляются огоньки — с того берега плывут индейские лодки, на которых из Мехико едут туристы, чтобы посмотреть церемонию El Dia de Muerte. Лодки скользят в тумане по черному озеру, люди в них дрожат от холода и кутаются в пледы.
Восходит солнце.
Христос пошевелился.
Он опустил руку с распятия, потом поднял ее и вдруг — помахал.
Горячее солнце вспыхнуло, рассыпавшись искрами, как золотой взрыв, из-за высокой колокольни в Гвадалахаре и высокого распятия, покачивающегося под порывами ветра. Если бы Христос посмотрел своими добрыми, теплыми глазами вниз — а именно это он и сделал в данный момент, — он увидел бы две тысячи зрителей, запрокинувших кверху головы: как будто множество дынь рассыпались по рыночной площади; увидел бы тысячу поднятых рук, загораживающих от солнца напряженные и любопытные глаза.
Подул небольшой ветерок, и крест на колокольне качнулся и чуть подался вперед.
Христос помахал рукой. Те, кто стоял внизу на площади, помахали в ответ. Кто-то вскрикнул в толпе. Автомобилей на улицах не было. На площади пахло свежескошенной травой и ладаном из дверей церкви. Было одиннадцать часов жаркого, зеленого воскресного утра.
Затем Христос опустил вторую руку, помахал ею и неожиданно, оторвавшись от креста, перевернулся и повис на ногах, головой вниз. На лицо ему упал маленький серебряный медальон, висевший у него на смуглой шее.
— Ole! Ole! — закричал где-то далеко внизу мальчуган, показывая пальцем сначала на него, а потом на себя. — Вы видите, видите? Это Гомез, мой брат!
И мальчик, держа в руке шляпу, начал обходить толпу и собирать деньги.
Раймундо, лежащий на асфальте, пошевелился, закрыл глаза и вскрикнул. И снова провалился во тьму.
Туристы вылезли из лодок и сонно бредут по ночному острову Ханицио. На сумрачных улицах, как туман с озера, развешены огромные сети, а на лотках поблескивают горы пойманной сегодня серебристой рыбы. Лунный свет играет на ее чешуе.
В ветхой церкви на вершине пологого холма стоит Христос, сильно источенный термитами, хотя кровь все еще обильно течет из его живописных ран, и минет еще не один год, пока маска страдания на его лице будет полностью съедена насекомыми.
Подле церкви сидит чахоточная женщина, время от времени заходящаяся в кашле, и помахивает сорванными ипомеями над пламенем шести свечей. Цветы, проходя сквозь огонь, испускают нежный возбуждающий запах. Движущиеся мимо туристы останавливаются рядом и стоят, глядя вниз. Им хочется спросить, что делает здесь женщина, сидя на могиле мужа, однако они молчат.
В церкви, словно смола на прекрасном дереве, на теле Христа, вырезанном из плоти красивых заморских деревьев, выступает сладкая священная камедь и висит мелкими дождевыми каплями, которые никогда не упадут, — кровь, пеленающая его наготу.
«Olе!» — вопит толпа.
Опять яркий солнечный свет. Что-то давит на Раймундо. Машина, свет, боль!
На коне, обвязанном толстыми матами, выехал пикадор и ударил быка сапогом по плечу, одновременно всадив туда длинное древко с тонким острым шипом на конце. Пикадор тут же исчез. Заиграла музыка. Вперед медленно выходил матадор.
Бык стоял, выставив одну ногу, в центре залитого солнцем круга. Все его чувства были напряжены. В глазах тускло поблескивали одновременно страх и ненависть. Его нервы были на пределе, но он нервничал все больше и больше, и это только приближало развязку. Из распоротого плеча лилась кровь, шесть banderillas, впившиеся в спину, позвякивали, ударяясь друг о друга.
Матадор очень тщательно, никуда не торопясь, прикрыл шпагу плащом. Зрители и вздрагивающий бык терпеливо ждали.
Бык ничего не знал, ничего не понимал. Бык не желал ничего видеть и понимать. Мир — это боль, мелькание теней и света да усталость. Бык стоял и ждал, когда его убьют. Он был бы только рад побыстрее прекратить всю эту путаницу, мельтешение силуэтов, размахивание предательскими плащами, лживый гром фанфар и фальшивый бой.
Бык шевельнулся, пошире расставил ноги и остался в прежней позе, медленно поводя головой из стороны в сторону. Глаза его подернулись мутной пленкой, по задним ногам текли зеленоватые экскременты, кровь, пульсируя, лениво струилась из шеи. Где-то вдалеке, на краю зрения, человек выставил перед собой блестящую шпагу. Бык не шевельнулся. Шпага, которую держит улыбающийся человек, трижды коротко чиркнула под носом у ослепшего быка — раз-раз-раз!
Толпа взвыла от восторга.
Бык не двинулся с места и даже не вздрогнул. Кровь струей полилась из сопящих, разрезанных ноздрей. Матадор топнул ногой.
С обреченной покорностью бык побежал навстречу врагу. Шпага пронзила его шею. Бык зашатался, упал с глухим шумом, дернул ногой, замер.
«Ole!» — взвыла толпа. Оркестр грянул финальный туш!
Раймундо почувствовал, как его ударила машина. В глазах замелькали черно-белые вспышки.
В церковном дворе Ханицио над двумя сотнями каменных могил горели двести свечей, пели мужчины, туристы внимательно наблюдали за происходящим, с озера поднимался туман.
В Гуанахуато вовсю светит солнце! Пробиваясь в катакомбы сквозь щель в потолке, солнечный луч падает на карие глаза женщины, стоящей со скрещенными руками и широко раскрытым ртом. Туристы трогают ее и щелкают по ней пальцами, как по барабану.
«Ole!» Матадор обошел по кругу арену, держа высоко над головой свой маленький черный берет. Хлынул ливень. Сверху посыпались монеты, кошельки, ботинки, шляпы. Матадор стоял под этим дождем с миниатюрным беретом вместо зонтика!
Подбежал человек с отрезанным ухом убитого быка. Матадор показал его зрителям. Когда он делал круг почета, публика бросала на арену свои шляпы и деньги. Однако большие пальцы были опущены вниз, и, хотя крики выражали удовлетворение, толпа была недовольна тем, что он принял отрезанное ухо. Пальцы опущены. Не оглядываясь, матадор пожал плечами и с силой швырнул ухо о песок. Окровавленное ухо лежало на арене, а толпа, обрадованная тем, что матадор его выбросил, поскольку не так уж хорошо он провел бой, возликовала. На арену выскочили уборщики, прицепили поверженного быка к упряжке лошадей, которые шарахались и испуганно свистели ноздрями, почуяв запах свежей крови и оглохнув от криков зрителей. Лошади рванули и потащили мертвую тушу за собой, оставляя в песке борозды от рогов быка и капли крови.
Раймундо почувствовал, как сахарный череп выскользнул у него из руки. Погребение на деревянной дощечке тоже выпало из другой его откинутой руки.
Бах! Бык ударился о barrera и отскочил от заграждения, а лошади с диким ржанием скрылись в туннеле.
Какой-то человек подбежал к barrera, где сидел сеньор Виллалта, протянул вверх banderillas с острыми наконечниками, измазанными кровью и плотью быка. «Gracias!» Виллалта бросил вниз песо, гордо взял banderillas, на которых развевались маленькие оранжевые и голубые креповые ленточки, и изящно, как музыкальные инструменты, преподнес их жене и друзьям, курившим сигары.
Христос пошевелился.
Толпа смотрела вверх на покачивающийся крест колокольни.
Христос сделал стойку на руках, подняв ноги к небу!
Маленький мальчик бегал в толпе. «Видите моего брата? Платите! Это мой брат! Платите!»
Теперь Христос висел, ухватившись одной рукой за колеблющийся крест. Под ним раскинулся весь город Гвадалахара, очень красивый и очень спокойный в воскресенье. «Сегодня я заработаю много денег», — думал он.
Крест пошатнулся, и его рука соскользнула. В толпе раздался крик.
Христос упал.
Христос умирает ежечасно. Его можно видеть вырезанным из дерева и высеченным из камня в десятках тысяч скорбных мест. Он возводит глаза к высоким пыльным небесам десятков тысяч храмов, и при этом всегда много крови, ах, сколько крови.
«Видите! — сказал сеньор Виллалта. — Видите!» Он подносил banderillas к красным и потным лицам своих друзей.
За ним бежали дети, смеялись, хватали за одежду, а матадор раз за разом обходил арену под непрекращающимся градом монеток и шляп.
Лодки с туристами уже плывут назад по предрассветно-бледному озеру Пацкуаро. Ханицио остался позади, свечи догорели, кладбище опустело, сорванные цветы выброшены и завяли. Лодки причаливают, туристы сходят на берег. Их встречает новый день, а в гостинице, построенной на самом берегу озера, их поджидает огромный серебряный кофейник; от него с тихим шепотом поднимается пар, словно последние клочья озерного тумана, и растворяется в теплом воздухе ресторана. Приятно позванивают тарелки и вилки, слышится приглушенный шум светской беседы. Веки тяжелеют, и кофе допивается уже в полудреме, в предвкушении мягкой подушки. Двери закрываются. Туристы засыпают на влажных от тумана подушках, завернувшись в пропитанные туманом простыни, как в саваны.
В Гуанахуато ворота заперты, исчезли жесткие кошмары. Винтовую лестницу вынули, она лежит на ноябрьском припеке. Лает собака. Ветер треплет мертвые ипомеи. Захлопывается большая дверь над спуском в катакомбы. Высушенные люди убраны.
Оркестр исполняет последнюю триумфальную мелодию, и barreras пустеют. Выйдя со стадиона, люди проходят вдоль рядов нищих с гноящимися глазами, которые поют высокими-высокими голосами; внизу, на арене, кровавые следы последнего быка засыпают песком, и песок разравнивают люди с граблями. Матадор моется в душе, и его по мокрым ягодицам шлепает человек, который благодаря ему сегодня выиграл деньги.
В ослепительном свете упал Раймундо, упал Христос. Раймундо коснулся земли, Христос коснулся земли, но они не узнали об этом.
Похороны на фанерке разбились вдребезги. Сахарный череп отлетел далеко в водосточный желоб и разбился на три десятка белоснежных кусочков.
Мальчик, Христос, лежал тихо.
«Ах», — сказала толпа.
«РАЙМУНДО», — сказали кусочки сахарного черепа, рассыпавшиеся по земле.
А кусочки сахарного черепа с буквами Р, и А, и Й, и М, и У, и Н, и Д, и О были подобраны, расхватаны и съедены детьми, которые дрались за каждую часть имени.
Иллюстрированная женщина
Когда новый пациент приходит в кабинет, впервые растягивается на кушетке и начинает пышный парад своих свободных ассоциаций, опытный психоаналитик обязан для начала определить, какими частями тела его собеседник касается поверхности кушетки.
Другими словами, определить точки соприкосновения пациента с реальностью.
От некоторых создается впечатление, что они всей своей анатомией парят в дюйме над кушеткой. Такие не бывали на твердой почве так давно, что у них развилось что-то вроде морской болезни.
Есть другой тип. Эти на дружеской ноге с силой земного притяжения: ложатся с такой основательностью, так плотно притирают себя к реальности — ворочаясь и пристраиваясь, что после их ухода в мякоти кушетки надолго остается отпечаток.
Случай с Эммой Флит совсем особенный. Когда она возлегла перед креслом доктора Джорджа С. Джорджа, тот долгое время не мог понять, где кончается пациентка и где начинается кушетка.
Потому что своими размерами Эмма Флит могла бы посоперничать не только с кушеткой, но и со стоящим рядом трехстворчатым шкафом.
Сердце обливалось кровью при виде того, как эта женщина самостоятельно преодолевает двери, тогда как с платформой, лебедкой и бригадой рабочих процесс был бы и короче, и эстетичнее.
Когда она продвигалась через комнату, половицы прогибались под ней, как чешуя огромной рыбины.
Доктор Джордж не мог сдержать новый сочувственный вздох, прикинув в уме, что эта гора мяса должна весить по меньшей мере четыреста фунтов.
Будто прочитав его мысль, Эмма Флит улыбнулась.
— Если быть точной, я вешу четыреста два фунта, — сказала она.
Тем временем доктор Джордж перевел сочувственный взгляд на кушетку.
— О, не беспокойтесь, — опять интуитивно угадала миссис Флит. — Кровать выдержит.
И она села на кушетку.
Та коротко тявкнула, как собака под рухнувшей на нее стеной.
Доктор Джордж откашлялся.
— Прежде чем вы удобно расположитесь, я должен предупредить вас без промедления и со всей честностью, что мы, специалисты-психоаналитики, не гарантируем ощутимых успехов в области лечения патологического аппетита. До настоящего времени проблема излишнего веса и злоупотребления пищей ускользает от разрешения с помощью психоанализа. Признание странное с моей стороны, однако я не хочу излишней деликатностью вводить вас в заблуждение и в бессмысленные расходы. Если вы надеетесь, что я помогу вам сбросить вес, то вы обратились не по адресу.
— Спасибо за откровенность, доктор, — сказала Эмма Флит. — Однако я мечтаю не похудеть, а поправиться. И надеюсь, что вы поможете мне прибавить еще фунтов сто или двести.
— О-о, нет! — воскликнул доктор Джордж.
— О-о, да! Вот только мое сердце, увы, препятствует тому, чего так страстно желает душа. Я хочу сказать: то сердце, которое любит, мечтает прибавить еще двести фунтов, но другое сердце, анатомическое, не выдерживает.
Она горестно вздохнула. А кушетка под ней горестно охнула.
— Позвольте мне коротко ввести вас в курс дела. Я замужем за Уилли Флитом. Мы работаем в странствующей труппе, которая называется «Шоу Диллбека и Хорсманна». Мое цирковое имя — Леди Меня-Много. А Уилли…
Поднявшись с кушетки, как вулкан из моря, она проплыла через комнату, догоняя свою исполинскую тень, и распахнула дверь.
В приемной, как раз напротив двери, с тросточкой в одной руке и с соломенной шляпой в другой, держа спину по-армейски прямо, сидел худощавый мужчина крохотного росточка с маленькими изящными ручками и скучающе разглядывал обои маленькими ярко-голубыми глазками. В нем едва ли было три фута роста, и на полных шестьдесят фунтов он тянул разве что в мокрой одежде после дождя. Однако маленький подбородок выразительного личика был с достоинством вскинут, а в глазах полыхали гордыня и страсть, наводившие на мысль о неистовой гениальности.
— Это мой Уилли Флит, — с нежностью в голосе сказала Эмма и прикрыла дверь.
Кушетка опять вскрикнула под ней.
Лучистым взглядом Эмма безмятежно смотрела на ошарашенного психоаналитика, который никак не мог прийти в себя.
— Я так понимаю, детей у вас нет? — машинально спросил он.
— Детей нет, — сказала Эмма Флит, продолжая счастливо улыбаться. — Однако наша беда также и не в этом. В сущности, Уилли и есть мой ребенок. И я ему не только жена, но и в некотором отношении мать. Наверное, это отчасти связано с нашими размерами. Однако мы как бы уравновешиваем друг друга и живем в полной гармонии.
— Хорошо. Если ваша проблема не в отсутствии детей, и не в излишке веса, и не в разнице габаритов — тогда в чем же?
Эмма Флит тихонько рассмеялась. В ее приятном смехе не было и следа раздражения. Казалось, внутри массивного тела с жирной шеей спрятана субтильная девчушка со звонким горлом.
— Потерпите, доктор. Следует ли мне начать с самого начала и поведать, как мы с Уилли познакомились?
Доктор пожал плечами, усмехнулся про себя, кивнул и внутренне расслабился, приготовившись к долгому рассказу.
— Старшеклассницей я весила сто восемьдесят фунтов. А к двадцати одному году тянула уже на все двести пятьдесят. Как вы можете догадаться, подружки редко брали меня с собой на загородные пикники. Когда предстояла прогулка на природе, я заранее знала, что мне суждено в гордом одиночестве куковать в городе.
С другой стороны, у меня было много подружек, любивших бывать со мной на людях. Почти все они весили под сто пятьдесят фунтов, однако на моем фоне казались худышками. Впрочем, это драма давно минувших дней. Теперь я нисколько не стыжусь своего веса. Встреча с Уилли полностью изменила мою жизнь.
— По всему видно, ваш Уилли — примечательная личность, — вырвалось у доктора Джорджа, хотя подобный комментарий был против правил.
— О да! Он замечательный! В нем скрыто тлеют великие способности — у него огромный талант, пока непризнанный и неведомый миру! — ласковой скороговоркой произнесла Эмма Флит. — Он ворвался в мою жизнь подобно летнему урагану — да благословит его Господь! Восемь лет назад я была с подружкой на карнавале в День труда. К концу вечера я осталась одна-одинешенька среди редеющей толпы, потому что парни, весело проносясь мимо, подхватывали то одну, то другую из моих подружек и уводили их прочь, в темноту. И вот брожу я неприкаянно, теребя в руках свою сумочку — дешевая подделка под крокодиловую кожу, — и действую на нервы парню с весами под табличкой «Узнайте свой вес!», потому что, проходя мимо, я каждый раз делаю задумчивое лицо, словно собираюсь вынуть монетку и взвеситься.
Но, как оказалось, я не раздражала парня с весами. Совсем наоборот. Пройдя мимо него раза три, я вдруг заметила, что он таращится на меня с почтительным любопытством, да что там с любопытством — с восхищением! И догадайтесь, кто был этот парень с весами? Разумеется, Уилли Флит. Когда я проплывала мимо весов в четвертый раз, он окликнул меня и обещал призовую игрушку, если я доставлю ему удовольствие и взвешусь. Когда я согласилась и подошла, он весь раскраснелся от возбуждения. Он так и пританцовывал возле меня. Прямо не знал, с какой стороны забежать и как мне получше угодить. За всю мою прежнюю жизнь не было случая, чтобы кто-нибудь так ласково суетился вокруг меня. Щеки у меня вспыхнули, но я чувствовала себя на седьмом небе. Наконец я уселась на стул весов. Уилли чем-то там пощелкал, и я услышала, как он присвистнул — в полном восторге.
— Двести восемьдесят фунтов! — закричал он. — Ох ты, ах ты, до чего же вы прекрасны!
— Я… Как вы сказали?
— Вы самая прекрасная девушка во всем мире! — заявил Уилли, глядя мне прямо в глаза.
Я снова покраснела до самых ушей. И рассмеялась. Мы оба хохотали. А потом я, наверное, расплакалась — сама не помню как. Опомнилась, когда почувствовала на своем локте ласковое утешающее прикосновение его руки. Он растревоженно заглядывал мне в глаза.
— Извините, я сказал что-нибудь не то?
— Наоборот. — Я в последний раз всхлипнула и успокоилась. — Вы сказали именно правильную вещь. Но это впервые в моей жизни, когда…
— Когда что? — спросил Уилли.
— Вы первый отнеслись по-доброму к тому, что я такая жирная.
— Но вы не жирная! — воскликнул он. — Вы крупная, вы большая, вы прекрасная. Микеланджело был бы от вас в восторге. Тициан вас бы обожал. Леонардо да Винчи стал бы вашим покорным рабом. В эпоху Возрождения люди были умнее. Они умели ценить размер, размах, ширь. Везде и во всем. И я их понимаю. Я с ними целиком и полностью согласен. Мне ли не ценить размер! Поглядите на меня: я шесть сезонов путешествовал по стране с труппой карликов Сингера, и мой сценический псевдоним — Джек Наперсток. Ах ты, Господи, вы же, милая леди, как будто сошли с самой прекрасной картины эпохи Возрождения! Архитектор Бернини, воздвигший эти неохватные колонны алтаря и колоннады собора святого Петра, он бы черту продал свою вечную душу за один взгляд на вас!
— О нет! — вскричала я. — Мне не судьба быть такой счастливой. Когда вы умолкнете, я умру от горя.
— В таком случае, — сказал он, — я не стану останавливаться, мисс…
— Эмма Герц.
— Эмма, — спросил он, — вы замужем?
— Смеетесь?
— Эмма, вы любите путешествовать?
— Я никогда в жизни не путешествовала.
— Эмма, — сказал он, — карнавальные представления в вашем городе продлятся еще неделю, и все это время наша труппа будет здесь. Было бы здорово, если бы вы приходили сюда каждый день и каждый вечер. Мы будем беседовать, познакомимся поближе. И как знать — быть может, в итоге вы решитесь уехать вместе со мной.
— Как мне понимать ваше предложение? — сказала я. Ни гнева, ни раздражения я не испытывала. Просто была приятно поражена и заинтригована тем, что кому-то вообще вздумалось что-то предлагать мне — киту на двух ногах!
— Я имею в виду брак! — Задыхаясь от волнения, Уилли Флит не сводил с меня глаз.
И я вдруг представила его в костюмчике альпиниста, с альпенштоком в руке, в альпийской шляпе с пером и с мотком веревки на детском плечике. Идет покорять Гору. И если бы я спросила его: «Зачем тебе это?» — возможно, я не добилась бы иного ответа, кроме: «Потому что ты существуешь».
Но я не спросила, и ему не пришлось подыскивать ответ. Мы еще долго стояли друг против друга посреди карнавальной ярмарки, прежде чем я пошла прочь — слегка покачиваясь.
— Ой, я пьяная! — закричала я. — Я совсем пьяная, а ведь ничегошеньки не пила!
— Теперь, когда я тебя наконец нашел, — прокричал мне вслед Уилли Флит, — не вздумай исчезнуть! Не смей!
Уж не помню, как я нашла дорогу домой — я была как слепая, у меня в голове все кругом шло от его хороших мужских слов, пусть и произнесенных тонким женским голоском.
Не прошло и недели, как мы стали мужем и женой. Эмма Флит помолчала, смущенно разглядывая свои руки.
— Вам не будет скучно, доктор, если я расскажу о нашем медовом месяце? — застенчиво осведомилась она.
— Нет, — мгновенно отозвался доктор Джордж. Затем, устыдившись своего неприкрытого и отнюдь не врачебного любопытства, добавил менее горячим тоном: — Пожалуйста, продолжайте.
— Наш медовый месяц… Его нельзя назвать обычным. Брови доктора слегка подпрыгнули вверх. Он невольно перевел взгляд с лежащей на кушетке Эммы Флит на дверь в приемную, где сидел крошечный сколок Эдмунда Хиллари, славного покорителя Эвереста.
— О, вы представить себе не можете, с каким страстным нетерпением Уилли увлек меня в свой будто кукольный домик, состоявший из одной небольшой комнаты с крохотным оконцем. Теперь эта комнатка стала и моей. Уилли — всегда спокойный и добрый, всегда деликатный, всегда истинный джентльмен. И когда мы оказались в его домике, он себе не изменил. Он самым вежливым образом попросил меня дать ему мою блузку. Я ее сняла и протянула в его маленькие изящные ручки. Тогда он попросил юбку, и я подчинилась. И так он перечислял предметы моей одежды, пока я не оказалась… Не знаю, можно ли покраснеть с головы до ног, но мне тогда показалось, что я покраснела от макушки до пят. Я была в центре комнаты, как огромный костер, и полыхала, то бледнея всем телом, то снова краснея, то снова бледнея.
— Боже! — вскричал Уилли. — Словно распустился огромный бутон самой прекрасной на свете камелии!
И при этих его словах я снова зарумянилась от стыда от макушки до пят и новые волны огня и холода покатились у меня по телу, но было чрезвычайно отрадно чувствовать, как моя кожа вызывает в Уилли упоение восторга. И что, по-вашему, Уилли сделал потом? Догадайтесь!
— Я не смею, — сказал доктор, и вдруг сам зарделся.
— Он обошел вокруг меня — раз, другой, третий.
— То есть он кружил вокруг вас?
— Да, словно скульптор вокруг глыбы белоснежного мрамора, с которой ему предстоит работать. Он так и назвал меня — глыбой гранита или мрамора, из которой можно создать произведение искусства невиданной красоты. И он все кружил и кружил вокруг меня, торжествующе ахая и охая, потирая руки, сверкая глазками и довольно покачивая головой, не в силах нарадоваться на свое счастье. Казалось, он прикидывал, с какого места начать. Откуда, откуда же начать?
И вот он наконец обрел речь и спросил меня:
— Эмма, знаешь ли ты, почему я столько лет ездил с лилипутами и, в дополнение к главной работе — куплетам и танцам, — занимался тем, что взвешивал людей на ярмарках? Я отвечу тебе. Потому что всю свою взрослую жизнь я искал кого-нибудь вроде тебя. Вечер за вечером, лето за летом я видел перед собой, как прогибается сиденье моих весов под весом желающих взвеситься. Но я был капризен. Я ждал подлинной удачи. И дождался. Теперь у меня есть ты, а вместе с тобой — и возможность выразить мой гений. Ты — мой холст, ты — голая белая стена собора, которую должно украсить роскошной фреской!
Он захлебнулся от чувств и молча взирал на меня блещущими глазами.
— Эмма, — сказал он наконец нежнейшим голосом, — могу ли я делать с тобой все, что мне захочется? Могу ли я полностью располагать тобой?
— Ах, Уилли, — вскричала я. — Делай со мной все, что хочешь, Уилли! Я твоя!
Эмма Флит замолчала.
Доктор давным-давно сдвинулся на самый край своего кресла и весь подался вперед. Теперь он быстро выдохнул:
— Ну-ну, и дальше?
— А дальше он вынул из шкафчика все свои коробочки, бутылочки с чернилами, трафареты и сверкающие серебряные татуировочные иглы.
— Тату… Татуировочные иглы?
Доктор Джордж ошарашенно отъехал в глубину своего кресла:
— Он вас… татуировал?
— Да, он меня татуировал.
— Выходит, он мастер татуировки? Художник по телу?
— Да-да, вы употребили правильное слово: художник! Но так Уилли предначертано талантом, что холстом ему служит человеческое тело.
— Стало быть, вы, — медленно произнес доктор, — стали тем холстом, который он искал с юности?
— Да, я стала тем холстом, который он искал всю свою жизнь.
Миссис Флит сделала паузу, дабы психоаналитик как следует осознал суть произнесенного. И тот действительно хотя и не сразу, не без заметного усилия, но проникся.
Эмма продолжила свой рассказ не раньше чем убедилась по игре чувств на лице доктора, что сказанное ею достигло самого дна его души и вызвало там громкий всплеск эмоций.
— И с тех пор началась упоительная жизнь! Я души не чаяла в Уилли, а Уилли души не чаял во мне, и мы оба любили то, что было выше нас и чем мы занимались вместе. Мы были заняты созданием самой грандиозной картины в мире — такой, что свет еще не видел! «Мы достигнем полнейшего совершенства!» — восклицал Уилли. «Мы достигнем полнейшего совершенства!» — вторила я ему.
Ах, каким счастливым было то время! Мы провели за работой десять тысяч беспечальных светлых часов. Вы представить себе не можете, до чего я была горда своей ролью неоглядного берега, о который плещутся волны всех красок таланта Уилли Флита!
Год мы трудились над моими руками — сперва над правой, затем над левой. Полгода ушло на мою правую ногу и целых восемь месяцев — на левую. И это была только подготовка к грядущему буйству деталей и красок: мы начали кропотливый труд над спиной — от затылка к лопаткам и ниже, ниже, пока не сомкнули края картины на бедрах. И тогда мы перешли на переднюю часть тела: ярмарочные карусели и взрывы шутих соседствовали там с обнаженными красавицами Тициана, с умиротворяющими пейзажами Джорджоне и миниатюрными копиями картин великого Эль Греко.
Видит небо, не было и не будет на свете любви, подобной нашей! Любви двух существ, в едином порыве посвятивших себя одному делу — подарить миру совершенное произведение искусства. Мы и минуты не могли провести друг без друга, купались в общении друг с другом — и я все толстела и толстела, и у Уилли это ничего не вызывало, кроме искренней и буйной радости. С каждым лишним фунтом увеличивалась площадь холста, который предстояло заполнить искрометной фантазии художника.
Мы упивались этим временем, ибо смутно чувствовали, что с окончанием Шедевра что-то уйдет из нашей жизни — карнавальные огни нескончаемого праздника поневоле померкнут. Правда, завершив титанический труд, Уилли получит возможность бросить труппу лилипутов и больше не выступать с куплетами в ярмарочных балаганах, ибо мы сможем выставлять меня в Музее Искусства в Чикаго, в лучших собраниях Вашингтона и Нью-Йорка, в Лувре и лондонской галерее Тейта. Всю оставшуюся жизнь мы будем путешествовать по свету и ни о чем не печалиться!
И так мы трудились, год за годом. Окружающий мир был нам не нужен, ибо нам хватало друг друга. Днем мы зарабатывали на хлеб — каждый своей прежней работой. Зато по вечерам начиналось пиршество истинного труда — до самой полуночи. Сегодня Уилли корпит над моей лодыжкой, завтра над локтем, а послезавтра оживляет белые пустыни крестца. Уилли редко позволял мне любоваться его трудом. Он не любил, когда во время работы ему заглядывают через плечо. Хотя мне для этого порой пришлось бы заглядывать через свое плечо. Иногда мне приходилось проводить месяцы в мучительном ожидании, прежде чем он разрешал оценить новую работу, кропотливо созданную дюйм за дюймом на протяжении бесконечной череды вечеров, когда я утопала в волнах его вдохновения, покуда он расцвечивал меня всеми цветами радуги.
Восемь лет это продолжалось — восемь чудесных, незабываемых лет! И вот наступил день, когда работа завершилась. Уилли упал как подкошенный на постель и проспал сорок восемь часов подряд. И я, тоже обессиленная, спала рядом — мамонт рядом с черным ягненочком.
Это случилось всего лишь четыре недели назад. Да, четыре коротких недели назад нашему счастью пришел конец!
— Так-так, ясно, — изрек доктор Джордж. — Вы с мужем страдаете тяжелой формой посткреативной депрессии типа «тоски по животу» — стресса, который мать испытывает после рождения ребенка. Ваша многолетняя работа закончена. И, как после завершения всякого вдохновенного труда, наступает период апатии, которая частенько сопровождается необъяснимой грустью. Но теперь вам следует сосредоточить внимание на тех наградах, что окупят долгие титанические усилия. Итак, вы направляетесь в кругосветное турне?
— Нет, — полувсхлипнула Эмма Флит, и слезы заструились из ее глаз. — Какое турне, если Уилли может сбежать буквально в любой момент! Он уже начал убегать и слоняться по городу. Вчера я застала его в кладовке — он протирал и смазывал свои старые весы. А сегодня утром я застукала его с этими весами на ярмарке — впервые за восемь лет он сидел под табличкой «Узнайте свой вес!».
— Батюшки! — воскликнул психиатр. — Неужели он…
— Да, он взвешивает на ярмарке женщин. Он ищет новое полотно! Он ничего не говорит, но я знаю, знаю! На этот раз он отыщет женщину еще крупнее — пятисот- или даже шестисотфунтовую! Я нутром почуяла эту опасность еще месяц назад, буквально сразу после окончания нашего Шедевра. Поэтому я стала есть еще больше и толстеть на глазах. От этого на коже появились растяжки, которые исказили некоторые пропорции, а кое-где появились новые свободные пространства, которые нуждались в заполнении. Таким образом, Уилли был вынужден тут подправить, там прибавить — и это заняло его на некоторое время. Но теперь я выдохлась, поправиться больше я уже не в силах. И нигде на моем теле — от щиколоток до кадыка — нет и миллионной доли дюйма, куда бы можно было врисовать еще одного демона, или дервиша, или барочного ангелочка. И мое сердце лопнет, если я прибавлю еще хотя бы фунт веса. Больше никакого шанса. Для Уилли я безнадежно использованный материал. Я боюсь, что моему мужу, если он проживет долго, придется жениться еще раза четыре — и всякий раз на более объемной особе, дабы иметь еще больше простора для своего крепнущего таланта, пока он не создаст шедевр шедевров исполинского размера. А в последнюю неделю, в довершение всех бед, у него вдруг появилась страсть критиковать.
— Он позволяет себе критиковать свой Шедевр? — сочувственно спросил психоаналитик.
— Как любой большой художник, он во власти мечты о полном совершенстве. И вот теперь Уилли находит недостаток тут, упущение там, излишне примитивную композицию в одном месте и неверный колорит — в другом. А кое-где мое лихорадочное прибавление веса непоправимо исказило пропорции. Для него я была прежде всего началом творческого пути — так сказать, первой пробой татуировочной иглы. И теперь ему надо двигаться дальше — от ученических проб к зрелому мастерству. Ах, доктор, он меня вот-вот бросит! Какая судьба ожидает одинокую брошенную четырехсотфунтовую женщину, чье тело сплошь покрыто иллюстрациями? Если он меня покинет — куда мне деваться, куда идти? Кому я такая нужна? Неужели мне предстоит вернуться к прежнему жалкому существованию и снова ощущать себя незваным и нежеланным гостем в этом мире — как это было до встречи с Уилли, до моего безумного счастья?
— Как психоаналитик, — произнес доктор Джордж, — я не имею права давать прямые советы. Однако…
— Однако? Однако что? — вся загорелась Эмма Флит.
— Искусство психоаналитика не в том, чтобы подсказать пациенту способ решить его проблему, а в том, чтобы пациент, незаметно подведенный к этому решению, самостоятельно обнаружил его. Однако в вашем случае…
— Ах, не мучьте, говорите!
— Случай представляется мне не слишком сложным. Дабы сохранить любовь вашего мужа…
— Дабы сохранить любовь моего мужа… Что? Доктор лукаво усмехнулся:
— Для этого вам следует уничтожить Шедевр.
— Что?
— Ну, стереть его, истребить. Ведь от татуировок можно избавиться, не правда ли? Я где-то однажды читал про это.
— Ах, доктор! — Эмму Флит будто лебедкой подняло с кушетки. — Это именно то! И это возможно! И тем более замечательно, что именно Уилли придется этим заняться! Ему понадобится по меньшей мере три месяца, чтобы вернуть кожу к прежнему виду, избавив меня от Шедевра, который теперь лишь раздражает его своим несовершенством. А когда я стану опять девственно-белой, мы можем трудиться снова еще восемь лет, после чего смыть все — и еще восемь лет, а потом еще. О, доктор, я знаю, он согласится. Быть может, он уже давно ждет, когда я сама это предложу. Какая же я дурочка, что прежде не сообразила! Ах, доктор, доктор!
Она шагнула к нему и чуть было не раздавила в своих объятиях.
Оставив чуть живого психоаналитика приходить в себя, она пошла кругами в центре комнаты.
— Как странно и чудесно, — щебетала Эмма Флит, сотрясая пол неуклюжим танцем, — всего за полчаса вы сбросили с меня груз на три тысячи дней вперед или сколько их там у меня осталось. Вы истинно мудрый человек. Я готова заплатить вам любой гонорар!
— Меня устроит плата и по моей обычной таксе, — сказал доктор.
— Хотя я горю нетерпением сообщить обо всем Уилли, — вдруг сказала миссис Флит, — но вы были так мудры, так чутки, что заслужили чести увидеть Шедевр перед тем, как он будет безвозвратно уничтожен.
— Едва ли это необходимо, мадам.
— Поскольку творение скоро погибнет, я не могу лишить вас возможности оценить редкую фантазию, точный глаз и твердость руки такого крупного художника, как Уилли Флит!
Воскликнув это, она и стала проворно расстегивать пуговицы своего безразмерного сарафана.
— Миссис Флит, едва ли…
— Вот! — сказала она и широко развела полы сарафана. То, что под сарафаном она оказалась совершенно голой, доктора мало шокировало.
Однако ошарашен он был невероятно. Удивлен настолько, что дыхание сперло. Глаза у него чуть не выкатились из орбит. Рот беспомощно открылся. Он рухнул обратно в кресло, не в силах отвести взгляд от необозримых телес Эммы Флит.
От необозримых телес Эммы Флит, молочно-белых и девственно-чистых. Ни единого миллиметра татуировки, ни тебе рисуночка, ни тебе картинки.
Нагое, нетронутое, никак не иллюстрированное.
Доктор Джордж еще раз охнул и привел в порядок свое лицо.
Довольная произведенным эффектом, со счастливой улыбкой акробата, проделавшего сложнейший трюк под куполом цирка, она запахнула сарафан и застегнула пуговицы.
Когда она пошла, переваливаясь, к двери, доктор воскликнул:
— Погодите!
Но Эмма Флит уже распахнула дверь и тихонько, звенящим от радости голосом подозвала мужа. Нагнувшись к его миниатюрному ушку, она что-то быстро зашептала, и доктор видел, как глаза Уилли Флита широко открылись, а рот округлился от удивления.
— Доктор! — тонким голоском вскричал он. — Спасибо вам, доктор! Огромное, огромное спасибо!
Он просеменил через кабинет, схватил руку психоаналитика и принялся ее трясти. Доктор Джордж не мог не удивиться пламенности и силе его рукопожатия. Эта маленькая ручка была воистину рукой искушенного художника, мастера. А в темных глазах, благодарно устремленных на доктора, прочитывался ум и огромный артистический темперамент.
— Все складывается наилучшим образом! — возбужденно сказал Уилли. — Теперь все будет отлично!
Доктор Джордж пребывал в растерянности, нерешительно переводя взгляд с крошечного супруга на исполинскую супругу, которая уже тянула Уилли прочь из кабинета — как видно, горя нетерпением поскорее начать новый этап работы.
— Надо ли нам прийти к вам еще раз, доктор? — осведомился Уилли.
Боже правый, думал психоаналитик, неужели он всерьез думает, что покрыл татуировкой все ее тело — так сказать, от носа до кормы? И неужели она покорно поддакивает и подыгрывает ему? Значит, это он сумасшедший в этой паре?
Или же это она воображает, что он покрыл ее татуировкой с ног до головы? А поддакивает и подыгрывает — он. В этом случае безумна она.
Однако можно предложить и самое фантастическое: что они оба свято верят в то, что она вся расписана как Сикстинская капелла. И поддерживают друг друга в своей вере, создавая совместными усилиями некий особенный иллюзорный мир.
— Я спрашиваю, доктор, нам повторно приходить? — повторил Уилли свой вопрос.
— Нет, — сказал доктор. — Повторно приходить не надо.
Да, не надо. Потому что какое-то наитие свыше и природное милосердие заставили его прикусить язык, и доктор Джордж в итоге поступил как нельзя лучше. Сперва он, до конца не разобравшись, дал дельный совет, а потом вовремя промолчал. А терапевтический эффект оказался отличным. Кто из них верит в татуировку — он, она или они оба — совершенно не важно. Если стать чистым холстом, готовым принять новую живопись, важно для Эммы Флит, то доктор сделал благое дело, предложив смыть Шедевр. А если это ее супруг стал искать другую женщину, чтобы покрыть воображаемой татуировкой, то рецепт опять-таки сработал: жена вновь стала для него девственно-чистой и желанной.
— Спасибо, доктор! Спасибо! Огромнейшее спасибо!
— Не надо меня благодарить, — сказал доктор. — Я ничего особенного не совершил.
Он едва не сказал, что все это было шуткой, забавным кульбитом. И он только чудом благополучно приземлился на ноги!
— Всего доброго! Всего наилучшего!
Лифт унес вниз гигантскую женщину и крошечного мужчинку.
— Всего доброго, доктор, и спасибо, спасибо! — еще какое-то время доносилось из шахты лифта.
Доктор Джордж рассеянно огляделся и на ватных ногах вернулся в свой кабинет. Закрыв за собой дверь, бессильно прислонился к стене.
— Врач, излечись сам…
Он шагнул вперед. Чувство реальности не возвращалось. Надо бы прилечь, хотя бы на минуту-другую. Но куда?
На кушетку, разумеется. На нее, родную.
Кое-кто живет как Лазарь
Вы не поверите, если я скажу, что этого убийства я ждала шестьдесят лет — надеясь на него, как только способна надеяться женщина. Я и пальцем не пошевелила, дабы предотвратить это убийство, когда его неизбежность стала очевидна. Анна Мария, сказала я себе, даже если ты будешь постоянно начеку, ты не сумеешь помешать тому, что должно свершиться. Но когда убийство наконец происходит после десяти тысяч дней напрасного ожидания, оно кажется не столько сюрпризом, сколько истинным чудом.
— Держи крепче! Ты меня уронишь! Это голос миссис Харрисон.
Ни разу за полсотни лет мне не довелось слышать, чтобы она сказала что-нибудь шепотом или хотя бы нормально. Только крик, визг, громогласные приказы и шумные угрозы.
Да, всегда на пределе громкости.
— Успокойся, мамочка. Вот хорошо, мамочка.
Ни разу за эти долгие годы мне не довелось слышать, чтобы его голос поднялся на тон выше раболепного журчания, или возвысился до громкого протеста. Ни единожды он не взорвался ругательствами, пусть бы и визгливыми!
Нет. Вечное, исполненное любви монотонное мурлыканье.
Этим утром, которое ничем не отличалось от множества утр в прежние годы, они подкатили в своем бесконечном черном роскошном лимузине, сущем катафалке, к отелю «Грин Бей», где неизменно проводили каждое лето. И вот он уже суетливо протягивает руку, чтобы помочь этому манекену, этому посыпанному пудрой и тальком ветхому мешку с костями, который только в дурном сне и в шутку можно величать «мамочкой».
— Осторожно, мамочка.
— Ты мне руку сломаешь!
— Прости, мамочка.
Из павильона возле озера я наблюдала, как он катил по дорожке инвалидное кресло, а старуха в нем размахивала тростью, словно мушкетом, из которого она собиралась убить наповал богинь Судьбы или фурий, если те вдруг заступят им путь.
— Осторожно, ты опрокинешь меня на клумбу! Слава Богу, что у меня хватило ума в конце концов отказаться от поездки в Париж. Ты бы меня угробил в этих проклятых автомобильных пробках. Ты огорчен?
— Нет, мамочка.
— Мы увидим Париж в будущем году.
В будущем году. Ха, будущий год — это выдумка, никакого будущего года в природе не существует.
Я не сразу ловлю себя на том, что произнесла это вслух, больно вцепившись в подоконник. Почти семьдесят лет я слышу эти обещания — сперва мальчику, потом юноше-мальчику, потом мужчине-мальчику, а теперь вот этому седому насупленному жуку-богомолу с душой мальчика. Вот он катит кресло с вечно мерзнущей женщиной, закутанной в меха даже сейчас, посреди лета, — катит мимо тех веранд отеля, где некогда восседали знатные дамы и бумажные веера в их руках трепетали, как пестрые крылья восточных бабочек.
— Вон там, в коттедже, мамочка… — его голос из-за расстояния уже плохо слышен. Голос юнца, хотя он уже старик. А прежде, в молодости, его голос казался голосом древнего старика.
Сколько же лет этой рухляди в инвалидной коляске? Пожалуй, девяносто восемь. Да, правильно, девяносто восемь. Она похожа на фильм ужасов, который неизменно крутят по вечерам каждое лето, потому что служба развлечений отеля скупится на новый.
Я быстро пробежалась в памяти по всем их приездам-отъездам вплоть до самого первого. Отель «Грин Бей» только-только построили, всюду виднелись модные тогда зеленые и лимонно-желтые дамские зонтики от солнца. Стояло лето 1890-го года, и я впервые увидела Роджера. Ему было столько же, сколько и мне, всего лишь пять лет, но уже тогда у него был взгляд усталого и умудренного жизнью старика.
Он стоял на газоне возле павильона и смотрел вверх, на небо и на пестрые флажки, развешанные между деревьями.
— Привет, — сказала я.
Он просто оглянулся и ни слова не произнес. Я толкнула его в плечо и отбежала. Он хоть бы двинулся!
Тогда я вернулась и снова толкнула в то же место. Он вытаращился на свое плечо и собрался было пуститься за мной, как вдруг издалека громыхнуло:
— Роджер, ты испачкаешь свой костюмчик!
И он медленно поплелся в сторону летнего домика, где они жили. А на меня даже не оглянулся. С того дня я его возненавидела.
Многоцветные зонтики расцветали тысячами и исчезали, стаи бумажных вееров уносил августовский ветер; павильон сгорел и был отстроен на том же месте и в том же виде, а озеро стало намного меньше — ссохлось, как слива. И моя ненависть, словно покоряясь местному закону прилива и отлива публики в зависимости от сезона, то появлялась, то пропадала. Порой моя ненависть вырастала до размеров гигантских, а порой на время уступала место любви — но лишь на время. Ненависть возвращалась всегда — правда, с годами все более похожая на старую стертую подметку.
Помню его семилетним. Он едет в коляске — длинные волосы раскинуты по щуплым покатым плечам. Мать рядом, и они держатся за руки. И слышен ее зычный повелительный голос:
— Если ты этим летом будешь хорошим мальчиком, то в будущем году мы поедем в Лондон. Или в крайнем случае через год.
А маленькая девчушка, дочка местной прислуги, не спускала с них глаз: сравнивала их глаза, уши, рты. Когда однажды днем он в одиночку зашел в павильон выпить лимонада, я решительным шагом подошла к нему и громко заявила:
— Она не твоя мать!
— Что? — Он в панике оглянулся, словно его мать могла услышать мои слова.
— Она тебе даже не тетка и не бабушка! — продолжала я в полный голос. — Она — ведьма, которая украла тебя из люльки. Ты не знаешь своих настоящих родителей. Ты ни чуточки на нее не похож. Она держит тебя для того, чтобы получить от какого-нибудь короля или графа миллион долларов в качестве выкупа за тебя, когда тебе исполнится двадцать один год.
— Не говори такие вещи! — закричал он и вскочил со стула.
— А почему бы и нет? — со злостью сказала я. — Зачем ты сюда приезжаешь? Ты не умеешь играть в это, ты не умеешь играть в то. Ты ничего не умеешь. Ты никчемный. Она все за тебя знает. Она за тебя все говорит. Но мне-то про нее все известно! По ночам она спит в своей спальне, свесившись с потолка головой вниз в своем безобразном черном платье!
— Не говори такие вещи! — повторил он с бледным, перепуганным лицом.
— А с какой стати мне молчать?
— Потому что это правда.
И с этими словами он пулей устремился к двери и был таков.
Снова я увидела его только на следующее лето. Да и тогда всего лишь один раз, мельком, когда моя матушка велела отнести чистые простыни в летний домик, где жили Харрисоны, мать и сын.
Впервые я сделала паузу в своей ненависти к нему в то лето, когда нам было по двенадцать.
Однажды он позвал меня из-за стеклянной двери павильона и, когда я выглянула, сказал тихим спокойным голосом:
— Анна Мария, когда мне исполнится двадцать и тебе исполнится двадцать, я женюсь на тебе.
— Размечтался! — фыркнула я. — Так я и вышла за тебя замуж!
— Так и выйдешь, — убежденно сказал он. — Запомни мои слова, Анна Мария. И жди меня. Обещаешь?
Конечно же, я утвердительно кивнула. Как иначе?
— А как насчет… — вдруг встрепенулась я.
— О, она к тому времени уже умрет, — мрачно произнес он. — Она старая. Очень старая.
Он повернулся и пошел прочь.
А на следующее лето он так и не объявился на курорте. Я слышала, будто его мать больна. И по вечерам, перед сном, я истово молилась, чтобы она побыстрее окочурилась.
Но двумя годами позже они вновь появились у нас и уже больше не пропускали ни одного лета. Мы все росли и росли, и вот уже нам стукнуло по девятнадцать. Еще потерпели — и дотянули до двадцати. И вот, впервые за все время, они появились в павильоне вместе. Она была уже в инвалидной коляске и уже тогда непрестанно зябла и куталась в меха. Ее лицо под слоем пудры походило на жеваный пергамент.
Пока я ставила перед ней многослойное мороженое, она пристально рассматривала меня, потом повернулась к Роджеру, потому что он произнес:
— Мамочка, я хочу представить тебе…
— Я не знакомлюсь с девицами, которые прислуживают в буфетах! Я не отрицаю тот факт, что они существуют, работают и получают жалованье. Однако я тут же забываю их имена.
Она капризно ковырнула ложечкой мороженое — раз, другой. Но Роджер так и не прикоснулся к своему.
Они уехали на день раньше обычного. Я увиделась с Роджером в холле гостиницы, когда он оплачивал счет. На прощание он прощально нежно взял меня за руку, а я не удержалась и сказала:
— Ты кое-что забыл.
— Багаж здесь, — стал вспоминать он. — Счет оплачен. Бумажник на месте. Нет, похоже, я ничего не забыл.
— Когда-то давно, — напомнила я, — ты дал мне одно обещание.
Он молчал.
— Роджер, — сказала я, — нам уже по двадцать. Тебе и мне.
Он схватил мою руку — так испуганно и проворно, словно он падает за борт, а я пячусь прочь и, отказав в помощи, позволяю ему рухнуть в пучину.
— Подожди еще год, Анна! Или два-три — не больше!
— О нет! — вскрикнула я в отчаянии.
— В самом худшем случае — четыре года. Доктора говорят…
— Роджер, доктора не знают того, что знаю я. Она будет жить вечно. Она переживет и тебя, и меня и будет попивать вино на наших похоронах.
— Да у нее ни одного здорового места нет! Анна, ей долго не протянуть, это же очевидно!
— С ней ничего не случится, потому что у нее есть могучий источник силы. Она прекрасно понимает, что мы ждем не дождемся ее смерти. И черпает силы в желании досадить нам.
— Я не могу вести подобные разговоры! Не могу! Подхватив чемоданы, он заспешил через холл к выходу.
— Роджер, я ждать тебя не стану! — крикнула я вслед. У самой двери он оглянулся — бледный-бледный — и посмотрел на меня так беспомощно, что я была не в силах повторить свою угрозу.
Дверь за ним закрылась.
А там и лето закончилось.
На следующее лето Роджер первым делом примчался к моему лотку с содовой водой.
— Это правда? Кто он?
— Пол, — ответила я. — Ты же знаешь Пола. В один прекрасный день он станет главным менеджером отеля. Мы поженимся этой осенью.
— Ты не оставляешь мне времени! — охнул Роджер.
— Поздно спохватился. Мы уже обручены.
— Господи! Они обручены! Да ты же его не любишь!
— Пожалуй что и люблю.
— «Пожалуй»! Так «пожалуй» или любишь? Это разные вещи! А вот меня ты любишь без всяких «может быть»!
— Ты так уверен, Роджер?
— Не надо всех этих штучек-дрючек! Ты же прекрасно знаешь, что любишь меня! Ах, Анна, ты будешь несчастна!
— Я и сейчас несчастнее некуда, — сказала я.
— Анна, не пори горячку! Дождись меня!
— Да я всю свою жизнь только и жду тебя. И знаю, что моему ожиданию конца-края не будет.
— Анна! — вдруг воскликнул он уже с другой интонацией. Казалось, ему только что пришла в голову совсем новая мысль. — Анна, а вдруг… А вдруг она умрет прямо этим летом?
— Черта с два.
— Она умрет, если ей станет хотя бы чуточку хуже. Я хочу сказать, в ближайшие два месяца… — Он смотрел на меня побитой собакой и старался прочесть мои мысли по глазам. — Анна, если она умрет в следующем месяце… или нет, лучше через две недели — какие-то короткие две недельки… Ведь ты же меня дождешься? Ведь ты согласна будешь выйти за меня замуж?
Я расплакалась.
— Ах, Роджер, мы даже ни разу не поцеловались. Это так глупо.
— Скажи мне, если она умрет через неделю, всего лишь через семь дней…
Он схватил меня за руки.
— Откуда тебе знать! — сказала я между всхлипами.
— Я позабочусь, чтоб это стало фактом. Клянусь тебе, через неделю ее не будет в живых — в противном случае я больше не стану донимать тебя.
Его как ветром сдуло. А для меня мир вдруг стал нестерпимо ярок, будто на небе включилось второе солнце.
— Роджер, не смей! — крикнула я, но мне совсем не хотелось, чтобы он остановился и вернулся. В голове у меня стучало: правильно, Роджер, сделай что-нибудь — что угодно! — и положи всему этому конец.
Той ночью, лежа в постели, я ломала голову над тем, какие есть способы убить и не быть схваченным. Думает ли лежащий в сотне метров отсюда Роджер о том же самом? Что он предпримет завтра? Отправится ли он на болото, чтобы найти похожие на съедобные, но смертельно ядовитые грибы? Или во время прогулки на машине войдет в крутой поворот на слишком большой скорости, чтобы пассажирка вывалилась из нарочно не до конца прикрытой двери?
Я представила, как эта восковая кукла описывает кривую по воздуху, шмякается о придорожный дуб, тополь или клен и ее головенка раскалывается будто грецкий орех. Мне это так понравилось, что я привстала на постели и долго беззвучно хохотала до слез. А поплакав, снова принялась хохотать. Нет, нет, успокаивала я себя, он умный, он найдет наиболее безопасный путь. Например, неведомый грабитель проникнет ночью в дом и вытрясет жизнь из старой карги. Пусть она так перепугается, что сердце у нее выскочит из груди и уже не вскочит обратно!
Но потом явилась самая черная, самая древняя — и самая простодушно детская мысль из всех, роившихся в моей голове. Есть лишь один способ прикончить эту бабу, рот которой так похож на окровавленную резаную рану. Поскольку она ему никто, даже не тетушка и не бабушка, а ведьма-похитительница, то избавиться от нее можно только так: подстеречь где-нибудь и вогнать в сердце кол!
Я услышала ее пронзительный вопль. Он был так громок, что ночные птицы испуганно вспорхнули с веток и расселись по звездам.
Я опять легла. Анна Мария, добропорядочная христианка, о чем ты тут мечтаешь ночной порой?! Об убийстве! Неужели ты и впрямь желаешь убить? Да, желаю. Ибо отчего бы и не убить убийцу, эту женщину, которая долгие годы медленно удушает собственное дитя — как начала душить с колыбели, так с тех пор и не отнимает свои преступные руки! Он от того так беспомощен и так бледен, бедняжка, что с младенчества ему ни разу не было позволено вдохнуть полной грудью.
И потом вдруг непрошеными гостями явились строки одного старого стихотворения. Не могу сказать, откуда они взялись в моей памяти. Может, я их где-то прочитала, или кто-то мне их процитировал, или я сама бессознательно сочиняла их на протяжении нескольких лет. Однако строки будто полыхали передо мной в темноте, и я зашептала:
Следующие строки не возвращались. Я мучилась, повторяя эти слова и стараясь выудить из памяти продолжение, затем вдруг как-то сами собой выпрыгнули из темных глубин сознания последние пять строк:
Стихотворение отзвучало во мне и отпустило меня в сон. Мое бдение закончилось, и я спала сном ребенка — в надежде, что утром услышу хорошие новости, которые решат мою судьбу раз и навсегда.
На следующий день я увидела, как он везет инвалидное кресло со своей матерью к концу пирса. Меня так и пронзило: вот оно! Правильно! Она сгинет в волнах, а через неделю найдут выброшенный волнами труп — страшного морского монстра, сплошное лицо без тела.
Но день прошел, и ничего не случилось. Ладно, решила я, все свершится завтра.
Второй день обещанной недели прошел, потом третий, четвертый, а за ними пятый и шестой. И вот на седьмой день вижу бежит по тропке одна из горничных и верещит, вытаращив глаза:
— Ужас! Ужас! Ужас!
— Что, миссис Харрисон? — вскрикнула я. Мне чуть дурно не стало, однако на моем лице, помимо воли, расплылась довольная улыбка.
— Нет, нет! Ее сын! Он повесился!
— Повесился? — глупо переспросила я. Это меня так ошарашило, что я вдруг принялась ей объяснять самым идиотским образом: — Ничего подобного! Это не он должен был умереть. Это…
Я бы сгоряча выложила все, если бы горничная не схватила меня за руку и не потянула за собой, приговаривая:
— Веревку срезали. Он, слава Богу, еще живой. Быстрее же, быстрее!
Еще живой? Тут она глубоко заблуждалась. Они вынули его из петли, и он дышал. И продолжал дышать все последующие годы. Однако я бы поостереглась называть его действительно живым. Он не выжил в тот день. Нет.
Зато ей это лишь прибавило жизни. Этот его неудачный порыв к свободе ей был как с гуся вода. Однако попытки бегства она ему никогда не простила.
— Что ты хотел этим сказать? Что ты хотел этим сказать? — орала она на него, когда он лежал с закрытыми глазами и бледный как смерть в их летнем домике и потирал себе горло.
Примчавшись туда, я так их и застала: он, судорожно глотает воздух, и она, злобно пританцовывает рядом:
— Что ты хотел этим сказать? Что? Чего ты этим хотел добиться?
Глядя на распростертое на полу тело, я вдруг догадалась, что он хотел убежать от нас обеих. Ибо мы обе были ему невыносимы. Я тоже не простила ему. То есть не могла простить очень и очень долго. Но потом я ощутила, что моя застарелая ненависть к нему превращается во что-то иное, в некую тупую боль. А в тот день я стрелой помчалась за врачом. За моей спиной миссис Харрисон продолжала вколачивать гвозди по самую шляпку:
— Что ты хотел этим сказать, глупый мальчишка? Что? Что?
Осенью того же года я вышла замуж за Пола. И годы побежали однообразной чередой. Раз в году, на протяжении летних месяцев, Роджер регулярно бывал в павильоне и заказывал мятное мороженое. С ложечкой в вялой руке он грустно поглядывал на меня, однако никогда больше не называл по имени и ни разу не упомянул о своем давнем обещании.
На протяжении тех сотен месяцев, что я была женой Пола, мне не раз случалось думать, что Роджеру совершенно необходимо — теперь уже только для себя, исключительно для себя — что-то предпринять: восстать в один прекрасный день и истребить агрессивного дракона с уродливой, густо напудренной рожей и лапами, покрытыми сухой, чешуйчатой кожей. Во имя Роджера и только Роджера Роджер обязан положить этому конец.
Ну уж в этом-то году он это наконец сделает, думала я, когда ему исполнилось пятьдесят. То же я думала, когда ему стукнул пятьдесят один. То же я думала и годом позже. А между сезонами, проглядывая чикагские газеты, я ловила себя на том, что надеюсь наткнуться на ее фотографию с ножом в сердце — огромный отвратительный окровавленный желтый цыпленок. Но увы, увы, увы.
До того как они объявились снова сегодня утром, я почти выкинула их из памяти. Роджер ужасно постарел и рядом с ней больше похож на старенького шаркающего мужа, чем на сына. Волосы седые с прожелтью, спина сгорбленная, синие глаза стали водянисто-голубыми, во рту не хватает зубов. Разве что иссохшие руки с ухоженными ногтями утратили лишний жир и стали выглядеть более энергичными.
В полдень он остановился у входа в павильон — одинокий жалкий бескрылый ястреб, глядящий с тоской в небо, куда за всю жизнь так и не решился взмыть. Потоптавшись у входа, Роджер открыл дверь и быстро прошагал ко мне. Впервые на моей памяти его голос поднялся почти до крика:
— Почему ты не сказала?
— Не сказала что? — спросила я и стала, не ожидая заказа, накладывать в розетку шарики мятного мороженого.
— Одна горничная проговорилась, что твой муж уже пять лет как в могиле! Пять лет! Ты была обязана сообщить мне об этом!
— Что ж, теперь ты знаешь, — только и промолвила я. Роджер медленно опустился на стул.
— Господи, — воскликнул он, отправил в рот первую ложечку мороженого, просмаковал ее с закрытыми глазами и заявил: — Как горько!
Покончив с мороженым, он сказал:
— Анна, я никогда не решался спросить. У вас были дети?
— Нет, — ответила я. — Сама не понимаю почему. И думаю, теперь уже никогда не пойму.
Я оставила его за столиком с новой порцией мороженого, а сама пошла мыть посуду.
Около девяти часов вечера я услышала чей-то смех возле озера. Чтоб Роджер когда-либо смеялся — такого я не помнила. Разве что в самом раннем детстве. Поэтому мне и в голову не могло прийти, что это он приближается к павильону. Но чуть позже кто-то решительно распахнул дверь, и я увидела на пороге Роджера. Он возбужденно размахивал руками, переполненный безудержным весельем.
— Что случилось? — спросила я.
— Ничего-ничего! Ничего такого! — восклицал он. — Все отлично! Кружку пива, Анна! Налей кружку и себе! Выпей со мной!
Пока мы пили пиво, Роджер хохотал и подмигивал, но потом вдруг стал невероятно тих и грустен. Хотя продолжал улыбаться. И я заметила, как удивительно он помолодел.
— Анна, — громко прошептал он, наклоняясь поближе к моему лицу, — угадай, что происходит? Я завтра улетаю в Китай! А оттуда еду в Индию. Потом Лондон, Мадрид, Париж, Берлин, Рим и Мехико!
— Ты шутишь, Роджер?
— Я действительно еду! И заметь — я еду. Не мы, а я. Я, я один! Я, Роджер Бидвелл Харрисон. Я! Я! Я!
Я вытаращила на него глаза, а он ответил спокойным умиротворенным взглядом. Я ахнула, и до меня наконец-то дошло, что он совершил сегодня вечером — буквально несколько минут назад.
— О нет! — помимо воли шепнули мои губы.
Но да, да, его глаза ответили мне «да». Невероятное свершилось. Чудо произошло. После всех этих бесконечных лет бесплодного ожидания! Сегодня вечером наконец-то произошло. Сегодня.
Я дала ему выговориться. После Рима и Мехико он собирался еще в Вену и в Стокгольм. У него множество планов — так что и в сорок лет не уложиться. Оказалось, что он помнит наизусть расписание авиарейсов и лучшие отели по всему миру, а также знает едва ли не все достопримечательности света и уже везде побывал в своем воображении.
— Но самое прекрасное в этом всем, — подытожил он свой лихорадочный рассказ, — самое прекрасное в этом всем то, что со мной рядом будешь ты, Анна! Ведь ты согласна поехать со мной, Анна? У меня отложена прорва денег. Я горю желанием их потратить. Анна, скажи мне, ведь ты согласна?
Я вышла из-за стойки и мельком взглянула на себя в зеркало. Женщина семидесяти лет, опоздавшая на вечеринку на каких-нибудь пятьдесят лет.
Я села за столик рядом с ним и помотала головой.
— Но, Анна, почему же нет? Не вижу ни единой причины для отказа!
— Причина есть, — сказала я. — Ты сам.
— Я? Но речь-то не обо мне!
— О тебе, Роджер, о тебе.
— Анна, мы проведем вместе сказочное время.
— Да, это была бы сказка, тут я не спорю. Но, Роджер… Ты был связан — все равно что женат — на протяжении почти семидесяти лет. Теперь, впервые в жизни, ты свободен от уз. Ты же не хочешь немедленно оказаться в новых оковах?
— Я… Не хочу? — сказал он и растерянно заморгал глазами.
— Если ты прислушаешься к себе, то поймешь, что нет, не хочешь. Ты заслужил право побыть какое-то время ни с кем не связанным, в одиночку объездить мир и в одиночестве поискать себя, понять: кто он такой, этот Роджер Харрисон. Тебе надо побыть вдали от женщин. А потом, когда ты объедешь вокруг света и вернешься, можно подумать о других вещах.
— Ну, если ты так говоришь…
— Нет. Мое мнение тут ни при чем. Не оглядывайся на меня. Теперь ты должен стать хозяином своей судьбы и только к себе прислушиваться. Уезжай в кругосветное путешествие и получи удовольствие на полную катушку. Бери счастья сколько сможешь.
— А ты будешь ждать моего возвращения?
— Моя способность ждать давно истощилась. Однако я буду здесь, никуда не денусь.
Он вскочил и устремился к двери. Потом остановился как вкопанный и оглянулся на меня — словно его поразила какая-то новая мысль.
— Анна, — сказал он, — а если бы это случилось сорок или пятьдесят лет назад, ты бы тогда поехала со мной? Тогда бы ты захотела поехать со мной?
Я ничего не ответила.
— Анна! — настаивал он.
После долгого молчания я наконец сказала:
— Есть вопросы, которые негоже задавать.
А про себя я уточнила: есть вопросы, на которые попросту не существует ответов. Если я пробегусь памятью по берегу нашего озера до самых первых времен — ничто в прошлом не подскажет мне, могла ли я стать счастливой. Быть может, еще сопливой девчонкой я почувствовала, что Роджер для меня недостижим и потому он что-то необычное. И меня уже тогда потянуло к нему — недостижимое и необычное имеет свойство притягивать сердца. Он был чем-то вроде редкостного цветка между страницами старой книги — раз в год этот цветок можно вынуть, повосхищаться им и… А собственно говоря, что еще можно с ним делать? Чья голова во всем этом разберется? Уж конечно, не моя. Мне трудно размышлять над подобными вопросами на закате вечера и на закате жизни. Знаю только, что жизнь — это вопросы, а не ответы.
Роджер, похоже, многое из того, что я думала, прочитал на моем лице. И то, что он угадал, заставило его сперва потупить взгляд, а потом и вовсе закрыть глаза.
Потом он вернулся ко мне, взял мою руку и прижал ее к своей щеке.
— Я вернусь. Клянусь тебе, я вернусь!
Выйдя из павильона, он на какое-то время застыл, ошарашенный обилием лунного света. Вертел головой и спешно устремлял взгляд во все концы света, как школьник, который впервые приехал на каникулы и растерянно и счастливо пыхтит, не зная, куда кинуться для начала.
— Не спеши возвращаться! — с жаром сказала я. — Делай все, что твоему сердцу угодно. Смакуй все не спеша. И не торопись возвращаться!
Я видела, как он чуть ли не вприпрыжку направился к лимузину возле летнего домика. Завтра утром я должна пойти к этому домику, постучаться в дверь — и не получить ответа. Однако я поступлю иначе. Я не пойду туда и горничным прикажу не ходить: дескать, пожилая леди не велела ее беспокоить. Это даст Роджеру возможность начать новую жизнь без помех. Полицию я могу позвать через неделю, или даже через две-три недели. А если наручники будут ждать Роджера у трапа корабля после его возвращения из всех этих заманчивых мест планеты, — не велика беда.
А впрочем, все может обойтись и без полиции. Возможно, старуха умерла от сердечного приступа, а Роджеру лишь почудилось, что это он ее убил, и теперь он уплывает прочь в большой мир в гордом сознании своего мнимого преступления, не допуская мысли, что даже ее смерть была последним проявлением ее стальной воли и самодурства — властная прихоть добровольно умереть естественной смертью и отпустить его на волю.
Но если отложенное на семьдесят лет убийство все же совершилось и он действительно схватил ее за горло и придушил отвратительную индюшку, у меня не найдется и слезинки, чтобы ее оплакать. Если о чем я и жалею, так лишь о том, что исполнение приговора было отложено на столь длительный срок.
Подъездная дорога пуста. Лимузин проурчал прочь уже несколько часов назад.
Потушив свет в павильоне, я стою возле окна и смотрю на сверкающую гладь озера, возле которого в другом веке, под другим солнцем, я увидела мальчика с лицом старичка и пихнула его в плечо, приглашая поиграть, а он ждал семьдесят лет, прежде чем вернуть мне тычок, чмокнуть мне руку и кинуться наутек, растерянно оглядываясь: отчего же я не бегу за ним?
Перед многими вопросами стою я в растерянности сегодня вечером.
Лишь в одном я уверена.
Роджера Харрисона я больше не ненавижу.
Диковинное диво
В один не слишком погожий и не слишком хмурый, не слишком знойный и не слишком студеный день по пустынным горам с суматошной скоростью катил допотопный потрепанный «форд». От лязга и скрежета металлических частей взмывали вверх трясогузки в рассыпчатых облачках пыли. Уходили с дороги ядовитые ящерицы — ленивые поделки индейских камнерезов. С шумом и грохотом «форд» все глубже вторгался в немую глухомань.
Старина Уилл Бентлин оглянулся с переднего сиденья и крикнул:
— Сворачивай!
По крутой дуге Боб Гринхилл бросил машину за рекламный щит. Тотчас оба повернулись. Они глядели на дорогу над гармошкой сложенного верха и заклинали поднятую колесами пыль:
— Успокойся! Ложись! Пожалуйста! И пыль медленно осела.
Как раз вовремя.
— Пригнись!
Мимо них, с такой яростью, точно прорвался сквозь все девять кругов ада, прогремел мотоцикл. Над лоснящимся рулем в стремительном броске навстречу ветру изогнулся человек с изборожденным складками, чрезвычайно неприятным лицом, в защитных очках, насквозь пропеченный солнцем. Рычащий мотоцикл и человек промчались по дороге.
Старики выпрямились в своем рыдване, перевели дух.
— Счастливого пути, Нед Хоппер, — сказал Боб Гринхилл.
— Почему? — спросил Уилл Бентлин. — Почему он всегда преследует нас?
— Уилли-Уильям, раскинь мозгами, — ответил Гринхилл. — Мы же его удача, его козлы отпущения. Зачем ему упускать нас, если погоня за нами делает его богатым и счастливым, а нас бедными и умудренными?
И они с невеселой улыбкой поглядели друг на друга. Чего не сделала с ними жизнь, сделали размышления о ней. Тридцать лет прожито вместе под знаком отказа от насилия, то бишь от труда. «Чую, жатва скоро», — говаривал Уилли, и они покидали город, не дожидаясь, когда созреет пшеница. Или: «Вот-вот яблоки начнут осыпаться!» И они удалялись миль этак на триста — чего доброго, в голову угодит.
Повинуясь руке Боба Гринхилла, автомобиль медленно, точно укрощенная лавина, сполз обратно на дорогу.
— Уилли, дружище, не падай духом.
— Это уже давно пройдено, — сказал Уилли. — Теперь я учусь мириться.
— Мириться с чем?
— Что мне сегодня попадется клад, сундук консервов — и ни одного ключа для консервных банок. А завтра — тысяча ключей и ни одной банки бобов.
Боб Гринхилл слушал, как мотор разговаривает сам с собой под капотом, словно старик шамкает о бессонных ночах, дряхлых костях, истертых до дыр сновидениях.
— Не везет, не везет — ан, вдруг повезет, Уилли.
— Ясное дело, да когда же это будет? Мы с тобой продаем галстуки, а через улицу кто сбывает такой же товар на десять центов дешевле?
— Нед Хоппер.
— Мы находим золотую жилу в Тонопа, и кто первым подает заявку?
— Старина Нед.
— Всю жизнь на его мельницу воду льем, разве не так? Не поздно ли затевать что-нибудь свое, на чем бы он не нагрел руки?
— Самое время, — возразил Роберт, уверенно ведя машину. — Вся беда в том, что ни ты, ни я, ни Нед никак не решим, что нам, собственно, надо. Мечемся из города в город, увидели — схватили. И Нед тоже увидел — схватил. Ему это не нужно, он только потому хватает, что нам это приглянулось. И держит, пока мы не махнули дальше, потом все бросает и тянется хвостом за нами, лишь бы еще какой-нибудь хлам добыть. Вот когда мы поймем, что нам надо, в ту же минуту Нед шарахнется от нас прочь, навсегда сгинет. А, черт с ним. — Боб Гринхилл вдохнул свежий, как утренняя роса, воздух, струившийся над ветровым стеклом. — Все равно хорошо. Это небо. Эти горы. Пустыня и…
Он осекся.
Уилл Бентлин взглянул на него:
— Что случилось?
— Почему-то… — Боб Гринхилл вытаращил глаза, а его дубленые руки сами медленно повернули баранку, — …нам нужно… свернуть… с дороги…
«Форд» содрогнулся, переваливая через обочину. Они съехали в пыльную канаву, выкарабкались из нее и очутились на выступе, который, словно полуостров, возвышался над пустыней. Боб Гринхилл, будто загипнотизированный, протянул руку и повернул ключ зажигания. Старик под капотом перестал сетовать на бессонницу и задремал.
— Ну, так зачем ты это сделал? — спросил Уилл Бентлин.
Боб Гринхилл смотрел на баранку и на свои руки, которые ни с того ни с сего откололи такую штуку.
— Что-то заставило меня. Зачем? — Он поднял глаза. Мышцы его расслабились, взгляд смягчился. — Чтобы полюбоваться этим видом, только и всего. Отличный вид. Все как миллиард лет назад.
— Кроме этого города, — сказал Уилл Бентлин.
— Города? — повторил Боб.
Он повернулся. Вот пустыня и вдали горы цвета львиной шкуры, и совсем-совсем далеко, взвешенное в волнах горячего утреннего песка и света, плавало некое видение, смутный набросок города.
— Это не может быть Феникс, — сказал Боб Гринхилл. — До Феникса девяносто миль. А других городов поблизости нет.
Уилл Бентлин зашуршал лежащей на коленях картой, проверяя.
— Верно… нет других городов.
— Сейчас лучше видно! — вдруг воскликнул Боб Гринхилл.
Они поднялись в полный рост над запыленным ветровым стеклом и смотрели вперед, подставив ласковому ветру морщинистые лица.
— Постой, Боб, знаешь, что это? Мираж! Ясное дело! Так все сошлось: свет, атмосфера, температура. Город лежит где-нибудь за горизонтом. Видишь, он мелькает, то темнее, то ярче! Небо отражает его, как зеркало, как раз сюда, и мы его видим! Мираж, чтоб мне лопнуть!
— Такой огромный?
Уилл Бентлин измерил взглядом город, а тот на глазах у него стал еще отчетливее, порыв ветра, плавно кружащие вдали песчаные вихри сделали его еще выше.
— Всем миражам мираж! Это не Феникс. И не Санта-Фе, и не Аламогордо, нет. Погоди… И не Канзас-Сити…
— Еще бы, до него отсюда…
— Так-то так, да ты погляди на эти дома. Высоченные! Самые высокие в стране. На всем свете есть только один такой город.
— Неужели… Нью-Йорк?
Уилл Бентлин медленно кивнул, и оба молча продолжали рассматривать мираж. Освещенный утренней зарей город был высокий, сверкающий, все до мелочей видно.
— Да, — сказал наконец Боб. — Здорово.
— Здорово, — согласился Уилл. — Но, — добавил он чуть погодя шепотом, точно боясь, что город услышит, — откуда ему тут взяться, в Аризоне, за три тысячи миль от дома, невесть где?
Не отрывая глаз от города, Боб Гринхилл сказал:
— Уилли, дружище, никогда не задавай природе вопросов. Ей не до тебя, она занята своим делом. Скажем, радиоволны, радуги, северные сияния и все такое прочее, словом, какая-то штуковина сделала этот огромный снимок города Нью-Йорка и проявила его здесь, за три тысячи миль, в тот самый день, когда нас надо подбодрить, нарочно для нас.
— Не только для нас. — Уилли повернул голову вправо. — Погляди-ка!
Немая лента странствий отпечаталась на крупитчатой пыли скрещенными черточками, углами и другими таинственными знаками.
— Следы шин, — сказал Боб Гринхилл. — Знать, немало машин сворачивает сюда.
— Чего ради, Боб? — Уилл Бентлин выпрыгнул из машины, опустился на землю, топнул по ней, повернулся, упал на колени и коснулся земли неожиданно и сильно задрожавшими пальцами. — Чего ради, а? Чтобы посмотреть мираж? Так точно! Чтобы посмотреть мираж!
— Ну?
— Ты только представь себе! — Уилл выпрямился и загудел, как мотор. — Ррррррр! — Он повернул воображаемую баранку. Затрусил вдоль машинного следа. — Ррррррр! Иииии! Торможу! Роберт-Боб, понимаешь, на что мы напали?! Глянь на восток! Глянь на запад! На много миль — единственное место, где можно свернуть с шоссе и сидеть, любоваться!
— Это неплохо, что люди понимают толк в красоте…
— Красота, красота! Чья это земля?
— Государственная, надо полагать…
— Не надо! Это наша земля, моя и твоя! Разбиваем лагерь, подаем заявку, приступаем к разработкам и по закону участок наш… верно?
— Стой! — Боб Гринхилл впился взглядом в пустыню и удивительный город вдали. — То есть ты собираешься… разрабатывать мираж?
— В самое яблочко! Разрабатывать мираж!
Роберт Гринхилл вылез из машины и обошел вокруг нее, разглядывая примятую шинами землю.
— Это можно?
— Можно? Извините, что я напылил!
Уилл Бентлин уже вколачивал в землю колья, тянул веревку.
— Вот отсюда и до сих пор, а отсюда до сих простирается золотой прииск, мы промываем золото, это корова, мы ее доим, это море денег, мы купаемся в нем!
Нырнув в машину, он выбросил несколько ящиков и извлек большой лист картона, который некогда возвещал о продаже дешевых галстуков. Перевернул его, вооружился кистью и принялся выводить буквы.
— Уилли, — сказал его товарищ, — кто же станет платить за то, чтобы посмотреть на какой-то паршивый, старый…
— Мираж? Поставь забор, объяви людям, что просто так они ничего не увидят, и им сразу загорится. Вот!
Он поднял в руках объявление:
ТАЙНОЕ ДИВО МИРАЖ
ЗАГАДОЧНЫЙ ГОРОД
25 центов с машины. С мотоциклов десять.
— Как раз машина идет. Теперь гляди!
— Уильям!..
Но Уилл уже бежал к дороге, подняв плакат.
— Эй! Смотрите! Эй!
Машина проскочила мимо, точно бык, не заметивший матадора.
Боб зажмурился, чтобы не видеть, как пропадает улыбка на лице Уилла.
Внезапно — упоительный звук. Визг тормозов.
Машина дала задний ход! Уилл бежал ей навстречу, размахивая, указывая.
— Извольте, сэр! Извольте, мэм! Тайное Диво Мираж! Загадочный Город! Заезжайте сюда!
Ничем не примечательный участок исчертило множество, нет, несчетное множество колесных следов.
Огромный одуванчик пыли повис в жарком мареве над выступом, и стоял сплошной гул прибывающих автомашин, которые занимали свое место в ряду — тормоза выжаты, дверцы захлопнуты, моторы заглушены, разные машины из разных мест. И люди в машинах совсем разные, ведь они ехали кто откуда, и вдруг их что-то притянуло, как магнит, и поначалу все говорили разом, но, приглядевшись к далекому виду, вскоре смолкали. Тихий ветер дул прямо в лицо, теребя волосы женщин и расстегнутые воротники мужчин. Люди долго сидели в машинах или стояли на краю выступа, ничего не говоря; наконец один за другим стали поворачивать.
Вот первая машина покатила обратно мимо Боба и Уилла; сидящая в ней женщина благодарно кивнула им:
— Спасибо! Действительно, самый настоящий Рим!
— Как она сказала: «Рим» или «дым»? — спросил Уилл. Вторая машина повернула к выходу.
— Ничего не скажешь! — Водитель высунулся и пожал руку Бобу. — Так и чувствуешь себя французом!
— Французом?! — вскричал Боб.
Оба подались вперед, навстречу третьей машине. За рулем, качая головой, сидел старик.
— В жизни не видел ничего подобного. Подумать только: туман, все как положено, Вестминстерский мост, лучше, чем на открытке, и Большой Бен поодаль. Как это у вас получается? Дай вам Бог счастья. Премного обязан.
Окончательно сбитые с толку, они пропустили машину со стариком, медленно повернулись и посмотрели туда, где за их участком вдали колыхалась полуденная мгла.
— Большой Бен? — произнес Уилл Бентлин. — Вестминстерский мост? Туман?
Чу, что это, кажется, там, за краем земли, совсем тихо, чуть слышно (полно, слышно ли? Они приставили к ушам ладони) трижды пробили огромные часы? И, кажется, ревуны окликают суда на далекой реке, и судовые сирены гудят в ответ.
— Чувствуешь себя французом? — шептал Роберт. — Большой Бен? Дым? Рим? Разве это Рим, Уилл?
Ветер переменился. Струя жаркого воздуха взмыла вверх, перебирая струны невидимой арфы. Что это, как будто туман затвердел, образуя серые каменные монументы? Что это, как будто солнце водрузило золотую статую на вздыбившуюся глыбу чистого, снежного мрамора.
— Как… — заговорил Уильям Бентлин, — почему все менялось? Откуда здесь четыре, пять городов? Разве мы говорили кому-нибудь, какой город они увидят? Нет. Ну, держись, Боб, держись!
Они перевели взгляд на последнего посетителя, который стоял один на краю выступа. Сделав знак товарищу, чтобы тот молчал, Роберт безмолвно подошел к платному посетителю и остановился сбоку, чуть позади.
Это был мужчина лет под пятьдесят с энергичным загорелым лицом, ясными, добрыми, живыми глазами, узкими скулами, выразительным ртом. У него был такой вид, словно он в жизни немало путешествовал, не одну пустыню пересек в поисках заветного оазиса. Он напоминал одного из тех архитекторов, которые бродят среди строительного мусора подле своих творений, глядя, как железо, сталь, стекло взмывают кверху, заслоняя, заполняя свободный клочок неба. У него было лицо зодчего, глазам которого вдруг, мгновенно, простершись от горизонта до горизонта, предстало совершенное воплощение давней мечты. Внезапно, словно и не замечая стоящих рядом Уильяма и Роберта, незнакомец заговорил тихим, спокойным, задумчивым голосом. Он назвал то, что видел, высказал то, что чувствовал:
— Что? — спросил Уильям.
Незнакомец чуть улыбнулся и, не отрывая глаз от миража, стал негромко читать по памяти:
Его голос укротил ветер, и ветер подул на стариков, так что они совсем присмирели.
Уильям и Роберт смотрели на мираж и в золотой пыли видели все то, о чем говорил незнакомец: гроздья легендарных восточных минаретов, купола, стройные башенки, выросшие на волшебных посевах цветочной пыльцы из Гоби, россыпи запекшейся гальки на берегах благодатного Евфрата, Пальмира — еще не развалины, только-только построенная, свежей чеканки, нетронутая минувшими годами, вот окуталась дрожащим маревом, вот грозит совсем улететь…
Видение озарило счастьем преобразившееся лицо незнакомца, и отзвучали последние слова:
Незнакомец смолк.
И тишина в душе у Боба и Уилла стала еще глубже. Незнакомец теребил дрожащими пальцами бумажник, глаза его увлажнились.
— Спасибо, спасибо…
— Вы уже заплатили, — напомнил Уильям.
— Будь у меня еще, вы бы все получили.
Он стиснул руку Уильяма, оставив в ней пятидолларовую бумажку, вошел в машину, в последний раз посмотрел на мираж, сел, включил мотор, не торопясь дал ему прогреться и укатил. Его лицо светилось, глаза излучали покой.
Роберт, ошеломленный, сделал несколько шагов вслед за машиной.
Вдруг Уильям взорвался, взмахнул руками, гикнул, щелкнул каблуками, закружился на месте.
— Аллилуйя! Роскошная жизнь! Полная чаша! Ботиночки со скрипом! Загребай горстями!
Но Роберт сказал:
— А мне кажется, не надо… Уильям перестал плясать.
— Что?
Роберт пристально смотрел на пустыню.
— Да разве ж этим завладеешь? Вон как далеко до него. Ну хорошо, мы подадим заявку на участок, но… Мы даже не знаем, что это такое.
— Как не знаем: Нью-Йорк и…
— Ты когда-нибудь бывал в Нью-Йорке?
— Всегда мечтал. Никогда не бывал.
— Всегда мечтал, никогда не бывал. — Роберт медленно кивнул. — Так и они. Слыхал: Париж. Рим. Лондон. Или этот последний: Ксанадупур. Уилли, Уилли, да мы тут напали на такое… Удивительное, большое. Боюсь, мы только все испортим.
— Постой, но ведь мы же никому не запрещаем, верно?
— Почем ты знаешь? Может быть, четвертак кому-то и не по карману. Не годится это — тут сама природа, а мы со своими правилами. Погляди и скажи, что я не прав.
Уильям поглядел.
Теперь город был похож на тот самый первый город в его жизни, который он увидел, когда мать однажды утром повезла его с собой на поезде, и они ехали по зеленому степному ковру, и вот впереди, крыша за крышей, башня за башней над краем земли стал подниматься город, испытующе глядя на него, словно следя, как он подъезжает все ближе. Город — такой невидимый, такой новый, такой старый, такой устрашающий, такой чудесный…
— По-моему, — сказал Роберт, — оставим себе на бензин, сколько на неделю надо, а остальные деньги положим в первую же церковную кружку. Этот мираж, он как чистый родник, пейте, кому хочется. Умный человек зачерпнет кружку, освежит холодком горло в жару и поедет дальше. А если мы останемся, да начнем плотины ставить, чтобы вся вода только нам…
Уильям, глядя вдаль сквозь шуршащие вихри пыли, попытался смириться, согласиться.
— Раз ты так говоришь…
— Не я. Весь здешний край говорит.
— А вот я скажу другое!
Они подскочили и обернулись.
На косогоре над дорогой стоял мотоцикл. А на нем, в радужных пятнах бензина, в огромных очках, с коркой грязи на щетинистых щеках — ну конечно, старый знакомец, все та же заносчивость, то же неистощимое высокомерие.
— Нед Хоппер!
Нед Хоппер улыбнулся своей самой ядовито-благожелательной улыбкой, отпустил тормоза и съехал вниз, к своим старым друзьям.
— Ты… — произнес Роберт.
— Я! Я! Я! — Громко смеясь, запрокинув голову, Нед Хоппер трижды стукнул по кнопке сигнала. — Я!
— Тихо! — вскричал Роберт. — Разобьешь, это же как зеркало.
— Что «как зеркало»?
Уильям, зараженный тревогой Роберта, беспокойно посмотрел на горизонт над пустыней.
Мираж затрепетал, задрожал, затуманился — и снова гобеленом повис в воздухе.
— Ничего не вижу! Признавайтесь, что вы тут затеяли, ребята? — Нед уставился на испещренную следами землю. — Я двадцать миль отмахал, нет как нет, только потом смекнул, что вы где-то позади притаились. Э, говорю себе, разве так поступают старые друзья, которые в сорок седьмом навели меня на золотую жилу, а в пятьдесят пятом осчастливили этим мотоциклом. Сколько лет выручаем друг друга, и вдруг какие-то секреты от старины Неда. И я повернул назад. Полдня вон с той горы за вами следил. — Нед поднял бинокль, висевший на его промасленной куртке. — Я ведь умею читать по губам, вы не знали? Точно! Видел, как сюда заскакивали все эти машины, видел денежки. Да у вас тут настоящий театр!
— Не повышай голоса, — предостерег его Роберт. — До свидания.
Нед приторно улыбнулся:
— Как, вы уезжаете? Жалко. А вообще-то вам и правда нечего делать на моем участке.
— На твоем! — закричали Роберт и Уильям, спохватились и дрожащим шепотом повторили: — Как это на твоем?
Нед усмехнулся:
— Я как увидел ваши дела, махнул прямиком в Феникс. Видите, документик у меня в заднем кармане?
В самом деле, аккуратно сложенная бумажка. Уильям протянул руку.
— Не доставляй ему удовольствия, — сказал Роберт. Уильям отдернул руку.
— Ты хочешь, чтобы мы тебе поверили? Что ты уже подал заявку на участок?
Нед погасил улыбку в своих глазах.
— Хочу. Не хочу. Допустим, я соврал — все равно я на мотоцикле доберусь до Феникса быстрее, чем вы на своем драндулете. — Нед изучил окрестности в свой бинокль. — Так что лучше выкладывайте все денежки, какие получили с двух часов дня, когда я подал заявку, с того часа вы находитесь на чужой земле — на моей земле.
Роберт швырнул монеты в пыль. Нед Хоппер бросил небрежный взгляд на блестящий сор.
— Монета правительства Соединенных Штатов! Лопни мои глаза, ведь ничегошеньки нет, а эти барашки все равно денежки несут!
Роберт медленно повернулся лицом к пустыне.
— Ты ничего не видишь? Нед фыркнул:
— Ничего, будто не знаешь!
— А мы видим! — закричал Уильям. — Мы…
— Уилл, — сказал Роберт.
— Но, Боб!..
— Там нет никого. Он прав.
Под барабанную дробь моторов к ним приближались еще машины.
— Извините, джентльмены, мое место в кассе? — Нед метнулся к дороге, размахивая руками. — Извольте, сэр, мэм! Сюда, сюда! Деньги вперед!
— Почему? — Уильям проводил взглядом горланящего Неда Хоппера. — Почему мы ему потакаем?
— Погоди, — кротко сказал Роберт. — Посмотрим, что будет.
Они отошли в сторону, пропуская чей-то «форд», чей-то «бьюик», чей-то престарелый «мун».
Сумерки. На горе, ярдах в двухстах над «Кругозором загадочного Города-Миража» Уильям Бентлин и Роберт Гринхилл поджарили и принялись ковырять вилками скудный ужин, свинины почитай что и нет, одни бобы. Время от времени Роберт наводил видавший виды театральный бинокль на то, что происходило внизу.
— Тридцать посетителей с тех пор, как мы уехали, — отметил он. — Ничего, скоро закрывать придется. Десять минут, и солнце совсем уйдет.
Уильям смотрел на одинокий боб, пронзенный его вилкой.
— Нет, ты мне скажи: почему? Почему всякий раз, как нам повезет, Нед Хоппер тут как тут?
Роберт дохнул на стекла бинокля и протер их рукавом.
— Потому, дружище Уилли, что мы с тобой чистые души. Вокруг нас сияние. И злодеи мира сего, как завидят его вдали, радуются: «Ага, не иначе там ходят этакие милые, простодушные сосунки». И спешат во всю прыть к нам, погреть руки. Как тут быть? Не знаю. Разве что погасить сияние.
— Да ведь не хочется, — задумчиво произнес Уильям, держа ладони над костром. — Просто я надеялся, что наконец настала наша пора. Этот Нед Хоппер, он же только брюхом живет, и когда его гром разразит?
— Когда? — Роберт ввинтил линзы бинокля себе в глаза. — Уже, уже разразил! Позор маловерам!
Уильям вскочил на ноги рядом с ним. Они поделили бинокль, каждому по окуляру.
— Гляди!
И Уильям, приставив глаз к биноклю, крикнул:
— Семь верст до небес!
— И все лесом!
Еще бы, такое зрелище! Нед Хоппер переминался с ноги на ногу возле автомашины. Сидящие в ней люди размахивали руками. Он вручил им деньги. Машина ушла. Даже на горе были слышны горестные вопли Неда.
Уильям ахнул:
— Он возвращает деньги! Гляди, едва не ударил вон того… А тот грозит ему кулаком! Нед ему тоже возвращает деньги! Гляди, еще нежное расставание, еще!
— Так его! — ликовал Роберт, прильнув к своей половине бинокля.
И вот уже все машины катят прочь в облаке пыли. Старина Нед исполнил какую-то яростную чечетку, швырнул оземь свои очки, сорвал плакат, изрыгнул ужасающую брань.
— Вот дает! — задумчиво сказал Роберт. — Не хотел бы я услышать такие слова. Пошли, Уилли!
Не дожидаясь, когда Уильям Бентлин и Роберт Гринхилл спустятся на своей машине к повороту на Загадочный Город, разъяренный Нед Хоппер пулей вылетел с выступа. Злобные крики, рев мотоцикла, раскрашенный картон бумерангом взлетел вверх и, со свистом рассекая воздух, чуть не поразил Боба. Нед уже скрылся на своем грохочущем чудище, когда плакат вильнул вниз и лег на землю; Уильям поднял его и обтер.
Сумерки сгустились, солнце прощалось с далекими вершинами, весь край притих и примолк. Нед Хоппер исчез, и двое остались одни на опустевшем выступе, в сетке колесных следов, глядя на пески и заколдованный воздух.
— Нет, нет! — произнес Уильям.
— Боюсь, что да, — отозвался Роберт.
Чуть тронутая розовым золотом заходящего солнца даль была пуста. Мираж пропал. Два-три пыльных вихря прошли вдоль горизонта и рассыпались, и только.
Уильям вздохнул горько-горько.
— Это все он! Нед! Нед Хоппер, вернись, ты!.. Все испортил, окаянный! Чтоб тебе света не видать! — Он осекся. — Боб, как ты можешь — стоит, хоть бы что ему!
Роберт грустно улыбнулся:
— А мне его жалко.
— Жалко?!
— Он не видел того, что видели мы. Все видели, а он не видел. Даже на миг не поверил. А ведь неверие заразительно. Оно и к другим пристает.
Уильям внимательно оглядел безлюдный край.
— По-твоему, в этом все дело?
— Кто его знает… — Роберт покачал головой. — Одно можно точно сказать: когда люди сворачивали сюда, они видели город, города, мираж, назови, как хочешь. Но поди разгляди что-то, когда тебе все заслоняют. Нед Хоппер даже руки не поднял, а все солнце закрыл своей загребущей лапищей. И сразу театр — двери на замок.
— А мы… — Уильям помялся. — Мы не можем снова открыть его?
— Как? Что надо сделать, как вернуть такое чудо? Они медленно обвели взглядом пески, горы, редкие одинокие облачка, притихшее, бездыханное небо.
— Может, если глядеть уголком глаза, не прямо, а как бы невзначай, ненароком…
И они стали смотреть на башмаки, на руки, на камни в пыли у своих ног. Наконец Уильям буркнул:
— А точно ли это? Что мы такие чистосердечные? Роберт усмехнулся:
— Конечно, детишки тут сегодня побывали, так те куда почище нас, недаром видели все, что хотели, и взрослые — простые души, что выросли среди полей и милостью Божьей странствуют по свету, а сами детьми остались. Нет, Уилли, мы с тобой не дети — ни малые, ни взрослые, а есть у нас одно: умеем радоваться жизни. Знаем, что такое прозрачное утро на пустынной дороге, как звезда рождаются и гаснут в небесах. А этот злодей, он давным-давно разучился радоваться. Как его не пожалеть, вот мчится сейчас на своем мотоцикле, и всю ночь так, и весь год…
Он не успел договорить, когда заметил, что Уильям исподволь косит глазом в сторону пустыни. И он тихонько прошептал:
— Видишь что-нибудь?.. Уильям вздохнул:
— Нет. Может быть… завтра…
На шоссе показалась одинокая машина.
Они переглянулись. Глаза их вспыхнули исступленной надеждой. Но руки не поднимались, и рот не открывался, чтобы крикнуть. Они стояли молча, держа перед собой разрисованный плакат.
Машина пронеслась мимо.
Они проводили ее молящими взглядами.
Машина затормозила. Дала задний ход. В ней сидели мужчина, женщина, мальчик, девочка. Мужчина крикнул:
— Уже закрыли на ночь?!
— Ни к чему… — заговорил Уильям.
— Он хочет сказать: деньги нам ни к чему! — перебил его Роберт. — Последние клиенты сегодня, к тому же целая семья. Бесплатно! За счет фирмы!
— Спасибо, приятель, спасибо!
Машина, рявкнув, въехала на площадку кругозора. Уильям стиснул локоть Роберта.
— Боб, какая муха тебя укусила? Огорчить детишек, такую славную семью!
— Помалкивай, — тихо сказал Роберт. — Пошли. Дети выскочили из машины. Мужчина и его жена выбрались на волю и остановились, освещенные вечерней зарей. Небо было золотое, с голубым отливом, где-то в песчаной дали пела птица.
— Смотри, — сказал Роберт.
Приезжие стояли в ряд, глядя на пустыню, и старики подошли к ним сзади. Уильям затаил дыхание.
Отец и мать, неловко щурясь, всматривались в сумрак. Дети ничего не говорили. Распахнутые глаза их впитали в себя чистый отсвет заката. Уильям прокашлялся.
— Уже поздно. Кхм… Плохо видно…
Мужчина хотел ответить, но его опередил мальчик:
— А мы видим… здорово!
— Да-да! — подхватила девочка, показывая. — Вон там! Мать и отец проследили взглядом за ее рукой, точно это могло помочь. И помогло!
— Боже, — воскликнула женщина, — кажется, там… нет… ну да, вот оно!
Мужчина впился глазами в лицо женщины, что-то прочел на нем, сделал мысленный оттиск и наложил его на пустыню и воздух над пустыней.
— Да, — молвил он наконец, — да, конечно. Уильям посмотрел на них, на пустыню, потом на Роберта: тот улыбнулся и кивнул.
Четыре лица, обращенные к пустыне, так и сияли.
— О, — прошептала девочка, — неужели это правда? Отец кивнул, осененный видением, которое было на грани зримого и за гранью постижимого. И сказал так, словно стоял один в огромном заповедном храме:
— Да. И, клянусь… это прекрасно.
Уильям уже начал поднимать голову, но Роберт шепнул:
— Не спеши. Сейчас. Потерпи немного, не спеши, Уилл. И тут Уильям понял, что надо делать.
— Я… я стану с детьми, — сказал он.
И он медленно прошел вперед и остановился за спиной мальчика и девочки. Так он долго стоял, точно между двумя жаркими кострами в холодный вечер, и они согрели его, и он, не дыша, исподволь поднял глаза и через вечернюю пустыню осторожно стал всматриваться в сумрак — неужели не покажется?
И там из легкого облака пыли высоко над землей ветер снова вылепил смутные башни, шпили, минареты — возник мираж.
Уильям ощутил на шее, совсем близко, дыхание Роберта — тот негромко шептал про себя:
Они видели город.
Солнце зашло, появились первые звезды. Они совсем отчетливо видели город, и Уильям услышал свой голос — то ли вслух, то ли в душе он повторял:
И они стояли в темноте, пока не перестали видеть.
Именно так умерла Рябушинская
На ледяном цементе подвала лежал холодный труп мужчины. Здесь было так сыро, будто моросил невидимый дождь, а люди толпились, как жители прибрежной деревни возле мертвого тела, поутру выброшенного волнами на морской берег. Казалось, в этой подземной комнате сила тяжести превышала обычную: головы присутствующих, уголки их ртов и щеки властно клонило вниз. Руки висели плетями, словно к ним были привешены гири, а ноги будто приросли к цементу и двигать ими было так же трудно, как под водой.
Время от времени откуда-то приходил звук, но всем было не до него.
Однако невнятный звук повторялся снова и снова, пока присутствующие не обратили на него внимание, и тогда люди разом вскинули головы вверх и уставились на потолок. Почудилось, что они действительно на морском берегу и в небе тоскливо вскрикивает чайка, пронизывая своим голосом ноябрьский серый рассвет. Звук был печален, как крик птицы, нехотя отправляющейся на юг переждать ужасы зимы. Или как далекий шорох океанской волны, набегающей на берег и шуршащей по песку. Или как всхлип ветра внутри морской раковины.
Затем люди в подвале словно по команде перевели взгляд на стол, где стояла золотистая шкатулка длиной чуть побольше полуметра с надписью «РЯБУШИНСКАЯ». Теперь всем стало очевидно, что звук идет именно из-под крышки этого гробика. Присутствующие таращились на шкатулку. И только труп лежал равнодушно и не прислушивался к странному полувнятному тихому голоску.
— Выпустите меня, выпустите меня! Ах, пожалуйста, выпустите меня! — различили все.
Кончилось тем, что мистер Фабиан, чревовещатель, подошел к золотистой шкатулке, нагнулся над ней и сказал:
— Нет, Риа, тут у нас серьезное дело. Попозже. А теперь успокойся и помолчи. Будь славной девочкой.
Он прикрыл глаза и попробовал рассмеяться. Однако голосок из-под полированной крышки спокойно возразил:
— Пожалуйста, не насмешничай. После того что случилось, ты должен быть со мной поласковее.
Детектив лейтенант Крович легонько дернул Фабиана за рукав:
— Если не возражаете, ваши фокусы с чревовещанием мы послушаем в другой раз. А покуда нам надо что-то решить с этим.
Он посмотрел на женщину, которая взяла раскладной стул и присела.
— Итак, вы миссис Фабиан, — сказал детектив. Затем перевел глаза на молодого человека, присевшего неподалеку от женщины. — А вы — мистер Дуглас, пресс-агент и менеджер мистера Фабиана, не так ли?
Молодой человек подтвердил:
— Да, я мистер Дуглас.
Крович еще раз взглянул на лицо мужчины на полу.
— Мистер и миссис Фабиан, мистер Дуглас, как я вас понял, вы утверждаете, что никто из вас не знает этого человека, убитого здесь прошлым вечером. И его фамилию — Окхэм — вы слышите впервые в жизни. Однако этот Окхэм незадолго до своей смерти сказал режиссеру, что он знаком с Фабианом и намерен встретиться с ним в связи с жизненно важным делом.
Голосок в шкатулке опять что-то тихо забормотал. Крович взорвался:
— Бросьте ваши чертовы штучки, Фабиан!
Из-под крышки донесся слабый смешок. Будто зазвенел колокольчик, прикрытый одеялом.
— Не обращайте на нее внимания, лейтенант, — сказал Фабиан.
— На нее? Вы хотите сказать, на вас! Ну-ка, прекратите свои глупости — вместе или раздельно, мне наплевать.
— Нам никогда не быть больше вместе, — произнес все тот же тихий женский голосок. — После того, что произошло вчера.
Крович раздраженно протянул руку:
— Дайте-ка мне ключ, Фабиан.
В полной тишине ключ щелкнул в крохотной замочной скважине, миниатюрные петельки скрипнули, и крышка открылась.
— Большое спасибо, — сказала Рябушинская. Крович замер как громом пораженный, глядя вниз, на Рябушинскую. Он глазам своим не верил.
Белое личико куклы было вырезано не то из мрамора, не то из белейшей древесины — дерева такой белизны ему еще не доводилось видеть. Казалось, это личико вылеплено из снега. А тонкая шея, тоже белая, по изяществу была сравнима разве что с чашкой из тончайшего фарфора: солнце просвечивало через нее. Ручки были словно из слоновой кости — такие грациозные вещицы с крохотными ноготками, с рисунком на подушечках длинных, красиво очерченных пальчиков, с морщинками на подвижных суставах.
Она была как из белого мрамора, сквозь который играет свет, но столь же живой свет источали ее темные глаза синевы спелой шелковицы. Крович мог бы сравнить куклу с парным молоком в прозрачном стакане или взбитыми сливками в хрустальном кувшине. Тонкие черные брови красивым изломом подчеркивали прелесть глаз, а впадинки на щеках пульсировали жизнью, не говоря уже о том, что едва приметные фиолетовые жилки виднелись на каждом виске, а еще более неприметная голубоватая венка просвечивала над переносицей, между сияющими колодцами темных глаз.
Ее губы были раздвинуты и даже казались слегка влажными. И прелестные ноздри, и миниатюрные ушки ни одним изгибом не погрешали против природы. Темные волосы были разделены по центру пробором и зачесаны за уши, и эти волосы были настоящими — Крович мог разглядеть каждый отдельный волосок. Ее черное элегантное платьице, того же цвета, что и волосы, оставляло открытыми мраморной белизны плечи.
Крович почувствовал комок в горле, его голосовые связки напряглись, но в итоге он ничего не сказал.
Фабиан вынул Рябушинскую из шкатулки.
— Вот моя прекрасная леди, — произнес он. — Вырезана из редчайших сортов дерева, привезенных из далеких стран. Она выступала в Париже, в Риме и Стамбуле. И повсюду люди влюблялись в нее и не уставали говорить, что она как живое существо, некое одушевленное чудесное произведение искусства. Никто не хотел признать, что она родилась из бревна, бывшего деревом и росшего где-то далеко от городов и кретинов, которые населяют эти города.
Жена Фабиана, Элис, позабыв обо всем и обо всех, пристально наблюдала за мужем, не сводя глаз с его губ. Пока он рассказывал о кукле, которую он держал в руках, миссис Элис ни разу не сморгнула. Он в свою очередь был полностью поглощен куклой — казалось, и подвал, и бывших в нем людей поглотил густой туман.
Однако через какое-то время фигурка в руках Фабиана вдруг шевельнулась и зажестикулировала.
— Право же, не надо говорить обо мне! Пожалуйста! Ты же знаешь, Элис терпеть этого не может.
— Да, она всегда приходила в дурное расположение духа.
— Тсс! Не начинай! — воскликнула Рябушинская. — Не здесь и не сейчас. — Потом она проворно повернула головку в сторону Кровича и ее губки быстро зашевелились. — Как все это случилось? Ну, я имею в виду то, что произошло с мистером Окхэмом.
Фабиан решительно возразил:
— Риа, ты бы лучше легла и поспала.
— Но я не хочу спать! У меня есть право все слышать и все рассказать. Я ведь часть этого убийства… точно так же, как Элис или… или даже мистер Дуглас!
Пресс-агент швырнул на пол свою сигарету.
— Послушайте, не втягивайте меня во все это…
Он бросил на куклу такой яростный взгляд, будто она внезапно выросла до роста в шесть футов и дышала ему прямо в лицо.
— Я всего лишь хочу, чтобы здесь прозвучала правда. — Рябушинская повела головой и скользнула взглядом по каждому из присутствующих. — А если я останусь заперта в своем гробу, правда никогда не всплывет, потому как Джон — завзятый враль и я попросту должна следить за ним. Ведь я права, Джон, а?
— Да, — ответил он с закрытыми глазами. — Полагаю, ты права.
— Джон любит меня больше любой женщины на свете, и я люблю его и всегда пытаюсь понять извращенный ход его мыслей.
Крович ударил кулаком по столу.
— Проклятье! О-о, проклятье! Фабиан, как вы можете… как вы смеете!
— Ничего с этим поделать не могу, — кротко отозвался Фабиан.
— Но она же…
— Знаю, знаю, что вы хотите сказать, — произнес Фабиан, спокойно глядя детективу прямо в глаза. — По-вашему, она сидит у меня в глотке? Ошибаетесь. Она не в моих голосовых связках. Она где-то еще. Сам не знаю где. Здесь или здесь. — Говоря это, он коснулся сперва своей груди, потом головы. — Она очень шустро прячется. Иногда я просто не поспеваю за ней. А порой она живет отдельно от меня, совершенно отдельно. Порой приказывает мне сделать то-то и то-то — и я покоряюсь. Она всегда начеку — против меня, попрекает и советует, говорит правду, когда я лгу, настроена на добро, когда я полон зла и грешу как сто чертей. У нее какая-то независимая жизнь. Она отгородила себе некое пространство в моем мозгу и живет себе за стенкой, начисто игнорируя меня, когда я принуждаю ее говорить дурные вещи, и покоряясь, если я вкладываю в ее уста правильные речи и придаю ее лицу правильное выражение. — Фабиан тяжело вздохнул. — Таким образом, если вы намерены продолжать расследование, без присутствия Риа не обойтись. Поверьте мне, ничего хорошего не выйдет из того, что мы ее запрем. Ничего хорошего.
Лейтенант Крович опустился на стул и добрых полминуты молча размышлял.
— Ладно, — сказал он наконец. — Пусть остается. Возможно, к концу вечера я буду настолько измотан, что для меня не будет разницы, кому задавать вопросы: чревовещателю или его кукле.
Крович развернул очередную сигару, закурил ее и выпустил облачко дыма.
— Итак, мистер Дуглас, вы по-прежнему утверждаете, что личность убитого вам не известна?
— Нет, что-то знакомое в его чертах есть. Возможно, он актер.
Крович выругался.
— А как насчет того, чтобы прекратить врать и начать говорить правду? Вы только посмотрите на одежду Окхэма, на его туфли! Ясно, что человек без гроша. Вчера вечером он явился сюда за деньгами — выклянчить, одолжить или украсть. Давайте-ка спросим у вас вот что, мистер Дуглас. Вы влюблены в миссис Фабиан?
— Это что такое! — воскликнула Элис Фабиан. — Прекратите!
Крович жестом велел ей замолчать.
— Вы меня за слепого принимаете, или как? Вот вы сидите голубками рядышком, а я тихо диву даюсь. Когда пресс-агент трогательно утешает вас, сидя там, где в этой ситуации обязан сидеть ваш муж, — тут уж вы меня извините!.. А до чего любопытно глядеть со стороны, какими глазами вы, миссис Фабиан, смотрите на ящик с марионеткой и как глотаете воздух, когда кукла появляется на свет из своей шкатулки! А как откровенно сжимаются у вас кулачки, когда она разговаривает! Черт меня побери, все яснее ясного!
— Неужели вы могли хотя бы на секунду вообразить, что я ревную к куску дерева?
— А вы не ревнуете?
— Еще чего! Конечно, нет!
Фабиан шевельнулся и решил вмешаться:
— Элис, ты не обязана что-либо рассказывать.
— Позволь ей!
Все вздрогнули и резко повернули голову в сторону маленькой деревянной фигурки; ее ротик медленно закрывался после сказанных слов. Даже Фабиан бросил на куклу такой взгляд, будто она внезапно исподтишка нанесла ему коварный удар.
После долгой паузы Элис Фабиан заговорила:
— Я вышла замуж за Джона семь лет назад, потому что он твердил, будто бы любит меня, и потому что я любила его и любила его Рябушинскую. Но потом я заметила, что он живет только для нее и все свое внимание уделяет исключительно ей, а я просто тень, которая каждый вечер ждет за кулисами.
Ежегодно он тратил по пятьдесят тысяч долларов на ее гардероб. Угрохал сто тысяч на кукольный домик — с мебелью из золота, серебра и платины. Каждый вечер укладывал ее спать на маленькую кровать с атласными простынями и беседовал с ней. Поначалу я думала, что это все изощренная комедия, и она меня искренне забавляла. Но мало-помалу до меня дошло, что никакая это не шутка и я действительно не более чем ассистентка, простая обслуга при действительно важной персоне. Постепенно я стала ощущать смутную ненависть и недоверие — нет, не к кукле, она-то чем виновата, деревяшка бесчувственная! — я стала ощущать ненависть и отвращение к Джону, потому что это его вина. Ведь очевидно же, что он хозяин положения и что в подобного рода отношениях с деревянной куклой находит выход его врожденный утонченный садизм.
Ну а когда я стала ревновать всерьез… О, так глупо с моей стороны! Да он только этого и ждал! Я полностью удовлетворила его инстинкт мучить и косвенным образом дала высочайшую оценку его профессиональному мастерству чревовещателя. Все это было так глупо, так нелепо и так странно! И вместе с тем я догадывалась, что нечто владеет Джоном — вот так пьяницы носят где-то в себе непонятного и властного зверя, который понуждает их тянуться к бутылке и в конце концов сводит в могилу.
Короче, я металась от ярости к жалости, от ревности к сопереживанию и пониманию. Случались долгие периоды, когда я ни капельки не ненавидела его. А к той части его сознания, которую занимала Риа, у меня вообще никогда не было ненависти: ведь это его лучшая часть, честная и добрая. Она обладала всеми теми чертами, которые он не позволял себе проявлять.
Элис Фабиан умолкла. В подвале, некогда служившем гримерной комнатой, на время воцарилось молчание.
— Расскажите им про Дугласа, — шепнул голосок куклы. Миссис Фабиан не удостоила Рябушинскую взглядом.
Просто сделала усилие над собой и завершила рассказ:
— Прошло несколько лет, а любви и понимания со стороны Джона я добиться так и не смогла. И мое внимание естественным образом переключилось на другого… на мистера Дугласа.
Крович важно кивнул:
— Теперь картина начинает проясняться. Мистер Окхэм, неудачник без гроша в кармане, заявился вчера вечером в театр, потому как знал про вас и мистера Дугласа. Возможно, он пригрозил ввести мистера Фабиана в курс дела, если вы не оплатите его молчание. Стало быть, у вас был серьезный мотив для того, чтобы навсегда закрыть ему рот.
— Ну, эта ваша догадка не умнее прежних, — отмахнулась Элис Фабиан. — Я этого типа не убивала.
— Его мог прикончить мистер Дуглас и ничего вам об этом не сказать.
— Чего ради убивать? — вмешался Дуглас. — Джон все про нас знал.
— Разумеется, — кивнул Джон Фабиан и рассмеялся. Его смех стих, а ладонь, упрятанная в белоснежном нутре крохотной куклы, судорожно заработала. Рот куклы беззвучно открывался-закрывался и снова беззвучно открывался-закрывался. Фабиан пытался сделать так, чтобы она засмеялась после того, как он отсмеялся. Однако он ничего не добился, кроме невнятного шепота-шелеста быстро шлепающих губ куклы. Фабиан бессильно таращился на маленькое личико, пока на его щеках не заблестели капельки пота.
Назавтра днем лейтенант Крович отыскал в полумраке закулисья чугунную лесенку и задумчиво карабкался вверх, тратя на каждую ступеньку столько времени, сколько было нужно, дабы не сбить его мысли с ритма. Наконец он добрался до гримерных на втором этаже и постучал в одну из дверей.
— Входите, — словно из глубокого колодца отозвался голос Фабиана.
Крович зашел и плотно прикрыл дверь за собой. Пристально глядя на хозяина гримерной, развалившегося в кресле перед зеркалом, он произнес:
— Хочу вам кое-что показать.
С деревянным лицом лейтенант достал из своей кожаной папки глянцевую фотографию и положил ее на гримерный столик.
Брови Джона Фабиана удивленно взметнулись. Он быстро покосился на Кровича и поспешно выпрямился в кресле. Затем поднес руку к переносице и стал осторожно массировать себе лицо, словно у него была сильная головная боль.
Крович перевернул фотографию обратной стороной и начал читать машинописный текст на обороте:
«Имя: мисс Илиана Риамонова. Вес: сто фунтов. Глаза голубые. Волосы черные. Овальное лицо. Родилась в 1914 году в городе Нью-Йорке. Исчезла в 1934 году. Предположительно: жертва амнезии. Родители славянского происхождения…»
Губы Фабиана заметно дрожали.
Крович снова положил фотографию на столик и задумчиво покачал головой:
— Было в высшей степени глупо с моей стороны искать в архиве полиции фотографию куклы. Вы бы только слышали, какой хохот это вызвало у моих коллег. Жуткий хохот. А в итоге — вот она, Рябушинская. Не из папье-маше, не из дерева и не кукла, а женщина из плоти и крови, которая однажды жила, двигалась — и вдруг исчезла. — Он вперил в Фабиана пристальный взгляд. — Быть может, эта женщина послужила прообразом?
Фабиан криво улыбнулся:
— Во всем этом нет ничего такого. Просто когда-то давно я видел фотографию этой женщины, лицо приглянулось, вот я и сделал марионетку по ее образу и подобию.
— Ничего такого во всем этом нет? — Крович глубоко вдохнул, выдохнул, а потом вытер лицо громадным носовым платком. — Фабиан, не далее как сегодня утром я пролистал кипу журналов «Биллборд» вот такой высоты. И в одном номере 1934 года обнаружил преинтересную заметку о некоем второразрядном цирке, где описывается выступление мистера Фабиана с Милашкой Уилльямом. Милашка Уилльям — кукла-пацан. Была еще и ассистентка — Илиана Риамонова. Фотографии при заметке не имеется, но я, по крайней мере, получил хоть какую-то зацепку — имя, притом имя реального человека. Не составило труда порыться в архиве полиции и отыскать вот эту фотографию. Излишне говорить, что точность сходства между живой женщиной и куклой буквально ошеломляет. Мне кажется, Фабиан, вам бы следовало подумать еще разок и рассказать историю как следует.
— Ну, была она моей ассистенткой. Что с того? Использовал ее как модель.
— Слушайте, вы меня в пот вогнали, — сказал детектив. — Принимаете за дурака? Вы и впрямь верите, что я не могу распознать любовь прямо у себя под носом? Я же видел, как вы обращаетесь с этой марионеткой. Я наблюдал, как вы с ней разговариваете, какие реакции на себя вкладываете ей в уста. Это так естественно, что вы влюблены в куклу, потому что вы любили женщину, которая послужила моделью для создания куклы. Любили сильно-сильно. Я прожил достаточно долго и чувствую такие вещи без подсказки. Черт возьми, Фабиан, бросьте ходить вокруг да около!
Фабиан поднял к лицу свои бледные ладони, долго рассматривал их, потом уронил руки на колени.
— Так и быть. В 1934 году мой цирковой номер назывался «Фабиан и Милашка Уилльям». Уилльям — смешной пацан, нос картошкой, деревянная кукла, которую я вырезал в незапамятные времена. Я выступал в Лос-Анджелесе, когда в один прекрасный вечер у выхода из театра меня остановила девушка. Сказала, что не первый год следит за моей работой, что никак не может найти работу и очень надеется стать моей ассистенткой.
Он хорошо помнил, как она стояла в сумраке переулочка за театром, как его поразила ее свежесть и страстное желание работать с ним и для него и как холодный дождь деликатно сеялся по всему пространству переулочка и собирался бусинками на ее волосах, поднимался легким паром от кожи, бежал капельками по фарфорово-белым кистям, зажимавшим ворот пальто у шеи.
Его память легко возвращала то, как шевелились ее губы в слабом свете фонаря, только вот слова, как ему чудилось, странным образом не совпадали с движениями рта. Он не помнил, что тогда ответил ей: «да», или «нет», или «подумаю». Так или иначе девушка каким-то чудом уже на следующем представлении оказалась на сцене рядом с ним, облитая светом рампы, и в следующие два месяца он, обычно так гордившийся своим цинизмом и недоверием к окружающим, вдруг выступил из своего настороженного мира и с радостью полетел в бездонную пропасть, где нет границ и барьеров, но много тьмы и ужаса.
Как-то очень быстро начались ссоры, а за примирениями — новые ссоры. Сколько глупостей они совершили, сколько бессмыслиц, неправд и прочих ненужных слов наговорили друг другу… В конце концов она отдалилась от него, вызвав у него нескончаемые приступы ярости и умопомрачительные истерики. Однажды он взял и спалил весь ее гардероб в приступе дикой ревности. Это она приняла на диво спокойно. Но в один ужасный вечер он взял и швырнул ей уведомление об увольнении через неделю, обвинил в чудовищных проступках, орал на нее, тряс ее, отхлестал по щекам, а затем повалил на пол и волоком вытащил вон из театра, захлопнул за ней дверь!
В ту же ночь она исчезла навсегда.
Когда на следующий день после драки он обнаружил, что она действительно ушла, и нигде не смог ее найти, он словно очутился в эпицентре землетрясения. Все кругом рушилось, и страшный подземный гул будил его то в полночь, то в четыре утра, то на рассвете. И он вскакивал с постели ни свет ни заря и, бреясь кое-как перед искажающим все на свете расколотым и мутным зеркалом, вздрагивал от оглушающего рева вскипающего кофейника или от выстрела зажигаемой спички в соседней комнате.
Он аккуратно вырезал все свои объявления в газетах и наклеивал в специальный блокнот. В этих объявлениях он описывал Илиану, умолял видевших девушку сообщить ему о ее местопребывании и обращался к ней с просьбой вернуться. Он даже нанял частного детектива, чтобы отыскать ее. Кругом пошли разные разговоры. Его допрашивала полиция. И новые слухи и домыслы зароились вокруг его имени.
Илиана исчезла бесследно и безвозвратно, как кусочек белой бумаги, унесенный ветром. Описание ее внешности было разослано во все крупные города — на том полиция и успокоилась. Но Фабиан не сдался. Мертва она или в бегах от него, однако она вернется к нему — так или иначе. В этом Фабиан был твердо уверен.
Однажды вечером он пришел домой, неся на плечах всю тяжесть своей тоски, и рухнул на стул… и вдруг обнаружил, что сидит в темноте и разговаривает с Милашкой Уилльямом.
— Так-то вот, Уилли. Все кончено. Я не смог удержать ее! И Уилльям вдруг крикнул ему в ответ:
— Трус! Трус!
Крик шел откуда-то сверху, из пустоты.
— Кабы ты захотел, ты бы ее вернул!
Милашка Уилльям скрипел суставами и верещал из тьмы.
— Ты можешь, можешь! Думай! — настаивал он. — Придумай способ. У тебя должно получиться. Отложи меня в сторону, запри меня в сундуке. А сам начни все сначала.
— Начать все сначала?
— Да, — шепеляво шепнул Милашка Уилльям — сгусток темноты в темноте. — Да! Купи полено. Купи новое хорошее полено. Купи крепкое полено. Купи прекрасное новое крепкое полено. И возьми в руки резец. Начни работать медленно и аккуратно. Твори бережными ударами долота. Нежно округли маленькие ноздри. Неспешно прочерти на дереве тонкие черные брови над полушариями век и не забудь ямочки на щеках. За резец, вперед!..
— Нет! Это глупость. Мне ни за что не справиться!
— Ты можешь! У тебя получится, получится, получится, получится…
Голос слабел и слабел, как журчание ручья, уходящего под камень, в глубь земли. Голова Фабиана бессильно упала на грудь. Милашка Уилльям тяжело вздохнул и окончательно затих. Оба стали как недвижные камни, над которыми бурлит водопад.
На следующее утро Фабиан после долгих поисков нашел кусок дерева необходимого размера — из самой твердой и мелкослойной древесины — и принес его домой. Теперь полено лежало на верстаке. Но взяться за работу он не мог. И час, и другой, и третий он только смотрел на кусок дерева. Совершенно невероятно, что из этой холодной деревяшки его руки в союзе с памятью способны воссоздать нечто теплое, подвижно-гибкое и до боли родное. Смешно и помыслить, что удастся вернуть хотя бы приблизительно тот моросящий дождик, ту атмосферу лета и в сумерках нежный шорох хлопьев снега, которыми декабрьский ветер царапал по оконному стеклу. Нет ни малейшей надежды — ни малейшей — поймать снежинку так, чтобы она тут же не растаяла в твоих неловких пальцах.
Но тогда Милашка Уилльям заговорил снова — после полуночи, свистящим шепотом, с надрывными вздохами:
— Ты способен. Разумеется, конечно же, вне всяких сомнений ты способен!
И Фабиан решился.
Целый месяц ушел на то, чтобы высвободить из дерева ее ручки и сделать их такими красивыми и изящными, как морские раковины, лежащие на солнце. Еще месяц потребовался на тельце — казалось, он отыскивает внутри дерева окаменелый отпечаток ее фигуры. Когда появились первые контуры стана, ее деревянная плоть была так нежна, так гладка, что представить под ней грубую анатомию было бы так же кощунственно, как вообразить сеточку вен в белой мякоти яблока.
И все это время Милашка Уилльям лежал, укутанный в саван пыли в своем ящике — тот мало-помалу становился его взаправдашним гробом. Милашка Уилльям еще поскрипывал из своего склепа, еще ронял хриплым голосом очередные сарказмы, то критикуя работу, то давая дельные советы, но при этом медленно умирал, по частицам исчезая из жизни хозяина — в преддверии полной разлуки, когда он будет брошен, как по весне змея сбрасывает старую кожу, которой судьба иссохнуть и быть унесенной ветром.
Бежали недели. Фабиан прилежно долбил, выравнивал, полировал, а Милашка Уилльям лежал в прострации, и периоды его молчания становились все длительней и длительней. А когда в один прекрасный день Фабиан воздел в руке уже совсем готовую новую куклу, Милашка Уилльям поглядел на Джона мутнеющим удивленным взглядом, в горле его забулькала смерть, и глаза закатились.
Так скончался Милашка Уилльям.
Пока Фабиан трудился над созданием куклы, в его голосовых связках шла своя работа: там легко трепетали звуки и слоги, отдаваясь эхом и эхом эха, там ощущались слабое движение и шорох, словно от ветра, который гонит сохлые листья. И когда он впервые взял куклу определенным образом, память скатилась по его рукам к пальцам и втекла в полую деревяшку — и ручонки куклы вдруг шевельнулись, а тельце вдруг стало мягким, гибким, суставы подвижными, и глаза наконец открылись: она смотрела на него.
А потом открылся ротик: губки чуть разошлись, словно изготовившись к речи. И он знал все-все, что она собирается ему сказать, равно как и то, что он намерен сказать ей — и в какой последовательности. Началось с невнятного шепота, шепота, шепота…
Маленькая головка осторожненько повернулась налево, потом осторожненько направо. Губы все шевелились и шевелились, пока не появилась внятная речь. И когда она наконец заговорила, он нагнулся к ее личику и почувствовал тепло ее дыхания — разумеется, он его ощутил, могло ли быть иначе! Прикладывая ухо к ее грудке, он услышал такое тихое, такое мерное, такое нежное биение — разумеется, оно билось, ее маленькое сердечко, и разве могло быть иначе?
Добрую минуту после окончания рассказа Крович продолжал молча и неподвижно сидеть на стуле. Наконец шевельнулся.
— Понятно, — сказал он. — А ваша жена?
— Элис? Она была, ясное дело, моей второй ассистенткой. Работала на совесть, выкладывалась и, благослови ее Господь, любила меня. Трудно теперь припомнить, чего ради я на ней женился. Это было бессовестно с моей стороны.
— А как насчет убитого — Окхэма?
— Я впервые увидел его только вчера, когда вы показали мне труп в театральном подвале.
— Фабиан, — с упреком сказал детектив.
— Чистая правда!
— Фабиан!
— Ей-же-ей, я не вру. Провалиться мне на месте, если это неправда!
— Правду.
Это был шепот — не громче далекого плеска волны, набегающей ранним утром на серый берег в безветренный день. Вода шуршит по мелкому песку. Небо холодное и пустынное. Берег такой же пустынный. Солнце кануло, словно навеки.
И снова шорох-шепот:
— Правду.
Фабиан резко выпрямился в кресле и вцепился тонкими пальцами в свои колени. Его лицо окаменело.
Крович поймал себя на том, что он повторяет свое вчерашнее движение — вскинув голову, смотрит на потолок, словно это ноябрьское небо, по которому высоко и далеко улетает прочь одинокая птица, — серое пятно на холодно-сером.
— Правду! — И опять, уже почти неслышно: — Правду! Крович вдруг подхватился и осторожно просеменил в дальний конец комнаты. Там, в раскрытой золотистой шкатулке лежало нечто, что могло шептать, говорить, а иногда и смеяться, и даже петь. Детектив перенес шкатулку на гримерный столик.
Фабиан помедлил, потом сунул руку внутрь куклы. Крович терпеливо ждал, переминаясь с ноги на ногу. Наконец губы куклы шевельнулись, глаза открылись и стали осмысленными.
Им не пришлось ждать долго.
— Первое письмо пришло месяц назад.
— Нет!
— Первое письмо пришло месяц назад.
— Нет! Нет!
— В письме было написано следующее: «Рябушинская, родилась в 1914 году, умерла в 1934-м. Снова родилась в 1935 году». Мистер Окхэм работал жонглером. Много-много лет назад он выступал в той же программе, что Фабиан и Милашка Уилльям. И вот он вспомнил, что прежде куклы существовала женщина.
— Нет, это неправда!
— Да, — сказал голос.
Губы Фабиана дрожали. Детектив молчал. Фабиан загнанно озирался, словно искал в стенах потайную дверь, через которую можно ускользнуть от ответа. Он даже привстал в кресле и жалобно произнес: «Пожалуйста…»
— Окхэм угрожал рассказать про нас всему миру.
Крович видел, как кукла задрожала, как заходили ходуном ее губки, как глаза Фабиана выкатились из орбит, а взгляд остановился и мускулы шеи судорожно дергались, пытаясь остановить шепот.
— Я… я была в комнате, когда пришел мистер Окхэм. Я лежала в своей шкатулке и слушала и все слышала. Я все знаю. — На несколько мгновений голос стал нечленоразделен. Затем былая внятность вернулась. — Мистер Окхэм угрожал разбить меня на куски, сжечь дотла, если Джон не заплатит ему тысячу долларов. Потом что-то очень тяжелое вдруг упало. И вскрик. Должно быть, мистер Окхэм при падении ударился затылком о пол. Я слышала, как Джон вскрикнул и потом разразился ругательствами. Слышала, как он всхлипывает. Такой прерывистый звук, будто кого-то душат.
— Ты ничего не слышала! Ты глухая и слепая! Ты всего-навсего деревяшка! — заорал Фабиан.
— Но я слышу!.. — возразила она. И тут же осеклась и замолчала, словно кто-то закрыл ее рот ладонью.
Фабиан вскочил и замер с куклой на руке. Ее губы двигались в бессильном беззвучии.
С четвертой попытки она заговорила снова:
— Затем всхлипы утихли. Я слышала, как Джон тащит тело мистера Окхэма вниз по лестнице в подвальную гримерную, которую не используют уже много лет. Вниз, вниз, вниз, прочь, прочь, прочь… Я слышала!
Крович резко шагнул назад, словно до этого с любопытством смотрел фильм, но теперь герои на экране вдруг выросли в гигантов и спрыгнули в зал. Он был напуган их размерами и реальностью. Казалось, они раздавят его одной только своей безусловной осязаемостью.
Словно невидимый киномеханик прибавил звука, и кукла вдруг завопила. Крович видел, как Фабиан оскалил зубы, как задергалось его лицо, — он что-то шептал с перекошенным ртом, потом его глаза закатились, веки бессильно закрылись.
Прежде едва слышный и мягкий голос превратился в злое верещание.
— Я не для этого создана. Я так жить не могу. Теперь у нас нет будущего. Все будут знать о нас. Все-все. Сразу после того как ты убил его, я лежала в своей шкатулке и спала. Но во сне я все поняла. Мы оба знаем, мы оба сразу же поняли, что пришли наши последние дни, последние часы. Ибо я могла сносить твою слабость, твою частую ложь, но жить с существом, способным на убийство, — нет, не могу. Я не способна жить с этим. Как мне жить с подобным знанием?
Фабиан держал куклу в снопе солнечного света, проникавшего через окошко гримерной. Она смотрела ему в глаза пустым взглядом. Его рука дрожала, а вместе с ней и марионетка. Ее рот то раскрывался, то открывался. И снова судорожно раскрывался-открывался. Опять и опять. Молча.
В растерянности Фабиан поднес пальцы свободной руки к своим губам. Ему не верилось. Его глаза потускнели. Он напоминал заблудившегося в городе человека, который пытается вспомнить номер определенного дома, отыскать нужное окно или желанный огонек в окне. Фабиан потерянно озирался, глядя то на стены, то на Кровича, то на куклу, то на свою свободную руку, пальцы которой снова и снова ложились на его горло, ощупывали его, потом испуганно взлетали чуть выше, к губам. Он прислушивался.
Далеко-далеко, в сотне миль отсюда одна-единственная волна накатилась на берег и, пенясь, прошелестела по песку. А по-над ней, тенью, пронеслась чайка — беззвучно, с недвижно распростертыми крыльями.
— Она покинула меня. Ее больше нет. Она сбежала. Я не могу найти ее. Не могу найти, не могу. Послушайте, помогите мне! Вы поможете мне разыскать ее? Помогите мне найти ее! Пожалуйста, помогите мне найти ее!
Рябушинская обвисла, как тряпка, на его пальцах. Фабиан рассеянно опустил руку; кукла соскользнула вниз, бесшумно шлепнулась на холодный пол и осталась лежать там — глаза закрыты, губы сжаты.
Фабиан даже не оглянулся на нее, когда Крович выводил его из комнаты.
Смерть и дева
Далеко-далеко, за лесами, за горами жила Старушка. Девяносто лет прожила она взаперти, не открывала дверь никому — ни ветру, ни дождю, ни воробьям вороватым, ни мальчишкам голопятым. И стоило поскрестись к ней в ставни, как она уже кричит:
— Пошла прочь, Смерть!
— Я не Смерть! — говорили ей. А она в ответ:
— Смерть, я узнаю тебя, ты сегодня вырядилась девочкой. Но под веснушками я вижу кости!
Или кто другой постучит.
— Я вижу тебя, Смерть, — бывало, крикнет Старушка. — Ишь, точильщиком притворилась! А дверь-то на три замка да на два засова закрыта. Залепила я клейкой бумагой все щели, тесемками заткнула замочные скважины, печная труба забита пылью, ставни заросли паутиной, а провода перерезаны, чтобы ты не проскользнула сюда вместе с током! И телефона у меня нет, так что тебе не удастся поднять меня среди ночи и объявить мой смертный час. Я и уши заткнула ватой: говори не говори — я тебя все равно не слышу. Вот так-то, курносая. Убирайся!
И сколько помнили себя жители городка, так было всегда. Люди тех дальних краев, что лежат за лесами, вели о ней разговоры, а ребята порой, не поверив сказкам, поднимали шестами черепицу на кровле и слышали вопль Старушки: «Давай проваливай, ты, в черной одежде, с белым-белым лицом!»
А говорили еще, что так вот и будет жить Старушка веки вечные. В самом деле, ну как Смерти забраться в дом?
Все старые микробы в нем давно уже махнули рукой и ушли на покой. А новым микробам, которые (если верить газетам) что ни месяц проносятся по стране все под новыми названиями, никак не прошмыгнуть мимо пучков горного мха, руты, мимо табачных листьев и касторовых бобов, положенных у каждой двери.
— Она всех нас переживет, — говорили в ближайшем городке, мимо которого проходила железная дорога.
— Я их всех переживу, — говорила Старушка, раскладывая в темноте и одиночестве пасьянс из карт, что продают специально для слепых.
Так-то вот.
Шли годы, и уже никто — ни мальчишка, ни девчонка, ни бродяга, ни путник честной не стучались к ней в дверь. Дважды в год бакалейный приказчик, которому самому стукнуло семьдесят, оставлял у порога дома запечатанные блестящие стальные коробки с желтыми львами и красными чертиками на ярких обертках, в которых могло быть что угодно — от птичьего корма до сливочных бисквитов, а сам уходил в шумный лес, что подступал к самой веранде дома. И, бывало, лежит эта пища там не меньше недели, припекает ее солнце, холодит луна; тут уж ни одному микробу не выжить. Потом, в одно прекрасное утро, пища исчезала.
Старушка всю жизнь только и делала, что ждала. И ждала сторожко — держала, как говорят, ушки на макушке, одним глазом спала, другим — все видела.
Так что, когда в седьмой день августа на девяносто первом году ее жизни из лесу вышел загорелый юноша и остановился перед ее домом, врасплох он ее не застал.
Костюм на нем был белый как снег, что зимой шурша сползает с крыши и ложится складками на спящую землю. И не на автомобиле он приехал, пешим ходом долгий путь проделал, а все ж остался с виду свежий и чистенький. Не опирался он на посошок, непокрытый шел — не боялся, что солнце голову напечет. И не взмок даже. А самое главное, не имел он при себе иной поклажи, кроме маленького пузырька со светло-зеленой влагой. Хоть и загляделся он на этот пузырек, но все же почувствовал, что пришел к дому Старушки, и поднял голову.
Юноша не коснулся двери, а медленно обошел вокруг дома, чтобы Старушка почуяла, что он здесь.
Потом его взгляд, проникавший сквозь стены, как лучи рентгеновские, встретился с ее взглядом.
— Ой! — встрепенувшись, вскрикнула Старушка, которая сосала пшеничное печенье, да так с куском во рту и задремала было. — Это ты! Знаю, знаю я, чье обличье ты приняла на этот раз!
— Чье же?
— Юноши с лицом розовым, как мякоть спелой дыни. Но у тебя нет тени! Почему бы это? Почему?
— Боятся люди теней. Потому-то я и оставил свою за лесом.
— Я не смотрю, а все вижу…
— О, — с восхищением сказал юноша. — У вас такой дар…
— У меня великий дар держать тебя по ту сторону двери!
— Мне ничего не стоит с вами справиться, — сказал юноша, едва шевеля губами, но она услышала.
— Ты проиграешь, ты проиграешь!
— А я люблю брать верх. Что ж… я просто оставлю этот пузырек на крыльце.
Он и сквозь стены дома слышал, как быстро колотится ее сердце.
— Погоди! А что в нем? Я имею право знать, что на крыльце моем оставляют.
— Ладно, — сказал юноша.
— Ну, говори же!
— В этом пузырьке, — сказал он, — первая ночь и первый день после того часа, когда вам исполнилось восемнадцать лет.
— Ка-а-ак!
— Вы слышали меня.
— Ночь и день… когда мне исполнилось восемнадцать?
— Именно так.
— В пузырьке?
Он высоко поднял пузырек, фигуристый и округлый, как тело молодой женщины. Пузырек вбирал в себя свет, заливавший мир, и горел жарко и зелено, как угольки в глазах тигра. В руках юноши он то ровно светился, то беспокойно полыхал.
— Не верю! — крикнула Старушка.
— Я положу его и уйду, — сказал юноша. — Попробуйте без меня принять чайную ложечку зеленых мыслей, запрятанных в этом пузырьке. И увидите, что будет.
— Это яд!
— Нет.
— Поклянитесь здоровьем матери.
— У меня нет матери.
— Чем же ты можешь поклясться?
— Собой.
— Да я с этого тотчас ноги протяну… вот чего ты хочешь!
— Вы с этого из мертвых восстанете.
— Так я ж не мертвая! Юноша улыбнулся.
— Разве? — сказал он.
— Погоди! Дай спросить себя. Ты умерла? Умерла ты? Да и жила ли ты вообще?
— День и ночь, когда вам исполнилось восемнадцать лет, — сказал юноша. — Подумайте.
— Это было так давно!
Словно мышь, шевельнулось что-то у окна, заколоченного, как крышка гроба.
— Выпейте, и все вернется.
Вновь поднял юноша пузырек да повернул его эдак, чтобы солнце пронизало эликсир, и он засиял, как сок, выжатый из тысячи зеленых былинок. И чудилось, будто горит он зеленым солнцем ровно и жарко, и чудилось, будто бурлит он морем вольно и неистово.
— Это был прекрасный день лучшего года вашей жизни.
— Лучшего года, — пробормотала она за своими ставнями.
— В тот год вы были как яблочко наливное. Самая пора была испить радость жизни. Один глоток, и вы узнаете ее вкус! Почему бы не попробовать, а?
Он вытягивал руку с пузырьком все выше и вперед, и пузырек вдруг обернулся телескопом — смотри в него с любого конца, и нахлынет на тебя та далекая пора, что давно быльем поросла. И зелено, и желто кругом, совсем как в этот полдень, когда юноша заманивает в прошлое пылающей склянкой, стиснутой твердой рукой. Он качнул светлый пузырек, жаркое белое сиянье вспорхнуло бабочкой и заиграло на ставнях, словно на серых клавишах беззвучного рояля. Легкие, будто из снов сотканные, огненные крылья раскололись на лучики, протиснулись сквозь щели ставень, повисли в воздухе и ну выхватывать из темноты то губу, то нос, то глаз. Но тотчас глаза и след простыл, да только любопытство взяло свое, и снова он зажегся от луча света.
Теперь, поймав то, что ему хотелось поймать, юноша держал огненную бабочку ровно (разве что едва трепетали ее пламенные крылья), дабы зеленый огонь далекого дня вливался сквозь ставни не только в старый дом, но и в душу старой женщины. Юноша слышал, как она часто дышит, старается страх подавить и восторгу воли не давать.
— Нет-нет, тебе не обмануть меня! — взмолилась она так глухо, будто ее уже накрыло лениво накатившейся волной, но она и глубоко под водой барахтается, не желает с жизнью расставаться. — Ты возвращаешься в новом обличье! Ты надеваешь маску, а какую, я не могу понять! Говоришь голосом, который я помню с давних пор. Чей это голос? А, все равно! Да и карты, что я разложила на коленях, говорят мне, кто ты есть на самом деле и что ты мне хочешь всучить!
— Всего-навсего двадцать четыре часа из вашей юности.
— Ты мне всучишь совсем другое!
— Не себя же.
— Если я выйду, ты схватишь меня и упрячешь в холодок, в темный уголок, под дерновое одеяльце. Я дурачила тебя, откладывала на годы и годы. А теперь ты хнычешь у меня за дверью и затеваешь новые козни. Да только понапрасну стараешься!
— Если вы выйдете, я всего лишь поцелую вам руку, юная леди.
— Не называй меня так! Что было, то сплыло!
— Захотите, часу не пройдет, и ваша юность тут как тут.
— Часу не пройдет… — прошептала она.
— Давно ли вы гуляли по лесу?
— Что прошло — поминать на что? Да и мне, старухе, не в память.
— Юная леди, — сказал юноша, — на дворе прекрасный летний день. Здесь, меж деревьев — что в храме зеленом; золотистые пчелы ковер ткут — куда ни глянешь, все узоры новые. Из дупла старого дуба мед течет речкой пламенной. Сбросьте башмачки и ступите по колено в дикую мяту. А в той ложбинке полевые цветы… будто туча желтых бабочек опустилась на траву. Воздух под деревьями прохладный и чистый, как в глубоком колодце, хоть бери его да пей. Летний день, вечно юный летний день.
— Но я как была старой, так старой и останусь.
— Не останетесь, если послушаетесь меня! Предлагаю справедливый уговор, дело верное… мы отлично поладим: вы, я и августовский день.
— Что это за уговор, и что мне выпадет на долю?
— Двадцать четыре долгих счастливых летних часа, начиная с этой самой минуты. Мы побежим в лес, будем рвать ягоды и есть мед, мы пойдем в городок и купим вам тонкое, как паутинка, белое летнее платье, а потом сядем в поезд.
— В поезд!
— И помчимся в поезде к большому городу… тут рукой подать — час езды, там мы пообедаем и будем танцевать всю ночь напролет. Я куплю вам две пары туфелек, одну вы вмиг стопчете.
— Ох, мои старые кости… да я и с места не сойду.
— Вам придется больше бегать, чем ходить, больше танцевать, чем бегать. Мы будем смотреть, как звезды по небу колесом катятся, как заря занимается. На рассвете побродим по берегу озера. Мы съедим такой вкусный завтрак, какого еще никто не едал, и проваляемся на песке до самого полудня. А к вечеру возьмем во-от такую коробку конфет, сядем в поезд и будем хохотать всю дорогу, обсыпанные конфетти из кондукторского компостера — синими, зелеными, оранжевыми, будто мы только поженились, и пройдем через городок, не взглянув ни на кого, ни на единого человека, и побредем через сумеречный, благостным духом напоенный лес к вашему дому…
Молчанье.
— Вот и все, — пробормотала она. — А еще ничего не начиналось.
И потом спросила:
— А тебе-то зачем это? Что тебе за корысть? Улыбнулся ласково молодой человек:
— Милая девушка, я хочу спать с тобой. У нее перехватило дыханье.
— Я ни с кем не спала ни разу в жизни!
— Так вы… старая дева?
— И горжусь этим!
Юноша со вздохом покачал головой:
— Значит, это правда… вы и в самом деле старая дева. Прислушался он, а в доме ни звука.
Совсем тихо, словно кто-то где-то с трудом повернул потайной кран и мало-помалу, по капельке, заработал заброшенный на полвека водопровод, Старушка начала плакать.
— Почему вы плачете?
— Не знаю, — всхлипнув, ответила она.
Наконец она перестала плакать, и юноша услышал, как она покачивается в кресле, чтобы успокоиться.
— Бедная старушка, — прошептал он.
— Не зови меня старушкой!
— Хорошо, — сказал он. — Кларинда.
— Откуда ты узнал мое имя? Никто не знает его!
— Кларинда, почему ты спряталась в этом доме? Еще тогда, давным-давно.
— Не помню. Хотя, да… Я боялась.
— Боялась?
— Чудно. Поначалу жизни боялась, потом — смерти. Всегда чего-то боялась. Но ты скажи мне! Всю правду скажи! А как мои двадцать четыре часа выйдут… ну, после прогулки у озера, после того как вернемся на поезде и пройдем через лес к моему дому, ты захочешь…
Не торопил он ее, своей речью не перебивал.
— …спать со мной? — прошептала она.
— Да, десять тысяч миллионов лет, — сказал он.
— О, — чуть слышно сказала она. — Так долго. Он кивнул.
— Долго, — повторила она. — Что это за уговор, молодой человек? Ты даешь мне двадцать четыре часа юности, а я даю тебе десять тысяч миллионов лет времечка моего драгоценного.
— Не забывай и о моем времени, — сказал он. — Я не покину тебя никогда.
— Ты будешь лежать со мной?
— А как же!
— Эх, юноша, юноша. Что-то мне твой голос больно знаком.
— Погляди на меня.
И увидел юноша, как из замочной скважины выдернули затычку и на него уставился глаз. И улыбнулся юноша подсолнухам в поле и их господину в небе.
— Я слепая, я почти ничего не вижу, — заплакала Старушка. — Но неужели там стоит Уилли Уинчестер?
Он ничего не сказал.
— Но, Уилли, тебе с виду двадцать один год всего, прошло семьдесят лет, а ты совсем не изменился!
Поставил он пузырек перед дверью, а сам стал поодаль, в бурьяне.
— Можешь… — Она запнулась. — Можешь ли ты сделать и меня с виду такой молодой?
Он кивнул.
— О Уилли, Уилли, неужели это и в самом деле ты? Она ждала, глядя, как он стоит, беспечный, счастливый, молодой, и солнце блестит на его волосах и щеках.
Прошла минута.
— Так что же? — сказал он.
— Погоди! — крикнула она. — Дай подумать!
И он чувствовал, что там, в доме, она торопливо просеивает сквозь память все былое, как песок сквозь ситечко мелкое, но только вспомнить нечего — все пылью да пеплом оборачивается. Чуял он, горят ее виски — попусту шарит она в памяти, нет ни камешка ни в ситечке, ни в просеянном песке.
«Пустыня без конца, без краю, — подумал он, — и ни одного оазиса».
И когда он это подумал, она вздрогнула.
— Так что же? — сказал он снова.
— Странно, — пробормотала она наконец. — Сейчас вдруг мне почудилось, будто отдать десять тысяч миллионов лет за двадцать четыре часа, за один день — дело доброе, праведное и верное.
— Да, Кларинда, — сказал он. — Вернее быть не может. Загремели засовы, защелкали замки, и дверь с треском распахнулась. Показалась на миг рука, схватила пузырек и скрылась.
Прошла минута.
Потом пулеметной очередью простучали по комнатам шаги. Хлопнула дверь черного хода. Широко распахнулись окна наверху, ставни рухнули в траву. Вот и до нижних окон старуха добралась. Ставни разлетались в щепки. Из окон валила пыль.
И наконец в широко раскрытую парадную дверь вылетел пустой пузырек и вдребезги разбился о камень.
И вот уже на веранде сама она, быстрая, как птица. Солнце обрушило на нее лучи. Будто на сцене стояла она, будто из-за темных кулис выпорхнула. Потом сбежала по ступенькам и схватила его за руки.
Мальчуган, проходивший по дороге, остановился и уставился на нее, а потом попятился, и так пятился, не спуская с нее широко раскрытых глаз, пока не скрылся из виду.
— Почему он так смотрел на меня? — сказала она. — Хороша я?
— Очень хороша.
— Хочу посмотреться в зеркало!
— Нет-нет, не надо.
— А в городе я всем понравлюсь? Может, мне это только чудится? Может, ты меня разыгрываешь?
— Ты — сама красота.
— Значит, я хороша. Я сама это знаю. А сегодня вечером все будут со мной танцевать? Будут мужчины наперебой приглашать меня?
— Все как один.
И уже на тропинке, где гудели пчелы и шелестели листья, она вдруг остановилась и, посмотрев ему в лицо, прекрасное, как летнее солнце, спросила:
— О Уилли, Уилли, я хочу, чтобы ты был ласков всегда-всегда — и когда все кончится, и когда мы сюда вернемся.
Он заглянул ей в глаза и коснулся ее щеки пальцами.
— Да, — сказал он нежно. — Да.
— Я верю, — сказала она. — Я верю, Уилли.
И они побежали по тропинке и скрылись из виду, а пыль осталась висеть в воздухе; двери, ставни, окна были распахнуты, и теперь солнце могло заглянуть внутрь, а птицы вить там гнезда и растить птенцов, а лепестки прелестных летних цветов могли лететь свадебным дождем и усыпать ковром комнаты и пока еще пустую постель. И летний легкий ветерок наполнил просторные комнаты особым духом, духом Начала и первого часа после Начала, когда мир еще с иголочки, когда кругом тишь да гладь, а о старости и слыхом не слыхать.
Где-то в лесу, будто быстрые сердца, простучали лапки кроликов. Вдали прогудел поезд и пошел к городу быстрее, быстрее, быстрее.
Стая воронов
Он вышел из автобуса на Вашингтон-сквер и прошел полквартала в обратном направлении, довольный тем, что все-таки решился и приехал в Нью-Йорк. Нынче из всех знакомых в городе ему хотелось навестить лишь чету Пирсонов, Пола и Элен. Однако он оставил их «на десерт» — сознавая, что они понадобятся ему как успокоительное после нескольких дней, насыщенных деловыми встречами с уймой чудаков, невротиков и неудачников. Пирсоны чинно пожмут ему руку, окружат дружеской атмосферой и найдут верные слова, дабы разгладить морщины на его лбу. Их вечерняя встреча будет шумной, долгой и замечательно счастливой, после чего он направится к себе в Огайо и на протяжении первых дней будет вспоминать Нью-Йорк с добрым чувством — исключительно благодаря этой забавной семейной паре, которая предоставляет ему прохладный оазис посреди знойной пустыни паники и неуверенности.
Элен Пирсон поджидала гостя возле лифта на четвертом этаже многоквартирного дома.
— Здравствуйте, Уилльямс, здравствуйте! — звонко приветствовала она его. — Как приятно видеть вас снова! Заходите! Пол должен быть с минуты на минуту — заработался у себя в офисе. Сегодня у нас на ужин цыпленок каччьяторе. Надеюсь, Уилльямс, вы любите цыпленка, приготовленного на итальянский манер, «по-охотничьи»? Очень надеюсь, что любите. Как поживают супруга и детишки? Присаживайтесь, снимайте пальто, снимайте очки, вы без очков еще симпатичнее. Душновато сегодня, да? Желаете выпить?
Пока журчала эта речь и Элен вела его в просторную гостиную с высоким потолком, подгоняя дружескими тычками в спину и обильно жестикулируя, он уловил слабый запах одеколона из ее рта. Боже правый, да она никак пьяна и полоскала рот одеколоном, чтобы скрыть это!
Уилльямс пристально уставился на хозяйку дома.
— Вижу, тут мартини, — сказал он. — Не откажусь от стаканчика. Но не больше. Вы же знаете — пьяница я никудышный.
— Знаю-знаю, дорогой. Пол обещал быть дома к шести, а сейчас пять тридцать. Уилльямс, мы так польщены тем, что вы зашли, так польщены, что вы решили провести время с нами — после того, как мы не виделись целых три года.
— Как вам не стыдно так говорить!
— Нет, Уилльямс, я серьезно! — сказала она.
Язык у нее чуточку заплетался, бросалась в глаза также излишняя выверенность жестов. У него было ощущение, что он ошибся дверью или зашел с визитом к малолюбимой тетушке или едва знакомому человеку. Надо думать, у Элен выдался на редкость тяжелый день — а у кого их не бывает?
— Пожалуй, и я чуть-чуть выпью, — добавила она. — По правде говоря, я недавно уже выпила один стаканчик.
В один стаканчик он поверил. Такой эффект от одной порции означает, что она пьет давно, много и регулярно, — быть может, с тех самых пор, как они виделись в последний раз. Если пить день за днем…
Он уже видел, и не раз, что случалось с его друзьями, у которых появлялась такая привычка: только что были трезвыми, а минуту спустя, после одного-единственного глотка алкоголя, почти мертвецки пьяны — это все то мартини, выпитое за последние триста дней и поселившееся в крови, радостно бросается навстречу новой подружке. Вполне вероятно, что еще десять минут назад Элен была абсолютно трезвой. Теперь же она с трудом держала веки открытыми, а язык путался под ногами каждого слова, которое пыталось выйти из ее рта.
— Нет, Уилльямс, я серьезно! — повторила она. Прежде, помнится, она никогда не называла его просто Уилльямс — всегда добавляла «мистер».
— Уилльямс, мы крайне польщены тем, что вы дали себе труд посетить Пола и меня. Господи, у вас такие успехи за последние три года, вы сделали такой рывок в своей карьере, у вас прекрасная репутация, и теперь вам больше не нужно писать тексты для утренних телевизионных шоу Пола — для вас покончено с этой чертовой дребеденью.
— Почему же «чертова дребедень»? Вполне добротный материал. Пол — отличный продюсер, и я писал для него неплохие вещи.
— А я говорю, дребедень! Вы же настоящий писатель, теперь вы шишка в литературе, больше не надо сочинять ерунду за чистые гроши! Ну и как оно вам — быть преуспевающим романистом, у всех на устах, и иметь кучу денег в банке? Вот погодите, сейчас придет Пол — он весь прямо изождался вас. — Волны ее медленной речи захлестывали его. — Нет, ну вы просто душка, что навестили нас!
— Я обязан Полу буквально всем, — сказал Уилльямс, отвлекаясь от собственных невеселых мыслей. — Я начинал в его шоу в тысяча девятьсот пятьдесят первом, когда мне исполнился двадцать один год. Платили десять долларов за страницу…
— Стало быть, сейчас вам тридцать один. Господи, еще совсем молодой петушок! — сказала Элен. — Уилльямс, а сколько мне, по-вашему? Давайте-давайте, попробуйте угадать. Ну, сколько мне?
— О-о, я, право, не знаю, — сказал он и покраснел.
— Нет, давайте угадайте-ка, сколько мне лет? «Миллион, — подумал он, — вам внезапно исполнился миллион лет. Но Пол-то должен быть в порядке. Вот он скоро придет, и с ним-то уж непременно все в порядке. Любопытно, узнает ли он вас, Элен, когда войдет в квартиру».
— Увы, я не мастак угадывать возраст.
Ваше тело, думалось ему дальше, состоит из нью-йоркских побывавших в употреблении булыжников — в вас столько невидимой смолы и асфальта и трещин от непогод! В вашем выдохе — сто процентов окиси углевода. Ваши глаза — истерической неоновой синевы, а губы — как багровая неоновая реклама. Ваше лицо — цвета побелочной извести, какой красят каменные фасады, подпуская по ним здесь и там лишь немного зеленого и голубого. Вены горла вашего, виски ваши и запястья похожи на нью-йоркские крохотные скверики: там больше всякого мрамора и гранита, дорожек и тропок, чем собственно травы и неба, — вот и в вас больше всякого…
— Валяйте, Уилльямс, угадывайте, сколько мне лет?
— Тридцать шесть?
Она почти неприлично взвизгнула, и он решил, что переборщил с дипломатией.
— Тридцать шесть?! — прокричала она, хлопая себя по коленям. — Тридцать шесть! Дорогой мой, вы не можете говорить это серьезно! Вы шутите! Господи! Конечно же, нет. Мои тридцать шесть были ровнехонько десять лет назад.
— Мы прежде как-то не заводили разговоров о возрасте, — запротестовал он.
— Ах вы, милый невинный младенец! — сказала Элен. — Прежде это не было важно. Но вы и не представляете, какую важность это может приобрести — поначалу совсем незаметно для вас. Господи, вы так молоды, Уилльямс! Вы хотя бы понимаете, до чего вы молоды?!
— Более-менее понимаю, — сказал он потупившись.
— Дитя, прелестное дитя, — не унималась Элен. — Обязательно скажу Полу, когда он придет. Тридцать шесть — ну вы и дали! Но ведь я и впрямь не выгляжу на сорок — и уж тем более на сорок шесть. Ведь правда, дорогой?
Никогда раньше она не задавала подобных вопросов, подумалось ему. А человек сохраняет вечную молодость лишь до тех пор, пока не начинает задавать окружающим подобных вопросов.
— А Полу исполняется всего сорок. Завтра день рождения.
— Жаль, что я не знал об этом.
— Забудьте. Он терпеть не может подарки. Он скрывает от всех, когда у него день рождения, и обидится, если вы ему что-либо подарите. С прошлого года мы перестали устраивать для него шумные дни рождения. В последний раз он схватил пирог и вышвырнул в вентиляционную трубу — прямо с горящими свечами.
Элен осеклась, будто поймала себя на том, что сказала лишнее. Некоторое время они сидели в неловком молчании.
— Пол вот-вот придет с работы, — наконец произнесла она. — Еще выпьете? Вы так и не рассказали, каково быть знаменитостью. Вы всегда были такой совестливый. Мы с Полом частенько говорили друг другу: его девиз — качество. Вы не могли бы писать плохо, даже если бы очень постарались. Мы так гордимся вами. Мы с Полом всем говорим, что вы наш друг. Буквально всем и каждому.
— Как странно, — промолвил Уилльямс. — Как странно устроено все в мире. Когда мне был двадцать один год, я норовил всем побыстрее сообщить, что я знаком с вами. Я был так горд этим знакомством. Я так волновался, когда впервые встретился с Полом после того, как он купил мой первый сценарий, и я…
Зазвонил звонок, Элен подхватилась открыть дверь, оставив Уилльямса наедине с его стаканом. Он пережевывал в уме свои последние слова: не прозвучали ли они слишком снисходительно — как будто теперь он уже не горд повстречаться с Полом. Ничего такого он не имел в виду. Ладно, все придет в норму, когда шумно ввалится дружище Пол. С Полом всегда все в норме.
В прихожей раздался шум голосов, и вскоре Элен ввела в гостиную женщину лет этак пятидесяти с хвостиком. По молодой упругости ее походки можно было угадать, что морщины и седина у этой женщины явно преждевременные.
— Надеюсь, вы не против, Уилльямс, совсем забыла вас предупредить, надеюсь, вы не против, это миссис Мирс, она живет на нашем этаже. Я сказала ей, что вы будете ужинать у нас, что вы приехали на несколько дней обсудить новую книгу со своим издателем, и ей так захотелось увидеть вас, она прочитала все ваши рассказы, Уилльямс, и ей так нравится все, что вы пишете. Миссис Мирс, позвольте вам представить мистера Уилльямса.
Женщина кивнула.
— Я и сама когда-то мечтала стать писательницей, — сказала она. — И как раз сейчас работаю над книгой.
Обе женщины сели. Уилльямс ощутил улыбку на своем лице, как что-то отдельное от себя — вроде тех восковых клыков, которые мальчишки надевают на зубы, чтобы выглядеть вампирами. И очень скоро он ощутил, что его улыбка постепенно тает — словно воск фальшивых зубов.
— Вам случалось продавать плоды своей литературной работы, миссис Мирс?
— Нет, однако я не отчаиваюсь, — с вежливой улыбкой ответила гостья. — Правда, в последнее время жизнь слегка осложнилась.
— Видите ли, — сказала Элен, нагнувшись поближе к Уилльямсу, — две недели назад скончался ее сын.
— Мне искренне жаль, — смущенно отреагировал Уилльямс.
— Да нет, ничего ужасного, ему так даже лучше, бедному мальчику. Он был примерно вашего возраста — около тридцати.
— И что случилось? — машинально спросил Уилльямс.
— Бедняжка весил слишком много — двести восемьдесят фунтов, и его приятели не переставали потешаться над ним. Он мечтал стать художником. И даже продал по случаю несколько картин. Но люди насмехались над ним из-за его веса, и вот шесть месяцев назад он сел на диету. И перед смертью, в начале этого месяца, весил только девяносто три фунта.
— Господи, — сказал Уилльямс, — какой кошмар!
— Он сидел на диете — и никакими усилиями его нельзя было сдвинуть с нее. Что бы я ни говорила, он стоял на своем. Сидел безвыходно в своей комнате на этой проклятой диете и все худел и худел — до того, что в гробу его попросту никто не узнал. Мне кажется, в последние дни своей жизни он был счастлив как никогда. Ведь для бедного мальчика это был своего рода триумф — такая победа над собой!
Уилльямс допил мартини. Чаша мрачных нью-йоркских впечатлений, копившихся на протяжении нескольких дней, теперь явно переполнилась. Казалось, темные воды смыкаются над ним. После своего приезда в Нью-Йорк он столько дел переделал, столько всего перевидал, столько пережил и с таким количеством людей успел пообщаться — и все за какую-то неделю… Он свято верил, что вечер в доме Пирсонов вернет его в божеский вид, а вместо этого…
— Ой-ой-ой! До чего же вы красивый молодой человек! — сказала миссис Мирс. — Элен, отчего ты не предупредила меня, что молодой человек такой хорошенький? — Она повернулась к своей приятельнице с выражением почти серьезного упрека.
— Ха! Я-то думала, что ты и сама знаешь.
— Ах, в жизни он еще обаятельнее, чем на фотографиях! Намного обаятельнее. Представьте, — продолжала щебетать миссис Мирс, — в одну из недель своего диетования мой Ричард был невероятно на вас похож. Две капли воды! Да, это длилось почти целую неделю!
В памяти Уилльямса тем временем вдруг всплыло, как накануне он забежал в кинотеатр, где беспрерывно крутили журналы новостей. Забежал дать себе роздых между бесконечными посещениями редакций газет и журналов, а также всех и всяческих радиостанций. На экране он увидел мужчину, который собирался спрыгнуть с моста Джорджа Вашингтона; полицейские пытались уговорить его отказаться от своей затеи. Потом показали другого самоубийцу, где-то в другом городе. Он стоял на карнизе гостиницы, а толпа внизу улюлюкала и подзуживала его прыгнуть. Уилльямс опрометью кинулся вон из кинотеатра. Когда он выскочил на ярко освещенную улицу, под палящее солнце, окружающее показалось чересчур реальным, чересчур грубым — как это всегда случается, когда в одно мгновение выпадаешь из мира грез в мир существ из плоти и крови.
— Да-а, вы кр-р-раасавец, молодой человек! — с упоением повторила миссис Мирс.
— Кстати, пока не забыла, — сказала Элен. — Здесь наш сын Том.
Ну да, Том! Уилльямс видел Тома однажды, много-много лет назад, когда парнишка забежал домой с улицы на время, достаточное для неспешной беседы. Светлая голова, цепкий ум, воспитанный и хорошо начитанный. Словом, Том из тех сыновей, которыми можно гордиться.
— Теперь ему семнадцать, — сообщила Элен. — Он в своей комнате. Вы не против, если я приглашу его сюда? Знаете ли, мальчик угодил в немного неприятную историю. Вообще-то он хороший парень. Мы для него ничего не жалели. А он связался с какой-то бандой в районе Вашингтон-сквер, обычное хулиганье. Они ограбили магазин, и Тома схватила полиция. Это было месяца два назад. Господи, сколько волнений, сколько хлопот!.. Но теперь, слава Богу, все уладилось. Ведь Том хороший парень. Да что я вам говорю — вы и сами знаете, Уилльямс. Ведь правда?
Она налила себе еще мартини.
— Замечательный мальчик, — сказал Уилльямс и стрельнул взглядом в сторону ее стакана.
— Нынешняя молодежь, понимаете ли. Город вроде нашего — не место для подростков.
— Я насмотрелся на то, что творится на улицах.
— Ужас, не правда ли? А что мы можем сделать? Кстати, Уилльямс, у нас с Полом для вас сюрприз: мы покупаем дом в деревне. Вы только подумайте, после стольких лет, после всего пережитого Пол наконец-то бросает свое телевидение — да-да, на полном серьезе бросает, — и мы переезжаем. Разве не прекрасно? Он намеревается заняться писанием. Да, Уилльямс, совсем как вы! Мы обоснуемся в Коннектикуте, в одном милом городке. Там Пол по-настоящему отдохнет. Там у него будет реальный шанс написать что-нибудь такое… Как вы думаете, Уилльямс, у него есть способности? Вам не кажется, что из него получится вполне симпатичный писатель?
— Разумеется! — сказал Уилльямс. — Разумеется, получится.
— Так вот, с идиотской работой на телевидении покончено, и мы перебираемся в деревню.
— И как скоро?
— Где-то в августе. Возможно, придется отложить до сентября. Но не позже первого января.
«О да, конечно! — подумал Уилльямс, и настроение у него резко поднялось. — Это все изменит! Им нужно только уехать из этого города, убраться поскорее отсюда. За столько лет работы Пол должен был скопить кругленькую сумму. Только бы они уехали! Только бы она позволила мужу сделать это!»
Он посмотрел на Элен. Какое сияющее лицо. Правда, это сияние сознательно включено, оставлено на лице и поддерживается напряжением определенных мышц — что-то вроде жиденького света электрической лампочки в комнате после того, как на небе погас настоящий источник света.
— Ваша задумка просто замечательная! — сказал Уилльямс.
— Уилльямс, вы и вправду верите в то, что у нас получится? Действительно получится? И вы на полном серьезе говорите, что Пол потрясающий писатель?
— На полном. Вам нужно только попробовать.
— В крайнем случае Пола всегда возьмут обратно на телевидение.
— Несомненно.
— Так что на этот раз мы обязательно поступим, как задумано. Уедем из города, заберем с собой Тома — сельская атмосфера будет полезна для мальчика, да и для всех нас. Больше никаких пьянок, никаких вечеринок до утра. Полный покой и работа за пишущей машинкой — десять толстых пачек чистой бумаги для Пола. Ведь вы согласны с тем, что он чертовски хороший писатель, не правда ли, Уилльямс?
— Вы же знаете мое мнение!
— Мистер Уилльямс, — сказала миссис Мирс, — расскажите, пожалуйста, как вы стали писателем.
— В детстве обожал читать. А в двенадцать начал ежедневно писать, чем и занимаюсь по сей день. — Говоря это, он нервничал. Ему бы хотелось сосредоточиться и вспомнить, как это действительно началось. — Я просто не отступал. Каждый день по тысяче слов. — Пол точно такой же, — поспешно вставила Элен.
— Ах, вы, наверно, гребете деньги лопатой, — сказала миссис Мирс.
В этот момент все трое услышали щелчок замка входной двери.
Уилльямс невольно вскочил со своего места и облегченно заулыбался. Улыбка не сходила с его лица, пока он шел навстречу Полу. Улыбка оставалась у него на губах, когда он увидел высокую фигуру и остался доволен его внешним видом. Да, на Пола было приятно посмотреть, и Уилльямс, весь просияв, устремился к другу с протянутой рукой: «Пол!»
Пол несколько располнел за время, пока они не виделись. Цвет лица кирпичный, слегка выпуклые и немного воспаленные глаза ненормально светятся, изо рта попахивает виски. Пол схватил руку Уилльямса и принялся энергично трясти ее.
— Уилльямс, черт возьми! Рад видеть тебя, дружище! Ты все-таки не побрезговал нами, заглянул. Как же здорово опять свидеться, разрази меня гром! Ну, как ты? Знаменитость! Ах ты, Господи, надо выпить. Элен, сделай-ка на всю компанию. Добрый вечер, Мирс. Да что вы — сидите, сидите ради Бога.
— Нет-нет, я пошла. Не хочу мешать, — сказала миссис Мирс, направляясь в прихожую. — Спасибо, что позволили мне зайти. До свидания, мистер Уилльямс.
— Уилльямс, черт этакий! Как же здорово быть опять вместе. Элен успела сказать тебе о наших планах уехать прочь из города?
— Она сказала…
— Да-да, мы на самом деле убираемся из этого дерьмового города. Лето на носу. Прочь из проклятого офиса. За десять лет на телевидении я прочитал в эфир миллион слов всяческой ерунды. Не думаешь ли ты, Уилльямс, что мне самое время свалить отсюда? Или, по-твоему, мне надо было сделать это много-много лет назад? Нас ждет Коннектикут! Тебе еще налить? Тома уже видел? Элен, Том у себя в комнате? Тащи его сюда, пусть поболтает с Уилльямсом. Слушай, Уилльямс, до чего же мы рады тебя видеть! Я уже всем раструбил, что ты придешь к нам в гости. С кем из наших ты виделся в Нью-Йорке?
— Вчера пересекся с Рейнольдсом.
— Рейнольдс… Редактор «Юнайтед Фичерс»? Как он поживает? Много ходит на люди?
— Изредка.
— Элен, ты слышала про него? Просидел в своей квартире безвылазно двенадцать месяцев. Ну, ты должна помнить Рейнольдса! Отличный парень. Вот только армейская жизнь его слегка покорежила. С головой что-то. Весь последний год не смел высунуться на улицу — боится кого-нибудь пришить.
— Не знаю, — сказал Уилльямс, — вчера он преспокойно вышел из своей квартиры и проводил меня до автобусной остановки.
— Грандиозно! Большой подвиг с его стороны. Искренне рад. А ты уже слышал про Банкса? На прошлой неделе погиб в автомобильной катастрофе на Род-Айленде.
— Не может быть!
— Еще как может, сэр. Да, чертова жизнь. Лучше парня в мире не бывало. Первоклассный фотограф и работал в самых солидных журналах. Действительно талантливый и к тому же молодой — дьявольски молодой. Надрался и врезался в другую машину по дороге домой. Проклятые автомобили, прости Господи!
Уилльямсу вдруг почудилось, что в душной гостиной мечется большая стая черных воронов. Ведь это же больше не Пол. Это просто муж незнакомой женщины, которая в какой-то момент трех прошедших лет переехала в эту квартиру после отъезда настоящих Пирсонов. Куда уехали настоящие Пирсоны, никто не ведает. И совершенно бессмысленно спрашивать сидящего перед ним человека, куда подевался Пирсон, потому что настоящий Пирсон наверняка никому не сообщил, куда он исчезает.
— Уилльямс, ты, кажется, знаком с моим сыном, не правда ли? Элен, найди-ка Тома, и пусть он идет сюда!
Сын был приведен, семнадцатилетний молчаливый паренек. Алкоголь начал действовать на Уилльямса, да и теперь он стоял с новым стаканом.
— Это наш Том, Уилльямс, наш взрослый мальчик Том.
— Ты должен помнить Тома.
— Ведь ты помнишь Уилльямса, Том? Ведь ты помнишь!
— Скажи «Здравствуйте», Том.
— Том — замечательный парень. А вы как его находите, Уилльямс?
Блистая пьяной искрой в глазах, Пирсоны говорили дуэтом, не умолкая, суетливой скороговоркой, невзирая на некоторую алкогольную одеревенелость языков. Все время вперед, марш-марш, и слова бежали наперегонки. Элен проворно высыпала очередную фразу:
— Том, поделись с мистером Уилльямсом дюжиной жаргонных слов. Писателям это всегда интересно.
Упрямое молчание.
— Том набрался их как собака блох, — щебетала дальше Элен. — Но в сущности он правильный мальчик, просто у него хорошая память. Ну-ка, Том, выдай мистеру Уилльямсу что-нибудь на бандитском. Давай же, Том, не робей!
Опять глухая оборона молчанием. Долговязый Том переминался с ноги на ногу, впившись взглядом в ковер.
— Давай же, Том, все ждут.
— Ах, Элен, оставь его в покое.
— Но почему же, Пол? Я просто подумала, что Уилльямсу будет весьма интересно услышать бандитскую речь. Ты же умеешь, Том! Ну и поделись!
— Не хочет так не хочет, — сказал Пол. Молчание и на это.
— Пойдем-ка, Уилльямс, на кухню, — предложил Пол. — Дай вот только возьму себе еще стакан. — Высокий и грузный, он увлек гостя за собой.
Стены в кухне слегка покачивались. Пол вцепился в локоть Уилльямса, долго жал ему руку и во время разговора наклонялся совсем близко к нему — и тогда Уилльямс видел, что у Пирсона лицо заплаканного поросенка.
— Уилльямс, скажи по совести: у меня получится? Если я махну на все рукой и сяду писать. У меня классная идея для романа. — Говоря, он похлопывал Уилльямса по локтю. Сперва легонько, потом все сильнее и сильнее. — Как тебе мой план, Уилльямс?
Уилльямс попытался отшагнуть на безопасное расстояние, но не тут-то было: одной рукой Пол цепко держал гостя, а кулаком другой в такт своей речи дубасил его по локтю.
— Согласись, это будет здорово — снова начать писать! Творить, иметь свободное время и вдобавок сбросить лишний жирок.
— Только не угробь себя диетой, как сын миссис Мирс.
— Он был придурком!
Теперь кулак Пола остановился, зато вторая рука принялась с силой мять локоть гостя. За долгие годы дружбы они крайне редко касались друг друга — рукопожатие было едва ли не единственным телесным контактом. Однако теперь Пол то и дело трогал его: хлопал, щипал, пихал.
— Видит Бог, далеко от города у меня будет уйма времени для работы, — говорил Пол, похлопывая Уилльямса то по плечу, то по спине. — Там я сброшу весь накопившийся груз. Знал бы ты, как мы тут проводим чертовы уик-энды! Уговариваем вместе с Элен бутылку-две виски. Выбраться из города на выходные такая морока — пробки на дорогах, в пригородах толпы народа. Поэтому мы торчим в городе и надираемся, вот и весь наш отдых. Но когда мы окажемся на природе, с этим будет покончено. Уилльямс, не взглянешь ли на мою рукопись?
— Ах, Пол, куда ты торопишься! — вмешалась появившаяся на пороге Элен.
— Не надо, Элен! Ведь Уилльямс не против. Ты ведь не против, Уилльямс?
«Я не против, — подумал Уилльямс, — но меня воротит. Я боюсь, но перебьюсь… Будь я уверен, что где-нибудь в его романе я найду прежнего Пола — трезвого, искрометного собеседника, отличного режиссера, внутренне свободного человека, уверенного в себе, способного на быстрые решения, обладающего хорошим вкусом и умением критиковать с толком и прямодушно и вместе с тем тактично, — а самое главное: если я найду в его повествовании хорошего друга прежних времен, почти боготворимого, если я найду там этого Пола — о, тогда я готов проглотить любой самый пухлый том за одну секунду. Но что-то слабо верится в такое счастье. А встретиться на бумаге с новым, незнакомым Полом — нет уж, увольте. Никогда! Ах, Пол, Пол, — текли дальше мысли Уилльямса, — разве ты не понимаешь, старина, разве до тебя не доходит, что никогда вы с Элен не выберетесь из города — никогда, никогда!»
— Дьявол! — воскликнул Пол. — Уилльямс, как тебе наш Нью-Йорк? Не по вкусу, да? Как ты выразился однажды: город-неврастеник. А по сути ничем не хуже какого-нибудь Богом забытого Сиу-Сити или Кеноши. Просто здесь встречаешься с большим числом людей за тот же отрезок времени — вот и вся разница. Ну а как тебе на заоблачных высотах славы? Ты нынче такая величина!..
Теперь наперебой безостановочно говорили оба — и муж, и жена. Они пьянели на глазах, их речь утрачивала членораздельность, слова возвращались, тыкались не в свои предложения, перебегали группами из фразы в фразу, кружились в гипнотическом хороводе — бла-бла, бла-бла, бла-бла…
— Уилльямс, — говорила Элен.
— Уилльямс, — вторил Пол.
— Мы точно уезжаем, — это она.
— Уилльямс, чтоб тебя разорвало, я так тебя люблю! Скажи мне, отчего я тебя так люблю, мерзавец ты этакий! — это он. И со смехом опять — хлобысь по правому плечу.
— А где Том?..
— …горд тобой!
Окружающие вещи стали подергиваться туманом. Одуряющая духота. Правая рука, исколоченная до синяков, висела плетью.
— …с другой стороны, так трудно оставить прежнюю работу. Они ведь платят мне чертову уйму денег…
Пол повис на Уилльямсе, вцепившись пальцами в сорочку у него на груди. Уилльямс ощутил, как пуговицы выскальзывают из петель. Пол был в таком раже, что, казалось, вот-вот двинет гостя кулаком по лицу. Нижняя челюсть Пола угрожающе выдвинулась, а от его прерывистого дыхания, такого близкого, очки Уилльямса запотели.
— Я горжусь тобой, Уилльямс! Я души в тебе не чаю. Пол горячечно тискал его руку, хлопал по плечу, рвал сорочку, трепал по щеке. В процессе братских объятий очки Уилльямса слетели и упали на линолеум.
— Ах, черт, прости, Уилльямс! Прости, дружище!
— Пустяки. Забудем.
Уилльямс проворно поднял свои очки. Правое стекло разбилось — дурацкий рисунок трещин, наподобие паучьей сети. Уилльямс надел очки, и его правый глаз увидел как в тумане дюжину Полов, которые суетливо блеяли испуганные извинения.
Уилльямс помалкивал.
— Ах, Пол, вечно ты такой неуклюжий! — проверещала Элен.
Вдруг разом зазвонили телефон и дверной звонок, и Пирсоны говорили разом, а Том куда-то давно пропал, и Уилльямс думал с трезвой ясностью: нет, меня не вырвет, я могу сдержаться, но мне сейчас надо в ванную комнату, а вот там меня действительно вырвет.
Ничего не говоря и ни перед кем не извиняясь, среди звонков, говора и вскриков, всей этой перепуганной суеты утрированной дружбы, он двинулся вперед как сомнамбула, задыхаясь от зноя и продираясь, как ему показалось, через толпу людей. Закрыв за собой дверь ванной, он рухнул перед унитазом на колени, словно для молитвы, и поднял крышку.
Его вырвало — раз, другой, третий. С закрытыми глазами, из которых текли слезы, Уилльямс продолжал склоняться над унитазом — не зная, что с ним: он задыхается или плачет? Если плачет, то почему? От боли или от горя? Или это попросту алкоголь выдавливает влагу из глаз? Все в той же позе молящегося он слушал, как вода шумит по белому фаянсу и по трубам устремляется в море.
Снаружи голоса:
— С вами все в порядке?..
— Ты в норме, старик? Уилльямс, с тобой все о'кей?
Уилльямс нащупал бумажник в кармане пиджака, вынул его, убедился, что обратный билет там, вернул бумажник на место и любовно прижал его правой рукой. Затем встал, тщательно ополоснул рот, вытерся и посмотрел на себя в зеркале. Странный мужчина в очках с одной линзой в сеточке трещин.
Когда он шагнул к двери и положил ладонь на бронзовую ручку, готовый выйти, глаза его невольно закрылись, его качнуло, и было полное ощущение, что весит он всего лишь девяносто три фунта.
Лучший из возможных миров
Двое мужчин молча сидели на скамьях в поезде, катившем сквозь декабрьский сумрак от одного полустанка в сельской местности к другому. Когда состав тронулся после двенадцатой остановки, старший из попутчиков негромко бормотнул:
— Придурок! Ох, придурок!
— Простите? — сказал тот, что помоложе, и взглянул на своего визави поверх развернутого номера «Таймс».
Старший мрачно мотнул головой:
— Вы обратили внимание на того дурня? Вскочил как ужаленный и — шасть за той дамочкой, от которой так и разит «Шанелью»!
— А-а, за этой дамочкой… — Казалось, молодой человек пребывал в некоторой растерянности: рассмеяться ему или рассердиться. — Как-то раз я сам соскочил с поезда вслед за нею.
Мужчина в возрасте фыркнул и прижмурился.
— Да и я тоже. Пять лет назад.
Молодой человек уставился на попутчика с таким выражением лица, будто только что обрел друга в самом невероятном месте.
— А признайтесь… с вами случилось то же самое, когда вы… когда вы дошли до края платформы?
— Возможно. Хотите еще что-то сказать?
— Ну… Я был в футах двадцати от нее и быстро догонял — и тут вдруг к станции подкатывает автомобиль с ее мужем и кучей детишек! Хлоп — и она уже в машине. Мне осталась от нее только улыбка в воздухе — как от Чеширского кота. Словом, она уехала, а до следующего поезда полчаса. Продрог до самых костей. Видит Бог, это меня кое-чему научило.
— Ничему-то оно вас не научило! — сухо возразил мужчина в возрасте. — Кобели. Глупые кобели. Все мы и каждый из нас — вы, я и любой прочий в штанах. Придурки с безусловными рефлексами как у лабораторной лягушки: кольни тут — и дернется там.
— Мой дед говаривал: мужская доля в том, что широк в плечах, а в мозгах узок.
— Мудрый человек. С мужчинами все понятно. А вот что вы думаете об этой дамочке?
— Об этой женщине? Ну, она хочет оставаться в хорошей форме. Очевидно, у нее кровь веселее бежит по жилам, когда она снова и снова убеждается, что способна невинно пострелять глазами и любой самец покорно спрыгнет за ней с поезда — в ночь и холод. Неплохо устроилась, надо сказать — создала себе лучший из всех возможных миров. Муж, детишки… Плюс сознание, что она — та еще штучка и может пять раз в неделю проехаться на поезде с неизменным результатом, который, в сущности, никому не вредит — уж ей-то точно. А если приглядеться — ничего в ней особенного. Внешность так себе. Правда, этот аромат…
— Вздор, — отрезал мужчина в возрасте. — Это ничего не объясняет. Все сводится к одному: она особь женского пола. Все женщины — женского пола, а все мужчины — грязные козлы. Пока вы не согласитесь с этим базовым фактом, так и будете до старости гадать, какие из ваших рецепторов повели вас за женщиной — обонятельные, зрительные или еще какие. А если подойти с умом, то знание себя может хоть немного пособить в сомнительной ситуации. Но даже среди тех, кто понимает все важные и неоспоримые грубые истины, весьма немногие сохраняют жизненное равновесие. Спросите человека, счастлив ли он. А он незамедлительно подумает, что его спрашивают: удовлетворен ли он. Полное удовлетворение — вот картинка рая в сознании большинства людей. Я знавал лишь одного человека, который действительно обрел лучший из всех возможных миров, если использовать ваше выражение.
— Вот так так! — оживленно воскликнул молодой человек, и его глаза загорелись. — Очень бы хотелось послушать о вашем знакомом!
— Надеюсь, у меня хватит времени на рассказ. Так вот, этот человек — самый счастливый кобель, самый беспечный жеребец с сотворения мира. Имеет подружек всех возрастов и мастей — так сказать, в широком ассортименте и в любом количестве. Но вместе с тем — никаких угрызений совести, никакого самоедства и ни малейшего чувства вины. А по ночам нет чтобы ворочаться без сна и кусать себе локти от раскаяния — спит себе как ангелочек.
— Невероятно! — вклинился молодой человек. — Вы знаете, так просто не бывает… чтоб и желудок набить, и запора не получить!
— Он умудрялся, умудряется и будет умудряться! Ни разу не дрогнул, ни разу не ощутил приступа моральной дурноты после ночи самых отчаянных интимных приключений! Преуспевающий бизнесмен, имеет квартиру в лучшем районе Нью-Йорка — на таком этаже, что уличное движение не беспокоит. А на выходные он выбирается в свой загородный домик в Бакс-Каунти — у чистой речушки и в окружении ферм, за обитательницами которых он исправно охотится. Но сам я встретил его впервые именно в Нью-Йорке. Он только что женился, и я попал к нему на ужин. Молодая жена оказалась роскошной женщиной. Снежно-белые руки, сочные губы, ниже талии все подобающе широко, а выше — подобающе изобильно. Рог чувственного изобилия, бочонок моченых яблок, с которым сладко коротать самую лютую зиму — вот какие сравнения лезли в голову, когда я смотрел на новобрачную.
Похоже, ее муж ощущал примерно то же, потому как, проходя мимо, он всякий раз легонько щипал свою суженую за зад. И вот когда в полночь я прощался с ними в прихожей, я едва-едва удержался от того, чтобы не хлопнуть ее по аппетитному крупу, как знаток — чистокровную кобылку. Уже и руку занес. Истинно благовоспитанный человек просто не мог не отдать должное этой части ее тела. Когда я ввалился в лифт, меня качало — и я хохотал.
— Эко мастерски вы описали! — тяжело дыша, возбужденно произнес молодой человек.
— Пописываю рекламные проспекты, — сообщил его собеседник. — Но продолжим. С этим Смитом — назовем его так — я встретился опять недели через две. По чистой случайности я был приглашен приятелем на загородную вечеринку в Бакс-Каунти. Приезжаю туда — и как вы думаете, в чей дом? В дом того самого Смита! И в центре гостиной стоит черноволосая итальянская красавица, этакая гибкая пантера, трепещущая ночь, облитая лунным светом, вся загар и румянец, охра и умбра и прочие краски благодатной плодоносной осени. В гомоне голосов я не расслышал ее имени. А чуть позже застигаю ее в одной из комнат вместе со Смитом — и он жмет ее, как спелую и сочную октябрьскую виноградную гроздь, вобравшую в себя все летнее солнце. Ах ты, кретин несчастный, подумал я. Ах ты, счастливчик чертов, подумал я. Жена в городе, любовница в пригороде. У этого типчика не один виноградник и с каждого он снимает урожай — ну и все такое. Короче, снимаю шляпу. Однако смотреть дольше мне на этот праздник давки винограда совсем не хотелось, и я незаметненько ретировался с порога.
— От ваших рассказов дыхание спирает, — сказал молодой человек и попытался опустить окно.
— Да не перебивайте! — огрызнулся мужчина в возрасте. — На чем, бишь, я остановился?
— Как виноград по осени давят.
— Ах да! Так вот, когда гости на той вечеринке разошлись по группкам, я таки узнал имя итальянской красавицы. Миссис Смит!
— Стало быть, он снова женился?
— Едва ли. Двух недель маловато на развод и брак. Хоть я и был предельно ошарашен, но соображал быстро. У Смита не иначе как два круга друзей. Одни знают только его городскую жену. Другие — только эту любовницу, которую он называет своей супругой. Смит слишком умен, чтобы позволить себе двоеженство. Иного ответа у меня не было. Загадка да и только.
— Продолжайте, продолжайте! — с лихорадочным интересом воскликнул молодой попутчик.
— Поздно вечером после вечеринки на станцию меня отвозил сам Смит. Веселый и на взводе. По дороге он вдруг спросил:
— Ну и как вам мои жены?
— Ж-жены? — ахнул я. — Во множественном числе?!
— Во множественном, черт побери! У меня их было штук двадцать за последние три года — и одна другой лучше! Да-да, двадцать. Можете сами пересчитать. Вот, глядите.
Тут мы как раз остановились возле станции, и он вынимает из кармана пухлый фотоальбомчик. Протягивает мне этот альбом, смотрит на мое вытянувшееся лицо и говорит со смехом:
— Это не то, что вы подумали. Я не Синяя Борода, и на моем чердаке не хранятся среди разного хлама скелеты моих бывших жен. Смотрите!
Я пролистнул альбом. И женщины задвигались как фигурки в мультфильме. Блондинки-брюнетки-рыжие-красотки-дурнушки-простушки-сложнушки, а некоторые — полная экзотика. У одних взгляд умудренных фурий, у других вид домашних лапочек. Которые хмурятся, а которые улыбаются.
Пробежался я по лицам — эффект гипнотический. А потом меня вдруг как ударило: есть во всех этих лицах что-то общее. Ничего не понимаю.
— Слушайте, Смит, — пробормотал я, — для стольких жен нужно иметь уйму денег.
— Про уйму денег — это вы пальцем в небо. Вы получше приглядитесь.
Я снова пролистал альбом. Теперь медленно. И тут до меня дошло.
— Стало быть, — сказал я, — та миссис Смит, красавица-итальянка, которую я видел давеча, она-то и есть единственная миссис Смит. Но ее же я видел две недели назад в вашей нью-йоркской квартире. И нью-йоркская миссис Смит тоже является единственной миссис Смит. Логично предположить, что существуют не две женщины, а только одна.
— Совершенно верно! — вскричал Смит, довольный моими дедуктивными способностями.
— Бред собачий! — возмутился я.
— Ошибаетесь! — горячо возразил Смит. — Моя жена — истинное чудо. Когда мы познакомились, она была одной из лучших актрис — хоть и не на Бродвее, но в достойном театре. Истинный эгоист, я потребовал под угрозой разрыва, чтобы она оставила сцену. Безумие страсти уже несло нас по кочкам, и вот львица подмостков, хлопнув дверью, покидает театр навсегда, ибо любовь превратила ее в домашнюю кошечку. Шесть месяцев после свадьбы прошли как в угаре — что-то вроде непрерывного землетрясения. Ну а потом — ведь я, как ни крути, по природе своей мерзавец — начал я поглядывать на других женщин: мелькает-то их кругом много!..
Жена, конечно, заметила, что я закосил глазом. Тем временем и я заметил кое-что — с какой тоской она посматривает на театральные афиши. По утрам застаю ее в слезах с «Нью-Йорк таймс», открытой на странице, где помещены театральные рецензии на вчерашние премьеры. Черт побери! Каким же образом могут благополучно сосуществовать два столь одержимых карьериста: она — профессиональная актриса, я — профессиональный бабник! И оба стремимся в своем деле к совершенству!
— В один прекрасный вечер, — продолжал Смит, — я заприметил на улице весьма аппетитную цыпочку. И почти в то же мгновение ветер взметнул обрывок театральной афиши и облепил им щиколотку идущей рядом жены. Эти два события, проигранные случаем в течение одной секунды, были как удар молнии, который расщепляет скалу и открывает путь водам подземного источника. Жена судорожно вцепилась в мой локоть. Разве не была она актрисой? Она ведь актриса! Так, стало быть, ей и карты в руки!
Словом, она приказала мне убраться из дома на сутки, а сама занялась какими-то спешными и грандиозными приготовлениями. Когда на следующий вечер я в сумерках вернулся в нашу квартиру, жены и след простыл. Однако в гостиной меня ожидала незнакомая темноволосая мексиканка. Она представилась подругой моей жены… и не мешкая со всей латинской страстью накинулась на меня, да так, что у меня ребра затрещали. Можно ли устоять, когда тебе с таким пылом кусают уши!
Но тут взяло меня вдруг подозрение. Освобождаюсь я из ее объятий и говорю:
— Погоди-ка, а ты, часом, не… да ведь это же моя женушка!
И ну оба хохотать. Да так, что на пол повалились.
Все правильно — это была моя законная супруга. Только с другим макияжем, с другой прической и другим цветом волос. Она изменила осанку и поработала над голосом.
— Ах ты, моя актриса! — восхитился я.
— Твоя актриса — в театре одного зрителя! — со смехом подтвердила жена. — Только скажи, какую женщину ты хочешь, — и я стану ею. Хочешь Кармен? Изволь, буду Кармен. Хочешь валькирию Брунгильду? Без проблем. Я скрупулезно изучу образ, войду в него и сыграю кого угодно. А когда тебе надоест, я создам новую героиню. Я записалась в танцевальную академию. Меня научат сидеть и стоять на разный манер. Я освою тысячу разных походок. Я возобновлю уроки театральной речи и овладею сотней разных голосов. Я изучу восточные единоборства, я буду брать уроки хороших манер для особ королевской крови…
— Боже правый! — вскричал я. — А что я смогу дать тебе взамен?
— Это! — ответила она и со смехом повалила на постель.
— Одним словом, — рассказывал дальше Смит, — с тех пор я прожил десятки жизней и побывал в шкуре десятков мужчин! Бесчисленные фантазии явились мне в осязаемом облике женщин всех цветов, всех статей, всех темпераментов. Моя жена в нашей квартире обрела сцену, а во мне — благодарную публику. И тем самым исполнилось ее желание стать величайшей актрисой во всей стране.
Скажете, один человек не публика? Ошибаетесь! Тысячи стоит один такой зритель, как я — такой взыскательный, такой капризный, с подвижным вкусом и с бесконечным умением искренне восторгаться. К тому же моя ненасытная потребность в разнообразии великолепно совпадает с ее гениальной способностью быть разнообразной. Таким образом, я как бы на коротком поводке и одновременно совершенно свободен, я верен жене — и изменяю ей на каждом шагу. Любя ее, я люблю через нее всех остальных женщин. Дружище, разве это не самый прекрасный из существующих миров? Разве можно создать себе мир, прекраснее моего?
На некоторое время в купе поезда воцарилось молчание.
Поезд погромыхивал, спеша через декабрьские сумерки.
История была рассказана, оба собеседника, молодой и постарше, разом задумались.
Наконец молодой человек возбужденно сглотнул и восторженно закивал.
— Ваш друг Смит разрешил-таки проблему! — воскликнул он. — Это уж точно.
— Да, разрешил.
В молодом человеке, похоже, происходила некая внутренняя борьба, которая закончилась тем, что он улыбнулся и сказал:
— У меня тоже есть интересный друг. В близкой ситуации… но с ним совсем иначе. Позвольте мне называть его Куиллан.
— Пожалуйста, — сказал мужчина постарше. — Только будьте кратки. Скоро моя остановка.
— Однажды вечером я увидел Куиллана в баре с одной рыжеволосой красоткой, — торопливо начал молодой человек. — До того хороша, что толпа расступалась перед ней, как воды перед Моисеем. «Какая женщина, — подумал я, — от одного взгляда на нее бурлит кровь и голова идет кругом!» Неделей позже я увидел Куиллана в Гринвиче. Рядом с ним была приземистая бесцветная толстушка — судя по всему, его ровесница, тоже года тридцать два или тридцать три, но из тех дамочек, что блекнут исключительно рано. Англичане про таких говорят «мордоворот». Носастая коротышка с короткими ногами, одежда мешком, никакого марафета, тиха как мышка — повисла у Куиллана на руке и семенит молчком.
«Ха-ха-ха! — подумал я. — Вот его женушка-простушка, готовая целовать землю, по которой ходит муж, зато по вечерам он прогуливается с невероятной рыжеволоской, похожей на андроида, сделанного на заказ». Да, подумалось мне, в жизни много и грустного, и досадного. И я пошел дальше своей дорогой.
Проходит месяц. Опять встречаю Куиллана. Он как раз собирался нырнуть в темный зев Мак-Дугал-стрит, но тут заметил меня.
— Ах ты, Господи! — тихонько вскрикнул он, и на лбу у него выступила испарина. — Только не выдавай меня, умоляю! Жена не должна узнать!
Когда я собирался торжественно поклясться, что буду нем как могила, из окна сверху Куиллана окликнул женский голос.
Я поднял глаза, и челюсть у меня отвисла.
В окне я увидел ту невзрачную, рано поблекшую коротышку!
И тут я сложил два и два и понял, что к чему. Та ослепительно прекрасная рыжеволосая красавица была его жена! Мастерица танцевать, петь, живая и умная собеседница с уверенным громким голосом — тысячерукая богиня Шива, способная украсить собой спальню короля… И несмотря на все это, как ни странно, она утомляла.
Два дня в неделю мой друг Куиллан снимал эту комнатку в сомнительном квартале. Там он мог посидеть в тишине и покое со своей серой бессловесной мышкой, прогуляться по плохо освещенным улочкам с домашней уютной бабенкой без претензий.
Я в растерянности переводил взгляд с Куиллана на его любовницу и обратно. Потом меня окатила волна сочувствия и понимания. Я горячо пожал ему руку и сказал:
— Чтоб мне сдохнуть, если я хоть слово!..
В последний раз я видел Куиллана с его подругой в кафе. Они мирно сидели за столиком и жевали сандвичи, молча ласково поглядывая друг на друга. Если хорошенько подумать, он тоже создал себе особый мир, и тоже наилучший из возможных.
Вагон слегка тряхнуло — после гудка поезд стал притормаживать. Оба мужчины разом встали, потом замерли и с удивлением уставились друг на друга. И одновременно спросили:
— Как, вы разве здесь выходите?
Оба утвердительно кивнули и улыбнулись.
Когда поезд остановился, они молча спустились на перрон, в зябкий декабрьский вечер: С чувством обменялись прощальным рукопожатием.
— Ну, передавайте привет мистеру Смиту.
— А вы — мистеру Куиллану.
Почти одновременно из противоположных концов платформы раздались два автомобильных гудка. С одной стороны стояла машина с ослепительно красивой женщиной. И с другой стояла машина с ослепительно красивой женщиной. Попутчики поглядели сперва налево, потом направо.
И оба направились в разные концы платформы — каждый к своей женщине. Шагов через десять бывшие попутчики замедлили шаг и оглянулись — тому и другому с озорным любопытством школьника хотелось еще раз взглянуть на даму, поджидавшую недавнего собеседника.
«Хотел бы я знать, — подумал мужчина в возрасте, — кто она ему…»
«Занятно бы узнать, — подумал молодой человек, — кем приходится ему та женщина…»
Но мешкать дольше было неудобно. Оба ускорили шаг. Вскоре два пистолетных выстрела захлопнутых дверей завершили сцену.
Машины отъехали прочь. Платформа опустела. И холодный декабрь проворно закрыл ее снежным занавесом.
Последняя работа Хуана Диаса
Захлопнув дощатую дверь с такой силой, что свеча потухла, Филомена с плачущими детьми оказалась в темноте. Теперь глаза видели лишь то, что было за окном: глинобитные дома по бокам мощеной улицы, по которой поднимался на холм могильщик. На плече он нес лопату, и медовый отблеск луны на мгновение вспыхнул на ее стали, когда могильщик повернул на кладбище и пропал из виду.
— Мамасита, что случилось? — Филипе, старшенький, дергал ее за юбку. Тот странный черный человек не промолвил и слова — просто стоял на крыльце с лопатой на плече, медленно тряс головой и ждал, пока мама не захлопнула дверь. — Мамасита!
— Это могильщик. — Дрожащими руками Филомена зажгла свечу. — У нас нет денег платить за место на кладбище. Твоего отца выроют из могилы и поместят в катакомбы, где он будет стоять рядом с другими мумиями — прикрученный к стене проводом, как и все прочие.
— Ах нет, мамочка!
— Да. — Филомена прижала детей к себе. — Так случится, если мы не уплатим. Так случится.
— Я убью могильщика! — крикнул Филипе.
— Это его работа. Если умрет этот, на его место придет другой, с тем же требованием. А если Бог приберет и того, то явится третий.
Они разом задумались об этом человеке, который живет и копошится на кладбищенском холме, вознесенный над всеми, и сторожит катакомбы и загадочную землю, обладающую странным свойством: закопанные в нее люди со временем иссыхают, словно цветы в пустыне, их кожа становится твердой, как на туфлях, так что по упругой и полой мумии хоть палкой колоти — барабан. Эти мумии, коричневые будто сигары, могут сохраняться вечно — столбами приставленные к стенам подземных пещер. Когда Филомена и ее дети подумали об этом привычном, к которому привыкнуть нельзя, им стало холодно среди лета, и каждая косточка их тела беззвучно взвыла от ужаса.
Какое-то время мать и дети молчащей группой стояли посреди комнаты, неистово прижимаясь друг к другу. Потом мать сказала:
— Пойдем со мной, Филипе.
Она распахнула дверь и вышла вместе с Филипе на крыльцо. Облитые лунным светом, оба застыли, напряженно прислушиваясь к ночи, будто ожидали услышать далекий звяк лопаты, которая железным зубом кусает землю, выгрызает куски глины и срубает давно укоренившиеся цветы. Однако под звездным небом царила ненарушимая тишина.
— А прочие марш в постель! — велела Филомена, оглянувшись на дом.
Теперь она закрыла дверь так осторожно, что пламя свечи в комнате лишь слабо дрогнуло.
Булыжная мостовая, превращенная лунным светом в серебристую реку, взбегала мимо зеленых участков и маленьких магазинчиков туда, где и днем, и вечером тикали привычные для местных жителей часы смерти: это пилил, строгал и постукивал молотком гробовщик, как неутомимая пчела, собирающая нектар на могилах.
Запыхавшийся Филипе едва поспевал за быстро шагавшей матерью. Ее поношенная юбка рядом с его ухом быстро-быстро шепотом жаловалась на нищету. Наконец они подошли к зданию муниципалитета.
Мужчина, сидевший за небольшим заваленным бумагами столом в плохо освещенной комнатушке, встретил ее удивленным взглядом.
— Филомена, кузина!
Коротко пожав протянутую руку, она сказала:
— Рикардо, ты должен помочь мне.
— Если Господь не помешает. Я весь внимание.
— Они… — Словно горький камень лежал у нее во рту. Она попробовала от него избавиться: — Сегодня ночью они выкапывают Хуана.
Рикардо даже привскочил со стула, но потом бессильно опустился обратно. Глаза его, полыхнув гневным огнем, тут же потускнели.
— Если Господь позволит, так люди помешают. Неужели пролетел целый год со дня смерти Хуана? Неужели пора вносить плату за клочок кладбищенской земли? — После этих горячих восклицаний он вывернул ладони перед кузиной и тихо сказал: — Увы, Филомена, денег у меня нет.
— Но ты же можешь переговорить с могильщиком. Ты как-никак полицейский.
— Филомена, Филомена, дальше края могилы закону хода нет.
— Лишь бы он дал мне десять недель отсрочки, только десять. Сейчас лето на исходе, и скоро День Всех Усопших. Я справлюсь, я все в доме распродам, я достану деньги для него. Рикардо, ради всего святого, замолви за меня словечко!
И лишь теперь, когда не стало возможности больше удерживать в себе лютый холод, от которого вот-вот заледенеет все в душе, она дала себе волю, закрыла лицо руками и зарыдала. И Рикардо понял, что теперь время открыто проявить свои чувства, и тоже разрыдался, между всхлипами горестно повторяя имя кузины.
Потом он взял себя в руки и встал, надевая на голову старую заношенную и засаленную форменную фуражку.
— Ладно. Я говорю «да». Я пойду к катакомбам и плюну в черную дыру входа. Однако не жди ответа, Филомена. Мне ответит разве что эхо. Веди меня.
Кладбище располагалось на горе — выше церкви, выше всех городских зданий и выше всех окрестных холмов. Оттуда были как на ладони и городок, и окрестные поля.
Пройдя через широкие чугунные ворота, Рикардо, Филомена и ее сынишка шли какое-то время между могилами, пока не увидели широкую спину могильщика. Тот проворно махал лопатой и уже изрядно углубился в землю. Не потрудившись оглянуться, он все же точно угадал, кто пришел, потому что негромко спросил:
— Рикардо Альбанес, начальник полиции?
— Прекратите копать! — сказал Рикардо. Лопата ходила вверх-вниз как ни в чем не бывало.
— Завтра похороны, начальник. Эта могила должна быть свободна к утру, чтобы принять нового покойника.
— В городе никто не умер.
— Кто-нибудь постоянно умирает. Всегда нужно иметь могилу наготове, чтобы не прогадать. Два месяца я жду денег от Филомены. Я, как видите, человек терпеливый.
— Останьтесь им еще немного. — Рикардо просительно коснулся плеча согнутого над лопатой могильщика.
— Начальник полиции! — фыркнул могильщик, на время прервался и выпрямился. — Здесь моя страна, страна мертвых. Которые тут у меня живут, ни словечка мне не говорят. И от пришлых я указок не терплю. Я деспот здешней страны и правлю железной рукой, а помощники мои верные — кирка да лопата. Не люблю, когда живые приходят сюда чесать языком и тревожить покой моих подданных. Разве я таскаюсь в ваш начальский дом, чтоб учить вас делать свое дело? Так-то вот. Спокойной, значит, ночи. — И поплевав на руки, он опять взялся за лопату.
— Неужели ни Господь, взирающий с небес, ни эта женщина с малолетним отроком не помешают вам осквернить останки мужа и отца, нашедшего в этой могиле свой вечный покой?
— Покой не свой и не вечный. А только от меня в аренду полученный. — Лопата взлетела особенно высоко и блеснула в лунном свете. — Я не приглашал мать и сына глядеть на это прискорбное зрелище. И вот что я тебе скажу, Рикардо. Какой ты ни начальник, а рано или поздно и ты помрешь. И хоронить тебя буду я. Заруби себе это на носу: в землю тебя спрячу я. И окажешься ты в полной моей воле. А уж тогда, тогда…
— Что тогда? — заорал Рикардо. — Ты мне, пес поганый, угрожать смеешь? Да я тебя по стенке размажу, в землю закопаю!
— Копать — мое ремесло, — спокойно возразил могильщик, по-прежнему ритмично работая лопатой. — Спокойной ночи сеньору, сеньоре и маленькому сеньору.
Когда троица добралась до крыльца глинобитного домика Филомены, Рикардо остановился, пригладил волосы кузины на виске и запричитал:
— Ах, Филомена. Ах, Господи.
— Все, что мог, ты сделал. Спасибо и на том.
— Жуткий человек. Могильная крыса! Какой только мерзости он не сотворит с моим телом, когда я умру! Может закопать меня в могиле головой вниз или подвесить за волосы в дальнем углу катакомб, где никто меня не найдет и никто за меня не заступится. Он жиреет от сознания, что рано или поздно все перейдем под его власть… Спокойной ночи, Филомена. А впрочем, какое тут к черту спокойствие! Ночь хуже некуда.
Рикардо побрел обратно к муниципалитету.
А Филомена зашла в дом и, оказавшись снова среди своих многочисленных детишек и наедине со своим горем, рухнула на стул и поникла, уронив голову на колени.
Назавтра днем, когда Филипе под палящим солнцем возвращался домой, его настигла толпа вопящих однокашников. Он вдруг оказался внутри хохочущего круга.
— Филипе-дурипе, а мы видели сегодня твоего папашу!
— Но где же мы его видели? — дурашливо спрашивали одни.
— В катакомбах! — отвечали другие.
— Какой же он у тебя ленивый! Стоит себе и в ус не дует.
— Он у тебя лодырь!
— И молчун! Слова не вытянуть из этого Хуана Диаса! Филипе так и затрясло от обиды, и горячие слезы заструились из круглых от горя глаз.
Услышав на улице его режущий ухо рев, Филомена в отчаянии прислонилась к прохладной стене. Волны горестных воспоминаний накатывали на ее истерзанную душу.
В последний месяц жизни, на глазах угасая, непрестанно кашляя и по ночам купаясь в собственном поту, Хуан лежал на соломенном матрасе, глядел в потолок и все шептал:
— Какой я после этого мужчина, если жена и дети у меня голодают! И что за жалкая смерть — в постели!
— Помолчи, — говорила она, кладя прохладную руку на его раскаленные губы.
Но и под ее пальцами губы продолжали свое:
— Что хорошего ты видела за годы жизни со мной? Только голод да болезни. А теперь вот и это. Видит Бог, ты прекрасная женщина, а я покидаю тебя, не оставив денег даже на собственные похороны!
А однажды ночью он скрипнул зубами — раз, другой и вдруг впервые за недели болезни расплакался. Плакал он долго. А когда выплакался, на него снизошло что-то вроде благостного удовлетворения, будто он получил некий знак свыше. Хуан взял руки жены в свои и с горячечной быстротой заговорил, клянясь ей страшными клятвами с исступлением кающегося в церкви отпетого убийцы:
— Филомена, послушай! Я останусь с тобой. Пусть я не смог сделать тебя счастливой и защитить при жизни, я стану оберегать тебя после смерти. Пусть я не смог прокормить тебя, будучи живым, — мертвым я стану приносить тебе пищу. Пусть живым я был беднее церковной мыши — после смерти это изменится. Я верю, я знаю, что так будет. Эта вера пришла ко мне только что, я выплакал ее у Бога. Поверь мне. После смерти я буду трудиться и многое совершу. Не бойся. Поцелуй за меня маленьких. Ах, Филомена, Филомена.
Он сделал долгий глубокий вдох, словно пловец перед погружением в теплую речную воду. И вот так, набрав в легкие побольше воздуха, тихо нырнул в вечность.
Филомена и дети напрасно ждали его выдоха. То, что лежало на соломенном матрасе, было как фальшивое, восковое яблоко. И было дико прикасаться к нему, такому неживому. Как странно восковое яблоко зубам, так странен был теперь Хуан Диас всем человеческим чувствам.
Его забрали прочь и положили в утробу сухой земли, словно в исполинскую пасть, которая быстро высосала из него все жизненные соки — оставила только сухую оболочку, похожую на пергамент, и превратила тело в мумию, столь же легкую, что и плевелы, осенью отделяемые ветром от пшеницы.
С тех самых пор Филомена снова и снова ломала голову над тем, как ей в одиночку прокормить ораву детей — теперь, когда Хуан медленно превращается в коричневый сверток пергамента, лежа в деревянном ящике на серебристой парче. Как сделать так, чтоб дети не захирели, чтоб на их губы вернулась улыбка, а на щечки — румянец?
Хохот ребят, глумившихся над Филипе, вернул ее к действительности.
В квадрате окна Филомена видела, как по склону далекого холма взбирается вереница пестро раскрашенных автобусов с туристами из Соединенных Штатов. Любопытные янки платят по одному песо за то, чтобы черный человек с лопатой, кладбищенский деспот, провел их по катакомбам и показал расставленные вдоль стен иссохшие мумии, в которые сухая песчаная почва и жаркий ветер превращают всех здешних покойников.
Пока Филомена провожала взглядом автобусы с янки, ей вдруг послышался горячечный шепот Хуана: «Я выплакал себе эту веру. После смерти я буду трудиться. Я больше не буду нищим. Верь мне, Филомена!» Будто не память вернула эти слова, а вдруг явился невидимый призрак Хуана, чтобы напомнить их. Филомена покачнулась от ужаса. Ей чуть не стало дурно, однако в тот же момент в ее сознании мелькнула идея — такая неожиданная и дикая, что сердце так и запрыгало в груди.
— Филипе! — внезапно позвала она сына.
Филипе вырвался из круга дразнящих его детей, забежал в дом и захлопнул за собой дверь.
— Ты меня звала, мамасита?
— Да, ниньо, нам надо поговорить. Во имя всех святых, нам надо поговорить.
Филомена чувствовала, что ее лицо за минуту постарело лет на десять, потому что на тысячу лет только что постарела ее душа. С великим трудом она вытолкнула из горла то, что обязана была сказать:
— Ниньо, сегодня ночью мы тайно спустимся в катакомбы.
— А нож мы с собой возьмем? — ничуть не испугавшись, спросил Филипе. И с хищной улыбкой добавил: — Мы прикончим черного человека!
— Нет-нет, Филипе. Слушай меня внимательно, мой мальчик.
И она рассказала о том, что им предстоит.
Через несколько часов заблаговестили к вечерне. Со всех сторон послышался звон колоколов, а затем донеслось пение хоров. Через открытые двери церквей звуки вечерней службы разносились по всей округе. Там и здесь можно было видеть вереницу детей со свечами в руках, совершающих крестный ход. За священниками несли большие медные колокола, на звуки которых сбегались полаять бездомные псы.
Пустынное кладбище белело в первых сумерках многочисленными надгробиями из белого мрамора. Гравий предательски скрипел под ногами. Торопясь за своими чернильно-черными тенями, Филомена и Филипе пугливо оглядывались по сторонам, кляня безоблачное небо и слишком яркую луну. Однако никто не крикнул им: «Стой, кто идет?» Могильщик, как они видели из своего укрытия, ушел вниз по холму на вечерню.
— Быстрее, Филипе, — шепнула Филомена, — замок!
Под дужку висячего замка они просунули, уперев в полотно деревянной двери, железный ломик и как следует вместе налегли на него. Полетели щепки, но замок не поддался. Мать и сын повторили попытку и налегли на ломик что было мочи — замок тенькнул и развалился надвое, так что они по инерции едва не упали на землю. Тяжелая дверь со скрипом распахнулась, отворив жуткую темень и неслыханную тишину. Там, внизу, был лабиринт пещер.
Филомена распрямила плечи, глотнула побольше воздуха и сказала:
— Ну, с Богом.
И первой шагнула вперед.
По разным углам глинобитного домика Филомены Диас мерно сопели во сне ее дети. Ночь принесла отрадную прохладу.
Как вдруг все детские глаза разом испуганно открылись.
Сперва раздался звук шагов по булыжнику совсем рядом с крыльцом. Потом осторожно распахнулась дверь. В дверном проеме возникли силуэты трех человек — двух взрослых и ребенка. Старшая девочка поспешно чиркнула спичкой, чтобы зажечь свечу.
— Нет! — раздался голос Филомены.
Она проворно схватила детскую руку и задула огонек. Потом вернулась к двери и закрыла ее. Комната погрузилась в темноту. И в этой темноте дети услышали усталый голос матери:
— Не надо зажигать свечу. Ваш папа вернулся домой.
В полночь раздался оглушительный стук в дверь. Кто-то колотил, не боясь разбудить соседей. Филомена встала открыть.
За дверью стоял могильщик, который тут же принялся орать:
— Ах ты, стерва! Грабительница проклятая! Воровка чертова!
За его спиной переминался Рикардо — жалкий, сгорбленный, как столетний старик.
— Кузина, позволь нам зайти, — сказал он. — Этот наш Друг…
— Я тебе не друг! И я никому не друг! — кричал могильщик. — Замок сломан, труп украли. По тому, кого украли, нетрудно узнать, кто вор. Дело полиции — забрать вора. Арестуйте ее! — И он нетерпеливо дернул начальника полиции за рукав.
— Не торопитесь вы так, — сказал Рикардо, сбрасывая руку могильщика со своего локтя. — Можно нам войти?
— Ну-ка, ну-ка! — приговаривал могильщик, порываясь прошмыгнуть в комнату мимо хозяйки. — Ага! Видите! — И он указал на дальнюю стену.
Но Рикардо смотрел не в глубину комнаты, а исключительно в глаза кузине.
— Что скажешь, Филомена? — тихо спросил он.
Лицо Филомены было лицом человека, который изнуряюще долго шел по темному туннелю и вот наконец приблизился к его концу, где начинает брезжить свет. Ее глаза были готовы выдержать встречу с любым взглядом. И ее губы знали, что говорить. Ужас был пережит и ушел. И оставил ей то, что должно стать светом в конце туннеля. Теперь у нее есть то, что они с ее прекрасным мужественным мальчиком принесли с вершины горы. Отныне все дурное будет обходить ее жизнь стороной. И эта убежденность прочитывалась даже в позе Филомены, когда она объявила начальнику полиции:
— Мумии в нашем доме нет.
— Верю, кузина, — сказал Рикардо. — Однако… — Он смущенно откашлялся и наконец позволил себе заглянуть в едва освещенную лунным светом комнату. — А что это там у стены?
— Чтобы отметить Праздник Всех Усопших, — сказала Филомена, даже не оглянувшись в сторону, куда показывал Рикардо, — я взяла бумагу, клейстер и проволоку и сделала игрушку — мумию в натуральную величину.
— Да ты что? Неужели ты это сделала? Подумать только! В натуральную величину!
— Врет! Врет! — прокричал могильщик, пританцовывая от злости.
— С вашего позволения, — сказал Рикардо и прошел через комнату к загадочному предмету у стены. Посветив фонариком, полицейский поцокал языком. — Так-так, так-так.
Филомена стояла на пороге и мечтательно смотрела на звездное небо.
— Я придумала замечательное применение этой самоделке.
— А именно? — насторожился могильщик.
— В итоге у нас будут деньги. Вы разве против того, чтобы мои дети были сыты?
Но Рикардо ее не слушал. Он стоял, покачивая головой, и почесывал подбородок, таращась на исполненный молчания высокий кокон, прислоненный к стене.
— Игрушка, — сказал Рикардо. — Игрушечной смерти таких размеров я еще никогда не видал. Скелеты в окнах аптек, картонные гробы в натуральную величину с конфетами в виде черепов — такое видал. Но подобное! Снимаю перед тобой шляпу, Филомена!
— Чего тут шляпу-то снимать! — взвыл могильщик. — Разуйте глаза! Это никакая не игрушка! Это же мое краденое добро!
— Готова ли ты присягнуть, Филомена, что ты говоришь правду? — торжественно спросил Рикардо, не обращая внимания на беснования могильщика. Полицейский протянул руку и осторожно постучал пальцем по ржаво-красной груди фигуры. «Бум-бум» — отозвалась та, словно натянутая кожа барабана. — Итак, ты клянешься, что это сделано из папье-маше?
— Именем пресвятой Девы-Богородицы клянусь.
— Что ж, — сказал Рикардо, довольно фыркнул и рассмеялся. — Если такая набожная женщина, как Филомена, клянется именем пресвятой Девы-Богородицы — вопросов больше нет. Расследование закончено. В суд обращаться нет нужды. Да и пустое это дело — недели и месяцы понадобятся на выяснение того, что это за штуковина такая и действительно ли она искусно сотворена из крашенного под ржавчину папье-маше.
— Недели и месяцы? Доказывать? — Могильщик медленно повернулся на триста шестьдесят градусов, словно приглядывался к этой темной комнатенке, в тесных границах которой мир сошел с ума. — Эта «игрушка» — моя собственность!
— Сделанное мной принадлежит только мне, — отозвалась Филомена с порога, переводя взгляд с неба на окрестные холмы. И вдруг добавила, по-прежнему во власти нового безмятежного покоя: — А если это и впрямь не игрушка, если это сам Хуан Диас вернулся домой — то кто возразит против того, что Хуан Диас принадлежит прежде всего Господу?
— Кто же против этого возразит! — горячо подхватил Рикардо.
Могильщик попытался. Но не успел он и дюжины слов сказать, как Филомена его перебила:
— А кому он принадлежит во вторую очередь? Перед лицом Господа, перед алтарем Господа и в церкви Господа разве не поклялся Хуан Диас в самый торжественный день своей жизни принадлежать мне до скончания своих дней?
— «До скончания своих дней»? Вот ты и попалась, женщина! — сказал могильщик. — Дни-то его все вышли. Нынче он мой!
— Итак, — продолжала спокойно Филомена, — если предположить, что эта кукла не кукла, а действительно Хуан Диас, то он, во-первых, собственность Господа; во-вторых, собственность Филомены Диас. А коли вы, правитель страны мертвых, предъявляете свои права на него, так и на это у меня есть ответ: вы же изгнали его со своей земли — вы прогнали арендатора! Но раз он вам так люб, что вы желаете получить его обратно, извольте внести за него арендную плату.
Правитель страны мертвых был настолько сражен ее логикой, что не сразу нашелся с ответом. Поэтому инициативу перехватил Рикардо:
— Господин могильщик, я сиживал в судах и слышал споры законников — как они копаются в тонкостях, приводят доводы «за» и доводы «против» и поворачивают дышло закона то туда, то сюда, и все это судоговорение длится месяцы и годы. И когда данное дело попадет в суд, тамошним крючкотворам будет о чем поговорить: они притянут сюда и законы о движимом и недвижимом имуществе, и право на кустарное производство; они будут молотить языками и про Господа, и про Филомену, и про ее голодных детишек, и про отсутствие совести у некоторых могилороев. Такую тень на плетень наведут, что в суд не находишься — а многосложное могильное дело будет хиреть из-за непрестанных отлучек. Учитывая вышесказанное, готовы ли вы годами тягаться в суде с этой женщиной?
— Готов! — решительно заявил могильщик. Хотя в его позе уже не было прежней решительности.
— Милейший, — сказал Рикардо, — я намотал на ус ваш вчерашний совет и теперь возвращаю его вам: я не лезу в ваши дела с мертвыми, но и вы не лезьте в мои дела с живыми. Ваша юрисдикция кончается за могильными воротами. А по эту сторону ворот — моя вотчина, мои граждане, будь они говорливы или немы, будто покойники. Итак…
Рикардо еще раз постучал пальцем по полой груди прислоненной к стене фигуры. В ответ раздалось что-то вроде биения сердца. Могильщик суеверно перекрестился.
— Вот мой официальный приговор: это не мумия, а кукла. И мы теряем тут понапрасну время. А стало быть, возвращайтесь, гражданин могильщик, в свои владения! Спокойной ночи, Филомена. Спокойной ночи, детишки!
— А с этим что? — упрямо спросил могильщик, показывая на прислоненную к стене фигуру.
— Вам-то какое дело? — сказал Рикардо. — Эта штуковина остается здесь. Хотите судиться — подавайте жалобу. Только эта кукла останется до окончания процесса здесь. Хоть у нее и есть ноги, она никуда не убежит. Спокойной ночи всем.
Полицейский вытолкал могильщика наружу, вышел сам и закрыл дверь. Филомена не имела возможности его поблагодарить.
Она затеплила свечу и поставила ее у ног мумии, похожей на огромный початок кукурузы. «Теперь это наша святыня, — подумала Филомена, — и перед ней должна гореть неугасимая свеча».
— Не бойтесь, дети, — ласково сказала она, — спите. По кроваткам!
Филипе и остальные дети легли, а потом и сама Филомена устроилась на соломенном тюфяке под тонким одеялом. Свеча продолжала гореть. Прежде чем уснуть, Филомена радостно думала о новом будущем, о веренице более счастливых дней. «Утром я пойду встречать автобусы янки на дороге и расскажу им о моем домике. И когда они придут сюда, у двери будет надпись "Вход — 30 сентаво". И туристы валом повалят сюда, потому что мы находимся в долине — в начале пути к кладбищу на холме. Мой дом будет первым на маршруте туристов, и они будут полны нерастраченного любопытства». Мало-помалу с помощью туристов она наберет денег на ремонт крыши, а потом запасется большими мешками кукурузной муки, сможет покупать детям мандарины и прочие вкусные вещи. Если все сложится, как она задумала, то в один прекрасный день они сумеют выбраться в Мехико или даже переехать туда, потому что там хорошие большие школы.
И все это счастье благодаря тому, что Хуан Диас вернулся домой, думала Филомена. Он здесь и ждет тех, кто придет посмотреть на него. «У его ног я поставлю миску, куда добросердечные туристы смогут бросать монетки, и после смерти Хуан Диас станет зарабатывать куда больше, чем при жизни, когда он трудился до седьмого пота за сущие гроши».
Хуан. Она открыла глаза и посмотрела вверх. Дети успокаивающе-ровно дышали во сне. «Хуан, видишь ли ты наших милых малышей? Знаешь ли ты, что происходит? И понимаешь ли ты меня? И простишь ли ты меня?»
Пламя свечи задрожало.
Филомена закрыла глаза. Ей представилась улыбка Хуана Диаса. Была ли это та улыбка, которую смерть начертала на его лице, или это была новая улыбка, которую Филомена дала ему или придумала для него — как знать? Достаточно того, что Филомена чувствовала всю эту ночь, как он стоит у стены, высокий и одинокий, гордясь за свою большую семью и охраняя ее покой.
Собака залаяла где-то далеко в безымянном городе.
Но ее лай услышал только могильщик, который ворочался без сна в домике за кладбищенской оградой.
Чикагский Провал
Приблизительно в двенадцать часов апрельского дня, когда небо обычно бывает таким бледным, а ветер — лишь воспоминание об ушедшей зиме, шаркающей походкой в почти безлюдный парк вошел старик. Его негнущиеся ноги были обвязаны какими-то обмотками в никотинового цвета пятнах, а длинные седые волосы взлохмачены, как, впрочем, и борода, прикрывавшая рот, который, казалось, всегда готов к какому-то откровению.
Старик беспокойно оглянулся, словно потерял несчетное множество вещей в беспорядочных развалинах беззубого силуэта этого города. Так ничего и не найдя, он заковылял дальше, пока не добрался до скамейки, на которой сидела одинокая женщина. Внимательно оглядев ее, присел на дальний край скамейки и больше уже не смотрел на свою соседку.
Минуты три он сидел с закрытыми глазами и шевелил губами, при этом кивая головой, словно носом печатал в воздухе одно-единственное слово. Когда оно было написано, старик раскрыл рот и прочитал слово громким красивым голосом:
— Кофе.
Женщина вздрогнула и вся напряглась. Старик узловатыми пальцами вертел в воздухе свой невидимый напиток.
— Блестящая, с желтыми буквами банка! Поднимаешь кольцо! Пшшшш — сжатый воздух! Упаковано под вакуумом! Тссс! Как змея!
Женщина отшатнулась, будто ее ударили, и в ужасе уставилась на старика.
— Какой запах, какой аромат, какое благоухание! Темные, маслянистые, восхитительные бразильские бобы, только что собранные!
Женщина вскочила и, шатаясь, словно подстреленная, зашагала прочь.
— Нет! Я…
Но ее уже как ветром сдуло.
Старик пожал плечами и потащился по парку дальше, покуда не набрел на скамейку, где сидел молодой человек; тот был полностью поглощен тем, что пытался завернуть щепотку сушеной травы в маленький квадратный кусочек тонкой папиросной бумаги. Тонкими пальцами молодой человек нежно мял траву, будто исполняя некий священный ритуал, дрожащими руками свернул трубочку, поднес к губам и зажег ее. Потом откинулся назад и сощурился, наслаждаясь тяжелым горьким дымом, заполнившим его рот и легкие.
Старик наблюдавший, как полуденный ветерок уносит дым, вдруг изрек:
— «Честерфилд».
Молодой человек крепко обхватил свои колени.
— «Рейли», — сказал старик. — «Лаки Страйк». Парень вытаращил на него глаза.
— «Кент». «Кул». «Марлборо», — продолжал старик, не глядя на курильщика. — Так они назывались. Белые, красные, янтарно-желтые пачки, ярко-зеленые, небесно-голубые, золотые, с красной тоненькой блестящей полоской — потянешь за нее и вскроешь хрустящий целлофан, а наверху — голубая акцизная марка…
— Заткнись, — сказал молодой человек.
— Их можно было купить в аптеках, в автоматах, в подземке…
— Заткнись!
— Успокойтесь, — сказал старик. — Просто запах дыма навел меня на воспоминания…
— А ты не вспоминай! — Молодой человек так резко дернулся, что его самодельная сигарета, развалившись, упала ему на колени. — Вот, полюбуйся, что я из-за тебя наделал!
— Простите великодушно! Какая дивная погода сегодня — так располагает к дружескому общению…
— Я тебе не друг!
— Мы все теперь друзья, иначе зачем жить?
— Друзья! — парень фыркнул, машинально подбирая с колен бумажку и рассыпавшуюся траву. — Может, году в тыща девятьсот семидесятом и водились «друзья», только теперь…
— Тысяча девятьсот семидесятый… Вы, поди, были тогда совсем дитя. В то время повсюду еще лежали «Баттерфингерз» в ярко-желтых обертках. «Бэби Рут». Шоколадки «Кларк Бар» в оранжевых бумажках. «Милки Уэй» — «съешь вселенную звезд, метеоров, комет». Очаровательно.
— Не было ничего очаровательного. — Молодой человек неожиданно поднялся. — Что с тобой такое?
— Я помню мандарины, лимоны — только и всего. Вы помните апельсины?
— Правильно, будь я проклят, апельсины, черт побери! Хочешь, чтобы я несчастным себя почувствовал? Ты, видно, чокнутый? А закон знаешь? Знаешь, что я могу тебя заложить?
— Знаю, знаю, — ответил старик, пожав плечами. — Это из-за погоды на меня что-то нашло. Захотелось сравнить…
— Сравнить!.. Измышления, вот как это называется! Легавые, специальная полиция, они это так называют: измышления! Заруби себе на носу, ты, ублюдочный подстрекатель!
Молодой человек схватил старика за лацканы, которые тут же порвались, так что пришлось еще раз вцепиться в пальто, и заорал ему прямо в лицо:
— Ты хочешь, чтобы я из тебя сейчас душу вытряс к чертовой матери? Я пока еще никого не бил, я…
Парень потряс старика, что навело его на мысль ткнуть кулаком, а когда ткнул, то начал пихать. После этого уже легко было и стукнуть, и вот на старика обрушился град побоев.
Он стоял, как человек, врасплох застигнутый бурей, и тщетно норовил прикрыться растопыренными пальцами от ударов, сыпавшихся ему на щеки, плечи, лоб, подбородок, а парень бормотал названия конфет и сладостей, выкрикивал марки сигарет и сигар. Старик упал на землю, перевернулся на бок и лишь слегка вздрагивал. Парень замер — и вдруг расплакался.
Услышав это, старик, который лежал, скрючившись от боли, убрал пальцы от разбитого рта, открыл глаза и с изумлением поглядел на молодого человека. Парень всхлипывал.
— Пожалуйста… — простонал старик.
Парень заплакал громче, слезы ручьем полились у него из глаз.
— Не плачьте, — сказал старик. — Не вечно же мы будем голодать. Мы заново отстроим города. Слушайте, я вовсе не хотел, чтобы вы плакали. Я хотел, чтобы вы только подумали. Куда мы идем, что мы делаем, что мы натворили? Вы били не меня. Вы хотели ударить что-то другое, а я просто подвернулся под руку. Смотрите, вот я встаю, сажусь. Со мной все в порядке.
Молодой человек перестал плакать и, моргая, смотрел на старика, который пытался изобразить улыбку на разбитых в кровь губах.
— Ты… ты не имеешь права вот так разгуливать, — сказал парень, — и делать людей несчастными. Я найду кого-нибудь, кто тебя образумит!
— Подождите! — Старик упал на колени. — Не надо! Но парень с диким криком уже бросился вон из парка. Старик в одиночестве стоял на коленях, превозмогая боль в каждой кости, и тут увидел собственный зуб — красный на белом гравии дорожки. Он с грустью взял его в руку.
— Дурак, — произнес чей-то голос.
Старик через плечо посмотрел вверх.
Неподалеку, опершись о дерево, стоял долговязый мужчина лет сорока. Его удлиненное лицо выражало одновременно сочувствие и любопытство.
— Дурак, — повторил мужчина. Старик открыл рот от изумления.
— Вы стояли здесь? Все время? И ничего не сделали?!
— А что, мне надо было драться с одним дураком, чтобы спасти другого? Ну уж нет. — Незнакомец помог ему подняться и отряхнул его. — Я дерусь только тогда, когда дело того стоит. Пошли. Мы идем ко мне домой.
Старик снова изумился:
— Зачем?
— Этот парнишка в любую секунду может вернуться сюда с полицией. Я не хочу, чтобы вас у меня похитили. Слишком уж ценное приобретение. Я наслышан про вас, разыскиваю вас вот уже несколько дней. Наконец повезло, и вот когда я почти достиг цели, вы откалываете свои любимые штучки. Что вы сказали парню, почему он так рассвирепел?
— Я говорил об апельсинах и лимонах, конфетах и сигаретах. Я совсем уж было собрался во всех подробностях вспомнить заводные игрушки и вересковые трубки, как он принялся тузить меня.
— Его трудно винить. В глубине души мне самому хочется как следует вам врезать. Ну, пошли, анахронизм. А то вон слышите: сирена. Быстро!
И они поспешно покинули парк по другой дорожке.
Старик пил домашнее вино, потому что это было легче всего. С едой придется подождать — уж слишком болел разбитый рот. Он отхлебывал вино, одобрительно кивая:
— Хорошо, огромное спасибо, замечательно. Незнакомец, который так быстро увел его из парка, сидел напротив за шатким обеденным столом, а жена незнакомца расставляла побитые и треснувшие тарелки на дырявой скатерти.
— Как получилось, что вас избили? — спросил наконец муж.
При этих словах жена чуть не выронила тарелку.
— Успокойся, — сказал муж, — за нами никто не гнался. Ну, давайте, дедушка, расскажите-ка нам, почему вы ведете себя, как святой, который жаждет мученической смерти? Ведь вы, представьте, знамениты. Многие хотели бы встретиться с вами. И в первую очередь я. Мне интересно было бы знать, что это вам неймется? Итак?
Однако старик был совершенно заворожен овощами, лежащими перед ним на щербатой тарелке. Двадцать шесть, нет, двадцать восемь горошин! Он все пересчитывал это невообразимое количество! Старик склонился над неправдоподобными овощами, как человек, погруженный в чтение своей самой сокровенной молитвы. Двадцать восемь роскошных зеленых горошин плюс еще несколько ниточек недоваренных спагетти красноречиво свидетельствовали, что сегодня дела идут великолепно. Однако под оптимистическим графиком, который вычерчивала тоненькая макаронина, линия трещины на тарелке говорила о том, что в течение многих лет жизнь была более чем ужасной.
Старик ушел в вычисления, нависнув над едой, словно нахохлившийся загадочный сарыч, непостижимым образом свалившийся в эту холодную квартиру. Хозяева-самаритяне довольно долго наблюдали за ним, и наконец он заговорил:
— Эти двадцать восемь горошин напомнили мне о фильме, который я видел в детстве. Там некий комик — вы знаете такое слово? — ну, смешной человечек среди ночи оказался в доме сумасшедшего и… Муж и жена негромко засмеялись.
— Нет, шутка заключается не в этом, простите, пожалуйста, — извинился старик. — Сумасшедший усадил комика за пустой стол — ни ножей, ни вилок, ни еды. «Ужинать подано!» — крикнул он. Опасаясь, что безумец его убьет, комик решил разыграть представление. «Грандиозно! — воскликнул он, притворяясь, что жует отбивную, овощи, десерт. У него во рту не было ни крошки. — Превосходно! — и глотал воздух. — Чудесно!» Э-э-э… теперь уже можно смеяться.
Но муж с женой не шевельнулись, лишь глядели в свои почти пустые тарелки.
Старик кивнул и продолжал:
— Комик, чтобы задобрить умалишенного, говорит: «А эти ваши персики в коньяке — прямо-таки умопомрачительны!» — «Персики? — заорал безумец, хватаясь за пистолет. — Да ты, я вижу, настоящий сумасшедший!» И застрелил комика.
За столом возникла тягостная пауза. В наступившей тишине старик поддел первую горошину, умиленно взвешивая ее на кривой оловянной вилке. Он уже совсем было собрался отправить ее в рот, как…
В дверь громко забарабанили.
— Специальная полиция! — раздался крик.
Вся дрожа, жена тихо спрятала лишнюю тарелку.
Муж спокойно поднялся из-за стола и подвел старика к стене; скользнула в сторону одна из панелей. Потом, когда старик сделал шаг вперед, панель так же бесшумно закрылась, а он остался стоять в темноте, вслушиваясь, как по ту сторону перегородки в квартире открывается входная дверь.
Раздались возбужденные голоса. Старик представил себе, как спецполицейский в темно-синей униформе с пистолетом в руке входит в комнату и видит лишь убогую мебель, голые стены, гулкий пол, покрытый линолеумом, окна, в которые вместо стекол вставлены картонки, — всю эту тонкую и грязноватую пленку цивилизации, покрывающую голый берег после того, как схлынула беспощадная штормовая волна войны.
— Я разыскиваю одного старика, — сказал за стенкой полицейский усталым голосом.
«Странно, — подумал старик, — нынче даже глас закона звучит утомленно».
— Одет в рванину…
«А мне-то казалось, что теперь все ходят в лохмотьях».
— Грязный. Примерно восьмидесяти лет…
«А кто сегодня не грязный, кто не старый?» — хотелось крикнуть старику.
— Если сообщите его местонахождение, вам гарантируется вознаграждение в размере недельного рациона, — донесся голос полицейского, — а кроме того, в качестве дополнительного поощрения десять банок консервированных овощей и пять банок консервированных супов.
«Настоящие жестяные банки с яркими печатными этикетками, — подумал старик. Консервные банки сверкающими болидами пронеслись в темноте перед его глазами. — Истинно королевская награда! Не десять тысяч долларов, не двадцать тысяч долларов, нет-нет, а пять фантастических банок — заметьте, настоящего, а не какого-то там эрзаца — супа! И еще десять — да вы только пересчитайте их! — драгоценных разноцветных баночек, может быть, даже с экзотическими овощами, ну, скажем, стручковой фасолью или солнечно-желтой кукурузой! Подумайте! Вообразите себе!»
Наступила долгая пауза, и старику даже показалось, будто он слышит отдаленное грозное урчание в желудках, пока что дремлющих, но грезящих об обедах; обедах более утонченных, чем запутанный клубок давних иллюзий — те давно уже исчезли вместе с прокисшей политикой, дурным сном растворились в долгих сумерках, которые наступили после Р и X — Разрушения и Хаоса.
— Суп. Овощи, — сказал полицейский в последний раз. — Пятнадцать полновесных консервных банок!
Хлопнула входная дверь. Затопали сапоги, удаляясь по обшарпанному коридору, заглядывая в другие двери, похожие на крышки гробов, дабы смущать и соблазнять других лазарей, сохранивших душу живу, чтобы они рыдали в голос о блестящих консервных банках и настоящем супе. Грохот шагов смолк. Ухнула на прощанье дверь парадного.
Наконец потайная панель с шуршанием отворилась. Муж и жена не смотрели на старика, когда он вышел из своего убежища, и он знал почему. Ему захотелось взять их за локти.
— Даже у меня самого появилось искушение выйти, назвать себя и потребовать вознаграждение, чтобы поесть супа.
Они все еще не решались взглянуть ему в глаза.
— Почему, — спросил он, — почему вы не выдали меня? Почему?
Муж, как будто вдруг что-то вспомнив, кивнул жене. Та направилась к двери, замешкалась; он нетерпеливо кивнул еще раз, и женщина выскользнула бесшумно, словно комочек паутины. Они слышали, как она что-то делала в гостиной, как тихонько подходила к двери, и когда осторожно открывала ее, до них доносился чей-то шепот и приглушенные голоса.
— Что она там делает? А что, кстати, вы затеваете? — полюбопытствовал старик.
— В свое время узнаете. Садитесь. Доедайте обед, — посоветовал муж. — Скажите лучше, почему вы такой дурак, что вынуждаете нас самих вести себя по-дурацки, разыскивая вас и приводя сюда?
— Почему я такой дурак? — Старик сел. Он жевал медленно, отправляя в рот с тарелки, возвращенной ему, по одной горошине. — Да, я дурак. С чего началась вся эта дурость? Много лет назад я однажды поглядел на наш рухнувший мир, на диктатуры, скукожившиеся государства и нации и спросил себя: «А что я могу сделать? Я, немощный старик, — что? Заново построить разрушенное? Ха-ха!» Но как-то ночью в полудреме у меня в голове заиграла старая граммофонная пластинка. Когда я был маленьким, две сестры по фамилии Дункан исполняли песенку, которая называлась «Воспоминания». «Все, что я делаю, — лишь вспоминаю, милый, и ты вспоминай, заклинаю!» Я напевал эту песню, но на самом деле это была не песня, а образ жизни. Что я мог предложить миру, который все позабыл? Свою память! Как это могло помочь? Путем введения, так сказать, стандарта сравнения. Рассказывая молодежи, как все это когда-то было, и тем самым демонстрируя наши потери. Я обнаружил, что чем больше я вспоминаю, тем больше я способен вспомнить! В зависимости от того, к кому я подсаживался, я вспоминал искусственные цветы, дисковые телефоны, холодильники, казу (вам когда-нибудь доводилось играть в казу?!), наперстки, велосипедные зажимы — не велосипеды, нет, а велосипедные зажимы! Один раз какой-то мужчина попросил меня вспомнить, как выглядела приборная доска у «кадиллака». И я вспомнил! Я рассказал ему во всех подробностях. Он слушал и горько плакал. От счастья или от горя? Не могу сказать. Я всего лишь вспоминаю. Не литературу, нет. У меня никогда не было памяти на пьесы или стихи. Они улетучивались из головы, умирали. Все, что я, в сущности, собой представляю, это куча посредственного мусора, третьесортного хромированного хлама и отбросов цивилизации, мчавшейся по скоростному треку и сорвавшейся в пропасть. Поэтому все, что я предлагаю, по сути дела — блестящий вздор, сверкающий утиль, нелепые механизмы нескончаемой череды роботов. Тем не менее так или иначе цивилизация должна снова выбраться на дорогу. Те, кто может предложить прекрасную, как бабочка, поэзию, пусть ее вспоминают и предлагают. Те, кто умеет ткать нити и плести сети для бабочек, — пускай ткут и плетут. По сравнению с этими двумя мой дар куда скромнее, и, возможно, на него посмотрят с презрением во время долгого карабкания и изматывающего подъема к старой дружелюбно-безобидной вершине. Но я должен тешить себя иллюзией собственной значимости. Потому что вещи, о которых люди вспоминают, как бы нелепы они ни были, это те вещи, которые они захотят снова вернуть. И тогда я своими воспоминаниями, как докучливый комар, как уксус, не дам затянуться язве их полуумерших желаний. И тогда, возможно, они снова запустят Большие Часы — а это город, государство и, наконец, весь мир. Пусть одному человеку захочется вина, другому — вытянуться в шезлонге, а еще кому-то — полетать на дельтаплане, чтобы почувствовать, как бьет в лицо мартовский ветер, и построить еще большие электроптеродактили, чтобы мчать навстречу еще более крепкому ветру. Кто-то захочет поставить дома кретинские рождественские елки, и какой-нибудь смышленый парень пойдет и срубит их. Сложите все это вместе, подходящее колесико сюда, необходимую шестеренку туда, — я тут как тут, чтобы смазать все это машинным маслом. Когда-нибудь на меня спустят всех собак и начнут кричать: «Только самое хорошее — хорошо, в расчет принимается только качество!» Однако розы растут на неаппетитном навозе. Должна существовать и посредственность, чтобы на этой почве могло цвести нечто совершенное. Поэтому я буду наилучшей из посредственностей и стану сражаться со всяким, кто заявляет: «Не высовывайся, ляг на дно, забейся в пыльный угол, похорони себя заживо и пусть твоя могила порастет сорной травой». Я буду бороться с этими блуждающими племенами обезьянообразных, со стадом людей-баранов, пасущихся и жующих свою жвачку на лугах, где на них охотятся волки — феодальные бароны-землевладельцы, которые засели в нескольких небоскребах и там, в заоблачной вышине, ублажают себя, пожирая давно забытые всеми деликатесы. Этих негодяев я убью консервным ножом и штопором. Я сброшу их вниз с помощью таких призраков, как «бьюик», «Киссел-Кар» и «Мун». Я буду хлестать их бичом из лакрицы, покуда они не завопят, прося пощады. Могу ли я действительно все это сделать? Во всяком случае нужно попробовать.
Заканчивая свою речь, старик подцепил с тарелки последнюю горошину и отправил ее в рот. Хозяин-самаритянин внимательно смотрел на него с выражением мягкого удивления, а в глубине дома были слышны чьи-то шаги, стук открывающихся и закрывающихся дверей, и создавалось впечатление, что за дверью этой квартиры идет какое-то многолюдное собрание. Наконец хозяин сказал:
— И вы еще спрашиваете, почему мы вас не выдали? Слышите, что происходит за дверью?
— Похоже, там собрались все обитатели дома.
— Все до единого. Послушайте, дедушка, старый вы дурак, вы помните кинотеатры… или, еще лучше, кино на открытом воздухе?
Старик улыбнулся:
— А вы сами-то помните?
— Довольно смутно. Смотрите… Послушайте, что я предлагаю. Сегодня, прямо сейчас — если вы намерены совершать глупости, если вы хотите рисковать, то делайте это не распыляясь, одним целенаправленным ударом. Стоит ли тратить силы ради одного человека, двух или даже трех, если…
Мужчина открыл дверь и кивнул. Молча, по одному и по двое в комнату стали заходить обитатели дома. Они входили в эту комнату, словно переступали порог синагоги или храма, или храма, известного под названием «кинотеатр», или кинотеатра под открытым небом, куда въезжали на машинах. День клонился к вечеру, солнце садилось, в предзакатных сумерках комната погружалась в полумрак, и в последних лучах уходящего дня вот-вот должен был зазвучать голос старика, и пришедшие будут слушать его, держась за руки, и это будет похоже на старые времена, когда люди сидели рядами в темноте или сидели в темноте в автомобилях, и будут вспоминать, слушая слова о кукурузе, слова о жевательной резинке, о прохладительных напитках и конфетах. Впрочем, это будут лишь слова, только слова…
Люди все прибывали, и старик с интересом разглядывал их, не в силах поверить, что это он, сам того не желая, заставил тут всех собраться.
Хозяин сказал:
— Разве это не лучше, нежели искушать судьбу где-нибудь на улице?
— Да, разумеется. Впрочем, вот что странно. Я ненавижу боль. Ненавижу, когда меня преследуют. Но мой язык движется сам по себе. И я должен слышать, что он говорит. Но так, конечно же, лучше.
— Вот и хорошо, — проговорил хозяин и вложил в руку старику красный билет. — Когда здесь все кончится, примерно через час, вы уедете. Эти билеты достает мне один друг, который работает в министерстве транспорта. Раз в неделю через всю страну отправляется поезд. Раз в неделю я достаю билет для какого-нибудь идиота, которому хочется помочь. Сегодня это вы.
На сложенной пополам красной бумажке старик прочитал название станции назначения:
— Чикагский Провал. — и спросил: — А что, Провал все еще существует?
— Поговаривают, что приблизительно через год озеро Мичиган может прорвать последнюю дамбу и образовать новое озеро в той впадине, где когда-то находился город. Сейчас там вокруг кромки кратера существует какая-то жизнь, и по железнодорожной ветке туда раз в месяц ходит поезд. Когда вы отсюда уедете, нигде не останавливайтесь и забудьте, что вы встречались с нами и вообще что-то знаете о нас. Я дам вам небольшой список наших единомышленников. Переждите какое-то время, отсидитесь, а потом вы сможете разыскать их там, в пустыне. Но ради Бога, хотя бы на год объявите мораторий: держите свой чудесный рот на замке. А вот, — мужчина дал ему желтую карточку, — направление к моему знакомому зубному врачу. Скажите ему, чтобы он вставил вам новые зубы, и пообещайте, что разжимать их вы будете лишь во время еды.
Несколько человек, слышавшие слова хозяина, засмеялись, и старик тоже тихонько захихикал. В комнате теперь было много народа, несколько десятков человек, наступал вечер, муж с женой заперли дверь и стояли около нее в ожидании уникального события — когда старик в последний раз соблаговолит открыть рот.
Старик встал со своего места.
В комнате воцарилась мертвая тишина.
С каким-то ржавым скрежетом, казавшимся особенно громким в ночи, к перрону, занесенному внезапно выпавшим снегом, подъехал поезд. Толпа плохо вымытых людей, подстегиваемая жестким ветром и осыпанная белой снежной пылью, брала приступом древние жесткие вагоны и растекалась по ним, проталкивая старика по коридору, пока не загнала его в какой-то закуток, некогда служивший туалетом. Мгновенно весь пол превратился в матрас, на котором в темноте копошились и ворочались шестнадцать человек, тщетно пытаясь заснуть.
Поезд мчался в белую пустоту.
Старик лежал и думал:
«Спокойно, заткнись, нет, ничего не говори, ни единого слова, нет, лежи тихо, думай, осторожно, прекрати!»
Его, вдавленного в стену, качало, трясло и швыряло из стороны в сторону. Ему и еще одному человеку не удалось лечь, и они занимали вертикальное положение в этой чудовищной клетушке. В нескольких футах от него, точно так же прижатый к стене, сидел восьмилетний мальчуган с болезненным бледным личиком. Он не спал и широко раскрытыми блестящими глазенками, казалось, следил за стариком. Он и вправду во все глаза смотрел на рот старика и не мог отвести глаз. Поезд стонал, скрипел, рычал, трясся, взвизгивал и бежал вперед.
Прошло полчаса, старик сидел, плотно сжав рот, словно он был забит гвоздями, в громыхающем вагоне, мчавшемся в ночи сквозь пургу. Еще через час он так и не разомкнул окостеневших губ. Еще час спустя старик почувствовал, что мышцы вокруг щек начали расслабляться. Через час он разжал губы и облизнул их.
Мальчик не спал. Мальчик смотрел. Мальчик ждал.
За окном в ночном воздухе кружились и падали на землю огромные хлопья тишины, которую дырявил мчавшийся лавиной поезд. Пассажиры, оцепенев от кошмарных снов, спали как убитые, однако мальчик так и не сводил глаз со старика, и наконец тот, слегка наклонившись, сказал:
— Ш-ш-ш. Малыш. Как тебя зовут?
— Джозеф.
Сонный поезд дергался и постанывал, словно какое-то чудовище, мучительно пробивающееся сквозь вневременную тьму навстречу невообразимо прекрасному рассвету.
— Джозеф, — повторил старик, как бы пробуя на вкус это имя, наклонился вперед и посмотрел на мальчика ясным и добрым взглядом. Лицо его было печальным и красивым, а глаза так широко открыты, что могло показаться, будто он слепой. Он всматривался во что-то далекое и сокровенное.
Старик чуть слышно кашлянул, прочищая горло. Поезд мучительно заскрипел на повороте. Забывшиеся тяжелым сном люди заворочались.
— Так вот, Джозеф, — зашептал старик. Он тихонько пошевелил в воздухе пальцами. — Однажды…