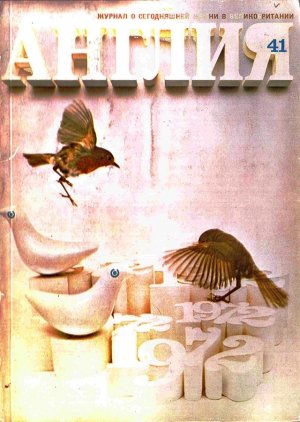
Кристофер Ишервуд. Я жду
РАССКАЗ КРИСТОФЕРА ИШЕРВУДА
Я ЖДУ
[I Am Waiting, New Yorker, 21 Oct 1939]
События, о которых я собираюсь рассказать, произошли на самом деле. Но это не имеет значения: я не могу представить вам никаких доказательств. Но крайней мере — в ближайшие пять лет. А к тому времени вы. вероятно, забудете, что вообще читали мой рассказ. Так что хотите верьте, хотите — нет, как вам угодно.
Я назову себя Уилфредом Смитом. Я потому выбрал это имя, что оно довольно хорошо передает мою сущность, гораздо лучше, чем мое собственное. «Уилфред» предполагает (не согласны ли вы?) определенную мягкость характера, отсутствие напористости, сочетающееся с утонченностью интеллекта. Это что-то невыразительное, безобидное и слабое. «Смит» — незаметная, безликая фамилия. Все эти определения подходят ко мне.
Сегодня, 25 июля 1939 года — день моего рождения. Пожалуй, вы — да и кто угодно — могли бы назвать меня неудачником в мои 67 лет. Я не сделал карьеры, и на моем счету нет никаких выдающихся достижений. Я никогда не слыл ни остряком, ни умным человеком, ни знатоком чего-то. Никогда не был женат, да, по правде, и не могу сказать, чтобы кто-нибудь когда-нибудь меня любил, хотя найдется, верно, с полдюжины людей, которые испытывают ко мне известную привязанность. Не могу я и утверждать, чтобы я был воплощением скромной, не оцененной по достоинству добродетели. Я всего лишь довольно эгоистичный и довольно приветливый старый холостяк, который счастлив, когда после хорошего обеда сидит со своей трубкой и книжкой, но всего счастливее, когда лежит в постели в полусонном состоянии.
Я живу в уютном доме на окраине провинциального города, в западной части Англии. Дом принадлежит моему младшему брату, энергичному, преуспевающему стряпчему. Мэйбл, жена моего брата, в общем очень добра ко мне — до тех пор, пока я стараюсь соблюдать порядок и не торчать без нужды на виду. У них три сына. Все взрослые. Все женаты. Они часто приезжают к нам вместе с женами. Все они называют меня дядя Уилфред, просто Уилфред или Уилф. Я думаю, они хорошо относятся ко мне. А почему бы и нет? Я не живу на чужой счет: из небольшого состояния, доставшегося мне по наследству, я оплачиваю стол и квартиру и стараюсь не очень докучать людям, хотя и знаю, что временами я довольно-таки скучен.
Когда-то давным-давно я мечтал, что, может быть, смогу стать сносным писателем. Сотворил какие-то стихи, несколько рассказов, но ни одно из моих сочинений не было напечатано, и я давно излечился от этих фантазий. Сейчас у меня нет ровно никаких хобби и развлечений. Я так никогда и не научился играть в гольф — наверное, отчасти потому, что в него великолепно играл мой брат. Я не в состоянии запомнить правил простейшей карточной игры, а в шашки меня легко может обставить даже семилетний ребенок.
Подобно многим другим пожилым людям в нашей стране, не имеющим никаких занятий, я провожу слишком много времени за чтением газет и у радиоприемника. В результате за последние десять лет я заболел хроническим беспокойством. Будущее, диктаторы, войны и слухи об этих войнах вызывают у меня бесконечное беспокойство. Видит бог, мы живем в чрезвычайно серьезное время. А последние политические события заставили призадуматься самых заядлых оптимистов. Но мои тревоги совсем иного рода, чем у них; менее практического, более невротического свойства. Я с грустью вынужден признать, что это неизлечимая душевная болезнь. Если бы в одну ночь каким-то чудом вдруг исчезли все реальные основания для тревог, я уверен, что все равно не смог бы выздороветь. Я по-прежнему беспокоился бы даже в золотом веке.
Что же касается той истории, которую я собираюсь вам рассказать, мне надлежит лишь добавить, что никогда, ни в какой период моей жизни у меня не было оснований считать, что я обладаю сверхъестественными психическими способностями. Я никогда не проявлял особого интереса к спиритизму, астрологии или оккультным наукам. И о работах профессора Эйнштейна имею не больше понятия, чем любой полуобразованный человек.
В пятницу, 6 января этого года — я могу точно назвать дату, потому что это случилось на следующий день после празднования годовщины свадьбы моего брата, — я сидел у нас в гостиной. Один. Все остальные поехали в город смотреть кино, поэтому я мог с полным удовольствием вытащить свое кресло на самую середину разостланного у камина ковра и усесться прямо против огня, единолично завладев им. Любой человек, которому приходится жить с другими людьми, знает, как восхитительны эти редкие и тайные удовольствия.
С этого места мне было видно лишь то, что находилось прямо передо мной: каминная решетка, каминные щипцы, пылающие в камине угли, каминная доска и висевшая над ней картина, цветная репродукция картины Тициана «Нимфа и пастушка». Было примерно без двадцати девять вечера. Я помню это, потому что непрерывно поглядывал на стоявшие на камине часы, чтобы не прозевать включить радио и послушать сводку новостей.
Эти часы — свадебный подарок, который преподнесли брату его сослуживцы. Они сделаны из фарфора и считается, что они вроде бы представляют какую-то ценность. Юноша и девушка в крестьянских костюмах держат в руках корзину с пурпурными и зелеными плодами, среди которых и помещаются сами часы. Брат говорит, что они отвратительны, и вероятно они много лет назад вместе с другими свадебными подарками были бы отправлены в чулан, но моей невестке они нравятся. Она находит их «занятными» — так что они остались и стоят.
Наверное, я задремал, как это часто случается со мной. Во всяком случае, я закрыл глаза. Открывая же их снова, я сильно вздрогнул, как будто кто-то назвал меня по имени. Может, все неожиданно рано вернулись. Нечто подобное промелькнуло у меня в голове, но я не обернулся. Не знаю, почему. Все мое полусонное внимание было приковано к часам. И я тотчас же заметил — у фарфоровой фигурки крестьянского паренька отсутствовала кисть левой руки.
Мне очень трудно в точности передать, что я испытывал в этот миг. Трудно потому, что для этого мне нужно мысленно перенестись в то время, когда это открытие не имело особого значения. Я видел только, что кисть отбита, подумал, как давно она отбита, и подивился тому, что не заметил этого прежде. Мэйбл рассердится, подумал я, и тут во мне проснулся страх, что, может, это я каким-то образом отбил ее во сне. Я протер глаза, да вдруг так и выпрямился в кресле. Я заморгал глазами. Какая нелепость! Должно быть, я видел сон, потому что теперь, когда я совсем проснулся и рассмотрел часы, я увидел, что ошибся. С часами вовсе ничего не случилось: фарфоровая ручка, целая и невредимая, по-прежнему находилась на своем месте.
Как-то, примерно неделю спустя, я гулял утром по саду, когда Мэйбл вышла из дому с выражением крайней досады на лице.
— Уилфред, — сказала она. — Боюсь, мне все-таки придется уволить Анни.
Анни была наша новая служанка, и она не очень успешно справлялась со своими делами.
— Почему? — спросил я. — Что она такого натворила?
— Ты представляешь! — воскликнула Мэйбл. — Эта девица хуже всякого слона. Умудрилась разбить часы в гостиной. Говорит, она вытирала с них пыль. Наверное, она делала это кувалдой.
Но я уже мчался мимо нее, к дверям, которые вели из сада прямо в гостиную. Едва ли я сознавал, почему я был так взволнован. Войдя в комнату, я увидел то, что смутно ожидал увидеть: левая ручка фарфорового паренька была отбита у запястья.
Человеческая память хитрее искуснейшего министра пропаганды. Она устанавливает строжайшую цензуру в отношении неприемлемых для нас фактов, а потом, много недель и даже месяцев спустя, когда подвернется подходящий случай, воспроизводит их вновь. Уже через полчаса после того, как Мэйбл показала мне поврежденные часы, я напрочь забыл о своем сне. В тот же вечер, сидя в одиночестве у камина, я рассматривал фигурку паренька с отбитой рукой так, словно мне о нем ничего не было известно. Назавтра ручку приклеили; трещина была почти незаметна, и не осталось ничего, что напоминало бы о случившемся. И все же, когда пришло время вспомнить, я вспомнил все, вплоть до мельчайших подробностей, как вы сами сможете в том убедиться.
Второй раз это произошло в понедельник, 20 февраля, в одиннадцать часов двадцать пять минут утра. Я был у себя в спальне, у книжного шкафа, который стоит в углу за кроватью. Мэйбл, насколько я знаю, находилась в кухне вместе с кухаркой. Служанка прибирала в ванной. Брат был на службе. И у нас не гостил никто из моих племянников.
Было серое утро. Хотя оттуда, где я стоял, я не видел окна, по стуку капель о стекло я догадался, что пошел дождь. Я только что решил полистать «Кольцо и книгу». Я очень люблю читать Роберта Браунинга.
Когда я протянул к книге руку, я испытал какое-то странное ощущение, которое мог бы сравнить лишь с острой ревматической болью. Не могу однако сказать, чтобы оно было по-настоящему болезненным. Оно охватило все мое существо. Дрожь пробежала по моему онемевшему телу, на лбу выступила испарина. Но несмотря на силу приступа, я не переменил своей позы. Я так и стоял с протянутой рукой, словно оледеневший. То, что произошло вслед за этим, длилось не больше минуты. Может, оно заняло всего несколько секунд.
Сначала я заметил только изменение настроения, которое очень трудно передать. Мне сделалось светлее, счастливее — словно какая— то тяжесть свалилась у меня с души. Да, светлее, это самое точное слово, потому что вся моя комната и в самом деле была залита светом, ярким солнечным светом, от которого на стену, над книжным шкафом, легли тени. Я ощущал его тепло на своих руках и затылке.
Стоя так, я начал не только ощущать и видеть, но и слышать. Снизу, из сада в окно доносились разные звуки. Я слышал смех, говор и стук теннисного мяча, летавшего над сеткой. Потом один голос, звучавший гораздо отчетливее других, выкрикнул: «А ну, Джойс! Задай им жару. Они уже трещат». Это был мой самый младший племянник. А Джойс — его невестка, жена моего старшего племянника.
Никакими словами не в силах я описать, насколько странными показались мне эти привычные слова и звуки. Я слушал их, как мертвец мог бы слушать голоса живых. Они раздавались совсем близко и все же так неизмеримо далеко. «Хитро! Очень хитро!» — услышал я возглас Джойс. И Боб, мой старший племянник, отрезал: «У, корова, во что ты, по-твоему, играешь — в пинг-понг?»
И это все. В следующий миг контакт — или как бы вы там его ни назвали — оборвался. Пальцы коснулись книги, и вот я снова включился в серый и такой понятный процесс нормального сознания. За моей спиной дождь хлещет по стеклу, а вокруг — свет февральского утра. Я слышал, как, выйдя из ванной, служанка стала спускаться по лестнице.
Не помню точно, что я сделал дальше. Мне кажется, что я, наверное, несколько раз прошелся по комнате взад и вперед, остановился и посмотрел в окно вниз, на мокрый корт и безлюдный сад. Я был глубоко взволнован и встревожен. Хотя я еще не совсем ясно представлял, что со мной случилось, я понимал, что что-то случилось, что-то непонятное, но такое громадное, отчего весь остальной мой жизненный опыт казался ничтожным. От этого нельзя было спокойно отмахнуться, как в первый раз, сказав, что это сон. На один миг моему затуманенному взору и смятенным чувствам действительно открылась какая-то иная сфера реальности. Было это будущее? Или прошлое? Или ни то, ни другое? Я не мог этого сказать. Я знал только то, что я видел и слышал. Это я точно записал в том виде, в каком описываю и теперь. Когда я кончил, я почувствовал страшную усталость, лег в постель, крепко заснул и проспал до ленча.
После этого я стал похож на человека, который пытается отыскать в книге полузабытое им место. Мне как будто назначили встречу с определенным мгновением времени. Смогу ли я отыскать его, и станет ли оно искать меня? Если я действительно совершил путешествие в будущее, а не в прошлое, мне, очевидно, придется подождать несколько месяцев. Но было очень трудно набраться терпения.
В конце мая к нам приехал мой самый младший племянник Джек, который собирался пробыть у нас две недели. Наступила прекрасная погода, и корт был уже приведен в порядок. Стоило кому-нибудь заговорить о теннисе, и я, который никогда не интересовался этой игрой, чувствовал, как у меня от волнения начинал сильно биться пульс, как я ни старался успокоиться. Но где же остальные участники странной, маленькой и бессмысленной драмы, которую я надеялся увидеть? Я то и дело спрашивал брата и Мэйбл, не ожидают ли они приезда Боба и Джойс. Они говорили, что нет, пока не ожидают. Боб, присяжный бухгалтер, проводил ревизию в Портсмуте. Невероятно, чтобы он навестил нас до августа.
В субботу 3 июня я возвращался автобусом из соседнего города, куда ездил за покупками. Было примерно без четверти три. Я услышал из сада невнятный гул голосов и решил проскользнуть в дом с заднего хода, не желая встречаться с гостями, кто бы они ни были, в разгоряченном и грязном с дороги виде, да еще увешанный свертками. Не встретив никого, я поднялся по лестнице к себе. В местной букинистической лавке я купил несколько книг, и моей первой мыслью было заняться их распаковкой. Я пошел к шкафу, и тут до меня снизу, с лужайки донесся голос Джека, назвавшего счет:
— По пятнадцати!
Незнакомый мне женский голос воскликнул:
— Вот негодяй, так нечестно!
— Здорово сыграно!
— Поганый!
— Нечего разводить тут такие штучки, будто ты играешь на чемпионате!
— Черт возьми!
— А ну, Джойс! Задай им жару! Они уже трещат!
Вот оно, мое мгновение. И в то самое время, когда я с быстротой и легкостью узнал его, оно стремительно пронеслось мимо и умчалось прочь. Задолго до того, как я сообразил броситься к окну, актеры произнесли свои знакомые слова. Представление окончилось. Выгляв в сад, я увидел внизу Джека, Боба, Джойс и незнакомую девушку, которые, заканчивая игру, болтали и перебрасывались шутками через сетку. Девушка была подругой Джойс. И, как я потом обнаружил, она приехала с ними на машине из Портсмута, когда Боб решил неожиданно навестить нас. Он приехал на уик-энд.
Так вот оно что — и как мне это понять? Если бы только у меня были более веские доказательства! Если бы голоса, которые я слышал в то февральское утро, назвали что-то более достойное упоминания, более доказательное! Джек мог хотя бы упомянуть победителя регаты Оксфорда и Кембриджа. Боб мог бы назвать какие-нибудь цифры на фондовой бирже. Что-то такое, за что можно зацепиться, что-то неопровержимое. Вопреки всякой логике, я был, по правде говоря, ужасно разочарован. Наверное, я ожидал чего-то великого от этих своих мгновений. Ведь безусловно такие откровения не преподносятся нам без всякой цели? Как ни банальны были эти слова, они должны были возвестить о каком-то космическом событии, какой-то громадной катастрофе или явлении природы. А вместо этого — ничего. По— прежнему сияет солнце, по-прежнему поют птицы. Небеса не разверзлись. И все мы сидим тут и пьем чай.
Я всматривался в лица своих родственников, такие обнадеживающе знакомые, и новые сомнения нахлынули на меня. Допустим, я мог с абсолютной точностью предсказать определенную комбинацию слов, которую они произнесут в какой-то летний день, что в этом в конце концов такого уж замечательного? Разве не может любой человек, наделенный хоть какой-то способностью схватывать языковые приметы, сделать то же самое в отношении людей, которых он так хорошо знает? Конечно, ощущение, которое я пережил тогда очень живо, потребовало крайнего обострения чувств. В своем воображении я создал сцену, которая, возможно, по чистой случайности, была потом разыграна в настоящей жизни. Все это очень странно. Но происходит масса странных вещей. Они ничего не доказывают. Нет, если я хочу быть уверен, я должен ждать.
Ждать мне пришлось недолго.
Почти ровно две недели спустя, в воскресенье 18 июня, во второй половине дня я отправился в чулан в поисках старых фотографий. Чулан находится наверху и там нет никаких окон, кроме слухового. Он весь заставлен поломанной мебелью, картонными коробками и старыми сундуками. Сидевшая в гостиной Мэйбл заставила меня пообещать, что я оставлю все в точно таком же виде, в каком нашел. Еще она сказала мне надеть один из ее фартуков.
Размышляя, с чего начать поиски, я решил остановиться на сильно потрепанном саквояже со множеством наклеек, который выглядел достаточно большим и старым, чтобы в нем мог уместиться весь семейный архив. Я сдунул с него пыль и, опустившись на колени, расстегнул застежки и ремни. Не успел я это сделать, как его содержимое посыпалось на пол. Едва не лопавшийся саквояж был доверху набит бумагами, счетами, старыми номерами журналов, театральными программами, газетными вырезками, бальными книжечками, меню с чьими-то автографами и всевозможными другими восхитительными реликвиями, из которых многие относились еще к концу прошлого столетия. В восторге я принялся разглядывать все эти сокровища, совершенно позабыв о первоначальной цели поисков. За этим занятием я провел, наверное, около четверти часа.
Я все еще сидел, склонившись над бумагами, когда у меня начался приступ.
На этот раз я испытал иные, несравненно более сильные ощущения. У меня зазвенело в ушах, руки и ноги окоченели и, казалось, будто у основания позвоночника меня, подобно удару электрического тока, поразила конвульсия. Все мои чувства, словно в приступе сильного головокружения, завертелись в бешеном водовороте. В полуобморочном состоянии, с трудом переводя дыхание и уже теряя сознание, я едва успел подумать: «Сейчас это снова случится!» — и закрыл глаза.
Не знаю, сколько продолжался обморок. Возможно, очень недолго. Постепенно напряжение в руках и ногах спало, голова прояснилась и я начал глубоко и свободно дышать. Блаженное чувство облегчения. С огромной осторожностью я открыл глаза и огляделся по сторонам.
В те первые два раза, когда со мной это случалось, я как бы погружался в состояние помрачения. Сейчас происходило нечто противоположное. Я чувствовал то, что может чувствовать человек, пробуждаясь от дурного сна. Я был в полном сознании — право, моя голова работала даже с неестественной легкостью. Тело казалось легким и подвижным. Зрение — удивительно острым. Только сердце, охваченное сильным и все возраставшим волнением, билось чаще обычного.
Сначала я с трудом узнал комнату, в которой находился. Это была все та же комната, только на этот раз совершенно пустая. Бумаги, сундуки, мебель — все это исчезло куда-то. Пол, на котором я стоял на коленях, был очень чистый; видно, его недавно мыли, и в углах не было никакой паутины. Я взглянул на слуховое окно и увидел над головой клочок ясного неба. Свет был очень ярким, и можно было заключить, что дело происходит ранним летним утром.
В течение нескольких минут я не шевелился. Я почти не смел, боясь оборвать это приключение. К тому же мне было нужно время, чтобы привыкнуть к обстановке и подумать. Как я уже сказал, у меня была совершенно ясная голова. Я даже удивляюсь тому, как быстро я смог освоиться со своим трудным положением. Нет сомнения, я совершил настоящее путешествие во времени — либо в будущее, либо в прошлое. Меня, как котенка, взяли за загривок и перенесли куда-то. Но куда? «Когда я существую?» — спрашивал я себя, и вопрос этот вызвал у меня смех.
Конечно, я испугался, но я был гораздо сильнее взволнован, чем испуган. Поэтому, будь что будет, решил я, но я непременно узнаю, где очутился. За стенами этой комнаты идут другие комнаты. Там люди. Там целый мир. Какой это мир? Какие люди? Я должен это узнать. И, поднявшись на ноги, я совершил, безусловно, самый смелый поступок всей моей жизни. Я прошел через всю комнату и повернул ручку двери.
Она была заперта.
Это нанесло неожиданный и оглушительный удар всем моим надеждам. Какое-то время я стоял и глупо вертел в руке ручку двери. Потом принялся с грохотом дергать ее и стучать кулаком в дверь. И наконец, громко завопил:
— Выпустите! Выпустите меня отсюда!
Ответа не было, и через некоторое время я затих. Бесполезно кричать — дом, наверное, пуст.
Медленно вернулся я на середину комнаты. Теперь сердце у меня билось так часто, что я чуть не задыхался. В голове со скоростью локомотива проносились мысли. «Я должен выбраться отсюда!» — твердил я самому себе. Я взглянул на слуховое окно: слишком высоко и туда не на чем залезть.
С детства я привык, пусть не всегда охотно, восхищаться необыкновенной ясностью ума моего брата. Теперь, стоя тут совершенно беспомощный, я спрашивал себя, что сделал бы он, который никогда и нигде не теряется, окажись он на моем месте. Как и всегда, он занялся бы изучением всех доступных ему фактов, как бы они ни были скудны. Что ж, я тоже воспользуюсь этим методом. Не может ли эта пустая комната дать ключика к разгадке? И я принялся фут за футом обследовать ее оком детектива-любителя.
Тут я и совершил свое великое открытие. В темном дальнем углу у плинтуса валялись скомканные и грязные листки бумаги. Усевшись на пол, я разгладил их дрожащими руками. Это были страницы, вырванные из середины какого-то журнала. Я прочел его название — «Птицевод-любитель». И дату — июль 1944 года.
Только археолог может представить, какое волнение охватило меня в этот момент. Вот он, мой Розеттский камень.[2] Вот то ненадежное, но драгоценное звено, которое сможет связать известное мне настоящее с необъятными просторами будущего, которых нет ни на одной карте. Вот он, доподлинный крохотный клочок самого этого будущего, который я могу потрогать своими сегодняшними пальцами. Он изготовлен людьми, которым не составит труда ответить на многие жгучие вопросы, ставящие в 1939 году в тупик мудрейших среди смертных. Ведь те, кто издал этот журнал, безусловно, оставили здесь хоть крупицу своих знаний? Дрожа от нетерпения, я начал читать.
Наверное, это было очень глупо с моей стороны. Наверное, мне следовало с самого начала понять полную бесполезность моих поисков. Но я был слишком возбужден, чтобы рассуждать. Мой мозг с криком задавал мне вопросы: «Была ли война? А революция? Что происходит в Европе? В Китае? На Ближнем Востоке?» А люди будущего, словно насмехаясь над моим нетерпением, отвечали лишь: «Довольно затруднительно дать точные размеры птичьих клеток, поскольку при их устройстве часто приходится приспосабливаться к тому помещению, которым располагает тот или иной любитель птиц. Однако в общем и целом они должны быть не меньше 95 см в длину, 30–40 см — в высоту и 30 — в ширину...»
Если говорить об информации, которую я почерпнул из «Птицевода-любителя», то журнал мог с равным успехом издаваться на турецком или японском языке.
Тем не менее я с отчаянным упорством продолжал читать его.
«У нас есть самка чижа, которая очень привередничала во время кормления юного потомства, пока совершенно случайно мой отец не сунул в клетку мучного червя (оторвав ему сначала голову) и не дал его ей, когда она грела птенцов».
«Если бы кому-нибудь удалось заставить зябликов кормить своих птенцов исключительно подходящей для них мягкой пищей, составленной на основе действительно научно обоснованных рецептов, многим нашим заботам пришел бы конец». («Многим нашим заботам» — еще бы! Я проклинал слепую одержимость этого маньяка.)
«В связи с создавшимся сейчас положением («Ну, наконец! — подумал я. — Теперь-то мы напали на какой-то след!») мы вынуждены отложить июньскую конференцию Восточно-чеширского общества любителей птиц». Я продолжал с жадностью читать, но обнаружил лишь то, что общество временно прекращает свою деятельность в связи с кончиной в последнее время трех самых видных его членов.
Я все читал и читал, узнавая всевозможные и в высшей степени уместные здесь, но бессмысленные факты: что по ножкам канарейки можно иногда определить ее примерный возраст, что тонкая жердочка удобнее всего для птиц, охватывающих лапку веткой с одной стороны, и что среди зеленушек облысение — довольно обычное явление. Эти надоедливые подробности навсегда врезались мне в память. Но нигде — нигде — не мог я отыскать следов какого-то более широкого смысла. И торопливо пробегая глазами последние строки текста, я в глубине души уже знал, что и без того слишком засиделся тут.
— Ну, пойдемте, — словно что-то шепнуло мне на ухо. — Пора. Вы должны возвращаться назад.
— Нет, нет! — протестовал я. — Погодите! Дайте еще хоть минутку!
Но звон у меня в голове становился все громче, глаза быстро застилались туманом. С трудом разбирал я последние фразы: «Недостаток времени, к сожалению, не позволил мне посетить любителей птиц из Хай-Уикома, но я надеюсь в будущем нанести им ответный визит. А пока мне хотелось бы только добавить...»
Все почернело. Сжимая в кулаках клочок бумаги, как истертую спасательную веревку, я погрузился в забытье.
Когда я вновь пришел в сознание, то увидел, что лежу в постели, в своей собственной комнате. Рядом тревожно хлопотала Мэйбл. Это она, поднявшись наверх, чтобы позвать меня к чаю, обнаружила меня в чулане, где я лежал на полу без сознания.
— У меня было что-нибудь в руках? — спросил я ее, и она ответила:
— Да. Ты все прекрасно нашел. Разве ты не помнишь?
— Нашел? — глупо повторил я.
— Ну да. Фотографии. Одна сильно помялась, но я разглажу... А теперь тебе не надо больше разговаривать. С минуты на минуту будет доктор.
Когда прибыл доктор, он не смог обнаружить ничего существенного. Он посоветовал как следует отдохнуть, а потом — ненадолго — съездить на море. И ему и Мэйбл не терпелось узнать, при каких именно обстоятельствах со мной произошел этот обморок. Я отвечал на их вопросы как можно туманнее. Разумеется, я решил не говорить им ничего. У меня нет никакого желания кончить жизнь в сумасшедшем доме.
И вот теперь, пожалуйста, я жду, что будет дальше. Иногда мне страшно: но в целом мне удается совершенно по-философски смотреть на все это дело. Я отлично сознаю, что следующее такое приключение — если оно только будет — может оказаться для меня последним. Условия путешествия во времени, возможно, окажутся слишком тяжелыми для моего престарелого организма. Наверное, мне не перенести этого путешествия. Но из-за этого я бы не отказался от него, даже будь у меня такая возможность. Что еще из пережитого человечеством может сравниться с ним? Для чего еще осталось мне теперь жить? Так пусть мое мгновение призовет меня, когда придет пора, в любое время, в любом месте. Я готов.