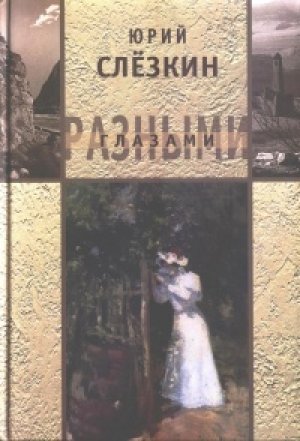
О Юрии Слёзкине и его романе «Ольга Орг» [1]
Автор предлагаемого романа Юрий Львович Слёзкин (1885—1947) ныне почти забыт. ‹…›
‹…›
Сын генерал-лейтенанта, участника Русско-турецкой войны 1877—1878, он не был ярым приверженцем существовавшего в России строя и, несмотря на близость многих своих родственников ко двору и вообще к высшим кругам общества (тетка его была фрейлиной ее императорского величества, а дядя, жандармский генерал, начальником жандармского управления Петербурга),— он стремился во всем разобраться сам, и потому одна из его первых повестей «В волнах прибоя» (1906) о революции 1905 г. была запрещена цензурой, а автор был осужден на год заключения в крепости, от чего его уберегли лишь родственные связи.
‹…›
‹…› Появившийся в 1912 году на страницах журнала «Русская мысль» роман «Помещик Галдин», а в 1914 году в этом же журнале роман «Ольга Орг» делают имя Слёзкина широко популярным. «Ольга Орг» за короткий период выдержала до десятка изданий и была экранизирована.
«Этот роман и стал как бы вершиной, определяющей меня как писателя в это десятилетие,— писал позже Слёзкин в дневнике.— Несмотря на многие недостатки,— продолжал писатель,— он сыграл в то время значительную роль, оказался не только явлением художественного, но и общественного порядка» [2].
Роман действительно стал общественным явлением. Его обсуждали, по нему велись дискуссии, его перевели на немецкий, итальянский, польский, чешский, финский, шведский языки.
Заслуга автора состояла в том, что он показал в литературе новый тип девушки, новую героиню эпохи крушения идеалов буржуазного общества. Обнаружив фальшь, лицемерие буржуазной морали, гимназистка Ольга Орг, дочь крупного губернского чиновника, сбрасывает ее оковы, но перед ней нет ни путей, ни идеалов: «Я ходила в гимназию, учила физику, историю, потому что их нужно было знать для ответа… К чему нас готовят, мы не знаем… Мы ничего не умеем… Нас балуют с детства, потом посылают в гимназию, чтобы мы получили диплом и были, как все. Мы… не знаем, что с собою делать. Потом нас выкидывают на улицу или стараются выдать замуж… И вот у меня нет дороги, никогда не было».
В статье Е. Колтоновской, появившейся вскоре после публикации романа, была верно схвачена мысль, которую несло произведение Слёзкина: «Жутко и страшно. На хрупкие и слабые плечи детей взвалена громадная тяжесть — ковать новые формы, создавать новые ценности, воздвигать маяки. Уходящие отцы ничего не оставляют им в наследство, кроме груды развалин… Это быстрое крушение моральных ценностей сытого буржуазного общества, логика его традиций — болезненно переживается молодыми представителями среды, не впитавшими в себя еще новых ценностей…»
Очевидно, именно этот роман создал Слёзкину репутацию «эротического» писателя, что было далеко от истины и вовсе не соответствовало его нравственному и творческому облику. Даже А. М. Ремизов полагал, что Слёзкин близок к порнографическому течению в литературе начала XX века. Так, говоря о целомудренности писателя Бориса Пантелеймонова (1888—1950), он писал: «Он взялся прочитать мне самую живую страницу из Юрия Слёзкина — и так читал! — давясь и краснея» [3].
Подобными заблуждениями и домыслами, по большей части необоснованными, полна как упомянутая статья Т. Исмагуловой, так и многие другие работы советских литературоведов, касавшихся творчества Слёзкина.
Л. Е. Белозерская-Булгакова, вспоминая много лет спустя о своем первом знакомстве с писателем в 1924 году, отмечает как само собой разумеющееся его известность: «А вот Юрий Слёзкин. Неужели это тот самый, петербургско-петроградский любимец, об успехах которого у женщин ходили легенды? Ладный, темноволосый, с живыми черными глазами, с родинкой на щеке на погибель дамским сердцам… Он автор нашумевшего романа „Ольга Орг“. У героини углы рта были опущены „как перевернутый месяц“, и девушки сходили с ума и делали кислую гримасу, стараясь подражать перевернутому месяцу» [4].
‹…›
Мировая война, революция, Гражданская война… Для многих дореволюционных деятелей культуры эти эпохальные события становились переломным моментом, а иногда и крахом. Не все смогли сразу осознать и суть происходящих событий, и их направленность, и их неизбежность, необходимость.
Не сразу пришел к полному пониманию и Юрий Слёзкин. ‹…› как многие представители старой интеллигенции, он проходит через чистилище сомнений, раздумий, ошибок и срывов. Коротко свой путь в первые послереволюционные годы Слёзкин представил так: «от сотрудничества в „Нашей газете“ и „Вечерних огнях“ — к „Крестьянской коммуне“, от скепсиса — к революционной восторженности, от организации Союза деятелей художественной литературы — к бегству за белым хлебом в Чернигов, от заведования подотделом искусств (вполне искреннего — с отдачей себя целиком) — к глупейшему сотрудничеству в „Вечернем времени“ и снова налево» [5].
‹…›
В 20-е годы Юрий Слёзкин пишет одно за другим произведения, посвященные недавним пережитым событиям и сегодняшнему дню,— роман «Столовая гора» (1922), повесть «Шахматный ход» (1923), роман-памфлет «Кто смеется последним» (1924); повести «Разными глазами» (1925), «Бронзовая луна» (1926), «Козел в огороде» (1927). В 1928 году выходит роман «Предгрозье» — первый вариант первого тома трилогии «Отречение».
В 1929—1930 годах на современном материале Слёзкин создает пьесы «Ураган» и «Пучина», поставленные в театре б. Корша и им. Е. Вахтангова.
Кроме того, за эти годы опубликовано десятка полтора рассказов.
‹…›
Затравленный рапповской критикой, которая видит в нем чужака, сомнительного попутчика, Слёзкин все-таки продолжает работать. С конца 20-х его перестают печатать. Издательства отклоняют его рукописи. Из репертуаров театров исключаются его пьесы, более пяти лет не издают его книги.
Он вынужден обратиться, подобно многим другим писателям, с письмом к Сталину. Слёзкин подчеркивает, что все его творчество отдано родине, народу, что хочет быть полезен. Неизвестно, получил ли это письмо Сталин, но резонанс все же был. Писателя пригласили в ЦК, и через некоторое время рукопись первого тома эпопеи «Отречение», произведения, которое Слёзкин считал главным делом своей жизни, была принята к печати.
В эпопее автор хотел отразить эпоху, XX век со всеми его потрясениями.
‹…›
Над эпопеей Слёзкин работал до конца своей жизни. В суровые годы войны он увидел свой патриотический долг в том, чтобы выдвинуть на передний план третьего тома фигуру Брусилова. Некоторые главы романа печатались во время войны. Отдельной книгой роман «Брусилов» вышел в марте 1947 года. В нем реализовалось все, к чему стремился Слёзкин на протяжении писательской жизни,— слились воедино мысль, идейная ясность, художественное мастерство.
Ольга Орг
Часть первая
Cette fois, le roi décréta la peine de mort, contre tout père de famille que oublierait, à l’avenir, de confier le crâne de ses enfants.
V i l l i e r s d e L’ I s l e–A d a m. Le Navigateur sauvage [6] {1}
Les premiers froids, comme les premiers malheurs de la vie, saisissent le plus vivement: c’est qu’ils flétrissent les feuilles et les espérances.
G u s t a v e D r o u i n e a u. «L’Ironie [7] {2}
Белые, мягкие хлопья снега тайно, неслышно и быстро устилали землю. Легкие мотыльки кружились в бледном свете зимнего дня. Грязный, всем наскучивший город, как в сказке, сменился новым, таким тихим, грустным, зачарованным. Люди шли, улыбаясь самим себе и зажмурившись. Бубенцы звякали тоньше. У девушек стыдливо алели щеки из-под напудренных инеем прядей волос, а у мужчин добродушно обвисли усы.
В этот день, когда к спящей царевне приходит влюбленный принц, когда в полях расцветают голубые ночевеи {3}, чьи очи — очи любимой, где сказывается ее сердце; когда души утопших молятся и плачут о грехе своем, отчего и синеет в эту пору лед и слышен по реке тихий шум,— в этот день два человека, два незнакомца появились в городе.
Они шли, видимо, бесцельно, так просто, куда глаза глядят, не справляясь с названиями улиц, то появляясь, то скрываясь внезапно; шли, говорили, смеялись или молчали, загрезившись, как люди, оторванные от дела, от обязанностей, впервые почувствовавшие себя свободными.
Первая увидала их Лена и даже оглянулась им вслед, потому что они говорили в то время очень громко, кажется, по-французски, и вообще совсем не стеснялись. Она может побожиться, что один из них сказал ей: «какие дивные глазки». Уж это она расслышала ясно и ошибаться не может.
Да, первая заметила их Лена. Она сразу решила, что это иностранцы. Она все-таки знает толк в мужчинах!
Потом их видали другие в других местах. Маня Пожарова, которая всегда все узнает последняя, всегда рассеянна и влюблена, говорила впоследствии, что видела «этих же самых» в кондитерской у Альберта. Они сидели за соседним столиком и пили шоколад, но тогда она их не разобрала, потому что с нею был ее милый Жоржик, ее бесценный Жоржик, а когда он с нею, она никого и ничего не видит.
Она вспомнила еще спустя некоторое время, что Жоржик говорил ей что-то о них. Если ей не изменяет память, он рассказывал, что они ехали с ним вместе из Петербурга и что кто-то из них — писатель или художник, а может быть, даже актер. Ну да, ведь от Мани никогда не добьешься толку.
А Оля одна ничего об этом не знала. Она сидела у себя в комнате и читала стихи. Она всегда читала стихи, когда ее охватывала тоска, когда вдруг ей все становилось противным — и подруги, и мечты ее, и увлечения. Ее круглые выпуклые серые глаза тогда светлели, становились безразличными и холодными, как у кошки, все лицо ее делалось злым, так что ей самой неприятно было смотреть на себя в зеркало, хотя в другие дни любила она тонкие бледные черты свои, алые губы, приподнятые острыми концами кверху, свою лукавую улыбку, неверный блеск всегда меняющихся глаз.
Она запиралась на ключ у себя в комнате, садилась в большое бабушкино кресло, которое потихоньку притаскивала к себе в эти дни, подбирала ноги и, съежившись в комочек, читала.
Потом вскакивала и быстро ходила из угла в угол, похрустывая сложенными тонкими пальцами, и повторяла до одури, до полного изнеможения глупую фразу, исковерканную строку лермонтовского стихотворения:
— И ску, и гру, и некому ру… {4}
Она металась из стороны в сторону, все быстрее и быстрее, и говорила все одно и то же, одно и то же:
— И ску, и гру, и некому ру…
Как-то особенно тихи бывают предрождественские сумерки. Оля прислушивалась к редкому поспешному дреньканью извозчичьих бубенчиков, к поскрипыванию снега под ногами идущих мимо, к глухим голосам за стеною. Минутами ей казалось, что это не она сама заперлась у себя в комнате, а ее посадили навсегда в одиночное заключение.
Ее душевное одиночество тогда переходило в одиночество физическое, в ужас перед видимой пустотой вокруг, перед мыслью, что она одна, одна, совершенно одна и больше никогда никого не увидит.
Тогда она бежала к двери, лихорадочно нащупывала ключ и успокаивалась только, когда дверь отворялась и ей виден был длинный темный коридор, в конце которого мерцал свет из кухни и слышался смех прислуги.
Успокоенная, притихшая, она снова возвращалась к бабушкиному креслу, садилась в него, но уже не подбирала под себя ноги, а вытягивала их носок к носку и закидывала за голову руки.
Так она сидела не шевелясь и смотрела в окно на небо, где вспыхивали звезды. Ее сердце таяло, холодное равнодушие покидало ее; мало-помалу знакомые, близкие образы овладевали ею. И ее тонкие, загнутые концами кверху, как перевернутый месяц, губы начинали улыбаться.
Осторожно скрипнула дверь, и на пороге показалась Лена. Она была в длинном плюшевом пальто и шляпке; только ботики оставила в передней. В волосах и на вуалетке еще блестели нерастаявшие звездочки снега.
— Ты здесь, Олечка?
Ольга не пошевелилась и ничего не ответила. Смотрела на подругу и улыбалась.
Лена сделала несколько шагов вперед; она уже не могла сдерживать своего оживления; ее большие черные глаза горели в сумерках.
— Ты спишь, Олечка? Ну так проснись и слушай, я тебе что-то скажу, ты не знаешь, что я тебе скажу. Нет, нет, ты молчи, ты никогда не догадаешься… А папа твой здесь? Я прошла через кухню, и мне сказала Агафья, что его нет… Но все-таки я боюсь, ты знаешь, как он меня не любит.
Оля засмеялась.
— Какая ты глупая, Ленка! Что ты тут рассказываешь?
Лена подсела к подруге, на ручку кресла.
От нее еще веяло морозом. В своем оживлении она хотела поцеловать Олю, но вспомнила, что та этого не любит, и сдержалась.
— Ну же, рассказывай,— попросила Ольга, но сейчас же быстро спрыгнула с кресла:
— Подожди минуточку.
В темноте не было видно, что она делает.
— Вот, на, ешь, и рассказывай.
В руках Ольга держала тарелку с рахат-лукумом. Это было ее любимое лакомство, ее неизменный друг в одинокие минуты.
В комнате стало еще темнее. В окне зарябил желтый огонь уличных фонарей.
Лена рассказала о том, как она встретила двух незнакомцев. Один большой, в pince-nez {5}, другой, бритый, в носатой меховой шапке.
— Я готова держать пари, что они не кто-нибудь,— говорила возбужденная Лена,— у них лица совсем необыкновенные и все, все не такое…
Ольга недоверчиво вздернула плечами:
— Ну, уж ты всегда увлекаешься…
— Да нет же, нет!.. Ты увидишь. Ты должна пойти со мною, я тебе их покажу.
— Ты хочешь искать их, кажется, по улицам?
— А ты слушай! Мы пойдем с тобою на вокзал к шестичасовому поезду. Я уже все-все узнала. У них сегодня пересадка и сегодня же они едут дальше…
— Тем более,— возразила Ольга, которой было лень двигаться и хотелось подразнить спешившую подругу.— Зачем же нам идти смотреть на них, если они уезжают… Какой смысл?
Лена возмутилась:
— Нет, ты невозможная! Когда у тебя такой день, ты ничего не хочешь понять…
— Да напротив, я все понимаю и нахожу…
— Можешь находить что угодно, в таком случае я еду одна!
Девушка вскочила с ручки кресла, поспешно облизывая слипшиеся от рахат-лукума пальцы.
Ольга не думала ее удерживать. Она знала, что Лена никогда не может всерьез на нее рассердиться. Покипятится и перестанет. Ольга любила эту девушку, но все-таки, как всегда, сознавала свое превосходство над нею. Она знала, что Лене невыгодно ссориться с нею — Ольгой Орг, дочерью члена окружного суда, у которой всегда есть много вкусных вещей и ненужных безделок.
Вот и сейчас Лена совсем забыла про свою обиду. Она подошла к туалетному столу и машинально стала прыскаться Ольгиным одеколоном. Она делала это всегда, и Ольга не имеет ничего против. Но в таком случае зачем же ссориться? Ольга давно уже убедилась, что дружба не бывает вполне бескорыстной.
— Ну, полно, Ленка, нечего дуться,— приподымаясь, сказала она.— Так и быть, пойдем посмотрим твою диковинку.
Ольга зажгла две свечи у туалетного стола и села на пуф перед зеркалом.
Она слегка поморщилась, взглянув на себя. Лицо ее показалось ей бледнее обыкновенного. Тогда она встала, быстро скинула кофточку и наскоро умылась.
От холодной воды щеки ее вспыхнули; на левом виске забила синяя жилка.
Ей вдруг стало очень весело. Глаза снова потемнели и заиграли усмешкой. Пальцами она расправила узенькие — дужками — брови, провела по тонкому носу пуховкой с пушистой пудрой и вспрыснулась духами «Asurea».
Потом достала, впопыхах раскидав все вокруг, другую кофточку — темно-синюю, шелковую — своего любимого цвета. Подколола ее булавками, потому что не хватало нескольких кнопок, и, снова подбежав к зеркалу и уже не садясь, оглянула себя со всех сторон.
В золотом от свечей мареве зеркала мелькнула ее тоненькая фигурка, стройная и гибкая, не знавшая корсета; взмахнули детские — прутиками — руки; вспыхнули темно-русые волосы.
Все волнующаяся, Лена подала ей шляпку.
Ольга взяла ее с обычной недовольной гримасой. Это была простенькая меховая шапочка, без перьев и лент, нелепая, пирожком шляпка, из-за которой столько раз Ольга проклинала гимназию и придиру начальницу. Кому могла идти эта шляпка? Девушка не хотела согласиться, что в семнадцать лет девичье лицо красит любой наряд.
В передней они встретились с Аркадием, братом Ольги. Он казался не в духе. Его желтое от бессонных ночей лицо болезненно морщилось. Сабля и шпоры немилосердно звякали.
— Опять бегать по улицам? — брюзжал он, стягивая узкую в талии и длинную, до пят кавалерийскую шинель.
Ольга улыбнулась. Они были друзьями, но она знала, что брат любит делать ей замечания, когда после попойки у него болит голова или он проигрался.
— Смотри же, к обеду возвращайся!
На улице было безветренно и тепло. Тротуары запорошило снегом, падающим крупными влажными хлопьями. Впереди поэтому казалось, будто суетится рой белых бабочек, а дальше все сливалось в белую муть.
Все прохожие, точно сговорясь, надели белые пуховые воротники и шапки.
Фонари светились неверными желтыми, расплывающимися пятнами. Люди, как призраки, наплывали друг на друга и сейчас же исчезали. На душе становилось особенно радостно, и что-то тихо смеялось в глубине сердца, а глаза жмурились от липнувшего снега.
Крепко зажав пальцы в большой муфте, склонив немного набок голову и бодро постукивая серыми на кожаных каблучках ботинками, Ольга шла все шибче и шибче. Лена, меньше ее ростом, полная, с чрезмерно развитой грудью, едва поспевала за нею.
Подходя к мосту, они заслышали заглушенную падающим снегом музыку. Под мостом, на реке, в очищенном и обсаженном елками кругу военный оркестр играл «На сопках Манджурии» {6}.
Черные, забавные сверху люди причудливыми зигзагами резали коньками лед, сверкающий холодным матовым блеском под двумя шарами газокалильных фонарей {7}.
— Хорошо,— почти шепотом протянула Ольга, на мгновение приостанавливаясь и прислушиваясь к музыке.
— Нет, я люблю больше «Лесную сказку» {8},— ответила Лена.
Наморщив тонкий, со смело вырезанными ноздрями нос, Ольга пошла вперед, недовольно бросив:
— Ах, не то!
Она любила музыку за те воспоминания, которые она в ней пробуждала. Мотив какой-нибудь арии или запах духов всегда вызывали в ней забытые образы особенно ярко, особенно остро. Несмотря на свои семнадцать лет, Ольга любила воспоминания. Все пережитое становилось для нее интереснее, все переживаемое казалось скучным, обыденным и донельзя знакомым. О будущем она думала со страхом и боялась мечтать о нем. Ей казалось, что, представляя его таким или другим, она его сглазит. Поэтому она не строила, как другие, планов и только изредка, в самые свои тоскливые минуты, молила Бога, чтобы Он ей послал все, только не унылое однообразие «сегодня».
Ольга сразу ожила, когда вошла в залу. Она любила бестолковую толчею; кроме того, ей всегда казалось, когда она была тут, что ее что-то ждет новое и интересное впереди; что вот стоит купить билет, и начнется совсем иное, заманчивое. Ей даже было безразлично, куда ехать, лишь бы ехать.
Часто, имея кое-какие деньги, она ощущала непреоборимое желание подойти к маленькому окошечку кассира и взять билет, но всякий раз она вспоминала мать, которую любила как младшую сестру, видела уже ее обеспокоенное нервное лицо и то, как она хватается за сердце, когда у нее начинаются перебои, и останавливалась, только грустно вздыхая.
— Где же они? — спросила она Лену, оглядываясь по сторонам и не примечая никого, кто бы мог походить на описанного ей незнакомца.
— Пройдемся до конца зала,— отвечала Лена, поправляя шляпку и машинально оглядывая себя в зеркало.
Они пробежали из конца в конец, но тех, кого они искали, не было.
Тогда они купили перронные билеты и вышли на платформу.
Шестичасовой поезд уже стоял у дебаркадера {9}. Носильщики носили вещи. У третьего класса толпились мужики с серыми тюками на спине.
Из-под навеса ветер иногда сдувал белую пыль снега и завевал ее в призрачные воронки.
— Да где же они, где же? — уже начиная волноваться и не зная причины этому, спрашивала Ольга.
И вдруг она остановилась, привороженная. На нее смотрели сверху, с площадки вагона, чьи-то внимательные темные глаза.
— Это он,— тотчас же услышала она за собою Ленин шепот.
Но объяснения были не нужны. Ольга сама это ясно почувствовала.
Конечно, на одно лишь мгновение глаза их встретились, но потом, вспоминая это мгновение, Ольга всегда думала, что она пережила много-много дней.
Она не могла бы даже сказать, что особенно поразило ее в этом незнакомце. Она видела лица более красивые, но они не заставляли так волноваться ее сердце. Она увлекалась ими, увлекала их сама, но там это было как-то легко, весело и скользяще. А тут она даже почувствовала нервный холод и крепче стиснула в муфте пальцы.
Ей и в голову не пришло кокетливо охорашивать себя, как она это делала всегда, потому что чувствовала себя под любопытными глазами мужчин хорошенькой и хотела казаться еще лучше.
В это мгновение она потеряла себя, забыла о себе, только слышала, как сильно билось сердце.
Девушки сейчас же пошли дальше, вдоль вагонов, обе взволнованные по-своему, Лена — шумная, Ольга — притихшая и не слышавшая, что говорила ей подруга.
— Ну, разве неправду я сказала? Разве он не очень красив? — допытывалась Лена.
Но Ольга не знала даже, красив он или нет. Она ничего не знала.
Когда они возвращались обратно, оба незнакомца стояли уже рядом.
Тот, другой, высокий и полный, с золотым пенсне, совсем обыкновенный, добродушный медведь, что-то смеясь говорил и показывал на девушек.
— Вот увидишь, они подойдут к нам,— шептала Лена.— Я уж знаю.
Ольга испугалась.
— Нет, нет, только, ради Бога, не отвечай им, если они начнут заговаривать. Слышишь, а то я сейчас уйду.
— Да что с тобой? — удивилась та.— Чего ты боишься?
— Нет, нет, ни за что!
Ольга точно бежала от самой себя. Но она не могла бы уйти сейчас отсюда. Она просто не знала, что делать.
Полный незнакомец в pince-nez соскочил с подножки на перрон и, улыбаясь не то смущенно, не то вызывающе, подошел к девушкам.
— Надеюсь, что вы не очень обидитесь на меня за то, что я заговариваю с вами,— начал он, приподымая над головою котиковую свою шапку,— но уверяю же вас, что тут нет ничего предосудительного. Я и мой друг едем из Петербурга в имение на святки, у нас никого нет знакомого в этом городе и никто не мог бы нас познакомить с вами, а нам так хотелось бы этого. Я — писатель, мой друг — художник, и очень талантливый художник, уверяю вас…
Незнакомец говорил, обращаясь к Лене, должно быть заметив, что с нею легче столковаться, но изредка он смотрел и на Ольгу, которая шла впереди, опустив голову и плотно сомкнув свои губы.
Последние слова он обратил уже только к ней.
— Итак, вы видите, что мы далеко не искатели приключений, а просто люди, смотрящие здраво на вещи. Мой друг, более того, восхищен вашим профилем, сударыня, который напоминает ему венецианскую камею… Я мало смыслю в этом, но он уверяет, что такие очертания губ, как у вас, можно встретить только на старинных гравюрах, а волосы ваши горят, как червонное золото. Он говорит, что великий Леонардо был бы счастлив писать ваш портрет {10}, который назвали бы восхищенные потомки «Соблазненная Мадонна». Он успел мне сказать еще, что не хотел бы полюбить вас и боялся бы вашей любви потому будто бы, что ваша любовь подобна жалу пчелы: отравив любимого, она останется с ним навеки и, оторвавшись от вас, умертвит вас…
Ольга чуть улыбнулась, слушая его. Ей показались смешными его слова, нарочно выдуманными сейчас, как тема для разговора с глупыми девчонками.
Незнакомец заметил ее улыбку и с живостью подхватил:
— Нет, вы не думайте, что я шучу, а мой друг, хотя и большой фантазер, но иногда, знаете, я ему верю… Право, иногда нужно верить необычайному…
Он вдруг сделался серьезен, и его глаза под золотым пенсне стали грустными, почти испуганными. Он был похож теперь на Неро — Ольгиного сенбернара, когда тот смотрел на нее, положив ей на колени свою большую мохнатую морду.
Через мгновение незнакомец продолжал:
— Некоторые люди умеют видеть, их глазам многое доступно… да… а вот я чувствую… у меня есть свои приметы, свои числа… я суеверен и не стыжусь этого… Скажите, у вас есть какое-нибудь число? Число со значением, вещее число?
Он подошел совсем близко к Ольге, как все близорукие люди, не замечая своей неловкости. Ольга отодвинулась, но вопрос его был задан таким простым тоном, что она не колеблясь ответила:
— Да, есть… все важное для меня — и хорошее, и дурное — случается двадцать второго.
Незнакомец задумчиво поднял голову, потом пристально и удивленно посмотрел на девушку, точно желая узнать, не шутит ли она, и, должно быть, тотчас же прочтя в ее глазах, что она была искренна, тихо произнес:
— Ну, вот, видите…
Его перебил пронзительный свист паровоза.
Поезд дрогнул, готовый отойти. Тогда незнакомец приподнял опять свою шапку и вспрыгнул на площадку, на которой все еще стоял его друг.
Подняв глаза, Ольга встретилась снова с немигающими, пытливыми и как будто даже тревожными глазами того, другого.
Вагон медленно начал уплывать. Девушки пошли рядом, и, когда поезд прибавил ходу и уже нельзя было поспевать за ним, незнакомец, говоривший с девушками, вдруг перегнулся назад, в сторону провожающих, и крикнул:
— А ведь сегодня двадцать второе декабря…
И спустя мгновение еще слабее до них донеслось:
— Прощайте!
Ничего не могло так поразить Ольгу, как пустые слова незнакомца, что сегодня двадцать второе. Ведь это она знала прекрасно еще с утра и ждала этот день задолго, потому что двадцать второго распускают гимназисток на рождественские праздники. От этого дня она не ждала ничего, кроме радости сознания, что на две недели она свободна от глупых уроков; потом на нее напала хандра, и она заперлась у себя в комнате; потом она увидела его и вдруг вспомнила роковое значение двадцати двух и, когда вспомнила это, совсем, совсем забыла число сегодняшнего дня. Что же есть в этом необычайного? Ничего, конечно, ничего… Что из того, что она увидела его двадцать второго? И вообще, что такое он? Но, несмотря на эти ясные, логические мысли, Ольга чувствовала, что волнение, охватившее ее при виде темных глаз незнакомца, точно читающих в душе ее, не ослабевает, а растет.
— Какой вздор,— произнесла она, идя рядом с Леной снова по снежным мутным улицам.
— Что вздор?
— Ах, ничего, Ленка. Право, ты дикая со своими вопросами.
Ее уже раздражала подруга.
— Ты просто сердишься, что тот не подошел к тебе,— уколола ее Лена.— Ну да, ему мало интереса знакомиться с нами.
Ольга вспылила:
— С тобой, может быть!..
— А почему же не с тобой?..
— Потому что, потому что…
Ольга подыскивала слова, все больше волнуясь и удивляясь своему раздражению.
— Потому что он любит меня!
— Что?
Лена остановилась, с любопытством глядя на подругу.
Ольга сама испугалась своих слов, но они не показались ей дикими. Произнеся их, она поверила им, как будто кто-то другой прошептал ей это на ухо.
— Да, да, да, любить, любить… Я знаю, и ты не возражай! Слышишь? Не смей спорить…
Лена молчала, сбитая с толку, ничего не понимающая, раскрывая свои большие — плошками — черные глаза.
— И не иди со мною, оставь меня одну!.. Одну!..
Она повернулась спиною к подруге и побежала, скользя по мокрому снегу.
Мысли ее путались, ей было все равно куда идти, лишь бы остаться одной. Ей казалось, что кто-то посторонний, шепнувший ей ее самонадеянные слова, теперь не оставляет ее, владеет ею. Ей страшно было, но она не могла бороться.
Пусть, пусть… Почему бы и не так. Отчего бы ей и не поверить в необычайное?
Она снова была на мосту, под которым на реке блестел ледяной круг катка и играла музыка.
И вдруг у нее в глазах навернулись слезы. Она почувствовала, что слабеет, и, обессиленная, наклонилась над перилами моста. Она не знала и теперь, что с нею, но ей стало невыразимо хорошо; сердце ее сжималось от теплоты и счастья. Она не находила слов своему чувству, оно не было похоже ни на какое другое чувство, испытанное ею раньше, и опять, как тогда, когда она впервые увидела глаза незнакомца, она потеряла себя, свое лицо, забыла любовь к себе, любование собою. Было только одно большое радостное светлое счастье.
Она несколько раз пережила сызнова свою встречу с незнакомцем. Ей ничуть не было досадно, что он так и не сказал ей ни слова. Ей ничего не нужно было, ничего…
Как ей были противны теперь все поцелуи, полученные и отданные ею! Как она могла радоваться им раньше? Краденый поцелуй Владека Ширвинского в их темном коридоре. Он встретился с нею там, выходя из комнаты ее брата, схватил ее за руки и поцеловал в губы. Он никогда раньше не говорил с нею, а тут вдруг у нее закружилась голова от его поцелуя, и она тоже поцеловала его, а потом они кинулись в разные стороны, потому что скрипнула дверь и раздался голос Аркадия.
Она заперлась тогда и спрашивала себя, не любовь ли это, потому что глаза ее потемнели и она не могла смотреть на себя в зеркало. Все ее тело горело, и ей хотелось пить. Но потом, встречаясь с Ширвинским снова, она всегда с дрожью думала о его поцелуях, которыми он ее дарил всякий раз и которых она боялась, но которым не могла противиться, непрестанно спрашивая себя, не любовь ли это.
Но там не было счастья. Нет, там его не было.
В прошлом году ее целовал Мравин-Севский — драматический актер, «адски интересный», первый любовник, как его называли все семи- и восьмиклассницы, сходящие по нему с ума. Каждая старалась заслужить его расположение, и это расположение заслужила она, Ольга Орг.
Как она гордилась им перед подругами. Сколько она нажила врагов из-за него. Ее начали считать интриганкой, с ней многие перестали говорить в классе, но она была довольна, потому что самолюбию ее было приятно, что ей завидуют.
Ей было позволено ходить к нему в уборную, пока другие стояли у его дверей.
Он усаживал ее и кормил виноградом.
Она дурачилась, капризничала, требовала, чтобы он становился на колени и так униженно просил о поцелуе.
И, целуя его, она удивлялась тому, что у него такие жесткие, синие щеки.
Он спрашивал ее: «Любишь ли меня?», она, смеясь, отвечала: «Люблю», но ничего не чувствовала, кроме радости, что вот сейчас выйдет от него и встретит завистливые взгляды подруг.
А когда он целовал ее, она смотрела с любопытством в его глаза, загоравшиеся похотливым огнем, но лицо ее оставалось холодным, и, наскучившись этим, она говорила ему: «Ну, довольно».
Он, кажется, не на шутку влюбился в нее, называл «сфинксом», все пытался разгадать ее и так и не разгадал.
Однажды он позвал ее к себе в номер гостиницы. Ей было страшно, но подруги ее сказали ей, что она, конечно, не пойдет, и она пошла.
Он был взволнован, он, по-видимому, на что-то решился. Он сразу же заговорил с нею о своей любви. Целовал ее колени. А она смотрела на него с любопытством, без тени страха. Тогда он поднял ее и отнес на тахту.
Она не противилась. Она неподвижно лежала и смотрела на него. Он припал к ней губами. Долго не отрывался, жадно целуя.
И, почти задушив ее в своих объятиях, пьянея, но все еще боясь за свою свободу и не решаясь, он спросил сдавленным голосом:
— Скажи, ты ведь не девушка?
О, как она смеялась, как она смеялась этому зверю прямо в лицо, совсем холодная и спокойная. Она захлебывалась от хохота.
Недоумевающий, он выпустил ее и сидел смешной с взъерошенными волосами, с галстуком набок, со стеклянными, глупыми глазами.
Она спокойно застегнула кофточку, оделась и ушла.
Когда она рассказала об этом подругам, они не могли понять ее и, кажется, не поверили.
— Ведь он же любил тебя! — говорили они, а Маня Пожарова так та прямо сказала:
— Ты или врешь, или ты просто бесстрастная дура!
Эта Маня Пожарова всегда хвасталась, что она очень страстная и что поцелуи Жоржика ее сводят с ума.
Нет, поцелуи «красавца-актера» были только смешны Ольге и даже не вызвали в ней того страха и стыда, которые охватывали ее теперь всякий раз, когда ее целовал Владек.
Погруженная в воспоминания, Ольга забыла время. Белые хлопья снега осыпали ее спину и шляпку, но она ничего не видела, кроме длинных золотых лучей, которые тянулись к ней сквозь сощуренные веки.
Но, опомнившись, она заспешила домой, потому что обеденное время уже давно миновало.
Она шла по улицам и не переставая улыбалась. Она не мечтала о будущем, но у нее было что-то свое, что должно свершиться.
Жизнь снова вернулась к ней со своими радостями и шумом, но она смотрела на нее иначе.
Дома ее встретила горничная шепотом: «Господа уже покушали, а барышне оставлен прибор, но барин очень сердится».
Ольга хотела поделиться с матерью своей радостью (она только не знала как); теперь же в ней заговорило болезненное самолюбие. Она подняла голову и сухо повела посветлевшими глазами.
Раньше она сама пеняла на себя за то, что забыла про обед, а теперь, в ожидании нагоняя, уже казалась себе правой и оскорбилась.
Когда ей подавала горничная второе блюдо, в столовую вошел отец.
«Начинается»,— подумала Ольга и, опустив глаза в тарелку, с упорством стала разрезать плохо подогретый кусок ростбифа.
Виталий Августович, не глядя на дочь, мягко ступая подбитыми зайцем матерчатыми туфлями, прошел из дверей своего кабинета в противоположный конец столовой, где стоял буфет. Достав из буфета рюмку, он налил из графина воды, накапал туда из принесенного с собой пузырька несколько бурых капель лекарства и только тогда, все еще держа в руке рюмку и не выпивая ее, оборотился к Ольге.
— Ты, кажется, хочешь совсем уморить нас,— сказал он сухим, но еще сдержанным голосом.— Мало того, что ты не считаешь долгом сообщать нам, где ты пропадаешь целыми днями, ты еще позволяешь себе не уважать дом, в котором живешь… Ты превращаешь его в кабак, где можно есть когда угодно. Но, милая моя, это уж слишком!
Он умолк на мгновение, глядя на дочь, которая упорно и невозмутимо продолжала есть.
— К несчастию, теперь поздно заниматься твоим воспитанием,— продолжал старик, все более волнуясь,— мои дела не позволяли мне думать об этом раньше, а твоя мать…
— Оставь, пожалуйста, в покое маму,— тихо, но внятно проговорила Ольга.
— Что?
Не подымая головы, девушка повторила:
— Оставь в покое маму!
Синие жилы налились на плоских лысых висках Виталия Августовича. Расплескивая лекарство, он поставил рюмку на стол и подбежал к неподвижно сидящей дочери. Все его маленькое, худое тело тряслось; пенсне упало и повисло на шнурке вдоль старенького серого пиджака.
— И ты, и ты смеешь мне говорить это? — кричал он, не помня себя и подпрыгивая.— Гнусная девчонка, отбившаяся от дома, смеет мне, отцу, запрещать говорить… Она, черствая эгоистка, никогда не думавшая ни о больной своей матери, ни обо мне?.. Она смеет защищать свою мать, которую уважают больше ее! Это еще новости! Вот вам ваш гимназический сброд, ваши милые подруги!
Ольга поднялась со стула и, бросив на стол салфетку, пошла к дверям.
Ее молчание, ее хладнокровие еще более горячили отца. Виталий Августович кинулся за нею и схватил ее за руку.
Побледневшая Ольга вырвала руку.
— Не смейте меня трогать.
— Что? Что?.. Стой, когда с тобой говорят! Да стой же!
Но Ольга не повиновалась. Она чувствовала, что еще одно слово, и она, не помня себя, кинется на отца. Несмотря на обиду, она жалела отца, которого любила меньше матери, но столь же снисходительно. Она давно привыкла относиться к ним обоим так, как будто они были младше нее и нуждались в снисхождении.
Виталий Августович снова догнал дочь и схватил ее за локоть. От волнения он не рассчитал своей силы и разорвал рукав Ольгиной кофточки.
Ольга вздрогнула, вся кровь прилила к ее голове, и она, изогнувшись, толкнула отца.
Старик нелепо вскинул руки и упал. Голова его ударилась об пол. Ольге показалось, что он потерял сознание.
Сразу охладевшая, пришедшая в себя, девушка стояла над ним, не зная, что делать.
На шум пришел Аркадий. Он спал после обеда, и правая щека его еще горела, измятая жесткой подушкой дивана.
— Опять скандал,— протянул он, зевая и не замечая лежащего отца.— Маму разбудите! Черт тебя носит. Я же говорил не опоздать!
Ольга молча показала ему на отца.
— Воды дай скорее!
И склонилась над стариком, силясь приподнять его голову.
Виталий Августович открыл один глаз, глянул на дочь и тихо, но раздельно проговорил:
— Убирайся вон! Слышишь, сейчас же убирайся вон из моего дома.
Город спал, и над ним, там, где-то за дальними домами, лихорадочно взмывало туманное зарево.
Еще из театра не разъезжались, так как пьеса не кончилась. Темный ряд извозчиков, охраняемый городовым, был неподвижен. Только изредка то в одном конце его, то в другом фыркала или кашляла застоявшаяся лошадь.
Из артистического подъезда вышли Ольга, Владислав Ширвинский, Раиса Андрушкевич, гимназическая подруга Ольги, студенты барон Оттон фон Диркс с Антошей Богушем и гимназист восьмого класса Вася Трунов. Все они смеялись и были веселы.
Ольга смеялась больше всех. Она уже забыла о давешней сцене с отцом. Как никогда раньше, она чувствовала себя взвинченной, способной на шалость, готовой прыгать от детской радости. Явное ухаживание мужчин еще более ее веселило. Она дразнила их весь вечер своею таинственностью. Ей нравилось, что у нее есть тайна, в которую хотят проникнуть.
Обыкновенно молчаливая и таинственная Раиса, любившая казаться немного тронутой и этим известная в гимназии, сегодня держалась в стороне и не мешала. Она была простужена и боялась за свой голос, и точно недурной, который она берегла, думая поступить на будущий год в консерваторию.
Ее поддерживал за локоть барон — высокий, худой и бледный, начисто выбритый, с грустно поникшей головой. Она шептала придушенным голосом, закрываясь муфтой.
— Ах, тише, тише!
Вася Трунов, маленький и вертлявый, с ужимками заправского танцора, каким он и был, подбежал к Ольге с пылающими щеками, с бьющимся сердцем; от него пахло вином, и глаза его неверно блестели. Он вырвал руку Ольги из руки сопровождавшего ее Владека и закружил девушку в бешеном вальсе.
— Оставьте, сумасшедший,— смеялась она,— здесь не вечеринка.
И, выскользнув из объятий гимназиста, чувствуя еще, как кружится голова и бьется в виске кровь, она сказала, обводя всех увлажнившимся взглядом:
— Господа, вы должны радоваться со мною… Нет, правда! Я так счастлива, так счастлива!
Девушка зажмурилась и протянула вперед руки.
— Сегодня мой самый счастливый день. Сегодня двадцать второе. Ты знаешь, Рая, что это для меня!.. И я нашла его, я нашла его сегодня!
Ольга снова открыла глаза, улыбающаяся и доверчивая. Она любила всех в это мгновение, все были ее друзьями и должны понять ее.
— Имя, имя этого счастливца?! — дурашливо закричал Богуш.
Ольга подняла кверху углы своих губ. Она улыбалась.
— Имя?.. У него нет имени, у него нет родины — он прекрасный Эрос!
Девушка засмеялась. Ее самое забавляла ее торжественность.
— Ну что же, будем прощаться?
Раиса Андрушкевич с бароном Диркс сели в одни сани, Трунов с Богушем — в другие.
Вася был совсем пьян. Он еле двигался, сразу ослабев. Все его безусое ребяческое лицо побледнело, глаза угасли, обычная живость оставила его. Только полные губы, еще неясно очерченные, почти непорочные по своей свежести, алели взволнованною кровью.
Он смотрел влюбленными глазами на Ольгу и тихо улыбался. Ему хотелось сказать ей что-нибудь особенно нежное. Он хотел, чтобы она догадалась о его обожании к ней, о его восторженной влюбленности, он умилен был самим собою. Тихо позвал ее:
— Оля!..
Девушка обернулась на его зов. Она все время, не переставая, улыбалась. Выпитое до этого за кулисами у Дарского вино немного кружило ей голову, но было так легко, так радостно.
— Что, Вася?
— Подойдите ко мне, я не могу…
Гимназист виновато улыбнулся.
Она подошла к нему вплотную. Он сидел в санях, ухватившись руками за полость, и восхищенно смотрел на нее, на ее сбившиеся, запорошенные инеем волосы.
Фонарь бросал ему в лицо бледные лучи света, проводя глубокие тени под глазами.
— Какой вы хорошенький, Вася,— сказала Ольга.
Она впервые пристально вглядывалась в него. Ее и поразил, и испугал, и вместе с тем обрадовал его немигающий влюбленный взгляд.
— Вы смеетесь,— укоризненно промолвил он,— как всегда, Оля… А я помню наше пари… Вы обещали поцеловать меня, если я целый месяц не заговорю с вами… Месяц прошел.
Он говорил тихо, но так, что Богуш, сидевший рядом, мог его услышать.
— Я молчал, Оля…— повторил гимназист, не отводя от нее глаз.
Ольга засмеялась. Она уже готова была отдать обещанный поцелуй, но, нагнувшись к Васе, увидала его глаза, вдруг ставшие огромными, безумными, страдальчески-напряженными, и в испуге отшатнулась.
— Нет, нет, Вася, не надо… прощайте.
Она отбежала от саней к тротуару, туда, где ждал ее спокойный и самоуверенный Ширвинский, и, приняв его руку и не оглядываясь, быстро пошла по тротуару в темнеющую улицу.
Они шли быстро. Звон бубенцов отъезжавших затихал. Шуршащая снежная тишина объяла их. Черные ряды домов размыкались перед ними.
Ольга с наслаждением вдыхала холодную мглу; холод разгонял неприятное ощущение, оставленное Васиным взглядом. Девственный и грешный в одно и то же время, он пугал своей необычностью, своей властной правдивостью. Он отдавался и требовал. Нет, его нельзя было вынести. Становилось больно и обидно за него, за себя.
Ширвинский шел рядом — высокий, спокойный, самоуверенный.
Его резкий, немного хищный в нижней своей части профиль с упрямо вверх торчащими усиками даже теперь ясно видела перед собой Ольга, когда подымала глаза.
Он шел молча, зная, что она смотрит на него, и ничуть не волновался. Спокойно курил папиросу и о чем-то безмятежно думал.
— Владек,— окликнула Ольга.
— Что, моя девочка? — отвечал тот невозмутимо.
— Я не хочу спать. Пройдемся по бульвару.
— Охотно, милая…
— Я обижусь, Владек!..
Ширвинский слегка улыбнулся. Он сразу понял самолюбивую девушку и знал, на каких играть струнах.
— В чем дело, многоуважаемая?
Ольга топнула ногой и сейчас же рассмеялась.
— Нет, вы невозможны. Извольте говорить со мною по-человечески.
— Охотно… Но не прикажете ли вы молить вас о поцелуе, как милый Вася?
Девушка задорно вскинула голову.
— А хотя бы и так!
Ширвинский опять усмехнулся, искоса поглядывая на нее.
— Мне этого не нужно,— спокойно отвечал он.— Вы это сами сделаете, без моей просьбы…
— Что?
Он повернулся к ней, усмехающийся и самоуверенный, все так же пряча свои руки в карманы широкого мехового пальто.
Ольга молчала, не зная, обидеться ей или рассмеяться.
Они остановились на самом краю обрыва, над рекой, теперь скованной льдом. Кругом в белых саванах стояли застывшие деревья бульвара. Высоко в небе жарко тлели звезды. А под ногами хрустел снег.
Торжественность зимней ночи передавалась людям.
В нерешительности оглянувшись, Ольга уже не могла оторвать взгляда своего от окружающего. Она забыла о Ширвинском. Она не помнила его дерзости.
С того берега раздался железный стук уходящего поезда. По сталью и серебром блистающей реке, по прихотливым ее извивам прошел встревоженный гул, и вместе с ним, с этим ропотом замерзшего воздуха, долетело до Ольги воспоминание.
Она увидала пытающие, внимательные глаза незнакомца. Не страстные, не равнодушные, не грешные и не наивные, а проникающие в душу, быть может, и без воли, только потому, что, глядючи на них, забываешь себя.
— Да что же это, наконец? — прошептала тихо Ольга, и радуясь, и не понимая.
Она подошла к самому краю обрыва, совсем над кручей, вытянулась на тонких длинных ногах, невольно откинувшись плечами назад и заглядываясь на светлую полосу накатанной и блестящей под луной тропинки. Она уже хотела броситься туда, вниз, неудержимо влекомая силой притяжения, жаждой унестись, уплыть, растаять в серебряном блеске ночи. И вдруг почувствовала себя поднятой с земли, сжатой в чьих-то руках.
Какой легкой была эта ноша. Ширвинский почти не чувствовал ее тяжести, неся ее по бульвару мимо белых деревьев. Он приник к ее губам, всасывая, вбирая их в себя. Он был опьянен восторгом этой тоненькой золотоволосой девушки, торжественностью этой безмолвствующей застывшей ночи. Она отвечала ему такими же долгими, бешеными поцелуями, и он не знал, что только случайно ворует их у другого.
На морозе ее тонкие губы трескались, и вместе с ее горячим, захлебывающимся дыханием он всасывал алую ее кровь.
— Мой Эрос, мой Эрос,— между поцелуями повторяла Ольга.— Мой светлый бог!..
До сих пор у Орг сохранился обычай каждый сочельник зажигать елку. Ксения Игнатьевна, мать Ольги, ни за что не согласилась бы изменить раз заведенный порядок. Ей осталась одна эта маленькая радость после того, как незаметно для нее дети ушли из-под ее крыла.
Не выходя из спальни, она задолго до сочельника посылала горничную по магазинам с длинными записками, в которых стоял ряд названий необходимых для елки вещей.
Окруженная листами золотой, серебряной, красной, зеленой бумаги, свертками картона и баночками с клеем и красками, вооруженная ножницами или кистью, больная женщина в темном свободном платье и с скорбными глазами на бледном нервном лице целыми днями мастерила бонбоньерки {11}, причудливые цепи, замысловатые звезды и в этом занятии находила покой.
Она снова жила мыслями о своих маленьких детях, она видела их счастливые лица, она слышала их звонкий смех. Иногда, держа перед собой какой-нибудь забавный домик, склеенный собственными руками, она плакала обильными слезами волнения и счастья. Она смотрела на эту игрушку, и перед ней воскресал целый мир восторженных радостей, фантастических мечтаний. Ее больное сердце требовало любви, оно только и билось для любви, хотя бы к этим ярким безделкам.
Ксения Игнатьевна уже более пяти лет страдала острым сердечным неврозом, который, с каждым годом становясь острее, делал ее жизнь невыносимой для нее и тяжкой для окружающих. Месяцами она не жила в своей семье, уезжая лечиться за границу, или же в минуты острой тоски и неведомого беспокойства переезжала на другую квартиру, где одна, не подпуская к себе даже детей своих, ходила по пустым комнатам, терзаемая неуходящей печалью, тем более страшной, что причины ее она не могла найти и не знала. В минуты же отдыха, душевного равновесия она вспоминала о детях, и тогда это был какой-то ураган восторженных поцелуев и баловства.
Лишенная по выходе замуж того довольства, которым была окружена в девичестве (она родилась и выросла в богатой семье, выйдя за Орг против желания родителей), и вспоминая, усталая, о своем детстве как о счастье, Ксения Игнатьевна решила во что бы то ни стало, ценою всяческих усилий окружить и своих детей таким же «счастьем».
Муж ее хорошо продвигался по службе, так как влиятельные родственники жены не оставляли их издали своими милостями, но все же в доме не было богатства. И вот, урезывавшая себя до того во всем, с упреком смотревшая на чрезмерные траты мужа, Ксения Игнатьевна, сделавшись матерью, стала расточительна, как может быть расточительна женщина, решившая посвятить себя благу своего кумира.
С каким-то нервическим беспокойством, что вот-вот она упустит время, Ксения Игнатьевна набрасывалась на все, что могло пленять или украсить ее детей.
Она не хотела знать меры, не хотела знать невозможного. Она готова была убить, ограбить, лишь бы удовлетворить свое материнское безумие.
Целыми днями она жила мечтами о том, что бы еще купить или сделать своим детям.
Игрушки, куклы в пышных нарядах, целые миниатюрные приданые, яркие веселые платья и нежные, благородные кружева,— все это богатство, ненужное и фантастическое, приносилось в жертву ее кумирам.
Она покупала цветы, наполняла комнаты запахом духов и радовалась как дитя, когда дочь или сын угадывали запахи.
Она называла их «мой принц», «моя принцесса». Она любовалась их хорошенькими лицами и заставляла их любоваться собою. Их воля была для нее законом.
Не любящая труд, принужденная обстоятельствами к работе, она охраняла от труда своих детей, «которым придется много-много работать после, а потому пусть теперь насладятся всею радостью праздности».
Она только учила их молиться. Ее трогало, когда сын и дочь, оба в длинных ночных с кружевцами рубашечках, сложив молитвенно руки и став на колени, повторяли вслед за нею наивными голосами слова молитв.
В углу висел большой киот с образами в серебряных и золотых ризах, освещенных уютным светом лампадки; золотые детские головки подымались к этим образам и казались ангельскими, в теплом воздухе белой детской пахло душистой амброй.
О, она готова была плакать в такие минуты от счастья, от материнской гордости и жертвенной любви. Пусть они делали долги, пусть муж бранился и пил еще больше, пусть нужно было писать униженные письма отцу с просьбами пособить,— все это было ничто в сравнении с ее счастьем материнской самоотверженности.
Конечно, не Аркадия могла тешить елка. Он давно забыл тихие радости, он как-то не замечал их, проходил мимо. Его душа давно уже была вне дома. Он проклинал каждый раз те часы, которые ему волей-неволей приходилось проводить среди своих. Он давно привык смотреть на отчий дом как на угол, в котором бываешь, когда некуда деться. Мать он жалел, но не понимал ее и подсмеивался над нею, почтительно относясь к ней только для того, чтобы расположить в свою пользу; он всегда нуждался в деньгах, которыми, урезывая себя в хозяйстве, мать его непрестанно снабжала. Почтение к отцу Аркадий утратил с тех пор, как стал с ним вместе на дружеской ноге посещать шантаны {12}.
Кроме того, он считал отца виновником своего исключения из гимназии. Достаточно способный, но ленивый, он мог бы с грехом пополам дотянуть до выпускного экзамена. Но на беду заступился за него перед классным наставником не в меру вспыливший Виталий Августович. Скандал замяли, но Аркадия попросили покинуть гимназию со свидетельством об окончании четырех классов.
Юноша пытался после того готовиться к экзаменам на аттестат зрелости, но тут явились новые соблазны, и занятия откладывались в долгий ящик. В прошлом году он решил пойти в вольноопределяющиеся {13}, рассчитывая впоследствии выйти в офицеры. Гусаром в красных чикчирах он оставался до сих пор. За ним числилось всего пять месяцев службы, так как большею частью он находился в отпуску.
Этого красивого, с мягкими кошачьими движениями, с холеными, в перстнях, руками, всегда напудренного, надушенного и томного юношу-гусара, со всеми ухватками порочной женщины, конечно, не мог пленять наивный тихий рождественский праздник.
Для Ольги же это были странные по своей мучительности дни.
Уже с того мгновения, как до нее доносился терпкий смолистый запах елки, вносимой дворниками в большую гостиную, а ее уха касался сухой шелест колких ветвей,— ее сердце начинало ныть в тоскливом предчувствии, и неприятный холод чего-то потерянного, ушедшего безвозвратно, касался ее души. Ей хотелось бежать куда-нибудь далеко от этих ощущений, но ее помимо воли неудержимо тянуло к этому вечнозеленому, мертвому дереву, убранному и разукрашенному, как если бы кто-нибудь вздумал убрать скелет с его вечной беззубой улыбкой в подвенечный наряд и вложить в его сжатые костлявые руки восковую свечу.
Она приходила в гостиную, садилась в темный угол и оттуда, не мигая, глядела на елку.
Она бы не могла сказать, какие мысли являлись к ней в эти минуты. Одно тупое чувство страха и тоски владело ею.
Может быть, это были заглушенные воспоминания о прошлом, в котором она могла вызывать по желанию лукавое счастье; или ей представлялось ее настоящее, когда она, озираясь, уже не находила в себе сил завоевать это счастье, такое далекое, но не знала, как же обойтись без него.
Или это была бессознательная душевная тоска, которая томит всякого при виде того, что когда-то радовало, а теперь утратило свое обаяние?
Как знать!
Когда зажигалась елка, после кутьи, подаваемой со звездою, все шли в гостиную.
Виталий Августович, посмеиваясь, смотрел на дерево, выкуривал свою сигару и пел немецкую песенку «О Tannenbaum…» {14}. Аркадий с презрительным видом обрывал мармелад и, проглатывая его, думал о том, как бы улизнуть скорее. Старая бабушка, мать хозяина, которой в обыкновенную пору не было видно, выходила с своим вязаньем и с любопытством ждала подарка. Она одна, кажется, из всех членов семьи, из милости живущая у своего сына и нелюбимая им за свою старость и ненужность, верила в какой-то семейный очаг и общую объединенность. Для нее это был семейный праздник, такой, каким он должен быть у всех порядочных людей.
Ксения Игнатьевна, взвинченная, нарядная, раздавала подарки хозяину, бабушке, сыну и дочери. Прислуга, празднично разодетая, тогда же получала свою часть. Гостей в этот вечер не принимали.
Мужчины сегодня очень скоро исчезли, и остались в большой гостиной, где тихо потрескивала догорающими свечами высокая, осыпанная ватой и блестками елка, три женщины: бабушка, мать и дочь. Три женщины — три поколения.
Старуха дремала над своим вязаньем, Ксения Игнатьевна играла Шопена.
Ольга сидела, забившись в угол, смотрела на огни елки и слушала. Потом, не выдержав, просила:
— Мама, да перестань же!
Ксения Игнатьевна нервно оборвала игру, остановив на дочери свой лихорадочный взгляд. Она всматривалась в знакомые черты дорогого ей лица и не могла понять, отчего такими чужими казались они ей.
Этот спокойный белый лоб, этот тонкий, с глубоко вырезанными ноздрями нос, эти холодные, переменчивые глаза, этот рот, таинственно и загадочно приподнятый острыми углами кверху,— все это молодое лицо в нимбе темно-русых волос разве принадлежало ее дочери, маленькой куколке Оле?
Что-то враждебное было в этом лице, что-то затаенное, что-то свое, только свое, тайное.
— Что с тобою, Оля? — спросила мать.
— Ах, да ничего, мама. На меня действует твоя игра. Я не могу, не могу!
Она встала с кресла и прошлась по комнате, закинув за шею руки и прикусив губу. Она старалась не думать ни о чем, но вместе с обычной рождественской тоской ее охватывала безнадежность. Перед ней стоял ее незнакомец, мелькнувший в темном проходе вагона и уплывший далеко, в снежные поля. Где он? Кто он?
Как хотелось бы ей узнать хотя бы его имя, только имя, которое можно было бы повторять и тем приблизить его к себе. Она пробовала улыбнуться над собою, ее поражало, что она, всегда такая холодная, неожиданно для себя начала грезить о любви этого человека.
Нет, ей мало его имени. Ей нужно снова увидать его, слышать его голос, дотронуться до его руки, заглянуть в его душу.
Сперва она слепо верила в какое-то чудо, она даже сказала Лене, что он ее любит. Но после, когда, почувствовав себя в объятиях Ширвинского, она, обезумев, отвечала ему на его поцелуи, когда она на мгновение оживила свою грезу и вдруг осталась одна и поняла, что его нет с нею, что его, может быть, никогда не будет, ее охватило тупое отчаяние.
Она могла кричать, плакать, искать по свету и никогда не найти его. Да полно, был ли он на самом деле, не пригрезился ли он ей?
Нет,— увы! — это не была греза, которую может сменить другая, это была действительность, никогда не повторяемая.
Еще так недавно ей казалось, что он с нею, она жила его образом, но теперь, с бешеными поцелуями Владека, она поняла, что его нет. Его не будет.
Повторяя мысленно эти слова: «его нет и не будет», Ольга чувствовала, как постепенно деревенеет ее душа. После острой тоски это холодное спокойствие казалось благостным. Она стискивала зубы и повторяла еще: «его не будет, его никогда не будет… и пусть, пусть…»
Что же, будем как другие! Довольно фантазий. Ты хочешь поцелуев,— целуйся; хочешь богатства,— продай себя как можно дороже. Все это вздор. Не тебе же плакать! Ведь тебе приятны были поцелуи Мравина-Севского? А Ширвинский, который пугает тебя и манит своею страстью, своим упорством? А Вася, этот мальчик со своими грешными глазами? Ведь они все тянутся к тебе, ведь они все, каждый по-своему, манят тебя, грезят о тебе… Зачем же тебе тот, неведомый?.. Любовь? А кто сказал тебе, что их чувство не любовь, что ты их не любишь? Когда вот от поцелуев актера ты счастлива, от объятий Ширвинского у тебя кровь приливает к вискам?..
Ольга остановилась перед матерью.
— Мама, скажи мне, ведь я очень хорошенькая?
— Что за вопрос!
— Да нет, скажи мне правду.
Ксения Игнатьевна протянула к дочери руки.
— Ведь ты знаешь, что ты для меня прекрасна…
— Только для тебя?
— А ты кому бы хотела еще нравиться?
Мать привлекла тоненькую талию девушки к себе и с нежностью заглядывала в ее серые, теперь надменно блестевшие глаза.
Ольга вздернула плечами.
— Я ведь знаю, что я многим нравлюсь… но это вздор. Ты скажи, на что мне рассчитывать?
— Я не понимаю, Ольга, о чем ты?
— Ах, Боже мой… какая ты наивная, мама. Я не хотела бы продешевить себя…
Она спокойно смотрела в лицо матери.
Ксения Игнатьевна с испугом отшатнулась от нее.
— Что за цинизм? Опомнись. Откуда эти мысли? Или скажи, что ты пошутила, успокой меня, слышишь! Ну, молчи, не говори лучше, не говори. И это ты, моя принцесса! Ты, которую я так обожала! Где у тебя душа, где совесть? Я отдала тебе все, я окружала тебя заботой, лаской, я научила тебя молиться… Ты была такой чистой, такой тихой… Да нет, нет, этого не может быть… Посмотри, посмотри же на меня, дай мне свои глаза… Ну, вот так — они меня не обманут. Скажи, ты ведь такая же, как была? Да…
Ольга опустилась на колени перед матерью.
Ксения Игнатьевна держала ее голову в своих похолодевших руках. Одна щека ее и веко нервически подергивались.
— Успокойся, мама. Я не хотела огорчить тебя.
— Ну да, я знала же это… довольно того, что твой брат…
Ольга перебила ее:
— Мой брат не хуже и не лучше других. Он таков, каков есть, но он, к счастью, мужчина. И потом я вовсе не беру своих слов обратно. Я спросила тебя совсем серьезно. Видишь ли, я считаю, что ты исковеркала свою жизнь…
— Что?
— Да, да, мамочка… ты не волнуйся, ты слушай… Я знаю, что ты была очень и очень хорошенькой, ты и теперь у меня красивая…
Ольга провела своей тоненькой ладонью по бледной щеке и волосам матери.
— Не перебивай меня. Ты отдала эту красоту, свою молодость моему отцу и вот какой теперь стала…
— Ольга! Ты же знаешь, как я любила его.
— Ну да, знаю. Ты хотела быть счастливой и была ею только мгновение. Я не такая — мне нужно много счастья.
— Этого хочет всякая. Полюбишь, выйдешь замуж…
Ольга засмеялась, припав щекой к коленям матери.
— Мамочка, мамочка, какая ты глупая.
Она смеялась все больше. Ей стало жаль свою мать, потом себя. Слезы навернулись на ее глазах.
Ксения Игнатьевна нагнулась над нею. Непонимающая, сбитая с толку, испуганная, она силилась проникнуть в эту ставшую теперь чужой душу. У нее самой подступали к горлу нервические спазмы.
— Скажи, радость моя, ты любишь кого-нибудь?
Ей казалось, что она нащупывает что-то в окружавших ее потемках.
— Ах, не знаю, не знаю, ничего не знаю…
Ольга плакала. Окаменелость оставила ее.
— Назови мне его,— просила ее мать.— Ведь это так понятно… назови его…
Ольга вдруг подняла голову. Она посмотрела на мать широко открытыми строгими глазами, полными слез:
— А что ты мне скажешь, мама, если я тебе отвечу, что не знаю его имени. Совсем, совсем не знаю, кто он.
— Значит, его нет?
Она молчала. Глаза ее высохли, но в груди что-то жгло. Мать уронила свою голову на лицо дочери. Она шептала молитву.
Бабушка мирно спала над своим вязаньем. Кое-где на елке вспыхивали догорающие свечи.
В этот вечер Ольга рано пошла к себе в комнатку. Она разделась, поставила на ночной столик свечу и начала писать свой дневник, который вела урывками на клочках бумаги и в разных тетрадях. Написала несколько строк и задумалась.
Слишком сложно было у ней на душе, и она не могла всего передать, что чувствовала.
Наконец она задула огонь и затихла, подобрав под себя ноги и спрягав ладони между худых колен.
Но заснуть ей не удалось. Только-только ее мысли стали принимать живые формы, как дверь в ее комнату скрипнула, и вошел Аркадий.
— Ты не спишь еще? — спросил он, чиркая спичками и зажигая свечу.
— Нет, а что такое?
Ольга снова села на кровати, готовая слушать. Брат примостился около нее.
Они часто так говорили по ночам. Девушка не стеснялась брата.
На нем были красные чикчиры и белая рубашка, крепко надушенная. В зубах дымилась наполовину выкуренная сигара.
— Ну, рассказывай,— торопила сестра. Она ждала, что Аркадий станет говорить о себе, о своих победах; он всегда делал это, когда оставался с нею наедине, совсем забывая, что она все-таки девушка.
— Ну, слушай,— начал он.— Сегодня мне нужно серьезно посоветоваться с тобою.
— В чем дело?
— Ты, конечно, знаешь о моих отношениях к Варе…
— Еще бы, они известны всем,— засмеялась Ольга.
Аркадий поморщился.
— Надеюсь, ты мне не чужая и с тобой мне можно быть откровенным?
— Ну, хорошо, хорошо, что же дальше?
— А дальше то, что Варя беременна!
— Беременна? — почти вскрикнула Ольга, испуганно глядя на брага.
— Ты не кричи,— остановил ее Аркадий.— Вот в том-то и штука. Я сам не знал этого до сегодняшнего вечера. Только сейчас она мне призналась.
Аркадий встал с кровати и заходил взволнованно по комнате.
— Что же вы думаете делать? — все еще подавленная за свою подругу, которую она очень любила, сказала Ольга.
— Что мы думаем делать? Ты ее спроси, что она хочет делать,— досадливо сжимая кулаки, пробормотал Аркадий, снова останавливаясь перед сестрой.— Это всегда так. Вы вот это называете насилием, а выходит, что мы потом за все отвечаем! Скажите на милость, откуда эти идеи у глупой девчонки? Влюбилась, как кошка, кроткая, тихая, воды не замутит, а потом — не угодно ли…
Ольга негодующе махнула рукой.
— Да говори же ты толком! Что это в самом деле такое?
— Толку, голубушка, в этом очень мало. Только вот уже после полугода, как я с ней живу, случайно или нарочно, но она вдруг изволила забеременеть.
— Как нарочно?
— Да так! Конечно, я не могу утверждать, но, клянусь Богом, я как всегда, был осторожен… ты понимаешь? А может быть, это от другого?
Ольга вскочила с кровати. Она была и страшна и восхитительна в своем гневе. Огонь свечи отсвечивал в волосах ее, заплетенных на ночь косичками, тонкие ноги казались выточенными из слоновой кости.
— Замолчи! Слышишь, замолчи, подлый! Не смей так говорить о Варе.
Аркадий смутился. Его поразила красота сестры. Он не верил своим глазам, почти забывая, кто перед ним.
— Да полно, я пошутил.
Ольга сразу отошла, услышав робкий ответ. Ей стало холодно, и она поспешно спряталась под одеяло.
Аркадий тоже пришел в себя. Отбросив далеко окурок сигары, он сел на кровать подле сестры и заговорил значительно тише:
— Конечно, я пошутил. Варя хорошая, чистая девушка. Это первая, какую я вижу, а у меня их было много. В ней тьма сердца, из нее вышла бы великолепная жена, но пойми, что при существующих условиях это-то и является для меня и для нее несчастьем. Посуди сама. Я не могу на ней жениться; она мещанка, и потом — я хочу быть офицером. Следовательно, это побоку. Да и она сама ни разу не заговаривала со мною о браке — надо отдать ей справедливость. А вместе с тем, когда я, узнав, что она беременна, предложил ей отделаться от этого,— она наотрез отказалась.
— Как, она хочет иметь ребенка? — изумилась Ольга.
При одной мысли об этом ее охватил озноб, и она плотнее закуталась в одеяло. Это желание казалось ей донельзя диким. С этой минуты она перестала понимать Варю и уже склонна была простить брату его возмущение.
— В том-то весь ужас! — ободренный восклицанием сестры, продолжал Аркадий.— Надо же иметь такую шалую голову! Уж как я ее убеждал, ничего не помогало. Заладила одно: «Это твой ребеночек, я люблю его, я не могу расстаться с ним, он наш, наш — хоть режь, хоть убей». И плачет, и ноги целует… Насилу отделался. Черт знает что такое!
Он помолчал, нервно щелкая ногтями.
Ольга тоже молчала. Она ясно видела перед собою Варю. Худенькую, черненькую, маленькую. Такую тихую, с большими синими глазами. В этих глазах было столько любви, столько преданности. Когда она полюбила Аркадия, она никому не говорила об этом, а только плакала. Сядет где-нибудь в уголочек и роняет слезинки.
Ольга знала обо всем и часто гладила подругу по голове.
— Ты слишком любишь его,— говорила она.— Не надо так.
А девушка припадет к ней черной головой и шепчет:
— Ох, как я люблю его, прямо даже не знаю…
И вдруг это дитя беременно. Как глупо, как невероятно глупо.
— Ей придется выйти из гимназии до выпускных экзаменов,— подумала вслух Ольга.
— Конечно! И вообще гадость,— отвечал совсем убитый Аркадий.
Праздничные дни летели быстро.
Ольга хотела закружиться в удовольствиях. Забыть все, забыть свою тоску. Она ездила с бала на вечеринку, с вечеринки в театр. Она была веселой и задорной. Все наперерыв ухаживали за ней.
Однажды утром перед новым годом приехал к Орг Ширвинский и стал звать Ольгу кататься.
Девушка было хотела отказаться, но, глянув в окно на яркое солнце, на блещущий снег, не вытерпела и, накинув шубку, побежала к саням. Ширвинский едва поспевал за нею.
Они поехали за город. Лошадь шла полной рысью, далеко выкидывала стройные ноги и забрасывала передок саней комками снега.
Ольга закрывала лицо муфтой и тихо смеялась. Только глаза ее поблескивали из-под шапочки, и вспыхивали темным золотом волосы.
Владек держал ее за талию и не отводил своего холодного, колющего взгляда от ее лица. Кончик носа его покраснел, а усы, закрученные в стрелку, заиндевели. На нем была форменная студенческая фуражка и красивое штатское пальто с воротником из кенгуру. Даже на морозе от него хорошо пахло крепкими английскими духами и американским табаком. Он всегда очень внимателен был к своей внешности и, как истый поляк, подчеркивал то, что он называл «хорошими манерами». Он кончал университет и думал устроиться в Петербурге помощником присяжного поверенного {15}, для этого у него были все данные и возможности. Его считали неглупым, очень себе на уме и никогда близко с ним не сходились. Здесь, в городе, он поддерживал товарищеские отношения только с Аркадием и бароном Диркс. Один был сыном члена суда, другой — сыном прокурора. Потеряв давно уже отца и мать, Ширвинский жил в вакационное время у дяди своего, средней руки помещика, имение которого прилегало к черте города. Владеку приходилось самому подбирать себе круг знакомых. Он это делал очень осмотрительно и всегда умел поставить себя на должную высоту.
Ольга была его капризом. Быть может, он видел в ней то, что другие проглядывали. Во всяком случае, ее понятливость, острый ум, умение распознавать людей, ее насмешливость и, пожалуй, эгоизм тянули его к себе. Кроме того, ее наружность неизменно возбуждала его.
Бог весть какие новые радости ждал он от обладания ею. Но ему доставляло наслаждение, неизъяснимое удовольствие говорить с нею так, как если бы она была кокоткой. Она никогда не казала себя невинной, отвечала на его вопросы смело и прямо, и это доводило его до сумасшествия.
Он мысленно переодевал ее в яркие, рискованные наряды, спускал ей на уши золотые обручи кос, осенял ее задорную голову черной широкой шляпой с огромным огненно-красным плерезом. Он хотел бы видеть ее где-нибудь в полутемном углу артистического кабачка, среди цветов — орхидей, камелий и пошлой, остро-пахнущей настурции, в пошлом ситцевом, нестерпимо розовом с зелеными горошками платьице, со скромным вырезом шеи и совсем обнаженными руками, тонкими палочками-руками, бесстыдно приподнимающими края платья над такими же тонкими в черных чулках ногами. Хмельная, бесстыдная и все же девственница, она должна была хищно и таинственно изгибать рогатый месяц своего алого рта и по-детски смеяться своими выпуклыми кошачьими глазами.
Эти образы наполняли Владека нетерпением, жгучим до боли желанием сжать, растерзать белое тело девушки.
Он чувствовал себя опьяненным, нерассуждающим. Глаза его становились холодными и колющими, как иглы мороза. Он готов был на все.
До заставы оба они — и Ольга, и Ширвинский — ехали молча. Он — полный сладостных видений, она — бездумно загрезившая, глядящая на непрестанное мелькание чешуйчатой пелены снега вдоль по улицам и на крышах домов.
Когда застава миновала и по обе стороны саней расплескалось застывшее в белых волнах море полей, а впереди засинел лес, Владек начал говорить.
— Послушайте, Ольга,— сказал он, не отводя от девушки выпытывающего взгляда и все так же крепко охватив ее талию,— долго так будет продолжаться?
— Что именно?
— Я говорю о наших отношениях. Они мне не нравятся. В них нет главного — искренности. Согласитесь сами, что мы делаем далеко не то, что хотели бы. А однако это вполне возможно и даже необходимо. Вы и я — мы оба люди одних и тех же вожделений. В нас много решимости и аппетиты наши огромны.
— Вы говорите так только о себе?
— Ничуть. Насколько я мог вас изучить, мне можно высказаться и за вас. Повторяю, мы оба любим жизнь, знаем цену людям и больше всего любим себя. У вас, как у девушки, есть еще свои фантазии, иллюзии, но они со временем пройдут, могу вас уверить. Будем же правдивы. Вы давно уже должны были заметить, что я пьянею, теряю голову, когда вижу вас, целую, дотрагиваюсь до края вашего платья. Мои поцелуи вам не безразличны, в этом я тоже уверен. Ваш страх, ваше смущение — явные признаки…
Ольга засмеялась, опуская муфту на колени и оборачиваясь к спутнику:
— К чему все это вы ведете? Вы хотите предложить мне свою ясновельможную страсть и пустой кошелек? Слишком много чести, пан Владислав! Заслужите сначала мою любовь, а тогда уже делайте предложение…
Она хотела еще смеяться, но смех ее потух, едва она пристально вгляделась в лицо Ширвинского. Он совсем не смутился. Он сидел, не опуская перед нею глаз, принимая ее слова как вполне естественное. Она хотела удивить, смутить его, говоря о его бедности, возбудить к себе презрение, но он оставался холоден. Его губы были плотно сжаты под заиндевевшими усиками, и только ноздри тонкого носа слегка вздрагивали. Тогда ею постепенно стал овладевать страх, физический страх, смешанный с любопытством и дерзостью человека, испытывающего свою судьбу. Она смотрела в колющие наглые глаза Ширвинского, от которых ей хотелось бы спрятаться и которые вместе с тем тянули к себе, и после минутного молчания она добавила:
— Знайте, что теперь вы мне противны…
Он дал ей время продолжать или смягчить свою грубость и, не дождавшись от нее больше ни слова, ответил:
— Вы напрасно горячитесь, Ольга. Будьте рассудительны. От судьбы уйти нельзя. Я вас люблю, и вы будете моею. Вы знаете отлично, что с вами у меня всегда будут деньги и большие деньги, а относительно уз Гименея — я не думаю, чтобы вы о них мечтали. Брак не для вас. С вашим характером, с вашей наружностью вы можете создать себе такую блестящую жизнь, о какой не мечтали самые прославленные гетеры. Любовь одного — вас не удовлетворит, вам нужно поклонение тысяч. Вечная жажда любви, любви, которой не существует на земле, доступной только богам Олимпа, может притихнуть в вашем сердце только замененная безумной роскошью, неограниченной властью над сердцами. Вы будете носительницей нового культа; вы заставите признать за собою и за вашими сестрами, которым теперь нет места в жизни, право на жизнь вне семьи, вне цепей… Вам нужно только начать, и я иду вам на помощь.
Она все еще боролась с его волей, со своим страхом и попробовала отшутиться:
— Боже мой, какая блестящая будущность! Почему бы вам не пропеть: «и будешь ты царицей мира…»
Она не договорила. Резким движением он притянул ее к себе и, держа ее голову в своих руках, следуя глазами за ее испуганным убегающим взором, почти прохрипел над самым ее ухом:
— Ты не уйдешь от меня. Если бы я захотел, я мог бы тут, сейчас же овладеть тобою…
Он нарочно употреблял грубые, обидные слова и больно сжимал ее голову. Им овладело холодное безумие, сладостная ненависть.
Ольга собрала все свои уходящие силы. Животный страх сделал ее отчаянной. Она рванулась головой вперед, больно ударив Ширвинского в грудь, и одним прыжком выскочила из саней.
Ольга упала прямо в снег. Было мгновение, когда ее охватило желание лежать, закрыть глаза и не двигаться долго, вечность, но волна нового страха опять заставила ее подняться и кинуться в поле.
Она бежала, зарываясь по колени в снег, спотыкаясь, задыхаясь, изнемогая от усталости и волнения.
Наконец она почувствовала себя бессильной сделать хотя бы один лишний шаг. Она опустилась на кочку и оглянулась.
Сани Ширвинского остановились значительно дальше того места, где упала Ольга. Владек вылез и шел по дороге, видимо, боясь свернуть в поле, где снег был очень глубок и где он мог заморозить ноги, так как был без ботиков. Дойдя до канавы, через которую перепрыгнула раньше Ольга, он остановился и стал звать девушку и махать ей руками. Но она сидела неподвижно, блуждая растерянным взглядом по радостно блещущей снеговой равнине. Тогда он решился и пошел к ней. Глядя на то, как забавно он шел, разводя руки и расставляя ноги, Ольга внезапно успокоилась. Смешными показались ей и ее давешний страх и ее сумасшедшее бегство. Она теперь была уверена, что Ширвинский никогда не решился бы на насилие. Все, что угодно, только не это. Кроме того, она почувствовала свою власть над ним. Она теперь сознавала силу его желания, и это неудовлетворенное желание его льстило ей и вместе с тем казалось смешным, как смешон кажется женщине всякий мужчина, из рук которого ей удается выскользнуть. Она почти презирала теперь Владека.
Она говорила себе, глядя на него, медленно приближающегося к ней, что он просто трус, жалкий трус, и что слишком много чести для него ее испуг.
«Надо было припугнуть его братом»,— думала она.
Наконец он уже был в нескольких шагах от нее.
— Что с вами, Ольга? Что за дикое бегство? Неужели мои слова могли напугать вас?
В его голосе ей почудились виноватые нотки. Это еще более дало ей смелости. Она усмехнулась, презрительно сощурившись.
— Я не желаю объясняться с вами. И, пожалуйста, не подходите близко, не прикасайтесь ко мне. Надеюсь, у вас хватит настолько порядочности, что вы потрудитесь съездить в город и прислать за мной извозчика.
Его начал забавлять ее тон. Он боялся слез, истерики, упреков. Ее слова избавляли его от несвойственной ему роли утешителя. Все значительно упрощалось. Он дурашливо низко поклонился и ответил:
— Мои сани к вашим услугам.
— Но я не поеду с вами.
Тогда он решил не спорить с нею, разыграть роль человека, который наделал глупостей из-за безумной влюбленности и теперь убит этим. Покорно, но с достоинством побежденного рыцаря, он пробормотал:
— О, я не смел думать об этом. Без вины я готов признать себя виновным. Всему причиной моя сумасшедшая страсть, перед которой — увы! — я бессилен.
И, увидя ее нетерпеливый жест, тотчас же перебил себя:
— Но здесь не место объясняться. Еще раз прошу воспользоваться моими санями, а я пойду пешком.
Ее не нужно было просить об этом второй раз. От неподвижного сидения на снегу у нее замерзли ноги, и она рада была поскорее выбраться отсюда.
Застоявшийся конь соскучился по теплому стойлу и бежал быстрее, чем раньше.
Старые березы с ветвями, искривленными какой-то неведомой человеку судорогой, проносились навстречу по обеим сторонам дороги, будто желали в своем невольном беге уцепиться за сани с сидящей в них Ольгой.
Ольга как-то забыла все и загрезилась. Грезы ее были необычны, унесли ее, убаюкали. Они сотканы были из солнечных лучей и морозных игл. Какие-то замки вырастали и рассыпались, как сахар.
Почему в своем сердце она не находила обиды или гнева? Почему Ширвинский, с его темными желаниями, был так далек от нее в эти минуты, она не могла бы ответить.
Вольный бег саней по скрипучему снегу уносил ее все дальше. Она никогда не чувствовала себя так блаженно, как теперь. Но ее лицо оставалось строгим, без улыбки, только в душе был сладкий мир. Она была одна в солнечном молчании морозных полей,— люди с их жизнью ушли от нее. Ей нравилось быть холодной, быть зимой.
Неясные образы какой-то сказки рождались и меркли, чтобы более не воскреснуть. Ей не дано было схватывать их и передавать в красках, звуках или словах.
Когда она подумала об этом, ей стало грустно, что она такая бесталанная. Смеясь, брат называл ее «артистической натурой без таланта». Теперь ей показалось это обидным. И точно, она многое чувствовала, но сейчас же проходила мимо. Для чего же она живет? О, конечно, не для скучной, серенькой жизни жены и матери. Ее убивает одна мысль об этом! Нет, нет, никогда! Но тогда что же? Она не может быть художницей, ни музыкантшей, ни писательницей, ни даже актрисой… Для актрисы у нее слишком мало терпения. Она никогда не стала бы великой, а маленькой — нет, это тоже не ее роль.
Она усмехнулась. Мысли привели ее к Ширвинскому. Она вспомнила его слова, показавшиеся раньше такими забавными. Любовь… она мечтала о ней, она ждала ее, томилась по ней, но никогда не думала, что любовь может быть искусством, профессией, призванием жизни. Со всем этим у нее было связано представление о чем-то низком, грязном. Она знала даже имя этому. Такое грубое имя, часто срывающееся с языка ее брата.
О, нет! Эти жалкие женщины, почти животные, зарабатывающие себе на хлеб своим телом — они не были жрицами любви.
А ведь любовь так прекрасна. В ней столько тайны, столько чар, доступных только искусству. И она не там и не здесь: ни в семье (сейчас же ей вспомнилась жизнь ее матери и отца), ни на улице, где торгуют ею падшие. Где же она?
Не среди ли тех, о которых говорил Ширвинский? Среди этих новых женщин, умеющих любить вне всяких рамок. Но не понимая, она все чувствовала здесь какую-то ложь, только слова. Нужно было что-то допустить, и тогда только сбывались грезы. Снова начиналась сказка, но совсем другая, новая, жгучая. Это был какой-то золотой вихрь, в блеске которого царила она — Ольга. Потом краски стали бледнеть. Она увидала темную площадку вагона и на ней — смутное лицо незнакомца. Сердце ее больно сжалось, Ольга вскинула глаза и оглянулась. Они уже ехали по городским улицам. На углу к забору была приклеена красная афиша. На ней огромными буквами написано:
«В здании мужской гимназии состоится сегодня, с разрешения начальства, студенческий костюмированный вечер и встреча Нового года. Вход по билетам. Первое отделение: Живые картины, пение, декламация, хор балалаечников. Второе отделение: Апофеоз Нового года. Танцы. Начало в 8 час. вечера».
Ольга сейчас же вспомнила, взглянув на афишу, что костюм ее еще не готов, и стала понукать кучера.
Был уже четвертый час.
К первому отделению Ольга все-таки не поспела, так как, примеривая свой еще прошлогодний костюм «Кармен», который ей переделывала тут же портниха, она раскапризничалась и решила ехать в обыкновенном домино. Пока ей шили домино из черного шелка с золотисто-желтой подкладкой и такими же большими пуговицами и капюшоном, пока она умывалась, пудрилась, душилась, причесывалась, а потом искала те черные шелковые чулки, которые ей нужны были, и желтые сафьяновые туфельки, пока, наконец, она оделась и еще раз взглянула на себя в зеркало,— пробило уже одиннадцать.
Кроме того, у нее вышла неприятная сцена с отцом. Войдя к нему в кабинет, чтобы попросить у него денег на извозчика и цветы (за ней обещал приехать Вася Трунов, но что-то запоздал), она застала его сидящим на диване с горничной Машей, которая, увидя барышню, кинулась было к двери, но не успела и должна была остановиться, давая ей дорогу.
Произошла опять дикая, некрасивая сцена. Взбешенный отец кричал на дочь за то, что она без спросу ходит в его кабинет, и тут же оправдывался, что горничная массировала ему руку, а Ольга кричала на отца и, возбужденная уже раньше, топала ногами и требовала, чтобы он немедленно, сию же минуту выгнал Машу.
На шум прибежала Ксения Игнатьевна, с которой случился нервный припадок, и ее нужно было отнести в спальню.
К счастью, не было в доме Аркадия, исчезнувшего еще с прошлого вечера в компании офицеров куда-то в соседнее имение на травлю волков. Почти все праздники его не видали дома, так как он боялся встречаться с Варей.
Все эти неприятности и неожиданные помехи сделали то, что Ольга вошла в актовый зал, превращенный на эту ночь в танцевальный, в ту минуту, когда занавес упал в последний раз, скрыв живую картину рождения Нового года.
Ольга стала искать глазами своих подруг и знакомых.
К ней подходили и здоровались с нею студенты, гимназисты, юнкера и кадеты, которых она едва помнила, но с которыми, как оказывалось, танцевала в прошлом и позапрошлом году. Всем им она приветливо кивала головой и обещала танцевать.
Все эти безусые, молодые лица с восхищением или с сочувствием смотрели на Ольгу, и ей постепенно становилось все веселее. Знакомый воздух бала горячей душистой волной обнимал ее и уносил. Начинала кружиться голова, весело блестели глаза, ноги сами собою двигались.
Шум раздвигаемых стульев, как шум лавины, пронесся с одного конца зала до другого.
Традиционные маркизы, цыгане, трубочисты, русалки, зи́мы и вёсны сливались в одну пеструю, весело гудящую толпу.
К Ольге пробрался запыхавшийся Вася. Впереди себя в вытянутой руке он нес большой букет белых и желтых хризантем.
— Вот вы где,— кричал он,— простите меня, Олечка, что я так гнусно запоздал. Мы разъехались с вами. Но хорошо, что наконец мы встретились. Вот вам обещанный букет. Берите его и идемте со мною. Здесь адски жарко. Вы, конечно, не забыли, что первый вальс, мазурку, польку-кокетку и котильон мы танцуем вместе. Не так ли? Будьте осторожны — не наступите на шлейф этой симпатичной герцогине. Ах, Сонечка! Здравствуйте… С вами? Да, да, конечно.
Он держал за руку Ольгу, пробираясь вперед, раскланиваясь, извиваясь, как уж, в своем гимназическом мундирчике — тонкий и верткий — и не переставал говорить и смеяться. Его большие черные глаза искрились неподдельным ребяческим весельем. Он уже не пугал Ольгу своим жутким взглядом на бледном хмельном лице.
Он был по-прежнему веселым гимназистом, славным товарищем и восхитительным танцором, танцевать с которым почиталось особой честью.
Ольга встретила всех своих лучших подруг — Раису, Маню, Лену, Варю, а с ними их кавалеров — Маниного Жоржа-политехника, Антошу Богуша и барона Диркса.
Они все очень громко смеялись, кроме Вари, сидевшей поодаль молча и с беспокойством поглядывавшей на двери.
Варя первая кинулась к Ольге с застывшим на лице вопросом.
Ольга участливо пожала ей руку.
— Он придет?
— Не знаю, право…
Молодежь кричала:
— С Новым годом, с Новым счастьем!
Из актового зала неслись резкие взвизги настраиваемых инструментов.
Лена хохотала непрестанно, охмелевшая от радости, с горящими вишневыми глазами, с растрепанными волосами, в полуфантастическом цыганском наряде.
Маня в костюме тирольки была очень миленькой со своим вздернутым носиком, глупенькими голубыми глазками, пухлым чувственным ртом и ямочками на щечках.
Подальше, среди пальм и гротекусов, сидела Раиса с бароном.
Ольга всплеснула руками, глянув на нее. На ней был костюм Мефистофеля: кроваво-красное трико на ногах и черное перо на красной шапочке, на боку висела шпага, лицо было под искусным гримом, но все же ее можно было узнать сразу.
У ног ее сидел, весь в белом, бледный Пьерро — барон.
— Рая, да что с тобою, тебя выведут!
Рая только улыбнулась.
Барон, меланхолично склонив набок белую в колпаке голову, скандируя, декламировал стихи.
— Мне нужно поговорить с вами, Оля,— шептал сзади Вася.
Но Оля плохо слушала. В своем скромном черном домино с большими желтыми пуговицами она молчала, опустив вдоль худеньких бедер руки. Изогнутый рот ее загадочно улыбался приподнятыми углами. Выпуклые глаза застыли. Алый свет скользил по ее бледному лицу. Она силилась что-то понять, а может быть, она уже чуяла что-то, что было темно другим.
— Оля, что с вами? Вы слушаете?
— Да, Вася.
Ее голос шел как будто издалека. Она не оборачивалась к Трунову.
Барон певуче продолжал:
— Я все о том же, Оля,— шептал на ухо Вася, и голос его дрогнул, а лицо стало напряженным и жутким.— Вы обещали меня поцеловать… я помню это хорошо… Оля, Оля!..
Он стоял совсем близко, горячо дыша ей в затылок.
Она внезапно обернулась.
— Ах, Вася, зачем это? Ну, я обещала, я помню хорошо тоже, что сделала эту глупость. Но для чего вам? Посмотрите на себя, на вас лица нет, а вы такой славный мальчик, когда танцуете… Полно! Слышите, уже играют вальс. Идем танцевать. Мне хочется веселиться. Понимаете, просто веселиться, как девочке… а вы, глупый…
Она схватила его за руку и побежала к дверям.
Он говорил ей на ходу, с упреком, уже притихший:
— Но вы же целуете других… Зачем скрывать… Почему меня вы не можете?
Она совсем искренно рассмеялась.
— Ах, Вася, Вася, дорогой мой друг… Тем лучше для вас, если это так!
И, оборотившись к выходившей вместе с ними Варе, звеневшей яркими бусами своего хохлацкого наряда, она ей промолвила:
— Моя славная девочка, ты белая ворона среди нас… Я люблю тебя, но пойди перемени скорее свои перья, если не хочешь, чтобы тебя заклевали.
Потом, уже отойдя, крикнула:
— Вот, Вася, поцелуйте ее, раз вам так хочется целоваться.
Варя, удивленная и непонимающая, смущенно глядела ей вслед. Она пришла сюда, чтобы хоть издали увидать Аркадия. Она вообще как-то плохо стала понимать, что происходит вокруг, все упорнее прислушиваясь к самой себе.
Вальс «Тоска о прошлом» свивал, как ветер листья, одну пару за другой, унося их в сладостном водовороте. Шелест платьев, шарканье ног, запах пудры, духов и тела — все напоминало о золотой осени, о виноградном сборе, о рыжем солнце, разметавшем свои волосы по ликующему лесу и дышащем на землю истомой желания.
Без воли, без мыслей Ольга кружилась в вихре черного и желтого.
Среди танцев ее отвел в сторону Ширвинский. На нем был фрак, великолепно сшитый; в манишке белоснежной рубашки матово переливали жемчужины.
— Позвольте оторвать вас на минуту от вашего кавалера. Быть может, это опять некстати, но я пользуюсь случаем, чтобы вторично выразить мои сожаления по поводу случившегося. Знайте, что я глубоко оскорблен вашим некрасивым подозрением, заставившим вас выпрыгнуть из саней. Я не зверь и не хулиган. Насильно данные поцелуи для меня не имеют цены. Я хочу, чтобы вы сами поняли правоту моих слов. Если даже мое сумасшедшее, властное чувство к вам и прорывается иногда слишком заметно, то все же меня не должно бояться.
— Я не боюсь вас!
Он усмехнулся зло и снисходительно, не отводя от нее своих колющих глаз.
— Чем вы докажете мне это?
— Чем угодно!
— Даже если это испытание я вам предложу сегодня?
— Да!
— О, не волнуйтесь, не волнуйтесь, милые дамы. Здесь никто и ничто вас не обеспокоит. Все мною заранее предусмотрено. Ваши голоса и ваш смех не долетят ни до чьего нескромного уха. Мы прошли задними ходами в этот кабинет и таким же образом уйдем. Лакей, который будет нам подавать, верен мне, туг на ухо и нем, как рыба. Кроме того, ваши фантастические костюмы сделали вас неузнаваемыми. Забудем же на время, что мы в нашем скучном грязном городке, вообразим, что нас несет стройная яхта в открытом море и далеко вокруг не видно берегов, не слышно людей. Мы одни. Не правда ли, при этой мысли какая-то тяжесть сваливается с плеч. Четыре девушки и четверо мужчин. И все они молоды! Вокруг нас шумят волны, которым нет до нас никакого дела… Я вас спрашиваю, господа, разве это не восхитительно?
Ширвинский с тонкой улыбкой скользнул взглядом по девушкам, немного дольше остановился на строгом лице Ольги и мельком глянул на мужчин.
— Итак, я хотел бы, чтобы Новый год дал нам новые настроения. Сделайте со мною маленькое допущение, примите за истину мою красивую ложь, и все остальное приложится вам. Нас восемь — Мефистофель, искушенный в соблазнах и чуждый стыда, мудрый в тайнах порока, как женщина; таинственное домино — двуликое, как Янус — то желтое, как безумие, то черное, как безнадежность; цыганка с беззаботным смехом и вакхическими глазами; скромная хохлушка, как напоминание о давнем, наивном и печальном, сладкая капля романтической грусти после оргийных плясок… Трое мужчин во все поры своих исканий: в раннюю пору сладких грез и «грусти нежной»; в пору сомнений и чувственных утех; в пору зрелости пресытившейся, утонченной, но жадной. Наконец, как символ — тоскующий Пьерро. Вот изысканное общество нашей увеселительной яхты. А вот стол нашего пиршества — прошу отведать!
Ширвинский умолк, сделав широкий жест по направлению стола, убранного со всею возможною пышностью, доступною провинциальному ресторану.
Среди бокалов и вин расцветали белые, сладко дышащие ландыши и лиловые цинерарии. На двух концах пылали восьмисвечники, мешая свой желтый живой огонь с бледным мертвым светом электричества вверху.
Ольга пила, но не пьянела. Ясно, как никогда, она отдавала себе отчет во всем. И чем шумнее становились ее соседи, тем увереннее делался ее взгляд. Какая-то упрямая морщинка залегла между ее бровей.
Ширвинский не спускал с нее глаз. Он тоже казался совсем трезвым.
Варя печально шептала ей на ухо:
— Ах, зачем ты привела меня сюда? Зачем сказала, что он будет тут? Разве мне весело? Разве я нужна вам? Я уйду отсюда!
Но Ольга удерживала ее.
— Нет, нет, останься с нами. Это ничего, это пройдет!.. Тебе нужно жить, ведь ты такая хорошенькая. Не будь дурочкой.
Варя, больная, лежала на кровати, с распущенными каштановыми волосами, с синими глазами, теперь ввалившимися, с пожелтевшим маленьким лицом. Ольга сидела над нею. Она привезла подругу к себе, потому что знала нищету и грязь ее отчего дома. Аркадий, проведав о случившемся, рвал на себе волосы.
— Черт тебя дернул везти ее к нам.
Ольга спокойно и сухо ответила:
— Если тебе это не нравится, можешь уезжать отсюда.
И он уехал опять в деревню. Отец махнул на все рукой, целыми днями играя в карты, а мать лежала у себя в спальне, тоже больная. У нее снова начали пухнуть ноги. От невыносимой боли по ночам она кричала без памяти.
Ольга пробовала согревать своим дыханием и растираниями ее оледеневшие члены.
Иногда ей казалось, что мать умерла,— так холодно было ее тело и так слабо билось сердце. Тогда она плакала холодными скупыми слезами усталости, тупого отчаяния. Все желания умирали в ней, все казалось до ужаса омерзительным.
Она останавливалась в темном коридоре между двумя комнатами, где ее ждали две больные; прятала лицо в старые платья, которые висели там; закусывала нижнюю губу и, закрыв пальцами уши, силилась забыться, отрешиться от ощущений бытия.
— Ты опять задумалась, Оля,— прошептала Варя.
— Нет, нет, милая, это я так…
Подруги перечитывали старенький гимназический альбом в зеленом бархатном переплете — забавное воспоминание о первом классе, когда у всех были такие альбомы.
— Вот слушай:
— Какова Ленка!
— А вот еще:
Варя смеялась тихим, слабым, умиротворенным смехом. Ольга улыбалась.
— Послушай, Варя, скажи мне, отчего ты это сделала?
Смех замер на губах больной. Тревожные глаза остановились на строгих глазах подруги.
— Ах, мне было так тяжело!
— Ну?
Ольгины глаза пытали, допрашивали.
— Я чувствовала, что не могу жить без них двух, а нужно было бросить или одного или другого. Я не умею так, как ты — никого не любить, и так, как Маня — наслаждаться любовью… И потом, я много выпила тогда, мне было очень плохо, а пение сводило меня с ума. И вот, когда я осталась одна, я выпила серной кислоты, что ставят между окон зимой и которую несколько дней уже носила с собою, но боль стала адская, я начала искать графин в темноте… горло горело, как в огне… когда наконец я нашла воду и сделала глоток, боль сделалась нестерпимой и я закричала…
Оля кивнула головой.
— Я знала, что это ты, но никому не хотела говорить…
— Ты не хотела?
— Да… я думала, пускай она сделает то, что ей нужно, но барон первый пришел в себя и побежал к тебе…
— Ты хотела, чтоб я умерла?
Варя, бледная, испуганная и трепещущая, смотрела на подругу.
— Но разве ты сама этого не хотела тогда?
Ольга опять улыбалась скупой, почти злой усмешкой.
— И тебе не было жаль меня? О, я не поверю этому. Ты так ухаживаешь за мною!
— Мне жаль тебя сейчас — это правда, но в ту ночь я почти завидовала тебе. Ведь это так хорошо — не быть, если не умеешь быть…
— Значит, ты тоже страдаешь? Значит, тебе тоже тяжело?
Варя приподнялась на локоть, пытаясь обнять подругу.
— Нет, милая, я не страдаю и мне не тяжело… Я просто не знаю, что мне нужно… Поверь мне, я не такая счастливая, как ты, у которой есть из-за чего умирать. И ты ложись и не бойся — со мною вряд ли когда-нибудь это случится.
Она снова наклонилась над альбомом с нелепыми стихами далекого, странно-невинного прошлого:
— Оля, послушай, Оля, а почему ты тогда раздевалась, когда привела меня в номер… Ты делала это очень скоро, было темно, но я все видела, хотя и лежала на кровати… Скажи мне Оля, зачем?
Ольга ответила, не подымая голову от альбома:
— Чтобы скорее запачкаться. Но ты все равно не поймешь этого и лучше не спрашивай.
Перелистывая альбом, Ольга долго молчала. Она смотрела на исписанные листы, где крупный твердый почерк переплетался с мелким, ясный и правдивый — с крючковатым и лживым. И столько, сколько было здесь различных почерков, столько было и различных имен, а каждое имя носило свое лицо, свою судьбу.
Вот имена самых близких подруг — Мани, Раисы, Лены и Вари. С ними Ольга прожила бок о бок несколько лет, сидела с ними на одной скамейке, делилась радостями и горем. Но, боже мой, как они все различны. И как они изменились за это время. Разве она может сказать, что хорошо знает их? Только одно знает, что все они что-то имеют, ради чего живут… Эта курносенькая булочка Маня, которая была так забавна и глупа, когда поступила в гимназию,— что только она не испытала. Ее можно было бы назвать героиней, если бы все то, из-за чего она страдала, не было бы так по́шло. Любовь к Жоржу, эта всепоглощающая страсть к мужчине, у которого только одно сильное тело и ничего больше. Но во имя этой страсти Маня убивала свое тело и то, что являлось плодом этой страсти. Что готовила она себе в будущем? Ах, боже, но ведь она счастлива.
А Раиса, эта некрасивая девушка с повадками развращенного мальчишки… А Лена — веселая и жадная… Грустная Варя, вот эта, что лежит рядом. Да, да… конечно…
Ольга порывисто встала, вытянула вперед руки, заламывая пальцы. Глаза потемнели.
— Что с тобою? — спросила Варя.
— Ах, со мною ничего! Я вот только думаю, и меня сводят с ума мои мысли. Наверно, глупым не следует думать. А может быть, я слишком умна — и это тоже скверно. Но вот, я вас всех понимаю — и Маню, и тебя, и Раису, и Лену… Для одной нужен самец, для другой — муж и ребенок, для третьей — наслаждения, для четвертой — просто деньги и удовольствия… Да, да, я понимаю, что все вы ради этого можете пострадать, должны пострадать, потому что будете вознаграждены. Ну а вот та, которая никого не любит или любит то, что как сон прошло мимо,— любит любовь жгучую, полную, всезахватывающую, где душа и тело не двоятся, слиты, где нет «я» и «ты». Как же той страдать и за что? Научите — потому что сладко такое страдание…
Ольга говорила громко, не спеша, проникновенно, вся уйдя в одно желание передать то, чем болела ее душа и для чего были пустой звенящей шелухой человеческие слова.
Варя напряженно слушала. Потом, когда Ольга замолкла, сказала тихо и печально:
— Ты счастливая, ведь разве этому можно научить? Ну да, ты говоришь так потому, что еще девушка…
Ольга вздрогнула. Краски минутного оживления сбежали с ее щек. Она пристально посмотрела на Варю.
Нет, она ничего не знает. Она смотрит на нее просто, как всегда, немного с завистью, но не подозрительно. Она не знает того, о чем Ольга сама старалась не думать, забыть, но что было… было…
В одну из тех минут, когда без сил, без воли, без желаний она стояла в темном коридоре между двух комнат двух больных — подруги и матери, к ней подошел Ширвинский. Он хотел повидать ее брата, но, не застав его, столкнулся с нею. Она даже не испугалась, когда неожиданно увидала его около. Ей было все равно. Они не поздоровались и стояли молча друг против друга.
Совсем чужой и безразличный в эту минуту, он обнял ее и привлек к себе. Она не противилась. Тупое оцепенение охватило ее; голова была пуста, почти мертвая. Только тупая, ноющая боль в груди, боль тоски давала себя чувствовать, и одно желание — убить эту тоску, как убивают нерв больного зуба, владело мыслями. Ей хотелось забыться, уйти от давящей безнадежности, от стонов, от запаха трупа, который точно владел уже этим домом; ей хотелось хотя бы страданий, унижений, забвения всего и самой себя. Все равно, кто принесет это избавление; воля не направляла чувств, тело властно тянуло к жизни, боролось за жизнь, возмущалось против смерти, которая бродила около.
Она возвращала Ширвинскому поцелуи, как дыханием возвращают ветру его взмахи — безучастно, но неизменно. Должно быть, он сам не верил, что это может произойти сегодня. И все-таки она ему принадлежала…— без любви, без ласки, с мертвым сердцем, раздавленная, уничтоженная и равнодушная.
Этой ночью Ольге не пришлось уснуть. До полночи мучилась Ксения Игнатьевна, стоная от боли, переходя то с кровати на кресло, то с кресла на диван, нигде не находя покоя своему больному сердцу.
Ольга терпеливо пестовала ее, но мысли ее были далеко. С того вечера, как она стала принадлежать Ширвинскому, с того часа, как тело ее было отдано в плен чужой страсти, Ольга забыла как-то о себе, и любовь, распускавшаяся дотоле в ее любви к далекому, увяла, оледенела. Иногда ей вспоминался тот тихий вечер 22-го декабря, и белые хлопья снега на примолкнувших улицах, и темные глаза незнакомца, согревшие ей душу, и тогда ей начинало казаться, что это было давно, слишком давно, чтобы считаться явью. И она гнала эти воспоминания, боясь касаться их теперь, поддерживая в себе бездумное равнодушие.
Почти ежедневно она ходила к Ширвинскому. Она отдавалась ему по первому его требованию и не чувствовала в себе даже отвращения. Ей казалось, что так нужно. Она знала, что придет домой и застанет больную мать, больную подругу. Ей хотелось бы забыться, испытать хоть на миг наслаждение. Уходя, она не знала, нужно ли возвращаться, не думала, как долго протянется эта связь.
Но она шла на следующий день снова, потому что об этом ее просил ее любовник. Она так не походила на девушку, у которой преступная связь, что никто не мог догадаться, куда были ее частые отлучки.
Сегодня впервые она заговорила с Ширвинским об их отношениях. Она все еще была под впечатлением Вариных страданий и, уже собираясь уходить, вдруг вспыхнула смертельной тревогой и спросила:
— А если у меня будет ребенок?
Ширвинский, принявший с нею за эти дни покровительственно-снисходительный тон, ее успокоил.
И больше они уже об этом не говорили.
Она ушла домой; заглянула к Варе, которая все еще не вставала от слабости и боли в спине; потом, сняв шелковую свою кофточку, надела красную распашонку, заплела косичками волосы и пошла к Ксении Игнатьевне.
Больная наконец уснула. Вздрагивая и слабо стоная во сне, она лежала навзничь, с брошенными поверх одеяла восковыми руками. Лицо тоже было восковое, с заостренным носом, но руки при свете лампадки пугали больше своею тяжелой неподвижностью.
Одно мгновение Ольга подумала, что перед нею труп. Она быстро прикрыла руки матери пледом и села в кресло.
Девушка слушала, как кровь, приливая к ее закинутой кверху голове, стучала в виски. Но мало-помалу она уплывала в далекое…
Нагоревший фитиль лампады перед старинным киотом затрещал и погас.
Ольга вздрогнула, окруженная со всех сторон сплотившимися тенями, но сейчас же замерла, плененная прошлым.
Перед ней прошли давно забытые образы из такого теперь, казалось, далекого детства. Она увидала ясно, точно во сне, более ярком, чем действительность, и чужой край, поразивший ее тогда своими тихими озерами и снежными высями, и себя, и брата Аркадия, и отца, и мать.
Бывают таинственные часы в нашей жизни, которые мы переживаем дважды. Такой час возврата наступил для Ольги.
Она сидела со своим братом в угловой гостиной, у открытого окна. Ветер ласкался к ее волосам и веял в лицо запахом водяных лилий.
Над озером гасло солнце, и озеро было темно-красно, а лес у его берега казался черным. Чайки и стрижи резали воздух.
Стоящий на столе огарок пылал то желтым, то синим огнем и плакал белыми слезами.
Оба ребенка смотрели на свечу и, кажется, думали одно и то же.
Там, на другом конце дома, умирала их мама.
Она давно уже лежала в кровати, пылающая и обессиленная, и давно дети не слышали ее голоса, потому что их боялись пустить к ней.
Сначала они плакали, оба рвались к больной, но потом как-то притихли. Брат еще плакал тихими слезами по вечерам, когда ложился спать; он привык, что мама всегда крестила его перед сном и читала с ним молитвы, и воспоминание об этом вызывало слезы. А Оля сделалась молчаливой, почти неслышной и часто сидела неподвижно, точно о чем-то долго и напряженно думала. Глаза ее широко открылись, и она вздрагивала при каждом неожиданном шуме. В эти дни к ней очень привязалась большая черная собака Неро. Умное лохматое животное бесшумно подходило к девочке, клало на ее колени свою морду и пристально смотрело на нее. А по ночам она взбиралась к Оле на кровать и ложилась рядом с ней, как человек, вытянувшись во весь рост. И это ничем необъяснимое поведение животного, всегда такого флегматичного, жутким трепетом наполняло душу Оли.
Девочка боялась спрашивать о маме, боялась заговорить о ней, хотя все мысли ее были с нею, и это казалось непонятным для окружающих, а отец упрекал ее в черствости. Но она не возражала на упреки, она боялась маминой комнаты, она была вся под игом какого-то непонятного, но тяжелого предчувствия.
И теперь, сидя здесь с братом, она знала, что там у мамы собрались доктора, что наступил кризис, который что-то должен решить, но ей все это казалось далеким; она была полна своими мыслями, своими представлениями, своей верой в неизбежное… А когда огонь свечи, колеблемый ветром, внезапно потух, Оля почувствовала резкий холод в спине и почти невольно проговорила вслух сорвавшимся голосом:
— Это умерла мама…
И сама ужаснулась своих слов и посмотрела на брата.
В больших синих глазах мальчика стояли слезы, и он ответил ей дрожащими губами:
— Я тоже об этом подумал…
Потом уткнулся лицом в шелковую подушку дивана и заплакал. А Оля съежилась, но глаза ее остались сухими.
Теперь все было кончено. Тяжелая крышка, висевшая над ней, упала. Не было ни надежды, ни веры — совершилось неизбежное.
Мама умерла.
Оля это чувствовала всем своим существом. Мамы не было больше. Кто-то холодно и ясно говорил ей это. Но слезы не шли.
Она смотрела на чаек, на замерзшую гладь озера, на гряду леса — и все это отражалось в ее глазах, в ее мыслях. Все это она видела, слышала и понимала отчетливо, как никогда, но во всем была пустота, не было связи, все говорило:
— Мамы нет…
Она не заметила, как в комнату вошел отец, бледный, утомленный, с чуть уловимой радостью в глазах. Он подошел к сыну и обнял его склоненную голову. Казалось, он хотел сказать что-то, но не мог. Потом посмотрел на каменное, неподвижное лицо дочери, и тень раздражения упала на его губы.
— Дети,— сказал он,— ваша мама спасена.
Он приостановился и тотчас же повторил тверже:
— Да, да… мама скоро поправится… кризис миновал.
У него появились слезы на ресницах — слезы утомления и слабости.
— И я пришел за вами… она зовет вас…
Лицо мальчика, помятое от жесткой подушки и красное от слез, мгновенно прояснилось. Глаза вспыхнули верой, счастьем, беспечностью. Он кинулся на шею отца и лепетал порывисто и быстро:
— Мама, мама здорова?.. Мама жива?.. А мы…
Он хотел посмеяться над тем, что они только что говорили с сестрой, но, взглянув на нее, умолк.
Она сидела такая же печальная, бледная, худенькая и молчаливая, точно радостная весть отца не коснулась ее уха. Узенькая полоска между бровями сделалась глубже, а глаза казались потухшими.
— Что же ты молчишь? — изумленно, почти враждебно, с эгоизмом успокоившегося, счастливого человека, спросил отец и, взяв за руку сына, поднялся.
— Идем.
Больная лежала на кровати, бледная и тонкая, с распущенными черными волосами, и смотрела на вошедших усталым, но счастливым взглядом выздоравливающей. Она чувствовала дыхание жизни, вернувшееся к ней, и ничего другого не хотела знать, кроме радости жизни.
Оля остановилась на пороге и в упор смотрела на мать. Она не подошла к ней и почти не узнавала ее. Точно что-то непонятное, нереальное совершалось перед ней, и она хотела проснуться. Она видела, но не принимала в себя видимое, потому что сознание ее жило в другом.
И когда она услышала голос матери, зовущий ее по имени, когда отец взял ее за плечи и силой хотел подвести к постели, она вырвалась из его рук, выбежала в темный длинный коридор, точно убегая от кошмара, села на пол и заплакала.
Оля ощутила теперь всю тяжесть своей утраты, и чего-то до боли мучительно было жаль.
Черный большой Неро пришел к ней, пристально смотрел на нее и, казалось, хорошо понимал своей темной и таинственной душой зверя.
Эта давящая тяжесть утраты владела Ольгой и теперь, когда, открыв глаза, она ослепла от окружающей тьмы.
Спеша и натыкаясь на вещи, девушка подбежала к кровати. Мгновение… и поднятые руки замерли, не имея сил опуститься на тело, которое чудилось мертвым.
Нет, страх обманул — Ксения Игнатьевна дышала. Но почему казалось Ольге, как и тогда, в прошлом, что предчувствие ей не солгало?
В средине января, когда в гимназии уже начались занятия и Ольга, как гимназистка, должна была ходить на уроки и кое-как готовиться к ним, урывая для этого время от ухаживаний за матерью и свиданий с Ширвинским, которые, раз начавшись, так и продолжались, все глубже коверкая душу девушки и затягивая в тихий омут просыпающейся чувственности,— в эту пору бездорожья и безволия Вася Трунов писал Оле:
«Оля, Оля, умоляю вас, выслушайте меня. Вы почему-то никогда этого не хотели сделать. Вы всегда смеялись надо мною, ни разу не могли поцеловать. Что для вас один поцелуй, когда вы их… Я следил за каждым вашим шагом, я читал в ваших глазах, я ловил каждый ваш жест. А тогда, Ольга, когда вы стояли перед нами, как видение… я не знаю, что тогда было со мною. Я плакал, как ребенок, нет, как человек, для которого вся жизнь в том, что он не может взять… Я всегда мечтал о любви чистой и прекрасной, и мне противны были поцелуи тех, в ком нет любви. Я хотел сохранить свое тело для той, которую полюблю. Я мечтал о ней, о моей возлюбленной, с тоскою, с болью. Долгими ночами я плакал о ней, звал ее. Ее не было. Вы не знаете, как трудно оставаться девственником, когда кругом столько соблазна, когда все в лицо смеются над тобою, когда, наконец, ты слышишь биение своей крови, когда тебе уже 18 лет. Но все-таки я был счастливее тогда. У меня была надежда, я баюкал себя в сладком сне. Иногда даже я испытывал какую-то особенную радость, острое блаженство, что я девственник, что вот придет та, которую я полюблю, и возьмет от меня все, что может ей дать страсть, молодость, невинность. Понимаете, я любил свое тело, я холил его, я любовался его стройностью, его чистотой. Мне казалось, что его нельзя не любить. Но вот я увидел вас, которую знал раньше, но не видел. Тогда началась моя пытка. Вы почувствовали сразу, что я в ваших руках, что из меня можно вить веревки. И вы заставляли меня передавать поклоны актерам, носить записки, вы не стеснялись при мне говорить о своих чувствах к другому, вы обещали поцеловать меня, если я месяц не буду говорить с вами. Я покорялся. У меня не было сил бороться. Не знаю даже, любил ли я вас, но вы тянули меня к себе, я не мог не думать о вас, я стал принадлежать вам.
О, сколько раз теперь я проклинал свою неумелость, свой девственный стыд, мешающий мне быть таким же хитрым, сильным и обольстительным, как другие. Тогда бы я сумел заставить вас покориться мне, я не молил бы о жалком поцелуе, я не ползал бы перед вами на коленях, не плакал бы. Теперь я понял, как смешон был в своем романтическом желании сберечь себя для любимой девушки.
Вы развратили, исковеркали, растоптали мою душу и тело. Да, да — вы! Вы берегли себя для человека, которому ваши ласки — только лишнее удовольствие, случайное препровождение времени, который глумится над вами, не стесняясь по секрету рассказывать о своей связи с вами всем и каждому… а мне, мне, для которого вы все, вы первая,— вы жалели бросить, как подачку, жалкий поцелуй.
Будьте же вы прокляты и, если можете, смейтесь надо мною, над любовником своим, над собою.
Смейтесь, потому что я потерял и стыд и совесть. Я пришел к вашему любовнику и рассказал ему все. Но он не выгнал меня. Он тоже смеялся… он потирал руки… Он уступил мне вас. Не спрашивайте — как. Вам не для чего знать, какими путями люди приходят к подлости. Но я вам не лгу. Мне страшно стало самому, что это не ложь.
Нет, не проклинаю я вас, а благословляю. Я опять готов целовать следы ваших ног. Поймите, что вы для меня все. Только не гоните от себя, приласкайте меня, и я, как собака, буду лизать ваши руки. Я убью его по первому вашему слову, потому что он ваш враг, он темная тень на всей вашей жизни. Ведь вы же не любите его.
Ответьте мне. Я буду ждать ответа до завтра, и если его не будет, то пусть все останется так, как мы решили с Ширвинским. Другого выхода у меня нет.
Вася».
Ольга смеялась долго, упорно, точно кто-то посторонний заставлял ее смеяться. Она сидела над педагогикой и смеялась так, что у нее закапали слезы на желтые страницы книги. Она не отирала их, не рвала злополучного письма. Ее не мог возмутить тон его, но и смешного в нем она ничего не находила. А однако смех все еще резкими толчками подымал ее грудь. У нее не было сил бороться с ним. За последнее время она разучилась управлять своей волей. Иногда даже это забавляло ее. Она делала все как-то непроизвольно. Ее будили, чтобы она шла в гимназию, и она покорно вставала и шла; потом она обедала, потом бежала к Ширвинскому,— всегда бежала, точно боясь опоздать, боясь не пойти. Это был запой — тяжелый, болезненный, но неизбежный. Всегда с отвращением вспоминая о подробностях своих свиданий с Ширвинским, Ольга все же не могла бы прекратить их. Она превращалась в другого человека, переступая порог комнаты своего любовника. Там она теряла стыд, забывала время, утрачивала способность рассуждать. Он делал с нею, что хотел.
Он мучил и развращал ее, с любопытством следя за тем, как она это воспринимает. Он поил ее ликером мараскино {16}, который она так любила, и говорил ей все, что приходило в его возбужденную голову. Подмечая ее слабые стороны, ее маленькие девичьи тайны, дорогие для нее, ее суеверные привычки и наивные мысли, он трунил над нею, цинично осмеивал ее. Перед нею постепенно распадался тот мир, которым она жила раньше, все принимало уродливые, пугающие и бессмысленные формы, все святое меркло и гасло.
И каждый день она шла на эту муку, чтобы еще раз испить горькую чашу соблазна и униженной наслаждаться своим страданием.
Но все это оставляло ее сейчас же, как только она выходила на улицу и, спешно ступая, шла по белому снегу. В своем зимнем уборе город был чище и уютнее. Он шептал, шуршал, супился в сизой морозной дымке; согревал себя желтыми мерцающими огнями, кутаясь в пар и дым и розовое зарево. А дальше вокруг спали хмурые поля, застывший лес.
«Как хорошо, что есть вот эти звезды, и снег, и взъерошенные извозчичьи лошади, и галки на крышах,— думала Ольга.— Что такое в них чудесного, что они так баюкают всякую печаль? И почему это только иногда все ясно так видишь? И как только видишь это — не помнишь самой себя, не кажешься себе самым важным, самым нужным на земле…»
Под мостом, как давно когда-то, играли «На сопках Манджурии». Ольга останавливалась на мосту, облокачивалась на перила и слушала.
Вот только одну эту тайну она сохранила для себя, не выдала Ширвинскому.
Двадцать второе декабря. Скоро месяц, как это было. Но все, до мельчайших подробностей, ей памятно.
— Ты смеялась, Ольга?
— Да я смеюсь и теперь!
Варя подошла к подруге и опустилась у ее ног на скамеечку.
— Я рада, что ты опять смеешься…
— Серьезно?
— Да, последнее время ты как-то ушла от нас. А я так счастлива.
— Ты счастлива?
— Ужасно. И я должна благодарить тебя за это. Ты такая добрая. Мы ведь опять помирились с Аркадием…
— Но я-то тут при чем?
— Ты сблизила нас. Оставив меня у вас, ты приучила Аркадия ко мне. Он сказал, что не подозревал о том, что может так привязаться к женщине.
— Еще бы, ты каждую ночь ходишь к нему!
Варя спрятала свое покрасневшее лицо в коленях Ольги.
— Прости меня… я старалась делать это как можно тише… Я не знала,— оправдывалась совсем убитая девушка.
— Полно, за что же тут прощать. Не бойся, я не выдам тебя. Лишь бы не узнал об этом отец…
— О нет, он-то не узнает!
Варя схватила Ольгу за руки и заглядывала ей в глаза.
— Так ты не прогонишь меня? Ты оставишь меня тут еще немного?
Ольга улыбалась. Взгляд ее был рассеянный. Она ответила почти равнодушно:
— Ну конечно же!
Варя, успокоенная, размягченная, полная мысли о любимом, говорила проникновенным шепотом:
— Да, да, я знала, что ты добрая. Я никогда не забуду этого, никогда… Аркадий обещал мне, когда он выйдет в офицеры, поселить меня недалеко.
— С ребенком?
— Я не знаю… мы еще не говорили об этом. Но он уступит, он уступит.
— А если нет?
Ольга насмешливо взглянула на Варю.
— Тогда, тогда…
— Ты сделаешь так, как это делает Маня ради любви своего Жоржа?
Варя умоляюще ответила:
— Ольга, не говори так, я не вынесу…
— Тебе давно уже казалось, что ты не вынесешь, а однако… Не лги по крайней мере себе.
— Я не лгу, Оля. Но я знаю, что тебе смешна моя слабость, потому что ты девушка…
Ольга порывисто встала. Глаза ее, круглые и выпуклые, стали еще больше и горели, как у кошки.
Варя, испуганная, осталась у пустого стула.
— Не смей, не смей называть меня девушкой! Слышишь, ты,— жалкое исковерканное существо! Я презираю вас всех, потому что я такая же, как и вы… Понимаешь ты это?
Ширвинский, улыбающийся и надушенный, открыл Ольге двери.
— Ты аккуратна как всегда!
Ольга молча, не здороваясь, подала ему письмо Васи.
— Послание? Но оно адресовано не мне…
— Прочитай его…
Ширвинский, пожимая плечами, подошел к лампе. Ольга стояла неподвижно у красной портьеры, за которой была спальня.
Наконец Ширвинский поднял голову, выгибая кверху брови, что он делал всегда, когда хотел показать свое недоумение.
— Все это прекрасно,— сказал он недовольным тоном,— но какое это имеет отношение ко мне? Зачем ты мне принесла эту гадость? Я слишком себя уважаю, чтобы оправдываться в тех мерзостях, какие здесь на меня взводятся, но я надеюсь, что ты сама не придаешь этому серьезного значения. Не так ли?
Ольга молчала.
— Этот мальчишка просто влюблен в тебя и пустился во все нелегкие. Он немного спятил, но письмо его довольно занятно. Ты его спрячь, как уникум.
Ширвинский встал и, подойдя к Ольге, пытался ее обнять.
— Ну раздевайся же! Выпьем кофе, потолкуем. Ведь мне как-никак придется ехать в Петербург, начать заниматься… Ты сегодня удивительно интересна. Тебе идет, когда ты волнуешься… Как-то особенно ярко горят тогда твои волосы и поминутно меняется цвет глаз. Вот только что они были серыми, как сталь, а теперь уже желтые.
Он начал помогать ей снимать шубку и шляпку. Она не противилась, все так же молчала, смотря куда-то в сторону.
Ширвинский подвел ее к дивану за круглым столом, где стоял кофейник со спиртовкой, две чашечки и в соломенном чехле зеленая бутылка мараскино, и посадил девушку рядом с собой.
— Итак, мы скоро должны с тобой расстаться,— говорил он непринужденно.— Ты, конечно, понимаешь, что это не может мне быть приятным, но что же делать! Будем мужественны… Во всяком случае, месяца через два мы опять свидимся. А там ты приедешь сама в Петербург, не так ли?
Он опять потянулся к ней, стараясь привлечь к себе ее голову.
— Ты все еще дуешься?
Сразу возбуждаясь, Ольга заговорила:
— Да нет же, нет! Я не знаю и не хочу ничего знать! Ты говоришь: письмо это — бред сумасшедшего. Пусть так. Но почему, почему все становятся сумасшедшими, когда говорят о любви? Почему все самое темное тогда подымается в человеке, и каждый лжет с радостью, с упоением, лжет, чтобы взять то, что ему нужно? Нет, я говорю не то! Я говорю вздор. Но больше я не могу так! Что вы хотите от меня? Вон, вон бежать отсюда, переезжать из города в город и никого не любить, ни к кому не привязываться… А смысл этой жизни? До того дня, пока я была девушкой, я скучала, но всегда у меня была какая-то надежда… я во что-то верила! Мне казалось, вот-вот это сбудется, это свершится. У меня не было никаких идей, никаких желаний «работать» — я всегда смеялась над этим. Я была как большинство у нас. Я ходила в гимназию, учила физику, историю, потому что их нужно было знать для ответа, читала очень много, читала все, что ни попадется под руку, и везде, и в гимназии, и дома не чувствовала себя у себя, и было мне неуютно, и все казалось, что это только так, временно, что я на полустанке и скоро поеду дальше — туда, куда нужно. Боже мой, я не знаю даже, бедная я или богатая? У меня все есть и ничего нет. У меня есть отец, мама, которую я люблю, квартира, где я живу, но их нет. И мои подруги — все такие. Только очень бедные что-то делают и сторонятся нас. К чему нас готовят, мы не знаем, потому что мы ничего не умеем… Нас балуют с детства, потом пошлют в гимназию, чтобы мы получили диплом и были как все. Там мы проводим все время, отвыкая от дома, и ничему не учимся. У нас занят как будто бы весь день, а мы все же не знаем, что с собою делать. Потом нас выкидывают на улицу или стараются выдать замуж… Замуж… да у нас с третьего класса смеются, когда какая-нибудь мечтает об этом! Мы хорошо знаем, что такое семья. И потом вот мама что-то умеет делать — она очень аккуратная, она знает, как приготовить мороженое, она верит, что жена должна прощать мужу, что женщина должна молиться и страдать… Но я этому не верю, не могу верить, не хочу верить… И вот у меня нет дороги, никогда не было, но я надеялась! Ну, смейся, если хочешь! Конечно, это глупо! Я опять возвращалась к тому, о чем мечтала, может быть, мама,— к любви… Как я о ней мечтала,— не знаю. Я всегда думала, что настоящая любовь что-то очень большое, всезахватывающее и безраздельное… О, я не святая. Я понимаю, что может быть страсть и должна быть. Я хочу ее — такую, от которой было бы сладко умереть. Но ее нет… Я должна сказать тебе это. Ты не взял меня насильно, я сама отдалась тебе, потому что мне было все равно, но я предпочла бы насилие нашей любви.
Ширвинский все время сидел молча. Он не возражал и не поощрял. Он сидел в удобной позе на диване, подобрав под себя одну ногу, откинувшись на подушки и затягиваясь из маленькой американской трубки крепким американским табаком. Иногда он покручивал свой хорошо пахнущий ус и с любопытством, выжидая, поглядывал на Ольгу.
Впервые он видел ее такой возбужденной и многословной. Она говорила быстро, перебивая себя, уйдя в себя своими выпуклыми глазами.
Минутами он терял нить ее речи и тогда думал о том, какая она интересная, поглядывал с беспокойством на красную занавесь, за которой была его спальня, и раздражался, что она никак не может кончить. Но все же это было лучше того, что могло бы быть с другою. Он все более успокаивался насчет своей свободы и безопасности.
— С такой далеко можно пойти,— повторял он себе.
Наконец она кончила.
Он протянул ей руки с дружеским жестом, каким хотят показать, что очень сочувствуют, очень понимают человека.
Она совсем спокойно подошла к нему, усталая, размягченная, почти примиренная с неизбежным. Она разлила кофе в две маленькие чашечки — себе и Ширвинскому, неумело справляясь с обязанностями хозяйки, но, видимо, забавляясь ими.
— Я, кажется, слишком расфилософствовалась,— сказала она чуть улыбаясь.— Это мне не пристало…
Окончательно успокоенный таким неожиданным концом ее маленькой вспышки, всегда восторгающийся этими резкими переходами в настроении девушки, и вместе с тем ее всегдашним умением удержать себя от сентиментальности, свойственной женщинам в ее положении,— Ширвинский пришел в великолепное настроение. Он стал шутить, смеяться, рассказывать анекдоты. Он старался поддерживать в Ольге юмористическое отношение к людям, к их чувствам, к их стремлениям.
Он прихлебывал маленькими глотками кофе и ликер, подливая Ольге и того и другого с дружеской усмешкой и шутками.
— В этом болоте нам остается с тобою только пить. Не находишь ли ты, что лишь опьяняясь, можно постигать высокое?
Хорошо поняв больное самолюбие девушки, переходящее иногда в упрямство, он пользовался этим для своих целей.
— А все-таки в тебе осталось много от мещанства, мой друг,— говорил он.— Ты часто останавливаешься на полдороге и ни за что не пойдешь дальше. Твои мечты останутся мечтами, ведь слишком многое тебя пугает. Нужно исчерпать все возможности, чтобы сказать, как ты: «я ни на что не надеюсь и ничего не найду».
— Я устала хотеть, я не не хочу хотеть!
— Ты не можешь, а не не хочешь,— настаивал Ширвинский.
Он все больше возбуждался. Что-то более острое, чем вино, подымало в нем желание.
Он прижимал Ольгу к себе, почти со злобой разрывая на ней ее платье.
Она смотрела на него с удивлением, почти испугом. Она не узнавала его, всегда рассудительного.
Но он заражал ее своим хмелем…
И когда, измученная, вздрагивающая, она стала приходить в себя и сразу ввалившимися, затосковавшими глазами повела по комнате, ей показалось, что это бред, галлюцинация — то, что она увидала, и, вскочив на колени, бледная, она забилась в угол дивана, вытянув вперед худые руки.
Совсем близко от нее, тоже бледный, с трясущимися губами и едва держась на ногах, так же, как она, протянув руки вперед, стоял Вася.
Он, кажется, хотел говорить, но губы его шевелились, и ни один звук не вылетал из его сдавленного горла.
Он только тянулся к ней, а потом, упав на колени, жалкий, с пеной у рта, подползал к дивану.
Ширвинский, стоя поодаль, жадно смотрел на них обоих.
Тогда Ольга встала. Она вытянулась во весь рост, сразу похолодевшая и непроницаемая, прошла мимо Васи, все еще стоявшего на коленях, взяла разбросанные свои вещи и все так же, не глядя ни на одного из мужчин, замерших на местах, раздетая, но совершенно спокойная, как будто никого не было в комнате, медленно прошла за красную занавесь и заперлась на ключ.
Как дорого стоило ей это спокойствие, как напрягла она свои нервы, чтобы они ей не изменили в эти минуты, видно было по тому, какой она вышла недолго спустя из спальни — совсем одетая, все так же прямая, но с ввалившимися щеками и скорбно опущенными белыми губами.
Ширвинский уже исчез. Один Вася, уткнувшись головою в диван, все так же на коленях беззвучно плакал.
Она прошла через комнату, не останавливаясь. Когда же она была у дверей в передней, она услышала подавленный стон.
Почти детский голос, сорванный и глухой, звал ее по имени.
Потом раздался сухой хлопок, точно лопнул воздух, и что-то тяжелое упало на пол.
Ольга сознавала все. Она знала, что там, за дверью, разыгралась последняя сцена этой тяжелой комедии, что Вася умер. Но она не повернулась обратно и не замедлила шага. Она чувствовала, что одно лишнее усилие — и она упадет в обморок.
У нее достало воли спуститься по лестнице, выйти на снежную темную улицу и сесть в сани, и сейчас же крутящая сладкая тьма потянула ее в оглушающий водоворот, и на время она перестала быть.
В глухой час ночи, когда все притомившиеся спали по своим комнатам и только бодрствовали часы: круглые столовые в дубовом чехле, бронзовые — в гостиной, карманные черные у кровати Аркадия и маленькие золотые в спальне Ксении Игнатьевны, тоже не находящей покоя, чувствующей приближение вечного сна и в холодном ужасе отсчитывающей удары маятника, трепетно загадывающей, которая из минут на белом круге часов будет ее последней,— Ольга видела тяжкий необычный сон.
Ей снилось, что она идет ранним утром вдоль узкой городской улицы. По сторонам высятся высокие дома, серые и однообразные, с темными окнами, за которыми все замерло.
Она идет медленно, но ей трудно дышать, потому что воздух насыщен гарью и копотью труб и висит вокруг желтым, тусклым туманом.
На ней очень дорогое, но скромное синее платье, а голова не прикрыта и ноги в тоненьких туфельках, сквозь которые она чувствует сырость асфальта.
И будто она только что возвращается со свидания с человеком, которого не любит, но которому должна принадлежать, а впереди ее ждет новое свидание, но кто тот другой, она не знает. И вдруг, неожиданно, как это всегда бывает во сне, в конце улицы она видит стоящую и преграждающую ей путь икону Божией Матери c темным и строгим ликом, но без Святого Младенца в серебряных почерневших руках и осеянную золотым венчиком. Как держится икона эта посреди улицы, Ольга не видит, но она уже не помнит, куда шла раньше, а радуется, что нашла икону эту, которую будто бы давно искала.
Она идет к ней и хочет помолиться, но на пути попадается ей человек, потом другой, третий, и все они мешают ей идти, говорят что-то, смеются, указывают другие улицы и, обозленные ей упорством, начинают бросать в нее каменьями.
И тут случается нечто такое, что даже во сне заставляет изумляться Ольгу и наполняет ее душу трепетом сопричастности чуду.
Обращенные на нее каменья не касаются ее тела, а со святотатственным звоном ударяются о серебряные ризы Пречистой и, раздирая их, впиваются в ее святое изображение.
Но темный лик по-прежнему строг, а лицо Ольги смертельно бледнеет, и, пораженная страхом, она бежит…
Стук же камней об икону, отзываясь в мозгу тупою болью, заставляет ее проснуться…
Аркадий в белье, со свечой в дрожащей руке, стоял над сестрой.
Ей не нужно было спрашивать,— она уже знала, что случилось.
Часть вторая
Баратынский
- Как много ты в немного дней
- Прожить, прочувствовать успела,
- В мятежном пламени страстей
- Как страшно ты перегорела.
- Раба томительной мечты,
- В тоске душевной пустоты,
- Чего еще душою хочешь?
- Как Магдалина плачешь ты,
- И как русалка ты хохочешь {17}.
Lapo Gianni
- Poi quando l’aima fu rinnigorata,
- Chiamava il cor gridando: or se tu morto,
- Ch’io non ti sento nel tuo loco stare?
- Respondea’l cor, ch’avea poco di vita,
- Sol, pellegrino, e senza alcun conforto,
- Quasi scemando non potea parlare,
- E disse: oh alma, aiutami a levare.
‹Потом, когда к душе опять вернулись силы, она обращается к сердцу с восклицанием: «Не умерло ли ты, ибо я тебя не нахожу на надлежащем месте». И отвечало сердце, которое было еле живо и одиноко, и беспомощно, и которое блуждало и почти умирало, не будучи в силах говорить: «О душа, помоги мне подняться…» {18}
Лапо Джанни›
Джон Рёскин {19} обмолвился где-то неоспоримой истиной, что вся задача воспитания — заставить человека не только поступать хорошо, но и наслаждаться хорошим; не только работать, но и любить работу…
Ольга ясно чувствовала на себе недостаток такого именно воспитания, и это приводило ее минутами в отчаяние.
Она не могла найти в себе ничего, что бы тянуло ее к труду, что бы заполняло ее мысли всецело, чтобы, отдавшись чему-либо, она чувствовала себя удовлетворенной. Горькой необходимостью, средством к жизни (а жизнь и праздность были для нее синонимами) — вот чем был для нее всякий труд. Она сознавала, что в этом ее несчастье, но перевоспитать себя не могла. Ее оберегали от труда, пока труд не стал ей ненавистен.
Еще в пятом, в шестом классе Ольгу манило на сцену. Ей казалось, что это ее призвание. Конечно, ни мать, ни отец, не хотели и слушать об этом.
Но тогда это было какое-то поветрие. Все подруги Ольги видели себя в своих снах актрисами. Немногие из них считали путь сцены тяжелым, полным труда призванием, скорее он казался им бездельем, которое щедро оплачивается успехом.
В актерах, меняющих каждый день свою личину и квартиру, видели олицетворение изменчивого счастья, которое так пленяет молодость.
И это желание быть чем-нибудь в жизни, проявить себя, принести кое-что из своего, но самым легким и, казалось, самым блестящим путем, толкало многих на сцену.
Ольга мечтала быть актрисой, но увлечение это скоро прошло. Она быстро умела находить смешную сторону всякого увлечения, и потом одно дело — мечтать, другое дело — достигнуть желаемого.
И единственная цель, слабо намечавшаяся в жизни Ольги, рассеялась, заменившись неопределенной тоской, смутными надеждами и порой старческим разочарованием. Что ждало ее впереди? Она не знала, но отчаяние еще не овладело ею, и она цеплялась за жизнь, потому что чувствовала в себе достаточно сил для борьбы.
Уже второй месяц близился к концу с тех пор, как Ольга уехала из своего родного города в Петербург.
Она бежала оттуда, как бегут от зачумленного, как в тяжкие дни люди бегут от самих себя.
Мать умерла, с нею умерло все чистое. Ольга даже не плакала над ее прахом.
И вот что-то загудело вдали, дрогнула насыпь. Ольга подняла голову. Гул приближался: шел еще не видный за поворотом поезд. Тогда Ольга взобралась на самый верх откоса и стала ждать.
Она любила, стоя на рельсах, смотреть на надвигающегося железного зверя.
Показались два желтых глаза. Гул перешел в равномерный стук, повторяемый эхом.
Ольга гадала, до какой поры она устоит на рельсах.
Улыбка набежала на лицо, грудь подымалась выше, ветер относил в сторону конец юбки и развевал, как знамя, голубые крылья шарфа. Вспомнилась Анна Каренина, ее лицо, такое почему-то милое и знакомое; почти завистливое чувство проснулось к ней.
Наконец ноги сами дрогнули, не устояли и отнесли торопливо к краю откоса. Паровоз ухнул и обдал паром — это было одно мгновение; потом замелькали вагоны — просвет, темное пятно и опять просвет…
В открытые окна высовывались головы, кивали Ольге, махали платками невидные руки. Безусый студент, стоя на уносящейся впереди площадке, посылал воздушные поцелуи.
Потом промелькнул последний вагон с бородатым кондуктором, и засинел напротив знакомый перелесок.
Но Ольга стояла с сильно бьющимся сердцем, с глазами, полными слез. Она хотела кричать от боли, от ужаса, от тоски.
Перед ней мелькнул и исчез, как тогда, далекий образ того неведомого, дорогого и близкого. Его темные глаза смотрели на нее. Да где же он, наконец, ее светлый бог, ее любовь?.. Как неизмеримо далеко был он теперь от нее.
Вот когда ей захотелось умереть, уйти, исчезнуть из этого мира. Вот когда она ненавидела жизнь и любила ее, быть может, больше, чем когда-нибудь раньше.
Ранней осенью она уехала в Петербург, потому что больше не могла оставаться здесь, не могла видеть этих кривых улиц, облезлые дома, вокзал, гимназисток и гимназистов с их вечно однообразной любовной канителью; не могла без отвращениия касаться тех вещей, которые окружали ее раньше, говорить с людьми, когда-то близкими. Как только в ней проснулась жизнь, она напрягла все усилия, чтобы стряхнуть с себя прошлое, со всех сторон липнущее к ней в этом городе — в воспоминаниях подруг, в музыке на бульваре, в каждой мелочи постепенно разваливающегося ее семейного очага.
Мать умерла, но комната ее осталась как была, покрытая пылью и не прибранная; брат уехал, но брошенная на стол трубка, трепаная книжка романа, пара сапог, печально прислоненная к углу — все еще живо говорило о нем. Комнат неделями не выметали; старик Орг часто не ночевал дома.
Ольга даже не знала, тоскует ли отец. Они ни разу после смерти Ксении Игнатьевны не говорили о ней. Только раз как-то, проходя мимо дочери, Виталий Августович бросил:
— Ты бы посмотрела, что осталось после матери, а то ведь растащат, подлые…
Ольга знала наверное, что старик сильно играет и проигрывает, потому что стал скуп на хозяйственные расходы и всегда по вечерам бранился с кухаркой из-за счетов.
Так все и шло вразвалку.
Тогда Ольга решила уехать в Петербург. Она уже нашла себе попутчицу — Раису, которая, собрав кое-какие крохи и заручившись двадцатипятирублевой ежемесячной помощью родителей, собралась поступить в консерваторию. Остановка была за согласием отца, потому что надо же было на что-нибудь жить.
Но желание Ольги на этот раз было так сильно, что ничто не могло остановить ее. Она стала энергичной и настойчивой.
Сначала отец и слушать не хотел, но потом представился удобный случай.
Ольга воспользовалась им, не задумавшись, хотя раньше никогда не пошла бы на такой компромисс. А дело было очень щекотливое.
У Виталия Августовича, Ольга знала это и раньше, завелась еще задолго до смерти Ксении Игнатьевны довольно прочная связь с одной мещаночкой. Женщина эта была красивая, здоровая, настоящая бой-баба и, кажется, держала старика крепко, потому что хотя тот и пошаливал иногда на стороне, но все же никогда не порывал с нею. Вот эту-то женщину Ольга и видала теперь все чаще и чаще в их доме.
Равнодушная ко всему, Ольга и на нее не обращала внимания. Как-то даже спросила ее о чем-то, когда та подвернулась ей. Женщина (звали ее Клеопатрой Ивановной) кланялась Ольге очень учтиво и, видимо, старалась понравиться барышне.
Конечно, она не жила в доме, а так, только заходила, но по всему видно было, что недалеко и до ее окончательного переселения. Побаивались только Ольгу.
Так бы оно потихонечку и устроилось, но пришел памятный вечер, ожила Ольга и стала бороться за жизнь, за свое счастье. Нельзя было ничем пренебрегать. Она пошла к отцу и сказала:
— Завтра же ты мне дашь деньги на дорогу и будешь ежемесячно присылать мне по пятьдесят рублей, а сам можешь устраиваться как хочешь.
Старик сначала притворился непонимающим, даже обиженным, но Ольга сразу открыла ему все карты. Она знала, на чем играет.
— Молчи, папа. Ты прекрасно понимаешь, в чем дело. Меня ты отпустишь в Петербург, а себе оставишь Клеопатру Ивановну. Тебе же это лучше. Иначе ее ноги здесь не будет — слышишь?
Виталий Августович пробовал возмутиться.
— Кажется, здесь я хозяин! Прошу не учить меня и не рассуждать.
Тогда Ольга подошла к отцу, положила ему на плечо руку и посмотрела в глаза.
Старик съежился. Он знал по опыту, что с дочерью не так-то легко бороться — она всегда делала что хотела, и не остановится перед скандалом. Кроме того, он чувствовал себя за последнее время очень слабым, очень разбитым; он смутно сознавал, что все идет прахом и что близится одинокая дряхлая старость; что дети уйдут от него, не любят его, что он был плохим отцом и ему не ждать от них прощения и участия. Эти мысли заставляли его все крепче цепляться за Клеопатру Ивановну, женщину расчетливую, хозяйственную, за спиной которой, он знал, что найдет если не счастье, то хоть спокойствие и заботу о себе. Дети стали ему чужими, непонятными, враждебными; он чувствовал на себе их насмешливые взгляды и боялся их. Вся его жизнь казалась ему какой-то больной, вывихнутой, несуразной, и под старость ему захотелось пригреться у здорового тела. Жена никогда не давала ему этого ощущения здоровья и крепости. Оба изломанные, они пытали друг друга и в дни любви, и в годы равнодушия. Сын мелкого арендатора, пробравшийся в университет, а оттуда в судебную бюрократическую среду, женившийся на девушке из барской семьи — он как-то незаметно для себя свернул с прямого пути и запутался. Его инстинкты были грубы, просты, незамысловаты, но, сталкиваясь каждый раз с более тонкими переживаниями, они принимали еще более отталкивающие, болезненные формы, потому что не могли выливаться так, как хотели. Он был все время в положении человека, привыкшего к водке, но в силу обстоятельств опьяняющегося шампанским. Клеопатра Ивановна стала ему необходимой,— он знал, что без нее он окончательно пропадет, потому что уже не хватало воли сдерживать свои инстинкты.
Ольга все это учла если не умом, то чутьем женщины и не ошиблась в расчете.
Старик уступил и согласился на все, с оговоркой только, что помогать будет по мере возможности. Но Ольге было не до того, чтобы торговаться, она радовалась и этому.
Первые дни в Петербурге как-то так уж очень незаметно прошли. То туда, то сюда. Никаких достопримечательностей не ходили смотреть, а так просто бродили по городу, обе чужие, обе любопытные. Оглушил шум, треск, спешная бестолочь занятого и праздного люда, прельстили магазинные витрины, но сам город разочаровал на первых порах: представлялось все это гораздо роскошнее, величественнее, а главное, не так грязно. Только постепенно, день за днем открывал Петербург Ольге все новые и новые чары свои, а впоследствии она так полюбила этот зябкий туманный город, что и представить себе не могла иной жизни, как в нем. Уж есть что-то такое в болотной призрачности его, что затягивает, как тяжкая сладкая болезнь, и не пускает, пока не высосет последнюю каплю живой крови.
Комнату подруги побежали искать утром прямо с вокзала, оставив там вещи, чтобы не платить зря за гостиничный номер, и, набегавшись до вечера, нашли наконец себе пристанище на Петербургской стороне — не то где-то на Газовой, не то на Ординарной улице.
Комната им очень понравилась, понравилась и хозяйка, которая, оглядев двух молодых девушек, сразу признала в них провинциалок, но не воспользовалась этим, а назначила цену умеренную. Обстановка комнаты показалась такой нарядной, что обе подруги захлопали в ладони, а Раиса, раньше чем уйти, посидела по очереди на всех стульях, обитых оливковой клеенкой «под кожу», и посмотрелась во все три зеркала, развешанные по стенам рядом с разными олеографиями и рисуночками, как оказалось впоследствии, работы умершего сына хозяйки.
Похвалив и размер комнаты, и кабинетную мебель средней руки, и картинки умершего юноши, воскликнув несколько раз без всякой дипломатичности: «Ах, как дешево!», Ольга и Раиса сейчас же проехались за вещами на вокзал и в десять часов вечера уже сидели у хозяйки своей за кухонным столом и пили с нею вместе, в виде угощения с ее стороны, кофе с цикорием, подкрашенный синеватым молоком.
Хозяйка, женщина рыхлая, белотелая, но без румянца на круглых щеках и тяжелая на ходу, сразу же отобрала у новых жиличек своих паспорта, толково и обстоятельно расспросила их, кто они и откуда, что думают делать и нет ли знакомых кавалеров, а потом и сама почла нужным рассказать кое-что о себе.
Указав напоследок дешевую кухмистерскую, надавав тьму всяческих советов, она, наконец, широко зевнула, перекрестила рот и погнала новых приятельниц своих спать.
Так, казалось бы, счастливо началась новая жизнь Ольги в Петербурге.
При неумении Ольги рассчитывать ей казалось, что денег у нее слишком даже достаточно и хватит надолго. А потому она не очень стеснялась в средствах и почти не думала о том, что надо же найти себе какое-нибудь занятие. Об этом она только вспоминала по вечерам, ложась спать, а наутро забывала, увлеченная беготней по городу и тем, что наконец она свободна и все вокруг совершенно новое.
Раиса тоже пока была свободна, потому что занятия в консерватории еще не начались, но, приученная сызмальства стеснять себя во всем, она более чем скромную получку свою берегла, а потому все расходы по развлечениям и лакомствам брала на себя Ольга. Как-то сами уплывали деньги по мелочам и, видя, как тощает кошелек, Ольга утешала себя тем, что со временем она научится быть экономной.
Чаще всего, утомившись дневной беготней (а они за неделю уже знали весь Петербург) и наскучив сидеть дома, девушки отправлялись в кинематограф, где играл на скрипке муж их хозяйки и где им по знакомству выдали абонементные билеты с большой скидкой. Народный дом был для них уже дорогим удовольствием {20}, а о Мариинке они только мечтали, с трепетом ожидая дня, когда приедет в Петербург двоюродный брат Раисы, студент первого курса, и пойдет дежурить у кассы.
Дешевое же удовольствие — кинематограф — вышел вскоре тоже недешевым, потому что привычка просиживать вечером часа два перед экраном вскоре перешла в какой-то запой,— прямо уже и не сиделось дома, казалось, что не хватает чего-то, когда не было этого непрестанного мелькания перед глазами.
Даже хозяйка начала удивляться, а под конец не на шутку приревновала к мужу. Она в простоте своего любящего сердца думала, что может и другим еще нравиться ее маленький, щупленький, лысенький старикашка.
А Ольга и Раиса, сразу поняв, в чем дело, нет-нет да заговаривали с бедным, смеялись нарочно очень громко, когда он что-нибудь говорил им, и смущенно прятались у себя, когда выходила обеспокоенная хозяйка. Им было любо слышать потом за стеной у себя, как отчитывала ни в чем не повинного мужа любящая жена.
Ложились спать они усталыми, рассказывали что-нибудь друг другу и незаметно засыпали.
Ольга никогда не чувствовала себя такой бодрой и спокойной, как в эти дни, а между тем за порогом ее стерегли и безденежье и новые страдания.
Наконец приехал долгожданный студент Сережа, двоюродный брат Раисы. Приезд его был тем более кстати, что к тому времени деньги у Ольги все повышли; до новой получки было еще далеко (она ведь могла и совсем не прийти — плоха надежда на отца), а Раиса из своих пятидесяти копеек хоть и делилась кое-чем с подругой, да ведь на них сытыми не быть. Девушки похудели, побледнели, но не сдавались.
Заглянул Сережа к подругам вечером, невзначай, хотя давно его ждали, привез короб поклонов, а главное — целый узелок всякой всячины от заботливой Раисиной матушки. Кроме того, писала она, что отец скоро соберется и пришлет на шубу, а пока она посылает дочери на «пианино» десять рублей из хозяйственных денег тайком.
Ольга радовалась, пожалуй, не меньше Раисы — завистливой она никогда не была, а голод делал свое дело и некогда было раздумывать, когда на столе лежало столько соблазнительных вещей.
Раиса сейчас же побежала заказывать самовар, а Ольга начала прибирать стол.
Сережа сидел молча, глядя на Ольгу, и курил папиросы одну за другой. Он то стеснялся, чувствуя себя еще мальчиком, то вспоминал, должно быть, что уже на нем студенческая тужурка поверх синей рубахи, и старался быть развязным. Развязность ему плохо давалась, потому что по природе он был славный, скромный юноша, и все, чем он мог показать свою развязность, заключалось в преувеличенно частом курении и в закидывании ноги на ногу. Когда же Ольга бегло взглядывала на него, так мгновенно щеки его покрывались ярким румянцем, и он конфузливо начинал пощипывать чуть пробивающийся ус.
Ольгу Сережа почти не знал раньше, хотя и жил с нею в одном городе, учился в одной гимназии с Васей и был родственником Раисы.
Дело в том, что Сережа принадлежал к той тесной и замкнутой группе в гимназии, которая, преследуя очень высокие и благие цели, весьма подозрительно относилась к посторонним, не входящим в их среду людям. С ними и не знакомились и не заводили никаких разговоров, если случайно раньше были знакомы с ними, просто игнорировали их.
Ольга оказалась в числе тех, которые если и задумывались над чем-нибудь, то, не понуждаемые нуждою, проходили мимо, среди тех, у которых было больше врожденного скептицизма, чем веры.
Все это и сделало то, что Сережа называл «принципиальными разногласиями», но что, в сущности, было различием интересов, просто оба шли разными дорогами, и ничто другое не могло им помешать когда-нибудь столковаться и понять друг друга.
Впервые здесь, в Петербурге, пришлось им встретиться и подольше поговорить.
Необычность обстановки, в которой сейчас находилась Ольга, удивляла Сережу, потому что он все же знал положение старика Орг и даже, как водится, преувеличивал их благосостояние.
Ольгу всегда интересовали новые лица, а Сережа сразу же понравился ей тем, что хотя и смущался, но смотрел на нее просто, без всякой попытки ухаживать, чего она не замечала в окружавших ее дотоле мужчинах.
Голод сблизил их еще больше.
Студент хотя и уверял, что плотно закусил в дороге, но, пожавшись немного, ничуть не отставал от изголодавшихся подруг, и вскоре мало что осталось от увесистой посылки старухи Андрушкевич.
Расстались Ольга и Сережа настоящими друзьями.
Студент крепко жал Ольге руку и, широко улыбаясь, говорил:
— Я очень рад нашему знакомству. Вы далеко не такая, какой мне казались. Вы все-таки можете стать настоящим человеком!
А Ольга весело кивала ему головой, и совсем уж не такими смешными казались ей его слова.
Ночью спокойное, радостное, почти счастливое настроение Ольги сменилось глухой, непонятной тоской, близкой к отчаянию. Случилось это как-то вдруг и было похоже на внезапный приступ тяжелой болезни.
Сразу как-то стало очень страшно, точно увидала что-то неотвратимое впереди, впервые увидала ясно, куда привела ее жизнь и куда ведет дальше. Почувствовала свое бессилие и невозможность бороться. Не осталось никаких надежд, никакой веры. Вспомнила мать… Не хотела вспоминать, а вспомнила и думала о ней. Хотела себя успокоить: «это, должно быть, посылка так меня расстроила, ведь была бы жива мама, прислала бы и мне…», но тоска не уходила.
Вспомнила, как, бывало, мать смотрела ей в глаза и все выпытывала что-то, точно спрашивала: «Скажи, скажи мне, кто ты?» Как лежала она, уже мертвая, на кровати, и худые руки ненужно кинуты были поверх одеяла.
Как уже долго после похорон, перед самым своим отъездом в Петербург, пошла Ольга в комнату матери и стала разбирать ее вещи.
Это было самое страшное. Точно вновь узнавала она свою мать, и совсем другой оживала та перед ней. Вспомнила, как в комоде увидала она на первый взгляд ненужные флаконы от духов и чьи-то локоны (должно быть, детские), перевитые ленточкой, и засушенные цветы, и альбомы со стихами, вписанные рукою матери, и пожелтевшие письма с подписью под ними «Витя», и многое другое. Как думала при этом: «Вот эти духи мама любила больше — от нее всегда ими пахло, а зовут их так сантиментально — „fleurs d’amour“ {21}. Вот сушила она цветы, когда была барышней, и переписывала Фета. Вот полюбила своего Витю, скромного репетитора, и по ночам, должно быть, читала и перечитывала его письма, потому что они очень помяты, очень пожелтели. Потом она стала матерью и собирала волосы, молочные зубки Аркашеньки и Оленьки. Болела сама и нянчилась с больными детьми — целая батарея бутылочек с цветными ярлыками, полные коробки рецептов…»
Впервые тогда Ольга внимательно вгляделась в жизнь матери, как в жизнь постороннего ей человека, и стало страшно. Так вот она какая была… Для чего же она душилась «fleufs d’amour’ом», любила своего Витю и рожала детей?.. С детства готовилась, ждала, все устраивала, опять ждала и опять устраивала и так и не устроилась, и не дождалась.
Вспомнила тогда Ольга, как, перебираясь на новую квартиру, мать всегда говорила: «ну, вот теперь наконец окончательно и хорошо устроимся»,— а потом снова переезжали на другую, и опять то же самое…
Она собирала цветы и прятала пустые флаконы от духов, а после ее смерти их выкинут в помойную яму… И это еще не так страшно, а страшно то, что у каждого есть это любимое и дорогое, ради которого приносится столько жертв, часто разбивается жизнь, а другой только улыбнется и скажет: «пустяки»,— так спокойно о целой жизни человека скажет «пустяки», и будет прав.
Нужно верить, ну да, конечно, нужно верить. Тогда можно собирать бутылки, тряпочки, детские зубы и чувствовать себя правой, радоваться тому, что вот еще немного, и будет же достигнута цель, можно же будет устроиться и начать жизнь, как захочется (а то все кажется, что подготавливаешься к жизни, но еще не живешь, что вот-вот вырастешь большой, созреешь, старость придет, и тогда уж это настанет — жатва, собирание плодов, удовлетворение…). Так оно, это золотое время, и не приходит, конечно, но все же полны были дни забот и надежды — была цель, сбереженная верой.
Ну а во что верить? Этому учат с детства — в Боженьку, в папу, в маму, в то, что есть на земле правда и что нужно быть честной, и тогда станешь счастливой, всеми любимой. Потом уже сами себе придумывают, вот как этот только что ушедший славный студент Сережа…
И это нужно, это не смешно,— только как этому научиться? Прежняя детская вера стала давно уж красивым воспоминанием — сияние лампад и молитвы-песни, и святые папа с мамой. Все это осталось где-то глубоко в душе, как солнечный день, давно уже угасший, по-прежнему милый, быть может, даже больше, но ненужный для будущего.
Чужая вера не манила, не убеждала, а своя…
Ширвинский, Вася — падение и грех,— вот что дала ей жизнь взамен ее мечты. Ах, почему у нее так слаба вера, почему вот этого своего не дала ей мать, своего, самого нужного и дорогого, что спасло ее от отчаяния,— не дала ей крепкой веры, так, чтобы всегда разочаровываться и всегда верить. Нет, она не могла так…
И, глядя широко открытыми глазами в душную тьму спящей комнаты, Ольга качала головою и горько думала, что если бы ей сказали: «вот он, которого ты ждала, о ком ты мечтала,— вот твой светлый бог»,— она не дерзнула бы подойти к нему, сказать ему о своей любви, потому что боялась бы последнего разочарования, после которого ей не нужна была бы жизнь.
Так, сметая с пути своей жизни все светлое, беспощадно и холодно рассеивая все надежды, за которые хваталось измученное сердце, Ольга сидела на измятой кровати рядом со спящей подругой до самого тусклого петербургского утра.
Деньги от отца пришли, но с лаконической припиской, что они последние, чтобы Ольга ни на что не рассчитывала, если не хочет вернуться домой, потому что жизнь в Петербурге — один разврат, и отец этого допустить не может.
Купон, на котором это было написано, Ольга разорвала, а с деньгами решила быть экономнее.
Решение ее остаться в Петербурге и, если можно, никогда больше не уезжать отсюда окрепло и созрело в ней до полной уверенности в невозможности поступить иначе.
И Ольга начала бегать по объявлениям. Сережа стал помогать ей. Он в простоте души думал, что она так только хотела заняться делом «чтобы не коптить неба»; ему и в голову не приходило, что она нуждается.
Место наконец подвернулось.
Случайно разговорившись в университете с одним дотоле малознакомым студентом — Скарыниным, Сергей узнал, что сестре студента нужна барышня — не то бонна, не то гувернантка — к ее двум детям. Сестра этого студента артистка и не может, как то должно было бы, присмотреть за малышами. Предпочтительна была бы русская девушка из хорошей семьи. Сережа тут же назвал Ольгу и на радостях, не желая откладывать дела в долгий ящик, потащил своего нового приятеля к нашим подругам.
Застали они их одних дома и в хорошем расположении духа. Раисе удалось раздобыть где-то сильно подержанный рояль напрокат за пять рублей в месяц, и теперь они вдвоем чистили и настраивали его.
Сережа передал Ольге, в чем дело.
— Так вам нужна воспитательница к детям вашей сестры? — совсем серьезно переспросила Ольга, глядя на несколько смущенного Скарынина.
— Да, собственно, так…
Он хотел еще что-то добавить, но умолк. Нервное лицо его все время меняло выражение.
Тогда, обернувшись к Сергею, Ольга дурашливо покачала головой.
— Ай-ай, Сережа,— и вам не стыдно?
— То есть как это?
— Да очень просто! Разве можно меня рекомендовать вашему товарищу как воспитательницу…
Она не выдержала и рассмеялась. Раиса последовала за ней.
Студенты недоумевали. Сережа взъерошил свои волосы и развел руками. Скарынин, чуть пожимая плечом, поднялся с места, готовый раскланяться.
Но Ольга удержала его:
— Подождите, не уходите. Почему бы вам не остаться нашим гостем. Этот Сережа — я его люблю, но он всегда все напутает. Садитесь же, и поговорим.
Скарынин покорно уселся. Легкая улыбка дрогнула на его губах и мгновенно исчезла.
Он был гладко подстрижен, высок ростом, опрятно одет. Его нельзя было бы назвать красивым, но глаза его были серы и внимательны, нос мягок, но прям, губы слегка припухлы, но по-детски невинны. Он был прост и естествен, но все существо его точно жило какой-то ускоренной, порывистой жизнью, и поэтому казалось иногда, что он смущается и делает непроизвольные движения, не соответствующие смыслу его слов.
Ольга улыбалась, глядя на него.
— Ну вот, теперь поговоримте. Начать с того, что я вообще ненавижу всякий труд, то есть просто не понимаю, как его можно исполнять без отвращения. Это плохо, это гадко, быть может (не правда ли, Сережа?), но это так. Работать нужно, вернее, зарабатывать,— с этим ничего не поделаешь. Но какая же я воспитательница!
Ольга опять засмеялась, но на этот раз как-то тише, и вопросительно посмотрела на Скарынина. Тот не знал еще, что отвечать, и молчал.
— Так чем же вы хотите быть тогда? — взволнованно крикнул Сережа и заходил по комнате.
— Ах, Боже мой, чем!.. Ну, кассиршей, ну, лектрисой, ну, приказчицей, наконец…
Сережа возмущался:
— Стоило кончать гимназию! Нечего сказать! Вы бы в натурщицы пошли!..
Раиса, все время тихо улыбавшаяся из-за рояля, сказала примиряюще:
— Брось, Сережа, не скандаль! Пойди попроси хозяйку поставить самовар, и будем чай пить…
Так из всей этой истории ничего и не вышло. Только Сережа еще несколько дней дулся на Ольгу, а Скарынин стал бывать у подруг, и довольно часто.
Он как-то все приглядывался и прислушивался. Видимо, Ольга сбивала его с толку. Странны были ему и ее смех, и ее беспричинная задумчивость, и ее речи, всегда сбивчивые, всегда противоречивые, всегда такие, будто она и сама не верит тому, что говорит. А главное — пугало его и поражало то, что она как-то уж очень хорошо знала жизнь и людей, знала всю темную сторону их и уже не удивлялась никакой их мерзости.
Сам он был очень чуток, очень жалостлив, отчасти сентиментален. Жизнь знал по книгам, воспитывался до университета дома, у отца с матерью, где-то в самарской глуши, а потом, когда родители умерли, поселился у старшей сестры-актрисы, давно ушедшей из дому, порвавшей с семьею и прижившей от какого-то актера двух детей. С тех пор началась у него упорная душевная ломка, и ко всему стал он относиться как-то до болезненности внимательно, боясь ошибиться и не так понять.
Ольга была для него новой загадкой, новым мучительным вопросом, который он хотел разрешить. Не зная жизни, он не знал и того, что, не поняв человека впервые, уже никогда его не разгадаешь; что, подойдя близко к человеку и внимательно разглядывая его, перестаешь быть объективным, и в конце концов или отвернешься от него, или полюбишь.
Не умея осуждать, Скарынин искренно и наивно полюбил Ольгу.
Несколько дней уже у Ольги не было ни копейки, месяц истек, а мест не находилось. Места, собственно, были, но все такие, от которых Ольга отказывалась с ужасом и отвращением.
Всюду встречали ее преувеличенно любезно, ни в чем не отказывали, обещали обязательно все устроить, но тут же просили зайти еще раз для окончательных переговоров и лучше всего «вечерком».
Уже переступая порог какой-нибудь конторы или квартиры и видя встающего ей навстречу господина с баками или без бак, с брюшком или без брюшка, но всегда охорашивающегося, Ольга с тоской думала, что сейчас же начнется старая, знакомая песня:
— Чем могу служить?
И потом, когда она скажет, что ищет места, что она пришла по объявлению, ей сейчас же предложат сесть и заговорят о погоде и о том, что такой, как она, грех служить в этой конторе за каких-нибудь несчастных тридцать рублей, что вот ей могут предложить другое место с большим окладом, и т. д., и т. д. в том же роде. А на прощание будут пожимать ей руку, а кто посмелее, попытается поцеловать ее и удержать за талию.
Сначала она оскорблялась до слез, потом научилась выслушивать все это молча, закусив губы, потом смеялась прямо в лицо всем этим животным — старым и молодым, красивым и безобразным, смеялась, пока ей не предлагали воды или не выпроваживали до дверей, потому что они все боялись скандала.
— К несчастию, мы ничего не можем для вас сделать,— говорили они тогда и официально раскланивались.
— О, извините, извините… конечно, я понимаю,— отвечала она между приступами смеха.— Ведь вы такие занятые люди…
Она все чаще ловила себя на этом беспричинном смехе, на этой необычной веселости, вдруг охватывающей ее в самые, казалось бы, тяжелые минуты. Ее даже немного качало при этом, и голова кружилась, и сладко замирало сердце, точно она только что выпила шампанского…
А однажды, выйдя из одного такого дома, где, судя по объявлению, требовалась сиделка к престарелой женщине, но где оказалось, что никакой старухи не было, а просто досужие лицеисты решили позабавиться, Ольга должна была ухватиться за выступ стены,— так у нее кружилась голова и ослабели ноги.
Она стояла, прислонясь к стене, а глаза ее горели и смеялись, бог весть чему, на побледневшем, осунувшемся лице.
Перед ней топтался один из веселых лицеистов, только что одурачивших ее. Он выбежал за нею в одном мундирчике, хотя было уже очень холодно, и, улыбаясь, смущенно просил вернуться и извинить их, бормотал что-то о своей любви и о том, что ее не обидят.
— Мы выпьем с вами бутылочку Помери {22} — ничего больше,— убеждал он и улыбался, недоуменно следя за смеющимися глазами Ольги.
— А если угодно, я могу проводить вас, и мы столкуемся, право!.. Они действительно немного грубы.
Глаза ее продолжали смеяться, когда она ему ответила:
— Мне хочется есть…
Так просто сказала, тихим голосом, как говорят это, вернувшись домой, кухарке, запоздавшей с обедом:
— Мне есть хочется…
— Есть?
— Да, да, есть…
И кивнула два раза головой совсем по-детски.
Ничего не было страшного ни в словах ее, ни в голосе. Просто она подумала вслух, но лицеист побледнел, почему-то пошарил у себя в карманах, немного потоптался на месте и исчез.
И сейчас же подошел к ней швейцар, спрашивая:
— Вам, барышня, извозчика нужно?
Тогда она поняла, что пора идти домой, взяла себя в руки и пошла.
Голова перестала кружиться, мысли прояснились, глаза погасли.
Она шла одной улицей, другой, третьей… Путь был далекий.
И странно, как-то особенно близким казался ей этот город — сырой, промозглый, полный зла и соблазна.
Она чувствовала, что он уже владеет ею, что она в его власти. Что стоит ей захотеть, и он даст ей все за ее жизнь. Почему она борется? Да так, она еще не может не бороться, но это скоро, скоро пройдет. Один, два, три дня, неделя… Раньше ей было противно об этом думать, теперь неприятно, потом станет безразлично…
Ольга шла так очень быстро и совсем не чувствовала голода. Мысли ее тоже быстро и легко сменяли друг друга. Все казалось очень простым и ясным, и душа почти перестала болеть.
Дома Ольгу ждали Скарынин и письмо.
— Это вам заходивший без вас господин оставил,— сказала хозяйка.
Ольга молча протянула руку студенту и разорвала конверт.
«Я уже третий раз захожу к вам и не застаю дома. Быть может, вы нарочно избегаете меня, но я не забываю старых друзей и по-прежнему настойчив в своих желаниях. Ваше положение мне известно — увы! — оно слишком обыкновенно, но тем лучше. Надеюсь, на этот раз вы мне не откажете в свидании. Все же я у вас единственный».
Далее следовал адрес и подпись — «В. Ширвинский».
Ольга внимательно прочла все до последнего слова, потом подняла глаза на Скарынина и устало улыбнулась.
— Не хотите ли полюбопытствовать?
Студент прочел переданный ему листок и пожал плечом:
— Что за странный тон? От кого это?
— Как видите, от друга…
— Но чему же он радуется?
— Тому, что я стану кокоткой…
Скарынин нервно потер руки, потом лоб. Губы его дергало, когда он заговорил:
— Я не понимаю, для чего так шутить! Вообще я вас не понимаю. Что вам нужно, чего вы ищете? Кто вы такая?
Ольга нервно засмеялась. Она опять почувствовала приступы смеха — вот-вот, что-то подкатывает к горлу и давит грудь, и во всем теле какая-то необыкновенная легкость, такая, какая бывает во сне, когда летишь и сливаешься с небом.
— Меня называл один актер «сфинксом без загадки»,— ответила она.
Скарынин вздернул плечом и заходил по комнате — от рояля к кушетке, где сидела Ольга, и обратно. Он метался почти бесшумно в этом маленьком пространстве, и Ольге казалось, что перед ней какой-то нелепый призрак,— бьющаяся о стены клетки большая черная птица. Ей стало страшно, и она крикнула:
— Да говорите же что-нибудь!
Тогда Скарынин остановился перед нею (лицо его трудно было разобрать, потому что в комнату уже забрались сумерки) и заговорил:
— Вы странная девушка. Я не понимаю вас, и порою мне кажется, что вы сами себя не понимаете. Иногда ваше лицо становится таким простым, таким детским, что вот кажется, видишь всю вашу душу, а потом точно тень проходит по вашим глазам, и тогда, сколько ни смотри на вас, ничего не прочтешь. Вы, должно быть, очень много страдали, очень разуверились в людях и потому вы такая замкнутая, такая несправедливая. Да, да — несправедливая и к себе, и к другим.
Он вдруг замолк и спросил почти обиженно:
— Вам надоело меня слушать, должно быть?
Она ответила чуть слышно, потому что в своей неподвижности не чувствовала так сильно приступов голода, и сладкая дрема все больше и больше овладевала ею.
— Нет, нет, говорите…
Тогда он сел возле нее, совсем близко, увлеченный своими мыслями, своим представлением о ней как о чем-то нежном и чистом.
Он говорил тихо, находя в своем голосе самые нежные ноты для выражения того, что волновало его душу. Он счастлив был уже одним тем, что наконец мог высказаться и этим как бы осуществить созданный им образ. И по мере того как он говорил, его любовь к этой странной девушке росла, наполняла все его существо радостной гордостью.
Ольга почти не слушала его. Или нет, она слышала звук его голоса, ласкающий и любящий, и душа ее баюкалась в волнах этого голоса, уплывала, уносилась куда-то и не нарушала покоя измученного тела.
Тогда он взял ее руки и стал согревать их своими поцелуями, робкими, но жаркими нескончаемыми поцелуями.
Она смотрела на него, не отрывая своих рук и постепенно выходя из оцепенения, вновь возвращаясь к жизни из тихих снов, в которые погрузили ее его слова.
Она могла только произнести:
— Милый…
Потому что сердце ее было полно благодарности к этому юноше, но неожиданно судороги прошли по ее телу, и она засмеялась, сначала тихо, потом все громче и громче.
Скарынин, бледный, вскочил с кушетки. Он испугался, потом оскорбился. Ему показалось, что она издевается над ним.
— Прощайте…
Но, собрав последние силы, Ольга сквозь приступы мучительного смеха, разрывающего ей грудь, крикнула:
— Нет, нет, не надо, не уходите… Это пройдет!
И когда он вернулся к ней, все еще недоумевающий, но замкнутый, она ухватилась за рукав его пиджака и уже спокойно сказала:
— Останьтесь. Сейчас придет и Раиса, и мы поедем с вами куда-нибудь в ресторан — хорошо?
Скарынин молча опустил голову. Ему казалось, что у него отняли что-то самое дорогое. Откуда он мог знать, что только голод владел всеми мыслями Ольги и заставлял говорить такие странные непонятные вещи.
Они поехали в кабачок, в который во что бы то ни стало потянул их товарищ Раисы по консерватории — Левитов. Он уверял, что это самое интересное место в Петербурге, потому что там можно встретить всех знаменитостей в области искусства {23}. Сам он тоже готовился в знаменитости и много говорил о своем голосе. Он позволял Раисе ухаживать за собой, и со стороны они производили забавное впечатление.
Хваленый кабачок этот устроен был где-то в подвале и внешним своим обликом напоминал монмартрские кабачки, но далеко не так был оживлен, как они.
Под низкими его сводами, ярко расписанными, можно было увидать несколько молодых писателей, художников и актеров с неизменными их спутницами. Собственно, спутницы эти были занимательнее своих знаменитых кавалеров, потому что в них еще все было — плохо скрытая игра; в их платьях, прическах, манере говорить чувствовалось желание изображать собою что-то, и это-то заставляло их жить лихорадочной жизнью и часто, делая их смешными, вызывало любопытство.
Здесь не было легкого непрерывающегося говора Монмартра, естественно оживленных лиц, определенно усвоенных кричащих костюмов и движений. Здесь был все тот же болотный Петербург, желающий во что бы то ни стало походить на Париж. И потому все — разговоры, лица, улыбки, самые стены — казались нарочитыми, подчеркнутыми, мгновениями застывали, как напряженная натура перед глазами художника, и вновь оживали, меняя маски.
Когда Ольга со своими спутниками входила в низенький зал из темной передней и расписывалась в какой-то книге, всем известный актер рассказывал на эстраде смешной анекдот, а публика сдержанно смеялась.
Но донельзя натянутые нервы Ольги заставляли ее особенно остро воспринимать окружающее. Ей сразу же почудилось, что все эти люди делают вид, что им весело, и у нее безнадежно сжалось сердце.
Она жевала сухой бутерброд, но не чувствовала радости утоления голода: ела только потому, что нужно есть.
На нее обращали внимание. Поражали ее скромное синее платье, ее естественность, ее лицо с выпуклыми неверными глазами. Почему улыбался ее рот, а в изломах бровей пряталось страданье.
Скарынин пил красное вино и молчал. Он молчал упорно, соглашаясь на все с убитым видом. Он не хотел думать, разбираться в происходящем.
Певец Левитов переходил от одной группы к другой. Раису упрашивали петь, и уже кто-то брал аккорды.
Высоко держа над головами поднос со стаканами, лакей разносил чай.
Не видный никому режиссер расставлял на сцене марионеток, и все было почти так, как в настоящем кабаре.
Полный мужчина в сером просторном костюме долго смотрел на Ольгу внимательными глазами из-под золотого пенсне, раньше, чем она уловила его взгляд и поняла, что именно на нее смотрят.
Он медленно подвигался к ней, точно припоминая что-то и боясь ошибиться.
Потом, заслоненный чьей-то спиной, он неожиданно вырос перед вздрогнувшей Ольгой.
Она глянула на него почти испуганно,— так внезапно было его появление, так потрясена была она смутным, но неодолимым воспоминанием.
Скарынин поднялся вслед за Ольгой, зараженный ее нервной порывистостью. Он стоял, склонившись над противоположным концом круглого столика, за которым они сидели до этого, и тоже смотрел в лицо незнакомца, готовый на все и почему-то заранее предубежденный против него.
— Неужели вы та самая девушка, которую мы встретили в прошлом году на вокзале?..
Она не отвечала, она давно знала, кто перед нею.
— Помните двадцать второе декабря?.. Помните этот снежный вечер и наш такой необычный разговор?
Ну да, она помнит… Что же другое могла она помнить? Она протянула ему руку, быть может, раньше чем он успел ей представиться, раньше чем сам вполне уверился, что не ошибся. Только потом уже услыхала она его имя и фамилию (точно сказанную кем-то третьим) — Николай Герасимович Желтухин.
— Скажи мне, что с тобою, Оля?
Раиса свесила голову с кровати так, чтобы лучше было разглядеть лежащую рядом на диване Ольгу.
Перед образом горела лампадка (хозяйка зажигала ее всегда под праздник), и теплые тени ходили по комнате — круг за кругом. За стеной давно уже гудел храп счастливых супругов.
Ольга лежала, вытянувшись на спине во весь рост и закинув за голову руки. Она не шевелилась, но и не спала. Раиса видела, как блестели ее глаза.
— Право, ты делаешь глупости,— продолжала Раиса. Она поворачивала голову, и бигуди в ее волосах вытягивались тоненькими рожками.— Глупость за глупостью… Неужели наше недоедание на тебя так действует? Впрочем, это понятно — ты еще не привыкла, я крепче тебя. Но все-таки надо брать себя в руки и рассуждать. Ведь не хочешь же ты, чтобы такая жизнь тянулась бесконечно. На что ты рассчитываешь? На грошовую работу? Но ведь это смешно! Ты ее не найдешь, да и куда тебе работать. С отцом ты поругалась, со всеми ты рассорилась…
Ольга спросила почти равнодушно:
— К чему ты, собственно, все это говоришь?
— К чему? А вот к чему: тебе нужна поддержка — муж, любовник — все равно кто. Ты не можешь без сентиментов — так пользуйся, пока ты молода. И так и этак ты будешь недовольной, так лучше хоть сытой быть. Тебе ведь везет, а ты зеваешь. В тебя по уши влюблен Скарынин, а ты заставляешь его ломать над тобою голову, мучиться… отталкиваешь от себя нелепыми выходками. Поверь мне, он не станет несчастнее, если ты изменишь ему, будучи его женой. А он не может тебе быть противным…
— Он не противен мне…
— Вот видишь, а надоест он так же, как и другой, это неизбежно… но зато разочарования не будет. Потом… что это за выходка в ресторане? Почему ты не хотела говорить с этим Желтухиным, почему ты помчалась домой и теперь лежишь, как истукан… У Скарынина слезы на глазах были. Он спрашивал меня все, что с тобой. Хотела я ему сказать: «Накормите вы ее, да и увозите куда-нибудь подальше!» —и, право, хорошо бы сделала! А то и себя мучишь, и других мучишь. На кого ты похожа стала — кожа да кости!
Раиса помолчала немного и неожиданно спросила:
— А кто это такой, этот Желтухин?
Ольга ответила чуть слышно:
— Писатель…
— Но откуда ты его знаешь?
Тогда Ольга повернулась лицом к подруге и крикнула резко:
— Я не должна объяснять тебе!
Раиса свистнула:
— Подумаешь! Да мне безразлично — для тебя же стараюсь. Ты хоть головой об стену бейся…
И потом, сразу смягчив тон, она опять потянулась к Ольге и, обняв ее за плечи, зашептала быстро и вкрадчиво:
— Не злись, Оля, право, не злись. И почему я только люблю тебя? Понимаешь, хочется хоть для тебя счастья. Ведь я некрасивая, и денег у меня нет, и никто в меня влюбиться не может, а так послушает мое пение и побудет со мною из любопытства. Было бы несчастье, если бы я влюбилась. А так хорошо. И легко, и весело. Кроме того, у меня вообще отвращение к близости с мужчиной. Меня вот сумасшедшей называли, а я ведь, правда, чуть с ума не сошла. Об этом мама только знает, да вот тебе расскажу. Ты странная — никому ничего про себя не говоришь, а тебе так и хочется душу открыть. Вот мучит меня это сегодня.
Раиса оставила плечи Ольги и, спустив с кровати ноги, оперлась ладонями о тюфяк и смотрела на блистающие в тени ризы иконы.
— У нас в доме денщик был… Ну и вот… Мне только двенадцать лет тогда было. Больная была потом, чуть не помешалась. Стала бояться всего, молчала, молчала… А потом во мне что-то странное произошло. Боже мой, сколько грязи, гадости!
Она замолкла, не отводя глаз от иконы. Ольга испуганно смотрела на нее.
Тени от лампады ходили по стенам — круг за кругом.
Пришла на имя Ольги открытка от какого-то князя Мозовского, где ее очень просили — и убедительно, и любезно — зайти в любой час для переговоров об очень выгодном будто бы месте.
Думать долго не приходилось. Скарынин не делал никаких дальнейших шагов к примирению, и нужно было хвататься за все, что приносила судьба.
Ольга приготовилась ко всему. Иногда расшатанные нервы кажутся особенно крепкими. Можно все вынести и остаться нечувствительным.
На Сергиевской Ольга остановилась у одного из подъездов. И сейчас же, услышав имя князя Мозовского, толстый швейцар с четвероугольным синим подбородком и жесткой серой щетиной остриженных бобриком волос, снял перед ней галунную фуражку и дал знать о ее прибытии в бельэтаж.
Молодой лакей в черной тужурке, на которой двумя рядами нестерпимо блестели огромные пуговицы с княжескими коронами, провел ее через высокие, красного дерева двери в зал и попросил подождать.
В совершенно невозмутимом настроении (на такой сильной высоте напряжения были ее нервы) Ольга видела и замечала все, во всех подробностях.
Она заметила, что подбородок у швейцара был плохо выбрит, сосчитала пуговицы на тужурке молодого лакея и улыбнулась его глупой улыбке, с какой он просил ее «подождать».
Она села в первое попавшееся кресло розового полированного дерева с бледно-желтой вышитой обивкой и обвела залу внимательным взглядом.
Зала была полукруглая той стороной своей, которая выходила зеркальными окнами на улицу; вся белая, с белыми мраморными подоконниками и такими же у стен колоннами. На потолке посредине висела тяжелая хрустальная люстра с массой электрических лампочек, в одном углу белел величавый бюст Николая I, в другом на мягком розовом ковре расставлена была немногочисленная мебель в стиле Помпадур.
Совсем одиноко, почти живой, почти дышащий своей матово-блистающей поверхностью, стоял рояль.
Ольга машинально приподнялась к нему навстречу. Ей захотелось открыть его черную крышку и найти там застывшую мелодию. Она подошла к нему и сейчас же отпрянула. На круглом черном стуле около рояля лежала, свернувшись пушистым кольцом, рыжая лисица. Она лежала неподвижно, слегка оскалив белые зубы, широко открыв выпуклые хищные глаза. Она смотрела на Ольгу, а может быть, куда-то дальше, и не шевелилась.
Ольга отважилась приблизиться к ней и дотронуться до нее рукою.
Лисица не дышала, она была холодна, она давно уже не жила.
Тогда, совсем забыв, что она не у себя, что она пришла по делу, Ольга стала на колени перед стулом и, положив худые свои руки на лисий мех, еще раз совсем близко заглянула выпуклыми серыми глазами в выпуклые стеклянные глаза лисицы. И чему-то своему, детскому улыбнулась углами смеющегося рта.
Она точно давно знала эту белую полукруглую залу, и этот черный живой рояль, и эту неживую лисицу. Она видела все это когда-то во сне…
Гулкие шаги в полупустой зале прервали ее грезы. Она поднялась и увидала перед собою Ширвинского.
Она была так далека от мысли увидеть его здесь, что одно время ей почудилось, что это галлюцинация.
Но он шел к ней уверенным шагом, как всегда корректный, в черном пиджаке и лакированных ботинках, такой же изящный, но возмужавший.
Он шел к Ольге, приветливо улыбаясь и еще издали дружески протягивая руки.
— Ольга Витальевна, Оля!..
Он усадил ее в кресло напротив себя и начал говорить вкрадчиво и нежно, украдкой следя за производимым впечатлением:
— Милая, дорогая Оля, ведь вы позволите мне так называть вас, ведь что-нибудь сохранилось в вашей памяти обо мне. Я никогда не претендовал на вашу ко мне особенную любовь, но все же не пустое любопытство толкнуло вас ко мне… Нет, нет, не уходите, дайте мне высказаться! Я страшно, я ужасно виноват перед вами — моя страсть иногда толкает меня на преступление. Но вы дороги мне, и вот я опять у ваших ног, чтобы вымолить себе прощение. Я уехал, не простившись с вами, но я никогда не забывал вас, думал о вас. Я написал вам и не получил ответа. Потом вы приехали в Петербург, вы попробовали этой «самостоятельной жизни» и все же молчали. Я не оставлял вас, я заходил к вам, и меня не принимали.
Ширвинский смолк и наклонился над Ольгой, снова беря ее за руки.
Она устало сидела перед ним, и, казалось, ни о чем не думала, ничего не слышала.
В этой белой зале синее платье делало ее еще тоньше, еще бледнее. Голубые тени мягко легли ей на обнаженную шею и лоб, синие круги обвели глаза, а щеки слабо розовели сквозь прозрачную белизну кожи. И странно было видеть над этим скорбным лицом как-то особенно — золотом — горящие волосы.
Впервые за весь разговор Ширвинский воскликнул вполне искренно:
— Однако как это красиво! Вы стали гораздо интереснее, Оля!
И, не дождавшись ответа, заговорил опять убедительно и ровно:
— Мы снова с вами, Ольга, и я надеюсь, вы наконец поймете меня, и мы пойдем рука об руку. Теперь я свободен, а вы достаточно хорошо узнали, что такое жизнь… Я хотел бы видеть вас своей помощницей, своим другом, а я вам необходим. Заключим перемирие.
Он пожал ей руку. От этого движения к ней точно вернулось сознание действительности, она ответила холодно:
— Все, что я хочу, это видеть хозяина дома. Я получила от него приглашение и буду говорить только с ним.
Ширвинский улыбнулся, откидываясь в глубь кресла.
— Вы можете сговориться только со мною. Князя нет дома, я его заменяю.
Ольга поспешно встала, она силилась быть спокойной, но голос ее обрывался, когда она ответила:
— В таком случае я ухожу. Удивляюсь только, зачем было все это проделывать. Как мало у вас самолюбия!
Ширвинский поднялся вслед за нею.
— Вы опять волнуетесь, это нехорошо. Возьмите себя в руки и не делайте глупостей. Повторяю вам, я говорю от лица князя, потому что я у него доверенное лицо. Он холост, стар, богат, безбожно глуп, добр и верит мне вполне… во всем… Этот дом может принадлежать вам, если вы захотите, его состояние будет вашим состоянием, и ваша воля будет его волей. Все зависит от нашей с вами дружбы…
Ольга молчала, во все глаза глядя на Ширвинского.
Его слова уже больше не оскорбляли ее. Она только смотрела на него и спрашивала себя: знала ли она в дни своей близости к нему, кто он, на что он способен? Может быть, и знала, может быть, и догадывалась…
Ольга оглянулась по сторонам — на белые стены залы, на черный рояль, таящий в себе столько знакомых мелодий, на рыжую лисицу…
Почему все точно ждет ее, точно уже принадлежит ей…
Мысли ее покрывались туманом, знакомая слабость кружила голову, маленькие молоточки застучали в висках.
И, желая побороть свою слабость, она почти крикнула:
— Дайте мне вина, чего-нибудь!..
Потом почувствовала, как кто-то сажает ее в кресло, подносит ей к губам рюмку.
Она жадно ела предложенные ей сандвичи, пила густой портвейн. Она была похожа на проголодавшегося ребенка и ничего не видела, кроме еды.
Ширвинский следил за нею со снисходительной улыбкой, курил сигару и пускал кольцами синий дымок. Усы его самодовольно топорщились кверху.
Когда она кончила, он сказал с подчеркнутой дружеской укоризной:
— Ай-яй, как можно было доводить себя до этого? Вы хотите загубить себя, но друзья вам этого не позволят.
И потом сам принес ей ее шубку и помог одеться.
— Сегодня я не настаиваю на окончательном решении, вы должны успокоиться и прийти в себя. Я даже не предлагаю вам проводить вас. Но я уверен, что скоро получу положительный ответ.
А когда Ольга спускалась по лестнице, он стоял наверху, склонясь на перила, и посылал ей рукой приветствие.
Когда Ольга шла к князю Мозовскому, было грязно, по небу волочились бурые тучи, брызгаясь дождем, и казалось, что так без конца будет тянуться нудная осень. А теперь Ольгу встретил во всем своем белом блеске сверкающий зимний день.
Все горело, вспыхивало, празднично улыбалось. Глаза невольно жмурились, и тогда тонкие золотые иглы тянулись во все стороны, а в ушах звенела музыка.
По Литейному вышла Ольга на Невский. Здесь точно был какой-то неведомый праздник. Люди, как раньше, шли, каждый по своему делу, но солнце на время смешало все ходы, заварило какую-то бестолочь и, радуясь, блистало еще великолепнее.
В гуле, звоне, треске и говоре шла Ольга все дальше, точно подхваченная холодной шипящей волной. Щеки горели, движения стали бодрее.
Она радовалась, что некогда было раздумывать, что можно было идти так просто — вперед — и смотреть по сторонам.
Потом уже, за Адмиралтейством, за Невой, придут к ней мысли, соображения, Раиса, хозяйка, Скарынин… И тоска, тоска…
— Ольга Витальевна, а ведь это судьба!
Она остановилась, пораженная.
И так же, как тогда, в кабачке, неожиданно выплыв из-за спин, остановилась перед нею полная добродушная фигура Желтухина.
Большой, тяжеловатый, в меховом пальто и старомодном цилиндре, он ласково смотрел на Ольгу из-под золотого пенсне сверху вниз, как смотрят на шаловливых детей степенные пожилые люди.
— Ведь это судьба,— повторял он, пожимая ей руку.— Мы сталкиваемся так, точно ищем друг друга, а встретившись, забываем, для чего нужна была нам наша встреча… Но теперь вы не уйдете от меня так скоро… не правда ли?
Он взял ее под руку и медленно пошел вперед.
Ольга не противилась, не возражала. Она начинала верить в судьбу. Таким родным казался ей этот Желтухин, таким нужным. Все в нем было так уютно, и сам он был такой большой, такой верный. Конечно, он должен был встретиться ей еще раз, после того, что она увидала Ширвинского, как должно было засиять солнце после дождя и тумана. Тот раз, в кабачке, она почти убежала от этого человека, так живо напомнившего ей того, другого, а теперь она рада была его присутствию, как радуются близким к дорогому покойнику. Ведь тот казался ей ушедшим из жизни. О нем осталась одна мечта.
Ольга смотрела на своего спутника, и одна мысль, как тогда в кабачке, буравила ее мозг. Ей хотелось спросить Желтухина о его друге, но она знала, что не сможет спросить о нем. О, как она боялась новых разочарований, как она боялась остаться одной…
— Вы простили меня за мое бегство, Николай Герасимович?
Он улыбнулся, искоса следя за выражением ее лица.
— Я и не думал обижаться на вас. С чего вы взяли?
— Я не хотела больше говорить с вами…
— Знаю, но это бывает со всяким. Охота вам так нервничать… Посмотрите вокруг себя — сколько бестолочи, сколько забавного. Вы ведь свободны сейчас?
— Свободна!
— Ну вот и отлично. Давайте проведем этот день вместе! Поболтаем, посмотрим… По рукам?
Ольга улыбнулась, протянула ему руку.
— Великолепно! Итак, сначала мы отправимся на выставку — тут неподалеку, а оттуда пойдем пообедать… И решим, что делать дальше. Согласны?
Ольга, все так же продолжая улыбаться, ответила радостно:
— Конечно, да!..
— Ах, знаете, я не сказал бы, что очень хорошо разбираюсь в живописи, но я люблю вот эти краски, эти изумительные сочетания света и тени, какие нам дает видимое,— говорил Желтухин, вводя Ольгу по широкой лестнице в помещение выставки.— Ведь живопись, что бы там ни говорили, всякий раз поет нам о жизни, о радости жизни; по существу своему она оптимистична. Ведь как бы ни был грустен сюжет, все же он живет своими красками, все же он говорит о красоте, об изобилии в жизни. Краски — ведь это солнце, бытие,— без того и другого нет красок. А как хорошо видеть солнце, как хорошо жить!..
Желтухин шел вперед, Ольга за ним. Писатель размахивал руками, говорил громко, никого не стесняясь. Немногочисленные посетители оглядывались на этого большого добродушного человека в длинном сюртуке и на его спутницу — такую маленькую рядом с ним.
Ольга улыбалась. Улыбка ее была спокойна; ей казалось, что все ею испытанное так недавно уже никогда не повторится, что она перешла в какую-то тихую покойную жизнь — без тревог, без бурь.
Солнце било в окна и рассыпалось по залам радостным блеском.
Желтухин волновался. Он перебегал от одного полотна к другому, ерошил волосы, снимал и надевал пенсне, хватал Ольгу за руку, совершенно забывая, что с ним не старый друг, а молодая, почти незнакомая девушка.
Но Ольгу это ничуть не смущало. Постепенно она переходила в чуждый ей дотоле, такой необычный мир красок.
Смутно, ощупью, с недоверием отдавалась она новым впечатлениям. Быть может, натянутые нервы ее помогали ей впитывать в себя то, что раньше показалось бы далеким.
— Да у вас есть вкус, право, есть вкус,— восторгался Желтухин и бежал дальше.
Потом неожиданно остановился и, лукаво улыбаясь, посмотрел на Ольгу.
— А ведь сейчас я вам покажу кое-что… Собственно, за этим я и пришел сюда, и вы попались мне очень кстати… Идем…
Он взял Ольгу за руку.
— Если не ошибаюсь, это в третьей зале… ну да… смотрите…
Они остановились перед большим холстом в дальнем углу круглой залы.
Выпустив руку девушки, Желтухин как-то особенно любовно смотрел на картину, радостно кивая головою:
— Вот и она… очень удачно ее поместили, очень удачно… Здесь так мало картин и так уютно. На нее надо смотреть тихо, одному, задумчиво…
Ольга не ответила. Широко раскрытыми глазами смотрела она перед собою.
Если весь этот день — только сон, то почему он так долго снится? Почему час за часом сегодня ее испытывает судьба?
— Николай Герасимович!
Ласковый голос ответил ей из-за спины:
— Что, голубушка?.. Хорошо ведь!
Но это было страшно, или сладко, или нет — просто этого не было.
На опаловом небе белой ночи в рамке застывших озер и смутных призрачных деревьев на переднем плане в коляске сидела женщина. Лошадей и кучера не было на картине — темнел только кузов коляски, а на мягкой скамье, опустив голову, сидела женщина — в большой шляпе с черной плерезой {24}, с алыми розами на коленях.
Лицо ее не было грустно, но было задумчиво, почти холодны были ее глаза, и улыбались чему-то рогами перевернутого месяца тонкие губы. Безмерная усталость смотрела с картины — усталость и горькое равнодушие.
Перед Ольгой была она сама.
— Николай Герасимович, да что же это?
Ольга силилась понять, очнуться. Как могло случиться, что с этой картины смотрела она сама, такая, какая она теперь, до ужаса похожая, до ужаса близкая.
Желтухин, довольный, потирал руки.
— Я знал, что вас поразит это. Какое сходство! Ведь он видел вас год назад — только однажды… Но и тогда его захватил ваш образ. Тогда же, в вагоне, он сделал несколько эскизов, и тогда же зародилась у него идея этой картины. Теперь он в Париже, но на днях должен приехать сюда. Он очень интересовался вами и рад был бы познакомиться… Но что с вами? Почему вы так побледнели? Садитесь сюда, вот сюда… Ах, ты, господи, я и не подумал, что можно устать от такой уймы картин!..
Желтухин теребил ее руки, заглядывал ей в глаза. У него был виноватый, растерянный вид, как у человека, не привыкшего обращаться с женщинами.
Ольга ответила почти спокойно:
— Нет, нет, Николай Герасимович, это пустяки. Но на сегодня, действительно, довольно картин. Дайте мне руку и идем отсюда. Картина вашего друга мне нравится: она счастливее меня, несмотря на свой тоскливый вид, но я прошу вас больше никогда не говорить мне о ней и о… нем, если хотите быть моим другом.
Выходя из маленькой залы, Ольга не выдержала и оглянулась.
Все так же на фоне мерцающего опалового неба, дремлющих куп деревьев и стальных озер ехала в своей странной коляске без кучера и лошадей усталая, равнодушная «незнакомка» с алыми, увядающими розами на коленях, Ольга Орг.
Поистине этот день был днем неожиданностей для Ольги. Такие дни выпадают в жизни, когда судьба точно хочет испытывать человека, точно хочет вознаградить себя и его за однообразие прожитого.
После осмотра выставки Ольга с Желтухиным поехали в ресторан, где скромно, по-товарищески, пообедали в общей зале. Говорили о посторонних вещах, мало касающихся их лично, посмеивались над соседями, над собою; еще более сдружились и сблизились.
Добродушный Желтухин ни разу больше не помянул своего друга-художника, ни словом не намекая о своем недоумении по поводу такого запрещения со стороны своей новой приятельницы. Слегка меланхолик, добродушный остряк и резонер, ленивый, но увлекающийся, с душой умного ребенка, он мало походил на свои изысканные новеллы и мастерские стихи. Скорее его можно было принять за разорившегося барина, приехавшего в столицу проживать с легкой беспечностью последние крохи. Кто не видел его за работой, со строгостью и любовью выбирающего каждое слово, как драгоценный жемчуг в ожерелье, тот мог бы подумать, что этот человек никогда ни над чем серьезно не задумывался, не знал, что такое труд.
Его можно было бы принять за очень рассеянного, мало наблюдательного — так, казалось, равнодушно, одним глазом, приглядывался он к окружающему. И ни разу не заговорил он с Ольгой о литературе, о своих вещах. Он точно стеснялся назвать себя писателем.
Даже неразговорчивая Ольга, не стесняясь, говорила при нем о тысяче мелочей, какие ей приходили в голову. Ей напомнило это былые дни ее гимназической поры, когда сравнительно беспечна была ее жизнь.
— Вот увидите, мы еще пригодимся друг другу,— шутя говорил Желтухин, помогая Ольге выйти из саней у подъезда ее дома,— я это чувствую… Неспроста мы с вами уже третий раз сталкиваемся. Припрячьте-ка вот эту карточку — она может вам пригодиться — здесь мой адрес. Ну, давай вам бог!..
Ольга запрятала в муфту поданный ей картон и долго еще кивала вслед удаляющихся саней, с которых ей махал цилиндром Николай Герасимович.
А на пороге своей комнаты столкнулась лицом к лицу с братом. Она даже как-то не удивилась этой новой неожиданности. Только сдвинула брови и плотнее сомкнула тонкие губы.
Аркадий даже не потрудился поздороваться.
Он подскочил к сестре, сразу начав с повышенного тона:
— Кто это с тобой приехал?
Ольга молча прошла мимо него, сняла шубку и начала откалывать шляпку. Потом сказала:
— Ты бы поздоровался со мной раньше. Сколько уже не виделись?..
Аркадий фыркнул, но все же подошел к сестре и небрежно поцеловал ее в висок, не вынимая рук из карманов своей кожаной тужурки:
— Пустые нежности, мой друг! Я приехал не целоваться, а о деле говорить…
И, сев в кресло, закинув ногу за ногу и закурив трубку, продолжал:
— Все твои шашни нам известны. Не думай, пожалуйста, что отец и я будем смотреть на все сквозь пальцы.
Отколов шляпку, Ольга медленно повернула свое лицо к брату, потом посмотрела на смятую кровать и брошенный рядом растрепанный чемодан.
— Это кровать Раисы… Зачем ты валялся на ней?
Аркадий вспылил еще больше.
— Скажите, пожалуйста! Кровать Раисы! Где же мне было тебя ждать, пока ты там по гостиницам шаталась…
— Аркадий!
— Что Аркадий? Я давно знаю, что меня зовут Аркадием… нечего тень наводить! Повторяю, мы все знаем. И я приехал сюда сказать тебе, что отец больше не намерен давать тебе денег и требует, чтобы ты возвращалась домой. Довольно! Я тоже не позволю, чтобы ты пачкала наше имя…
Медленно поправляя измятую кровать, Ольга откликнулась:
— А что говорят о тебе с Варей, о том как ты ее бросил с ребенком?
— Это к чему?
— Да так я спрашиваю… Что говорят о папе и Клеопатре Ивановне?
Сбитый с толку, Аркадий простодушно ответил:
— Ее не будет у нас, если ты вернешься…
Ольга усмехнулась. Она сама удивлялась своему спокойствию. Все еще она чувствовала себя под защитой Желтухина.
— Великолепно. Значит, честь нашей семьи в моих руках.
— Не говори вздора… Ты позоришь старика-отца… из-за тебя мне совестно показаться на улице. Я экзамена офицерского не держал из-за этого — ни в какой полк меня не примут!.. Что ты торчишь здесь? Почему ты скрываешь своего любовника?.. Кто он?.. Я заставлю его жениться на тебе…
Отойдя от кровати, Ольга перешла в другой конец комнаты к окну и выглянула на улицу. В ее голосе чувствовалась решимость, когда она сказала:
— Тише, не кричи, там… за стеной сидят наши хозяева, и ты лишний раз можешь себя скомпрометировать. Успокойся, вспомни, что когда-то мы были друзьями и умели говорить друг с другом.
Немного охладевший, Аркадий отвечал с обиженным видом:
— Это было давно,— много воды утекло. Все пошло шиворот-навыворот с тех пор, как умерла мама…
Ольга подошла к брату и положила ему на плечо руку:
— Не вспоминай маму, не надо… Скажи лучше, что вы от меня хотите?
— Мы хотим, чтобы ты вернулась к нам. Папа не может тебе высылать денег…
— А я не могу жить с ним. Что делать?..
— Выходи замуж!
— За кого?
— За своего любовника. Скажи, кто он?..
— У меня нет любовника.
— Он тебя бросил?
Аркадий снова готов был вскочить. Ольга удержала его:
— Ни он меня, ни я его не бросали… Мы разошлись так же случайно, как и сошлись… Я охотно назову его тебе, но замуж я за него не пойду, так и знай. Но я назову его, чтобы ты хоть раз немного подумал…
— Да ну же, ну…
— Его зовут Владиславом Ширвинским.
Аркадий схватился за голову.
— Ширвинский?.. Да ты врешь, этого быть не может!.. Ведь это он написал мне, что у тебя любовник, чтобы я подействовал на тебя… Что за чепуха!..
Ольга смеялась, глядя на беснующегося брата. Аркадий выходил из себя.
— Скажи сейчас правду, ты наврала на Ширвинского, да?
Ольга, все так же смеясь, ответила:
— Конечно, да!.. Я просто пошутила; разве мог Ширвинский, твой друг, сделать такую гадость? И притом он так хорошо умеет стрелять из пистолета…
— Ольга, молчи!
— Нет, ты молчи. Я хочу теперь говорить. Передай отцу, что я останусь здесь и никуда не поеду. Что у меня есть любовник, но я его не назвала, и ты не мог спасти незапятнанную честь вашего имени. Скажи ему, что я целую его и прошу меня забыть, как он забывал раньше о том, что мне нужно есть, что у меня есть душа. Скажи ему, что я погибла только потому, что была строптива, зла, распущенна, потому что не слушала его добрых советов. А теперь можешь уходить… Слышишь, бери свой чемодан и уходи, уходи скорее!
Ольга почти кричала. Глаза ее вспыхивали, руки дрожали, лицо казалось белее оконной рамы.
На время смущенный, Аркадий пришел в себя.
— Молчи!
Он подошел к сестре совсем близко. Пена выступила у него на губах.
— Я убью тебя, если ты еще что-нибудь скажешь!
В руке у него появился револьвер. Мгновенным движением Ольга вырвала его.
— Оставь эти фокусы. Ведь я тебя знаю. Ты и папа любите это. Не в первый раз. Меня не напугаешь, а шуму наделаешь и в тюрьму попадешь. Бери свой чемодан и уходи…
Она тяжело дышала от напряжения, в котором все время находилась. Знакомая слабость охватывала ее. В висках стучало.
Аркадий не пытался отобрать свой револьвер. Он не смотрел в глаза сестре.
Молча увязал чемодан и надел пальто.
Молча, не подымая глаз, вышел из комнаты. С треском хлопнули за ним двери.
Раиса застала Ольгу сидящей за письменным столом и рассматривающей револьвер. Девушка испугалась. Она подбежала к подруге и обняла ее за шею.
— Олечка, господь с тобою, что ты делаешь? Откуда это?
Ольга улыбнулась.
— Не бойся. Я только рассматриваю эту вещь… ее оставил мне мой брат, должно быть, как выход…
— Аркадий в Петербурге?
— Да, он был здесь. Просил тебе кланяться и передать, что твоя кровать ему очень понравилась. Он приехал спасать мою честь!
Ольга засмеялась, глядя на подругу.
— Что же он хотел от тебя?
— Чтобы я уехала отсюда и вышла бы замуж.
— А деньги привез?..
— Разумеется, нет. Достаточно с меня добрых советов… Я прогнала его…
Потягиваясь и протирая глаза, Раиса ответила:
— И хорошо сделала. Все равно на них плоха надежда. Давай лучше чай пить, я булок от Филиппова принесла {25}, совсем свежие. Да убери подальше эту штуку, смерть боюсь разного оружия…
Она зажгла лампу, вывалила на тарелку из мешка булки и пошла заказывать самовар.
Ольга все время смотрела на нее с улыбкой. В эти минуты ей особенно мила была Раиса. И хорошо, что она так просто взглянула на все, что она не стала допытываться, не стала утешать. Поверила ее словам о револьвере! Конечно, это было бы глупо. Но иногда приходят такие минуты, когда готова сделать такую глупость. Когда кажется, что нет иного выхода.
Жизнь стала слишком случайной, бессмысленной. Как-то даже трудно было желать чего-нибудь. Только быть сытой — вот и все. Не ощущать этой постоянной легкости в желудке и кружения в голове.
Ольга пила чай, говорила с Раисой, потом легла спать и спала тихо, без сновидений.
Наутро, когда хозяйка принесла ей кофе и, подняв шторы, пустила в комнату свет солнечного морозного дня, Ольге показалось даже, что она вполне счастлива.
Она лежала на кровати, любовалась морозными узорами на окнах, медленно пила горячий кофе и мечтала.
Она вспомнила Желтухина, его меховое пальто, его старомодный цилиндр, его добрые глаза из-под золотого пенсне, вспоминала отрывки из его разговора и думала, что вот теперь у нее есть хороший друг, который может помочь в трудную минуту, и что помощь его легко и не стыдно принять. Думала она и о Скарынине. Он тоже казался ей хорошим и добрым. Он любил ее, и приятно было сознавать на себе его любовь. Почему его долго не было у них? Надо будет позвать его. Не хотела думать, но думала она и о той «незнакомке», что ехала в своей коляске на фоне озер и леса с алыми цветами на коленях. Особенно ярко горели перед ней эти цветы. Как странно было видеть себя и не себя там, на полотне, неподвижную и удаляющуюся… Свое будущее, свое настоящее или только фантазию художника…
Художника… нет, о нем она не должна думать. А то, быть может, она захочет познакомиться с ним и… Что она ему тогда скажет? Что любит его, что ждала его долго, что отдалась другому без любви, ожидая его, что вот живет теперь, не зная, зачем живет… Да полно! Его ли ждала, его ли любит? А вдруг не тот, не он; он, но не он, как она не она на той картине… Слишком много пройдено, много выстрадано, страшно прийти к цели. Пусть она не знает ни его имени, ни того, какой он теперь и где живет.
А она выйдет за Скарынина или пойдет к Мозовскому, к Ширвинскому. Если нет труда, обеспечивающего существование, нужно как-нибудь устроиться, пойти на компромисс…
Тот пусть останется, как мечта, как ладанка, которую носят на груди… Потому что как жить, когда любишь по-настоящему? Этого никто не знает… Как не загубить свою любовь, как верить до конца своей любви?..
Но почему страшно прямо стать зверем, брать и отдавать, и забывать о прошлом?..
Почему страшно не страхом перед людьми, а перед собою?
Как-то вечером зашел к подругам Скарынин.
Пришел он бледный, осунувшийся, видно, много продумавший за это время. С тревогой и вопросом взглянул он на Ольгу и сейчас же просиял, засуетился, когда увидел ее ответный одобряющий взгляд.
Ольга тоже недаром прожила эти дни. Она все яснее и яснее видела перед собою единственный выход из этой жизни.
Все решительнее приходила она к выводу, что впустую хотела устраивать свою жизнь по-своему, что, видно, идти ей по пути своей матери и бабки — нужно становиться женой и хозяйкой. Лишь бы была охота, а научиться этому не трудно.
И потом, она может выполнить эту задачу, потому что Скарынин далеко не противен ей. Она стосковалась по нем за эти дни. Стосковалась по его взволнованному голосу, по его любящему взгляду, по его маленькой, круглой стриженой голове… в которой бродит столько мыслей о ней.
Когда она увидала его на пороге своей комнаты, она не могла даже удержать себя от радостного вскрика и поспешно поднялась ему навстречу.
Она протянула ему обе руки и заглядывала участливо в глаза с правом женщины, знающей твердо свою власть над человеком.
Раиса вскоре ушла, улыбающаяся и догадливая, и они остались вдвоем.
Они сели рядом на диван, и первая заговорила Ольга, вызывая Скарынина на откровенность, заставляя его без обиняков сознаться в своем недовольстве.
Радостный и смущенный, давно простивший, он смотрел на нее сияющими глазами. Он еще не говорил последнего слова, но Ольга чувствовала, что это слово дрожит на его губах, что только его хотел бы он повторять тысячу раз.
И, полная нежности к этому мальчику (она казалась в эти мгновения гораздо старше его), захваченная его чувством, его восторгом, Ольга приподнялась и, схватив его голову в руки, прижала ее к своим губам.
— Хороший мой, дорогой…
Потом упала на подушки дивана и заплакала.
Она сама не знала, откуда пришли эти слезы, но противиться им не могла.
Они смочили ей все лицо, руки, кожаную подушку дивана,— так были обильны, с такой силой хлынули из глаз.
Скарынин склонился над ней, взволнованный до глубины души ее горем. Он шептал испуганно:
— Ольга Витальевна, Оля, что с вами, что с тобой? Не надо плакать, успокойся… Ты ведь согласна, ты любишь меня, ты будешь моей женой, мы уедем отсюда… Боже, как я люблю тебя!
Он бормотал бессвязные слова, приходя в отчаяние от ее слез и торжествуя.
Наконец она смогла приподняться. Он обнял ее и, не выпуская из рук, стал целовать ее мокрое лицо, глаза, волосы.
Она прошептала чуть слышно:
— Оставь меня одну… не сердись, до завтра…
Он хотел возражать. Но она смотрела на него с немой просьбой.
Тогда он тихо встал, поцеловал ее в лоб и поспешно вышел.
Она лежала неподвижно до тех пор, пока не захлопнулись парадные двери. Глаза ее высохли, скользя по потолку.
Потом она вскочила с дивана, наколола шляпку, надела шубку, взяла муфту и выбежала на улицу.
Безветренная морозная ночь трескала серебряным снегом по крышам далеких домов и пустынным улицам. Особенно чистое, бодрое небо куталось в розовый пар. По матовому неподвижному свету, льющемуся откуда-то сверху, можно было догадываться о луне.
Ольга на минуту приостановилась у подъезда, потом уже, не оглядываясь, пошла вперед.
Ей хотелось остаться одной, понять свое настроение, объяснить свои слезы. Так недавно еще она была покойна, почти счастлива. Что встревожило ее? Только нервы или что-нибудь еще? Она прислушивалась к себе: сердце непонятно ныло. Но что, что? Что его тревожило?
Она — невеста Скарынина. Она, наконец, у тихой пристани. Она должна будет исполнять свои обязанности и найдет покой и любовь.
Ну да, вот это… Конечно, она не скроет от жениха своего прошлого, но не в этом печаль. Он любит, он простит… Но как она будет скрывать долгие годы, всю жизнь, что она не настоящая жена, не настоящая мать? Как выдержит она это без веры, без чувства непреложности существующего? Как она воспитает своих детей, что скажет им, на какой путь направит, если она не знает, где путь, где должное? Не быть матерью, будучи женой?.. Ради чего притворяться, варить обед, устраивать квартиру, вить гнездо…
О, боже мой, как невыносимо все это!
Ольга остановилась, не зная, что с собой делать. К ней приближались какие-то люди. Она побежала снова. Ее пытались нагнать, что-то кричали, смеялись.
Замороженный, скованный снегом и льдом Петербург хотел быть страстным. В ресторанах играла музыка, по улицам маялись проститутки.
Конечно, легче идти на содержание. Если здесь грязь, то нет ежедневного бесконечного ужаса обмана.
Как нужно любить, как нужно верить в необходимость семьи, чтобы иметь силы создать ее и жить в ней? Недостаточно желания, недостаточно любви к мужу…
Мама знала что-то, мама верила, мама могла страдать…
Мама, мамочка…
Опять слезы застлали глаза. Больно стало ресницам,— слезы замерзли на них.
Мама, научи, куда идти, чему верить?
— Сударыня, я готов к вашим услугам…
Ольга вздрогнула. Перед ней стоял какой-то господин. Она хотела бежать, крикнуть. Но неожиданно пришло спокойствие. Нащупала в муфте карточку Желтухина и, подойдя к фонарю, прочла адрес.
— Вы проводите меня на Каменноостровский…
Незнакомец молча поклонился. Как видно, он не ожидал такого оборота дела, но голос Ольги звучал так сухо, так решительно, что он не мог отказаться.
И все время, пока Ольга шла с этим человеком, она молчала и о чем-то упорно думала.
Желтухин сидел в кабинете своей маленькой холостой квартиры. По ночам он не работал, но любил сидеть за интересной книгой или править свои старые стихи, или рыться у себя в библиотеке и среди рукописей. Так он, бывало, коротал всю ночь.
Иногда он отпивал маленькими глотками мадеру и заедал бисквитом. Он очень любил мадеру и бисквиты, это была его слабость. Кроме того, любил он живые цветы, книги и старинную мебель. Маленький, очень маленький кабинет его был весь заставлен столиками, стульями, диванами, по стенам тянулся сплошной шкаф с книгами, висели гравюры, а на столах среди старинных табакерок, ящичков, часов расцветали ландыши, орхидеи, азалии…
Начисто выбритый, со строго расчесанным боковым пробором густых, длинных, в скобку стриженных, каштановых волос, пахнущий какими-то нежными девическими духами, в мягком полосатом «пижамо» {26} и лакированных туфлях, Желтухин сидел в своем кресле и читал Готье, когда услыхал звонок.
Удивленно он взглянул на фарфоровые часы, стоящие на выступе камина. Шел уже второй час ночи.
Тогда он поднялся и, отложив книгу, прошел темными комнатами в переднюю. Лакей спал, и хозяин решил не будить его.
Вспыхнул матовый свет электрической лампочки, звякнула цепочка, и в распахнутой двери Желтухин увидел Ольгу.
— Можно к вам?
— Пожалуйста…
Он не расспрашивал ее, не удивлялся, но по лицу понял, что она взволнована. Серые глаза его ласково смотрели на нее.
Он помог ей скинуть шубку и провел в кабинет, где горела только маленькая переносная лампа под зеленым абажуром у его кресла.
Матовым золотом блестели переплеты книг со стен и стекло рюмки с недопитой мадерой.
Он усадил Ольгу в кресло, а сам сел рядом на стул с любезным видом хозяина, встречающего званого гостя.
— Мои окна расписал мороз, должно быть, холодно на улице. Хотите выпить мадеры, чтобы согреться?
Нет, она отказалась от мадеры и сидела тихо, вся уйдя в глубину кресла, согретая уютом комнаты, слегка опьяненная запахом цветов.
Ей не хотелось говорить, и она чувствовала, что не нужно оправдываться за свой поздний визит перед этим добродушным человеком.
Все тише становилось на душе от полумрака, от теплоты, от мирно развернутой на столе книги.
— Хотите, я вам почитаю что-нибудь?
— Ах, да, да, пожалуйста… Вот эту книгу…
— Это Готье, французский поэт, вы понимаете по-французски?
— Нет, немного, но все равно, читайте…
Он открыл наудачу первое стихотворение и стал читать медленно, певуче:
«Adieu, puisqu’il le faut, adieu belle nuit blanche…» [8] {27}
Она не разбиралась в словах, слышала только их музыку, и от этого хотелось уйти как можно глубже в угол кресла, свернуться клубочком, как бывало в детстве, не шелохнуться и грезить.
Когда он замолк и посмотрел на нее сквозь свое золотое пенсне, она улыбнулась ему, как старому-старому другу и, протянув руки, удержала его большую, теплую ладонь.
— Какой вы славный. И как хорошо вы делаете, что ни о чем не спрашиваете меня. Я ворвалась к вам ночью, а вы посадили меня в кресло и читаете мне стихи… Это, может быть, даже смешно немножко, но это хорошо, право, хорошо… И хорошо то, что я для вас не женщина, а вы для меня не мужчина… С братом я не могла бы так говорить, как с вами… А вам я скажу… Мне было очень тяжело, я запуталась, а вот пришла к вам — и стало легче… Знаете, ведь я невеста.
— Невеста?
— Да, я выхожу замуж за хорошего, доброго человека, любящего меня… Он тоже нравится мне…
Она замолкла, выжидая, молчал и Желтухин, но по лицу его она догадалась, что он удивлен.
— Вам кажется странным… Да?..
— И да, и нет — я почти не знаю вас…
Тогда она стала говорить. Она передала ему все свои думы, все сомнения, передала ему все, что волновало ее так долго. Она рассказала ему про мать свою, отца, брата, про свою гимназическую жизнь, про подруг своих; она точно впервые сама себе открывала книгу своего прошлого и спешила перелистывать страницу за страницей. Она только молчала о нем, о том, чей портрет, быть может, хранился в этой комнате, чей голос еще недавно — как знать? — звучал здесь. Она не скрыла и своего падения, и смерти Васи. Она с ожесточением обнажала свою душу, ища чего-то и в себе, и в других, не находя и снова пытаясь найти.
Точно птица, бьющаяся о железные прутья клетки,— чем больнее, тем упорнее.
Ровно — не убывая, не разгораясь — разливала вокруг зеленоватый свет электрическая лампа; мирно лежала раскрытая книга с алмазными строками Готье; матовым золотом сверкала мадера в граненой рюмке; истомно дышали цветы, и вслед за шагами морозной ночи за окнами отсчитывали время золотые стрелки фарфоровых часов на камине.
Теперь говорил Желтухин, а Ольга молчала, с шелковой подушкой на коленях, с тонкими руками, вытянутыми на ней.
— Так, так… да, да… Все, что вы мне сейчас говорили, знакомо мне… Я не знал только, что уже пришел час, когда об этом заговорят дети… Конечно, это нужно было ожидать, иначе быть не могло. Мы в тупике, нужно как-нибудь иначе устраивать свою жизнь. Старое умерло, умерла сущность его; развалилась и его оболочка. Семьи у нас нет, нет даже сознания необходимости ее, несмотря ни на что… Не из-за чего страдать… Да, я понимаю вас… не из-за чего страдать… Еще ваша мать могла это, она не ломала себя, она покорялась неизбежному, она не понимала иначе любви, но разумного в семье ее уже не могло быть, логика ушла, остались одни лишь заветы. Заветы дороги лишь тем, кто вырос на них. Для вас они не нужны. Казалось бы, как легко жить — нет долга, нет обязанностей, освященных традициями семьи, общественным мнением, все дозволено, лишь бы дать женщине ту же возможность существования, что и мужчине… И вот пришло самое страшное… Как уберечь любовь, как любить?.. Раньше были оправдания пошлости — семья, брак — теперь нет оправдания, нет прощения убивающим любовь, забывающим душу. Все можно и ничего нельзя… Напрасно радовались, напрасно упивались вином… Мы стали банкротами… Нет ничего, что с нас не взыщется. Свободная любовь — как по́шло звучит теперь это… Увы, мы не звери, и горько похмелье страсти… Бедная девочка — вы не единственная, но как тяжело вам!.. Что посоветовать? Чему научить?.. Я бы сказал: не любите, живите для себя… Но вы молоды, красивы, вам нужно жить, и каждый раз ваша страсть будет вам мукой, новой болью… А выйдя замуж, вы замучите мужа, замучите себя, исковеркаете своих детей… Дети… Как больно это, но мы, русские, меньше других народов любим своих детей… Меньше всего мы думаем о них — они растут у нас, как сорная трава при дороге, поэтому и горько нам, русским, и мечемся мы, и строим свою жизнь с первого шага каждый по-своему. Поэтому больнее бьет нас жизнь по открытым ранам. Сколько сил уходит на это…
Желтухин снова подошел к Ольге и взял ее руки.
— Простите меня, я зафилософствовался… проклятая привычка… А вы сидите тут и слушаете меня… и лицо у вас такое тихое, точно наяву вы видите сны…
— Нет, я думаю о той «незнакомке» на выставке — она тоже такая…
— Но ведь это — вы… Художник лучше понял вас, чем я…
И вдруг, сконфузясь и робея, он спросил:
— Скажите, вы ведь любите кого-нибудь, не жениха вашего, а другого…
Точно ожидая этот вопрос, Ольга ответила:
— Да, я люблю вашего друга…
Она впервые громко произнесла свою тайну, и такими странными показались ей эти слова. Точно впервые она навсегда закрепляла за собою право говорить это. И сидела с широко открытыми глазами, отражающими холодный свет лампы, с усталым-усталым лицом, с руками, беспомощно кинутыми на подушку.
Желтухин растерянно повторял за нею:
— Моего друга… кого же?
И сейчас же, точно озаренный какою-то мыслью, почти крикнул:
— Художника? Но почему же вы ни разу не спросили о нем? Точно бежали его? Нет, не то… конечно, конечно… Боже мой, как жестока любовь… Но все же зачем так себя мучить?.. Если бы я знал — ведь он сегодня еще был у меня… Мы говорили с ним о его картине, говорили о вас…
Ольга вскрикнула. Она все шире и шире раскрывала свои глаза в то время, как говорил писатель, и теперь вытянулась, приподнявшись в кресле, и крикнула.
Потом беспомощно опустилась головою вниз.
Ольгин обморок был долог и мучителен. Сначала она стонала, точно уплывая куда-то и желая остановиться, удержаться на месте, хваталась за ручки кресла. Потом затихла, окоченела, перестала дышать.
Растерянный Желтухин не мог нащупать пульс, расплескивал воду, подносил ей к носу вместо нашатыря духи. Наконец, выбившись из сил, перенес Ольгу к себе в спальню на кровать и, разбудив лакея, послал за доктором.
Волнуясь, он ходил по комнатам и то тушил, то зажигал электричество.
Заслышав шаги, кинулся в переднюю, умоляя доктора поторопиться.
Наконец гостья его пришла в себя. На щеках проступил румянец, губы первыми улыбнулись жизни. Доктор долго осматривал и остукивал больную. Озабоченный, пошел в кабинет к Николаю Герасимовичу; удивленно разводил руками.
— Кто она?
— Барышня, из интеллигентной семьи, окончила гимназию…
Но все говорило за то, что эта барышня давно уже голодает — весь организм изнурен, нервная система надорвана, сильное малокровие — явные признаки недоедания, частых голодовок.
Эскулап пожимал плечами — это было выше его понимания.
Писатель кивал головой. Его сводили с ума нахлынувшие на него со всех сторон мысли об Ольге.
Она заснула в нимбе своих золотистых каштановых волос на его подушке, на которой никогда не покоилась женщина, а он сидел над нею, не смыкая глаз, весь остаток ночи.
Только в два часа дня Ольга проснулась. Сон укрепил ее, она чувствовала себя бодрой.
Желтухин спал, склонившись на спинку стула.
Ей жаль было будить его, и она лежала неподвижно, полная благодарности к этому человеку.
Сквозь желтые занавеси свет проникал едва-едва в спальню.
Широкая, орехового дерева старинная кровать, такая же шифоньерка с наклоненным движущимся зеркалом, два стула, коврик и ореховая же овальная рама на стене с портретом самого хозяина — юноши, в белых откидных воротничках и с пухлым ртом.
На цыпочках подошел к дверям лакей. Скрипнула половица. Желтухин задвигался и открыл глаза. Без пенсне он плохо видел и страшно щурился. Потом поднялся со стула, боясь взглянуть в сторону Ольги.
— Доброе утро, Николай Герасимович!
— Доброе утро, доброе утро… только лежите и не шевелитесь… вам нужен полный покой. Я уйду кое за чем, а вы почитайте…
Он поднялся открывать занавес, но она воспротивилась.
Ей хотелось встать и во что бы то ни стало ехать домой. Что думает Раиса! Как беспокоится…
Напрасно он уговаривал ее,— она стояла на своем.
Через полчаса они уже уехали на извозчике к дому, где жила Ольга. Молчали или говорили о пустяках. Ни один из них не вспоминал прошедшей ночи — точно ее и не было, точно они только что встретились.
Дома их ждали обеспокоенные Раиса и Скарынин.
Скарынин пришел сегодня очень рано. Он не мог оставаться один. Он не спал всю ночь, думая об Ольге, не давал спать Сереже, которого так же, как Ольга — Желтухина, встревожил вчера очень поздно. Ему хотелось поскорее увидеть свою невесту, чтобы еще раз сказать ей о любви. Теперь она казалась ему недосягаемой и высокой. Ее страдания, которые он чувствовал, делали ее святою.
Раиса очень удивилась, не застав Ольгу дома. Заснув, усталая, наутро она еще более забеспокоилась. Спрашивала хозяйку, что случилось. Но та не слыхала даже, когда Ольга ушла.
У старухи явились подозрения, не ушла ли Ольга со Скарыниным… Ведь эти девчонки — шалые головы!
Но когда Скарынин пришел и начал расспрашивать об Ольге, сказал, что она его невеста, хозяйка сразу переменила свое мнение и стала рисовать всякие ужасы.
Раиса скрыла от жениха ночное исчезновение Ольги. Сказала только, что она недавно ушла, и вот — пропала.
Так они сидели, перебрасываясь отрывочными фразами, и ждали. Наконец, Ольга и Желтухин позвонили у двери. Желтухин попросил позволения войти в квартиру.
Ему хотелось познакомиться с Ольгиной хозяйкой и Раисой.
Кстати, он познакомился и со Скарыниным, которого видал в кабачке, но не был представлен.
Писатель нашел комнату очень удобной и сделал несколько лестных замечаний тающей хозяйке.
Посидев немного, Ольга попросила оставить ее вдвоем со Скарыниным.
— Мне нужно поговорить с ним,— заявила она,— и я хотела бы сделать это сейчас… Анна Ивановна не откажет вам, Николай Герасимович, и Раиса посидит пока у нее…
Хозяйка, конечно, ничего не имела против, но Желтухин предложил Раисе пройтись:
— Сегодня очень мягкая славная погода. Нужно пользоваться,— уверял он.
Когда Раиса вернулась, Скарынина уже не было.
Ольга сидела за столом и перебирала какие-то бумаги.
Лицо у нее было бледное, как и утром (обморок все-таки чего-нибудь стоил), но спокойное и решительное.
— Где же Скарынин? — спросила она, сваливая на стол целый ворох разных пакетов.
— Он ушел…
— Скоро вернется?
Раиса во все глаза смотрела на подругу.
— Ах, да не спрашивай ты! Ну, придет, не придет, почем я знаю!.. Ты лучше скажи, откуда у тебя все это?
Раиса замялась, потом, хитро прищурившись, ответила:
— Богатой стала, вот и купила. Здесь лекарство тебе, масло, булки, ветчина, кефир, целая уйма вкусных вещей…
Уже догадываясь, в чем дело, Ольга прикрикнула:
— Не дури, Райка… говори толком!
Тогда обиняками Раиса рассказала, что говорил ей Желтухин, как он узнал об их голодовках, как сам до всего додумался и вместе с нею пошел покупать все это. Право, она ничего не говорила ему, потому что он все знал и без нее. И не нужно сердиться…
Раиса еще долго заступалась за Желтухина, а Ольга слушала ее и улыбалась.
— Да я и не думаю злиться,— наконец сказала она,— откуда ты взяла?.. Он очень славный. Его помощь только приятна.
Раиса чуть не прыгала от радости.
— Ну вот молодец, Ольга, вот люблю!..
Хозяйка принесла яичницу. Старуха была очень внимательна. Она присела на стул рядом с девушками, красная от жара плиты, долго говорила о том, как полезно кушать яйца, и можно было подумать, что она так всегда заботливо относилась к своим жиличкам.
Когда наконец она ушла, Раиса спросила Ольгу:
— Нет, ты мне все-таки скажи, что со Скарыниным? Я чувствую, у вас с ним опять неладно…
Ольга ответила спокойно:
— Я отказала ему. Я сказала, что не гожусь в жены.
Раиса всплеснула руками:
— Ах, боже мой! А он что же?..
Ольга молчала. Потом, отойдя к окну и глядя на морозные узоры, ответила:
— Он казался таким несчастным, когда уходил…
— Ну, я думаю. Это черт знает что такое!.. Это бессовестно, бесчеловечно!.. Так нельзя играть с людьми… О чем ты думаешь, Ольга?
Не поворачиваясь, Ольга прошептала:
— Если бы ты знала, о чем я думаю…
И больше не прибавила ни слова.
Смотрела на искристые цветы в окне и молчала. Раиса тоже принуждена была замолчать и, расстроенная, раздосадованная, легла на кровать.
Вечером опять заглянул Желтухин.
Он принес мадеру и бисквиты и объявил, что останется у барышень весь вечер — так понравилась ему их комната. Он старался быть веселым и оживить всех. Заставил хозяйку приготовить ему ужин «по его вкусу», сам помогал ей, а хозяина упросил играть на виолончели и восторгался его игрой.
Раиса смеялась до упаду. Ольга улыбалась.
Потом писатель отвел Ольгу в сторону и просил серьезно его выслушать.
Она крепко пожала ему руку, без слов благодаря за его заботы о ней.
Он смутился, покраснел, стал поправлять пенсне и, наконец, сказал, что все это глупости. Что нужно устроиться иначе и надолго. Рассказал, что нашел ей другую комнату — с пансионом, где она будет пользоваться всеми нужными удобствами и не станет забывать есть, как она это делала здесь. Кроме того, пусть не думает Ольга, что он старается даром,— нет, она будет служить в одной редакции, где ей дадут место, и, кроме того, он бы попросил ее пока вести корректуру его книги, выходящей на этих днях.
— Я думаю, ваш жених ничего не будет иметь против этого? — нерешительно спросил он.
— У меня уже нет жениха,— я отказала ему!
У Желтухина вырвалось почти радостно:
— Ах да, тем лучше!..— и сейчас же он добавил, извиняясь: — У вас теперь будет больше времени — вот что я хотел сказать… Хотя вообще все бывает к лучшему…
Ольга печально ответила:
— Бог весть!.. Я вспугнула бедного мальчика, а как знать, могу ли я жить одна… могу ли работать…
Тогда, точно набравшись решимости, быстро-быстро заговорил Желтухин:
— Конечно, можете; конечно, будете счастливы; конечно, туман рассеется и выглянет солнце!.. Зачем унывать, зачем пугать себя химерами… Не бойтесь и только верьте; не бойтесь разочарований… надо только верить, верить и верить, и жизнь будет иметь смысл. Я познакомлю вас с моим другом. Нет, не возражайте. Он действительно хороший, удивительный человек и знает вас, хотя и не знаком с вами.
И, целуя ей руки, он добавил, точно молил о любви:
— Так вы согласны? Скажите…
С сильно бьющимся сердцем, с пылающими щеками Ольга ответила едва слышно, как возлюбленному:
— Да, да, согласна… Только не сейчас… я напишу вам, мне слишком страшно…
Дни шли за днями и вытягивались в длинную непрерывную нить жизни. Собственно, не так уж много дней уплыло, но те изменения, которые произошли вокруг Ольги и в ней самой, делали представление о времени более длительным. Человек никогда не верит календарю.
Ольга переехала в другую комнату, тоже на Петербургской стороне.
Комната эта была значительно больше, и мебель была здесь новее. Подавала обед молодая горничная в белой наколке и кружевном переднике; хозяева, муж и жена,— оба молодые.
По вечерам и муж, и жена любили играть. Он — на скрипке, она — на пианино, и это у них выходило недурно.
В первый день у Ольги отпраздновали что-то вроде новоселья.
Опять, извиняясь, краснея и поправляя в смущении пенсне, притащил Желтухин всякой всячины; пришла Раиса с Левитовым.
Желтухин уже раньше был знаком с хозяином. Тот познакомил всех со своею женой. И сейчас же устроился литературно-музыкальный вечер. Молодые хозяева играли, Левитов пел; вслед за тем упросили петь и Раису. Желтухин пришел в восторг от ее голоса и за это должен был прочесть свои стихи…
Ольга опять стала веселой и оживленной. Она даже протанцевала вальс с Левитовым. Но больше всех все-таки радовался Желтухин.
Так светло началась новая жизнь Ольги в новой квартире.
Ольга быстро поправлялась; исчезла слабость, не кружилась больше голова, только румянец еще проступал едва заметно, ночами она не могла подолгу заснуть.
Места в редакции еще не нашлось, но на столе у Ольги лежала корректура новой книги Желтухина.
Работа эта была легкая, почти излишняя, так как писатель стал просматривать листы, но Ольга исполняла ее с удовольствием.
О художнике ни она, ни Желтухин больше не заговаривали. Ольга молчала, молчал из скромности и Николай Герасимович.
Думала о нем Ольга ночами, когда приходила бессонница. Днем она даже не могла бы объяснить, что это были за думы. Днем ее снова охватывал страх, и она откладывала решительный ответ на после.
Но все же в глубине души она знала, что рано или поздно свидание ее состоится, что она не сможет отказаться от него. Все-таки она была женщиной; любопытство брало верх над страхом. Она чувствовала, что это была ее последняя ставка, и сердце ее бешено билось каждый раз, когда она думала об этом. Она закрывала глаза на будущее, чтобы острее чувствовать соблазн,— он ведь заменял ей все радости…
О Скарынине она ни разу не вспомнила,— так эгоистична была ее жажда жить.
Раз только, увидав револьвер брата, подумала она о том, как далеки ей теперь все когда-то близкие…
Но судьба точно хотела испытывать ее. Мы всегда приходим в те места, откуда вышли; редко мы навсегда теряем тех, кого знали раньше,— свет так мал, так ограниченна наша жизнь.
Как-то вечером пришла к Ольге Раиса со своим неизменным Левитовым. А с ними еще трое. Их даже Ольга и не узнала в сумерках. Две женщины и мужчина. Они все смеялись и кланялись, и никто ничего не говорил. Хотели устроить сюрприз.
— Да ведь это ты, Ленка!
Одна из женщин кинулась Ольге в объятия.
— Ну да, конечно, дурочка. Ну да, это я!
Вслед за нею бросилась другая.
— Олечка, милая, ненаглядная моя…
— Маня? Вот удивили!..
Они стояли все трое вместе в полутемной передней, держась за руки — три школьных подруги — и смотрели друг на друга.
Как недавно были они еще девочками, жили в провинциальном городе и влюблялись в одних и тех же актеров. Как много воды утекло с тех пор.
— А что же ты не здороваешься еще с одним старым другом,— говорит Раиса.
— Ах, да, да, простите… но ведь это барон?.. Ну, конечно,— барон Диркс! Вот неожиданность!..
И все они, как в былое время, гурьбой пошли в Ольгину комнату.
Тут наперебой Ольге рассказали, как случилось, что все они здесь.
— Дело в том, что уже скоро Рождество, и барон решил повеселиться в Петербурге — он ведь живет теперь в провинции, открыл контору и стал нотариусом. Ну вот, а тут он в кафе встретился с Леной. Они разговорились. Вспомнили старые дни. А потом барон предложил заехать к Раисе. Ведь это его былая страсть, ха-ха! Ну вот. Приехали к Раисе, а там уже сидит эта толстая Манька. Вы только посмотрите на нее, что из нее стало — настоящая купчиха…
— Положим, на купчиху она вовсе не похожа. А что же из того, если она немного и растолстела — ведь теперь она замужем, да, муж ее почтовый чиновник, и у них есть уже ребенок — хорошенький мальчик!..
— Как! Так скоро?
— Почему скоро? Ничуть не скоро — как раз вовремя. И теперь она приехала хлопотать за мужа кое у кого. Знаете дядю Жоржа — влиятельный человек, а она давно уже хороша с ним…
— Слава богу, слава богу! Значит, все вы счастливы и довольны…
Так они сидели и разговаривали, перебирали знакомых, вспоминали старину. Больше всех смеялась и кричала Лена. У нее немного огрубел голос, но она безусловно похорошела,— если, конечно, не обращать внимания на то, что лицо ее искусно разрисовано. Костюм у нее тоже самый модный, несколько яркий только.
Маня остепенилась — сразу можно сказать, что она мать семейства. Все время вспоминала своего сына и даже как будто гордилась им перед бездетными подругами.
Барон Диркс остался таким же. Только еще ниже висла его белокурая голова на тонкой шее, и нельзя было себе представить, как он — меланхоличный и томный — мог справляться там с разными купчими, закладными и другой сухой материей.
И вдруг, точно камень в затихший пруд, в комнату ворвался Сережа.
Он был взволнован, растерян, его нельзя было узнать.
Взглянув на незнакомые лица, он сейчас же подошел к Ольге и отвел ее в сторону.
Все сидели в напряженном ожидании. Почему-то взволновались и не находили темы для разговора,— так поразил всех неожиданный приход студента. Сидели и ждали Ольгу, которую увел Сережа в переднюю.
Прошло несколько минут, но молчание казалось очень долгим.
И вдруг услышали тихий вскрик — совсем тихий. В другое время его бы и не заметили, но теперь его ясно услыхали все, а Раиса уже кинулась к двери.
В передней было совсем темно, хоть глаз выколи.
Протянув руки, Раиса шла вперед.
— Да где же вы? Что это такое?
Сережа молчал.
Ольга стояла у вешалки, уткнувшись лицом в чье-то пальто и всхлипывала. Плечи ее, которых коснулась Раиса, вздрагивали. Все тело дрожало мелкой, нервной дрожью.
— Да что с тобой? Скажи мне, объясни.
Ей ответил сдавленный голос, совсем не похожий на Сережин, хотя говорил он:
— Молчи. Я пришел сказать, что Скарынин умер.
— Что?
Раиса испуганно кинулась в сторону.
— Что ты врешь тут?
И сейчас же плачущим голосом стала звать подруг:
— Маня, Лена, да идите сюда! Что это, право, такое! Они тут все с ума посходили, а мне страшно, я кричать начну!..
В двери появились остальные. Барон Диркс зажег спичку и высоко держал ее над головами.
Мутный дрожащий огонь с легким потрескиванием разливал желтые круги света.
Видна была только Ленина шляпка и рука барона, все вокруг стало еще чернее и гуще.
Ольга не переставала плакать. Все старались увидать ее и ширили глаза.
— Скарынин умер… почему умер? — проговорила Раиса.
— Умер? Кто умер? — повторили за ней испуганные голоса.
— Человек умер, мой товарищ,— с раздражением сказал Сережа.— Застрелился. Наскучился вашим милым обществом…
И, найдя в темноте выходную дверь, ушел, громко хлопнув ею.
Маня крестилась. Раиса вытирала мокрые глаза. Нервный барон быстро ушел из передней.
Ольга замолкла. Ее не было слышно,— так тихо она стояла там, в своем углу. Потом, оттолкнув утешавшую ее Лену, она прошла к себе в комнату и остановилась у стола.
Через сколько мук прошла она сейчас: мук стыда, раскаяния, жалости, покорности и возмущения.
Скорбная тень не отступала. Не было места печали — нужно было или отречься от себя, или порвать с прошлым.
Для Ольги самоубийство Скарынина не было просто тяжкой утратой. Что-то в ней самой точно умерло с ним, и почти бессознательно Ольга понимала, что нужно было оторвать от себя эту мертвую часть своего я, чтобы остаться жить. А она хотела жить, она еще не сдалась. Вася, Скарынин — оба они искали любовь там, где ее не было, требовали у любви то, что она не хотела им дать. И оба умерли.
А Ольга хотела жить, она верила в последнее усилие, не могла не проявить его, и самоубийство Скарынина готово было убить эту веру. Попеременно овладевали ею быстро сменяемые ощущения, и она отдавалась им как будто бы помимо воли, внезапно.
Что-то толкало ее порвать все разом, сжечь корабли, сию минуту очутиться на другом берегу. У нее захватило дух; почти радость, жуткая радость ширила сердце, как бывает это с человеком, кидающимся из окна горящего здания на мостовую, бегущим от предвидимой смерти к нежданной.
Глаза ее были сухи и блестели. На виске билась синяя жилка. Весь облик ее выражал непоколебимую решимость.
Пальцы на руках ее хрустнули,— так сильно она их сдавила. Голос сделался стальным, резким. Все с напряжением смотрели на нее.
Она сказала:
— Я еду сейчас ужинать в ресторан. Кто хочет со мною?
Никто не отвечал. Все чувствовали себя неловко, не знали, как отнестись к ее словам.
Раиса отвернулась и стала поспешно собираться домой.
Ольга повторила так же твердо. В голосе ее теперь звучала даже насмешка:
— Что же, никто не поддержит мою затею? Тогда я еду одна — меня будут ждать там.
Она порылась у себя в бюваре {28} и начала писать что-то на клочке бумаги. Быстро-быстро забегала ее рука.
— Нет, почему же, мы ничего не имеем против,— в один голос смущенно заговорили барон и Левитов.
Их сейчас же поддержала Лена. Черные круглые глаза ее зажглись, ноздри раздулись.
— Конечно, это очень хорошо! Нам нужно развлечься… Нельзя тут сидеть и киснуть! Ольга молодец, как всегда. Ну застрелился человек, надоело ему жить — не следует из-за этого и нам вешать носы…
Ольга выпрямилась, держа в руках запечатанный конверт.
— Так, значит, едем?..
— Едем, едем…
Петербург видел свой последний больной сон. Уже в морозной мгле раннего утра слышались голоса и чьи-то шаги.
Кухарки шли за провизией. Когда просыпаются люди, они хотят есть.
Еще реял ночной звон телеграфных и телефонных проводов, этой эоловой арфы города.
С розовеющей выси сыпался иней. Он наполнял весь воздух серебряной дрожащей паутиной.
По-новому скрипел снег под полозьями. Шире становились улицы.
Тот, кто не спал ночью, не верит, что наступающий день опять вернет его к прежней жизни.
Тот, кто проснулся в такой ранний час, хочет вспомнить скорее вчерашнее, чтобы забыть сон.
Ранним зимним утром дома́ — эти каменные ящики, за которыми прячутся люди — рассказывают друг другу свои тайны, и горе тому, кто подслушает их: он станет пугливым, как занавешенные окна, боящиеся ночью глянуть на улицу и берегущие бесстыдство жилищ.
В раннее зимнее утро, когда Петербург пытается улыбнуться новому дню, когда дворники выходят делать вид, что чистят улицы, проститутки, сонные, возвращаются домой, воры становятся честными людьми, а солнце, самый большой шутник в этом городе, решает полюбопытствовать и посмотреть на землю,— Ольга подъехала на тройке к подъезду своего дома.
Она сидела рядом с бароном, Лена рядом с Ширвинским, Раиса — с Левитовым. Припухшие лица горели от мороза, голоса резко рвали воздух.
Пряничная тройка коней фыркала и топталась на месте, звеня бубенцами.
Слишком быстро принесла она сюда с островов ширококрылые сани. Мелькнули пудренные сосны, белая лента реки, гулкий Каменноостровский…
Нужно прощаться. Что там было так недавно? Целая длинная ночь — ужин в ресторане, вызов туда Ширвинского, «Аквариум», шампанское, много шампанского, и смех, и анекдоты, и резкий высокий голос, и поцелуи.
Барон Диркс, этот вновь испеченный нотариус, решивший повеселиться в Петербурге, был очень смешон. Он декламировал стихи и целовал ей руки. Корректный Ширвинский в смокинге, с огромным опалом на пальце. Он тоже увлекся, и глаза его блестели.
— Прощайте…
— Наша богиня, наше солнце, прощайте,— кричит барон.
Все смеются. В розовом инее смех рвется и мгновенно гаснет.
Ширвинский вылез из саней, чтобы помочь Ольге.
Он держал ее под локоть и говорил шепотом:
— Так сегодня утром мы будем у тебя с князем… Жди нас…
— Да, да, конечно…
Заспанный швейцар открыл дверь. Серая, мутная лестница, звонок, полуодетая горничная и, наконец, своя комната.
Ольга остановилась и провела кистями рук по замерзшим щекам и лбу. Что-то шумело в голове, но мысли были как никогда ясными. Ни печали, ни раскаяния; казалось, все давно решено и обдумано, давно оборвано с прошлым.
Она прошлась по комнате, передвинула стул, поправила шторы. На мгновение замерла у окна, сплошь разрисованного морозом, льющего в комнату розовый утренний снег. Морозные узоры сплетались в загадочные цветы, рассыпались лучистыми звездами, медленно двигались сверху вниз, перемешивались, опять сверкали новым рисунком.
Или это кружилась голова и слипались глаза?..
Ольга отошла от окна и легла на кровать. Сейчас же невероятная слабость овладела ею.
Розовый свет померк, и стало темно, как ночью.
Когда Ольга очнулась, был уже день.
В окне стояли серебряные узоры, и виден был желтый дом напротив. Уже в квартире хлопали дверями и звенели чашками.
Ольга поднялась и присела к зеркалу. Она всматривалась в свое лицо, которого давно уже не видала. Нежный румянец проступал сквозь белизну кожи, спутанные во сне золотистые пряди волос падали на лоб и придавали ей вид маленькой девочки, выпуклые глаза стали глубокими и светлыми, побледневшие последнее время губы теперь от вина заалели.
— Да, я красива,— сказала Ольга, и вдруг лицо ее стало внимательным и серьезным, глаза ушли в глубь зеркала. Там, в зеркале, за нею отражался стол, на нем лампа, стакан молока, не выпитого с вечера, и чье-то письмо.
Да, около стакана лежало письмо с городской маркой.
Ольга быстро поднялась. Сердце ее шибко билось. Пальцы дрожали, когда она взяла конверт с незнакомым мужским почерком и разорвала его.
Некоторое время она даже ничего не понимала, что написано в письме,— такое волнение охватило ее. Потом упала на стул и заплакала. Кусала губы и беззвучно плакала, без рыданий, без стонов.
Вот оно, наконец, это большое, огромное счастье! Боже мой, как долго она ждала его, боялась его и не верила, что это может прийти.
Ну да, вот оно, наконец, пришло к ней в это утро. Как она измучилась, как устала… Да… очень, очень устала… Хорошо, если бы кто-нибудь пришел и тихо-тихо погладил ее по голове и поцеловал бы в лоб, как мама.
Так она никогда еще не плакала.
И вдруг буйная радость наполнила ее сердце и быстро подняла ее со стула.
Шубку, шляпку, муфту — скорее, скорее.
Ольга бежала по лестнице, бежала по улице, никого не замечая, ничего не видя. Вошла в цветочный магазин. Звякнула стеклянная дверь, обдало душистое парное облако.
— Цветов!
— Каких угодно, сударыня?..
— Всяких… ландыши, гвоздики, роз, хризантем… все, что можно… только скорее, скорее… и вот вам деньги…
Высыпала на прилавок все полученные накануне деньги — десять золотых… Желтые кружочки рассыпались со звоном по стеклу. Смотрела на изумленного приказчика и улыбалась ему совсем по-детски.
И такой радостью сияет ее лицо, что приказчик тоже начинает улыбаться и уже не удивляется ей.
Он быстро и ловко завертывает в папиросную бумагу горшки с цветами.
— Прикажите отослать?
— Нет, пусть мальчик везет их вместе со мною. Только скорее.
И вот она у себя в комнате, а вокруг нее стоят горшки с цветами, цветы лежат на кровати, на полу, на подоконнике.
За окном мороз и снег, а у нее зацвел сад для ее жениха.
Ведь вот его письмо. Он сам написал ей, что решил прийти к ней сегодня, не ожидая ее ответа. Что он готов полюбить ее, еще незнакомую. Он мысленно целовал ее волосы.
Это письмо перед нею, и она не спит. Она действительно сидит тут, у себя в комнате, после бессонной ночи, а кругом нее дышат цветы…
Ольга опять подошла к зеркалу. Взглянула на себя и засмеялась от счастья. Она никогда не видала себя такой красивой. И как хорошо, что на ней простое синее платье и волосы спущены на уши, как у девочки…
Вдруг тень прошла по ее лицу. Глаза остановились, руки упали вниз. Ольга чувствовала, что радость, счастье, белое облако, спустившееся к ней, уплывает, тает, покидает ее.
Она сделала невероятные усилия, чтобы удержать его, вытянулась даже вся, напряглась, сжала холодеющими пальцами виски, пробовала улыбаться. Но душевные силы, вернувшиеся к ней с надеждой и цветами, покидали ее, без всякой видимой причины ускользали, безостановочно, и чем дальше, тем быстрее, как падают силы физические перед обмороком. Издерганные нервы, слабеющая воля не в силах уже были поддерживать ее радостный подъем, и где-то одинокое, потерянное стучало и ныло сердце, просило покоя у измученной души и не находило отклика.
Бесконечное равнодушие, холод небытия, душевный обморок сковали Ольгу. Она чувствовала себя так, как чувствует себя человек, когда, желая поднять только что парализованную руку, он с недоумением, покорным отчаянием видит ее недвижимой, не повинующейся его воле.
Даже на время мысли все ушли куда-то, и не приходило возмущение. Сонная одурь заволакивала, как туманом, все существо Ольги.
Наконец, ослабевшая, чуть проснувшаяся мысль пошла — покорная — за чувством, и родился страх, страх перед наступающей минутой.
Нет, нет, не надо. Но страх рос, переходил в ужас! Да что это с ней, наконец?
Нет, так больше нельзя, нельзя. Вечный страх.
Нет, нет, этого не должно быть, этого не будет. Как она смела только думать об этом? Она так устала.
Пусть он найдет только ее тело, такое же красивое, как и тогда, когда впервые они увидались, а душу, душу он не увидит, он не ужаснется перед ее мраком, не разгадает ее. Она навсегда останется для него желанной и чистой, чистой…
И неожиданно вспомнила. Ведь сегодня — двадцать второе декабря… Да, да… ровно год прошел с тех пор, с того снежного дня, с того мгновения, когда к ней пришла любовь. Как круто тогда повернуло колесо ее жизни, как быстро оно привело ее к концу…
Но почему, почему не жить дальше, не бороться? Да просто не стоит… Не нужно, пора все это кончить… Вот придет к ней возлюбленный, и умрет несбереженная ее любовь. Она не умеет строить, а как жить на развалинах? И почему-то вспомнила свой сон, тот вещий сон, что приснился ей в час, когда умерла мать.
Положила руки на стол, склонила голову на миг, закрыла глаза и увидала скорбный лик иконы, и вслед за этим мелькнуло в сознании: «Вот иду за вами следом, бледный мальчик Вася, нежный, любящий Скарынин». И улыбнулась так кротко, примиряюще, будто во сне. Спокойно и уготовано стало на душе, как бывало в детстве, когда шла к причастию.
Забылась, уплыла куда-то далеко, на мгновение почувствовала себя легкой, бесплотной и маленькой, и увидала песок золотой под солнцем и ласковое небо, и услышала, точно близко где-то попискивают, чирикают птички, воробьи. Так сладко было слушать их быстрый говор. Но резко вернул к жизни раздавшийся стук в дверь.
Невольно вскочила Ольга со стула, держась за сердце, вдруг нестерпимо забившееся, вытянулась — вся тревога и внимание. Бессознательно потянулась похолодевшей рукой за револьвером и быстро запрятала его на груди под кофточкой. Глаза пристально впились в белое пятно дверей.
— Можно войти?
Улыбаясь сладко, нарочито почтительно изгибая стан, вошел в комнату Ширвинский, а за ним следом, семеня короткими ножками, выдвинулся с серыми баками старикашка, бережно несущий перед собою букет цветов.
— Позвольте вам представить князя…— начал Ширвинский.
У обоих были лица торжественны, чуть-чуть изумленные. Смотрели на Ольгу, на цветы. Ошеломил пряный, густой запах…
Напряженно всматривалась Ольга в их лица. На время захватило дух, синие круги пошли перед глазами. Но поборола себя, осилила обволакивающую тело крутящую слабость и тотчас же оледенела — зимним холодом сковало сердце. Еще одно усилие — и уже спокойно Ольга протянула вошедшим руку, с достоинством дала ее поцеловать князю.
Ширвинский улыбался. Радовался Ольгиной выдержке. Уже готов был примириться с этой массой цветов, наполняющей комнату.
Когда Ольга заговорила, он благосклонно закивал головой. Ему нравилось, что голос ее хотя и глух немного, но тих и ровен.
Она сказала:
— Вы как раз вовремя. Я ждала вас…
И потом, точно вспомнив что-то, прислушиваясь к далекому, ей одной слышному шуму, она добавила:
— Так я сейчас приду, подождите минуту — недолго… я переоденусь…
И ровным шагом, как будто озабоченная чем-то незначительным, обычным, она прошла мимо Ширвинского и князя из комнаты своей в темный конец коридора.
Князь, восхищенный, разглаживал баки. Ширвинский шепнул значительно:
— Вот видите, я же говорил вам!..
Белые мягкие хлопья снега тайно, неслышно и быстро устилали землю. Легкие мотыльки кружились в бледном свете зимнего дня.
Люди шли, улыбаясь самим себе и зажмурившись. Бубенцы звякали тоньше. У девушек стыдливо алели щеки из-под напудренных инеем прядей волос, а у мужчин добродушно обвисли усы.
В этот день, когда к спящей царевне приходит влюбленный принц, когда в полях расцветают голубые ночевеи, чьи очи — очи любимой, где сказывается ее сердце; когда души утопших молятся и плачут о грехе своем, отчего и синеет в эту пору лед и слышен по реке тихий шум,— в этот день два человека — один высокий, полный, в старомодном цилиндре, другой меньше, тоньше, в носатой меховой шапке — шли по одной из тихих улиц Петербургской стороны.
Дойдя до одного подъезда, они молча поднялись по лестнице.
Дверь, перед которой они остановились, была распахнута настежь и чьи-то растерянные лица мелькали в передней.
Тогда господин в цилиндре быстро вошел в квартиру и спросил:
— Барышня Орг дома?
Но ему не ответили, занятые чем-то, швейцар и дворник, а горничная испуганно пробежала мимо, махнув рукою.
В комнате Ольги было пусто, и вяли, сладко дыша, забытые цветы.
Полный господин в растерянности остановился. Слишком много было цветов и слишком беззвучной казалась покинутая комната.
Его окликнули. Он оглянулся.
В дверях стоял его спутник.
— Иди скорее… да иди же!..
В конце коридора за платяным шкафом, там, где хозяйственной рукой была повешена пестренькая занавесочка, отделяющая темный угол со всяким скарбом, толклись при свете колеблемой свечи несколько людей, бестолково и ненужно о чем-то споря и ахая.
Молодой господин со светлыми усами и серыми холодными, несмотря на волнение, глазами говорил раздраженно:
— Надо же отнести ее в комнату… что за безобразие!
А равнодушный голос дворника отвечал деловито:
— Никак невозможно. Приказано дожидаться полицию.
Полный высокий господин, протолкавшись вперед, растерянно озираясь и спрашивая: «что это, что?» — нежданно тяжело упал на колени и жалобно всхлипнул. Pince-nez его от слез померкло, но он не снимал его.
Он шептал, подавленный, раскачивая головой, повторяя одно и то же, точно баюкая:
— Как жестока жизнь!.. Боже, как жестока!..
А друг его, остановившись за ним, замер и, не отрываясь, смотрел перед собою.
У ног их, на полу, прислонившись неловко к сундуку, лежала неподвижно девушка с бледным продолговатым лицом, с углами посиневших губ, поднятыми вверх, и с застывшими полузакрытыми глазами.
Тонкие руки раскинуты были в стороны, а волосы, при падении девушки проведшие темный след по нетронутому слою пыли, устилавшему крышку сундука, сбились в жалкий, нелепый комок.
На синем платье темнели влажные пятна крови.
Общий комментарий
(Ст. Никоненко)
Впервые выступив в печати с очерками и стихами (очерк в «Петербургском листке» в 1901 г., стихи в «Виленском вестнике» в 1902 г.), Слёзкин уже на студенческой скамье становится профессиональным писателем. В 1914 г. он выпускает первое собрание сочинений в двух томах; в 1915 г. выходит уже издание в трех томах. В 1928 году издательством «Московское товарищество писателей» было проанонсировано Собрание сочинений Юрия Слёзкина в 8 томах. Однако выпущено было лишь шесть томов.
Наступает длительный перерыв. За последующие двадцать лет будут выпущены лишь три книги писателя: в 1935 и 1937 гг. первые два тома трилогии «Отречение», а в 1947 г.— роман «Брусилов».
И лишь спустя три с половиной десятилетия выйдет однотомник «Шахматный ход».
Настоящее издание включает наиболее полное собрание избранных произведений писателя: романы, повести и рассказы Юрия Слёзкина, созданные в разные годы. Тексты даются в соответствии с современной орфографией и пунктуацией [9], лишь в некоторых случаях сохраняются особенности авторского написания.
Ольга ОргВпервые — Русская мысль. 1914. № 3—5.
Роман имел шумный успех, однако не всеми был адекватно понят. Рецензент С. Заречная справедливо пишет, что распад частной и общественной жизни в России сказывается на судьбе героини — провинциальной гимназистки, «усталой и разочарованной в самом начале жизни» (Женское дело. 1914. № 14. С. 11). Высоко оценивает роман Е. Колтоновская, которая подчеркивает, что Слёзкин мастерски показал трагедию юного поколения, брошенного на произвол судьбы старшими, не указавшими правильного пути, не подготовившими к самостоятельной жизни, не давшими ни моральных, ни социальных ориентиров. Однако некоторые в нем увидели эротику и порнографию: А. Гвоздев (Сов. записки. 1915. № 9), Г. И. Чулков (Голос жизни. 1915. № 18. С. 19). И все же в основном критикой роман был признан точным слепком с жизни поколения.
1
Филипп Огюст Матиас граф Вилье де Лиль-Адан (1838—1889) — французский писатель. Вероятно, интерес Слёзкина к его творчеству появился под влиянием статей Максимилиана Волошина о нем, опубликованных в газете «Русь» в 1908 г. и журнале «Аполлон» в 1912 г.
2
Гюстав Друино (1800 — после 1860) — французский писатель, поэт, драматург. Цитируется его роман «Ирония» (1833).
3
…расцветают голубые ночевеи — Очевидно, имеется в виду один из видов ночной фиалки, вечерница, многолетнее травянистое растение с крупными кистями цветов, сильно пахнущими по ночам.
4
И ску, и гру, и некому ру…— Исковерканное начало стихотворения М. Ю. Лермонтова «И скучно и грустно» (1840):
5
Один большой, в pince-nez…— Pince-nez (ф р.) — пенсне, очки без заушных дужек, держащиеся посредством зажимающей переносицу пружины. Автор использует как французское написание, так и русское. Эта особенность авторского написания сохранена.
6
…военный оркестр играл «На сопках Манджурии».— Манджурия — так ранее именовалась северо-восточная часть Китая; в настоящее время принято русское написание — Маньчжурия. Вальс «Мокшанский полк на сопках Маньчжурии» написан капельмейстером Мокшанского полка, принимавшего участие в боях под Мукденом и Ляояном во время русско-японской войны 1904 г., Ильей Алексеевичем Шатровым. В 1906 г. вальс был издан и стал очень популярным. Наиболее распространенным текстом были стихи Степана Гавриловича Петрова (Скитальца) (1868—1941).
7
…под двумя шарами газокалильных фонарей.— В конце XIX в. сначала в Европе, а затем и в России для освещения улиц стали применяться лампы, в которых использовались сетчатые колпачки из 99 % двуокиси церия, которые в пламени светильного газа испускали яркий свет.
8
«Лесная сказка» — вальс композитора Василия Федоровича Беккера, популярный в начале XX в., исполнялся со словами, написанными В. Н. Крыловым.
9
Дебаркадер (от ф р. débarcadère — выгружать, высаживать) — пассажирская платформа на железнодорожной станции.
10
…великий Леонардо был бы счастлив писать ваш портрет…— Имеется в виду знаменитый итальянский живописец, ученый, архитектор, изобретатель Леонардо да Винчи (1452—1519).
11
Бонбоньерка (от ф р. bonbon — конфета) — красочно оформленная небольшая коробочка для сладостей.
12
Шантан (то же, что кафешантан, букв. кафе с пением) — ресторан или кафе, где выступают артисты, исполняющие песенки весьма фривольного содержания.
13
…он решил пойти в вольноопределяющиеся…— В дореволюционной России вольноопределяющиеся — отбывающие воинскую повинность на льготных основаниях после получения высшего или среднего (незаконченного среднего) образования: сокращенный срок службы, право жить вне казармы на собственные средства, право сдать экзамен на офицерский чин, льготные условия для поступления в военные учебные заведения. В зависимости от количества оконченных классов гимназии срок службы мог составить два или один год.
14
…пел немецкую песенку «О Tannenbaum»…— Tannenbaum — рождественская ель (н е м.), здесь имеется в виду популярная немецкая рождественская песня; на мотив этой песни исполняется теперь «В лесу родилась елочка…»
15
Он… думал устроиться в Петербурге помощником присяжного поверенного…— Присяжные поверенные — в дореволюционной России юристы, состоящие при судах для защиты и ведения гражданских и уголовных дел по приглашению обвиняемых и участвующих в деле лиц; присяжным поверенным могло быть лицо только с высшим образованием и проработавшее по судебному ведомству не менее пяти лет. К помощнику присяжного поверенного предъявлялись те же требования, кроме служебного стажа. После соответствующей выслуги помощник мог занять должность присяжного поверенного.
16
Мараскино — известная марка итальянского вишневого ликера, имеющего привкус горького миндаля.
17
В качестве первого эпиграфа ко второй части романа приведено с некоторыми синтаксическими неточностями стихотворение Е. А. Баратынского «Как много ты в немного дней…», написанное в 1824—1825 гг.
18
Второй эпиграф — фрагмент стихотворения итальянского поэта Лапо Джанни (вторая половина XIII в.— начало XIV в.) и его прозаический перевод, сделанный Ю. Слёзкиным.
19
Джон Рёскин (1819—1900) — английский художественный критик, эстетик, проповедник социальных реформ; связывал формирование личности с социальным и эстетическим воспитанием; известен также работами по политической экономии, в которых выступил сторонником кооперативных ассоциаций и противником многих положений классической политэкономии.
20
Народный дом был уже для них дорогим удовольствием…— Стремясь отвлечь широкие массы рабочих, студенчество от участия в революционных выступлениях, а также от пьянства, царское правительство стало организовывать во многих городах страны недорогие зрелищные мероприятия, доступные простому народу. В частности, в Петербурге для этих целей в Александровском парке было построено специальное огромное здание. Его открытие состоялось в декабре 1900 года. Официально оно называлось Народный дом имени императора Николая II Петербургского городского попечительства о народной трезвости.
Здание могло вмещать до пяти тысяч человек. В нем была применена новая конструкция вентиляции, и в архитектурном отношении сооружение отличалось различными новинками.
Здание делилось на три части. В центральной части под стеклянным куполом размещалось огромное фойе. В левой части находился драматический театр на 1 250 мест, в правой части был сад для гуляний и эстрада. В 1910—1912 гг. к правой части был пристроен Большой оперный зал на 2 767 мест. На оперной и драматической сцене выступали такие знаменитости, как В. Н. Давыдов, Л. В. Собинов, Ф. И. Шаляпин, А. В. Нежданова.
Народный дом вскоре стал весьма популярным, в некоторые дни его посещали до 20 тысяч человек. Чтобы попасть сюда, достаточно было опустить в кассу турникета при входе 10 копеек, и можно было пользоваться всеми аттракционами в саду, смотреть выступления фокусников, жонглеров, комиков на эстраде. За вход в драматический и оперный театры требовалось внести дополнительную плату. Во время блокады Ленинграда Народный дом был сильно разрушен.
21
…«fleurs d’amour»…— «Цветы любви» (ф р.), популярные в России в начале XX в. духи.
22
…выпьем… бутылочку Помери…— «Помери» — одна из лучших марок шампанского.
23
…там можно встретить всех знаменитостей в области искусства.— Описание кабачка во многом напоминает обстановку в артистическом кабаре «Бродячая собака» в Петербурге, созданном в 1911 г.
24
…в большой шляпе с черной плерезой…— Плерезы — обычно траурные обшивки платья.
25
…я булок от Филиппова принесла…— Имеется в виду один из магазинов, принадлежавших крупнейшему в России булочнику Д. И. Филиппову.
26
…в мягком полосатом «пижамо»…— Имеется в виду пижама — легкий домашний костюм.
27
«Adieu, puisqu’il le faut, adieu belle nuit blanche…» — строка из стихотворения французского поэта, прозаика, критика Теофиля Готье (1811—1872).
28
Бювар (ф р.) — настольная папка, обычно с писчей бумагой и конвертами.